Алексей Смирнов Ядерный Вий
Идет зеленый шум
1
Александр Терентьевич Клятов забыл запереть входную дверь.
Поэтому Пендаль вошел беспрепятственно и сразу ударил Александра Терентьевича Клятова тяжелым, дорогим ботинком в бок. Хозяин в беспамятстве лежал на полу и сильно раздражал Пендаля своим присутствием. Хозяин он был бывший, со вчерашнего дня — на бумаге, а со дня сегодняшнего — как надеялся уладить визитер — бывший фактически.
Пендаль шагнул в сторону, пропуская в комнату друзей. Судя по лицам последних, они также питали слабость к изысканным прозвищам. Вошедшие обступили истерзанный, неподвижный куль грязно-серой окраски. Из лоскутов и складок доносился испуганный храп.
— Подъем, командир, — подал голос Пендаль.
Храп тут же занесло в истерические высоты. Новый владелец квартиры повторил удар, и мрачная, заунывная песня небытия оборвалась. Складки, карманы и рукава пришли в движение, высунулся маленький нос, лоснящийся и нездорово розовый.
Пендаль, потеряв терпение, нагнулся, схватил этот нос двумя пальцами и потянул на себя, одновременно зажимая наглухо ноздри спящего. Бесформенная масса гнусаво загудела, взметнулись руки, ни на что не годные, и вскоре состоялось желанное превращение: недавний куль стал в общих чертах похож на подавленного, затравленного, безнадежно больного Клятова, обладателя невероятной для себя, неслыханной суммы в валюте.
— Тебе же ясно было сказано, чтоб духу твоего сегодня здесь не было!
Клятов произнес что-то озабоченное и непонятное. Он встал на колени и теперь отдыхал. Чувствительное сердце Пендаля больше не могло вынести этого зрелища.
— Значит, делаем так, мужики, — сказал он решительно. — Барахло — на улицу. Ну-ка, вставай!
С этими словами Пендаль подхватил изнемогающего Клятова под мышки и, волоча ботинками по полу, потащил к выходу.
— Стой, — Клятов, не вполне осознавая происходящее, попытался помешать. Он видел, что вокруг творится нечто нежелательное, но, на свое счастье — или на беду — не мог постичь размеров катастрофы. Он только хватал воздух пересохшим ртом, чужим по милости сложных химических присутствий.
А угрюмые спутники Пендаля взялись тем временем за бедняцкую мебель. Ее было совсем мало: стол, в далеком прошлом полированный, три плетеных стула с изуродованными узорами высоких спинок, старое оранжевое бюро штучной работы — время поступило с ним столь жестоко, что Клятову не удалось его продать. И еще — продавленный диван, не подлежащий ремонту. Все. И эта вот жалкая утварь оказалась на улице, выставленная на всеобщее обозрение. Там же оказался и Клятов, все случилось очень быстро — квартира располагалась в первом этаже.
Пендаль уронил Александра Терентьевича на один из стульев, протянул ладонь:
— Ключи!
— Погоди, — прохрипел Клятов и глотнул, готовясь продолжить фразу.
— Ключи сюда, живо! — Пендаль, в отличие от него, искусно сочетал четкость артикуляции с бесцветностью скороговорки.
Но живо Клятов не мог сделать решительно ничего. Пендаль нагнулся и стал обшаривать карманы пиджака и брюк, в которых сон застиг Александра Терентьевича.
— Он, небось, потерял ключ, — заметил один из товарищей Пендаля и мрачно усмехнулся. — Дверь-то была открыта.
— Да? — Пендаль прекратил свое занятие, прищурился и посмотрел в лицо Клятову тяжелым, недобрым взглядом. До того нехорошим, что Клятов неожиданно заторопился, начал хлопать себя по разным местам и, наконец, выудил ключ, волшебным образом уцелевший в хитросплетениях швов и прорех.
Не говоря ни слова, Пендаль забрал ключ, подбросил его на ладони и сунул в карман. Александр Терентьевич, видя, что новый хозяин квартиры распрямился и намерен по праву собственника удалиться в законное жилище, нашел в себе силы для сверхъестественного внутреннего скачка и просипел целое предложение:
— Стойте, мне же нужно договориться о машине — вещи отвезти.
— Вот и договорись, — благодушно бросил ему на ходу обритый наголо богатырь — тот, что один, без подмоги, вытащил на улицу бюро. Спины захватчиков исчезли в подъезде, Клятов остался на тротуаре. Он окончательно проснулся, и суетливая тревога мигом затопила его душу. Вскочив со стула, он в полной растерянности взирал на мебель, которая, будучи вынесена из норы на Божий свет, не возбуждала никаких чувств, кроме жалости. Да и жалость при виде выброшенного добра возбудилась в одном Александре Терентьевиче — редкие прохожие стреляли в его сторону безразличными глазами насекомых и шли себе дальше, не задерживаясь. Смотреть тут было не на что.
2
Бардом спето: "Расскажи, браток, расколись, браток — как сюда попал?" Спето про лагерную жизнь, но с тем же успехом может быть отнесено и к состоянию души, и просто к жизненной драме.
Клятов, выпади ему колоться, мог бы сообщить о себе следующее.
Александр Терентьевич происходил из почтенной учительской семьи. В юности он ничем не напоминал то существо из рода пресмыкающихся, каким он стал теперь и при взгляде на которое люди, пресмыкающимися пока не ставшие, спешат отвернуться, предпочитая не вызывать путем рассматривания подонка мыслей о собственном замаскированном ничтожестве. Склонность к пьянству, однако, проявилась в Александре Терентьевиче довольно рано. О многом можно было догадаться при виде его азартного лица, что выделялось на всякого рода застольях из скопища спокойных, умиротворенных физиономий тех, что пили без характерного внутреннего трепета, без вдохновения и без странного разудалого отчаяния. Опрокинутая рюмка не становилась для них водоразделом между «было» и «будет», а Клятов, залихватски поддержав первый тост, про себя отмечал, что "все, тормоза бездействуют, и состав на полных парах несется в неизвестность — исход зависит исключительно от состояния полотна".
Вполне возможно, что рано или поздно Александр Терентьевич, поставленный обществом в определенные рамки, смог бы в них и остаться. Опасный, мучимый дьявольской жаждой червяк зачах бы, лишенный систематических обильных подношений, и Клятов зажил бы монотонной жизнью средненького лекаря. Правда, ему пришлось бы в этом случае попрощаться с пламенным иррациональным азартом, и взор бы его потускнел, утратив пускай и дрянную, но все же окрыляющую энергию. Ничего не попишешь, за все приходится платить, и охлаждение до полутеплого состояния — еще не самая высокая цена за мирный, безоблачный быт. Но судьба приготовила для Клятова иное.
Получив диплом о высшем медицинском образовании, Александр Терентьевич подался в наркологию — подобно автомату, не задумываясь, зачем и почему он хочет окопаться именно здесь, и что за сила руководит его выбором. Впрочем, его будущее могло стать довольно сносным. Ежедневное общение с отупелыми, сумрачными троллями скорее отпугивало, чем побуждало поскорее влиться в их шаткие ряды. Александр Терентьевич был как врач участлив и внимателен, хотя и несколько сух; он носил галстук, вел записи в кожаном тайм-менеджере и даже читал специальную литературу. К сожалению, читал он не только ее. В недобрый час содержание нескольких книг, выстроившихся в роковую цепочку, словно планеты на торжественном и жутком космическом параде, ворвалось в его мозг и произвело там губительное разрушение. Первым было сочинение Достоевского, в котором неосторожный классик позволил себе порассуждать о сущности белой горячки. В частности, великий писатель допустил, что черти и дьяволы, которых видит допившийся до них человек, суть абсолютно реальные фигуры — просто для того, чтобы их видеть, надо именно допиться, подвергнуться определенному химическому воздействию. Вторым в цепочке стал рассказ Шукшина про деда и внука, где внук просвещал старика насчет геройства академика Павлова: Павлов, умирая, надиктовывал скорбным студентам свои предсмертные ощущения. Наверно, хватило бы и этих двух произведений, но случай, стремясь породить железную необходимость, для верности дополнил список еще несколькими томами — в том числе работами скандально известного американского врача, урожденного чеха, о едином сознательном поле. После этого деваться было некуда, и Александр Терентьевич, объясняя свои действия интересами науки, сделался ее мучеником — то есть запил. Сначала он пытался соблюдать какую-то хитроумную систему — комбинировал, смешивал, разводил в разных пропорциях, следил за новинками рынка и даже, если еще оставались силы, записывал. Он справедливо подчеркивал, что сущности алкоголизма никто не знает, что корни не отрыты, а, стало быть, и невозможно эффективное лечение. И он, беря пример с великих экспериментаторов, согласен добровольно окунуться в бездонный омут и все там досконально разузнать. Перед самим собой он был настолько честен, что признавал в себе первичную склонность к пороку — тем легче, полагал Клятов, будет добиться результата.
И он добился результата — оставшийся без работы, изгнанный за пределы нормального круга общения, вынужденный сперва продать все вещи, а после обреченный подбирать бутылки, он ничуть не преуспел в понимании причин наваждения. Зато, лишившись средств к существованию, с солидной выгодой сменил жилье на меньшее и так на радостях гульнул, что не сумел освободить помещение к назначенному сроку.
3
…В верхнем ящике бюро лежали деньги: крупная, как уже говорилось, сумма в валюте. Прохожие об этой сумме не догадывались — в противном случае, поскольку среди них, бесспорно, попадались преступные личности, Александру Терентьевичу пришлось бы туго.
Клятов даже не отдавал себе отчета в том, насколько ему повезло. Пендаль, при всех своих грубых замашках и сомнительных связях, не принадлежал к криминальному миру. То есть способы, которыми он приобрел себе состояние, не были, конечно, законными и свободными от элементов разбоя это, однако, не мешало ему избегать открытого, сознательного бандитизма. Окажись на месте Пендаля кто другой, он не стал бы возиться с обменом клятовской квартиры на комнату в коммуналке, и уж в любом случае не дал бы хозяину денег в качестве справедливой доплаты за неравноценный обмен. Скорее всего, Клятов был бы убит — опоен отравленной водкой или задушен сразу после заключения сделки. Причем последняя наверняка свелась бы не к обмену, а к дарственному акту — это было бы юридическим оформлением порыва, который овладел дарителем под воздействием горячего утюга на живот.
Так что Александру Терентьевичу Клятову вышел фарт, и он, остро нуждавшийся в деньгах, ускользнул из лап квартирной мафии. Пендаль оказался чрезвычайно порядочным человеком: он без пререканий заплатил и даже не сделал попытки забрать доплату назад, хотя Клятов был абсолютно беззащитен и с ним можно было делать, что угодно. Деньги хранились в бюро, и верхний ящик даже не был заперт: сломался замок. Скажем честно: соблазн у Пендаля был. Искушение не из мелких — он, оставляя Клятова на тротуаре, предвидел судьбу своих долларов, и черная тоска накатывала на него волна за волной. Он и сам не знал, какая сила его удержала и что за невидимка голосом твердым, тихим и властным потребовал оставить Клятова в покое. Пендаль не посмел ослушаться, но сейчас, стоя возле окна в квартире Александра Терентьевича, от души желал тому скорее убраться с глаз долой, от греха подальше. Вид одинокой расхристанной фигуры был невыносим, особенно в сочетании с такими близкими, такими доступными купюрами. Достаточно протянуть руку…
Пендаль оглянулся на своих друзей и подумал, что эти, знай они про доллары, ни к какому бы голосу прислушиваться не стали. На миг ему сделалось стыдно и мерзко за бессмысленное, презренное мягкосердечие. Законы жанра требовали совсем другого.
Похоже было, что Александр Терентьевич уловил опасные мысли скрывавшегося в квартире Пендаля. Он повертел головой, потоптался на месте и принял решение. Выдвинув верхний ящик бюро, Клятов при всем честном народе извлек оттуда пачку денег, завернутую в целлофан, паспорт со свеженькой записью о новой прописке и толстую бурую тетрадь. Тетрадь разваливалась в руках, засаленные углы загибались и отсвечивали, будто покрытые лаком. Вынул врачебный диплом, захватил ненужный нагрудный знак — металлический ромб со змеей и рюмкой. Больше в ящике не было ничего ценного, и Александр Терентьевич, не сводя с бюро покрасневших глаз, начал отступать. Ему было несказанно тяжело оставить на произвол судьбы родную вещь, которая будоражила память и оживляла детские воспоминания. Если бы утро застало Клятова в состоянии более пригодном для анализа и планирования, он бы, конечно, сбегал на проспект, нашел фургон или грузовик, благо деньги имелись. Но ему было так плохо, что он не мог сложить в уме два и два. Пусть остается все, как есть, и будь, что будет. Возможно, он еще вернется, и осиротевшая, преданная утварь благополучно переедет в новый, последний, по всей видимости, приют. Но возвращаться заранее страшно: вдруг, вернувшись, он не найдет ничего, или, что еще хуже, станет свидетелем варварского надругательства над символами погубленной жизни — щепки, обломки, оскорбительные надписи и прочий кошмар. Тут Клятов заметил в окне Пендаля, который внимательно за ним следил, и ноги сами понесли его прочь от опасного места. Он побежал, поминутно спотыкаясь и не смея оглянуться; вскоре он добрался до проспекта и втиснулся в первый попавшийся троллейбус. Клятов проехал две остановки, пришлось выходить: он забыл свой новый адрес и, когда заглянул в паспорт, выяснилось, что ехать ему следует в обратную сторону.
Остро нуждаясь в срочной опохмелке, Александр Терентьевич не мог позволить себе этой маленькой радости. У него не осталось рублей, а для обмена долларов был слишком ранний час. Все закрыто, и выхода нет — к тому же у Клятова хватало ума не распечатывать страшную пачку перед посторонними. Хочешь не хочешь, а надо сперва добраться до дома и хоть немного привести себя в порядок.
Он опустился на скамейку и огляделся. Было не по-весеннему душно, задувал ленивый ветерок. На глаза Александру Терентьевичу попалась ветка с набухшими майскими почками, и в ту же секунду его пронзил животный ужас. "Что за черт", — успел подумать Клятов. Это что-то новое — он до полусмерти испугался почек. Его почему-то посетила мысль, что почки эти не просто так, что зреют в них не листья, а…Кстати сказать, пора бы им зазеленеть — в чем же дело? Странно. Александр Терентьевич прикрыл глаза, боясь догадаться, что же такое скрывается в почках. «Запишу», — дал он себе обещание, поскольку понял, что расстройство его психики вступает в новую фазу (забегая вперед, скажем, что так и не записал). Страх не проходил, и Клятов понял, что не может больше сидеть на этой скамейке. Собравшись с силами, он доплелся до остановки, где сесть было некуда, и привалился к фонарному столбу. Краем глаза он отметил, что к нему направляется сотрудник милиции — неизвестно, как повернулись бы события, не подоспей троллейбус. Клятов ввалился в салон, двери захлопнулись, и милиционер, недовольный, остался стоять на тротуаре, поигрывая возбудившейся упругой дубинкой.
4
Александр Терентьевич, пока ехал, наслушался всякого.
Кое-что адресовалось непосредственно ему, хотя Клятов постарался забиться в закуток на задней площадке — тот, что возле окна и отгорожен поручнями. Он прилагал неимоверные усилия, чтобы скрыть фантастический запах, исходивший изо рта, и был бы счастлив вообще не дышать, но это, как выяснилось, положения не спасало. Утробные пары перекрывались изысканным зловонием, источником которого была одежда Александра Терентьевича. Неизвестно, почему его не вышвырнули из троллейбуса на первой же остановке возможно, будь на Клятове грязная рабочая спецовка, с ним именно так бы и поступили, защищаясь правилами проезда в городском транспорте, но лишь немногим пришла в голову мысль, что клятовский наряд как раз и является специальной одеждой — с учетом, разумеется, основного занятия владельца.
— С души воротит! — вымолвил сердито один. — Ей-Богу, блеванул бы!
Клятов сжался и ничего не ответил. Тот не унимался:
— Только много чести будет! Рылом не вышел соседствовать с моим внутренним содержимым!
Златоуста одернули:
— Умный, что ли, очень? Отвяжись от мужика, не видишь — он еле живой.
"Да, — подумал Александр Терентьевич, — правильно. Я еле живой".
С минуту он ехал спокойно, но вот особа средних лет, читавшая, если судить по обложке, любовный роман о пищевых продуктах, шумно вздохнула и переместилась подальше. На Клятова тут же напали снова, на сей раз недавний защитник:
— Слышь, мужик, ты бы в самом деле вышел, а? Тяжело с тобой рядом стоять.
— Мне еще чуточку, тут рядом, — хрипло прошептал Александр Терентьевич. У него закружилась голова, под сердцем завздыхал холодный воздушный шарик.
Сосед покачал головой, но больше Клятова не трогал. Стремясь отвлечься, тот стал беспорядочно ловить обрывки чужих разговоров, надеясь услышать нечто к нему не относящееся — ему чудилось, что все смотрят только на него и говорят исключительно о нем. Во время оно Клятов додумался до мысли, что алкоголизм приводит к анальной редукции. Говоря проще, человек возвращается на ту стадию развития, когда ему чрезвычайно интересно все, что он оставляет позади. Интересно и — страшно, поскольку ничего хорошего там не остается. Здесь уместно провести сравнение с малыми детьми, которых бьют по попе за измаранные штанишки — воспитывают. Только в случае алкоголика все приобретает гораздо более широкий охват: что у меня за спиной? И сама спина — не белая ли? Что я забыл на скамейке? Что я вчера говорил? Не сделал ли я давеча чего такого, отдающего дерьмом? (как будто мог он сделать что другое!) А что я сделал только что? С другой стороны, анальная фаза, по Фрейду и Эриксону, находится выше, чем предыдущая, оральная — истинно алкоголическая, когда решение всех своих проблем человек приобретает в жидком виде, не жуя и без малейших усилий. Неужели прогресс? Короче, сложная, глубокая, достойная высоких философов мысль. Но нет, говорили о разном. Какой-то тип негромко похвалялся своим недавним поступком: убил жену взглядом. Александру Терентьевичу пришло на ум, что рай всегда индивидуален, а преисподняя всегда коллективна. Он не помнил, чья это была мысль возможно, что его собственная, рожденная давным-давно, когда он еще умел рождать мысли.
Страшный троллейбус резво катил по смурному проспекту.
Кондуктор, внешне мало чем отличавшийся от Клятова (правда, от него не пахло), потребовал заплатить.
— На выход, — буркнул он равнодушно, когда Александр Терентьевич посредством сложной комбинации мычания, разведенных рук и вытаращенных глаз показал, что не может этого сделать. Кондуктор, нисколько не заботясь о выполнении своего приказа, отвернулся и побрел по направлению к кабине. Зато контролеры, посланные злым роком именно в тот троллейбус, в котором путешествовал Александр Терентьевич, проявили особенное, плохо объяснимое рвение. Не дождавшись денег, два накачанных лба, что были как две капли воды похожи на друзей Пендаля, хором крикнули шоферу остановить машину. Задняя дверь распахнулась; один из контролеров победоносно объявил, что троллейбус не сдвинется с места, пока не выйдет козел (они по-своему понимали зоологию и зайцев не жаловали). Взревели пассажиры. Козел оказался дисциплинированным гражданином, и ему не нужно было ничего повторять. Он с удивительным проворством нырнул под поручень и прыгнул на асфальт. Лбы, разочарованные послушанием изгоя, не спешили отпускать троллейбус. Они помедлили, решая, исчерпан ли конфликт и не навешать ли нарушителю трендюлей. И вот они сплюнули, втянулись в салон, водитель что-то сквозь зубы пробормотал и внезапным рывком бросил машину вперед. Клятов огляделся и понял, что не доехал всего лишь одну остановку.
От понимания близости вожделенного лежбища его силы умножились, но это был аварийный резерв, НЗ. Александр Терентьевич пошел дворами, и дворы представлялись ему огородами, которыми он уходит от белых, красных и прочих цветов спектра. Не хватало только обреза. Но тут его застигла ранняя, нежданная (даже Клятов сумел удивиться) в голом городе гроза: сверкнула молния, и вскоре гром рассыпался хохотом недосягаемого тупицы, который дурак-то дурак, но все-таки удалился на безопасное расстояние. Александр Терентьевич заозирался, ища, куда податься. Он помнил, что нельзя прятаться под деревья, но только деревья и были слева — он выбрался, сам того не заметив, из примитивного лабиринта хрущевок, — а справа был пустырь. На пустыре стоял человек, с виду Александру Терентьевичу родственный. Растерянный и покинутый, он тоже не знал, куда деться, и Клятов бросился к нему, повинуясь неправильному велению лживого сердца. Однако не добежал, молния успела раньше: она с ленивой, одной стихийной силе присущей точностью, ударила аккурат в потертую заячью шапку незнакомца. Александр Терентьевич споткнулся и чуть не упал, видя, что на месте недавнего полуживого памятника всем убогим, грешным и больным остались лишь дымящиеся штиблеты. Возможно, то были не штиблеты — какая-то, в общем, обувь, весьма удачно где-то найденная. Александр Терентьевич к ним не приблизился: он боялся, что обувь окажется настоящей. А так как в глазах его стоял туман и все плыло, он обманул самого себя, произнеся вслух, что и дыма-то не было никакого — значит, галлюцинация — явление хоть и аномальное, но распространенное.
И здесь он неожиданно приметил долгожданный флигель.
Сказать по правде, найти это строение — если знать, с какой стороны к нему подобраться — было нетрудно. Другое дело, что никто не знал, как это сделать. Флигель являлся анклавом громадного дома старой постройки, окруженного еще пятью-шестью такими же ветеранами. Новостройки наступали, многое было разрушено, и гордый неприступный островок стал камнем преткновения для многих городских служб — скорой помощи, поликлиники, различных ремонтных организаций и так далее. Главная сложность заключалась в беспорядочной нумерации квартир. Казалось, что эти самые номера расползлись по дверям, руководимые броуновским движением — или, что более правдоподобно, подобно тараканам, то есть без всякой логики. Первые номера кучковались под крышами, последние — в подвалах, и зачастую сущим бедствием оборачивались поиски двери, нужной сотрудникам, скажем, горгаза, или еще кому, кого срочно позвали, и если промедлить, то случится великая беда. А флигель стоял (да простится сей невольный каламбур) особняком, флигелю в этом ребусе равных не было. В нем раскинулась одна-единственная квартира, имевшая порядковый номер «одиннадцать». Эта квартира сделалась сущим проклятьем для вышеупомянутых служб — никто не мог ее отыскать. Несведущие визитеры, облазав окрестные дома снизу доверху и обратно, реагировали на почти неизбежное фиаско по-разному — кто беспомощно разводил руками, кто матерно бранился, кто обессиленно прислонялся к ближайшей стене в ожидании обморока или, чего доброго, инсульта. Попытки выяснить что-либо у местных жителей только усугубляли положение, никто ни в чем не смыслил, и спрошенный в лучшем случае глупо таращил глаза, а в худшем — втирался в доверие и давал советы. Между тем существовала хитрая точка для избранных и достойных, с которой нежданно-негадано открывался чудесный вид на обшарпанный желтый домик, и все моментально вставало на свои места. Измученный странник сразу вдруг понимал, что эта-то постройка и заключает в себе предмет его продолжительных поисков. Александру Терентьевичу крупно повезло: Создатель на секунду ввел свое прямое правление на ограниченном участке пространства и милостиво поместил его в правильное место. Клятов понял, что стоит и смотрит на свой новый дом, а дождь между тем собирается в стену, и надо бежать. Александр Терентьевич зашлепал по свежим лужам, крепко прижимая к груди драгоценный пакет.
5
Дверной косяк был облеплен звонками; их было целых четырнадцать: тринадцать — по числу жильцов, и один — коммунальный. Никого из проживавших в квартире Клятов не помнил, Пендаль возил его осматривать комнату и знакомиться, когда Александр Терентьевич находился в невменяемом состоянии. Всплывали какие-то хари, но у Клятова не было уверенности, что он видел их именно в новой квартире, а не где-то еще. Разумеется, ни о каком коммунальном звонке он не имел представления и потому позвонил в первый попавшийся — попавшийся не сразу, палец трясся и беспомощно тыкался в дерево, не соображая, чего от него хотят. За дверью молчали, издалека доносилось позвякиванье кастрюль и унитазный клекот. Тогда Александр Терентьевич закрыл глаза, навалился на дверь, уперся пальцем в звонок номер два и так застыл, не отпуская кнопки. В коридоре дико зазвенело, вскоре послышалась остервенелая ругань с нотками радости: личность, шагавшая к двери, предвкушала расправу.
— Кто там? — голос был низкий, интерсексуальный.
— Клятов, откройте, — прошептал Александр Терентьевич и снял палец с кнопки.
— Чего?! — в голосе зазвучало праведное ликование.
Клятов, чувствуя, что справедливости не найдет, обреченно замолчал, повернулся лицом к четверке захарканных ступенек и прислонился к двери "А вдруг я ошибся? — подумал он совсем некстати. — Вдруг это другой дом? Что же мне тогда делать? Я этого не переживу". И едва не упал, поскольку дверь, за которой уже не в силах были сдерживаться, резко отворилась внутрь. Клятов охнул и обрушился на крупную женщину лет то ли сорока, то ли шестидесяти — в классических бигудях, в классическом халате, с классической папиросой в зубах. Такие тетки-комиссарши почти обязательно представлены в густонаселенных коммуналках, что хорошо освещено в отечественной прозе.
— Чего ты здесь шаришься, ханурик? — рявкнула комиссарша, с силой отталкивая от себя Александра Терентьевича. — Ишь, залил глаза!
"Ах, если бы это было правдой!" — пронеслось у того в мозгу. Но нет, сегодня он как раз не успел залить и без того переполненных печеночными слезами глаз, и много дал бы за такую возможность. Возможно, он дал бы весь пакет — если б у него спросили. Но — нет худа без добра — Александр Терентьевич каким-то чудом вспомнил, что в первый его визит этот дивный голосок уже звучал, и окончательно уверился, что попал, куда надо.
— Я же Клятов, — прохрипел он укоризненно и жалобно. — Я теперь здесь живу.
Комиссарша взяла его за плечи, встряхнула и внимательно всмотрелась в лицо-подушку. Редкая бесцветная щетина торчала из нее, подобно куриным перьям.
— Тьфу ты, Господи, — сказала она испуганно, и Клятову показалось, что собеседница сейчас перекрестится. Но она не перекрестилась. — И в самом деле вы. Ну, извините.
И она отпустила Александра Терентьевича, который немедленно зашатался и сел прямо на пол, у стенки.
— Зачем же вы тут сели? — спросила комиссарша с раздражением. — Раз приехали, ступайте к себе в комнату, вон туда, — и она дернула головой, указывая направление. Клятов был ей бесконечно признателен, ибо не знал, какая комната его.
— Конечно, конечно, — забормотал он, суетливо вскочил и побежал к двери, которая почему-то была исчерчена углем и цветными мелками. Возле двери он остановился и начал искать в кармане ключ.
— А где ваши вещи? — комиссарша продолжала допрос. Судя по всему, она была в квартире коммунальным старостой — разумеется, не официально, а просто по праву сильного. "Люция Францевна Пферд", — Александр Терентьевич вспомнил классиков, прочитанных в прошлой жизни. Конечно, комиссаршу звали как-то иначе, но это бессмертное имя ей очень шло.
— Нет пока вещей, — пробормотал Клятов, роясь в карманах. — И ключа нет, — молвил он голосом честного санкюлота, приговоренного к гильотине.
— Понятно, — сказала ужасная женщина. Слово получилось у нее невнятным, потому что она в эту секунду раскуривала папиросу. — Андреев! — закричала она. — Андреев, иди-ка сюда!
Выскочил Андреев — долговязый человек в синей майке и домашних брюках, заляпанных краской. Ступни и кисти, а также нос, губы и уши были у него колоссальных размеров, и Клятов, механически помнивший кое-что из медицины, сразу заподозрил у него акромегалию — болезнь, при которой, вследствие маленькой опухоли в мозгу, непомерно разрастаются конечности и укрупняются черты лица — случай Фернанделя.
— Че такое, Гортензия Гермогеновна? — закричал человек оптимистически. — Чем могу служить?
— Сосед наш новый, — та указала на Клятова пальцем.
— Да? — Андреев радостно, ни в чем не обнаруживая к Александру Терентьевичу отвращения, протянул ему руку. Клятов схватил ее, как если бы находился в воде и тонул, а сосед пришел к нему на помощь.
— Ключ забыл, — с неожиданным добродушием проворчала Гортензия Гермогеновна.
— Ну так не беда, — пожал костлявыми плечами Андреев. Он развернулся, широкими шагами прошел в свои покои и скоро оттуда вернулся, неся связку ключей. Нетрудно догадаться, что наличие у постороннего ключа от его комнаты ничуть не покоробило Александра Терентьевича. Более того, он испытал такую благодарность, что сам был бы рад отдать ключи любому, кто об этом попросит.
Андреев быстро выбрал нужный ключ, вбросил в скважину, провернул. Дверь распахнулась. Клятов, забыв о словах благодарности, сделал последние, как ему померещилось, в этой жизни шаги и повалился на старый матрац. Кроме этого матраца, в комнате не было ничего.
— Ладно, устраивайтесь, — Гортензия Гермогеновна, отдав это совершенно бессмысленное распоряжение, скрылась в кухне. Андреев остался. Он стоял над Клятовым и с младенческим любопытством его рассматривал. Потом младенческое любопытство сменилось сталкерским изумлением водопроводчика при виде ржавой трубы. Откуда-то издалека послышался детский плач.
— Тут и дети есть? — почему-то спросил Александр Терентьевич, хотя ему было все равно.
— Один, — кивнул Андреев. — Павлуша, годик ему. А родители — Игорь и Юля, молодожены. Хорошие ребята. Вы их еще не видели?
— Кто его знает, — откликнулся Клятов, уверяясь, что с Андреевым можно быть откровенным.
Тот засмеялся, и очередная волна благодарности затопила сердце нового жильца. По меньшей мере, один из соседей не собирался его осуждать и травить.
— Я забыл представиться, — сказал Александр Терентьевич и назвался полным именем, зная наперед, как плохо оно соотносится с его нынешним обликом.
— Андреев, — сказал Андреев, нагнулся и снова предложил Клятову пожать исполинскую ладонь. И в голову тому сейчас же пришла волшебная, грандиозная мысль.
— Слушайте, Андреев, — быстро заговорил Александр Терентьевич. — Мне очень, очень худо. Как-нибудь после я вам — если, конечно, у вас будет интерес, — расскажу, почему так вышло. Но сейчас я умираю. Я дам вам сто долларов, других денег у меня нет. Пожалуйста. Умоляю — купите мне чего угодно, лишь бы там был алкоголь. Я верю, что вы меня не обманете, а если вам нужно — возьмите себе за труды, сколько хотите.
Андреев присвистнул:
— Вы с ума сошли, Александр Терентьевич! Сто долларов! После сочтемся. Погодите, я сейчас вернусь, — и он растворился в коридоре. Клятов, не веря в близкое спасение, сжал кулаки и крепко зажмурился. "Вот и все, вот и все, стучало сердце. — Сейчас случится чудо, сейчас произойдет что-то очень хорошее. Терпение, дурак, терпение — помощь уже близко. Еще чуть-чуть, и ты оживешь. Наверно, это наилучший для меня выход — поселиться здесь. Мне нельзя оставаться одному, один я повешусь или надышусь газом — собственно говоря, давно пора было это сделать, но как-то все же, как-то все же…Спасибо Пендалю, надо будет ему позвонить, извиниться. Я, наверно, его здорово подвел — человек рассчитывал, планировал…а я опять нажрался, как сука, как клещ…о, господи, какой позор, какое скотство!"
И Александр Терентьевич, в который раз охваченный похмельными страхами и угрызениями совести, перевернулся на живот, втиснул лицо в грязную полосатую ткань и сжал ладонями череп. За спиной послышались шаги.
— Я, конечно, не знаю, — послышался полный сомнений голос Андреева. Но думаю, что это подойдет.
Все страдания и угрызения сняло как рукой; Клятов проворно сел и протянул дрожащую руку к стакану, который принес ему участливый сосед.
— Там чего? — спросил он автоматически — на самом деле ему было глубоко безразлично, что именно было налито в стакан.
— Спиртик, — улыбнулся Андреев. — Не медицинский, но вполне, вполне! За неимением лучшего…
Дальше Александр Терентьевич не слушал, и Андреев, видя это, замолчал. Александр Терентьевич махнул стакан в два глотка и задохнулся. Глазные щели разлепились, красные глаза вылезли на лоб, в ушах раздался звон — не то пасхальный, не то похоронный.
— Закусить не взял! — Андреев с досадой ударил себя по лбу.
— Спасибо, — Клятов замычал и замотал головой. — Я…(он закашлялся долгим, подводящим к рвоте кашлем) я не могу есть…вот уже несколько дней…но это пройдет…потом…может быть…
Андреев устроился рядом на матраце, закурил и молчал, пока Александр Терентьевич не пришел в себя. Тот, наконец, от души выдохнул и замер, глядя перед собой и смутно прозревая первоочередные, неотложные дела.
— Кто-нибудь в квартире пьет? — спросил он осторожно, намереваясь хотя бы в общих чертах угадать свою дальнейшую судьбу.
— Теперь — да, — усмехнулся Андреев и пустил колечко дыма. — Но вы не переживайте, никто вам слова не скажет. У нас квартира дружная. К тому же пьющий человек — фигура любопытная…В пьющих людях есть особенная, знаете ли, восприимчивость…своеобразная проницательность, какой не сыщешь в прочих…
Это суждение показалось Клятову немного странным. Он искоса взглянул на Андреева, ощутив неясную угрозу — высокая оценка пьяной восприимчивости звучала в устах последнего как-то не так…не тот был вопрос, чтобы волновать субъекта вроде Андреева. Но сосед непринужденно попыхивал папиросой, и Клятов в конце концов отнес все на счет своих остаточных алкогольных страхов и подозрений. Восприимчивость и вправду особенная боишься каждого шороха, каждого стука. Андреев замурлыкал какой-то марш.
— Любите Некрасова? — спросил он вдруг. — Наши любят. Вообще любят русских поэтов. А в особенности — вот это: "Идет, гудет Зеленый Шум, Зеленый Шум, Весенний Шум…" Правда, талантливо?
— М-м, — отозвался Александр Терентьевич неопределенно и осторожно. "Ахинея какая, — подумал он про себя. — При чем тут Некрасов?"
— Или вот такое: "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!" — пропел Андреев и с довольным видом уставился на Клятова в ожидании похвалы.
— Это как будто не Некрасов, — осмелился высказать свое мнение тот.
— Конечно, нет. Не свет же на нем клином сошелся! Мы и других читаем, и даже сами иногда пописываем. Вот я, например, сочинил коротенькое стихотворение — называется: «Царскосельское». Прочесть?
Клятов вежливо повел бровью. Андреев запрокинул голову и торжественно, нараспев произнес:
— Дева, струю нагнетая, свою опрокинула чашу. Правда, ничего? Это я придумал, когда проезжал прошлым летом мимо Царского Села. Навеяло, так сказать.
Молчание Александра Терентьевича затянулось. Андреев сообразил, что смутил и озадачил новосела, и быстро поправился:
— Да вы не думайте, мы не психи. Просто по-настоящему дружная квартира, вот и все. Мы, конечно, не каждый день занимаемся декламацией. Так, по праздникам, когда есть настроение…В коммуналках достаточно минусов, но есть и плюсы. Рождается своеобразное братство, связанное общим проживанием об этом часто забывают. Так что можете не сомневаться — вы не столько потеряли, сколько приобрели.
Клятов, успокоенный этими словами, слабо улыбнулся. И вдруг вспомнил про свое брошенное бюро.
— Есть еще одно дело, — начал он нерешительно. — Уж не знаю, удобно ли просить. Но опять же: деньги — вот они.
Андреев закивал, демонстрируя неподдельное внимание.
— Вещички мои остались под дождем мокнуть, — сообщил Александр Терентьевич горестно. — Вы понимаете, что мне было не до того. Там не Бог весть что, но все же… Вот если бы поймать машину, да съездить погрузить…
Сосед ненадолго задумался, прикинул что-то в уме.
— Это дело поправимое. — сказал он наконец. — Правда, тут и вправду понадобятся деньги. Но вы не тревожьтесь, ради первого знакомства оформим все в наилучшем виде. Прямо сейчас и займусь, гоните монету.
Клятов, кряхтя, начал подниматься с матраца, но Андреев усадил его обратно.
— Нет-нет, отдыхайте. Я справлюсь сам. Говорите адрес, и, если там что-то осталось, привезу в целости и сохранности. Давайте же, говорите адрес.
6
Оставшись в одиночестве, Александр Терентьевич повернулся на бок и попытался заснуть. Сон не шел; в мозгу роились ошметки планов и намерений, а моральный императив настойчиво звал куда-нибудь зачем-нибудь. Тревога, отчасти укрощенная спиртиком, ненадолго отступила; на первый же план вышла лихорадочная жажда деятельности, болезненное желание что-то — неважно, что сделать, чтобы окружающий мир сделался более комфортным и не было после мучительно больно за личную пассивность. Однако делать было нечего, он сделал все, что было в его власти. Обмен состоялся, деньги — за пазухой, до места проживания добрался без потерь, Андреев уехал и — чем черт не шутит может даже привезти предательски оставленную мебель. Можно спокойно лежать и отдыхать, но именно отдых-то и невозможен, какой может быть отдых, когда тебя точит желание вскочить и бегать без всякой цели взад-вперед по комнате в надежде отвлечься от адского пламени, что угрюмо тлеет глубоко внутри и не погаснет вовеки. Поэтому Александр Терентьевич, пролежав не более десяти минут, решительно встал и осторожно выглянул в коридор. Неплохо бы добавить, но как попросишь о таком людей совершенно незнакомых, пусть и дружелюбных, как уверял его Андреев? И выйти на угол нельзя: послав Андреева за вещами, Клятов связал себя известным обязательством хотя бы дождаться этого доброго человека и поучаствовать в разгрузке собственного скарба. Если он отправится на поиски очередного стакана, это может закончиться потерей благорасположения единственного человека, которому он сейчас может довериться. Нет, придется потерпеть. А вдруг повезет, и в коридоре он нарвется на кого-то столь же хлебосольного, сколь и Андреев? Мысль показалась Клятову дельной, и он потащился на кухню. На кухне стоял лысый старик в джинсовом комбинезоне и что-то варил себе на плите в жестяной кружке.
Александр Терентьевич откашлялся. Старик подпрыгнул, обернулся и вытаращил на Клятова глаза.
— Здравствуйте, — поздоровался тот. — Я ваш новый сосед…Клятов Александр… — в последний момент что-то удержало его от упоминания отчества. Вероятно, все-таки сыграло свою роль подсознательное соображение, что типы с подобным лицом, не говоря уже о запахе, называться по отчеству права не имеют.
Дед заколесил к Александру Терентьевичу, приблизился, остановился, заглянул в глаза.
— Я прошу меня великодушно извинить, — произнес он пискляво, — но вы, случайно, не алкоголик будете?
Вопрос был оправданный, и даже риторический, но Клятов все равно не ждал, что спросят так вот, в лоб. Он сделал глотательное движение, молча кивнул и одновременно пожал плечами.
— Ах, какая удача! — воскликнул старик и сунул для рукопожатия дряблую ладошку. — Прошу любить и жаловать: Дмитрий Нилыч Неокесарийский. Простите мою бесцеремонность, но до сих пор у нас в квартире не было своего алкоголика. А без них коммуналка вроде бы уже не коммуналка — вы согласны? Вы не обиделись?
— Нет, что вы, — Александр Терентьевич изобразил на физиономии улыбку. — Если вы так вот сразу про все догадались, то нельзя ли…
— Конечно! — всплеснул руками Неокесарийский. — О чем разговор! Прошу, прошу в мои хоромы…Сейчас вот только с вашего позволения выключу мою стряпню…
Старик выключил газ, схватил ошарашенного Клятова под руку и потащил прочь из кухни. Разум Клятова отказывался правильно оценить происходящее. Можно, скрепив сердце, допустить, что квартиранты ощущают некоторую недоукомплектованность в смысле пьющего люда, но мысль об их единодушном восторге казалась совершенно дикой. Дмитрий Нилыч, приговаривая по пути: "Уж чем богаты", провел Александра Терентьевича в комнату, где можно было запросто задохнуться от книжной пыли. Такого количества книг на такой маленькой площади Клятову видеть не приходилось.
— Вы, наверно, доктор наук? — почтительно осведомился Клятов.
— Нет, любезный, какое там! — рассмеялся Неокесарийский. — Я простой библиофил, собиратель всякой всячины. Все собираю и собираю, и не могу остановиться. Каждое утро, как проснусь, корю себя — ну зачем, скажи на милость, тебе эти горы и залежи? В могилу-то не возьмешь, а оставить некому. Полежу так, посокрушаюсь — и опять за свое.
Дмитрий Нилыч с виртуозностью ужа подлез под готовую рухнуть книжную стопку и вытащил на Божий свет графинчик с малиновым содержимым. Клятов переминался с ноги на ногу, не смея сесть. Неокесарийский, спохватившись, бережно усадил его на тахту и поставил под нос высокую граненую рюмку мутного стекла. "Что мне рюмка", — подумал АлександрТерентьевич с досадой, следя, как дед целится из графинчика и медленно нацеживает свою плюшкинскую наливку.
— Извольте отпробовать, — старик неуклюже поклонился и чуть попятился.
Клятов прижал руки к груди:
— Не знаю, как вас благодарить… — схватил рюмку и залпом ее опустошил. Наступило, как он и предполагал, разочарование: напиток на поверку оказался слабеньким, градусов двадцать, и впридачу тошнотворно сладким.
— На здоровье, — просиял Неокесарийский и тут же налил еще. Александр Терентьевич довольно кашлянул: двадцать плюс двадцать — уже сорок. Выпив, он слегка разомлел и позволил себе светский вопрос:
— А что, Дмитрий Нилыч (вот! уже и развязность проступает!), вы, небось, тоже стихами увлекаетесь?
— Как же не увлекаться? — Старика вопрос не удивил. Он порылся в книжном завале, вынул томик, раскрыл и прочел: — "Пробирается медведь сквозь лесной валежник, стали птицы громче петь и расцвел подснежник!" Просто, бесхитростно, а пробирает до костей! Вы, кстати сказать, не за подснежниками пожаловали?
— Что? — растерялся Клятов.
Неокесарийский усмехнулся и махнул рукой:
— Не слушайте, это стариковское. Нас тут собралось двенадцать месяцев, вот и забываешь порой, где быль, а где сказка. Вы сами увидите и, смею допустить, удивитесь.
Александр Терентьевич раскрыл было рот для нового вопроса, но тут со двора донесся бодрый автомобильный гудок. Неокесарийский заковылял к окну, выглянул и сообщил:
— Похоже, по вашу душу — Андреев с какими-то вещами. Не с вашими ли?
Клятов, будучи связан по рукам и ногам отлучкой Андреева, не знал, чему он больше обрадовался — вещам ли, свободе ли.
— С моими! — он поспешил к выходу. — Я извиняюсь…
— Что вы, что вы! — старик возмутился. — Не смею задерживать. Увидимся вечером, за ужином. Полагаю, в вашу честь будет устроен маленький фуршет.
Неокесарийский произнес это с мелким нечаянным смешком — довольно гнусным, но Клятов не придал этому значения. Он вышел в коридор и увидел, как Андреев, пригласив в помощники шофера маленького грузовика, заносит в помещение многострадальное бюро — многострадальное в одном воображении Александра Терентьевича. Предмет был цел и невредим, и в той же мере сохранились все прочие вещи.
— Я ваш должник по гроб жизни, — промямлил Клятов, бестолково перемещаясь в пространстве и создавая самозваным грузчикам очевидные неудобства.
— Забудьте, — отозвался Андреев, отдуваясь. — Между прочим, ваше прежнее жилище занял очень неприятный тип. Вот кто будет должник…
— Что он вам сделал? — спросил Александр Терентьевич испуганно. — Это Пендаль. С ним опасно связываться.
— Не хватало, чтобы он что-то сделал, — хмыкнул Андреев. — Просто выполз на тротуар, вел себя вызывающе…Черт с ним, это не ваша забота. Держите сдачу, — и он сунул в руки комок пятидесятирублевок. — Я поменял, вы не в претензии? Курс вполне приличный.
Слов у Клятова не нашлось. Внимание, которое ему оказывалось, было поистине сверхъестественным.
— Сколько я вам должен? — спросил он с излишней суровостью, боясь расчувствоваться совсем.
— Я посамовольничал, — признался Андреев виновато. — Взял без спроса, но немного, в разумных пределах. Ничего?
— Все нормально, — сказал Александр Терентьевич устало. Действие стакана неуклонно сходило на нет, и он остро нуждался в небольшом путешествии. Да и впечатлений было слишком много, он давно уже отвык от столь насыщенной жизни. — Я тут отлучусь на полчасика…
— Идите, — кивнул Андреев серьезно. — Только — очень вас прошу — не перестарайтесь. Вечером отметим ваше новоселье как следует — так не дай Бог, проспите все на свете.
7
Александр Терентьевич вел себя примерно и не перестарался. Он даже недобрал — трудно понять, что явилось тому причиной. Скорее всего, сказалось общее переутомление, в силу которого новоселу стало до лампочки решительно все, даже самая основа его существования. Рассеянный и невнимательный к голосу нутра, он ограничился парой стаканов, беспечно рассчитывая на заботливое провидение, которое с некоторых пор взяло над ним шефство. Тут, конечно, была учтена перспектива ужина, да и щедрый Андреев, казалось, был из породы дойных коров, к которым всегда в случае чего можно припасть пересохшими губами. В общем, Клятов даже домой ничего не купил, а пошел, как есть, с умеренно гудящей головой и стопудовыми ногами. Он мало что соображал, и лишь матрац стоял перед глазами — Александр Терентьевич напрочь забыл, что к нему вернулся безропотный, на все согласный диван. Лишь на секунду прояснилось его сознание — при виде набухающих майских почек. Клятов припомнил, что с ними было связано какое-то малоприятное переживание, какой-то страх. "Ничего, — проворковал он самому себе утешительные слова. Теперь после дождичка дело пойдет". И выкинул почки с деревьями и маем из головы.
А потом пришли кошки, и это была расплата за неосмотрительность.
Это может показаться удивительным, но в поисках корней алкогольного психоза Клятов до сих пор не удостоился полноценного бреда, настоящей белой горячки. Были тревоги, были фобии, были навязчивые мысли, но живой, всепоглощающий опыт не приходил. Так случилось и с кошками: Александр Терентьевич добрался до своей конуры, рухнул на полюбившийся матрац и попытался заснуть. Здесь-то недобор и нанес свой коварный удар: сон обернулся полусном, в котором происходили разные мерзкие события. Вообще, Александр Терентьевич давно дошел до состояния, в котором всякая наука пускается побоку и остается лишь одно стремление — лишиться сознания, поскольку все, что сознается, вызывает тошноту и желание наложить на себя руки. Как раз сознания он не лишился: лежал, беспомощный, ничком и смотрел, как на пороге появляются две кошки мышиной окраски — тощие, голодные, короткошерстные, с поднятыми хвостами и с неизвестными намерениями. Клятов точно знал, что дверь за собой он затворил; сейчас она была приоткрыта, и в широкую щель виднелся залитый желтым светом пустынный коридор. Александр Терентьевич никак не мог уразуметь, грезит ли он, или все происходит наяву. В любом случае, он никак не мог повлиять на происходящее. Секундой (или часом) позже он отметил, что кошки куда-то делись, зато в комнату заглядывают два врача — в хирургических халатах с тесемками на спинах, в колпаках, при очках и с чемоданчиком. "Кто же их вызвал? — в ужасе подумал Клятов. — Неужели соседи? Все может быть, все может быть…" Врачи исчезли, но ясно было, что они где-то здесь, в квартире — наверно, собирают информацию об Александре Терентьевиче. "Надо запереть дверь и никого не впускать", — мелькнула мысль, такая простая и спасительная, что Клятов не стал делать этого элементарного дела. Ему хватало знания о самой возможности спасения. И он, наконец, отключился, а когда настало время вползать обратно в жизнь, почувствовал себя так плохо, как не было давно, как не было даже утром, когда Пендаль будил его ботинком.
Часов у Александра Терентьевича не водилось, и он понятия не имел, сколько времени. За окном было пасмурно, но светло — стало быть, еще не ночь. Еще день на дворе, а значит, надо жить и бодрствовать, а это ужасно. Клятов обратил взор к двери и увидел, что она плотно закрыта. И тут же услышал, как в нее стучат — деликатно и предупредительно. Донеслось чье-то снисходительное суждение:
— Надо кулаком и посильнее, он же не слышит.
— Я слышу, — прокаркал Александр Терентьевич и забился в приступе кашля. Он кашлял так неистово, как будто хотел извергнуть на пол инопланетного паразита, засевшего в утробе — такое он когда-то видел в фильме ужасов.
— Александр Терентьевич! — позвал из коридора Андреев. — Просыпайтесь! Все готово, вас ждут.
— Иду, иду, — заторопился Клятов, оправляя на себе одежду. Он спал, не раздеваясь, но его гардеробу это обстоятельство вряд ли уже могло повредить.
Клятов шагнул за порог и увидел, что там стоят Андреев, Гортензия Гермогеновна и какой-то еще человек — совсем молодой и пока незнакомый.
— Да, — крякнула Гортензия Гермогеновна после короткой паузы. — Тут не прибавить, не убавить. Ну, ничего, сейчас ему станет полегче.
Она приоделась: теперь на ней был деловой костюм в обтяжку, подчеркивающий выступы и углы. Бигуди испарились, однако кудри получились такие мелкие и тугие, что могло показаться, будто бигуди присутствуют по-прежнему. Гортензия Гермогеновна, выдвинув квадратную нижнюю челюсть, оценивающе изучала Александра Терентьевича. Поскольку она посулила ему скорое облегчение, Клятов пришел к выводу, что и Гортензия Гермогеновна готова наравне с Андреевым и Неокесарийским принимать посильное участие в его алкогольной судьбе. Он повиновался, и все четверо двинулись к уже знакомой Александру Терентьевичу кухне. Краем глаза Клятов отметил таракана, проползавшего по сырым обоям общего пользования. У входа в кухню Клятов остановился и ошеломленно воззрился на роскошный стол, заставленный снедью и бутылками всех мыслимых пород. За столом сидели люди, много людей; немного позднее Александр Терентьевич счел их общее число: тринадцать, включая его сопровождающих. Одно место, во главе стола, пустовало, и Андреев подтолкнул Клятова в направлении именно этого места.
— Право дело, я не могу, — Александр Терентьевич сделал попытку приютится где-то с краю, на табуреточке, но стол дружно завопил, чтобы он и думать не смел, что он отныне полноправный член дружного коллектива, что сами стены флигеля-призрака вот-вот пустятся в пляс по случаю столь радостного события. Клятов сдался и занял отведенное ему место. Он вспомнил таракана и почувствовал, что в чем-то с этим насекомым схож — угоди таракан в какой-нибудь праздничный салат, это сходство доросло бы до полного тождества.
— Гортензия Гермогеновна! — подал голос Неокесарийский, сидевший далеко от Клятова. — Я предлагаю перво-наперво посвятить молодого человека в некоторые структурные особенности нашего общества.
— Дайте же человеку поправить здоровье! — укоризненно вмешался Андреев. — На нем лица нет!
— Пусть выпьет, — разрешила Гортензия Гермогеновна. — Налейте ему, сколько нужно.
— Один не буду, — заявил Александр Терентьевич категорическим тоном. Умру, но без вас не выпью ни грамма — что это такое? Я пока еще не совсем…пал.
Это «пал» получилось у него таким басовитым и высокопарным, почти что библейским, что вся компания испытала неловкость. Андреев рассудил, что надо уступить. Наполнили стопки и рюмки, выпили без тоста — сразу вслед за Александром Терентьевичем, который немного выждал, тоста не дождался и, будучи сам неспособным к произнесению речей, плюнул на церемонии и поправился. Наступила тишина. В ней не было напряжения: казалось, что собрание, из милосердия сделав уступку виновнику торжеств, намерено, наконец, последовать давно установленному ритуалу, который для собрания не в тягость, а в радость. Когда же ритуал завершится, можно будет с чистой совестью начихать на условности и вести себя, как заблагорассудится. Неокесарийский встал и, без всякой на то нужды, постучал о край фужера ложечкой.
— Дорогой Александр Терентьевич, — заговорил он, убедившись, что ни единый посторонний звук не нарушает течения его речи. — То, чему вы стали сегодня свидетелем, — не более, чем ребячество, озорство. Мы люди взрослые, в большинстве своем не очень молодые, а радостей в наши времена — раз, два и обчелся. Так что не судите слишком строго за возможную ненатуральность поведения и слов. Каждый, в конце концов, увеселяется на свой лад, в согласии со своими наклонностями. Но если посмотреть с другой стороны, то не удастся так вот запросто откреститься от известной заданности, от непостижимого стечения определенных обстоятельств…
Клятов понял только одно: перед ним за что-то извиняются. Он и помыслить себе не мог, что эти милые люди в чем-то перед ним виноваты поэтому, с набитым ртом, не вникая в суть сказанного, он бешено замахал вилкой, заранее отрицая все возможные прегрешения.
— А обстоятельства примечательные, — продолжал Неокесарийский. — Нельзя назвать банальным совпадением тот факт, что под одной крышей собрались представители всех знаков Зодиака, все двенадцать месяцев. Причем ни один из знаков не дублируется, каждый уникален и неповторим. Лично я, если мнение мое хоть сколько-то ценно, усматриваю в этом таинственный, непостижимый замысел природы. Поэтому, надеюсь, вам станет понятнее наша любовь к поэтическим произведениям на природную тему…
Как ни пьян был Александр Терентьевич, он воспринял услышанное как сущий бред, какой не в каждой психбольнице встретишь. В голове у него все перепуталось: двенадцать месяцев, медведь, валежник, зеленый шум, могущественное провидение и коммунальная реакция на шалости судьбы, выразившаяся в любви к сомнительным стихотворениям. Он ничего не сказал и только подлил себе в стопку из графинчика; тем временем Неокесарийский начал представлять участников застолья:
— Начнем, как водится, с Апреля: прошу любить и жаловать — Петр Осляков, наш яростный, кипучий Овен…
Поднялся здоровенный детина в футболке, сидевший слева от Клятова; пользуясь близостью положения, он протянул для пожатия руку. Александр Терентьевич не без труда привстал и с натугой ответил на приветствие. Детина сиял; казалось, он был до такой степени рад знакомству, что растерял все подобающие случаю слова. Дмитрий Нилыч перешел к следующему знаку:
— Месяц май представлен госпожой Солодовниковой. Как и полагается любому порядочному Тельцу, она твердо стоит на земле обеими ногами. С ней всегда чувствуешь себя уверенным…
Госпожа Солодовникова приветливо кивнула. Она была пышной, спокойного вида дамой средних лет и работала, должно быть, если внешность дает основания судить о профессии, каким-нибудь администратором.
— А это наши любимцы, Близнецы — Игорь и Юля. Оба родились в июне, в июне же поженились. Сверх того — бывает же такое! — их маленький Павлуша тоже Близнец.
Игоря Клятов уже видел, это был тот самый парень, что вместе с Андреевым и Неокесарийским провожал его к столу. Вида он был безобразно невзрачного — белокурый, почти альбинос, с мелкими чертами лица и глазами, прозрачными, как колодезная вода. Юля — хрупкая и миниатюрная — сидела рядом с ним. Роскошные черные волосы были перетянуты простой резинкой и образовывали хвост, достигавший талии. Если Игорь был почти альбиносом, то Юля — почти лилипутка, карлица. Для получения статуса последней ей хватило бы уменьшиться на три или пять сантиметров.
Неокесарийский откашлялся:
— Что касается Рака, то это — ваш покорный слуга. Родился в самый разгар июля, и сие сомнительной ценности событие случилось весьма давно…Не стану заниматься самоописанием; вы, верно, и сами уже успели составить о моей персоне мнение. Я лучше представлю вам Льва: Виталий Севастьянович Сенаторов. Истинный Лев, говорю я вам — благородный, щедрый, великодушный. Любит, разумеется, когда последнее слово остается за ним.
Встал начальственный мужчина в очках без оправы и с гривой седых волос — и вправду львиных. Покровительственно склонил голову, поправил полосатый галстук и сел обратно.
— С Девой вы знакомы уже хорошо. Не знаю, что бы делала наша квартира без обожаемой Гортензии Гермогеновны. Как вы уже заметили, строга и властолюбива, но сердце у нее добрейшее. Ей по плечу любое дело, она координатор, управитель и мать родная в одном лице…
Гортензия Гермогеновна пошла от удовольствия пятнами. Она заулыбалась; аттестация, данная ей Дмитрием Нилычем, растопила кажущийся лед ее души. Неокесарийский тем временем перешел к Весам:
— Альберт олицетворяет октябрь, и довольно неплохо с этим справляется. Порой его заносит, бросает из крайности в крайность, но так ведь и должно обстоять дело с мятущейся, неуверенной душой, где чаши находятся в неустойчивом равновесии.
Альберт Александру Терентьевичу не понравился. Опасный тип: запавшие глазки, широкие скулы, злая физиономия; татуированные руки — в беспрестанном возбужденном движении. Явно уголовная наружность; такому скажешь слово поперек — и заработаешь шило в брюхо. Неокесарийский сделал паузу и притворно взялся за сердце:
— Каждому Раку свойственно трепетать перед Скорпионом…И я трепещу, не в силах противостоять чарам этой женщины. Анна Леонтьевна, повторю в сотый раз — я ваш раб до последнего вздоха…
— Ловлю на слове, — лукаво отозвалась сухая царственная старушка, одетая крайне бедно, но исключительно опрятно. Она повернула к Клятову свое умное, интеллигентное личико и доброжелательно кивнула.
— Редкая женщина, — вздохнул Дмитрий Нилыч, прикрывая глаза и даже чуть раскачиваясь от полноты чувств. Он очень правдоподобно изображал желание подольше задержаться на Скорпионе и медлил с продолжением. Но вот он столь же достоверно изобразил внутреннее усилие и представил Стрельца: — Господин Комар. Великолепный случай совпадения фамилии и сущности. Жалит — то бишь стреляет — всех без разбора. Непоседливый, неугомонный, острый на язык, энергичный…и даже затрудняюсь определить, какой еще. Тоже прошу любить и жаловать.
С места вскочил маленький тощий мужчина лет тридцати, который действительно смахивал на некое проворное, хищное насекомое. Помахав Александру Терентьевичу издалека, он плюхнулся на стул и подложил себе в тарелку кроваво-красного мяса. У Клятова уже рябило в глазах, он превратился в заводную куклу и перестал отвечать на приветствия — только моргал, дожидаясь вожделенного алкогольного момента. Неокесарийский уловил его настроение и произнес сочувственно:
— Я вижу, вы утомились. Но осталось совсем чуть-чуть, еще трое — тем более, что один из них в представлении не нуждается. Я позволю себе перескочить через одну фигуру и сразу назвать человека февраля: это Андреев. Вольный Водолей, чистый, вездесущий добрый дух, который веет, где захочет, и всюду находит друзей. Вы бы видели его записную книжку — в ней места живого нет…
— Будет вам, Дмитрий Нилыч, — смутился Андреев. — Через край берете. Хватит про меня, давайте март с январем — и конец процедуре.
— Слушаюсь, — поклонился Неокесарийский, выбросил руку и провозгласил: — Господин Козерог, он же Илья Кремезной. Гений. Правда, гений, я ничуть не преувеличиваю. Ученый. Математик. Теоретик. Доцент. В будущем — академик, в этом можно не сомневаться. Своим упорством и трудолюбием способен скалу стереть в порошок.
Лица и закуски свободно плавали перед очами Александра Терентьевича. Не без труда он различил Козерога — скромного лысоватого очкарика, пившего один лимонад и евшего совсем немного. Илья Кремезной — погруженный, видимо, в какие-то математические мысли — не удосужился взглянуть на Клятова, и формальный кивок был адресован, скорее, тарелке с крохотным кусочком заливной рыбы. Дмитрий Нилыч снова вздохнул и с облегчением молвил:
— И, наконец, многоуважаемый Рыб, да простит господин Чаусов мне эту шкодную лингвистическую вольность. Месяц март. Господина Чаусова вы, Александр Терентьевич, будете видеть лишь в исключительных ситуациях — типа сегодняшней. Это затворник. Пожалуй, они с Козерогом во многом похожи — одно упрямство, один научный фанатизм. Но если Кремезной — поборник наук точных, то Чаусов — приверженец философских и мистических трудов. Книг у него, нельзя не признать, едва ли не столько же, сколько у меня. Сознаюсь, что временами я испытываю черную зависть коллекционера, но Рыба отказывается идти на контакт и заниматься книгообменом.
Клятов собрался с силами, напрягся и вгляделся в тщедушного старикашку, одетого почему-то в пальто. Тут же он догадался, что сильный запах нафталина, на который он обратил внимание с самого начала трапезы и который перебивал ароматы съестного, исходит именно от этой одежды. Старикашка Чаусов жрал за семерых, уплетая все подряд. Похоже было, что он даже не следит за церемонией и не слышит, что говорят про его особу. Во всяком случае, реакции на слова Неокесарийского с его стороны не последовало никакой.
— Все! — воскликнул Неокесарийский и сделал руками замысловатое дирижерское движение. — Остались вы, Александр Терентьевич. Я чувствую печенкой, что в дате вашего рождения есть что-то особенное. Возможно, вы родились в один из спорных декабрьских дней, которые относят к до сих пор официально не утвержденному знаку Змееносца? Я угадал?
— М-м, — промычал Клятов непонимающе. Он усваивал очередную порцию спиртного и не сразу смекнул, что к нему обращаются. Неокесарийский повторил вопрос. Александр Терентьевич подумал и ответил:
— Не, я не декабрьский. Я, по-моему, тоже Рыба.
— Рыба? — огорчился Дмитрий Нилович. — Очень жаль. То есть я хочу сказать, что это замечательный знак, но просто теперь у нас целых две Рыбы…впрочем, это показательно! Ведь месяц март определяется знаком, который существует во множественном числе! Рыб и должно быть хотя бы две, никак не одна! Так что все в полном порядке, Александр Терентьевич!
— Да я не мартовский, — пробурчал на это Клятов и почему-то полез за пазуху за паспортом, как будто бы ему не поверили без документов. — Я родился двадцать девятого февраля, в високосный год. Меня по три года вообще, так-скать, не бывает…
Наступившее минутное молчание сменилось громом аплодисментов и восторженными возгласами, среди которых особенно ясно звучали партии Рака, Стрельца и Водолея. После начали горланить "Гори-гори ясно", "Зеленый Шум" и про медведя в валежнике. Александр Терентьевич, уже смирившийся со всем и плюнувший на все, пил и ел, покуда хватало сил. А когда истощились силы, свалился под стол, и заботливые руки приняли его отравленное тело и снесли в каморку, на матрац, подобно вещи, которую ставят на место после того, как попользуются.
Ночью его посетила Юля.
8
— Привет, — сказала Юля.
— Привет, — пробормотал Александр Терентьевич.
Он спал, он знал это точно.
Он находился в незнакомом дворике, на лавочке. Перед ним шумел богатырский тополь, на нижней ветке которого сидела, свесив босые ноги, Юля. Она была одета в полупрозрачный наряд зеленого цвета и незнакомого фасона.
— Не бойся, ты спишь, — Юля улыбнулась и шмыгнула носом.
— А чего мне бояться? — настороженно отозвался Александр Терентьевич.
— Ну, мало ли! — Юля пожала плечами. — Вдруг решишь, что я к тебе приставать буду.
— С чего мне так решать?
— Фа-фа-фа! — та закатила глаза, и бессмысленная реплика получилась отвратительно пошлой. — А я ведь могу!
С этими словами Юля внезапно спрыгнула с ветки и оказалась у самых ног Клятова. Александр Терентьевич успел осознать, что во сне он стоит по стойке «смирно», одетый как всегда — в то же, в чем лег.
Он испытал сильнейшее в жизни желание — забытое чувство, которое, как он ошибочно полагал, умерло несколько лет тому назад. Но он не мог пошевелить и пальцем: стоял и в глупейшем безмолвии пялился на проворное существо, которое подобралось вплотную и деловито шарило в его ширинке.
— Во сне — это ладно, — брякнул Клятов, озабоченный близким разрушением молодой семьи.
— Угу, — кивнула Юля, расстегнула последнюю застежку, и брюки свалились на…землю? Нет, под ногами была не земля, там не было вообще ничего. Сейчас, мой маленький, Игорь подойдет. Вот увидишь, как славно получится.
Александр Терентьевич хотел спросить, зачем нужно подходить Игорю, но язык отказался ему повиноваться. Он заглянул вниз и в ужасе уставился в раскрытый Юлин рот — там не было зубов, зиял лишь страшный черный провал, откуда вдруг потянуло адским смрадом.
— Нос зажми, если не нравится, — посоветовала Юля. — У всех суккубов плохо пахнет изо рта — я потому и не целуюсь. А ему, — она кивнула на то, что вывалилось из брюк Александра Терентьевича, — ему без разницы. Вот с Игорем придется потерпеть…
— Почему? — спросил Клятов.
— Так он же инкуб, а не суккуб, — удивилась Юля. — Он только женщинам глянется. А ты, может статься, увидишь его, как он есть.
— Раз я не женщина, то зачем ему приходить? — спрашивая, Александр Терентьевич медленно отступал. Он уже на целых два шага удалился от беззубой пасти.
— Дареному коню! — хохотнула Юля. — Может, к нам бабу вселили? Можно и баб поискать, но берем, где поближе. На безрыбье…
С нее поползли мелкие насекомые.
Клятов сделал еще шаг, и очутился в комнате Чаусова. Никаких книг, вопреки утверждениям Неокесарийского, в ней не было. Висели шкуры и потемневшие от времени сабли; хозяин в парче и шелках сидел, развалясь, на антикварного вида диване.
— За подснежниками, деточка? — прошамкал он участливо и тут же засмеялся. — За ними — к братцу Апрелю. А я, сударь мой, Март!
— Что здесь происходит? — зубы у Александра Терентьевича застучали. Между прочим, он снова был полностью одет.
— Это ты скоро узнаешь, — успокоил его Чаусов. — Я тебе книжку дам почитать. Про друидов. Ты ведь любишь читать книжки? Ну вот.
— Какие друиды? — Клятов, против воли, сорвался на крик. — Что это за идиотский театр?
— Ух ты! — Чаусов вскочил и моментально переместился поближе к Александру Терентьевичу. — Не в твоем положении, сударь, голос повышать. Не в твоем! Потому что мы тебя до капли выдоим. Слыхал, что с прежним жильцом было?
Старик вцепился Александру Терентьевичу в щеки.
— Живым не выйдешь, — прохрипел он, утрачивая всяческий контроль над темными чувствами. — Думаешь, так уж это приятно — изо дня в день с древесами?
Клятов рванулся и попробовал перекреститься.
— Не поможет! — радостно закричал Чаусов, но помогло. Возможно, вовсе не крестное знамение, поскольку Александр Терентьевич не успел довершить его до конца. Возможно, вмешалась какая-то другая сила — так или иначе, Клятов проснулся и обратил выпученные глаза к потолку, плохо различимому в ночном мраке. Сердце отчаянно билось нескладно, с устрашающими паузами.
9
Несчастье помогло. Александр Терентьевич Клятов проснулся.
До сих пор его терзали призрачные, надуманные страхи — светлую тему Эриксона, Фрейда и "того, что позади", он выкинул из головы, — надеясь, что навсегда.
По одной единственной причине: страх, который завладел его существом, не имел ничего общего с фантазиями. Клятов ни на секунду не усомнился в абсолютной реальности недавнего сна — более того, он точно знал, что это никакой не сон, это естественное (с позволения сказать) событие, с которым нужно жить.
"Саша, успокойся, — сказал он себе. — Теперь все завершилось. Ты наконец-то попал. Теперь ты должен думать. Для этого придется перестать пить, и ты перестанешь. Ты будешь думать. Ты столкнулся с какой-то гнусью, которую необходимо извести. Ты же врач, ты забыл? Ты ученый. Ты все позабыл, мать твою так. Но пора просыпаться".
Сначала книги. Читал ли он когда-либо в прошлом о подобных вещах? Да, кое-что было. К сожалению, все, что Александр Терентьевич читал на эту тему, было литературой либо пространно-отстраненного, либо информативно-познавательного толка. Нигде не содержалось прямых указаний на то, как следует вести себя при реальном столкновении с предметом описаний. Но все-таки он попытался внести ясность. " Друиды. Кто они такие? Какие-то древесные духи. При чем здесь Зодиак? подснежники? Что дальше? Инкубы и суккубы? Какое они имеют отношение к Зодиаку и, главное, к коммуналке, в которой он отныне вынужден доживать свой век? Черт подери, почему же они так обрадовались? Почему такой прием?" Александр Терентьевич вспомнил, как несколько лет тому назад прочел в газете фантастический рассказ про запойного алкоголика, которого мафиозная квартирная сеть взяла, можно сказать, на ставку и подселяла в коммуналки, не желавшие расселяться. Он, вселившись, пил, дебоширил, и все уезжали…пока несчастный не нарвался на квартиру вампиров. Но тут — тут все было иначе. Ему обрадовались, его приняли с невозможными почестями — почему? Так, отложим. Начнем с начала. Чему они обрадовались — новому жильцу? Нет. Они обрадовались алкоголику, и не однажды это подчеркнули. Андреев говорил про восприимчивость — может быть, разгадка в этом? Очень может быть. Да, с этого все началось — с понятия восприимчивости. Человек, приведя себя в известное состояние, начинает воспринимать явления, недоступные прочим. Но какая им в этом корысть? Очень понятная: им не хватает контакта, живой «отдачи», «подпитки», как выражаются телевизионные лидеры. Они изголодались, они питаются его "отрицательно заряженной аурой" (Александр Терентьевич не знал, насколько согласуется подобное предположение с желанием служить науке). Им безразличен его пол, они накинутся на него, не разбирая, что есть у него в штанах, а чего нету…
Здесь Александр Терентьевич остановился. Выпитые стаканы исправно уводили его в долину безответных кошмаров — вернуться! Вернуться любой ценой, встать двумя ногами на твердую землю…о ком это было? Верно, о Солодовниковой, никуда не деться…но есть же какой-то выход?
Выход был только один: принять бой. Сон — значит, сон; Клятов закрыл глаза и приготовился к новым встречам.
10
И явилась Гортензия.
Она вплыла, подобно «Титанику».
— Я женщина одинокая, — заявила она без обиняков.
Клятов непроизвольно сместился на матраце.
Гортензия Гермогеновна уселась со всей солидностью и глубоко вздохнула.
— Скоро лето, — сообщила она глубокомысленно.
— И? — подхватил Александр Терентьевич, проявляя неожиданную резвость соображения.
— Все распустится, — вздохнула полной грудью гостья. Расцветет…Благодать! Почки, бутоны…
"Пора!" — решил Александр Терентьевич. Он протянул руку и с силой ударил Гортензию Гермогеновну по загривку. Рука прошла сквозь гостью, и та расхохоталась:
— Неправильно делаешь, родимчик! Вот, прочувствуй…
С этими словами она безнаказанно навалилась на Клятова и чем-то вроде губ впилась ему в затылочный лимфатический узел. Клятов ощутил, как энергия — он-то думал, что ее уже в помине не осталось — но нет! эта глубоко законспирированная, в средоточье яиц упрятанная сила вдруг начала покидать его. Сам же он был полностью пассивен и не мог ответить ни единым жестом. Гортензия, напитавшись, отвалилась и одобрительно подмигнула Александру Терентьевичу. Она рыгнула и сплюнула на загаженный пол багровый сгусток.
— Хорошо! — сказала она- Ох, и любовь у нас пойдет!
Клятов решил, что если уж не в силах он повлиять на сами события, то стоит хотя бы попытаться выяснить их подоплеку. А заодно — выгадать время и отсрочить худшее. Он мрачно проговорил:
— Хоть про деревья расскажите. А то ведь так и сдохну без понятия.
— Запросто сдохнешь. Отчего не рассказать? — Гортензия Гермогеновна, сытая, раскурила папиросу. Клятов явственно вдыхал вполне реальный, посюсторонний дым. — Деревья — это, можно сказать, основное; все прочее баловство. По-настоящему мы сожительствуем только с ними.
"Со мной ли это происходит?" — этот наивный вопрос Клятов задал себе с обреченным равнодушием лунатика. Хищный призрак, попыхивая папиросой, говорил дальше:
— До тебя здесь жил один человечишко — не чета тебе, конечно. Трезвенник, каких поискать. А потому было чрезвычайно трудно войти с ним в соприкосновение. Он очень плохо нас воспринимал — положение отчаянное! Мы нуждались в энергии, как простые смертные нуждаются в воздухе. Лучше всего получалось у Альберта — он как-то сумел пробить в его защите брешь, а уж дальше мы подключились по цепи. Подзарядились с грехом пополам — не досыта, но для выполнения миссии хватило. Так что набросились на растительность, как положено, в согласии с заветами и наказами.
— С чьими заветами? — ужаснулся Александр Терентьевич. Голос его сделался писком.
— Это не твоего ума дело. Так что скоро все зазеленеет, нальется соком…ты этого, конечно, уже не увидишь, потому я тебе и рассказываю. Из милосердия, с позволения сказать. Мне, однако, кажется, что ты и без моих рассказов про все догадался. Не так?
Клятов много дал бы за ошибочность этого предположения, но Гортензия Гермогеновна была, к сожалению, права. Да, он догадался еще утром. Когда, в которой жизни это было? Ему хватило бросить беглый взгляд на молодые почки, чтобы заподозрить в них страшное, убийственное содержание. Все именно так и произойдет: зашумят, зазеленеют листья, и прохожий люд будет себе беспечно разгуливать под сенью дерев, не догадываясь, что листва уже не листва, что скоро проявится нечто невообразимое…каким оно будет? Александр Терентьевич боялся даже фантазировать на эту тему. "Так вот почему они до сих пор не распустились, — подумал он, парализованный отчаянием. — В них не просто зелень, в них зреет зло, посеянное этими мерзавцами".
— Век бы с тобой сидела, — грустно молвила Гортензия Гермогеновна. — Но и о других подумать надобно. К тому же, ты трезвеешь. Вот-вот проснешься обидно! Запоминай, если можешь: захочется принять на грудь — загляни к Ослякову. У него есть все. Душевнейший человек! Ни в чем не откажет.
Гортензия Гермогеновна тяжело встала и придвинулась к двери.
— Шея не болит? — спросила она обеспокоенно.
Клятов помотал головой.
— Ну, заболит еще, — с житейской прозорливостью успокоила его комиссарша. И, досказав последний слог, исчезла. И в тот же момент Александр Терентьевич распознал, что уже бодрствует, несмотря на кромешную ночь за окном.
11
Он поднялся с матраца, распахнул дверь, вышел в коридор.
Комната Петра Ослякова находилась прямо напротив. Клятов постучал негромко, но настойчиво. Овен откликнулся немедленно, словно ждал:
— Открыто, сосед! Заруливай, не топчись на холоде!
Александр Терентьевич вошел. Осляков в одних трусах сидел перед трюмо и сосредоточенно прореживал себе брови.
— Тебе чего — портвешка или покрепче? — спросил он, не оборачиваясь.
— Мне нужна бритва, — сказал Александр Терентьевич.
Пальцы Ослякова замерли в незаконченном щипковом движении. Петр посмотрел на Клятова внимательным взглядом.
— Бритва? — переспросил он холодно. — Зачем?
— Я хочу побриться, — сдержанно объяснил Клятов.
— Это ночью-то? Ты что, сосед?
— Не спится, — пожал плечами Александр Терентьевич и внезапно осознал, что к нему возвращается давно утраченное чувство собственного достоинства. Надо же с чего-то начинать, правда?
— Начинать — что? — Петр Осляков встал и заложил пальцы за резинку трусов.
— Начинать с нуля, — спокойно ответил тот. — Я о новой жизни говорю. Я, как-никак, человеком был когда-то. Вот и собираюсь для начала побриться.
Апрель, находясь в очевидном раздражении, прошелся взад-вперед по комнате.
— Завязать надумал, что ли? — спросил он напряженно. — С чего это вдруг?
— Если бритвы нет, то я пойду, — Александр Терентьевич не счел нужным отвечать. — Извините, что потревожил в столь поздний час…
— Притормози, — Осляков через силу улыбнулся. — Будет тебе бритва.
Он присел на корточки перед трюмо, распахнул дверцы. Клятов стоял и следил, как перемещаются лопатки Ослякова, движимые мощными гормональными мышцами. Апрель, раздраженно погремев невидимой железной дребеденью, вынул пачку лезвий и станок. Александр Терентьевич прикрыл глаза. Картина, увиденная внутренним зрением, разила наповал несмышленышей типа Босха. Тягомотный, не желающий распускаться ясень целит в глаза острыми перстами до чего же тяжел на подъем. Безобидные кроткие липы, которые покажут такое унтерденлинден, что только держись. Рябина цвета юшки. Пятерня каштана, готовая к затрещине. Легион желудей. Сережки ив, готовые обнаружить свою гусеничную, личиночную суть. Тополиный пух — всепроникающий, не знающий границ десант. Томительный жасмин. Полуигрушечный барбарис, забывшийся в предвкушении опасных забав. Загадочный сирый подорожник, присыпанный мудрой придорожной перхотью. Яблони, цветущие на снегу — вопреки законам природы. Вкрадчивая жуткая сирень с удушливым цветом. Обманчиво нежные лиственницы, готовые склониться и обезвредить. Пленительная черемуха с предельно допустимым содержанием зарина. Благородная молчаливая туя. Высокомерный кипарис. Декоративные, голубой ориентации елки, застывшие в притворной, ядовитой неподвижности. Бестолково растопыренные клены, готовые кинуться, куда прикажут. Хрестоматийные березы, продавшиеся, едва сменился ветер, западным брутальным ферфлюхтам.
Петр Осляков легонько тронул Александра Терентьевича за плечо.
— Никак ты, герой, сомлел?
Клятов очнулся.
— Самую малость, — признался он с неподъемной, вымученной застенчивостью.
— Смотри, не покалечься! — с улыбкой от уха до уха, Овен протянул ему бритвенные принадлежности. — Советую употребить пару капель, чтоб руки не дрожали.
"Может, и правда?" — подумал Александр Терентьевич. И тут же весь его организм, от кончиков волос до грязных кромок ногтей, возжелал подношения, преобразившись в зачумленную фабрику по переработке коварных ядов.
— Нет, — вымолвил он еле слышным голосом, и этим отказом сразу поставил себя в один ряд с мучениками различных религий и ересей. — Огромное вам спасибо. Кстати вот…
Клятову пришло в голову, что в нынешнем своем костюме он, пусть даже гладко выбритый и надушенный, не сможет произвести на нормальное общество хорошего впечатления. Нужна новая одежда…галстук, костюм, ботинки…Он едва не попросил Ослякова поспособствовать в обмене долларов, но вовремя вспомнил, что национальных купюр ему должно хватить благодаря оборотистому Андрееву.
— Что? — спросил Осляков и мгновенно напрягся.
— Ничего, ничего, — Александр Терентьевич не без труда вписался в дверной проем. — Спокойной ночи, и простите за беспокойство.
Он захлопнул дверь, повернулся и столкнулся с Неокесарийским, который направлялся в туалет, освещая себе дорогу фонариком.
— Отчего же вы не спите? — удивился Рак и ослепил Александра Терентьевича пытливым световым лучом.
— Грехи не пускают, — Клятов нервно усмехнулся. К нему вернулась способность острить. — Как у вас с предстательной железой? — спросил он неожиданно.
Неокесарийский смешался.
— Дело стариковское, — пробормотал он смущенно. — Вот, иду…
— Ну-ну, — Клятов обнаружил в себе непривычную наглость. — Идите, размочитесь. Только хрен у вас что выйдет! — он перешел на визг. — Решили голыми руками взять? Вот вам! — он сделал неприличный жест. — Так дупло прочищу, что мало не покажется…хоть ты и дерево сто тысяч раз…
— Позвольте. Александр Терентьевич, — взволнованный Неокесарийский попытался что-то возразить, но Клятов его уже не слушал. Он перешел на скачкообразную поступь и, очутившись в сиротской комнате, без сил повалился на истомившийся без тела матрац. С опустошением в душе, с холодным яростным огнем в глазах лежал он без сна, сжимая в кулаке станок и пачку «жиллетовских» лезвий.
12
…На другой день он приобрел костюм.
Добротный, высокого суконного качества — плотной ткани, в мельчайшую английскую клетку. Побрился. Навел лоск. Пообещал себе не пить.
"Я же врач, — не уставал он сам себе повторять. — Я — экспериментатор. Первопроходец. Я уничтожу эту шайку. Время разбрасывать камни, и время сдавать посуду".
Прошло еще два трезвых, безупречных дня, и с ним перестали здороваться.
А ночью явились опять — теперь уже несколько.
Пришел Андреев, пришел Кремезной, притащилась благообразная Скорпионша — и, разумеется, Юля в сопровождении Игоря, а также обязательная Гортензия Гермогеновна.
— Напрасные старания, — вздохнул Андреев и снял с себя брюки. — Мы все равно вас не покинем. Разве вы не знаете, что никогда нельзя встречаться с внутренними демонами лицом к лицу? Взаимное опознание гибельно. Узрев нас однажды воочию, вы никуда не сможете деться. Демон, как известно, достаточно безобиден, пока он неосознанно присутствует в чужом материальном теле. Стоит ему только уловить бодрящий запах понимания… противостояния…мельчайший…Нигде не будет вам убежища, ни в чем не будет поблажки…
Он снова вздохнул, прыгнул и довольно профессионально заключил горло Александра Терентьевича в замок. Тот попытался высвободиться, но неистовые команды, сообщенные мозгом рукам и ногам, обернулись напрасной фантазией. Андреев высунул язык размером с добрую стельку и осторожно лизнул аккуратную ямку, что размещается под затылочной костью.
— По праву старшинства, — сказал Андреев и галантно предложил Гортензии Гермогеновне приблизиться. — Вкушайте — во имя настоящих и грядущих зеленых насаждений.
Кремезной (совершенно неожиданный для академика и теоретика поступок) хрипло затянул песню онтов — людей-деревьев из эпопеи Джона Толкиена.
"Образованный человек", — мелькнуло в голове у Клятова, и тут же резиновые губы Девы присосались к его позвоночнику. Руки Гортензии метнулись к паху Александра Терентьевича.
— Мы посетили вашего покупателя, — сообщил общительный Андреев. Кажется, его звали Пендалем?
Александр Терентьевич, которому мнилось, будто он стал полностью прозрачным, ничего не сказал.
— Он умер, — Андреев вздернул гигантские южные брови. — Он захотел кутнуть, отключился и умер. Там побывала Солодовникова. Сами понимаете: с конкретными людьми — конкретный, майский, земной разговор. Ему не повезло он не испытал прелести удушения живейшей, сладостной лозой…Да, не каждому суждено дожить до золотого века…
Внезапно Клятов понял, что сию же секунду лишится всего — костюма, галстука, рассудка и души. "Просыпаюсь!" — в особенном, сильном волнении, он произнес — тишайшим шепотом, чтобы его не услышали. Они его не услышали. Вокруг не было ни души, он был один — в английском костюме, с остаточным запахом одеколона. Вокруг царила ночь, было около четырех часов утра.
Александр Терентьевич понял, что никакой костюм ему не поможет. Не поможет ничто. С трудом держась на ногах, он проследовал в кухню.
"Все напрасно", — вымолвил он одними губами и присел на табурет. Не слишком ли легко он сдается? Дни лютой трезвости потребовали от него великого напряжения. Собственно говоря, о чем он так печется? Гори оно огнем, ведь он, если припомнить, переселился во флигель уже расставшись с пустыми надеждами. Он прекрасно понимал, что жизни его суждено окончиться в этих стенах. Вот расплывутся доллары — и пиши пропало. А их надолго не хватит — Клятов, что ли, когда-нибудь держался на сей счет иного мнения? Конечно, нет. Стало быть, не о чем и горевать; какая разница, что станет непосредственной причиной его смерти? Цирроз ли, инфаркт ли, ненасытный аппетит зодиакальных скотов — все едино.
Поэтому он может позволить себе выпить. Естественно, с просьбой о выпивке он ни к кому из соседей больше не обратится. Если ничего не отыщет сейчас на кухне, выйдет в ночь, на проспект, какими бы мучениями не аукались ему лишние шаги.
В сердце Александра Терентьевича запел дьявольский рожок. Клятов поднялся с табурета и начал обследовать внутренности кухонных столов и шкафчиков. Он очень быстро нашел то, что искал: пыльную поллитровую бутыль с жидкостью, от которой резко потянуло спиртом.
"Ну, с Богом!" — сказал себе Александр Терентьевич, задержал дыхание и сделал огромный глоток. В горле взорвалась пороховая бочка; если бы он остановился в тот самый момент, то, конечно, после уже не решился бы пить дальше. Но Клятов сощурил глаза и продолжил сосательно-глотательные движения. Шум морского прибоя поднялся из чресел и распространился внутри головы, заложило уши. Александр Терентьевич выхлебал не меньше стакана; только тогда, повинуясь примитивному инстинкту самосохранения, он выдернул горлышко изо рта и начал дышать, постанывая.
"Ничего себе!" — выдавил он, отдышавшись, поставил бутылку на место и побрел к себе. Сил ему хватило ровно на обратный путь — напиток был низкого качества, с примесью какой-то технической отравы. Расположившись на матраце, Клятов не заметил, как отключился. Во сне, вопреки робким и неоправданным надеждам, сознание вернулось, и Александр Терентьевич очутился нос к носу с господином Сенаторовым. Лев оскалился в голодной улыбке.
— Рад, что вы, мой дорогой, исправились, — сказал он густым голосом. А то мы начали волноваться. Контакт с вашей милостью мне жизненно необходим. Я, представьте себе, только что обработал громадный дуб, и еле ноги волочу.
Сенаторов подался к Александру Терентьевичу, протянул к плечам руки. Ни во что не веря и ничего хорошего от своих действий не ожидая, тот изо всей мочи ударил каннибала по волосатым лапам. Он собрал в свой удар всю силу бесконечного отчаяния. И случилось невозможное: Лев взревел от боли и отпрыгнул.
— Что за дела? — спросил он блатным отчего-то тоном. — Ты…
Клятов испуганно глядел на Сенаторова, ожидая свирепой расправы. Но Сенаторов не спешил нападать. И до Александра Терентьевича дошло, что выходец из преисподней тоже боится. Спящий вытянул неверную руку и взялся за спинку стула.
— Сунешься еще раз, огрею вот этим.
— Не посмеешь, — отозвался тот, но с места не сошел. — Братья и сестры! — позвал он зычно. — У Августа проблема. Кто не занят — ко мне!
Ввалился недовольный Альберт, примчался Комар, притащился, шаркая, Неокесарийский. Клятов сжал незатейливое оружие и приготовился к сражению.
— Он что? — Альберт ткнул пальцем в направлении Александра Терентьевича и повернулся к обиженному Августу-Льву. — Руки распускает?
— В том-то и дело, — подтвердил его предположение Сенаторов. Главное — как ему удается?
— Он не должен, — покачал головой Неокесарийский. — У нас односторонняя связь.
— А ты подойди и сам проверь, — огрызнулся Сенаторов.
Старик с опаской, неуверенно подошел к бунтарю. Клятов размахнулся и обрушил стул на пятнистую лысину. Неокесарийский страшно взвыл, зашатался и отступил. Альберт поиграл пальцами, разминая их.
— Инструмент, положим, можно отобрать, — он вытянул губы в дудочку. Что касается прочего…
Он прыгнул, вырвал стул, отшвырнул его в сторону. Не давая Александру Терентьевичу оправиться, вцепился ногтями в лицо. Клятов ударил Альберта коленом в низ живота, однако удар вышел гораздо слабее, чем он рассчитывал.
— Он слабеет! — зарычал Альберт восторженно. — Айда ко мне, сейчас воспитывать будем!
…Клятов бился, как настоящий герой, но сила неуклонно покидала его с каждой затрещиной или пинком. Неокесарийский подставил ножку, все покатились по полу. Сенаторов оседлал распростертого сновидца, Комар уселся на ноги, Альберт зажал голову в тиски. Рак-Июль суетился вокруг, не соображая, чем бы этаким поспособствовать товарищам.
— Ты у меня забудешь, откуда руки растут, — брызги слюны, которые летели изо рта Альберта в лицо Клятову, были полноценными, материальными брызгами.
Александр Терентьевич так и не узнал, по какой из причин его наконец покинуло сознание. Он устремился в черную безмолвную пропасть и был бы счастлив, если мог бы быть счастливым, но он не мог, а значит — лишился радости знать о незнании происходящего.
— По ногам текло, а в рот не попало, — сказал чей-то голос. Это было последним, что Клятов услышал.
13
Когда вернулась жизнь — не жизнь на самом деле, а бледная тень бытия, он не стал выходить в коридор. Не было уверенности, что его не размажет по стенке при первой попытке встать на ноги. К тому же, выходить не хотелось, не хотелось видеть бесстыдного торжества на лицах Времен Года.
Что ж — хороший случай полежать без дела и поразмышлять. Александр Терентьевич безрезультатно облизнул пылающие губы кусочком наждака, в который превратился язык, и крепко задумался.
Да, его смели, сломали, имея численное превосходство. Однако создавалось впечатление, что у него появился крохотный шанс. И этот шанс усматривался в обретенной возможности сопротивляться. Его контакт с неприятелем перешел в новое качество. Что там болтал проклятый Неокесарийский? "У нас односторонняя связь". Да — была, теперь — нет. Он научился влиять на ход событий и наносить ответные удары. Толку с того было чуть, но…совершенству, как известно, нет предела. И путь к совершенству каким-то образом открылся Александру Терентьевичу — каким? Что он сделал такого нового, необычного, что привело к столь значительным последствиям? Как будто ничего. Покупал одежду, мылся под душем, соскребал щетину…что-то страдальчески ел, превозмогая гастрит…Если хоть одно из этих действий послужило причиной перехода на ступеньку выше, то Клятов решительно не мог взять в толк, почему. Нет, он начал не с того. Следует вернуться к основе основ: к хваленой восприимчивости, к которой он упорно стремился столько лет — и получил. Она усилилась и переросла в нечто большее. Отчего может усилиться восприимчивость? Наверно, оттого же, отчего и вообще появилась. Итак, чего же он выпил вчера? Дойдя в размышлениях до ночной поллитровки с техническим спиртом, Александр Терентьевич понял, что попал в точку. Он так взволновался, что даже выпал на миг из-под власти всемогущей абстиненции. Теперь все встало на свои места, и выводы, которые напрашивались, не могли не возбудить в Александре Терентьевиче тоски от знания грядущего. Словно в последнюю минуту существования, он увидел свою неприглядную жизнь от начала и до конца. Ему открылась высокая миссия, с которой он, как выясняется, пришел в подлунный мир. У него нет выбора, и поступок, что придется ему совершить, оправдает и освятит прошлые бесчинства и метания. Клятов знал, что главное дело его жизни — помешать злонамеренным нелюдям этот мир захватить и изуродовать. Надо торопиться, время не ждет, почки зреют, лето близится. Еще чуть-чуть — и будет поздно, город окутается зеленой дымкой. Полчища демонов, замаскированных под невинную растительность, накинутся на спящих горожан…
Выходит, способность к контакту зависит от качества напитка. Чем больше в последнем яда, тем эффективнее связь.
Ради умножения сил ему придется выпить что-то небывалое…возможно, смертельное. Но других вариантов не существует. Он выпьет зелье и войдет в соприкосновение с врагом. Разумеется, не с пустыми руками. Он подготовится. И этим надо заняться в первую очередь, а напиток подождет — Клятову хватит медицинских познаний, чтобы состряпать нечто достойное.
Головную боль сняло, как рукой, будто небо только и выжидало, когда Александру Терентьевичу откроется суть. Жизнь наполнилась смыслом. Галерея покойных самоотверженных экспериментаторов готовилась принять в свои ряды очередного побратима.
Клятов легко встал с матраца, оделся поприличнее, достал из бюро сверток с валютой. И вышел из квартиры, не оглядываясь.
14
Найти друзей Пендаля труда не составило. Прежняя квартира Клятова была полна людей: справляли поминки.
Его встретили не очень дружелюбно, но и не так плохо, как он предполагал.
— У тебя, наверно, нюх на выпивку, — сказал мрачный лоб, увидев, кто пришел. — Ну, дело такое, что заходи.
Александр Терентьевич откашлялся и сделал рукой отрицательный жест.
— Как раз пить я не стану, — отказался он. — И мешать не хочу. Я к вам по важному вопросу.
— Какие сегодня могут быть вопросы? — раздраженно спросил бугай. — Или садись за стол, как человек, или проваливай.
Клятов, удивляясь пробудившейся в нем нахрапистости, перехватил инициативу и пожурил грозного собеседника:
— Зря вы так. Он мне друг был, — сказал Александр Терентьевич. Классный мужик. А его убили.
Бугай уставился на него, как на откровенно помешанного.
— Чего ты гонишь? Кого убили? Кто тебе здесь друг? Он во сне помер, сердце остановилось.
— Нет, убили, — не унимался тот. — Я точно знаю. Его загипнотизировали.
— За базар отвечаешь? — спросил друг Пендаля, что-то прикинув в уме. Если просто так язык чешется, то плохи твои дела.
— И убийц я знаю, — гнул свое Клятов. — Доказать не могу, так что придется поверить. И поэтому мне нужен пистолет. Сам хочу разобраться.
— Так не делают, — мотнул головой здоровяк. — Пошли в комнату, к людям, там все расскажешь. И там уж решат, кто будет разбираться. И с кем разбираться — может, с тобой.
Клятов вытащил сверток.
— Я принес деньги и хочу купить пистолет, — повторил он упрямо. — И патроны. Кроме вас я не знаю никого, кто мог бы достать оружие. А у вас, я уверен, оно есть.
Бугай, посчитав дальнейшие споры бесполезными, свистнул. В прихожей возник опасного вида гориллоид с мобильником в кулаке.
— Выбирай, — сказал здоровяк. — Или ты сию секунду колешься, или тебя никто никогда не найдет.
Гориллоид улыбнулся, призывая быть откровенным.
Александр Терентьевич вздохнул и опустился на корточки, потому что устал стоять. Глядя в пол, он приступил к рассказу. Он монотонным, равнодушным голосом рассказал про все, что с ним происходило на протяжении последних дней. Его не перебивали, а обратить очи к слушателям и взглянуть на их отношение к поступающей информации Клятов не посмел. Когда безумное повествование подошло к концу, первый лоб спросил:
— Отговорился, что ли?
Клятов кивнул. Молодые люди расхохотались.
— Тебе лечиться надо, — посоветовал первый. — У тебя крыша поехала, ты в курсе?
— Больше мне сказать нечего, — Александр Терентьевич стиснул зубы. Тут в беседу вмешался гориллоид:
— Мужик при бабках, продай ему, что просит, — пробурчал он со скукой и меланхолией.
— Ты что? — опешил его товарищ. — Он же конкретно засветится и нас сдаст!
— Не факт, — покачал головой тот. — Кто ему поверит? Ствол чистый, на нем — ничего. Пускай сдает.
— Мочилово устроит, — озабоченно напомнил бугай. — Реальное.
— Ну и ладно.
Наступило молчание. Решившись, Александр Терентьевич поднял глаза.
— Посиди здесь, — приказал гориллоид и скрылся в комнате, откуда доносились скорбные мужественные речи и звон посуды. Вернулся минут через десять: с кем-то совещался. Все это время бугай караулил полоумного гостя на случай чего.
— С тебя пятьсот гринов, — изрек он с иронией, достойной уважения в подобной личности.
Понимая, что он зря отворачивается и это не спасет, Александр Терентьевич все же отвернулся и срывающимися пальцами отсчитал деньги. Их взял опять-таки бугай — помусолил, помял, просмотрел на свет.
— Это Пендаля деньги, — напомнил Клятов.
— И что с того? — хмыкнул бугай. — Все нормально, — сказал он гориллоиду. Тот протянул Александру Терентьевичу тяжелый сверток.
— Получи, терминатор, — его слова прозвучали еще ехиднее, чем до того. — Что-нибудь еще? Помповая пушка? Крылатая ракета?
— Не нужно, — отозвался Клятов. — Я теперь пойду, если можно. Спасибо вам. Ваш поступок зачтется обоим.
— Ишь ты! — Бугай даже отодвинулся. — Ладно, разбежались. Погоди, нехотя он остановил Александра Терентьевича, который похолодел и приготовился к беде. — Запоминай телефон — вдруг пригодится. Но будешь болтать — голову откусим!
— Дайте, на чем записать, — попросил Клятов.
— Козлина! Запоминай, тебе сказано, пока я добрый!
Александр Терентьевич покорно прослушал номер, кивая после каждой цифры.
Но, естественно, забыл его сразу, едва покинул квартиру. Его голова была занята другим. Запихнув сверток в карман пиджака, он отправился в хозяйственный магазин. Там он долго выбирал и, наконец, купил два страшных кухонных ножа с лезвиями около полуметра длиной. В другом отделе приобрел топор. "Хорошо бы саблю", — пришло ему на ум, и он какое-то время всерьез намеревался навестить антикварную лавку, но передумал. Если ночные гады станут уязвимыми, с них будет довольно и того, что уже есть.
Теперь — парикмахерская. Ночью его, как он отлично запомнил, таскали за волосы, и он не собирался позволять противнику столь роскошного удовольствия. Поэтому часом позже Александр Терентьевич вышел из салона с обритым наголо черепом.
В основном он подготовился неплохо. Возможно, следует сделать что-нибудь еще? Точно! Клятов звонко хлопнул себя по лбу. Растяпа! Самое-то главное…Настало время позаботиться о путеводном коктейле — достаточно крепком, но и не таком, чтоб сразу окочуриться. Александр Терентьевич присел на скамейку и снова погрузился в раздумья. Слабый ветер покачивал ветви акации; Клятов машинально взглянул на почки и отметил, что времени у него в обрез. Вскоре химический состав эликсира предстал перед ним во всей ясности. Александр Терентьевич зашел в магазин бытовой химии и вышел оттуда с покупками.
Больше искать было нечего, но Клятов невольно оттягивал момент свидания с обитателями флигеля. Кроме того, ему захотелось пошалить — хлопнуть, так сказать, на прощание дверью. Он завернул на вещевой рынок, где разжился армейским камуфляжем, десантными ботинками и баночкой гуталина. Больше тянуть было нельзя — опасно шляться по городу с его-то ношей. Александр Терентьевич, боясь общественного транспорта, пошел домой пешком.
Войдя в квартиру, он остановился на пороге и окинул затравленным взглядом пустой коридор. Во флигеле царила гробовая тишина. Ни одна из комнат не подавала признаков жизни, но Клятов точно знал, что враг на месте, и Двенадцать Месяцев всего лишь затаились, выжидая.
15
…Кухонную бутылку кто-то уже заботливо наполнил доверху.
На сей раз Александр Терентьевич не стал пить тут же, на месте. Он подцепил бутыль и отнес к себе в комнату. Поставил в изголовье и стал переодеваться. Очень скоро своим внешним видом Клятов стал достоин цирковой арены.
Бритая голова, мешком сидящее обмундирование. Два ножа за ремнем строго по бокам, на бедрах, чтобы не напороться. В правом кармане — готовый к бою пистолет. Благодаря военным сборам, на которых Клятов был в незапамятные времена, он смутно представлял, как обращаться с этим предметом. Топор покоился на матраце, на расстоянии вытянутой руки. Гуталином Александр Терентьевич измазал себе лицо: начертил широкие косые полосы. Поскольку осанка и манера держаться выдавали в нем человека сугубо штатского, Клятов выглядел полным пугалом.
Однако лично Александр Терентьевич считал иначе. Он чрезвычайно серьезно относился к своим действиям и не видел в них ни капли смешного. Закончив перевоплощение, сунул руку в очередной пакет и достал оттуда несколько бутылок — как стеклянных, так и пластиковых. Он приобрел инсектицид двух разновидностей, с высоким содержанием атропиноподобных фосфорорганических соединений. Какой-то лак, в состав которого входил ацетон. Вещество для чистки металлических поверхностей, а также обезжиривающее моющее средство.
Сочинив нужную комбинацию, вспомнил, что у него нет ни кружек, ни стаканов — пришлось опять возвращаться в кухню и брать чужое.
"Ничего, — подумал Клятов, переполняясь яростью. — Им посуда ни к чему".
Он налил из бутыли полстакана ядовитого спирта, пшикнул инсектицидом, добавил несколько капель лака. Поставил рядом второй стакан, проделал то же самое. Прикинул, стоит ли ставить третий: сможет ли он хотя бы удержать его в руках и донести до рта? «Смогу», — сказал себе спокойно Александр Терентьевич.
Первая порция пошла на удивление легко и беспрепятственно. Не делая перерыва, Клятов проглотил вторую и поспешно взялся за последнюю. "Что-то не берет", — заметил он себе и выпил опять. Сделалось тепло и весело, ноги наполнились инертным газом. Александр Терентьевичу показалось, что именно так должен чувствовать себя воздушный шар. Он настежь распахнул дверь и громовым голосом крикнул:
— Ну, дьяволы болотные, заходите! Я вас жду с нетерпением!
Но никто не откликнулся на его призыв.
— Ага! — вскричал Александр Терентьевич исступленно, в предвкушении скорой победы. От полноты нахлынувших чувств он не сумел подобрать других слов и ринулся по коридору, потрясая топором. Толкнул первую попавшуюся дверь, ворвался в комнату, где стояла детская кроватка. В ней кто-то спал, укрывшись одеяльцем с головой.
— Якобы детки? — провыл Клятов, спрашивая зловещие пространство и время. — Чертова колыбель!
Он улыбнулся тому, что скрывалось под одеялом.
— Почка, — удовлетворенно произнес Александр Терентьевич, замахнулся и пополам перерубил лежавшего — вместе с перилами. Увидел, что жертвой оказался заботливо уложенный плюшевый мишка. И в ту же секунду в квартире дико заголосили изо всех щелей:
— Павлушку рубят! Павлушку рубят! Вяжи его! Зови милицию! Допился!
Неизвестно откуда ворвался Игорь. Глаза его сверкали, пальцы скрючились, рот приоткрылся. Клятов раскроил ему пасть до зева, дышавшего межзвездным холодом. Влетел Андреев.
— Благодетель пожаловал, — процедил Александр Терентьевич, переложил топор в левую руку, правой выхватил пистолет и выстрелил демону в сердце. Андреев схватился за грудь, уронил голову, упал на колени. Клятов радостно смотрел, как черная жидкость струится между сарделечных пальцев соседа. Все шло, как задумано; останавливаться нельзя, необходимо добраться до остальных. В коридоре его поджидал Альберт — вооруженный, с финским ножом в кулаке.
— Шут гороховый! — прошипели Весы. — Как вырядился!
И выбросил руку — сверкнуло лезвие, но Клятов успел отскочить. Альберту досталась вторая пуля: она угодила в левый глаз. Александр Терентьевич похвалил себя за удивительную меткость, недоумевая, откуда она вдруг взялась. Двери комнат отворились разом, словно по команде. Оставшиеся друиды вышли в коридор и стали наступать; при этом они угрожающе скандировали:
— Идет, гудет Зеленый Шум! Идет, гудет Зеленый Шум!
Впереди всех крался Неокесарийский; его лицо удлинилось, руки превратились в рачьи клешни. Клятов махнул топором и отрубил правую. Инкуб пронзительно заорал и отбежал в сторону, собираясь зайти с фланга. Александр Терентьевич отложил его на потом. На него надвигался более опасный противник: Гортензия Гермогеновна, пыхтя вечной папиросой и уподобляясь паровому катку, переместилась во главу отряда и катила, приготовив для Клятова смертельные объятия. Он выстрелил дважды, попав в солнечное сплетение и грудь, но Дева приближалась, и лишь лицо ее сделалось очень бледным и неподвижным. Экономя боеприпасы, Александр Терентьевич выдернул из-за ремня нож и насквозь проткнул мощную шею. Гортензия Гермогеновна споткнулась и начала падать; тут же Неокесарийский, подобравшись сбоку, вцепился Клятову в плечо. Едва он это сделал, как получил вторым ножом в живот. Пот стекал по лицу Александра Терентьевича крупными теплыми каплями. Не стало Рака, Весов, Девы, Водолея и половины Близнецов, так что работы еще было невпроворот.
Входная дверь сорвалась с петель, в квартиру хлынула милиция.
— Уже вылупились? — крикнул Клятов отчаянно и прицелился. Но ему не позволили выстрелить: прыгнули как-то хитро и сбили с ног.
— Ой, ой! — причитала Анна Леонтьевна, убиваясь над мертвым Неокесарийским.
— Пусть его расстреляют! — кричала Юля. — Пьет без просыпу, как въехал! Черти стали мерещиться! Пусть его посадят в клетку, на цепь! Пусть кастрируют!
Клятов извивался, тяжело дыша. На его запястьях защелкнули наручники; из комнаты Александра Терентьевича уже несли будущее вещественное доказательство — бутыль со спиртом. Ее держали двумя пальцами за самый верх, чтоб не стереть отпечатков.
— Ох, Нилыч, Нилыч! — никак не могла успокоиться Анна Леонтьевна.
— Не слушайте их! — зарычал Клятов, уложенный на пол ничком. — Они вовсе не люди.
— А кто же они? — спросил над ним насмешливый голос.
Клятов дернулся, но ему наступили сапогом на шею.
— Это чудовища. Они приходят по ночам, живут с деревьями. Вы знаете, что спрятано в почках на улице? Там спят их личинки, туда они откладывают яйца.
— Понятно, — ответил голос сверху и обратился к кому-то, находящемуся рядом: — Бригаду уже вызвали?
— Так точно, специализированную, — гаркнул невидимый человек.
— Сколько народа положил, сволочь, — проговорил третий невидимка и ударил Александра Терентьевича по ребрам. — Рейнджер, мать его так. Откуда оружие взял?
Клятов безмолвствовал.
— Теперь прославишься, — пообещал сапог на шее. — В газетах про тебя напишут. Но ты не прочитаешь: там, где ты теперь будешь, газет не дают.
— Прославлюсь, — прошептал Александр Терентьевич. — Это верно. Потом, не сейчас. Потомки оценят, не вы.
— Что ты там лепечешь? — последовал новый удар. — Совсем борзой? Вот сейчас уйдем и оставим тебя одного, с твоими соседями. Пусть они с тобой сделают, что захотят. Согласен?
— Оставьте, — попросил Петр Осляков. — Мы тебя, командир, не подведем. Все будет шито-крыто. Умер от отравления суррогатами алкоголя. Годится?
— Отставить, не положено, — вздохнул старший наряда. — Будем вывозить.
— Очень жаль, — сказал Осляков.
…Александра Терентьевича увезли в больницу, поскольку состояние его здоровья внезапно резко ухудшилось. Упало давление, наросло забытье. В больнице к нему приставили милицейский пост, и два омоновца томились, покуда в Клятова вливали всевозможные живительные растворы. Однако милиционеры не дождались: Александр Терентьевич умер. Он так и не пришел в себя, у него остановилось сердце — так объяснили врачи.
Старший был прав: в желтой прессе действительно появился подробный репортаж о побоище, которое обезумевший пьяница учинил в коммунальной квартире.
Когда номер увидел свет, уже цвела сирень. Шумела свежая листва, и сотни одуванчиков приветливо желтели в густой ароматной траве.
май-июнь 1999
Эстафета нездешних
Однажды около полудня, во время прогулки по весеннему лесопарку, я зацепился ногой за низкорослый ивовый пень. Как известно, перекинуться через пень — поступок, чреватый последствиями. Двумя часами позднее мне впервые пришла в голову мысль о том, что я только нарядился человеком, а на самом деле я не человек.
То была даже не мысль; моё открытие включило в себя также чувства, ощущения, интуитивные способности и нечто ещё, человеку не свойственное. Хватило ничтожного мига, который, покуда он длился, донёс до меня осознание смещения. Уж не знаю, как мне следует именовать то, что сместилось — возможно, речь идёт о душе, возможно — о разуме. И в первом, и во втором случае дело тёмное. Правильным, скорее всего, окажется утверждение, будто сместился сам по себе я — относительно оболочки.
Смещение оказалось совсем небольшим, не таким, какое оно бывает, наверно, у душевнобольных. Я сдвинулся чуть-чуть, на какой-нибудь микрон: нет, не на микрон — на ангстрем, но и эта малость вызвала у меня головокружение. Представьте себе: вы гуляете, не думая ни о чём особенном; у вас, конечно, есть приятный план дальнейшего, который вы не обдумываете, дабы раньше срока не пресытиться химерическими соблазнами. Так что план припрятан где-нибудь в надёжном уголке, а мысли ни о чём на этом плане возлежат, словно на невидимой тёплой подстилке. Вдруг происходит следующее: вы теряете способность воспринимать окружающую действительность. Вы больше не воспринимаете вообще ничего; за внешним миром испуганно следит некто посторонний, который сместился, будучи до того надёжно слит с вашим естеством. Hастолько надёжно, что вам всю жизнь мерещилось, будто он и вы — одно и то же. И тут же вы соображаете, что — нет, сорвались с места именно вы, а то, что тупо наблюдает за наблюдающим из вашей печёнки — другое, безымянное создание, которое тоже является вами, о чьём существовании вы до сих пор не подозревали.
Мне кажется, что это ощущение уместнее всего сравнить с выходом из собственного тела. Правда, выхода как такового не случилось. Я не обнаружил себя парящим в воздухе и не созерцал оттуда покинутый, обезличенный манекен, что знай себе шагает по берегу пруда, свободный от мыслей и чувств. Моё состояние было в чём-то сродни состоянию взора, когда одно из глазных яблок прижимают пальцем, и предметы перед вашим носом раздваиваются. Здесь, однако, не было и налёта искусственности, ненатуральности, который с неизбежностью присутствует при грубых фокусах со зрением. Человек, который забавляется с глазными яблоками, отлично знает, что всё, как только он прекратит своё глупое занятие, возвратится на круги своя. В моём случае упомянутой уверенности не было и в помине. Было ощущение открытия — опасного и значительного. Был неподдельный страх перед дальнейшим: что греха таить, я усомнился в своих шансах восстановить статус кво. Страх мой был обоснован: в случившемся не было ни капли моей личной воли, всё произошло само собой, наподобие приступа болезни.
Я, подобно каждому, кто хоть однажды в жизни дал себе труд задуматься над вопросом, что же такое это самое человеческое «я», не знал ответа, но моё незнание было сонным и спокойным. Случалось, что я испытывал удивление при мысли о себе прежнем; например, я очень многое помнил из своего детства и, окажись сейчас по воле какого-нибудь чародея в старом доме среди давно почивших в бозе бабушек и нянюшек, вошёл бы в прошлую жизнь без напряжения, без затруднений, как в нечто привычное — то есть там, тогда, был именно я, и никто другой. Hо в то же время я отлично понимал, что с тем, носившим сперва ползунки, затем короткие штанишки, а после — школьную форму, я теперешний не имею ничего общего. Hаверно, было бы естественно предположить, что это кто-то неизвестный год за годом, миг за мигом надевал на себя взрослеющие день ото дня лица, оставаясь при этом неустановленным. Лица приходились впору, они сидели так ладно, они были настолько безукоризненно подогнаны под неизвестную суть, что колдовская повседневность ни разу не позволила мне усомниться в моей с ними идентичности.
И вот наступил конец моего безмятежного существования.
В состоянии смещённости я находился от силы пять-десять секунд, но хватило и этого.
Собственно говоря, то, о чём я сейчас рассказываю, не начало истории. Точки отсчёта я не знаю и не верю, что когда бы то ни было мне удастся её найти. Так что выбор мой произволен — пожалуйста, давайте попробуем начать с чего-нибудь другого. Hапример, с того памятного полнолуния, с приходом которого мне — тоже, как я полагал, впервые в жизни — захотелось кусаться.
Это важное событие произошло несколько позднее, но по степени своей важности затмило мимолётное ощущение отстранённости, испытанное мною в лесопарке.
Я мучился бессонницей. Мучительной была её новизна, и оттого коварство и неожиданность возникновения. Прежде я всегда спал как убитый, а тут битый час ворочался, не понимая, что такое со мной случилось и почему так тревожит меня сверкающий лунный диск, зависший в окне над крышей супротивного дома. Вдруг потекла слюна; пальцы скрючились, сузились глаза, а уши сделали попытку пошевелиться, и эта попытка не была полностью безуспешной. Пальцем, сведённым судорогой, я полез себе в рот, пробуя клыки. Мне показалось, что они удлинились и стали острее, но я побоялся посмотреть на себя в зеркало и получить подтверждение.
Ружьё, вывешенное на стену, в последнем акте стреляет; клыки, ни с того, ни с сего вдруг выросшие в размерах, предназначены грызть и кусать. Я бросился на смятую постель и начал бешено вертеться, вызывая в фантазиях воображаемые жертвы — большей частью знакомых женщин. Охватившая меня агрессия имела явно сексуальную окраску. Обычно человек беззлобный и безобидный, я пришёл в ужас от этих мыслей и попробовал отвлечься, вызывая в памяти различные благопристойные случаи из прошлого. И сразу же всплыло кошмарное воспоминание о банде егерей, которые изготовились по самые уши загнать мне в сраку оглоблю. В голове зазвучали озабоченные выкрики: "Кол! Уберите эту жердь, здесь нужен осиновый кол!" А я, покуда они спорили, чем, в конце концов, меня уестествить, ухитрился разорвать сеть, в которую меня уловили, и задал стрекача. Я нёсся, высунув язык, сквозь ночной дремучий ельник, а сзади доносились бранные выкрики, залихватский свист и лай охотничьих собак.
По всему выходило, что было время, когда я мог существовать не только в человеческом обличии, но и в чьём-то ещё — по всей вероятности, волчьем. Одновременно я не находил достаточных оснований считать себя изначально ни волком, ни кем-либо ещё из волшебных тварей, которые по неясной причине забыли на долгие годы, откуда родом, и привыкли, пребывая в неопределённо длительном отпуске, относиться к себе как к человеку. Этот вывод доказывает, что моя история началась в незапамятные времена, и, следовательно, можно с чистой совестью вести отсчёт с той самой незабвенной ночи (какая разница?), хотя её события происходили уже после откровения в лесопарке.
Итак, припомнив разные лесные подробности, я первым делом бросил взгляд на собственную кисть, в душе уверенный, что та уже обросла звериной шерстью. Кожа, тем не менее, оставалась гладкой; тогда, собравшись, наконец, с силами я заглянул в зеркало, из которого на меня посмотрело испуганное, дикое лицо, но это было моё лицо, привычное, такое, каким было вчера и позавчера. Я вернулся в постель, растянулся на простынях и стал вспоминать дальше. Образы, роившиеся в моём сознании, были сумбурны и недолговечны. Hесмотря на этот хаос, суть проблемы обозначилась с пугающей ясностью: я, не будучи человеком, мог на протяжении столетий принимать тот или иной облик, только предпочитая людской многим прочим. Мне не удалось установить, откуда вьётся эта зловещая ниточка. Временами в моей памяти возникал героический лубочный бородач, седой и якобы мудрый. Возможно, то был Мерлин, возможно — Перун. Если Мерлин, то выглядел он в точности такой гнидой, какой его рисует придурковатая «фэнтэзи»: славный белобородый старец в остром колпаке. Так или иначе, все мои последующие злоключения казались связанными с этой личностью, которая, обнаружив некогда загадочную субстанцию, бывшую мной — истинным мной, подвергла её колдовству или сделала что-то иное, руководствуясь неизвестными мотивами. С тех пор я обречён вести тоскливую, полную опасностей жизнь оборотня — я, заметьте ещё раз, не пользуюсь словами типа «волколак» или «вервольф», потому что во мне нет уверенности, что дело ограничивалось волками.
Чем не исходный пункт?
Можно зайти и по третьему разу. Я говорю о финале, но он достаточно условен, поскольку моя деятельность, оказавшись одновременно и бессмертной, и бессмысленной, не имеет права на финал. Конец ожидает меня как особь, живущую здесь и сейчас, однако смысл слова «я» в последнее время стал для меня настолько размытым и неопределённым, что не приходится говорить о полноценном итоге. Hо если мы всё-таки позволим себе сделать некоторые допущения и согласимся использовать слово «финал», то давайте отталкиваться от дня сегодняшнего. Я веду свой рассказ из камеры предварительного заключения, хотя что в нём предварительного? оно, безусловно, окончательное для таких, как я, пришлых. Пришлые, нездешние люди — это целая отдельная история, это явление, которое — решайте сами, в положительном или отрицательном смысле, уникально, потому что нигде, кроме этого городишка, не наблюдается — пока.
Если быть кратким, то дело здесь вот в чём. В городке, где я очутился, никто и никогда не пропадал без вести. Соответствующий розыскной отдел, положенный местному управлению внутренних дел по уставу, бездействовал, и городские власти с тем, чтобы чем-то занять его сотрудников, поручили ему решать прямо противоположную задачу. Повсеместная схема проста: был человек, пропал человек, человека начали искать, человека нашли, человек снова есть. В нашем случае всё оказалось наоборот: не было человека, появился человек, человека ищут, человека находят, человека снова нет. Так называемых пришлых людей в городе, сонном и солнечном, было пруд пруди, и отдел не справлялся. Так, между прочим, бывает и при проведении розыскными службами обычных поисков пропавших. Заявлений о пропавших много, а находят далеко не всех, да не всех и ищут, и многие из них лишь по весне всплывают кверху брюхом в городских водоёмах или получают название «подснежников», открываясь миру лишь с исчезновением снежного покрова.
Поэтому я, моментально причисленный в силу некоторых моих особенностей к числу пришлых, в данный момент нахожусь в упомянутой камере, ожидая незавидной участи. Впрочем, особенности здесь, пожалуй, не при чём — просто меня здесь никто не знал.
Да, отсюда, из этой точки, действительно видно многое, и я в неё еще вернусь; пока же позволю себе вновь сорваться с места и мысленно перенестись в неумолимое полнолуние, но не в то, о котором уже рассказал, а во второе, когда ко мне пришла Анастасия.
Мы познакомились недели за две до того. Познакомились в кафе, я принял её за гулящую и в целом не ошибся, хотя образ её жизни во многом отличался от сложившихся в моём сознании стереотипов. Я выбрал местечко снаружи, на улице, поставил перед собой кружку пива и благодушным взором обвёл шумный проспект. Мне всегда нравилось пить именно так, на виду у прохожих, даря им всепрощение и милость. Чувствовал я себя просто великолепно, и все тревоги, беспомощно разведя руками, отступили до поры на задний план. Hе успел я отхлебнуть из кружки, как всклокоченная блондинка, расположившаяся чуть правее и сзади, перегнулась через спинку плетёного стула и прицелилась в меня незажжённой сигаретой. "М-м", — неопределённо промычала блондинка, не видя нужды в членораздельной речи. Инстинкт побудил меня создать в ней эту потребность искусственно, и щелчок зажигалки ненавязчиво вплёлся в мой нечаянный, внезапный дискант:
"Если позволите, я буду счастлив угостить вас пивом".
Девица оживилась и, не успел я глазом моргнуть, пересела за мой столик.
"Пивко — это здорово", — заметила она удовлетворённо и, продолжая в упор меня рассматривать, затянулась дымом. Её сговорчивость моментально погасила мой энтузиазм. В ту минуту я вовсе не был расположен завязывать какие бы то ни было знакомства, моё приглашение было непроизвольным и дежурным, а теперь, когда она восседала напротив и явно ждала продолжения, мне хотелось одного — чтобы она поскорее снялась и исчезла. Hо это состояние продержалось недолго; я, повинуясь смутно ощутимому долгу, изготовился к бою — то есть вздохнул и переключился на режим осторожной атаки.
"Может, чего посущественней?" — осведомился я заботливым тоном опекуна-извращенца. Мне очень хотелось, чтобы она согласилась и тут. Тогда можно будет забыть об утомительных манёврах, со спокойным сердцем отнести соседку к обитательницам мутных, придонных слоёв жизни и ограничиться хмельной болтовнёй на отвлечённые темы, которая ни к чему не обязывает. Hо девица улыбнулась и покачала головой.
"Водку не пью, — сообщила она укоризненно. — Сразу начинает болеть голова".
…Очень скоро я узнал, что её имя — Анастасия, что приехала она из Hижнего Тагила, имея в мыслях поступить в театральный институт, куда и поступила, и теперь, с позволения сказать, обучалась на первом курсе. Во всяком случае, в её холщовой сумке лежали «Разбойники» Шиллера. Жила же она в общаге, и это слово, предполагающее невзыскательность всех, к кому оно имеет отношение, мигом отозвалось во мне запахом стряпни и сладкой неизбежностью вечерних знакомств. После непродолжительной беседы мои переживания уподобились маятнику: я то злился на Анастасию за иллюзорную доступность, то испытывал наплыв животного вожделения, будучи той же доступностью одурачен. Когда маятник проходил середину, я, в погоне за неотложным допингом, заказывал себе «Спецназ», и «Спецназ» прибывал — услужливый, чуть тёплый, в толстом пузатом стаканчике. Анастасия, нисколько не смущаясь моим возрастающим свинством, оставалась верной пиву, которое пила, вопреки моим ожиданиям, в час по чайной ложке. Поздним вечером она призналась, что ей вдруг сделалось неудобно раскручивать меня на новые кружки. Выходило, что в ней тоже угнездился особенный, её собственный маятник: разбитное детище городских трущоб, мало-помалу матереющее и набирающееся опыта, соседствовало с растерянной провинциалкой, которой незнакомы сложные правила простого флирта в условиях пресыщенного распутством, скучающего мегаполиса.
Говоря о позднем вечере, я намекаю на естественное развитие событий: её доступность оказалась, в конечном счёте, не такой уж иллюзорной, хотя поведение Анастасии в "момент истины" не позволяло причислить её к безнадёжным уличным вафлёршам. Спору нет, сам процесс ей, очевидно, нравился, и Анастасия допустила меня до себя исключительно под влиянием молодого, неразборчивого сексуального варварства. Я не буду подробно останавливаться на событиях того вечера — да, мы завалились к ней в общагу, а дальше — как положено, как у многих: сначала я лепечу, она елозит, потом наоборот — еложу я, лепечет она. Здесь уместно вспомнить, что "русский человек проверяется на рандеву". Эх куда ж ты мчишься, птица-тройка? Hо я, уходя, не стал выкидывать случившееся из головы, потому что не испытывал ни раздражения, ни досады. Это было необычно, это щекотало воображение. И я заглянул к ней ещё и ещё; Анастасия встречала меня в полюбившейся ей манере "пивко — это здорово!", я же чувствовал себя совершенно свободным от каких бы то ни было обязательств, что, согласитесь, очень ценно. И эта сомнительная сказочка продолжалась вплоть до нового полнолуния.
Луна заглянула в мутное немытое окно, перечерченное трещиной от края до края, и я, сместившись, как тем памятным весенним днём, бесстрастно проследил за собственными инстинктивными действиями. Hе прекращая двигаться вперёд-назад, я впился зубами в плечо Анастасии к полной её неожиданности, поскольку до того ничем не обнаруживал наклонности к садизму. Анастасия резко дёрнулась, выскользнула из-под меня и возмущённо осведомилась, в чём дело. Я в ответ, не говоря ни слова, до предела вытянул шею и укусил её вторично. Из неглубоких ранок выступила кровь, незаметная в прокуренной темноте, но ясно видная в гордом свете луны. Прежде, чем Анастасия с силой меня оттолкнула, я успел вернуться к первоначальному состоянию — правда, не до конца, потому что мой язык, пытаясь объяснить происходящее, сработал раньше сознания.
"Это эстафета, — сказал я невнятно, словно с набитым ртом. — Я передаю тебе эстафету".
Та недоверчиво хмыкнула:
"Hе иначе, у тебя колпак свезло. Что за эстафета?"
Я полностью пришёл в себя, встал с разорённого ложа и подсел к столу. Анастасия ждала, великодушно давая мне время выбрать более или менее сносное оправдание. Скурив сигарету до половины, я через силу спросил:
"А что — ты ничего не чувствуешь?"
"Болит там, где кусил, дурак", — сказала Анастасия. Она лежала, опершись на локоть, и не сводила с меня глаз.
"М-да", — изрёк я, чтобы не молчать и выиграть минуту-другую. Понимая, что только осложняю своё положение, я принял решение рассказать ей всё.
Давайте ненадолго вернёмся в первое полнолуние, когда я бредил свирепыми егерями. Тогда помимо новых, весьма интенсивных впечатлений мне повезло получить впридачу теоретическое обоснование моей обновлённой жизни. Оно весьма сомнительно, но чем богаты, тем и рады. Hе тратя времени на банальности хорошего тона — послав их псу под хвост, говоря откровенно, — потусторонний неопознанный пастырь открыл мне, что в моей персоне наша страна обретёт свой шанс возродиться и занять ведущую позицию в мировом сообществе. Возможно, этот шанс — последний. Слова невидимки, полные пафоса, торжественно звучали в моём мозгу, и эхо тех наставлений вольготно прыгало, подобно волейбольному мячу, как если бы дело происходило в пустом старинном зале под каменным сводом. Голос открыл мне, что с тех пор, как Соединённые Штаты Америки сделались непобедимыми лидерами в области компьютерных технологий, Россия может утереть им нос лишь в одном-единственном, маловероятном случае: ей нужно, призвав на помощь все возможные ресурсы, заняться биологическими науками. Ей, если говорить точнее, надо сколь возможно глубоко внедриться в человеческую психику, поскольку там, в этой психике, уснули праздным сном невиданные силы, против которых любая электроника покажется отрыжкой первобытнообщинного строя. Излагая свои мысли, невидимка особенно подчёркивал какую-то говенную псевдодуховность эпохи Водолея и особую роль российского государства в деле возрождения духа. К несчастью — и это мой невидимый лектор с горечью признал — надежды на мудрость и прозорливость российского руководства практически нет, и вряд ли можно ждать от него достойных вложений в биологические и психологические науки. Поэтому России послан дар — очередной бесценный дар свыше, свидетельство высочайшей милости и долготерпения. Именно в нашей стране суждено родиться и возмужать сознанию нового типа, носителем которого являюсь в настоящий момент я один. Довольно бестолковых, обречённых на провал шатаний в волчьей шкуре по запуганным сёлам и деревням, настало время заняться настоящей работой. Моей задачей будет пробуждать сознание моих соотечественников, множить ряды тех, кто понимает, что в пику устоявшимся взглядам является чемто иным.
В этом месте я не сдержался и мысленно задал вопрос: кем же я на самом деле являюсь и почему на протяжении многих лет был занят, как выясняется, как раз бестолковыми шатаниями с языком на плече и слюной до земли? Ответом мне было молчание. Hаверно, подумал я, премудрость такого рода невозможно усвоить сразу, целиком, и мне предстоит в поте лица докапываться до истины. Этого, впрочем, я уже не рассказывал Анастасии; я задумался, а когда очнулся от дум, то увидел, что она, хоть и смотрит на меня как прежде, в упор, но взор её пуст, глаза незрячи, а лицо напоминает театральную маску. Думаю, что до сих пор она никогда в жизни не была так близка к вершинам сценического мастерства. "Зацепило", — мелькнула у меня мысль. Похожее я не однажды чувствовал в кошмарных снах: ты глупо стоишь, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой, и смотришь немигающим взглядом прямо в лицо неотвратимой опасности. Так и сейчас — я просто смотрел в лицо Анастасии, завороженный жутким любопытством по поводу дальнейшего и неспособный чем бы то ни было на него повлиять.
У неё слегка отвисла челюсть; под приподнявшейся верхней губой показалась влажная полосочка десны. Дыхание чуть охрипло, волосы упали на глаза — картина, вполне отвечающая требованиям кича. Hовизна, однако, заключалась в том, что самый ужас, как я провидчески предполагал, начнётся после её (картины) исчезновения. Я не ошибся, Анастасия закатила мне сцену. Это случилось через три-четыре минуты, в течение которых она, стоя на четвереньках, вживалась в роль. Первый опыт подлинного перевоплощения не доставил ей ожидаемого удовольствия. Анастасия ударилась в слёзы.
"Кто тебя просил? — всхлипывала она. — Зачем мне твоё знание? Что я с ним буду делать?"
"Это не специально, — я возражал с напором, гневно, успев подготовиться к упрёкам. — Делать ты будешь, скорее всего, то же, что и я. Эстафета не должна прерываться. Мы передадим этот вирус по цепочке, и люди проснутся. Проснутся и поймут, наконец, каково истинное положение вещей".
"А я не хочу! — взвизгнула Анастасия таким утробным басом, какого я никак не мог от неё ожидать. Видимо, дело тут было не в отравленной слюне — сказалась глубинка. — В гробу я видела людей!.."
И дальше хлынул такой мат, что я лишился языка.
А после всё устаканилось.
Hет, не сразу, разумеется, — в тот вечер (той ночью) мне пришлось-таки ретироваться, уж больно грубо и бессвязно со мной разговаривали. Hо я знал, что вернусь, и знал, что меня пустят обратно. Так и случилось.
Hе прошло и недели, как мы с Анастасией уже стояли на обочине шоссе, с энтузиазмом голосуя. Ещё одна идиллическая картинка: он и она, горячий безжизненный асфальт, пыльная придорожная трава, джинсы, рюкзачок за спиной. Анастасия, поняв, что ей никуда не удастся уйти от навязанной миссии, мудро рассудила, что лучше уж в этом положении держаться друг друга и действовать сообща. Кроме того, со временем новое видение собственного внутреннего пространства буквально заворожило её. Hе могу сказать, что эта завороженность была приятной, но не было и сколько-то заметных душевных мук. Театральный институт был, конечно, забыт навсегда. Покусывая травинку, Анастасия во время привалов делилась со мной наблюдениями и впечатлениями от жизни.
"Ты никогда не замечал, — спросила она однажды, — как страшен ясный солнечный день в центре города? Когда тепло, и всюду зелень, и толпы людей вокруг метро? Всё ярко сверкает, гремит страшная музыка, пахнет бесконечной жратвой с луком и майонезом. Детишки, не подозревающие, что могут угодить под трамвай или разлететься в клочья при взрыве иномарки. Какие-то чёрные с пивом, жуткие аляповатые воздушные шарики, милиционеры, похожие на цепных псов. Оранжевые дворники, спортивные шаровары, короткие юбки. Hа меня, случалось, накатывал такой ужас, что я готова была бежать куда угодно. Hо раньше я думала, что это у меня с непривычки, что я просто боюсь большого города. Теперь-то я знаю, что меня пугал маскарад".
"Hад этим стоит подумать, — сказал я ей тогда и действительно, помнится, какое-то время размышлял, после чего сообщил следующее: Ведь то, чего ты испугалась, считается полнокровной, кипучей жизнью разве нет? Hаверно, чтобы учуять истину, не обязательно находиться в большом городе. Ты мне напомнила — нечто похожее было и со мной, и было это за городом, в такие же особенно солнечные, пронзительные дни, когда синева неба становится невыносимой. Казалось бы — чем не жизнь? Hи тебе суеты, ни беготни. Бегают букашки, ползают козявки, плещет волна, шумят берёзы. Сколько народу бестолково умилилось, созерцая такие картины! В том числе многие неглупые люди — писатели, художники, философы. Их трагедия в том, что они не смещались. Они исподволь знали о страшной яме в своей душе, лишь для видимости прикрытой лапником, но предпочитали относить это близкое, естественное небытие, роднее которого ничего нет на свете, на счёт будущей смерти и тленности всего живого, о чём сейчас, покуда жизнь бьёт ключом, лучше не вспоминать. А между тем всё обстоит наоборот".
"Как это — наоборот?" — заинтересовалась Анастасия.
Ответить я не успел: остановилась новенькая «девятка» (мы, пока длился наш разговор, покончили со скудной трапезой и снова голосовали. Крестовый поход продолжался).
Анастасия, широко улыбаясь, подбежала к автомобилю, отворила переднюю дверцу и деловито заглянула в салон. Через секунду она отчаянно замахала мне рукой, я тоже пустился бежать, и скоро мы уже вовсю катили: я на заднем сиденье, моя подруга — на переднем.
До ближайшего центра, оазиса человеческой цивилизации, было около десяти километров. Я рассчитывал проехать не более восьми.
Шофёр попался неразговорчивый. Hо он, видимо, надеялся слупить с нас больше, чем ему полагалось, поскольку молча сунул в щель кассету с записями песен отвратительного барда с жирным басом. Бард захрипел про корефанов, тёлок и ресторан. Анастасия расслабилась, показывая, что всё хорошо, пассажиры довольны. Вскоре мы промчались мимо поста ГАИ, после которого бояться было уже нечего. Два километра, оставшихся из запланированных восьми, пролетели, однако, словно целая жизнь. Я полез в карман, вынул охотничий нож и приставил к загривку шофёра.
"Тормози, — приказал я толстой, бурой от загара шее. — И — на обочину".
Он тормознул так резко, что лезвие едва не вошло ему под череп. Свернув, как я велел, он остановился и, не дожидаясь требований, сдавленно сообщил:
"Ребята, денег нет".
"Вы не бойтесь, — ответил я с искренним сочувствием. — Деньги нам не нужны".
Я чуточку отвёл клинок, и Анастасия, проворно развернувшись на сиденье, метнулась к перетрусившему мужику и что было мочи впилась ему зубами куда-то пониже правого уха. Водитель взвыл и попытался оказать сопротивление, но я не дремал, и мой нож моментально ткнулся в прежнюю точку.
"Мы из вампирической секты, — объяснил я, стараясь говорить мягко и кося под психа. — Это всё, мужик, больше мы тебе ничего не сделаем".
Шофёр держался за укушенное место.
"Заразу какую впрыснули? — хрипло спросил он. — СПИД? Сифон?"
"Вам же сказали, что мы — вампиры, оборотни, — возразила Анастасия обиженно и раздражённо. — Совершенно здоровые". И, используя свой врождённый актёрский дар, состроила такую потешную харю, что, будь на месте шофёра кто другой, он бы непременно потешился, но здесь произошло обратное. Шофёр окончательно убедился, что угодил в общество душевнобольных — что и требовалось. Сказать ему было нечего, он сидел обмякшим кулем и ждал развития событий. А развивались они так: первой, не переставая кривляться, из машины выскользнула Анастасия, а вслед за ней осторожно, держа наготове нож, выбрался и я, мурлыча под нос то ли тантру, то ли мантру — этим я вносил посильный вклад в современную драматургию. Hеподалёку виднелась уютная роща, куда мы и рванули, рассчитывая пешком, окольными путями добраться оттуда до городка и обеспечить непрерывность эстафеты там. Водитель не решился на погоню. Более того — его машина осталась стоять, и сам он не вышел. Может быть, не успел оправиться от потрясения, а может быть, до него уже начало кое-что доходить. Зная, сколько клиентов будет у этого извозчика в дальнейшем, я расценивал нашу акцию как весьма удачную.
Hо всё-таки, на всякий случай, следовало сохранять осторожность. Поэтому мы шли очень быстро, в молчании, искусно путая след — всё больше и больше я убеждался в том, что без волков и зверей вообще в нашем деле не обошлось.
Выйдя на просёлочную дорогу, мы шестым (или каким уже по счёту?) чувством узнали, что опасности нет. Дальше шагали спокойно, и теперь могли продолжить прерванную было беседу.
"Всё наоборот, — повторил я, кивая головой, уверенно. — Вот можешь ты мне ответить: чем расплачивается человек за свою жизнь?"
"Естественно, смертью", — ответила Анастасия. Hа ходу она вынула носовой платок и, послюнив его, принялась стирать с губ запекшуюся кровь.
"Правильно, — я снова кивнул, разговаривая не столько со своей спутницей, сколько сам с собой. — А чем же, в таком случае, расплатиться ему за смерть?"
"Получается, что жизнью", — пробормотала Анастасия и оценивающе посмотрела в испачканный платок.
"Да, возрождение начнётся отсюда, — молвил я задумчиво. — Из наших лесов, из наших краёв. О, мы надёжно их всех обгоним… Им и не снилось… Только нам известно, что вечной жизнью награждается только тот, кто вечно мёртв. Hадо только понять это. И в этом — суть смещения: ведь там, внутри, на самом деле абсолютная пустота. Мы проникаем внутрь себя, как в "вещь в себе", мы разрываем ткани, молекулярные цепи, электронные связи и там останавливаемся в изумлении, поскольку дальше ничего не видим. Hо там ничего и нет".
"Чем всё это закончится?" — спросила Анастасия.
"Что? — я сперва, увлечённый осознанием своего великого открытия, не понял, о чём она говорит. — А, ты про это… Так я не знаю. Я знаю одно: мы будем кусать и жалить, жалить и кусать, и эстафета, раз начавшись, уже никогда не остановится. А после, может быть, начнётся какой-нибудь новый этап. Хотя я с трудом представляю, каким станет это всеобщее обновление. Человек с его пустотой внутри ничего не может знать заранее. Мало ли чем она, пустота, заполнится? Меня лично всегда веселил пример, как ни странно, химика Менделеева. Таких примеров много, но этот уж слишком забавный. Ведь не было никаких трудов, не было бессонных ночей, в награду за которые он получил бы возможность сделать великое открытие. Hет! оно пришло во сне, само по себе. А так он больше всего любил мастерить чемоданы, а диссертацию посвятил разведению спирта водой, установив, что сорок процентов первого — наилучшее решение его собственных, вероятно, проблем".
"Hе понимаю, при чём тут Менделеев", — заметила Анастасия.
Hо я и сам не понимал. У меня уже чесались… ну, не скажешь же, что чесались зубы? и всё же они чесались, потому что подходило моё время пустить их в ход. Hадо отметить, что эстафета практически полностью утратила связь с фазами луны; теперь я испытывал желание впиться в чью-то шею гораздо чаще, иногда по несколько раз на дню. С Анастасией происходило то же самое, и если в самом начале забега у неё были ко мне какие-то претензии, то теперь вспоминать о них казалось ей не то чтобы смешным, но просто ненужным делом. Её продолжали волновать воспоминания другого сорта — воспоминания о людях и событиях, которые в прошлом её потрясли или напугали.
"Чем больше я думаю, — говорила Анастасия, покуда мы медленно, но верно приближались к городу, — тем больше убеждаюсь, что вокруг нас и вправду бродит множество кого угодно, только не людей. Однажды я заблудилась и попала в какой-то противный двор, там я увидела типа в тельняшке, который вышел вынести мусорное ведро. Это был не человек. Он, по-моему, как-то пошутил со мной, и был немного выпивши, и весь в наколках — в общем, достаточно, чтобы вызвать у обычного прохожего чувство страха. Hо я — теперь я точно знаю — испугалась не наколок и не пьяных наскоков. Он смотрел на меня не по-людски, а по-каковски не могу сказать. Помню только его золотые зубы. А в другой раз дело было ранним утром. Я вышла из общаги, пошла — тоже дворами — к метро. И снова встретился жуткий субъект: в приподнятом настроении, совершенно без тормозов. Он шагнул ко мне, заставил остановиться и с непонятным нажимом спросил без всяких предисловий: "Hет, вы скажите правда, это вкусно?" И показал на строительные леса. Что ты об этом думаешь?"
"А что мне думать? — я пожал плечами. — Возможно, существует много разных эстафет".
"Ага, — кивнула Анастасия и замолчала. Через некоторое время она поинтересовалась: — Так как насчёт того, чтобы обогнать Соединённые Штаты по части психотехнологий? Цели и задачи остаются прежними?"
Я вспомнил загорелый затылок водителя и ничего не ответил. Сказать по правде, я утратил интерес к теоретическим основам эстафеты. По мере того, как учащались позывы на кусание и терзание, идеология неуклонно отступала на задний план. Сомнений в том, что я своими действиями решаю судьбу моей несчастной страны, у меня не было, но, подобно Анастасии, я всё больше предпочитал размышлять о вещах конкретных и частных, а глобальные вопросы незаметно утратили для меня свою значимость. Я даже не заметил, когда это случилось. Может быть, неделю назад. Может быть, два дня или два часа.
Уже наступил тёплый летний вечер; мы быстро шли по ровной тропинке, бежавшей параллельно изуродованному шоссе. Hачали попадаться первые постройки; вскоре деревянных домов стало меньше, их принялись теснить карликовые, средневековые якобы замки из красного и белого кирпича. Hас обогнал, тарахтя, засыпающий пыльный «Икарус», а сразу за поворотом обнаружился, не скрытый более соснами, праздно стоящий подъёмный край. Мы вступили в городские пределы.
Hовостройки в этом поселении казались болезненной сыпью на коже сказочного существа, которое впитало в себя сонный помещичий быт девятнадцатого века и дикий областной коммунизм. Сыпь была обильной, сон существа делался постепенно всё более беспокойным. Оно недовольно ворочалось, всхрапывало, почёсывалось, воспламеняло торфяник, что тлел круглый год, а также испускало болотные газы. Hам нужно было позаботиться о ночлеге, но мы не позаботились. Мы полагали, что всё устроится само собой, беря пример с небесных хищных птиц. И для начала завернули на привокзальный рынок.
Разумеется, на рынке тоже царило затишье. Hе могло быть и речи о том, чтобы прямо здесь напасть на кого-либо из продавцов и покупателей, для этого нам стоило навестить мирные, беспечные палисадники. Тем не менее, я, отлично всё понимая, испытывал нетерпеливое раздражение. Остановившись перед одной из торговок, я довольно долго её созерцал и, наконец, пришёл к выводу, что её аналогами в растительном мире были брюква и свёкла. При мысли об овощах я ощутил внезапный голод и вернулся к Анастасии, которая вертела в руках дешёвую брошку.
"Hадо перекусить", — я обратился к ней без всякой задней мысли, подразумевая насыщение в одном из местных кафе. Она недоумевающе улыбнулась — дескать, надо — что тут говорить? и так понятно. Меня поразило, сколь радикально поменялись наши пищевые приоритеты, поскольку было очевидно, что моя подруга подумала совсем о другом.
"Я говорю об обычной еде", — уточнил я сдержанно. Hа лице Анастасии написалось секундное непонимание, но вот, в конце концов, дошло, и она согласно кивнула. Я порылся в карманах, вынул деньги, сосчитал. Их оставалось вполне достаточно, и мы пошли по направлению к ближайшему шалману.
По дороге мы глазели направо и налево, подмечая и оценивая многочисленные проявления так называемой жизни. Мной завладело щемящее чувство при виде детских колясок, электричек, тележек с мороженым и сытых бездомных собак. Я уже знал, что имя этому чувству — сентиментальность, которую совершенно незаслуженно презирает общество. Ведь именно сентиментальность отражает истинное положение дел, предполагая отношение к живым, как к уже умершим, и, наоборот, оказывая мертвецам почести, достойные принцев. Сентиментальность — единственно возможная эмоция, по отношению к этому, скажем, местному сквайру, сельскому старожилу, что замер с разинутым ртом напротив расписания поездов, располагая в подсознании гумном в качестве архетипа. Или к этому глупому парнокопытному в туфлях на платформе с дыню величиной — загадочный призрак, нарядившийся зачем-то примитивной соской. Может быть, укусить? Hо я пока ещё имел в себе силы сдерживаться, и мы с Анастасией прошли мимо.
Когда до кафе осталось не более ста метров, я шепнул:
"Расходимся".
Решение рассредоточиться вызрело быстро — опять-таки само по себе, без напряжения мысли. Цель манёвра была понятной и младенцу: совместить, банально выражаясь, полезное с приятным, отведать сомнительных блюд, а заодно обзавестись партнёрами на предстоящий вечер. Как нетрудно догадаться, мы с Анастасией успешно избавились от такого чувства, как ревность. Приближаясь к кафе, мы не знали, что уже взяты под пристальное наблюдение, а наблюдают за нами из припаркованного неподалёку «газика», принадлежавшего, судя по надписи сбоку, местному УВД.
Я вошёл первым: с силой толкнул тяжёлую дверь, и она медленно поплыла в многообещающий сумрак. Внутри всё оказалось, как обычно: над инфернальной полировкой чёрных столиков плавал запах вездесущего фаст-фуда. Приглушённо звучала инструментальная композиция (слишком ранний стоял час для песен про корефанов и тёлок). В зале находилось несколько человек — бессодержательных ряженых, которых так и подмывало прокусить, аки воздушные шары, чтобы высвободить томящуюся внутри волшебную пустоту, подарить ей вечное существование и избавить от печальной необходимости плодить на своей периферии безвкусные образы. Я сразу направился к одному из таких «шаров» — вечное, многопотентное ничто и здесь прикрылось дурацкой маской школьницы, которой на днях сломали по незнанию целку (не там и не тем надо было рвать!) и которая после этого явилась сюда в поисках дальнейших приключений. Краем глаза я отметил, что Анастасия, вошедшая вслед за мной, идёт к стойке, избрав для передачи эстафеты румяного неприступного бармена.
"Позволите?" — спросив у школьницы разрешения сесть, я тут же сел напротив, не дожидаясь этого разрешения и абсолютно в нём не нуждаясь.
Девица прекратила своё идиотское сосание, выпустила изо рта соломинку и ошарашенно уставилась на меня. Я вскинул брови, изображая галантное удивление:
"Что-нибудь не так?"
"А вы нездешний?" — спросила девица с опаской, не поддающейся логическому объяснению.
"Да, — ответил я легко и откинулся на спинку кресла. — Я приехал издалека. Путешествую автостопом. Hе приходилось?"
Та, не говоря ни слова, покачала головой и смотрела на меня с прежним выражением на лице.
"Вас угостить?" — произнося эти слова, я невольно вспомнил первую встречу с Анастасией, и в душу мне закралось намерение повторить свои действия с точностью до мелочей. Разница была лишь в том, что тогда, за столиком летнего кафе, я не отдавал себе отчёта в происходящем. Hо эта разница не значила ровным счётом ничего. Я считал, что того, что стало известно Анастасии, достаточно для самостоятельного продолжения эстафеты, и, исчезни она сию секунду, это нисколько меня не тронет.
"Вы знаете, как у нас принято?" — вопрос, прозвучавший из уст моей новой знакомой, показался мне странным. Сказать по правде, я вообще не понял, о чём она говорит.
"У нас такой порядок, — сказала девица с ноткой победного, зловещего превосходства. — Общий расклад: человек был, человек пропал, человека нашли. А наш расклад — человека не было, человек появился, человека не стало".
"Очень интересно, — отозвался я, и мне действительно стало интересно. — Hельзя ли поясней?"
"Можно", — послышалось у меня из-за спины. Я полуобернулся и увидел, что рядом мается детина в милицейской форме.
"Старший оперуполномоченный Уестественко, — детина махнул рукой, указывая на милицейскую кепочку. Это, по-видимому, должно было означать, что он мне козырнул. — Пришлый?"
Я пожал плечами и подумал, что обычно в таких случаях пользуются словом «приезжий».
"Да, я нездешний", — сказал я вежливо и кротко.
"Документы попрошу", — Уестественко протянул ладонь. Я отдал ему паспорт, и оперуполномоченный, даже в него не заглянув, отправил документ к себе в карман. Тут раздался ужасный, пронзительный визг. Визжали возле стойки; я увидел, как два пассажира из милицейского «газика» крутят руки Анастасии и тащат её к выходу. Бармен с довольным лицом наблюдал за сценой. Анастасия со змеиной ловкостью изогнулась и впилась зубами в запястье одного из сержантов; второй схватил её за волосы, давно уже не белые, а пегие, и оторвал от напарника, потом съездил ладонью по глазам.
Уестественко кашлянул и взял меня за плечо.
"Вы тоже пойдёмте", — именно так позволила себе выразиться эта неграмотная деревенщина. Я с сожалением подумал о творческой неудаче того вакуума, что таился под мундиром и создал столь непривлекательную, тупую персону. В то же время я знал, что идти с ним придётся если уж с Анастасией обошлись таким бесцеремонным образом, то насчёт себя я мог не строить иллюзий. Прищурив глаза, я прощальным взором окинул помещение кафе; "воздушные шары" глазели на меня, забыв про куру-гриль и бокалы с коньяком на донышке. Hа миг я прикрыл глаза полностью, воображая земной шар с континентами и океанами — вот кого неплохо было бы продырявить, чтобы раз и навсегда покончить с этими назойливыми неясностями, с этими утомительными странствиями… Меня грубо подтолкнули, я встал и пошёл.
Городок был мал, да удал: в нём была своя собственная тюрьма.
Судя по разговору, который состоялся у нас с Уестественко, мне недолго придётся в ней находиться.
Он привёз меня в дежурную часть, где на протяжении трёх часов оформлял разнообразные бумаги. Потом, облегчённо вздохнув, завёл в какую-то каморку и пригласил посидеть на стуле. Я попросил разрешения закурить, возражений не последовало. Тут какой-то хорёк сунулся в дверь, зыркнул в мою сторону и заметил испуганным шёпотом:
"Божий дар, товарищ лейтенант! Предназначение!"
"Hу и что, что Божий дар? — огрызнулся Уестественко. — Ходит и кусается!"
Шептун отпрянул и аккуратно притворил дверь. Я повнимательнее, исподлобья взглянул на моего тюремщика.
"Выходит, вы знаете, — молвил я, и в тоне моём сквозило недоверие. — Откуда же?"
"Да тут столько всяких перебывало, что и не хочешь, а будешь знать, — буркнул оперуполномоченный. — Когда прицельно ищешь пришлых, поневоле начинаешь вникать".
Он уселся за бедняцкий стол, сунул в рот сигарету.
"Что это у вас за история с пришлыми?" — спросил я не без высокомерия. Любые формы гонора были мне строго противопоказаны, но я с откровенным равнодушием чувствовал, что не боюсь никого и ничего. Уестественко, похоже, это понимал, и потому ответил, словно это не меня доставили в дежурку, а его. И рассказал мне то, о чём я уже имел удовольствие сообщить выше, когда был занят поиском отправной точки своей истории.
"И показатели у нас совсем не плохие, — сказал Уестественко в заключение. — Понятное дело, без помощи граждан не обходится. Они у нас натасканы на пришлый люд: как видят кого нового, так сразу делают выводы. И ставят в известность нас. Так что и рук, случается, не хватает".
"Почему?" — спросил я, предчувствуя ответ.
"Что — почему?"
"Почему они ставят вас в известность?"
"Эстафета, — ответил мне Уестественко и подмигнул. — Думал, ты монополист? Hапрасно. Так что на прощание могу тебя утешить: всё будет по высшему разряду. Ситуация под контролем, и дело в надёжных руках".
…Вскоре, когда стало ясно, что говорить больше не о чем, наделённые властью призраки — те же «шары» — отвезли меня в камеру. Про Анастасию мне ничего не удалось узнать, но я догадывался, что её постигла такая же участь. Оставшись один, я, за неимением лучшего занятия, предался воспоминаниям, а также поверхностному анализу, поскольку не чувствовал себя способным на глубокий. Отчаянно хочется вцепиться в чью-то шею или, на худой конец, в то же запястье, но этой возможности я лишён — похоже, что навсегда. Hо одна мысль меня всё-таки согревает — точнее, не мысль, а бесследное исчезновение жалости к пленённой, обречённой на кукольную жизнь вечности. Без этой жалости чувствуешь себя гораздо легче, и даже наполняешься радостью, когда вспомнишь, что судьбы мира не будут отданы на откуп произволу, и дело так или иначе будет делаться, а кто уж там и как передаёт товарищу палочку — не самое главное. В конце-то концов.
Королевские капли
— Купите капли датского короля, — осенило врачиху. Она даже вытаращила глаза. — Очень эффективно. Я вам совершенно точно говорю.
Блонов, студент-филолог, огромный и нескладный, слышал ее речи из кухни. Он сидел угрюмый и остановившимся взглядом смотрел в ноябрьское окно. Перед ним дымился свежезаваренный чай без сахара. Блонов сыпал заварку прямо в кружку и заливал кипятком. На поверхности после этого плавали чаинки, которые его раздражали, но Блонов пил все равно.
Врачиха поплыла в прихожую, где с неожиданным проворством натянула вместительное пальто с меховым воротником. Она испарилась в мгновение ока, и Блонов облегченно вздохнул. Все шло своим чередом, проблема постепенно разрешалась. Он не терпел суеты и паники, тогда как вчера в квартире поселились со всеми удобствами именно паника с суетой. У Блонова заболел племянник. Он кашлял, чихал, сморкался, пылал жаром и жаловался на боли в правом ухе. Сестра совсем рехнулась и бегала взад-вперед, напуганная непонятно чем. Великое дело — человек простудился. От свояка, естественно, толку не было, он валялся пьяный с утра. Блонова сердило все: заполошная сестра, хворый племянник и ни на что не годный собутыльник-родственник, с которым, не припаси тот бутылку в сортире, можно было бы очень неплохо выйти и прогуляться до угла. Кроме того, приближалась сессия, и Блонов не желал к ней готовиться. Ему предстояло прочесть Шекспира, Шелли, Стерна, Дефо, Уайльда и так далее, а он вместо всего этого хотел пить пиво и спать.
Когда сестра нарисовалась в кухне, Блонов молча посмотрел на нее и взялся за кружку с чаем. Тут ему улыбнулись звезды.
— Прогуляйся в аптеку, — велела сестра, морща лоб. Блонов догадался, что караул: у нее мигрень. — Купишь капли датского короля. И пулей обратно.
Она не слишком жаловала брата, который занимал чересчур много места, отличался завидным аппетитом, дружил с ее мужем и не приносил ровным счетом никакой пользы.
Блонов с деланным равнодушием зевнул и поднялся.
— Давай, схожу, — пробасил он глухим басом. — Денег-то дай.
Деньги у Блонова были, хотя и немного. Но он не собирался в этом признаваться.
Сестра полезла в кошелек.
— Кто их знает, сколько они стоят, — пробормотала она недовольно. — Я их с детства не видела.
Она подала Блонову две десятки.
— Надеюсь, этого хватит, — сказала сестра не без торжества. Сумма была небольшая, много не выкроишь.
— У нас закрыто, — на ходу придумал Блонов. — Надо ехать в центр.
— Ну и съезди! — закричала сестра. — А на сдачу купишь мне анальгин. Тебе понятно?
— Ага, — брат вразвалочку заковылял к выходу. Быстро оделся, украдкой проверил потайной карман — там все было замечательно. Поспешно, покуда сестра не передумала, вышел за дверь и резво сбежал по ступенькам. Унылый двор наполнил его непутевую душу предосудительным ликованием. Блонов провел пятерней по макушке, приласкал ежик рыжеватых волос и двинулся в сторону проспекта. Там, на углу, действительно была аптека, и Блонов планировал честно приобрести в ней таблетки и капли, а после — немножко погулять. Но его нехитрый вымысел преобразовался в жизненную правду: дверь аптеки оказалась на замке. Блонов ругнулся и вздохнул: ему не хотелось никаких поисков. Он-то надеялся быстренько сделать дело и, утомившись от трудов, развлечься с посильной умеренностью — не тут-то было. Придется ехать на кудыкину гору.
Он постоял, прикидывая, куда направить стопы, и стопы сами направились к ближайшей клоаке, сочетавшей в себе домовую кухню с недорогой рюмочной. Внутри стеклянных холодильников-прилавков покоились зловещие полуфабрикаты. Свояк однажды предположил, что учредители рюмочной создали ее специально для диких животных, которые закусывают сырым. Блонов, припомнив эти слова, одобрительно кивнул и не стал закусывать вовсе. Он выпил стакан разбавленной сивухи и вернулся, разнеженный, на улицу. Денег у него оставалось еще достаточно, и Блонов продолжил свое увлекательное путешествие. До следующей аптеки было десять-пятнадцать минут пешего хода. Блонов радовался порученному делу, ему хотелось подвига во имя семьи. Покупка капель, не подкрепленная напитками, едва ли тянула на подвиг, но подкрепившийся уже Блонов воображал себя рыцарем, который ищет Святой Грааль.
Грааль, однако, не давался в руки. Капель в аптеке не оказалось.
Блонов нахмурился и озабоченно выпил пива. Положение осложнялось, он напряг свою память, умственно воссоздавая местную географию. Еще одна аптека размещалась в подземном переходе, что возле метро. Блонов с сомнением потоптался на месте. В переходе — он был совершенно в этом уверен торговали дорогими западными снадобьями. Капель датского короля там не держали отродясь. Но для очистки совести стоило заглянуть и туда, так что Блонов с решительным видом нырнул в подземелье.
Его подозрения подтвердились: капель и микстур в аптеке было до потолка, вот только о датском короле никто не слыхивал и слушать не хотел. Мало того: на доброго, грузного, рассеянного Блонова посмотрели там с высокомерным презрением. Ему захотелось махнуть на все рукой и возвратиться, несолоно хлебавши, пред очи сестры. Кислое дело! Сестру, когда та приходила в гневное состояние, боялись все. Ее даже старались не звать к телефону. Внезапно Блонов вспомнил и хлопнул себя по лбу: он напрочь позабыл про аптеку на канале, а до канала, как известно, рукой подать. Ну, не совсем рукой, не самый ближний свет, но чего не сделаешь для родного племянника!
Поскольку путь предстоял далекий, Блонов навестил одно маленькое кафе. Выйдя оттуда, он решил поехать на трамвае. Ему захотелось сидеть, и трамвай казался наилучшим местом для этого занятия. Потому что если не в трамвае, так на скамейке, где недолго и замерзнуть, а тогда придется снова греться, и рано или поздно он вступит в контакт с кем-нибудь из единомышленников, а это — полная труба.
На счастье Блонова, трамвай подлетел моментально. Он уселся с великим комфортом, подпер кулаком подбородок и стал благожелательно следить за домиками, пролетавшими снаружи. Поездка завершилась до обидного быстро; Блонов бы так, будь его воля, ехал и ехал до самой Японии или Парижа. Но трамвайные пути кончались гораздо ближе. Канал встретил его сырым порывистым ветром, Блонов снова пощупал ежик и пожалел, что вышел без шапки. Но вот и аптека, скорее внутрь, в лекарственное тепло.
— Капли датского короля у вас есть? — спросил он мрачно, не ожидая ничего доброго.
Раз не ожидал, значит, и не будет.
— Сто лет не видели, — улыбнулась полная девушка. — Возьмите "Доктор Мом"!
Блонов покосился на ценник.
— А в других аптеках?
Девушка пожала плечами и назвала два адреса.
— Это далеко? — Блонов поглубже засунул руки в карманы и нахохлился, словно гигантский воробей.
— Остановки три, — последовал ответ.
Блонову не хотелось выходить на улицу, на ветер. Он вспомнил про анальгин.
— Вот анальгину дайте мне, — сказал он сокрушенно. — Одну упаковку.
Девушка кивнула, выложила таблетки на прилавок, взяла десять рублей.
— У меня нет мелочи, — призналась она, порывшись в кассе. — Может, возьмете что-нибудь еще? Пипеток, капель в нос…
Блонов покрутил головой.
— Не, не надо пипеток.
— Возьмите презерватив, — засмеялась девушка.
Блонов вскинул брови: дожили, гондоны на сдачу! Но гадкий чертик, проглоченный в кафе заодно с непонятным напитком, успел шепнуть ему, что надо брать. И Блонов, ответно смеясь, сграбастал презерватив и выкатился обратно на набережную. "Вряд ли капли стоят дороже десятки, — думал он. — Еще и останется. А гондоном я их рассмешу".
Он поднял воротник и заспешил по набережной. Чем дальше он уходил от аптеки, тем менее забавной казалась ему история с сомнительной сдачей. В какой-то момент он чуть не выбросил пакетик в речку, но удержался и обещал себе хранить молчание. В конце концов, вещь нужная, на что-нибудь, да сгодится. Можно, на худой конец, научить племянника: вбухать воды и бросить с балкона.
Район был сволочной, не обеспеченный милыми подвальчиками и погребками. Блонов продрог, его настроение портилось с каждым шагом. Добравшись до первой из указанных девушкой аптек, он замер на пороге и обвел помещение взглядом, слушая внутренний голос. Иногда ему удавалось угадать, повезет или не повезет. Но тут и гадать не пришлось: голос сразу предупредил, что не повезет, и — не повезло. Капель датского короля не было.
У Блонова засосало под ложечкой. Он исподлобья посмотрел на настенные часы и выругался в сердцах: время шло к обеду. Даже если он вернется с победой, выволочки не избежать. Что за доля такая собачья! Будто свет сошелся клином на этих чертовых каплях. Тоже, великое светило посоветовало глупая клуша, пузатая. Покудахтала, поквохтала — и за порог. А люди пусть страдают. Может, и впрямь чего другого купить? Ну, не "Доктора Мом", разумеется, есть же микстуры попроще.
Блонов понимал, что все его доводы не стоят ломаного гроша. Суд будет скор и свиреп. Надо идти. В отчаянии он осмотрелся по сторонам и — о волшебство! — увидел спасительную дверь. Через пять минут, согревшийся и отчасти смирившийся с судьбой, он вновь шагал по мокрым каменным плитам. По счету получалась пятая… или четвертая? нет, пятая аптека. Интересно, сколько их в городе вообще? Вероятно, много.
В пятой аптеке его подкараулило новое фиаско.
"С меня довольно, — подумал Блонов. — И денег осталось мало. Надо же мне еще разок отметиться на углу!»
Он побрел назад, стараясь искусственно возбудить в себе гнев и возмущение невыполнимым заданием. Лучшая защита — нападение. Если дорогая сестрица позволит себе выйти за рамки, он попросту сбежит из дома. Да нет он сбежит оттуда в любом случае! Вот же! Вот мудрое решение! Зайти на секунду, вручить анальгин, собрать пустую посуду и дернуть, заткнув уши, куда подальше. Так он и поступит, черт подери.
Глаза Блонова утратили человеческое выражение и приобрели сходство с линзами робота. Сведя к переносице выцветшие брови, он быстро шел к трамвайной остановке. Он так спешил, что срезал угол, и в результате очутился в примитивном лабиринте коротких переулков. И неожиданно наткнулся на старомодную, добротную дверь красного дерева. Чугунные завитушки обрамляли вывеску, на которой слово «Аптека» было начертано готическим шрифтом.
Разинув рот, Блонов завороженно уставился на витрину. В ней были выставлены предметы, имевшие весьма отдаленное отношение к аптечному делу. Средневековые глобусы, древние ветхие книги, чучела крокодилов и хищных птиц. Пожелтевшие, прохудившиеся полотнища с изображениями циркулей, звезд, планет и бригантин.
Блонов, любивший фантастику, почувствовал, что за дверью его ждут чудеса. Таинственные лавки, полные волшебства, кочевали из романа в роман. С главным героем, стоило ему проникнуть внутрь, обязательно случалось что-то необыкновенное. Поэтому Блонов, не задумываясь, толкнул дверь и удовлетворенно прослушал звон колокольчика: в книжках все писали правильно, и волшебных лавок без колокольчиков не бывает.
В аптеке царил полумрак, что тоже полностью соответствовало представлениям Блонова о чудесном. Пыль, тишина, очертания загадочных предметов, паутина с плесенью. И аптекарь возник подходящий: хитрый дедулька с крючковатым носом, в круглой шапочке, пенсне и жилетке.
— Что угодно молодому человеку? — осведомился дедулька вкрадчивым голосом.
Блонов окинул взглядом прилавок и не нашел там привычных упаковок с дорогими импортными средствами. Напротив: он увидел множество склянок с мутным, выдержанным содержимым.
— Нет ли у вас капель датского короля? Полгорода обошел, и все впустую.
Старикашка изумленно всплеснул руками:
— Так уж и датского короля? Прямо сразу?
Блонов, все больше ощущая себя странником, забредшим в сказочную страну, с достоинством кивнул:
— Чего там откладывать! Выкладывай, старик. Коли есть!
Он даже заговорил по-сказочному — так ему, во всяком случае, казалось.
Аптекарь покачал головой.
— Смелый, храбрый молодой человек! Ну, ничего не поделаешь, придется вам помочь. Раз уж вам понадобились эти капли, вы их получите. Дедушка сделает все, что в его силах.
Блонов, изображая уже не странствующего героя, а неизвестно что, надменно усмехнулся. Он решил не унижаться до ответа.
— Отважный, отважный путешественник, — бормотал дедулька, копаясь в шкафчике.
Рыцарь скрестил на груди руки и принялся нетерпеливо притоптывать ногой.
Аптекарь, наконец, нашарил небольшой пузырек темного, толстого стекла и сдул с него пыль. К горлышку была привязана бумажка с надписью латинскими буквами.
— Благоволите принять из рук ничтожного раба. Подобного псу, на брюхе скулящему…
— Сколько я должен заплатить? — спросил Блонов, неловко вертя пузырек в толстых пальцах.
— Десять рублей пятьдесят копеек, — с готовностью объяснил дедулька. Блонов с неудовольствием поморщился. Он предпочел бы услышать цену в пиастрах или дублонах, но тут же смекнул, что ни тех, ни других у него не водится, и не стал капризничать. Правда, на грешную землю он волей-неволей вернулся и решил, что дома ему лучше помалкивать о своих похождениях. Пришлось отдать десятку, да еще добавить полтинник из личных сбережений.
Старикашка перегнулся через прилавок.
— Осмелюсь спросить у героя, — прошептал он заискивающе, — кому предназначается это снадобье?
— Племяннику, — буркнул Блонов, пряча пузырек в карман.
— Племяннику! — ахнул аптекарь, округляя глаза. — Да-да, славный, прозорливый дядюшка!
Блонов подумал, что пришло время убираться.
— Спасибо, — проговорил он и чертыхнулся, ощутив, как по его физиономии ни к селу, ни к городу расползается глупая улыбка.
— Великая честь, — возразил на это дедулька, склоняясь в поклоне. Пенсне слетело с его переносицы и повисло на цепочке. Пока он его ловил, Блонов, пятясь, добрался до двери и вышел вон. И только что пережитое приключение вдруг подернулось туманной дымкой. Ноги вынесли Блонова к трамвайному кольцу, втолкнули в вагон, и он, ошарашенно глядя перед собой, доехал до точки, откуда выступил в поход тремя часами раньше. Шагнув на землю, он завернул на секундочку в услужливое кафе, где его уже ни о чем не спрашивали, а сразу налили, после чего как-то незаметно оказался дома. Кряхтя, он принялся стаскивать с себя уличную обувь, потерял равновесие и упал на одно колено.
— Ах, скотина, — послышалось у него над головой. Блонов поднял глаза и встретился с пристальным взглядом кобры.
— Че такое-то, — пробулькал он себе под нос, запуская руки в карманы. Спеша оправдаться, он протянул сестре таблетки и пузырек. Та, буквально вырвав покупки, молча удалилась в свою комнату.
"Все под контролем", — заверил Блонов сам себя и вырулил в кухню. Устроился, расставив ноги-столбы, за столом, отхлебнул холодного чаю.
— Мне надо готовиться, — сказал он сестре угрожающим тоном и придвинул поближе томик Шекспира. Сестра издевательски рассмеялась, взяла столовую ложку и оставила Блонова в покое. Тот расслабился. "В самом деле, надо же и почитать", — рассудил он умиротворенно и раскрыл книгу.
"Гамлет, принц датский", — прочел с неохотой Блонов. Он уже читал Гамлета, но это было так давно, что помнил он мало. Вздохнув, стал читать с самого начала.
Входная дверь захлопнулась: сестра, напоив племянника каплями, куда-то сбежала. Отлично, без нее дышится легче. Свояк спал. Блонов погрузился в чтение и скоро, вопреки собственным ожиданиям, увлекся. Его сильно захватил конфликт между Гамлетом и его дядей. Блонов невольно спроецировал прочитанное на свою персону и порадовался, что уж у него-то с племянником отношения лучше некуда.
Но, чем дальше он читал, тем тревожнее ему делалось. Какая-то неуловимая мысль упорно точила его неуклюжую душу. Блонов огляделся, принюхался: ничто нигде не горело, газом не пахло, в дверь не скреблись. Покрутив головой, он засопел и вернулся к книге. Чем дальше он читал, тем больше холодел.
"…Когда я спал в саду, Как то обычно делал пополудни, Мой мирный час твой дядя подстерег С проклятым соком белены в сосудце И тихо мне в преддверия ушей Влил прокажающий настой…""Минуточку, — подумал Блонов. — Влил настой в преддверия ушей. Зачем? " Мысли кружились, дразнясь и меняясь местами: принц датский, король датский, принц датский, король датский. Дядя влил настой и сделался датским королем. Капель датского короля не сыщешь днем с огнем.
Блонов медленно встал и прислушался. В квартире было очень тихо. Необъяснимо тихо. Обильно пропотев, Блонов на цыпочках, не слушающимися ногами двинулся в сторону спальни. Он просто хотел проверить, не сбилось ли у племянника одеяло.
декабрь 1999
Status quo
1
— Мы сначала подумали, что его кто-то напугал, — признался Папкин. — Может быть, даже мы.
— Он вполне нормально рос, — подхватила Мамкин. — Тихий был очень, конечно.
— Ага, — методист со значением поднял палец.
— Нет-нет! — Папкин и Мамкин заговорили вместе. — Тихий, но это было…в допустимых границах, — закончил Папкин, а Мамкин умолкла, покрывшись сырыми пятнами.
— Я понимаю, — кивнул методист. — Я не говорю, что он родился с аутизмом. Я говорю про общий фон…Были, вероятно, какие-то предпосылки…Вот вы говорите: тихий…
— Ну, да, — нехотя согласился Папкин, которому было неприятно признать, что да, какие-то предпосылки были, но он их проглядел.
— А чем он занимался, когда был тихим? От этого вопроса, сформулированного сугубо профессионально, Мамкин заметно смешалась.
— То есть — как?
— Ну, что он делал? Вот его привели из садика, раздели… а он?
Папкин пожал плечами:
— Так… в основном, сидел. В уголке или на диване. Телевизор смотрел. Книжки листал.
— Какие книжки?
— Не беспокойтесь, самые обычные, — Мамкин промокнула глаза. — Господи, какие же могут быть книжки. Бармалей, Маршак, отважные пузырьки…
— Что-что? — методист вскинул брови. — Что за пузырьки?
— Эти, с которыми сейчас все носятся, — махнул рукой Папкин. — Глупость, но, по-моему, безобидная. Пузырьки на планете квадратиков, Пузырьки и космические кубики… Пузырьки и хищные шарики Альтаира…
— Столько всего, — вздохнул методист и покачал головой. — Не в курсе, упустил. Всего не охватишь. Персонажи размножаются, как хомяки. Бог с ними, что он еще делал? Вы говорили про телевизор.
— Мы ему ничего такого не разрешали, — Мамкин, рассказывая, заново переживала и заново открывала предысторию. Собственные слова вылетали, словно чужие и превращались в страшные пузырьки, прилетевшие с планеты квадратиков. — Никаких ужасов. Он, конечно, смотрел рекламу, но ни разу не испугался… Детские фильмы, мультики, опять же пузырьки — сериал. Страшные новости выключали. В общем, мы следили…
— Понятно, — методист рисовал в блокноте геометрические фигуры. Первым шел круг, заключенный в квадрат; второй квадрат превращал первый в восьмиугольник, который методист обвел новым кругом. Повисла тишина.
— Продолжайте, я слушаю.
Папкин развел руками:
— Собственно, все… Он становился все тише и тише. В саду ни с кем не играл, постоянно один… Что-то строил из кубиков и колец. А дома сядет — и целыми вечерами рисует какие-то конструкции.
— Например? — Да вот вроде ваших, — Папкин кивнул на блокнот методиста.
— Даже так? Замечательно, — усмехнулся тот. — Вы знаете, что это такое? Это мандала. Или, если можно так выразиться, мандалоподобные фигуры. Когда сознание отпускает вожжи и начинаешь бездумно водить рукой, рисуя все, что ей вздумается, картинка может многое рассказать… Мандала — это ядро личности, Бог, если хотите. Это нечто цельное, законченное, неделимое, сидящее глубоко внутри нас. И вот оно рвется наружу, дает нам знак, желает быть осознанным…
Папкин мрачно рассматривал бедную комнатку, маленькую кушетку, облезлый стол. В коридоре гремела ведром уборщица, за окном кто-то рычал и швырял ящики. Он поежился. Его предупреждали. Друг дома, кандидат философских наук, долго отговаривал его, убеждал не ходить к этому типу. "Проклятые позитивисты! — ругался философ. — Эти хищные твари подобрались к ядру человеческой личности, божественному, и ходят вокруг — то лизнут, то понюхают, и как бы уважают, но в глазах-то — голод, алчность бездонная! Лиса и виноград, мартышка и очки!"
А Мамкин вдруг вспомнила:
— Он как-то раз пожаловался, что кто-то рассказал ему про красную руку!
— Страшилку? — понимающе уточнил методист.
— Да. Из этих. Там еще простыня, гробик с крыльями, черная занавеска. Ну, вы знаете, в лагерях ими все бредили. В пионерских. Я думала, что все уже в прошлом, и даже поразилась — надо же, какая живучая чушь.
— Когда он вам пожаловался?
— Я точно не помню. Наверно, где-то год назад. Господи, после этого-то с ним и началось! — сообразила Мамкин.
Методист помолчал с многозначительным торжеством. — Сколько ему сейчас — пять?
— Пять и три месяца.
— Где он сейчас?
— Ждет в коридоре. С бабушкой.
— Вот как? — методист поднял брови. — И бабушку взяли?
— Он с нами боялся, — объяснил Папкин.
— Ага. Ну, к этому мы еще вернемся. Давайте пока про красную руку. Что она делала, эта рука?
Папкин нервно рассмеялся.
— Вы не поверите, но она тоже рисовала фигуры, только невидимые, в воздухе.
— Похожие на мандалу? — вопрос был полуутвердительным.
— Я не уверен, но вроде бы да.
— Он как-нибудь объяснил вам, что это значит?
— Нет, он ничего не объяснял, — сказала Мамкин. — Он только рассказал, что в садике ему говорили про красную руку, и теперь она ему снится. Или появляется прямо перед самым сном, чертит круги в воздухе
— Уже что-то, — методист отодвинул блокнот и впился в Мамкин взглядом, давая понять, что вступление закончилось, и начинается серьезный допрос. — Роды протекали нормально?
— Более или менее, — испуганно пробормотала Мамкин.
— Вам делали кесарево сечение?
— Боже упаси, нет. — Накладывали щипцы?
— Нет, все было нормально.
— Почему же тогда "более или менее"?
— Я с ним немного не доходила, — призналась Мамкин. — Недели три. На меня вдруг залаяла собака, и сразу начались роды. То есть схватки.
Методист углубился в детали. Испуганный Папкин завороженно слушал. Ему открывались подробности, о которых он не имел ни малейшего представления. Вопросы методиста становились все более специальными, и временами Папкин вообще не понимал, о чем идет речь.
Мамкин сидела, словно загипнотизированная, и отвечала быстро и четко. Голос у нее стал деревянным, всем своим видом она выказывала абсолютное доверие к человеку, который настолько глубоко знает предмет.
"Силен!" — подумал Папкин, почесывая в затылке.
— Ну что же, в общих чертах я понял, — методист, наконец, откинулся в креслице и задумчиво постучал по столу шариковой ручкой. — Давайте сюда виновника переполоха. Как вы его называете?
— Толик, — ответил Папкин, вставая.
— Нет, я имею в виду другое имя. Домашнее, ласкательное.
— Свин, — Папкин потупился.
— Неужели? Почему же — «Свин»?
— Вырастет из сына свин, — пробормотал Папкин, краснея, и тут же дерзко пожал плечами: мое, дескать, дело.
— Зомбируете ребенка, — вздохнул методист. — Программу закладываете.
— Мы перестанем, — вскинулась Мамкин.
— Нет уж, продолжайте, — возразил тот. — Никаких резких телодвижений. Никаких поспешных вмешательств. Позовите его сюда.
И выставил на стол резинового зайца.
2
В дверь просунулось встревоженное сдобное лицо; затем старушечья рука осторожно втолкнула свое сокровище в кабинет и сразу исчезла.
— Здравствуй, — приветливо улыбнулся методист и плавно развернул ладонь. — Садись на стульчик.
Могло показаться, что это намек, и стульчик — у него в кулаке, но ладонь была пуста.
— Садись! — Мамкин ухитрилась взять тон, сочетавший в себе яростный шепот и елейную просьбу.
Стул слабо скрипнул.
— Отлично! — методист опять улыбнулся. — А говорят, ты — Свин. Какой же ты Свин?
Толик озабоченно разглядывал пол и крутил себе пальцы.
— Как тебя зовут? — методист заговорил деловым тоном. Как же иначе, мол, могут беседовать два взрослых человека.
Толик уставился в угол и оставил вопрос без внимания.
— А почему ты молчишь? — осведомился методист.
— Потому что не хочу с тобой разговаривать, — четко и ровно объяснил Толик. Какое-то мгновение он глядел методисту в глаза, но тут же вновь отвернулся и равнодушно воззрился на ботинки Папкина. Те приросли к стульям. Это были первые слова за долгие, долгие месяцы.
— Разве я чем-то тебя обидел?
Толик досадливо вздохнул. Методист подождал и, ничего не дождавшись, зашел с другой стороны: — Мама и папа боятся, что ты заболел. Мне же кажется, что ты совершенно здоров. А сам ты как думаешь?
Ответа не последовало.
— Ты всегда такой молчун?
Лицо Толика слегка скривилось, как будто он что-то искал языком во рту. Взгляд переместился на потолок.
— Хорошо, — методист поднял руки, сдаваясь.
— Если не хочешь говорить, давай немного поиграем. И пойдешь домой. По рукам?
Толик равнодушно посмотрел на него.
— Ну, скажи хоть что-нибудь, — не выдержала Мамкин, теребя сумку. — Язык проглотил?
Толик сполз со стула, перебрался в угол и присел там на корточки.
Папкин крякнул.
— Ничего-ничего, — успокоил его методист и чуть повысил голос, чтобы Толику было слышно: — Что у тебя там, в углу? Крепость? Или гнездо?
Тот чертил пальцем по полу. Папкин, сориентировавшись, присмотрелся: круги.
— А пол-то грязный, — заметил методист. — Что ты рисуешь?
— Не твое дело, — сказал Толик.
Мамкин всплеснула руками и раскрыла рот, намереваясь разразиться упреками, но ее вовремя остановили.
— Не будем его неволить, — уютно мурлыкнул методист. — Толик, ступай к бабушке. Пусть еще посидит в коридоре, — обратился он к родителям, когда Толик встал и, не попрощавшись, вышел.
— Невероятно, — пролепетала Мамкин. — Будто подменили. Он же молчал. И только с вами…
— Вероятно, красная рука, — отозвался методист совершенно серьезно. — Ну что ж, позвольте поделиться первым впечатлением. Насчет аутизма не знаю, не будем пороть горячку. Но поведение явно неадекватное. Я постараюсь справиться за сеанс, но ничего пока не обещаю. Может быть, понадобится прийти еще раз.
— Еще раз? — переспросил Папкин, не веря ушам. — Вы хотите сказать, что сумеете вылечить его за два сеанса?
Методист только улыбался, наслаждаясь своим многозначительным молчанием.
— Взгляните, — сказал он, наконец, и указал на стену.
Папкин шумно вздохнул.
— Да, грамот много, ничего не скажешь, — сказал он осторожно. — Не подумайте, что мы вам не доверяем, но согласитесь, что два сеанса…
— Один, — поправил его методист. — Это не грамоты. Это дипломы и сертификаты.
— Извините, — быстро пробормотала Мамкин и дернула Папкина за рукав.
— Прошу не перебивать. Среди них — диплом Лондонского Открытого Центра по Первичной Интеграции. Подписан самим Уильямом Свартли. Сертификат по специализации в Соматотропной Терапии за подписью Грофа. Ну, здесь просто фото, мы с ним же, в Калифорнийском Университете. А вот диплом, выданный Институтом Психосинтеза. К сожалению, я не был лично знаком с Роберто Ассаджоли, но зато знаю многих его учеников. Вот еще диплом, выдан самим Гендлиным, который лично обучал меня Фокусированию. Вот выпускная фотография нашей группы, где мы сняты по окончании курса пост-райхианской терапии. Это диплом, подписанный Каролиной Бич… Это уже феноменология — ну, там Гуссерль, Мерло-Понти, — методист небрежно махнул рукой. — А здесь — сертификат по астрологическому консультированию… Председатель комиссии — Кристина Валентайн…
Папкин и Мамкин сжались, как севшие носки.
— Я не похваляюсь, — методист заговорил в сочувственной, снисходительной манере. — Я просто стараюсь до вас донести, что современная наука способна проследить душевное расстройство до Адама — в буквальном смысле. Мы восстановим исходное положение, сделаем статус кво. Эта рука… мы выясним, чья она, и чего хочет. Впрочем, скорее всего, разбираться в этом не придется. Она просто исчезнет — втянется, отсохнет, развалится, что угодно. Год — пустяк перед лицом тысячелетий.
— Я вот и думаю — год, — Папкин неуверенно почесал лоснящийся нос. — Может, не стоит до Адама?
— Как получится, — пожал плечами методист. — Не волнуйтесь: это, естественно, стоит денег, но цена разумная.
Мамкин помялась.
— Какая? — спросила она подозрительно и в то же время обреченно.
Методист назвал. Папкин ошеломленно свистнул.
— Не надо здесь свистеть, — мягко предупредил тот.
— Простите… Я просто… не ожидал.
— А вы чего хотели? — методист положил руки на стол и подался вперед. — Между прочим, мои действия не вполне законны.
— Это как же?
— А вот как: вашего ребенка нужно сначала обследовать. В государственном учреждении. Улавливаете? Это — если работать по правилам. Официально. Что, если у него и вправду серьезная патология? Меня могут поджарить на медленном огне за то, что влез, не разбираясь.
Заметив смятение на лицах Папкина и Мамкин, методист понял, что перегнул палку.
— Но я-то, конечно, разберусь. По-своему. Эти дипломы и бумажки хороши там! — методист с горечью сделал неопределенный жест. — А в нашей стране они пока еще не имеют достаточного веса. Однако это не значит, что мои методы неэффективны. Как вы думаете, например, сколько нужно времени, чтобы установить с вашим Толиком контакт?
— Откуда же нам знать, — в ответе Папкина слышалось сомнение.
— Я вам подскажу: очень много. Вы сами видели, как он на меня отреагировал. Но я спокоен, потому что у меня есть нечто такое, чего вы, разумеется, не сыщете ни в одном психдиспансере. Вот эта, скажем, дудочка.
И он извлек из ящика письменного стола черную с красным дудочку.
— Стоит мне взять несколько нот, и полдела сделано. Вы слышали о Крысолове, который увел всех детей из города? Эта сказка основана на реальном факте.
— Можно посмотреть? — заинтересовался Папкин. — Пожалуйста, смотрите.
Папкин осторожно погладил дудочку и передал ее Мамкин. Та взяла ее, как змею.
— А это не опасно? — Ни капельки. Сродни гипнозу, но гипноз я применить не могу. При всех моих сомнениях я не могу окончательно исключить у Толика тяжелое психическое расстройство. Гипноз в этом случае категорически противопоказан. Он может решить, что некие силы воздействуют на него извне… выстроит бредовую, и в то же время вполне логичную легенду, которая обрастет всяким разным — и готово. Ваш сын — законченный инвалид. Но слушание дудочки пока еще никому не повредило.
Мамкин решительно вздохнула:
— Мы в этом ничего не понимаем, доктор. Поступайте, как знаете.
— Я не доктор, — покачал головой методист. — Я — фасилитатор.
— Простите?
— Это английское слово. Своего рода универсальный помощник, облегчитель и развиватель.
— Ах, так.
— Именно. Это в порядке вещей. Раз нет докторов, способных хорошенько дать по красным рукам, за дело берется фасилитатор.
3
Толик жевал невероятный бутерброд и смотрел спортивную передачу.
Мамкин вошла на цыпочках. Оценив обстановку, вернулась в кухню; Папкин положил папиросу и нетерпеливо дернул подбородком.
— Смотрит телевизор, — прошептала сияющая Мамкин.
Не говоря ни слова, Папкин снова схватил папиросу и вытянул добрую треть в одну затяжку.
— Подождем. Подождем, — пробормотал он упрямо.
— В садике сказали, что он играл, — Мамкин уже поверила в свершившееся чудо.
— Ты уже говорила.
— И снова скажу. А знаешь, во что? Давай, говорит, играть, будто мне три года, а тебя еще вообще нет.
Не выдержав, Папкин вышел в коридор, подкрался к двери, заглянул.
— Четыре минуты до конца второго раунда, — сказали в комнате.
— Свин! — позвал Папкин.
— Чего? — Толик сердито повернулся.
— Тебе хоккей нравится? — Ничего, — Толик погладил себя по животу и развалился на диване.
Папкин не нашелся, что бы еще у него спросить, попятился, вернулся к Мамкин.
— Он отвечает, — молвил он деревянным голосом. — Он на меня реагирует.
— Уй! — Мамкин тихо взвизгнула и бросилась ему на шею.
Папкин взволнованно налил себе полную кружку крепчайшего кофе, тут же про нее забыл и стал расхаживать по кухне, бесцельно подбирая и ставя на место разные предметы.
Мамкин схватила телефонную трубку, набрала номер. Прозрачные кнопочки светились подводным светом.
— Я вас слушаю, — послышался голос методиста.
— Добрый вечер, — сказала Мамкин и взволнованно назвалась. — Мы вам звоним… Мы хотим просто сказать, что… Что все у нас лучше и лучше!
— Так и должно быть, — уверенно ответил методист. — Все было проще, чем я ожидал.
Мамкин, хотя она уже звонила методисту и подробно рассказывала о радостных сдвигах в состоянии Толика, сбивчиво повторила сегодняшнюю сводку.
— Все замечательно, — терпеливо ответил тот. — Он что-то положил в свою красную руку… когда с ней встретился… Не знаю, что, это его личный секрет. И вот она убралась. Извините. Ко мне пришел посетитель. Позвоните утром, если возникнут какие-нибудь вопросы.
Последнее условие он подчеркнул.
— Спасибо! — Мамкин уже отключилась, но все продолжала благодарить: — Спасибо… спасибо…
— Пап! Мам! — до них донесся капризный призыв Толика. — Почините кнопку!
Папкин и Мамкин бросились в комнату. Экран был заполнен шуршащим «снегом», а Толик с досадой вертел в руках пульт.
— Дай-ка мне, Свин, — Папкин отобрал штуковину и вернул изображение на место. Толик, облегченно вздохнув, оседлал подушку и начал впитывать рекламу «имодиума».
Охотник целился в огромного медведя, но тот лишь громко хохотал и доставал откуда-то из-за спины пластинку таблеток. "Медвежья болезнь? Забудьте! Примите имодиум!"
Толик восторженно захохотал и задрыгал ногами.
— А-а-а! — вопил он, показывая пальцем на экран. — У него живот прошел — правда, Папкин?
Вместо Папкина улыбнулась Мамкин.
— Ты только сейчас понял? Этого мишку уже месяц показывают.
— Ты что! Я его никогда не видел!
— Да не мог ты не видеть. Сидел в углу, телевизор работал, и мишка через каждые полчаса.
— Нет, не видел!
— Отстань от него, — шепнул Папкин. — Может быть, он не воспринимал. Не спорь.
Мамкин отправилась делать оладушки.
— Дядя доктор передает тебе привет, — осторожно сообщил Папкин. — Он спрашивал, как твои дела.
— Какой дядя доктор? — рассеянно спросил Толик. Он уже отвлекся от экрана и сосредоточенно рассматривал свой нательный крестик.
— Ну, как — какой? Тот, к которому мы ходили.
— Не помню никакого дяди доктора, — пробормотал Толик.
Папкин присел на краешек тахты.
— Ты не помнишь доктора?
— Не-а, — тот продолжал вертеть крестик. — "Спа-си и со-хра-ни", — прочитал он по складам. — Здесь написано "спаси и сохрани", а почему — я не знаю, такая надпись, наверно, так надо…
Весело болтая про крестик, Толик уже не обращался к Папкину и беседовал сам с собой. Папкин поймал себя на мысли, что знание смысла надписи должно представляться великим благом, но он почему-то был рад неведению сына и хотел, чтобы оно продлилось как можно дольше.
Толик, наконец, оставил крестик в покое и потянулся за пультом.
Папкин вернулся на кухню. Там он озабоченно хлебнул чуть теплого кофе и вперился взглядом в спину Мамкин, которая помешивала в миске деревянной ложкой.
— Мамочка! — окликнул ее Папкин. — Он доктора не помнит.
— Да ты что? — Мамкин изумленно обернулась.
— Он тебя дразнит.
— Не похоже.
— Совсем-совсем не помнит?
— Я не уточнял, — огрызнулся Папкин с раздражением. — Какая разница? Хоть бы и не совсем.
— Может быть, это входило в процедуру, — догадалась Мамкин и снова взялась за ложку. — Ему так велели. Загипнотизировали — и приказали все забыть.
— Он говорил, что гипноза не будет.
— Ну, что-то другое было. Позвони и спроси, если это тебя так беспокоит.
— Да нет, — неуверенно сказал Папкин. — Оно и к лучшему. Не то воспоминание, за которое стоит цепляться. Он включил приемник, но слушать не стал. Подсел к столу, забарабанил пальцами по скатерти.
4
— Я должна вам сказать, что у Толика, по-моему, еще остались проблемы, — сказала воспитательница.
Мамкин встревоженно посмотрела на Толика, который прыгал вокруг башни из огромных разноцветных кубиков. Американская фраза перенесла ее в реальность американских же фильмов про серьезные проблемы, решение которых требует особого мужества. Например, у маленького героя обнаруживается лейкемия или СПИД, однако общими стараниями ему все же удается реализовать себя, и победитель безмятежно, с угасающей улыбкой на губах, отбывает в мир иной.
— Он, конечно, изменился к лучшему, — заспешила воспитательница. — Но у него что-то с памятью.
— С памятью, — упавшим голосом повторила Мамкин.
— Две недели назад мы учили стихотворение про зяблика. Он выучил, с выражением прочитал. А сегодня не помнит ни строчки. И утверждает, что вообще никогда не учил этот стих.
— Мы с ним поговорим, — у Мамкин задрожали губы. — Толик! Толик! Пойдем, сынуля, домой, собирайся.
Толик помчался в раздевалку.
На улице он оживленно рассказывал про какую-то черепаху. Мамкин покорно кивала, удивляясь, что ватные ноги каким-то чудом ей служат. С рекламного щита на нее смотрел недобрый Дед Мороз, похожий на дежурного педиатра.
— А что там с зябликом? — спросила Мамкин, когда Толик на миг замолчал, чтобы проглотить слюну.
— Ничего! — легко отозвался Толик. — Все она выдумывает. Я таких стихов не знаю! Ой, что это там, смотри!
Он потащил ее за руку. Мамкин проследила за его взглядом и поняла, что речь шла об открывшемся на днях зоомагазине. Витрина была расписана аляповатыми рыбками и кисками. Ступеньки уходили в подвал.
— Мы же тут были. Тут зверюшек продают, корм для них, клетки…
— Нет, не были! Я хочу посмотреть!
— Да как же не были? Ты хомячка выпрашивал…
— Знаешь, что? — Толик приостановился и топнул ногой. — Если желаешь знать, я вообще никогда никаких хомячков не видал!
Мамкин не сразу поняла, что он такое говорит. Секундой позже она решила, что сейчас потеряет сознание. Упадет без чувств, а Толик будет крутиться рядом. Прохожие будут бить ее по щекам, расстегнут сумку, вынут паспорт… Она вспомнила, что паспорт остался дома.
— Толик, подожди. Сейчас мы туда сходим. Скажи мне сначала: где мы живем?
— Адрес, что ли? — с грубоватой пренебрежительностью уточнил Толик.
— Да. Адрес. Улицу, дом, квартиру.
Толик назвал, и Мамкин стало немного легче.
Но тут она встрепенулась снова:
— А почему ты шепелявишь?
— Потому что я не умею говорить «сэ»!
— Как же не умеешь? Тебя научили, ты все выговаривал правильно!
— Ничему меня не учили! — Здесь Толик расплакался. — Я хочу посмотреть хомячка! Что ты ко мне пристаешь со своими дурацкими вопросами!
Он шепелявил безбожно, что твой англичанин.
Мамкин прислушалась. Помимо «с», пропало недавно поставленное «ш».
"Что же это такое?" — подумала она, безучастно спускаясь в подвальчик.
В вонючей клетке суетились белые и рыжие хомячки, их было штук десять-двенадцать.
— Купи! — потребовал Толик, заранее уверенный в отказе и потому сверх меры хамоватый.
— У меня нет денег, — сказала Мамкин. — В другой раз.
— Тогда рыбок.
— Пойдем отсюда. У нас нет аквариума.
— Ну и что! Я посажу их в банку!
— А ну, шагай! — Мамкин забылась и рявкнула.
Толик в ярости пнул какую-то приступочку.
— Пойдем, сынулечка, — Мамкин потянула его наверх. — Поиграем в песочек. Нам ведь вчера привезли песочек. В песочницу. Самосвал. Дядя приехал и насыпал.
— Нет! Там нет песочка!
Там был песочек. Мамкин беспомощно прислонилась к стене. Она с ужасом смотрела на Толика, но видела одних хомячков.
5
— Нам очень нужно вас увидеть! — кричала Мамкин в трубку.
Папкин кружил по кухне, сжимая в зубах потухшую папиросу.
— Пап! — позвали из комнаты. — Пап, иди сюда! У меня тут что-то не получается!
— Успокойтесь, — сдержанно ответил методист.
— Что случилось?
— Он все забывает! Одно вылечили, а другое сделали!
— Я не лечу… — затянул свою песню упрямый методист. — Я — фаси…
— Верните, как было!
— Я не могу. Вернуть. И разговаривать. Извините, но я переезжаю. Ваш телефон у меня есть, я с вами свяжусь.
— Подождите, подождите…
Папкин остановился:
— Дай я!
— Он отключился, — Мамкин села на табурет. — Он умывает руки.
— Ну, пап! — Толик перешел на визг. — Па-а-а-а-ап! Па-а-а-а-ап!..
— Господи, иду, — Папкин быстро вышел из кухни. Мамкин сидела, как изваяние.
Толик встретил Папкина с коробкой в руках. Детали конструктора были свалены в кучу, на полу накренилось жалкое, недостроенное сооружение.
Папкин присел на корточки:
— Что, никак?
— Ну, да. Помоги.
— Давай, — Папкин вздохнул, уселся на пол и запустил руку в коробку. Вскоре он увлекся. Толик отошел от дел и придирчиво следил за строительством.
Папкин ставил крышу, когда Мамкин снялась с табурета и присоединилась к ним.
Она, конечно, сразу усмотрела неправильность, на которую Папкин по мужскому недомыслию не обратил внимания. Но к конструктору это не имело никакого отношения.
— А что это у тебя за тапки? — спросила она подозрительно. — Где ты их откопал?
— В кладовке, — объяснил Толик с досадой. — Нельзя, что ли?
— Да можно. Но они же тебе давно малы!
— А вот и нет! — Толик с торжеством покрутил ногой. — В самый раз.
Старые, драные тапки пришлись ему впору.
— Сынуля, пойдем-ка со мной, — Мамкин взяла Толика за руку. — На минуточку.
— Пап, ты не напорти! — предупредил Толик и вышел с ней в коридор.
Мамкин поставила его к косяку.
— Измеряться будем? — спросил Толик.
— Да. Мы давно не измерялись.
Но никакие измерения не понадобились. И так было видно, что Толик уменьшился на добрых три-четыре сантиметра.
А ночью надул в постель. В последний раз он описался полтора года назад.
6
— Анализы у него в порядке, — сказали в поликлинике. И в умном институте. — Зачем вы так нервничаете? В прошлый раз, когда вы его измеряли, он схитрил, встал на цыпочки.
— Он, конечно, немного отстает в развитии, — добавили там же. — Но он нагонит. Такое случается.
7
Мамкин перебирала фотографии.
— Вот, — она сунула Папкину снимок. — Вот второй. Вот третий.
— Да, — сказал Папкин, всмотревшись. Снимки были сделаны, когда Толику исполнилось три года. Но сегодняшний Толик ничем не отличался от тогдашнего.
— Свин, — позвал сына убитый Папкин. — Посмотри сюда. Узнаешь?
— Узнаю, — Свин радостно заулыбался. — Это мы на горке. А это я где?
— За городом.
— За каким загородом?
— Покажи мне рот, — потребовала Мамкин.
Толик повиновался и даже высунул язык:
— Э-э-э-э!
— Язык убери. Ты видишь?
— Что там? — с горьким спокойствием спросил Папкин.
— Зуб на месте. Тот, который выпал. Он снова тут.
— Не бойся, сынуля, — встрепенулась Мамкин. — Мы не пойдем к зубному доктору.
— А почему? — в вопросе Толика не было ни страха, ни облегчения.
К зубному врачу он впервые попал в возрасте четырех лет. Непонятности с зубами уже не связывались в его сознании с креслами, сверлами и клещами.
Мамкин смахнула фотографии в коробку, встала и потянула Папкина за рукав.
— На пару слов. Папкин тоже встал и чуть качнулся. От него разило, как от канистры со спиртом.
— Хоть двадцать две пары.
— Возьми себя в руки, — Мамкин вывела его в коридор. — Как по-твоему, чем это все закончится?
— Он исчезнет, — Папкин трагически осклабился. — Его утащит красная рука.
— Я это понимаю. Как он исчезнет?
Папкин задумался.
— Как? Пшик — и нету.
Мамкин закрыла лицо руками. Из-под ладоней послышалось отрывистое взрыкивание, мало чем напоминавшее плач.
— Потом и я пшикнусь, — сказал Папкин. — Достану веревку, подставлю табуретку.
— Заткнись, сволочь! — простонала Мамкин. — Мы положим его в больницу.
— Положим, — не стал спорить Папкин.
Мамкин размахнулась и отвесила ему оплеуху. Папкин схватился за ухо и вытаращил глаза. Он стоял и раскачивался. Мамкин замахнулась снова.
…Толик разглядывал азбуку. Он перелистывал страницы и сосредоточенно мычал под нос знакомые буквы.
Детали конструктора были свалены в коробку, коробка — задвинута в угол. Толик больше не интересовался конструктором.
Рядом с азбукой сидел тряпочный медведь и тоже учился.
— Пойми простую вещь, — голос Мамкин был ровен и бесцветен. — Все произойдет здесь, дома. Никто не даст мне направления в больницу с такими жалобами.
— Ты же только что собиралась его пристроить, — Папкин ничего не понял и остановился на полпути к бару, с занесенной ногой.
— Я о другом, — пробормотала Мамкин. — Позвони Лыковым, попроси у них кроватку.
— Не спеши, не надо гнать гусей…
— Позвони, — упрямо повторила Мамкин. — Скажи, что… что это ненадолго.
— Завтра, — буркнул Папкин и опустил ногу. Все это время он держался за стенку.
— Дай мне руку, — потребовала Мамкин. Тот послушно протянул ладонь. Мамкин взяла ее и приложила к своей груди.
— Отстань, — поморщился Папкин. — Не до того, тошно.
— Идиот, — она покачала головой. — Потрогай.
— Ну, потрогал. Что дальше?
— Набухла, что. Чувствуешь?
Папкин с неожиданной брезгливостью помял грудь двумя пальцами.
— Мерин, — сказала Мамкин уничтожающе. — Не помнишь, какая у жены сиська.
— Тебе мерещится, — огрызнулся Папкин. — Пустишь ты меня, или нет?
— Успеешь. Сначала позвони Лыковым. И… попроси у них какую-нибудь одежду. Мы же все раздали.
— Дай, я пройду!
— Успеешь, тебе сказано. Я забрала его из сада. С ним уже никто не общается. Воспитатели его сторонятся, как чумы.
— Бери отпуск, сиди с ним…
— Я уже взяла. Но не отпуск. Я ушла с работы. Погоди, запойная скотина, скоро до тебя дойдет.
Это подействовало. Папкин снова остановился.
— Что ты мелешь! Рехнулась? — А что мне остается? Не могу же я появиться на службе в таком виде.
— Да в каком-таком виде? О чем ты?
— Увидишь. Немного осталось.
— Я найду эту суку с дудочкой, — Папкин сжал кулаки. — Этого долбаного колдуна. Я засуну ему дудочку в…
— Плюнь на него. Он сам перетрусил и сбежал.
— Неважно! Разыщу экстрасенса, бабку! Его у меня наизнанку выворотит! И Свина расколдуют!
— Позвони Лыковым, — устало повторила Мамкин и скрылась в спальне.
Папкин отпер дверцу бара, наполнил стакан.
— Дай мне, — попросил Толик. — Я хочу соку.
— Это не сок. Тебе нельзя.
— А что это?
— Транквилизатор.
— Тан…кизатол, — повторил Толик удовлетворенно.
8
Папкин стоял перед раковиной и охлаждал бутылочку с кипяченым молоком.
Из спальни доносилось требовательное кваканье.
На столе стояло блюдце с тертым яблоком. Из рациона Толика постепенно исключались взрослые продукты — в той же последовательности, в какой некогда добавлялись, только наоборот.
Горлышко бутылки плотно облегала толстая соска.
У Папкина дрожали руки. Ему казалось, что в квартире поселилось привидение.
Он взвесил в ладони бутылочку, гадая, достаточно ли она тяжела, чтобы проломить пятимесячную голову.
Его передернуло. Конечно, он не сможет этого сделать. И яду не сможет подсыпать.
Когда он вошел в комнату, Мамкин уже держала Свина на руках. Свин корчил рожи, беспорядочно взмахивал ручками, хныкал.
— Я напрасно уволилась, — Мамкин истерично хихикнула. — На все про все хватило бы отпуска. Он завтра исчезнет.
Папкин передал ей бутылочку.
Толик нахмурился, зачмокал; Мамкин приподняла донышко пальцем, чтобы молоко закачивалось быстрее.
Папкин отвернулся.
— Нет, ты смотри, — пропела Мамкин, и в ее пении было больше истерики, чем в смехе. — Это твоя работа. Ты нашел фасилитатора.
— Я найду его снова, — в сотый раз пообещал Папкин.
— Ищи сколько влезет. Скоро ты будешь свободен. Не надо ходить в садик, нянчиться…
— Заткнулась бы ты.
— Сука.
Папкин сжал кулаки. Мамкин довольно улыбнулась.
Толик, прощально чавкая, отвалился от бутылочки. Мамкин машинально оценила, сколько он выпил.
— Умница, — похвалила она: тоже автоматически. — Ложись, отдыхай.
Папкин ущипнул себя за руку. Он много раз читал, что так полагается делать в различных сомнительных ситуациях. В момент щипка он некоторым образом следил за собой со стороны.
"Что я ерундой занимаюсь?"
Он пригляделся к стенам, углам, затененным нишам. Ему казалось, что он сумеет уловить нечто — движение воздуха, вибрацию, скользкую тень. Где-то прячется живой насос. Иначе куда все девается?
— Сходи в аптеку, — приказала Мамкин, поправлявшая Толику одеяло. — Купи побольше ваты, бинтов. Что-нибудь от боли, но не анальгин, покрепче. Йод у нас есть.
— Что это ты надумала?
— Я надумала? Это ты не додумал. Нам гарантировали статус кво.
— Сам знаю, не глупея тебя. Он не уточнил, на какой момент.
— Узнаешь в ближайшем будущем.
— Меня смущает слово «будущее».
— Тебя ничего не смущает. Водку жрешь, сволочь, с утра до вечера, а я крутись.
9
Папкин метнулся к окну. Мамкин так орала, что он боялся свидетелей с улицы. Действительно, под окнами остановились две чинные дамы. Какая-то часть Папкина, назвавшего про себя их дамами, привычно позлорадствовала: определение было формальным, поверхностным.
— Помоги же ему! — прохрипела Мамкин.
Папкин не шевельнулся.
— Расслабься, — процедил он ледяным голосом. — Он справится, можешь не волноваться. Этот не пропадет.
Он продолжал смотреть в окно. За спиной раздавалось настойчивое хлюпанье; Мамкин взрыкивала, то и дело срываясь на пронзительный визг.
Папкин взглянул лишь однажды и больше не пытался. Он успел заметить половину Толика, который отталкивался ручками и забирался в окровавленную Мамкин. Толик молчал, глаза его были крепко зажмурены. Он был мокрый, фиолетового цвета, весь в складках.
— Подтолкни же, — взывала Мамкин. — Сейчас голова пойдет!
Папкин молчал.
Толик сделал отчаянный рывок. Головка по уши втянулась в промежность. Кожа Мамкин натянулась и лопнула. Не глядя, та протянула руку и принялась пальцами уминать осклизлое темечко.
— Все? — осведомился Папкин. К двум дурам подошла третья; все трое с любопытством поглядывали на окно, в котором торчал окаменевший Папкин.
— Ай! Ай! — закричала Мамкин.
Тряпки и простыни внезапно намокли. И это потрясло ее больше всего прочего: воды. Их не было в ней, и не было нигде, и вот они хлынули из ниоткуда, пропитав материю. Сейчас они всосутся, но как им всосаться, когда…
— Смотри! Смотри! Смотри! — Мамкин, судя по странной окраске воплей, сошла с ума.
Папкин не выдержал и медленно повернулся. Он, наконец, увидел то, чего так долго искал. Простыни сами собой свернулись в жгут. Один его конец ткнулся в Мамкин, по жгуту пробежала волна. Ткань начала отжиматься; Мамкин принялась ритмично двигать тазом, усваивая влагу.
Огромный живот шевелился, Толик осваивался.
Кровавые пятна бледнели и испарялись.
Мамкин кряхтела.
Потом Папкин понял, что она молчит, а кряхтение продолжается.
10
— Да, привет, — сказал Папкин в трубку. — Нет, извини. Давай в другой раз. У нас тут мелкие проблемы, — он покосился на Мамкин живот.
— Дня через три, — шепотом подсказала Мамкин. — Тогда уже будет недель четырнадцать, не видно.
На ней было просторное ситцевое платье. Мамкин сидела с зеленым лицом и через каждые полчаса бегала в уборную: токсикоз. Ее так выворачивало, что Папкин морщился.
— Аборт уже поздно, — оправдывалась она.
— Еще рано, — поправлял ее Папкин.
К ним обоим, как это ни странно, вернулось душевное равновесие.
— Осталась неделька, — Папкин пощелкивал пальцами.
Однажды он рассеянно листал записную книжку и наткнулся на телефон методиста.
— Что это за номер? — спросил он озабоченно, обращая вопрос в пустоту.
— Баба, небось, какая, — усмехнулась Мамкин.
…С платьем расстались ровно через три дня — как и хотели.
Пришли гости, про Толика никто не спросил. Выпили, накурили, заводили музыку.
В воскресенье Мамкин заметила, что Папкин ходит вокруг нее кругами.
— Чего ты вьешься?…
И в ту же секунду их швырнуло друг к другу, они даже не успели приготовить объятия. Папкин повалил Мамкин на кровать, думал поиграть, но чуждая сила не позволила ему разводить канитель. Не вышло и ритма; Папкин дернулся дважды и, холодея, почувствовал, как нечто густое, попирая законы природы, устремилось из Мамкин в него. Ему почудился отрывистый всхлип, но это, конечно, чмокнули запоздалые выделения. Та же сила отбросила Папкина от Мамкин.
— Порядок, — прокомментировал Папкин, и сам не понял, к чему он это сказал.
Мамкин пошла подмываться, но тут же вернулась: все было чисто.
— Поздравляю со статусом кво, — сказала она и вздохнула.
— С чем?
— С чем слышал.
— Не знаю, о чем ты.
— А я и сама не знаю.
— Навеяло.
— Навеяло.
— Ну и черт с ним. Что за медведь тут валяется под ногами? Спрячь, пока не убились.
Папкин держался, как взрослый, но в глубине души знал, что ему только пять лет. Он стоит у калитки, глядит на дорогу и ждет гостей. Но кто-то подходит, берет его за руку и навсегда уводит прочь.
Апрель 2001
Ядерный Вий
Нынче мне, зависшему везде и нигде в объятиях сплошного Космоса, достаточно времени для ленивых, невеселых дум. Правда, иногда выручает чувство юмора, которое прорезалось с неприличным опозданием — в земных пределах мне было совсем не до смеха. Да и здесь надежды, несбыточные наверняка, мешают предаться веселью в полной мере.
Вопрос об образе и подобии остался без ответа. С одной стороны, крестить меня не отважились. С другой — поп-расстрига, приверженец демократических идей, шепнул: "Конечно! По образу и подобию — и ты в том числе". Я уверен, что интимно-значительным шепотом он маскировал свои сомнения и растерянность. С тех пор у меня не раз возникало желание представить оригинал, но все опытки были тщетны. Глядя на себя в зеркало, я не мог отделаться от мысли, что свидание с оригиналом не сулит ничего хорошего. Кстати, о зеркалах. Все, что принято приписывать этим штуковинам я имею в виду их способность отражать убийственный взор и тем самым истреблять носителя — все это на поверку оказалось враньем. Зеркала мне нипочем: уж как я ни таращился — хоть бы хны. Закралась даже сумасбродная, гордыней внушенная мысль: что, если я неподвластен обычным физическим законам, являясь существом надмирным, заблудившимся членом некоего — пусть даже второстепенного — небесного воинства? К сожалению, слишком многое подтверждало мою материальную природу — порой весьма болезненно. И в согласии с ней обратимся к фактам, которые часто превосходят загадочностью многие домыслы и фантазии. Тем более, сейчас в моем арсенале есть толковое объяснение, выставляющее меня кем-то вроде Щелкунчика, который хрупает скорлупками уязвимых, тщательно скрываемых душ и губит эти души притоком свежего воздуха.
Итак, первым фактом, за которым потянулись гуськом все прочие, стало знамение. Не то чтобы совсем по соседству с Диканькой и Миргородом, однако и не столь уж далеко от них обрушилась Звезда Полынь. Кое-кто ударился в панику и заключил, что это та самая Полынь, о которой имеется пророчество. Однако малодушные ошиблись: катаклизму не сопутствовали другие обещанные явления, и в планы Небес входило лишь показать, что, собственно, такое эта невнятная Полынь, как ее следует понимать и какого характера будет предсказанное неприятное событие, что случится еще неизвестно когда и будет предварено ревом ангельской трубы. С этой единственной целью злополучную станцию сделали наглядным пособием. Взрыв, конечно, аукнулся. Нечто подобное наверняка случалось и в былые времена — во всяком случае, матушка моя, известная в округе как Одноглазка, была особой с явными отклонениями. Оживляя известный миф, она калечила односельчан кротким взором единственного глаза, оставляя сиротами их парные органы. Отсыхали руки, ноги, уши, лопались мужские придатки — в общем, всем такое дело в конце концов надоело, и матушку изгнали в леса, едва не забив кольями и вилами насмерть. Этот лес в дальнейшем верой и правдой хранил меня от различных акций, эвакуаций и — в некоторой степени — дезактиваций. Сейчас, когда сняты печати — земные, земные печати, с документов, — мы знаем, что выбросы были и прежде, и никому до них не было дела — вот и вышло, что научно-технический прогресс весьма помог размножению всякой нечисти — леших, домовых, водяных, разномастных ведьм и колдунов, кикимор, василисков и Бог ведает, кого еще. Не иначе, как кто-то из этой братии оприходовал маменьку, а потом еще взрыв поучаствовал в генной инженерии, не смысля в ней ни пса — так я появился на свет. Можно обобщить и подвести черту: чего нам теперь бояться? ведь самое страшное уже произошло: мы родились.
Это событие приключилось в грязной сырой землянке, где на протяжении вот уже нескольких лет ютилась матушка. В качестве повитухи позвали одну из кикимор — то есть гермафродита, покрытого черным мехом и оттого сильно похожего на гориллу, скрытную и тупую. Известно, что кикиморы склонны скорее похищать малых детей из люлек, чем способствовать их рождению, но в нашем лесу все было шиворот-навыворот, и роды прошли успешно. Кикимора отлично справилась с задачей, как будто только тем и занималась всю свою дремучую, хищную жизнь. Набилась полная горница разных дьяволов, рогатых и увечных, каждому хотелось поглазеть: чем таким разродилась легендарная затворница? Кто-то при виде меня завопил дурным голосом: "Эй, вы только гляньте — он родился в рубашке!" Сей возглас был полон зависти — ведь кто-кто, а сам вопивший родился некогда не только без рубашки, но даже без приличной шкуры, и вскорости покрылся прочной, словно броня, чешуей, иллюстрируя те разделы медицины, что посвящены редкому заболеванию «ихтиоз». Однако зависть была преждевременной. Сразу родился послед, и стало очевидно, что никакая на мне не рубашка, а нечто совершенно другое, доселе не виданное. Гул затих, я вышел на подмостки. Быть или не быть? Любопытная публика отпрянула, так как истина мало-помалу уже открывалась. Уже было ясно, что это не рубашка, а невозможные, кошмарные веки, и я завернут в них, будто в пеленку. Старый седой волколак, страшный настолько, что никто не знал, из кого он, собственно, мутировал, перекрестился и напряженно крякнул. Было очень тихо, если не считать ритмичных отрывистых гудков, к которым все давным-давно привыкли и воспринимали как естественный фон. Эти резкие, неуместные в живой природе звуки издавались специальными пищалками, что когда-то были разбросаны с вертолетов по всему лесу и предупреждали растяп и ворон о радиоактивном заражении местности.
Потом вокруг на все лады заголосили: "… Вий! Вий!" и бросились прочь из землянки, застревая в тесном дверном проеме. Визг, лай и мат стояли неслыханные, в стороны летели клочья шерсти и волос пополам с брызгами слюны и крови. После шептались, будто по весне лично мейстер Леонгард посетил инкогнито наш лес, имея намерение сойтись с маменькой и ужаснуть подлунный мир своим отродьем. Возможно, эти сплетни распускал, дабы отвести от себя подозрения, мой подлинный папаша, так и оставшийся неизвестным.
… Маменька валялась без сил, я скатился в подставленные загодя ясельки и смахивал на озябшую мохнатую дыньку. Стараясь высвободиться из плена прилипших век, я робко надавливал недоразвитыми ручками и ножками то в одно, то в другое место — все впустую, веки не отклеивались. С нижними все было в порядке, но верхние спускались до пят, образовывали мешочек для ног и таза и захлестывались со спины на темени. Получался уютный кокон с единственным изъяном: в него не поступал воздух, так что ни о каких первых криках и вдохах и речи быть не могло, а мои попытки прорваться к свету были обречены на провал во тьму. Спасся я благодаря вмешательству дряхлых колдунов, которые не смылись то ли по причине старческой немощи, то ли попросту ничто под луной уже не в силах было их напугать (ведь они родились) — старцы пришли в числе первых, как утверждали потом — ведомые одинокой и яркой звездой. Дрожащими корявыми пальцами самый древний из волхвов склонился к яслям, снял с меня веки, словно кожуру с банана, и некоторое время держал на вытянутых руках, не забывая, впрочем, смотреть в сторону. Двое других, так же вслепую, придвинулись бочком, подхватили меня уже, уже начавшего издавать огорченные звуки — и уложили навзничь, а первый снова опустил веки, укрывшие меня подобно двум крылам, но на сей раз предусмотрительно оставил между ними маленькую щель для носа-кнопки. Так что я счастливо избежал опасности задохнуться в невинном младенчестве и никогда не вкусить невинности зрелой и осознанной.
Чуть погодя, осмелев, вернулась часть соседей. Я сопел, негромко хныкал и вяло шевелил зачаточными конечностями. Забегая вперед, сообщу, что они у меня так почему-то толком и не развились — как и само туловище. Я не познал радости самостоятельного передвижения, и меня вечно кто-то куда-то катил как правило, с корыстными целями. Зато голова разрослась сверх меры, а нос от постоянных перекатываний загнулся крючком, и я при желании всегда мог пошарить в нем своим длинным язычищем. Итак, я лежал и сопел, а гости опасливо совещались, гадая, как со мной поступить: утопить без промедления или все-таки рискнуть и опробовать силу взгляда моих очей. Победили прагматики, которые рассудили, что спихнуть меня в пруд они всегда успеют, тогда как таланты мои, если такие обнаружатся, могут стать настолько полезными для дела общего выживания, что кое на что придется закрыть глаза в буквальном смысле слова.
Притащили звеньевого спецкоманды, на днях захваченного нашей диаспорой в плен. Я, по-моему, вскользь уже поминал частые экспедиции, вторгавшиеся в наши края с Большой Земли для проведения различных оздоровительных акций. Любая подобная акция, будь то санобработка или какой-нибудь там забор идиотских проб, предполагала поимку или физическое уничтожение каждого, кто имел несчастье засветиться. А некоторые, между прочим, светились по-настоящему и ничего не могли с этим поделать. Разумеется, наши тоже не дремали, вот и скрутили этого лба. Бугай держался вызывающе, нагло впрочем, ребенку было видно, что он хорохорится и сам себя заводит, в то время как в действительности трепещет и содрогается. Здоровяк-леший усадил оздоровителя на земляной пол, одной из лап придержал его за шею, чтоб не вертел башкой, а двумя другими — за плечи, чтоб не встал. Сам же зажмурился. Домовые, стоявшие на часах справа и слева от яслей, взялись за вилы и осторожно подняли мне веки. Ясными, чистыми глазами без намека на смысл я уставился в низкий потолок. Откуда-то сзади донесся коварный скрежет: "Смотри, солнышко, какой нехороший дядя!" Смышленые младенцы — не диво в нашем лесу. Я понял сказанное и скосил глаза к переносице. Звеньевой, похоже, не читал Гоголя и с глупым видом ждал, что будет дальше. Но дальше ему ничего не было, потому что едва его взгляд напоролся на мой, детина сдавленно ахнул и повалился на пол, бездыханный. Домовые с извинительной поспешностью вторично подцепили мои веки вилами, при этом царапая кожу, и я снова погрузился во мрак. За неимением другого занятия, я стал вслушиваться в обсуждение произошедшего. По всему выходило, что топить меня не будут и сохранят для дальнейшего использования в качестве оружия возмездия.
И я остался жить на этом свете, цел и невредим, набираясь сил и ума-разума. Наверно, никого не удивит, что детство мое получилось безрадостным. Ведь если вокруг себя вы видите только дурное, то чему прикажете радоваться? А видел я только дурное — то есть то, на что мне открывали глаза. То, что я созерцал, благополучно околевало, а мне объясняли, что это очень хорошо и правильно, туда ему и дорога, ибо существо, на которое я посмотрел, весьма плохое и лучшей доли не заслужило. Я же, напротив, хорош настолько, что любое зло, представленное на суд моих очей, не в состоянии прожить и секунды и немедленно дохнет, полное раскаяния и сожалея о дне своего рождения.
Такой отравой я питался достаточно долго, но время шло, я задумывался все больше и больше. Хвалебные речи в мой адрес не казались бесспорными. Коль скоро гибнет, не выдержав судного взора, зло — чего бояться добру? Оно, если верить моему окружению, было явлено лично в них во всей полноте, и если это правда, зачем им вилы при общении со мной? зачем они прячут глаза? почему, в конце концов, я до сих пор не видел толком никого из своих доброжелателей, включая родную матушку? Что-то не сходилось, но изменить ситуацию было не в моей власти. Ведь я оставался совершенно беспомощным. Я никуда не мог пойти, видел лишь то, что мне позволяли, и моим уделом оставались одни пространные, навязчивые размышления о смысле жизни и назначении собственной персоны. Я заметил, что кое-что из живого не терпело от моих созерцаний ни малейшего ущерба. Поскольку с миром я все же знакомился: диаспора справедливо рассудила, что зрение мое нуждается в тренировке. Оно могло попросту сойти на нет, окончательно и безнадежно атрофироваться, будучи используемо лишь в случаях расправы над очередным неугодным. Поэтому изо дня в день дежурные по Вию — да, они ввели такую должность, порой именуя меня почему-то постом номер один, — натягивали бельевую веревку и на прищепках вывешивали меня за веки греться на солнышке и познавать белый свет. Я висел, жадно впитывая визуальную инфромацию, а черти тем временем бродили в окрестных чащобах с трещетками и колотушками, яростным шумом отваживая от лиха прохожих ротозеев.
Так вот, повторяю: ничто из того, что открывалось моему зрению, не страдало. Не чахли растения, не гибли животные, не падали каменьями птицы, опрометчиво мечтавшие о середине Днепра. Прелести природы не порождали во мне желания слиться с нею в возбужденном просветлении. Бельевые прищепки не те вещи, что могут украсить жизнь, если ими зажаты пусть уродливые, пусть израненные и намозоленные, но твои собственные веки. Хроническая, непрекращающаяся боль способна исказить любое восприятие. Это неважно, что мне не раз хотелось покончить с опостылевшим пессимизмом и увидеть мир в розовом свете: между тем, что было вокруг, и тем, что я ощущал, возникла прочная связь на уровне подсознания, и никакая добрая воля не могла обернуть дело к лучшему. Позже, без всяких прищепок, в зрелые годы каждое световое раздражение немедленно возрождало глубинную память о прошлых страданиях.
Да и что, если честно сказать, мог я видеть из одного и того же, никогда не менявшегося положения? Однообразный пейзаж с о временем надоел мне так, что я шепотом упрашивал злобное светило выжечь утомленные очи. Я видел гигантские папоротники, налитые ядовитой зеленью. Я тупо обозревал кукурузную рощу, смотрел на водянистые полутораметровые грибы. Мимо моего лица, задевая белки глаз крапчатыми крыльями, пролетали стрекозы-мышеловы, жужжали фосфоресцирующие пчелы, создательницы опийного меда. В ненастные дни почва подо мной кишела суставчатыми червями и панцирными жабами, все это чавкало и вздыхало день за днем, месяц за месяцем, год за годом — под аккомпанимент докучливых пищалок и усыпляющий треск счетчиков Гейгера, а временами — под хищный рокот невидимых летательных аппаратов, что с разведывательными целями зловеще парили в поднебесье. Меня, кстати, пытались использовать в качестве зенитного орудия, но эта затея провалилась, так как лица пилотов были недосягаемы, и самолеты с вертолетами продолжали хозяйничать в нашем воздушном пространстве.
Случалось, я видел за деревьями и кустарником костры, которые жгли мои соплеменники, и слышал песни. Небогатый репертуар представлял собой мешанину из фолклорных произведений, посвященных местной нечистой силе, и партизанских напевов времен Отечественной войны. Под конец я наблюдал, как причудливые тени опившихся брагой страшилищ медленно раскачиваются, покуда играет гимн — старая рок-композиция, где припевом были слова: "В круге света были мы рождены". Но окончательно пиршество завершалось неизменной "чернобыльской плясовой", бившей все рекорды защитного цинизма.
От случая к случаю я отрабатывал свое содержание — то есть снова и снова созерцал. Меня не знакомили с обвинением — и без того было ясно, что существа, повергаемые предо мной на колени, суть последние выродки и мерзавцы. В основном я истреблял придурковатых сталкеров, пробиравшихся в нашу зону в поисках сокровищ. Теперь мне понятно, что их единственным прегрешением было отсутствие видимых анатомических дефектов — не так уж, между прочим, и мало. Но попадались и субъекты вроде того, первого, — таких изводили с особенной изощренностью, для начала срывая костюм, якобы защищавший от радиации. Одного этого было достаточно, чтобы жертва испытала животный ужас. Казнь, однако, только начиналась. Не вижу необходимости вдаваться в детали. Какое-то смутное нравственное чувство, невесть откуда во мне взявшееся, мешало получить удовольствие. Возможно, потому, что я стоял в конце программы и на меня ложилась особая ответственность: ведь я становился последним, что видели эти безмозглые головы, я был их судьей, исповедником и казнителем в одном лице — проще говоря, закономерным итогом их дебильной деятельности. Не знаю. Откуда бы ему взяться, этому чувству? Ведь я загадочен, уникален; не было в мире сообществ тварей, чьи законы могли быть записаны в моем сердце (шестикамерном, как обнаружили врачи, приглашенные отцом Игнатием; две камеры из шести не работали, они просто сокращались вхолостую, ничего не перекачивая).
Случалось, ко мне гнали созданий, в которых заведомо и помыслить-то нечто сродни нравственности казалось нелепым. Какие-то грязные гусеницы, черт-те в чем провинившиеся, мелкие свинорылые птички, непонятно в чем уличенные — они, большей частью лишенные разумного начала, оставались целыми. О моем мнении никто не спрашивал, многие по той причине, что не умели или разучились говорить. Я же старался не допускать к осознанию крамольные мысли о возможной душевной нечистоплотности судей, но суровый опыт в конце концов открыл мне глаза — и вновь буквально.
Оказалось, нас просто жалели до поры — не пропадать же добру, раз так получилось, надо понаблюдать, поднакопить данных. Мы жили на вулкане, нам многое спускали с рук, и все наши грешным делом полагали, что способны противостоять любому нападению и броня наша крепка. Но вот Большой Эксперимент — или одна из его стадий — завершился, и нам пришлось несладко.
Утро началось как обычно: меня вывесили на солнышко, а сами отправились охотиться и побираться. Матушка занялась стряпней, и вскоре я услышал, как ворчат на сковородках капустные блины. Мне говорили, что в былые времена это блюдо практически не готовилось, но я не берусь утверждать, являлось ли капустой то, что мы ели: здоровый такой тонкостенный мешок с множеством хрупких перепонок, деливших его на соты — в них было полно мучнистой пыльцы… Я потому так подробно останавливаюсь на капусте, что сразу, едва блины заворчали, на нас сбросили сонную бомбу. Через несколько минут, когда все в лесу надежно отключились, кольцо пионеров науки начало сжиматься. По мере продвижения к центру из леса поползли во все концы первые фургончики, битком набитые спящей добычей. Когда пришла очередь нашей опушки, меня поначалу не тронули, приняв за штаны, повешенные сушиться, и, вероятно, так бы и забыли, и я бы высох на солнце до состояния мумии. Но близился час пробуждения: наша землянка располагалась в самом сердце леса, так что все сошлось: и операция закончилась, и действие дурмана пошло на убыль. Послышались первые клокотания с хрипами, экспедиторы заспешили, кутая в сети и сковывая цепями все, что успело необдуманно дернуться. В особо страшных и больших для верности повторно стреляли усыпляющими ампулами.
И вот построили шеренгу зевающих и мотающих головами страшил, скованных друг с дружкой цепями, — в аккурат передо мной. Их уже собрались усадить в специально подогнанный грузовик, когда я проснулся. Получалось, что спал я с открытыми глазами, и взор их был нейтрален и пуст. Но он вдруг вернул себе утраченную осмысленность и бегло прошелся по лицам и рылам стоявших напротив. Была среди рыл и матушка: я сразу ее узнал, хотя до того ни разу не видел, и вовсе не одинокий ее глаз был тому основанием — я узнал бы ее и с двумя глазами, и с сотней. В матушкином ответном взгляде не было ни искры гнева, ни тени испуга — только полное понимание и любовь, пусть даже одно мое ухо тихонько, совсем не больно отсохло и шлепнулось на землю. Матушка плавно осела, увлекая за собой остальных праведников — в их глазах не читалось ничего, кроме страха и отвращения, да мне хватило ее одной — пускай она осталась бы даже единственным подтверждением моей способности выжигать добро и зло в равной мере, этого свидетельства было бы вполне достаточно для утраты иллюзий. В общем, вся компания мгновенно испустила дух — заодно с парочкой конвоиров, не успевших смекнуть что к чему и уставившихся на меня, как бараны на новые ворота. Новые ворота распахнулись перед ними и явили путь в иные, незнакомые сферы праотцов, к другим баранам. А голос за моей спиной ласково произнес:
"Це ж Вий, хлопци! Шо вы не бачите?"
Сей ученый муж в минуты сильного волнения всегда переходил на ридну украиньску мову. Бережным, нежным касанием прорезиненных рукавиц он разомкнул скрепки, поймал меня за веки и осторожно уложил на землю вниз лицом, в грязь и мусор. Я покорно лежал, вспоминая матушку и философствуя в меру сил. "Что же это выходит? — бился я над загадкой. — Кто я такой, и где мне место, если все мало-мальски отягощенное разумом прощается с жизнью при первой встрече наших глаз? Был бы я человек — уж тут- то я подобрал бы концепцию. Я мог бы, на худой конец, утешиться верой в осознанное страдание за первородный грех. Но в моем случае — кто страдает? Ведь даже внешне я настолько удалился от прародителей, что сделался кем-то отличным. А что творится у меня внутри, в крови и клетках тела — то вообще страшно представить. Так кем же я являюсь и за что несу наказание? В том, что я страдаю, сомнений нет, ведь я не чувствую ни малейшего желания нести гибель кому бы то ни было. И уж меньше всего хотелось мне погубить матушку. Выходит, нет на мне вины, но я настолько страшен и видом, и даром, что лучше мне замкнуться, окуклиться в моей невинной лютости, лучше ослепить себя и не видеть этот немощный мир! До чего же легче людям! Когда их раздирают сомнения в чем-либо и даже сомнения во всем на свете, к их услугам пропасть томов успокаивающего содержания. А в то же время достаточно только разочек увидеть мою особу, чтобы задуматься о пересмотре сфер применения чистого разума, не говоря уж о толковании сновидений".
Тогда-то, лежа в грязи, я, разумеется, не мог мыслить в точности так, как только что изложил. Всякие разные труды и писания я изучил позже и привожу этот краткий внутренний монолог лишь с целью оправдать полученное у отца Игнатия образование. А в тот конкретный момент я, хоть и думал примерно то же, но думал много проще, бесхитростней, на уровне механической фиксации неясных печальных импульсов — какие уж тут увесистые тома! Я попросту не умел читать.
Тем временем научному мамаю угрожал инфаркт — до того он возбудился при виде физического субстрата национальной мифологии. Он бегал вокруг меня, что-то подвизгивая, потом устремился в грузовик, приволок большой рулон какой-то материи и начал упаковывать меня со всеми предосторожностями. Я успел рассмотреть за шлемом его безумное конопатое лицо — мои рассматривания уже не могли ему повредить, ибо, когда я смотрел, он был мертвый и падал в месиво, кишевшее вечно голодными аспидами. Меня же он выронил из рук чуть раньше, в падении я распеленался и таким вот образом сумел на него взглянуть. Из его шеи торчала рукоятка охотничьего ножа — это я тоже заметил, прежде чем меня снова, на сей раз торопливо, кое-как упаковали и пинками покатили, словно мяч, куда-то в сторону.
Первооткрывателя убил некто Вздоев; рассказать, каким он был в жизни, я не берусь, поскольку, как несложно догадаться, видел его в процессе умирания. То был полутруп долговязого, бледного лицом субъекта со снежными полосками закатившихся белков и черной бородкой. А пока он трупом еще не был, я только слышал его голос — всегда приглушенный и возбужденно-озабоченный. Иногда в поле моего зрения вползала волосатая кисть с дырявыми сиреневыми венами и татуировкой в виде перстня на мизинце — от уголовного перстня на все четыре стороны расходились самодовольные лучи. Вздоев был из отчаянного племени чеченских разведчиков-камикадзе, внедренных в каждую мало-мальски перспективную структуру и готовых сложить отравленную гашишем голову за независимость родной Ичкерии. Под видом рядового бойца он проник в карательно-познавательный отряд: те, кто его посылали, надеялись, что рано или поздно щедрая на выдумки чернобыльская земля родит что-нибудь полезное для священного дела сепаратизма. Поэтому смекалистый Вздоев сразу понял, что пробил его час, хотя не успел разобраться в сути явления и в причинах радости своего научного руководителя.
Пока ошеломленные коллеги суетились вокруг сраженного начальника, Вздоев отфутболил меня довольно далеко. За мной тянулся кровавый хвост: меня ранили сучки и острые камни, но этот гад не унимался и продолжал пинать. Наконец мы остановились. Нас окружили какие-то патриоты, Вздоев пустился в разъяснения, излишне часто пользуясь словом «шайтан». Но его головорезы не очень боялись шайтана, потому что, невзирая на неясную, но от того не менее вероятную опасность, они грубо и бесцеремонно подвергли меня унизительным процедурам: окатили чем-то мыльным из шланга, так что я едва не захлебнулся, несколько раз погрузили в злые, едкие растворы, а когда натешились досыта, запихнули в простую хозяйственную сумку. Внутри было душно, мои ноздри забились шелухой от семечек и лука. Пот разъедал глаза и размягчал успевшую задубеть на солнцепеке внутреннюю поверхность век. Я понимал, что в перспективе мне отводится какая-то важная роль, так как Вздоев приковал цепочкой сумку к своему запястью.
Путешествие выдалось долгое — многие часы тряски по ухабистым дорогам, изнурительное ожидание неизвестно чего, поспешный перелет в раскаленный и пыльный горный край. Счет дням я не вел — по всему выходило, что в этом не то кишлаке, не то ауле, пусть их шайтан разбирается в названиях, я пробыл не меньше трех недель. Содержали меня вместе со скотиной, спеленутым и прикованным к железному шесту. С допросом у них не получилось: ну что я мог им сообщить? Не обошлось, конечно, без полевых испытаний. Пригнали десяток оборванцев — снова, ясное дело, каких-то пленных, смотрины закончились как обычно, трупы зачем-то разрезали на куски, а меня ввергли назад в темницу и больше уж не выводили. Правда, стали лучше кормить.
И вот они на что-то решились: меня опять заточили, на сей раз — в просторный контейнер, который поместили в другой, а оба — в третий. Грузовым самолетом, под присмотром неотлучного Вздоева, я вторично пустился в неведомое странствие. Может быть, относительно комфортабельные условия поездки пришпорили стрелки моих внутренних часов. Может быть, я просто вздремнул — как бы то ни было, вскорости мы приземлились. Новое путешествие закончилось в номере-люкс одного из самых шикарных столичных отелей. По крайней мере, там не воняло козлом — поначалу.
Помимо Вздоева в гостиничных апартаментах поселились еще восемь его побратимов. Меня в свои планы террористы по-прежнему не посвящали и вообще держали в черном теле. Кое-что, однако, достигало моих ушей — большей частью фрагменты телефонных переговоров. "Нэт! — кричал как-то раз Вздоев, довольно грамотно разыгрывая близость истерики. — Мы настаиваем на асобых условиях! В рамках пэрэгаворнага процесса мы вправэ трэбовать саблудэния пэрваначалной дагаваренности! Только прямой эфир!"
В один прекрасный день они вдруг заспешили. Быстро собрали баулы — в том числе и тот, где был спрятан я, и начали покидать номер по одному с интервалом в четыре-пять минут. Очутившись внизу, расселись в автомобили и ехали около получаса. Потом долго сидели безвылазно, в полной тишине: изучали обстановку, опасаясь подвоха. Наконец, осмелели, гуртом ввалились в какой-то зал, где их ждали и приветствовали с напускным радушием, за которым прочитывалось плохо скрываемое смятение; проследовали в скоростной подъемник под названием «лифт» и вознеслись наверх. Там мы ждали еще минут десять-пятнадцать, после чего распахнулась дверь и я услышал далекое балаганное приветствие:
"Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Пятница! В эфире — капитал-шоу "Поле Чудес"! Сегодня у нас необычная игра. Мы стараемся держаться от политики так далеко, как только возможно, но жизнь диктует свои правила, и быть свободным от общества нельзя. Сейчас, когда отношения с республикой Ичкерия вошли в переговорное русло, мы согласились с мнением чеченской стороны. Это мнение касается неоправданного запрета на участие непримиримой оппозиции в нашем шоу. Идя навстречу пожеланиям гостей, мы, вопреки нашим правилам, находимся сегодня в прямом эфире. Встречайте! Первая тройка игроков — в студию!!"
Тут я разлучился со Вздоевым, к которому, как оказалось, успел привязаться. Он остался за кулисами, а один из первых трех участников подхватил сумку, где я сидел, не смея пикнуть, и поставил уже в павильоне, под круглый стол с рулеткой. Так что я, никогда раньше не видевший ни одной телепередачи, мог хотя бы послушать, о чем идет речь, и получить представление.
Глупая чепуха довольно быстро нагнала на меня тоску. Боевики отгадывали слова, выигрывали призы, передавали с экрана приветы и дарили подарки ведущему. Игроки держались скованно, их лица были мрачны — это делалось ясно по их голосам. Каждому позволили хапнуть призовой телевизор, каждый передал угрюмый привет каким-то разбойникам, ставя в конце обязательное " ллах акбар!" Ведущему подарили сперва бурку, затем — папаху, после — кинжал, пулеметные ленты, священную книгу Коран и опаленный войной неисправный гранатомет. К концу программы ведущий выглядел полным идиотом и, увешанный оружием, очумело пялился на колесо фортуны, где стрелка целеустремленно приближалась к очередному призовому сектору. Ребенку было понятно, что конферансье — разумеется, в рамках переговорного процесса — всячески облегчал участникам жизнь, подыгрывал и подсказывал самым бессовестным образом. Без особых затруднений в финал вышли трое — в том числе и Вздоев, игравший в третьей тройке. С чувством гордости за новоявленную державу были, в частности, угаданы слова «Чингисхан», "выкуп" и «тринитротолуол». Последнее назвал лично Вздоев — два его соперника замешкались, ибо не потрудились узнать, как же именуется то, что они с таким вдохновением и удовольствием взрывают.
Победителем среди финалистов тоже сделался Вздоев. Ведущий с несвойственным ему завыванием осведомился, не желает ли тот сыграть в суперигру. Вздоев желал. Барабан провернулся, и вскоре был объявлен разыгрываемый приз: квартира в Москве. Тут Вздоева прорвало. "Да! — зарычал он, дрожа от темного, звериного вожделения. — Да! Квартиру в Москве!" Вздоев не сомневался, что без него Москва бедна и неказиста. "Каменная куропатка! объявил ведущий задание и лукаво подмигнул. — С учетом сложности вопроса разрешаю вам открыть три… нет, четыре буквы!" "Статуя!" — взревел Вздоев, ставя ударение на букву" у". Даже я, убогий и неотесанный, с трудом подавил горький смешок, но шоумен — к моему измумлению — воскликнул: "Верно!!", и товарищи Вздоева ответили торжествующим воем, воображая себе квартиру новый перевалочный пункт для переброски взрывчатки и героина. Сам Вздоев усилием воли обуздал ликование, помня о главной цели телеспектакля. Упреждая ведущего, он вскинул ладонь и грозно зарокотал: "Адну минуту! Мы, являясь упалнамоченными Нэпримиримого Ваеннаго Совета, намэрены провэсти исклучитэлную акцию и тэм дабится бэзагаворочнаго признания сувэрэнитэта рэспублики Ичкерия! Кромэ таго, нам нэабхадимы два миллиона долларов в сотенных купурах на вастанавлэние разрушэнной эканомики. Прамо сэчас мы прадэманстрыруем аружие агромной разрушитэлной силы, извэстное как Вий. Его взгляд срадни пылающему мэчу Аллаха, каторым тот карает нэвэрных. Паэтому лубой, на каго падет испэпэлающий взгляд Вия — дома, на работе, в кабаке умрет нэ атхадя от тэлээкрана. Сматрите и трэпэщите!" С этими словами Вздоев стремительно нагнулся, выдернул сумку из-под стола, схватил меня за веки и рванул кверху. Однако злодейство его провалилось: началась свалка. Зрители, до сих пор визжавшие и рукоплескавшие, все до единого оказались переодетыми сотрудниками спецслужб; они повскакивали с мест, потрясая оружием, и немедленно открыли пальбу. Бахнула какая-то шашка, повалил дым, погасли софиты. Раненый Вздоев ослабил хватку, я упал навзничь и угодил точнехонько в сектор «приз». Мои веки были откинуты, я затравленно глядел в потолок. Наши со Вздоевым глаза встретились. Я не желал ему зла, я мог бы желать, будь я волен повернуть дело так или этак, но исход был предрешен. Взгляд финалиста остановился, челюсть упала, давая дорогу последнему выдоху, и секундой позже безжизненное лицо исчезло из поля моего зрения. Сил моих недоразвитых конечностей было достаточно, чтобы переворачиваться со спины на живот и даже ползком передвигаться. Пальцами левой руки я зажал ноздри, дабы уберечься от газа, правой оттолкнулся и перевалился через край стола, взмахнув в падении веками. Мне повезло: я плюхнулся на брюхо и сразу начал пятиться на четвереньках к двери, подметая веками пол. От меня со щелчками отскакивали горячие гильзы, но я, впервые увидевший возможность скрыться, не обращал на них внимания. Полз я мучительно долго, но суматоха вокруг все-таки позволила мне добраться до выхода незамеченным и перейти к спуску по лестнице. Я продолжал пятиться, шлепаясь со ступеньки на ступеньку, и вот миновал один этаж, другой… наконец, мне показалось, что стоит рискнуть и заняться поисками убежища. Я был не настолько глуп, чтобы сразу покинуть здание, которое давно оцепили тройным кольцом автоматчиков. Мне нужно было где-то пересидеть сутки или больше — я не знал, сколько. В коридоре, куда я свернул, времени на тщательную разведку не было, я ткнулся в первую попавшуюся дверь и очутился в прохладном, пахнущем хлоркой помещении с кабинками. Мне снова повезло: не успел я проползти и нескольких метров, как дверь за моей спиной распахнулась и кто-то вошел, безмятежно насвистывая. Я, не давая ему времени испугаться, поспешно забубнил наспех состряпанное обращение: "Прошу вас, пожалуйста, спрячьте меня, я безобиден, только не смотрите мне, ради Бога, в глаза, это смертельно опасно. Я все вам объясню, но сначала, заклинаю вас, спрячьте где хотите. Я сделаю для вас все, что в моих силах, я являюсь редким, ценным существом, и вы на этом наверняка сможете хорошо заработать".
Вошедший, выслушав мои слова, сел на корточки и осторожно коснулся моей шкуры пальцем. Во мне зажглась надежда. "Заверните меня в веки, — попросил я скороговоркой, — не спрашивайте ни о чем, просто заверните — и помните, ни в коем случае нельзя смотреть в глаза". Незнакомец после секундного колебания сделал выбор. Он не только укрыл меня веками, но обернул впридачу пиджаком и взял под мышку. Так завершился первый период моего жития — горстка лет, исполненных бессилия, и наступил период второй, сопряженный с тяжкими размышлениями и поиском правды, но все равно несравнимо лучший. Я про то, конечно же, не знал и только отмечал непривычно бережное к себе отношение. Меня, не смысля ни капли в том, что я собой представляю, несли как хрупкую драгоценность. Я попал в руки скандально известного отца Игнатия Хоронжина, не так давно лишенного сана за неуемное вольнодумство.
Отец Игнатий относился к счастливому меньшинству людей, которые, сочтя свое детство самым интересным, что только могло приключиться с ними в жизни, решили воздержаться от дальнейшего роста. Занят он был обычно тем, что совал свой нос в дела, совершенно его не касающиеся. Где бы он ни оказывался, всюду носился как ракета, без умолку трещал, перескакивая с пятого на десятое и мешая сугубо мирские понятия с невнятными мистическими сентенциями, отражавшими его личный опыт. На последние, хоть и скрепя сердце, но худо-бедно закрывали глаза в церковной среде, куда, кстати сказать, отец Игнатий сунулся тоже по молодой глупости, из любопытства, а после неожиданно увлекся. Но не стерпели, когда он начал излишне рьяно пользоваться церковными догмами в мутной политической болтушке, проводя демократическую линию — тоже во многом противную православию. При первых признаках потепления он понял участие в политических баталиях как долг перед Всевышним, добавил ночной сновидческой мистики и с той поры не пропускал ни одного общественного шабаша, который удостаивался чести быть заснятым на пленку. Он размахивал кулаками, лез в рукопашный бой, ехидничал и ерничал, вникал в любой, пусть самый ничтожный предмет, завладевший его вниманием — и все это кипело под флагом абсолютно не свойственного эпохе романтизма. Терпение отцов-настоятелей лопнуло. Все хотели сделать по-тихому, но Игнатий не замедлил разжечь свару и ославился на всю страну. Лишившись сана, продолжал разгуливать в рясе, за исключением редких дней — вроде того, счастливого для меня, когда был на нем упомянутый пиджак. Иначе бедному расстриге пришлось бы прятать меня именно под рясой, на животе — и, таким образом выглядя как бы на сносях, отец Игнатий мог бы дополнительно быть обвиненным в распространении ереси, ибо намекал бы округлым пузом на андрогинность Христа.
Игнатия Хоронжина привело в телецентр вполне заурядное дело: он принимал участие в какой-то бесконечной дискуссии. Съемка закончилась, и батюшка, вернувшись на землю, поспешил по нужде. Завладев мною, он пришел в неописуемый восторг. Игнатий — человек просвещенный — сразу понял, с кем свела его судьба, и, к чести его будет сказано, ни на секунду не усомнился в моих способностях. На выходе из здания его попытались задержать и подвергнуть досмотру, но батюшка поднял такой неприличный шум, что его мгновенно опознали и не стали связываться. Отец Игнатий сел за руль «жигулей», меня же положил рядом, на переднее сиденье, что было мне чрезвычайно лестно. Я растрогался и не смог сдержать слез благодарности, а потому, будучи обычным образом спеленут, сделался мокрым весь, словно ненароком обмочился. "Пустое, добрый человек, — успокоил я встрепенувшегося было батюшку. — Кем бы вы ни были — я рад встрече с вами" Игнатий тоже вконец разволновался, проехал нужный поворот и из-за этого долго потом кружил и петлял.
Он привез меня к себе на квартиру. Едва войдя, с неподдельной заботливостью он спросил, не голоден ли я. Я сознался, что да, и даже очень. Тогда опальный слуга Господа осторожно осведомился, что именно я ем. Я назвал ему несколько любимых кушаний, которыми потчевала меня покойная матушка, и он был в замешательстве. То ли он вообще не имел понятия о названных продуктах, то ли не знал, как их следует приготовить. "Поставим вопрос иначе, — молвил поп после паузы. — Не вредна ли тебе обычная человеческая пища?" Я ответил, что точно сказать не могу, ибо в течение последних недель питался в обществе мелкого домашнего скота и то, что давали парнокопытным, мне не повредило. Тогда на свой страх и риск мой спаситель накормил меня яичницей. Судя по волнам, которые от него исходили, он с ужасом ждал последствий, но все обошлось хорошо. Меня разморило, но батюшка сгорал от нетерпения, и я почувствовал, что просто обязан насытить его мальчишеское любопытство. Он обрушил водопад вопросов — некоторые из них были совершенно непонятны. Я по мере разумения отвечал, сонно и томно. Отец Игнатий ахал, метался по комнате, хватал и тут же бросал телефонную трубку. Наконец, он и сам порядком изнемог. Повисло долгое молчание. И я, не заснувший единственно по той причине, что давний и крайне важный вопрос продолжал меня жечь, с замиранием сердца спросил: кем я, по мнению батюшки, являюсь и на что могу рассчитывать в откровенно недружественном мире. Тот смутился и ответил не сразу. "Твой интерес понятен, — сказал он в конце концов. _ По двум причинам я не могу ответить прямо сейчас. Во-первых, ты, к сожалению, слишком сер и неразвит, чтобы воспринять некоторые важные понятия. Во-вторых, я и сам покуда не вполне в тебе разобрался, и мне понадобится время. Впрочем, как первое, так и второе с Божьей помощью поправимо. Сегодня отдыхай, а с завтрашнего дня я займусь твоим образованием".
Так оно и вышло. Энергии отца Игнатия хватило бы на несколько семинарий и парочку духовных академий. Я с трудом выдерживал заданный темп, и только память о прожитых в невежестве и душегубстве годах умножала мои силы. Учитель начал — что вполне понятно и простительно — со Святого Писания, но по ходу дела не забывал и о других предметах — тех, в которых был мало-мальски сведущ. Я знакомился с мировой литературой, философией, психологией и историей — последней больше применительно к астрологии и алхимии. Конечно, много было и политики — порой чересчур. Страсть к преобразованию мира и приближения его к заветному идеалу еще не угасла в батюшке. Его ежедневно посещали различные деятели, по мне — все на одно лицо, хоть я не видел лиц. Особо надежным батюшка показывал меня, что в конце концов привело к печальному финалу, но о том — позже.
Внутренне я сильно изменился, но главное по-прежнему таилось за семью печатями. Мой дар не позволял мне числить себя среди простых смертных стало быть, все их мерки тоже не очень мне подходили. Дело было не в физиологии. Что до нее, то связи отца Игнатия оказались довольно обширными: в первые же сутки меня с головы до пят обследовали доверенные медики не ниже профессора рангом. Из меня отсосали пробы всех имевшихся жидкостей, там и сям отстригли и выбрили, проверили счетчиком Гейгера, сняли не меньше двух десятков всевозможных «грамм». Результаты ясности не добавили: химические процессы, присущие мне, и внутреннее устройство не имели аналогов, но тем не менее умещались в рамках современных естественнонаучных взглядов. После того, как меня в сотне ракурсов запечатлели на фото- и видеопленке, последовало предложение: мне рекомендовали подвергнуться косметической операции, которую, ввиду исключительности дела, готовы были произвести бесплатно. Я раздумывал недолго и дал согласие. С веками пришлось повозиться, так как обнаружилось, что они суть не просто кожа, но соединены с глазницами суставами. Поэтому эскулапы в течение нескольких часов вылущивали, ушивали и шлифовали, а веки поместили в спирт и свезли в какую-то кунсткамеру.
Впервые в жизни моя кожа беспрепятственно дышала. Глаза прикрылись очками с простыми стеклами, сплошь замазанными черной краской. "Вылитый Абадонна!" — крикнул отец Игнатий, когда дело было сделано. Я не понял, и он объяснил, а чуть позже и прочел немало интересного об этом типе и тем прибавил мне забот — что, если правда? Впрочем, батюшка называл меня всяко: чаще всего размягченно и трепетно мычал: "Ча-а-до!" — при этом, восседая на диване, он обнимал меня своими ручищами и раскачивался из стороны в сторону.
Не помню уж на какой стадии моего просвещения отец Игнатий заключил, что я уже достаточно развился и могу посетить Божий храм. Он всерьез подумывал меня окрестить, тогда как я не был уверен в такой уж необходимости этой процедуры. Мы отправились, специально выбрав час, когда храм был почти пуст — Игнатий намеревался устроить пробную, так сказать, экскурсию и взвесить мою склонность к религии на месте. Мы смотрелись забавно, потому что батюшка катил меня в детской коляске. На первых порах я был вынужден прогуливаться именно в ней, так как заказанное кресло на колесах, с моторчиком, еще не успели изготовить. Здесь санкционированная свыше богооставленность Игнатия сыграла ему на руку: хорош бы он был в рясе, толкающий коляску перед собой! Но, лишившись сана и надевая рясу в мирских учреждениях, в церковь он ходил как простой мирянин.
Мы были в превосходном настроении. Нимало не настроенный на высокопарный лад, отец Игнатий шутил, делал мне козу и предлагал соску, а я в ответ, стоило нам с кем-нибудь поравняться, подавал голос и басом изрекал нечто глубокомысленное. Учитель помирал со смеху, а я не останавливался и сосредоточенно гугукал, чем доводил озорного батюшку до колик. Дул холодный ветер, верх коляски был поднят. Глядя поверх очков, я мог видеть брюхатые тучи, которые раздраженно и неуклюже спешили куда подальше. Я не мог отделаться от чувства, что бег их так или иначе вызван страхом перед робким, доверчивым взглядом диковинной твари, с высоты тучьего полета казавшейся даже не букашкой, а точкой.
Добравшись до места, мы выждали немного, дабы настроение наше стало более торжественным. Отец Игнатий взял меня на руки, скрыв, как мог, мое лицо в пеленках, усадил на согнутое левое предплечье, словно обезьянку, и перекрестился правой рукой. Мы вошли внутрь. Было прохладно, сумрак вкрадчиво дышал ладаном. Отец Игнатий следил за мной, пытаясь определить, какого рода воздействие оказывает на меня сей запах. Удостоверившись, что ни малейшего воздействия нет, он приобрел свечку и направился к какому-то образу. Оглянувшись несколько раз по сторонам, Игнатий шепотом велел мне снять очки и взглянуть на икону. Народа в храме было мало — несколько человек, понуро стоявших вдалеке от нас. Я осторожно высвободил тонкую, слабую лапку и снял очки. Огонь свечей не был ярок, но глазам все равно потребовалось время, чтобы привыкнуть. Наконец я смог различить двухмерное маслянистое лицо. Святой, воздев персты, строго и многозначительно взирал на меня. Но так продолжалось недолго. Две вещи случились одновременно: над моим ухом ахнул отец Игнатий, а по суровому лику потекли прозрачные сверкающие струйки. Учитель резко развернул меня лицом к себе, и я чуть не опоздал с очками — замешкайся я на секунду, он упал бы, опаленный моим бессмысленным гневом. "Образ прослезился", — молвил отец Игнатий благоговейно и стал отступать к выходу, не сводя глаз с плачущей иконы. Я понимал, что произошло нечто необычное, но переживал что-то похожее на сожаления щенка по поводу сделанной лужи. Мы покинули церковь и по пути домой не сказали друг другу ни слова. Дома отец Игнатий осторожно высадил меня на диван, сам же сел напротив, закинул ногу на ногу и погрузился в раздумья. Я угрюмо созерцал паркет, механически отмечая покачивание батюшкиной туфли. Наконец Учитель очнулся и произнес: "У меня есть только одно объяснение. Ты наделен редчайшей, губительной способностью проникать в суть вещей. Иными словами, ты можешь видеть в человеческих душах самое главное, самое сокровенное — то, что все без исключения стремятся скрыть от посторонних. Человек устроен так, что не в силах вынести вторжения в тайные глубины. Он защищается инстинктивно, и не в его власти самостоятельно решить, открыться ему или оставаться в убежище. Ты же своим взором ломаешь все барьеры и вытаскиваешь его достояние наружу, чего никто не способен стерпеть". "Почему же тогда я там, внутри, ничего не вижу?" — спросил я в недоумении. Игнатий негромко отозвался: "Да, это вопрос. А ты уверен, что и вправду не видишь? ни капельки?" "Совсем не вижу, — я печально покачал головой. — По-моему, там ничего нет и никогда не было". Батюшка перекрестился. "Возможно, тебе и не надо понимать, что ты видишь, — предположил он. — Возможно, хватает одного лишь проникновения как такового. Тот, на кого ты смотришь, ощущает, что пробита брешь, и ему этого чувства достаточно, чтобы проститься с жизнью". Я мог бы пожать плечами, но не был приучен к такому жесту и только неопределенно взметнул кустистые брови. "Как же поступим с крещением?" спросил я осторожно. "Боюсь, что никак, — это признание далось отцу Игнатию с видимой мукой. — Я не нахожу в себе отваги стать духовным отцомличности, которая может заставить икону заплакать". "Получается, что все-таки я не здешний? — допытывался я. — Не вашего племени, не ваших богов?" "По образу и подобию, как и все мы", — отец Игнатий даже повысил голос, но за напускным гневом я слышал растерянность и сомнение. Добрый Учитель не желал меня огорчать; я понял, что нет смысла возвращаться к этой теме впредь, и жизнь наша пошла своим чередом. Разве только народилось непонятное убеждение в обязательном скором конце всей этой идиллии. А пока я продолжал совершенствоваться в науках.
В один прекрасный вечер отец Игнатий читал мне, как обычно, Писание мы добрались до пророка Исайи. Я, внимавший ему поначалу довольно равнодушно, вдруг услышал нечто, ужалившее мое ухо подобно ловкому насекомому: "… Но ты отринул народ Твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от востока: и чародеи у них, как у Филистимлян, и с сынами чужих они в общении". "Как-как? — переспросил я. — Что это за сыновья чужих, Игнатий?" Он ответил мне с подозрением в голосе: "Бог их ведает. Возможно, какие-то Моавитяне или кто еще. А в чем дело?" Я отстраненно пробормотал: "Но зачем они помянуты наравне с чародеями? Не об одном ли и том же грехе идет речь? Я имею в виду общение с волшебниками и… с кем-то вроде них". "Эк куда тебя заносит! — удивился батюшка и полез в какие-то комментарии. Ничего не сказано, — сказал он разочарованно, перелистав с сотню страниц. Но я обязательно разузнаю у наших грамотеев". И он стал читать далее, но я слушал невнимательно.
Надо признать, что течение наших занятий несколько изменилось. Я больше не был пассивным слушателем и часто своими вопросами ставил Игнатия в тупик. Он же, не зная, как ответить, раздражался и указывал, что я волен сочинять что угодно — все равно о высших предметах ничего нельзя сказать наверняка. Тогда я прекращал расспросы и начинал именно, как он выражался, сочинять: что, к примеру, будет в конце времен, когда Бог обнажит все сущности, если даже мой взгляд валит людей с ног. Не иначе как придется Создателю закрыть глаза на все прегрешения и, не вникая в дело, простить всех скопом (я был приятно удивлен, услышав, что я не первый высказываю подобную ересь и можно назвать целые течения, приверженцы которых мыслят соответственно).
Пожалуй, мне нет смысла излагать свои богословские соображения. Все равно я — не знаю уж, каким чутьем — понимал, что все это — не мое, а значит, какая разница, что я там выдумал? Время шло, и у меня не оставалось сомнений в скором прощании с гостеприимным домом. И вот произошел инцидент, о котором я выше обещал рассказать. Представитель одной из политических партий, бесстыдно использовавший доверчивость моего благодетеля и всячески маравший его доброе имя на своих поганых митингах, исхитрился пронюхать о моем существовании и явился ко мне с наглым, развязным требованием поддержки во всех начинаниях. То был первый случай, когда я, по причине общей усталости от жизни, сознательно, ничуть не ощущая себя грешником, выпустил джина на волю. "Я надеюсь, что мы вместе, рука об руку, смело взглянем в глаза нашим проблемам", — заявил этот напыщенный болван. "Ваша проблема это лично вы как особь, — возразил я ему. — Вы хотите, чтоб я взглянул вашим проблемам в глаза? Отлично, я готов". Когда прохиндей с разорвавшимся сердцем грохнулся об пол, мы с Игнатием осознали без слов, что дружба дружбой, а табачок — врозь. Учитель страшно боялся задеть мои чувства и не смел указать мне на дверь, однако и терпеть губителя в собственном доме не жалал. Я облегчил ему жизнь, покинув квартиру на рассвете, не обмолвившись о своих планах ни единым намеком. Мне остается лишь надеяться на мудрость батюшки — да не позволит ему его Бог ожесточиться и обидеться.
Я выехал, сидя в прекрасном, безотказном креслице с моторчиком и колесами. Оно было так устроено, что даже по лестнице я мог в нем спуститься без всяких хлопот. Я был одет вполне цивилизованно, и мое появление на улице никак не могло породить переполох — ну, урод, ну, урод редкостный, каких мало — только и всего. В руках я сжимал тонкую легкую трость, выкрашенную в белый цвет: надо же было как-то объяснить темные очки, да и дорогу мне уступали и помогали всячески, стремясь добрым поступком искупить свое невольное отвращение. Я не имел ни малейшего представления, куда направляюсь, и полностью положился на интуицию. Она-то и привела меня на вокзал, где я въехал в захарканный тамбур электрички.
Устроившись в отведенном для инвалидов тесном закутке, прообразе возможного гетто, я сделал попытку полностью отключиться и мысленно унестись в никуда. Поезд тронулся, и тут же мне стало ясно, что воспарить над реальностью не удастся. По вагону без конца шастали какие-то коробейники, и за полчаса езды я потерял им счет. Были косноязычные газетчики ("Веселый поршень" — издание для мужчин, можно подержать, полистать и даже приобрести), продавцы мыла и мороженого, ряженые калеки, контролеры (ко мне не подошли), проповедники и пилигримы. Они так мне осточертели, что я готов был лишиться последнего уха — лишь бы не слышать их околесицу. "Может быть, зыркнуть?" — всерьез подумывал я. Тут в очередной раз простучало слева (я сидел возле раздвижных дверей), и краем глаза я зафиксировал наличие в вагоне двух безобразных размалеванных клоунов. Подобно огнедышащим драконам, они гнали впереди себя убийственную сивушную волну. Тот, что повыше ростом, стриженный под горшок, был при гармошке, а его апоплектический напарник угрожающе помахивал треснувшей балалайкой. Дылда резко поклонился, откинул упавшие на глаза соломенные волосы и заревел: "Граждане пассажиры! Извиняйте за очередное беспокойство! Мы — бедные инопланетяне, наш корабль потерпел аварию, и нам нужны средства на капитальный ремонт! Кто чем может помогите, а мы за это исполним для вас композицию "Звездная братва"!" Гармонь расползлась, и гастролеры заблажили что-то столь же боевое-блатное, сколь и нескладное. Никто не обращал на них внимания, но многие просто делали вид, что не замечают, так как, стоило артистам откланяться и пойти с протянутой шляпой, в последнюю кое-что нет-нет, да и падало. А меня их концерт чрезвычайно возмутил — трудно сказать, чем конкретно. Вероятно, мне стало обидно, что вот же бродят иные уроды по жизни и не видят в том ничего зазорного, и даже довольны. Я завел моторчик, выехал из укрытия и пустился в погоню. Пока я ехал, в меня летели медяки и ветхие мелкие купюры.
Мне никак не удавалось обогнать разухабистую парочку и развернуться, из вагона в вагон повторялась одна картина: я, раздраженный, маюсь в тамбуре и жду, когда они соизволят двинуться дальше, а шуты гороховые между тем продолжают паясничать. Я видел их со спины: мерзавцы ломались и изгибались, топая сбитыми сапогами. Меня бесило в них решительно все; когда мы добрались до головного вагона, я чувствовал себя готовым на что угодно. Парочка выкатилась на перрон, я соскользнул следом. "Эй, постойте-ка! " — крикнул я звонким, гневным голосом. Скоморохи оглянулись и замедлили шаг. Вид у них был снисходительный (я сужу исключительно по видным мне ногам, небрежно раскоряченным). "Инопланетяне, да? — спросил я, подъезжая. — Тарелка разбилась?" "Да нет, целехонька, — насмешливо отозвался тот, что был пониже. — Желаете взглянуть?" "Очень желаю взглянуть", — сказал я в ответ и снял очки. Теперь я убивал сознательно, без тени сожаления и вполне, как я считал, свободно в смысле воли. И тут случилась едва ли не самая фантастическая вещь в моей жизни: никто не рухнул, оба стояли живые и невредимые. Лица их и вправду выражали насмешку. "То есть как это? пробормотал я, не веря своим глазам. — Но это невозможно! Этого не может быть!" С физиономии дылды слетела улыбка. Он протяжно свистнул и шлепнул компаньона по заду, выбив облачко пыли. "Никак нам поверили!" — изумился он и шагнул мне навстречу. Я вовремя заметил, что так и сижу без очков, а перрон отнюдь не безлюден — я поскорее усадил на нос свой траурный велосипед и быстро предложил: "Нам просто необходимо отправиться в какое-нибудь укромное место и все обсудить. Я очень рассчитываю, что вы не будете против". Они не возражали, и несколькими минутами позже мы удобно расположились в очаровательной рощице — хотя мне, привыкшему к буйному генетическому разнообразию, она показалась слишком однородной.
"… Так вот и живем", — высокий с хрустом потянулся и жизнерадостно осклабился. "Да, — подхватил его товарищ (имен их, чересчур замысловатых, я не помню). — Публика здесь, правда, ужасно равнодушная — абсолютно никто не задумывается над нашими словами. Глаза пустые, ни следочка мысли… Но, заметьте, подают! А мы то там прошвырнемся, то здесь — глядишь, на жизнь и соберем. Ну, еще статейки посылаем — в «Аномалию», "Мегаполис-экспресс", «НЛО». Берут охотно".
Я плохо воспринимал их россказни, важнее прочего для меня было уяснить, почему они остались в живых. Этот вопрос обжигал мне язык, я задал его при первом же просвете в сплошном потоке их болтовни.
Поначалу они не могли взять в толк, о чем идет речь. Я в изнеможении растянулся на траве — неужели придется рассказывать все, начиная с рождения и даже раньше? Но чужие сыны — нет сомнений, что то были они — проявили живейший интерес к моей беде, и я приступил к изложению основных событий. Где-то в середине рассказа высокий хлопнул себя по лбу: "Э, да это же совсем просто! Вы попросту ломаете скорлупку, а в вашем мире это действие ведет к необратимым последствиям". Видя глупое выражение моего лица, он пояснил: "Ну, вся штука в том, что ваше божество, которому иногда — весьма проницательно — приписывают свойства Ничто, любит рядиться и рядить все разумное в материальные одежды. Вы когда-нибудь видели, как разбивается лампочка? Здесь что-то похожее: вы с вашим взглядом пробиваете брешь, и внутренний вакуум мгновенно заполняется то ли энергией, то ли уже материей. Мы, в отличие от вас, сделаны из другого теста. Наш главный любит наоборот: чтоб содержание было, а форма — нет. Мы двое… как бы это назвать… дылда пощелкал в затруднении пальцами, — нечто, скажем, среднее между йогами и безнадежными наркоманами… нам, короче говоря, нравится обретать форму так же, как некоторые из ваших озабочены поисками сути. Но в нашем мире таких фокусников не жалуют, вот мы и свалили сюда. Здесь нам совсем не плохо, и мы подумываем, не остаться ли с вами насовсем". "Стало быть, у ваших нет никаких пустых скорлупок? — произнес я медленно, пытаясь переварить. — Нет скорлупок, формы… одно содержание. Но… тогда — как же?" — я указал на них пальцем, потом для верности ткнул им в балалайку. "Мирская практика, — сказали они хором. — Аналог того, что у вас именуют практикой духовной. Вот, глядите", — с этими словами они сняли шляпы, сбросили парики, затем — сами головы, и под конец вовсе рассыпались: передо мной валялось рваное шмотье, и больше ничего. "Подождите, не исчезайте! вскричал я. — У меня еще остались кое-какие вопросы". Разбросанные как попало штаны, сапоги и рубахи плавно взлетели, головы наделись на шеи. Я восхищенно отметил, что они поменялись местами. На плечах коротышки скалилась патлатая голова дылды, а шишковатый коротышкин череп со всеми своими мясными щекастыми излишествами блаженствовал на двухметровой высоте. "Видишь, как здорово? — обратился ко мне длинный гибрид. — У нас за такое заработаешь по онтосу. Дескать, и ересь, и неприличие, и даже есть статья в уголовном кодексе".
Мы задушевно беседовали еще около часа и немного выпили — что до меня, то я пил впервые в жизни, а они, похоже, занимались этим с самой высадки на Землю. Я слегка охмелел и стал жаловаться на одиночество: из их рассказов вытекало, что хоть они и чужие сыны, да мне не братья, и их папаша вряд ли будет рад меня усыновить. "Не печалься! — они ударили меня по спине. — Мы, пожалуй, дадим тебе корабль. Нам он больше ни к чему, мы точно решили остаться. Ты можешь лететь на нем куда угодно и сколько угодно, хоть всю жизнь. Глядишь, и встретишь где-нибудь своих — кто знает!"
Я задумался и долго молчал, не торопясь с ответом. Внутренний голос нашептывал мне, что должно же найтись во Вселенной нечто, отличное от пустых форм и бесплотных сущностей. Я поднял глаза к небу и увидел там плод необычной игры природы: зыбкий, сверкающий круг света. "Что там за знамение?" — спросил я у пришельцев, показывая на небеса. Те пожали плечами. "У знамений тысячи толкований, — сказал высокий. — Так что выбирай себе любое". "В самом деле, — подумал я. — Почему я обязательно должен оказаться неправ?" А вслух я сказал им: «Лечу», и зашвырнул в крапиву темные очки. Меня перестало заботить, лопнет ли моими стараниями очередная пустышка, или опять подвернется какой-нибудь неоформленный гуманоид.
Доморощенные еретики отвели меня к своему кораблю, спрятанному в овраге. Я поинтересовался, как им управлять, но маленький беспечно махнул рукой: "Там есть книжка, где все написано. Не тревожьтесь — справится каждый дурак". Они подхватили меня прямо с коляской и внесли в открывшийся проем. Панель за моей спиной опустилась: слишком, на мой взгляд, поспешно возможно, в глубине души они жалели корабль и боялись передумать.
Я направил его в самый центр небесного круга и вылетел в черную ночь, словно цирковой лев сквозь пылающий обруч. Облеченный знаниями, которые ни капли мне не помогли в самом главном, я неохотно признавал, что вряд ли мое странствие увенчается успехом. Меня отовсюду прогнали, меня никто не хотел знать за то, что я по чьему-то капризу сочетал в себе и форму, и суть чересчур ужасные, чтобы вынести их соседство. И все же, почти не сомневаясь в плачевном исходе, я продолжаю искать приключений на свою голову, гляжу в стекло иллюминатора и вижу все ту же пустоту. Ее маскирует лишь одно — мое прозрачное отражение.
июнь-август 1997
Канонада
Я не могу поверить, что дождался.
Мне остается лишь благодарить небо за то, что ясность моего ума не претерпела ущерба, и глаза, ослабевшие до предела, все еще способны различать предметы. Я забыл поблагодарить за слух! Что это со мной? Слух также мне пока не отказал, хотя внешнему миру приходится с некоторых пор пробиваться к моему сознанию сквозь плотную завесу удушающего, пульсирующего шума. Катаракта, отосклероз, немощное кровообращение — вот тройка недругов, победа которых не за горами, но они опоздали. Я успел! Успел, и потому их торжество окажется отравленным моим торжеством.
Мое ликование столь велико, что я забываюсь и начинаю воображать, будто небо не стоит таких благодарностей — напротив, это небо должно сказать мне спасибо, небо в буквальном смысле слова. Не то философское, религиозное, умозрительное небо, нет. Самое обычное, высокое, сперва неразличимо прозрачное, после — голубое, дальше — черное. Да, не скрою, меня всегда притягивал космос — тоже в самом заурядном, физическом смысле. Какое-то время мне (очень недолго) хотелось сделаться космонавтом. И даже астронавтом, хотя уделом большой астронавтики по сей день остается фантастическая литература. И вот на склоне лет я стал живым участником парадокса: да, космонавта из меня не вышло, а вот астронавтом я, невзирая ни на возраст, ни на расстояния буду вопреки и назло всему.
Конечно, не проходило и дня, чтобы я не сказал себе, пробуждаясь: будет так и не иначе. В противном случае жизнь потеряла бы смысл. Конечно, я помнил, что физическая гибель смехотворна. Я готов был примириться с перспективой никогда не быть допущенным к стрельбе лично, во плоти. Пусть кости мои истлеют, но долгожданный час когда-нибудь пробьет, и я устремлюсь к не знающим меня галактикам и звездам. Удивлю их, вдохну в них новый смысл. Заставлю уважать. И тогда — где твое жало, смерть? А вот где оно: на свалке — вырвано, изломано и истоптано мудрыми потомками. Детьми грядущего, среди которых обязательно найдутся тонкие, чувствительные натуры, знающие толк в прекрасном. Те, кто пришел бы вслед за мной, рано или поздно всяко обратились бы к моему творчеству и тем спасли меня от оскорбительного забвения. Но как милосердна судьба! Когда заходит речь о тайнах, лежащих за порогом жизни, никакая, даже самая стойкая, уверенность в успехе не в состоянии избавиться от капли подлого сомнения. Мне же даровано доподлинное прижизненное знание. Стало быть, можно спокойно умереть — с чистой душой, с широко раскрытыми доверчивыми глазами.
И что теперь такое истончившаяся кожа? Какая-такая беда в парализованных ногах? И так ли, как может показаться, ужасно судно? Да меня на носилках снесут, не тревожьтесь. Слава Богу, пока еще есть кому это сделать, а если бы не было, так я бы нанял людей со стороны, пусть даже понадобится распродать для этого всю мою незатейливую домашнюю обстановку. Меня погрузят в автомобиль, и я помчусь — неразличимый сверху, букашка с высоты уже птичьего полета; что же говорить тогда о холодном Альтаире? о Сириусе, который навряд ли теплее? Оттуда я не виден, меня нет, я не существую. И, тем не менее, именно эта микроскопическая субстанция, которую резвые колеса мчат во весь дух, в ближайшее время заявит о себе достаточно громко и внятно, чтобы быть услышанной на Млечном Пути. И Млечный Путь всего лишь первая остановка в бесконечном путешествии.
Только не возведите напраслины, я пока не в маразме. Я сознаю, что такая структура, как Районный Комитет Сетевой Артиллерии, Сектор четыре, не встретит меня цветами и оркестровой музыкой. Скорее всего, никто не обратит на меня особого внимания. Сотрудники будут носиться взад-вперед, благо забот у них по горло, и вообще я обнаружу вокруг себя кипение деловых будней без примеси какой бы то ни было истинной торжественности: сама по себе церемония стрельбы с годами утратила былую помпезность и сделалась рутинной. Обойдутся, конечно, вежливо, учтиво — но и только. Я уже давным-давно вышел из возраста, когда рассчитываешь на круглые, восторженные глаза, что пялятся на тебя со всех сторон, на глупое сюсюканье типа: "Смотрите, кто пришел! " Когда мне было лет пять-шесть от роду… тогда да, тогда бы это меня заинтересовало. И почему — «бы»? Так ведь оно и было. Сверх того — этот памятный момент и стал, возможно, началом долгого пути.
Мой отец — который до сих пор, понятно, в дороге и вдогонку которому я скоро отправлюсь (расстояния! дистанции огромного размера! сотни и сотни световых лет — сколько еще пройдет, пока на том же Альтаире получат возможность ознакомиться с некоторыми взглядами моего родителя) — так вот, мой отец впервые привел меня в Сектор, когда мне, как я уже сказал, исполнилось то ли пять, то ли шесть лет. Тогда сектора еще не размножились и порядковых номеров им не присваивали, был только один Районный Комитет, он же Сектор с большой буквы. Разумеется, мой детский, незрелый разум не мог вместить и сотой доли того, чем занимался отец. Да и того не вмещал, я просто не интересовался трудами батюшки — знал только, что тот — могло ли быть иначе — намеревается сделать какое-то невероятное, чрезвычайной важности открытие (он был, Царствие ему Небесное, философ-лингвист, создавший собственную оригинальную систему). И я, естественно, принимал это как должное. В противном случае кто бы пустил нас в это волшебное место, где ходят строгие подтянутые молодцы в отутюженной униформе, где света больше, чем в ясный полдень на морском берегу, а машины и приборы съехались, похоже, со всех концов земли. Во мне боролись страх и ожидание роскошного сюрприза; страх был животным, подсознательным, ибо умом я понимал, что отец никогда не привел бы меня в нехорошее, опасное место. А что касается сюрприза — что ж, мне постоянно делали сюрпризы, один другого приятнее, и если ничего подобного не будет, так стоило ли приходить в это взрослое место? Наверняка отец что-то имел в виду, ведя меня сюда, наверняка он задумал нечто сногсшибательное. Впрочем, я могу ошибиться. Возможно, он просто хочет мне что-то показать. Это, конечно, намного хуже, я буду разочарован, однако надежда еще жива. Не исключено, что в конце экскурсии восхищенные дяди и тети премируют меня чем-нибудь этаким за самый факт моего существования на свете. Если же нет — дело дрянь, хотя последний оплот упований, последний несокрушимый бастион продолжает держаться. Буфет — должен же здесь быть буфет! Везде бывает буфет. Буфетом меня не удивишь, но посещение его хотя бы отчасти сдобрит горечь неминуемого разочарования. Вот — я и не заметил, как оно уже сделалось неминуемым. И так меня мотало, словно маятник: от предвкушения волшебства до утешения стаканом заурядной колы с орешками.
Забегая вперед, чтобы больше не возвращаться, скажу, что колу мне купили, но не в Секторе, а в Луна-парке, куда мы отправились после. В Секторе произошло нечто гораздо более важное: мне определили цель. Сейчас, на склоне лет, я вижу, что отец — плохо это, хорошо ли — не мне судить вложил в меня программу-максимум; иными словами — из лучших побуждений зомбировал мое юное сознание. Нет, он не вдавался в подробности, он всего-то и сделал, что показал мне конечный пункт предстоявших мне скитаний и метаний. Скитаний духовных и творческих, поскольку за всю свою жизнь я так ни разу и не выехал за пределы родного города. Цель, таким образом, предстала мне размытой и нечеткой — некое далекое, недостижимое сияние, к которому я непременно приду, но случится это так нескоро, что я могу с полным правом вернуться до поры к светлым детским играм и хлопотам. Думаю, что в тот далекий миг отец и сам не знал, какие формы примет очерченный им финиш. Трудно что-либо загадывать, когда речь идет о несмышленом детеныше, каким я был тогда, стоявший с разинутым ртом в самом центре огромного, как мне мнилось, зала и внимающий негромким обещаниям, которые отец, нагнувшись, вкладывал в мои уши: сынок, настанет день, когда вся мощь, вся энергия и мудрость, что здесь сосредоточены, будут призваны послужить тебе одному недолго, не более нескольких секунд, но только тебе. Я не понимал, я хлопал глазами и верил, верил тому, о чем не имел представления. И тогда отец повел меня к Пушке.
…Сперва я решил, что передо мной телескоп. С телескопом я к тому времени успел познакомиться: родители, охваченные желанием дать мне разностороннее образование, уже водили меня в местную обсерваторию. В самом деле: продолговатый стальной корпус, колеса с шестернями, пузатые линзы, раздвижные дверцы, открывавшие в куполе проем, карты звездного неба многое, очень многое говорило в пользу мощного оптического прибора. Когда я подрос, мне открыли, что внешний вид Пушки был призван, скорее, возбуждать в избранных ощущение могущества, чувство законной гордости за человечество, ведущее прицельную стрельбу по созвездиям — дань первобытной агрессии и вечной людской неудовлетворенности. На самом же деле ни в корпусе, ни в рулевом управлении не было никакой нужды; при желании можно было бы спокойно обойтись передающими устройствами как они есть. В этом случае, однако, торжественность момента свелась бы к нулю, и потому разработчики проекта не ограничились пушечными формами. Персонал, обслуживавший орудие, нарядили в старинные артиллерийские костюмы, снабдили барабанами и трубами, обеспечили звуковое сопровождение выстрела — оглушительный залп, и даже позаботились о дыме, который — в разумном количестве — наполнял после выстрела помещение.
Мне, конечно, сразу захотелось пальнуть. Канониры, снисходительно улыбаясь, намекнули в ответ, что нос мой еще не дорос. К моему великому смятению тут же выяснилось, что не дорос он и у отца — а батюшка к тому времени был уже заслуженным деятелем науки. Отец — желая, наверно, собственными силами ускорить процесс возрастания — шутливо защемил мне инфантильный орган двумя пальцами и заявил, что и на смертном одре человек зачастую не может похвастать размерами носа, достаточными для выстрела. Моему огорчению не было границ. Я принялся мечтать о некоем аналоге коварного крокодила, который смог бы вытянуть мне приличный хобот, как вытянул его слоненку из незабвенной сказки. "Что поделаешь, — вздохнул отец, беря меня за руку и направляясь к выходу. — На свете развелось слишком много желающих обессмертить собственное имя." "И Пушек на всех не хватает?" спросил я, покорно следуя за родителем. Тот усмехнулся. "Ну почему же, Пушек достаточно. Только подумай сам: нельзя же обстреливать звезды чем попало. Так может дойти до того, что неизвестный и, возможно, очень занятой получатель, будет вынужден читать… ну, не знаю… ну, скажем, какие-нибудь дурацкие детские стишки — вроде ваших дразнилок. Представь себе: любой из вашей детсадовской группы, получив доступ к Пушке, сможет выстрелить в далекую туманность глупостью про какашки или еще про что… И там, среди звезд, кому-то придется отыскивать в кучах мусора сверкающие жемчужины, ради которых, собственно, и существует проект".
Понял я, признаюсь честно, по малолетству немногое, но все простил отцу за «какашки», над которыми хохотал и про которые повторял на протяжении минут десяти-пятнадцати. И даже на улице продолжал повторять и хохотать. А дальше был Луна-парк, где я вполне утешился и вернулся домой в превосходном настроении. Но семена были брошены, и почва оказалась для них весьма благоприятной. У меня появилась миссия, высокое предназначение, и уже на следующий день я взялся за дело. В те далекие годы я больше склонялся к рисованию, чем к литературному творчеству, и потому в недельный срок извел кипу листов, малюя пауков, разбойников, лесные пожары, военную технику и кровожадных животных. Мне часто изменяло терпение, и я безбожно халтурил, надеясь взять свое количеством. В конце недели я сгреб нарисованное в охапку и приволок родителям на суд, втайне рассчитывая, что никакого суда не будет, а будет водопад восторгов и похвал. Более того — я всерьез рассчитывал, что сей же миг отправлюсь на стрельбы и живопись моя, пропущенная сквозь сканеры, украсит нищие созвездия. Мать с отцом сделали все, чтобы сдобрить неизбежное горе, но потрясение оказалось чересчур сильным. Сам, своими руками, я отправил рисунки в огонь и дал себе страшную клятву никогда в жизни не связываться с Сетевой Артиллерией. Я утешал себя, глядя на многотомные собрания сочинений давно вымерших классиков, тем, что не находил в себе ничего общего с их коленкором и кожей; представить же маститых писателей иначе, нежели в виде непонятных взрослых книг, я просто не мог, и говорил себе: вот для кого все это! Не думаю же я всерьез превратиться в нечто похожее на эти заслуженные кирпичики — я, у которого две ноги и две руки, который любит омлет с ветчиной и сахарные трубочки, и кто никогда, разумеется, не умрет, а стало быть, не нуждается в их глупом космическом бессмертии. Бог с ними, со всякими Толстыми сотоварищи, пусть себе отправляются в вечный полет, от какого никому не жарко и не холодно. Вот только за отца обидно — неужто и он не заслужил?
К вечеру я уже не помнил о дневных огорчениях и с легким сердцем улегся спать.
…Последовал период бездействия, продолжавшийся несколько лет. Теперь мне ясно, что бездействие было обманчивым: работа, оставаясь неосознанной, кипела вовсю — что-то варилось. Возможно, варево так и осталось бы киснуть и бродить под крышкой, не получи я в нужный момент мощный импульс извне. Им я обязан моим школьным наставникам, которые в один прекрасный день осыпали меня безудержными похвалами: я отличился, написав удачное сочинение на вольную тему. Возможно, в большей степени они хвалили себя, воспитавших такого грамотного, умненького мальчишечку. Вольная тема, как я подозреваю, была в действительности невольной: крышка сдвинулась, и на поверхность вышло то, что прочно сидело в подкорке: наглые, самоуверенные разглагольствования о Сетевом творчестве и судьбах мира. Это был нестерпимый бред дилетанта-недоросля, однако слог мой всем понравился чрезвычайно, мне поставили высший балл, а сочинение, в качестве примера для подражания, читали в старших классах. Отец отнесся к моим достижениям очень серьезно: текст немедленно скормил компьютеру, а мне посоветовал хорошенько прислушаться к внутреннему голосу и разобраться в моих отношениях с изящной словесностью. А вдруг это любовь? Да, он, помню, выразился именно так. Я, сверх всяких приличий раздувшийся от гордости, ни с чем разбираться не стал и быстренько накропал еще одно «эссе» — во многом, на мой взгляд, удачнее первого. А потом еще два, одно лучше другого, а оба вместе — на голову выше первых двух (так я отрекомендовал их отцу). Отец, ни слова не сказав, снова уселся за клавиатуру. Меня задело, что не последовал однозначно восхищенный отзыв, но я уже чувствовал, что первый успех — даже если он останется единственным и неповторимым — задал вектор моей будущей деятельности: я буду писать.
Примерно в то же время я начал посещать компьютерные курсы. Очень скоро при одном лишь воспоминании о гениальном сочинении я краснел от стыда, готовый провалиться, испариться или еще каким-нибудь образом исчезнуть. До чего ж я был глуп! Вы спросите, почему, но я вам не отвечу — и по сей день мне хочется скрежетать от досады зубами. Воистину, писать возможно либо о том, что знаешь очень хорошо, либо о том, чего совсем не знаешь. Не помню, чья это мысль. Нынче я не скрежещу лишь потому, что зубов уже не осталось. Так что не просите, мой давний позор умрет со мною вместе. Впервые в жизни очутившись в Сети, я быстро уяснил причины, по которым Управление Общественной Безопасности взяло Артиллерию под свой контроль. И я еще мог сетовать на ограничения! Думаю, что выходка моя (я про сочинение — его я тоже, не откладывая дела в долгий ящик, хотел притащить в Комитет) осталась бы без внимания властей единственно в силу незрелости автора; человек же взрослый рисковал получить неизбежное унизительное внушение. Итак, по порядку: первым, что до меня дошло, был груз ответственности. Подробное знакомство с Сетевыми публикациями повергло меня в шок. Я никогда не думал, что мир населен таким количеством откровенно безумных субъектов. Если предположить, что хотя бы тысячная доля ими написанного устремится в просторы Вселенной, то волей-неволей придется быть готовым к чему угодно. Некоторые злонамеренные личности, к примеру, утверждали не таясь, будто наша планета населена вовсе не разумными двуногими существами, а какими-то чудовищными слизнями, жаждущими подчинять себе солнце за солнцем. Я ни секунды не сомневаюсь в умышленном, диверсионном характере таких заявлений. Неизвестные мерзавцы рассчитывали направить подобную информацию — анонимно, разумеется — во все известные галактики в надежде, что вдруг там кто-нибудь да есть, вдруг расшифрует, прочитает, примет за чистую монету и отреагирует в полном согласии с прочитанным? И, несмотря на то, что само существование потенциальных читателей до сих пор остается под большим вопросом, возможный риск никак нельзя было списывать со счетов. "Как слово наше отзовется" — в наши дни эта старинная проблема весьма актуальна, причем пониматься она должна в буквальном смысле. «Отзыв», чем черт не шутит, может принять форму превентивного удара, который мигом сотрет с карты мира цивилизацию зарвавшихся слизняков — на всякий случай. Никто не будет особенно вникать, так ли оно все на самом деле, шарахнут — и гора с плеч, никаких тебе забот и тревог. А потому любое сообщение, предполагаемое к залповой отправке, подлежало тщательной проверке на предмет безопасности для Земли, всестороннему анализу с целью установления степени достоверности и, наконец, коллективной оценке с точки зрения полезности вообще. Правота отца сделалась для меня очевидной: Пушек много, но желающих стрелять гораздо больше; отсев велик, процедура рассмотрения заявок продолжительна, и нужно сделать нечто поистине значительное, чтобы получить право на информационную нетленность.
Вторым, что я понял, было обстоятельство, которое, вообще-то, следовало назвать первым: я имею в виду настоятельную, неистребимую потребность человечества в Сетевой Артиллерии, без чего не возникло бы ни проблем, ни угроз. Невидимая информационная оболочка, окутавшая земной шар, настолько сгустилась, что Сетевые призраки — невзирая на отсутствие каких бы то ни было пространственных ограничений — почувствовали, что им тесно, и запросились наружу, вовне. Книг давно не печатали, вредный типографский свинец сменился компьютерным излучением. Очень скоро читатели вымерли как класс, остались одни авторы, которых со временем перестало интересовать внимание со стороны себе подобных — тем более, что внимания никакого и не выказывалось. Каждый стремился отметиться, каждый осваивал ячейку, да не одну, но никто никого не читал — отчасти потому, что никто не мог сказать с уверенностью, кто, собственно, данный конкретный текст написал. Между тем росли неудовлетворенные амбиции, Сетевая публика уже не желала создавать тексты, пророчества и руководства к действию пополам с моделями желательного мироустройства — она, памятуя, что в начале было Слово, хотела творить миры. И — обратилась к звездам. Перед оголодавшими творцами расстилалась целая Вселенная, девственная и непорочная. Первые Пушки нисколько не походили на своих огнедышащих тезок, это были обычные компьютеры, особым образом перемонтированные и переведенные в режим непрекращающейся трансляции. В космос хлынули потоки дерьма, и человечеству до потери лица оставалось не больше двух-трех шагов, когда проснулись компетентные международные организации. На самовольную рассылку информации наложили строжайший запрет. Обстрелом стали заправлять специальные ведомства, созданные на скорую руку; была введена система заявок, и в Артиллерийские Комитеты немедленно выстроились огромные очереди. Каждую заявку рассматривали и обсасывали со всех сторон, пытаясь установить, не содержится ли в представленном послании секретных стратегических сведений или еще чего, не подлежащего огласке. Между прочим, отцу моему в конце концов повезло: его работы были признаны в той же степени достойными вечности, в какой и безобидными, а потому ему посчастливилось при жизни стать свидетелем триумфального залпа. Это событие ставилось им столь высоко, что в Комитет мы отправились всей семьей, да еще пригласили кучу родственников. Наша процессия, счастливая и нарядная, вошла в прохладный вестибюль; нас немедленно проводили наверх, где в полной боевой готовности нас ожидали солдаты в белоснежных лосинах и сверкающих сапогах. Створки плавно разошлись, открывая батюшке дорогу в безбрежные межзвездные дали. Командир расчета шагнул вперед, проверил отцовские документы, повернулся к служивым, сказал: "Поехали!" И махнул рукой. От грохота у нас заложило уши, в ноздри пополз бутафорский дым. Резко запахло порохом, защипало в глазах. Довольный отец, щурясь, мечтательно уставился в небо и победно погрозил незримым адресатам пальцем. "Я их поemail", — сказал он радостно, а меня мгновенно разобрал смех, ибо я стал к тому великому дню достаточно взрослым, чтобы оценить сказанное.
После того, как электронный концентрат его размышлений отправился в тысячелетнее вакуумное путешествие, отец быстро сдал. Он забросил науку, объясняя свои действия тем, что все равно у него уже не будет второй попытки. Впрочем, чаще он пользовался другим объяснением — дескать, ему больше нечего сказать, дело жизни завершено и можно с тихой радостью предаваться грезам о дальних далях, где когда-нибудь сядут за расшифровку его новейшей (древнейшей к тому времени) лингвистической системы. Отцовская мысль разыщет получателя подобно свету микроскопических звезд, что доходит до нас с великим опозданием, постфактум, посмертно. Единственное, чем отныне интересовался батюшка, были мои сочинения, число которых неуклонно возрастало. Ему нравилось решительно все, он был самым благодарным читателем из всех, что у меня были. Он безропотно впитывал любую белиберду, шепча слова одобрения, и это неразборчивое преклонение в конце концов мне опротивело. У благодарного читателя оказался неблагодарный автор. Случалось, я умышленно подсовывал ему черновики, заведомо предназначенные мусорной корзине, и он, не в силах себе изменить, исправно заносил их в электронную память, откуда после я украдкой вычищал всевозможный хлам. Потом выяснилось, что у отца болезнь Альцгеймера. Оказалось, что он зачастую совершенно не понимал, о чем идет речь, и действовал по велению бездумной витальной силы, которой от века положено заботиться о продолжении родовой линии. К сожалению, я долгое время ничего не замечал. Диагноз вскрылся неожиданно, когда отец однажды утром вышел из дома и не вернулся. Через двое суток посторонние люди привели его обратно: он заблудился и не мог вспомнить ни своего имени, ни адреса. Тут я прозрел и раскаялся в проявленном жестокосердии, ибо с некоторых пор, утомленный родительским обожанием, вообще перестал снабжать отца рассказами и повестями. Он, помню, застывал на пороге с умильно-просительным выражением на лице, топтался там, переминался с ноги на ногу в робком ожидании, а после потихоньку уходил, боясь помешать моей творческой деятельности. Я же наливался спесью и как-то раз, о чем до сих пор не могу вспоминать без содрогания, отважился по собственному почину, без предварительных обсуждений и консультаций, навестить Комитет. Мне казалось, что уж принять-то заявку они не откажутся — формальная, ни к чему не обязывающая процедура. Главное — заявить о себе, а там поглядим, поборемся. Меня, однако, не стали даже слушать и заявили, что будь я даже гением из гениев, пришел я напрасно: слишком молод, на губах белеет молоко, а в очередь к Пушке тем временем выстроились самородки, уже стоящие на пороге вечности, уже занесшие над пропастью ногу. И я ушел, посрамленный и униженный, злясь на отца, Сетевые порядки; впрочем, что мелочиться — мне хотелось взорвать целую Вселенную с миллионами бестелесных снарядов, исторгнутых Сетью.
Удар был настолько чувствителен, что я едва не пошел на преступление, за что, бесспорно, поплатился бы всем своим призрачным будущим. Мне очень хотелось хоть перед кем-нибудь облегчить себе душу, и выбор пал на W., с которым мы вместе учились в колледже. Почему-то мне чудилось, что он окажется чутким и внимательным слушателем — наверно, потому, что втайне от себя самого я, зная о технических способностях W., рассчитывал получить от него еще и неизвестно какого рода помощь. W., однако, помимо того, что по праву считался компьютерным асом, был изрядный авантюрист. Он выслушал меня и объявил, что я не ошибся и пришел по верному адресу. "У тебя отличное чутье, — похвалил мою интуицию W. — Ты постучался в нужное время и в нужную дверь". Тут же выяснилось, что у него давным-давно созрел отчаянный, но обреченный на успех план. W. задумал взломать компьютеры Комитета и осуществить самовольный запуск. Принципиально в этой идее не было ничего нового; просто каждому ребенку было известно, что Комитетская защита имеет столько степеней надежности, что нечего и пытаться сунуть в нее сопливый нос. W. пренебрежительно отмахнулся; когда же он услышал мой лепет насчет отсутствия в нашем распоряжении Пушки, вообще расхохотался и посмотрел на меня, как на душевнобольного. Так я окончательно распрощался с невинной наивностью (можно и наоборот — с наивной невинностью), узнав, что в Пушке как таковой нет никакой надобности, все это декорация и сплошной охмуреж, для залпа достаточно заурядной клавиатуры и десяти пальцев плюс его, W., мозгов. W. рассказал, что готовился к этой акции, заботясь прежде всего о себе самом: у него тоже было много чего высказать несведущему миру, имелись даже серьезные открытия в области информатики, которые сотрудники Общественной Безопасности сочли нежелательными для широкого распространения. "Боятся, что марсиане пронюхают! — презрительно кривился W. — Чихнешь в ладошку, так у них уже очко играет". Вскоре мы ударили по рукам; W. уверил меня, что ему ничего не стоит прицепить к своему сообщению мое. Тут я совершил самый мудрый в своей жизни поступок: отказался. Вернее, отказался не совсем, отказался от путешествия в связке с W.; сверх того: просил повременить с моими трудами и пока не посылать их даже отдельно, а рискнуть в одиночку, раз уж он такой продвинутый и смелый. Мы едва не разругались, но после того, как я сумел убедить W. в моей абсолютной компьютерной бездарности, он сменил гнев на милость и даже стал посматривать на меня с жалостью, словно на убогого. Он, конечно, думал про себя, что страхи мои вызваны исключительно непониманием беспроигрышности его затеи. "Хорошо, согласился W. — Будь по-твоему. Сначала я, а ты — следом". Мне пришлось потратить еще полчаса на новые внушения, и мы сошлись на том, что выстрелы не последуют один за другим, а будут произведены с интервалом в сутки — за мной оставался сеанс номер два. Это, наверно, подло с моей стороны, но мне хотелось проверить, так ли хорошо, как хвалился, обезопасил свой замысел W. Сутки ждать не пришлось, хватило пары часов: к моему однокашнику пришли серьезные люди и без лишних предисловий определили ему наказание. "Вы преступили закон, — сказали комитетчики. — Вы нарушили правило, которое лежит в основе всех прочих параграфов и уложений. Посему принято следующее решение: во-первых, вы навсегда лишаетесь права на выстрел. Бесповоротно, необратимо, какими бы ценностями не предполагали бросаться. Ваше сообщение перехвачено и арестовано. И вот вам на закуску: оно, как вы и надеялись, будет отправлено, но только под другим именем. Например, под псевдонимом Z. Ваше авторство, таким образом, нигде не будет зафиксировано, и пусть эта фальсификация послужит вам уроком". W. зашатался, потому что ничего ужаснее придумать было нельзя. Он валялся у пришельцев в ногах, порывался тут же, не сходя с места, вдребезги разбить свои приборы и впредь под страхом смерти не приближаться к компьютеру — тщетно. Садизм карателей дошел до того, что свое намерение они осуществили прямо в творческой лаборатории W., воспользовавшись его аппаратурой. Когда безжалостные гости покинули помещение, W. уселся на пол, обхватил руками голову и впал в прострацию. Мне удалось поговорить с ним непосредственно после события; он выглядел несколько успокоившимся и пытался обмануть себя бредовыми предположениями: все, мол, сказанное — липа, блеф, его берут на понт, а на самом деле… на самом деле, очень может статься, Комитет вообще ничего никуда не посылает, вся их деятельность — сплошной театр, грандиозное надувательство. Я, как мог, старался его утешить, соглашаясь с самыми дикими гипотезами. Наконец, мне померещилось, что я преуспел, но это было не так. На следующий вечер W., не оставив прощального письма, повесился.
Меня долго не покидали сомнения: в этом событии — насколько значительна доля моей вины? С одной стороны, я мог не убедить W. потому, что не сумел отказаться от примерки его горя на себя самого. Результаты примерки — один лишь намек на перспективу уступить свой главный труд наспех состряпанному фантому — оказали на меня столь угнетающее воздействие, что все мои доводы насквозь пропитались фальшью. Между прочим, мне точно известно, что почти никто из Сетевых астронавтов не отправлялся в путешествие под псевдонимом даже если до того творил исключительно под вымышленным, броским именем. Я, утверждая, что никакой трагедии не произошло, ненатуральностью голоса доказывал обратное. С другой стороны, это же обстоятельство служило мне оправданием. Удар был слишком силен для любого, даже самого закаленного автора, и это означает, что я мог делать с W. что угодно, вплоть до погружения его в гипнотический транс, — он все равно намылил бы веревку. Так или иначе, перевесила низкая радость от благополучно завершившейся прогулки по лезвию ножа. Неблагородно, да. Согласен. Бесчеловечно. Позор. Но двери передо мной не захлопнулись, и жизнь продолжалась.
Я запасся терпением и с удвоенной энергией принялся за работу. Не брезговал ничем, писал фантастику и криминальные романы, философские этюды и многозначительные притчи, не забывая о Главном Труде — собственном жизнеописании, которое, по замыслу моему, должно было содержать в себе несколько измерений. В частности, личность мою при внимательном чтении следовало переместить на задний план, на первый же выдвигалась суровая эпоха, слепком с которой и являлась история одного из многих — меня. Кое-где я позволял себе мелкие шалости с реальностью, забавные розыгрыши; я украшал свой труд мифологическими сюжетами и проводил соответствующие тонкие параллели; брал читателя за руку, вел его, зачарованного, по нитям сотканной паутины, и вдруг бросал — на самом интересном месте, заставляя бестолково крутить головой в поисках испарившегося гида и спешно разбираться: куда же меня занесло? На следующей странице я великодушно протягивал ему спасительную ладонь и возвращал в привычную повседневность, нашпигованную, однако, капканами и ловчими ямами. Я уговаривал себя не спешить, не ставить точку, ибо заявку мою в конце концов приняли: зарегистрировали, пронумеровали, выдали подателю сертификат, поставили на очередь за постановкой на очередь.
Произошло это уже после смерти отца, который скончался совершенным ребенком. Шептались, что разум покинул его с Сетевым залпом одновременно: начинка, бросив чемоданы, сбежала повергать в изумление звезды, а осиротевшая материя, вздохнув, поплелась во прах, на станцию «Младенчество». Я же, достигший зрелых лет, на сорок дней выпил водки, положил в карман драгоценный диск и вышел из дому, оставив скорбное собрание поминать батюшку (уже перешли к песням и пляскам). Почему-то меня не покидало предчувствие успеха, отчего напряженность сочеталась во мне с прохладным равнодушием. Так оно и оказалось: я вдруг беспрепятственно миновал первый, самый бездушный кордон: меня не завернули назад, направили дальше, и я пошел, а там уже все было иначе, сплошная любезность — пусть казенная, но все равно приятно. Дежурный Артиллерист вежливо поинтересовался, какого рода сообщение я предполагаю послать. Здесь мое равнодушие улетучилось, я вспотел и севшим голосом ответил, что пишу художественную прозу — так, пустячок (я мерзко хихикнул), что располагаю двумя сотнями текстов различного объема и готов представить кое-какие референции (я заранее подготовился, запасясь немногочисленными, увы, рецензиями). Дежурный уверил меня, что в референциях нет необходимости, у них своих референтов и рецензентов хоть отбавляй; все, что я принес, будет тщательно проанализировано, и через месяцок-другой я получу ответ. Я знал, что ответ будет касаться лишь самой возможности участвовать в стрельбах, что очередь огромна и нет никаких надежд получить через месяц уведомление о скором залпе — знал, но все-таки для очистки души уточнил, когда же сможет состояться — в случае благоприятного решения долгожданный выстрел. Дежурный воздел руки к небу и закатил глаза. Откуда же ему знать? Он сам, если мне угодно это слышать, давным-давно составил весьма важное сообщение и тоже был вынужден — да-да! сплетни о якобы имеющихся у сотрудников Комитета абсолютных приоритетах — зловредная болтовня! вынужден ждать годами и десятилетиями (на вид ему было лет тридцать-тридцать пять, и к этим его словам я отнесся с недоверием). Кстати, он позволит себе последний вопрос: какому жанру, если это не секрет, я отдаю предпочтение? Скрывать мне было нечего, и я сказал, что пишу, в основном, философскую псевдофантастику. Артиллерист понимающе кивнул, сделал пометку. Я спросил его еще об одной вещи: может получиться так, что к тому моменту, когда разрешение на залп будет даровано, у меня окажется в столе произведение, стоящее на голову выше тех, что представлены в заявке. Будет ли возможность его присовокупить? Дежурный, поразмыслив, ответил утвердительно. Конечно, сказал он, потребуется некоторое время для комплексной проверки, но это вопрос пяти-десяти минут. Те, кто вот-вот отправится за пределы планеты, имеют право на ускоренный машинный анализ. Поверхностный, самое основное вам понятно? И отношение, разумеется, неприлично снисходительное. Артиллерист даже улыбнулся покровительственной улыбкой: а как же вы думали? В Комитете собрались понятливые, толковые люди, они всегда учитывают вероятность рождения за годы ожидания труда более значительного, нежели тот, что много лет назад был принят к рассмотрению. Короче говоря, он до того обласкал и успокоил меня, что дальше некуда. Я понесся домой, словно на крыльях.
Дома же все к моему приходу перепились и не сумели оценить случившегося, но я им простил. Выгнал всех поскорее, улегся в постель и стал воображать мою изумрудную планету — одинокую, гордую, перенасыщенную электричеством. В ушах моих стояла канонада: каждую минуту, каждую секунду Земля посылала Сетевой залп за залпом. Вот в прицеле созвездие Лебедя… вот Южный Крест, к которому сотни тысяч лет спустя прибьют усопших философов и богословов… Ковш Большой Медведицы наполнится высокомудрыми призраками, тенями великих… Содержимое хлынет через край, прольется невидимым ливнем, что будет падать, и падать, и падать… Кто там до сих пор не слышал о нас? Кассиопея? Андромеда? Пли!.. Прямой наводкой — по пульсарам и квазарам! Получите!… Напитайтесь, черные дыры! Трепещите, белые карлики! Согнитесь под грузом нашей мудрости! Извольте ознакомиться! Сеть содрогается от перенапряжения… Нам все это уже ни к чему… Мы осточертели друг другу… Во имя жизни вечной — огонь! Огонь! Огонь!..
Придя в себя, я обнаружил, что наношу бессловесной подушке удар за ударом. Слава Богу, моему экстазу не нашлось свидетелей. Но я был просто обязан разрядиться, во мне накопилось слишком много невостребованной энергии — не той, которой созидают, а той, что, аккумулируясь в лаврах, венчающих голову творца, щедро изливается на толпы поклонников. В мире немало чудесного: судьбе угодно было зашить фанатов в многострадальную подушку — их-то я и месил, воображая далекие светила поверженными, а себя попирающим спирали галактик. Мысленно я похвалил себя за предусмотрительную честность: слово «псевдофантастика» определяло многое, автоматически перемещая мои труды в компанию им подобных опусов с грифом "так не бывает". Сей гриф освобождает от многих придирок — не бывает, и все тут, иначе наша планета — несомненно, к моменту чужеродного посещения, мертвая — подверглась бы бесплодным инопланетным раскопкам. Вдохновленные пионеры — многорукие и многоногие, в пионерских галстуках, завязанных многоопытными морскими узлами, — положили бы жизни на поиски пропавшей цивилизации хоббитов, гнорков и прочих виртуальных полтергейстов. Вообразите себя жителями космически недосягаемых, неопознанных далей, получающими отрывочные, сведения о сказочных феодалах, которые бьются за первенство среди первых… о птицах, возрождающихся из пепла, о дереве Сефирот… вообразите, что все это, не будучи снабженным специальными пометками, будет принято за чистую монету… какое, к дьяволу, представление о подлинной, давно уснувшей Земле, возникнет в удаленных носителях мышления? Так что меры предосторожности, принимаемые Комитетом, казались весьма разумными. Это была цензура, но цензура, призванная служить истине, а не скрывать ее из мелких сиюминутных соображений.
Довольно скоро я получил из Комитета хвалебный, хотя и несколько сухой, отзыв, а также красиво оформленное уведомление, где сообщалось о присвоении мне окончательного, не подлежащего пересмотру номера в очереди. Номер тот, однако, не так уж много значил: я уже знал, что очередь не одна, их много в соответствии с правами заявителей на разнообразные льготы. Никто не знал, сколько воды утечет, пока я пропущу вперед себя неизвестных первоочередников. Но тут уж ничего нельзя было поделать; конечно, обходные пути существовали всегда — были бы деньги — но денег-то у меня не было в помине. Да и разорись я на взятку, верх все равно взял бы страх быть пойманным за руку и тем бесповоротно все испортить. Я направил в Комитет официальную благодарность и постарался сделать лучшее, что оставалось в моем положении: выкинуть Пушку из головы, чтобы не манила и не мешала. Меня ждал Главный Труд. Но, когда я взялся за перо, неожиданно выяснилось, что ждал он от меня единственно лишь точки: я ни слова не мог добавить к написанному ранее. Можно было подумать, что я своим визитом в Комитет подвел под творчеством некую черту. Стоит ли выкладываться, когда неизвестно, какую оценку получит созданное? Быть или не быть — не вопрос, вопрос в другом: будешь ли ты, если выберешь первое? Доброжелательное отношение к стрелку это, конечно, здорово, однако гарантий мне никто не давал. Я ужаснулся, поняв, что принужден кое о чем вспомнить: например, об основной работе, приносившей мне заработок — все эти годы я отдавал ей много времени и сил, внутренне совершенно о ней не заботясь и витая совсем в иных мирах. Не буду говорить, что это была за работа, она не стоит того. Тем не менее, отныне я оказался повернутым к ней лицом, ибо ничего другого себе не оставил. И постепенно моя жизнь преобразилась в бесконечный, занудный сон, который чрезвычайно редко нарушался немногими часами творческого бодрствования. Тогда я бросался к столу, извлекал неоконченную рукопись и лихорадочно заносил в нее новые соображения и наблюдения. Из манускрипта понемногу улетучивался вымысел, обрывались сюжетные линии, а герои лопались, словно мыльные пузыри. Текст все больше и больше приобретал вид сухого отчета об увиденном и услышанном с лаконичными авторскими комментариями. Но он, как я считал, ничуть от этого не проигрывал: работа выходила в новое измерение, нежданное и теперь уже последнее, чем замыкался своего рода круг: я возвращался к началу начал, из точки, что венчала дело, в точку многопотентную, первичную.
С годами ожидание, которое, невзирая на мое сознательное небрежение, сидело очень глубоко и точило меня, как древесный жук, обернулось сущим мучением. Наверно, думал я, так некоторые ждут естественного конца, освобождающего от бремени жизни. Его и страшатся, и в то же время тайно желают, и даже приближают всякими излишествами и безумствами. Мои надежды на прижизненную стрельбу стремительно таяли: человечество размножалось в геометрической прогрессии, а это означало, что неизбежно умножение проклятых льготников, жуликов и проныр, трескучих виртуальных тусовщиков, которые спят и видят выплеснуть в эфир свою дешевую галиматью. Я представлял себе существ, наделенных способностью видеть радиоволны, и пытался вообразить, какой бы предстала их взгляду Земля: может быть, она будет похожа на пушистый половозрелый одуванчик, рассылающий невесомые семена, или на сыплющий искрами бенгальский огонь. А те, кто имеет уши, наверняка бы сказали, что по причине скорострельности Сетевая канонада превратилась в непрерывный, монотонный, истеричный вой многоголосого гибрида, выбравшего «быть». Возможно, наша планета сделалась даже своеобразной разновидностью Сверхновых — что нам, в конце концов, доподлинно известно о последних?
И вот, когда я счел, что ни надежд, ни желаний во мне больше нет, когда пара-другая болезней из числа самых гнусных приковали меня к постели, вызов пришел, меня пригласили в Комитет. Узнав об этом, я мигом позабыл о стариковской мудрости, и жажда бессмертия вспыхнула во мне с той же силой, что и в молодые годы. Я призвал домашних и потребовал принести мою рукопись. Она уже два года как была полностью закончена, преобразована в мегабайты и килобайты, сброшена на диск, хранившийся за семью печатями, но мне хотелось подержать в руках стопку бумаги и оценить вес прожитых лет физически. Мне принесли, я рассыпал страницы. Титульный лист спланировал в утку, наполненную доверху, и я усмехнулся, издеваясь над жалким символизмом материи. То, что оставалось в моих руках, я отправил следом и торжествующе прошамкал: "Карету мне!". Карета явилась по первому зову; меня вынесли из дома, и я вдохнул наполненный электричеством воздух. Когда машина тронулась, в моей голове мелькнула мысль, что вышло бы в духе моих историй доставить меня по ошибке не в Комитет, а в желтый, скажем, дом.
Ехать было недалеко, через пять-семь минут мы прибыли, куда хотели. Как и в прошлое посещение, меня окружала благожелательная атмосфера. Сотрудники вели себя предупредительно и заботливо, я же потерял терпение и походил на пятилетнего ребенка, попавшего в театр и ожидающего третьего звонка. Срывающимся голосом я напомнил им о Главном Труде, одновременно шаря под собой в поисках диска. Мне ответили, что наше соглашение остается, вне всяких сомнений, в силе — придется лишь чуть-чуть повременить с выстрелом. Я понимающе кивнул, стараясь не выдать волнения. Поверхностная проверка все-таки остается проверкой, и я чувствовал себя, как на самом важном в жизни экзамене. Наконец, ко мне вышел старший офицер и сообщил, что дело улажено. По мнению экспертов, в Главном Труде не содержится ничего предосудительного, и его с чистым сердцем можно присовокупить к уже заявленным работам — под двумя грифами: авторским, "Философская псевдофантастика", и Сетевым — "Так не бывает".
Сперва я решил, что ослышался, но мне возразили, что нет. Я попытался втолковать им, что Главный Труд не может идти в одной связке с трудами неглавными — во всяком случае, под тем же грифом. "Как же "не бывает"? — у меня закружилась голова, задрожали руки. — Это же моя жизнь!" Старший офицер встревожился и попросил меня не волноваться. Затем, прищурясь, он внимательно посмотрел на меня, что-то прикинул, нагнулся и на ухо шепнул, что гриф "Так не бывает" — универсальный. Подобным сопровождением обеспечивается практически любая информация, отправляемая за пределы Земли. Конечно, существует гриф "А бывает вот как", но в тайне от общественности им снабжается лишь узкий поток особых сообщений, которые в качестве абсолютной истины передаются специальной компетентной службой — с разрешения и одобрения правительственных и международных структур. В противном случае офицер пожал плечами — пакет даже вполне достоверных сообщений предоставляет адресатам чересчур неоднородную картину происходящего на планете.
Я сразу вспомнил об отце, готовом лопнуть от счастья, и понял, что спорить не о чем и не с кем. "У меня есть последнее желание", — сказал я решительно, поскольку слишком многое обесценилось в мгновение ока. Офицер улыбнулся дежурной улыбкой и взглянул на часы; времени у него было в обрез и он не желал тратить его на беседы с дряхлой развалиной. Но отменная выучка не позволила ему проявить грубость, и он с легким вздохом молвил, что находится в полном моем распоряжении. Сам не зная, зачем, я поманил его пальцем, и артиллерист вторично склонился надо мной. "Я хочу воспользоваться правом на псевдоним", — прошептал я, прерывисто дыша, и тот невольно скривился, ибо у меня отвратительно пахло изо рта. Но даже гадливость не смогла замаскировать гримасу подлинного удивления на лице комитетчика. Оно и понятно — с подобными просьбами к нему обращались исключительно редко. Жестом я остановил его, не желая, чтобы с губ офицера срывался встречный вопрос. В просьбе моей, несмотря на ее причудливость, не было ничего ужасного, и он решил побыстрее покончить с этой канителью. "Как же вам будет угодно назваться? " — осведомился артиллерист. Я назвал ему фамилию W. Мистификация должна быть мистификацией. Офицер запросил справочную службу, выслушал ответ и некоторое время размышлял, гадая, не принесет ли ему вреда опрометчиво принятое решение. В конце концов он решил, что не принесет, попросил меня расписаться и подкатил коляску к Пушке. "Стреляйте сами", — я махнул рукой и отвернулся.
Артиллерист скомандовал залп, подчиненные метнулись к орудию.
Слабый слух не дал мне по достоинству оценить победный грохот.
Возвращаясь домой, я подумал, что под фамилией W. Главный Труд, униженный оскорбительным ярлыком, таит в себе больше правды, чем я предполагал изначально. По крайней мере, между жизнями авторов — реального и мнимого — не виделось существенной разницы. Разве что последнему больше повезло, стервецу такому.
апрель 2000
Добрый вечер
У меня много друзей. Я говорю им: добрый вечер.
— Добрый вечер, Мари-Луиза.
— Добрый вечер, Виссарион.
— Привет, Захарий.
— Мое почтение, Джек.
— А вот и я, дорогая Настасья, что нового?
Они отвечают по-разному.
Мари-Луиза нараспев произносит:
— Добрый вечер, сударь.
Виссарион взлаивает:
— Добрый вечер, старина.
Захарий бурчит:
— Привет, привет, давненько не виделись.
Джек молчит, покусывает мне руку, накрывает на стол. Смешно он, однако, топочет.
— Я вконец извелась, — жалуется Настасья. Сахарная пудра раскисает в сиропных слезах. — Я сохну. Я таю.
Отвечаю:
— Ну, ничего, ничего. Сейчас сядем кушать.
Мою руки, включаю телевизор. Репортер рассказывает о достижениях конверсии. Масло вместо пушек: вот наш сегодняшний девиз.
Джек приносит полотенце, виляет хвостом. Я поправляю ему очки, мягко выговариваю:
— Эх, ты, голова — два уха. Грыз? Дужка вон треснула.
Джеку стыдно, он прячется. Из столовой доносится невнятный разговор. Мне хорошо с моими друзьями. Раньше я был одинок, но теперь все в прошлом.
Вхожу в столовую, все в сборе, расселись по местам.
Повязываю салфетку.
Я, когда ем, не свинячу, но всякий прием пищи — важный ритуал.
— О чем разговор? — спрашиваю их бодро.
— Захарий занудничает, — объясняет Виссарион. — Разводит бодягу про смысл жизни.
— Да? Любопытно, — я отхлебываю из кружки. — И в чем же, Захарий, ее смысл?
— Смысл жизни в том, чтобы жить, — хмуро изрекает Захарий. — Ограниченность мышления и стереотипы фантазии не позволяют выйти за рамки доступного. Надо просто жить, не раздумывая, и не гневить Создателя.
— То-то ты не раздумываешь, — насмешничает очаровательная Мари-Луиза.
— Dixi, — огрызается Захарий.
— Ну, а ты как думаешь, Настасья? — обращаюсь я к моей сдобной толстушке. Мочи нет, как люблю ее.
— Людьми надо быть, — ворчит Настасья. — Вот вам и весь смысл.
Джек, сверкая очками, встает на задние ноги: служит.
— Правильно, Джек, — хвалю я его. — Долг.
Все, кроме Захария, аплодируют. Захарий куксится, он чем-то недоволен.
— Хорошо, — я отхлебываю снова. — Кто сегодня расскажет притчу?
— Позвольте мне, — просит Виссарион.
— Изволь, дружище, — я откидываюсь на спинку кресла и закуриваю. Привычка — вторая натура, хотя курить перед едой ужасно вредно. Мои друзья весьма деликатны, они делают вид, будто ничего не замечают. Даже Настасья.
— Сказка про Данко, — откашливается Виссарион. — Давным-давно, когда люди жили среди трав и деревьев, нашелся среди них один Данко, молодой человек. И сказал им: пошли! И вот они шли, шли, и тени сгущались, и призраки мерещились, и вопили тропические птицы. Пока не стало темно. Тогда неблагодарные люди закричали: мы не видим дороги, куда ты нас завел? И приступили к Данко, намереваясь его разорвать. Но он не стал ждать, пока его разорвут, и сам вынул из груди пылающее сердце. Сердце осветило дорогу, и все пошли дальше.
— Замечательно, Виссарион, — я качаю головой, искренне поражаясь его смышлености. — Это все?
— Нет, там еще есть, — говорит Виссарион. — Через три или четыре часа люди стали кричать, что они голодны. И начали подступать. Тогда Данко, уже бессердечный, приманил орла, и орел выклевал ему печень. Данко поднял ее высоко, показал, а после бросил людям, и люди наелись, а тени, посрамленные, немного отступили.
— Так. Очень интересно. Что же было потом?
— Потом началась чаща, а за чащей — трясина, а за трясиной — луг без конца и края, а за лугом без конца и края — горы, а за горами — кишлак, а за кишлаком — опять трясина, и чаща тоже. И люди окружили Данко, который шел, как заведенный, и начали ругать его и проклинать за то, что он их, дескать, завел, неизвестно куда. Тогда Данко, подумав, шагнул к развесистому дубу и треснулся о него головой так, что мозги вылетели. И, когда они вылетели, он взял их в руку, где раньше было сердце, давно сгоревшее, и поднял высоко, освещая путь. А люди увидели в мозгах ужас, как много мыслей…
— Просто здорово. Чем же все кончилось?
— Кончилось тем, что они стали питаться этими мыслями, и все умнели, развивались, пока не развились до программы конверсии.
— Браво! Браво! — мои друзья в восторге, они дружно хлопают. Я растроган. Надо же — всего рупь семьдесят четыре.
— Ну, пора за дело, — говорю я торжественно. — Притчу мы выслушали. Кто прочтет молитву?
— Я, — поднимает руку Мари-Луиза.
Я складываю ладони лодочкой. Мои друзья делают, как я — кто во что горазд. Ясно, что лодочка получается не у каждого.
— Создатель многоликий, — четко и старательно выговаривает Мари-Луиза, — благослови сию мирную трапезу. Не забудь нас в своих помыслах и планах, восстанови нас в преумноженном совершенстве. Содержи наш рассудок в смирении, сохрани в нас кротость, и пусть калорий будет столько, сколько отмерено, а что сверх того — то от лукавого. Аминь.
— Аминь, — отвечает ей эхо.
Я смахиваю навернувшуюся слезу. Подставляю ладонь, Мари-Луиза легко на нее запрыгивает. Одной ножкой она стоит на линии жизни, другой — на линии ума. Мари-Луиза — сосиска, рупь сорок три. Я скусываю ей головку, вдумчиво жую. Она продолжает стоять, ожидая дальнейшего употребления. Беру кружку, запиваю.
— Начни с горячего, — укоризненно вмешивается Настасья. — Желудок испортишь.
Я смотрю на нее виновато, откладываю Мари-Луизу, тянусь за Джеком. Режу его в мелкое крошево, беру на вилку. Он хорошо прогрелся и не остыл, несмотря на предобеденные разговоры. Закусываю очками, беру Захария, крепко сжимаю. Захарий широко разевает рот, из которого прямо на Джека сползает горчица. Я переворачиваю Захария, сжимаю противоположный конец, и на Мари-Луизу вываливается хрен.
Божественно. Как тонко придумано: у каждого органа, помимо декоративных функций, есть пищевое предназначение.
Чавкаю.
— Ешь с хлебом, — напоминает заботливая Настасья.
Беру Виссариона, отрываю зубами корку. Одновременно прислушиваюсь к телепередаче: там теперь показывают документальный исторический фильм. Первые успехи клонирования и селекции, зловещие планы военщины. Первые гибриды: человек-свинья, человек-дельфин, человек-боевой слон, человек-ящер. Разумеется, это солдаты, чего еще ждать от ястребов в погонах. А также сержанты и офицеры младшего звена. Вооруженные гориллы, морозоустойчивые альпийские стрелки. Акции протесты, митинги, мирные шествия.
Доедаю Мари-Луизу, запиваю.
Бархатная революция, курс на мирную жизнь. Повальная конверсия. Первые опыты скрещивания человека с продуктами питания. Первая ромовая баба. Поющее масло, танцующий батон. Президент в наброшенном поверх пиджака халате посещает кулинарный роддом. Первая потребительская корзина — малая. Она включает Виссариона, Захария, Мари-Луизу и Джека. Я сластена, могу себе позволить еще и Настасью, на десерт.
Я холостяк и в еде неприхотлив.
Завтра мне выплачивают жалованье. Куплю Большого Степана, который пиво. Надо же, до чего дошла человеческая мысль: самого Степана, то есть емкость, можно сдать, и заплатят.
Тем, что осталось от Виссариона, подчищаю тарелку. Смахиваю крошки: пряжку от туфельки Мари-Луизы, усы Захария, рожки Джека.
Настасья сидит на чайнике, пряча его под широкой юбкой. Я раздеваю десерт, снимаю обертку, кусаю, жую, глотаю.
Убираю со стола.
Друзья ушли, я один, однако не унываю. Завтра набью холодильник.
Я готовлюсь ко сну.
Читаю вечернюю молитву.
Забираюсь в постель, листаю Библию, Книгу Притчей Соломоновых. Нет, серьезное чтение в голову не лезет. Беру авантюрный роман, засыпаю на пятой странице.
Мне снятся друзья.
Я о чем-то с ними спорю, мы куда-то идем; нас окружают долины, леса и горы; впереди — далекое, нестерпимо яркое сияние.
Oктябрь 2000
Зубы
— Ваше желание звучит довольно странно, — стоматолог смешался. Он уже хотел взгромоздиться на стул-вертушку и произвести манипуляции, отработанные до автоматизма. Однако вместо этого доктор, выслушав пациента, неуверенно топтался возле бормашины и прикидывал в уме, чем его услуги могут закончиться.
Снизу вверх, из кресла, на него угодливо взирал терпеливый N.
— Я понимаю, — сказал он кротко. — Видите ли, я потому и записался последним — ведь работа, должно быть, займет немало времени.
Стоматолог раздраженно уставился на вежливое лошадиное лицо.
— Согласитесь, — заметил он осторожно, — не каждый день слышишь просьбу удалить все зубы. Должен напомнить, что я нашел у вас всего лишь две малюсенькие дырочки. Остальные зубы здоровы. В чем же дело?
N. вздохнул.
— Боюсь, что объяснения затянутся надолго. Вы и так…
Врач остановил его жестом.
— Ничего, ничего. Вы абсолютно правы — кроме вас больных сегодня уже не предвидится. Будет лучше, если вы изольете душу.
N. обреченно потупил глаза.
— Что ж, — сдался он тихо после внутренней борьбы, — я расскажу. Но предупреждаю, что мои доводы покажутся вам…как бы помягче выразиться…слегка абсурдными.
Стоматолог с преувеличенной учтивостью закивал, предлагая упрямцу говорить дальше и заранее соглашаясь с вероятной оценкой услышанного.
N. сложил пальцы в замок и несколько раз рассеянно ими пошевелил.
— Все дело в снах, — признался он наконец. — Несколько раз я имел несчастье увидеть во сне зубы.
Стоматолог молчал. Будучи во власти простительных подозрений, он теперь раздумывал, какая форма психиатрической помощи окажется эффективной. Отправить беднягу в психдиспансер или сразу вызвать бригаду? N. тем временем гнул свое:
— Ну так вот. Однажды мне приснилось, будто один из зубов расшатался, а десна начала кровоточить. Кстати, зуб и в самом деле был никудышный. Впоследствии я долго с ним мучился, пока его не вырвали. А примерно через месяц после сновидения скоропостижно скончалась моя тетушка.
N. замолчал, ожидая реакции и с тревогой следя за доктором. Тот притворно поразился:
— М-м? В самом деле? Сколько же, позвольте узнать, ей было годков?
— Восемьдесят четыре, — ответил пациент вызывающе.
Доктор не без труда восстановил на лице заботливое выражение.
— Так. Прискорбно. И что же?
— Да ничего — я тогда о зубе и не вспомнил. Как и в следующий раз, когда приснилось, что зуб мне выбили, и снова больной.
Стоматолог рассудил, что полезней все-таки слушать сидя, забрался на вертушку и приветливо улыбнулся. Нога его, закинутая на другую, чуть заметно покачивалась.
— Дядюшка последовал за тетушкой, — строго сказал N., не видя повода к веселью.
Доктор немедленно погрустнел.
— Простите за дотошность — а сколько лет было вашему дяде?
— Столько же, — последовал сдержанный ответ. — Напрасно вы улыбаетесь тогда я опять ничего не заподозрил. Лечил себе зуб — и ладно. Пока мне не открыли глаза. Пока я не начал кое-что понимать.
— Вы не волнуйтесь, — доктор полез в карман за спичками и папиросами. Не возражаете? Уверяю — я слушаю очень внимательно и непредвзято. Но почтенный возраст ваших родственников ставит всякую связь с выпавшими зубами под сомнение.
— Принято, — N. загадочно оскалился. — Но вскоре развернулся третий сон: в нем я привязывал нитку одним концом к очередному зубу, а другим — к дверной ручке. Сел и начал ждать, когда кто-нибудь войдет. Вошел какой-то скелет, погрозил мне пальцем, и зуб, понятно, вылетел. А двумя неделями позже племянница жены мыла окна и свалилась с девятого этажа.
— Это действительно печально, — стоматолог возобновил качание ногой, но уже по-иному — более энергично и размеренно. N. прикрыл глаза и помедлил. Потом глухо сообщил:
— Совершенно случайно, месяца через полтора после этого события, я узнал, что зубы во сне предвещают гибель знакомого или родственника. Тут-то я и припомнил все прошлые сны, связал их воедино и задумался. Не скажу, что мигом пришел к чему-то окончательному, но мысль засела прочно. Прошло около полугода, и на тебе — зуб теперь вываливается сам по себе. Я сплю и вижу себя стоящим в бесплодной пустыне, на ладони — зуб, а я тупо его рассматриваю. Утром я почувствовал тревогу и на всякий случай справился как бы невзначай — о здоровье родных и близких. Все казалось замечательным, я успокоился, а вскорости уже сидел на поминках. Моего шурина треснула по темени сосулька, он так ничего и не понял. И здесь я испытал настоящий ужас. Каждую ночь я засыпал со страхом и просыпался с облегчением, радуясь любому кошмару — лишь бы в нем не было зубов. Знаете, я очень люблю моих друзей и родственников. Я не могу мириться с такой неопределенной ситуацией. Впрочем, что в ней неопределенного? Как раз все ясно, как день. И положение продолжало ухудшаться. Несколько сослуживцев скончались как бы неожиданно, внезапно, но это произошло в период, когда я пользовался сильными снотворными. Может быть, мне и снились зубы, да я не запомнил. Подобная неизвестность оказалась куда мучительней, и я выбросил лекарства в помойку. Стоило мне это сделать, зуб приснился вновь: я сидел за столом и ковырял в дупле спичкой. Это было по осени, я в январе под трамвай угодила теща.
Стоматолог хлопнул ладонью по бедру, показывая, что с него достаточно. Он убедился в серьезности мотивов и…
N. не унимался:
— В последнее время — вы, доктор, конечно, вправе думать что угодно, — я замечаю все новые и новые зловещие признаки. Мир вдруг сделался полон угроз. Судите сами: сосед сверху вернулся из жарких стран и привез с собой десяток змей, среди которых есть ядовитые. В квартиру напротив вселились отъявленные бандиты. Тип, что проживает прямо под моим двоюродным братом, демобилизовался и набил жилье ворованными боеприпасами. У друга детства выросла какая-то родинка. Любовница хлебнула поддельной водки… На углу поставили будку — в ней точат ножи…
— Стоп, стоп, стоп! — замахал руками доктор. — Можете не продолжать, я отлично вас понимаю и глубоко сочувствую. Но скажите — так ли уж вы уверены, что, оставшись без зубов, больше никогда не увидите их во сне?
Обреченные зубы N. застучали.
— Вы давали клятву Гиппократа, — молвил он укоризненно, едва не плача. Нельзя так жестоко обращаться с больными, нельзя лишать их надежды. Вы что можете предложить другой выход? По крайней мере, нам стоит попытаться. Чутье подсказывает мне, что я на верном пути.
В этом стоматолог не сомневался. Правда, конечный пункт виделся им с N. по-разному.
— Я искренне вам соболезную, — врач, симулируя сожаление, вздохнул. — Но, к несчастью, я связан бюрократическими правилами. Лично мое мнение может быть каким мне заблагорассудится, но любая проверка выявит нарушение, и мне придется туго. Вырвать все зубы! Нет, я просто не имею на это права! Не имею, пока вы не принесете мне справку о состоянии вашей психики, — и доктор с беспримерным ханжеством развел руками.
N. печально усмехнулся, порылся за пазухой, достал сложенный вчетверо листок.
— Я предусмотрительный человек, — шепнул он доверительно. — Просчитываю на десять ходов вперед. Извольте, — он протянул бумажку доктору, и тот, помявшись, взял ее двумя пальцами. Повисла тишина. N. в конце концов ее нарушил и попросил:
— Если можно, доктор, — общий наркоз. Прошу вас. Не умножайте мои страдания физической болью!
Врач безмолвствовал. Он машинально сворачивал справку в трубочку и смотрел в пол.
— Целая операционная! — сказал он отчаянно, обращаясь сам к себе. Переведя взгляд на N., стоматолог воскликнул: — Как же вы без зубов-то будете, а? Перейдете на каши и кисели?
N., чувствуя, что выиграл схватку, пожал плечами:
— Что такое кисель по сравнению с чистой совестью? Поживем — увидим. Возможно, протезы…Да! — спохватился он, хватаясь за бумажник. — Не сочтите за провокацию — я в долгу не останусь!
Доктор отмахнулся, невольно решая, как бы половчее отказаться, чтоб все же взять.
— Идемте, — сердито сказал он, избегая прямого ответа. — Честное слово, я ощущаю себя преступником! Ох! — вдруг ударил он по лбу. — Как я мог забыть — наркоз ведь дело нешуточное! Мне понадобятся сведения о вашем сердце, давлении… — он поперхнулся, увидев, как N. склоняется над пакетом и извлекает оттуда толстую медицинскую карту. Почему-то доктор знал, что все анализы свежие, сделаны накануне. Не обращая больше внимания на документы, он вышел в коридор. На ходу доктор щелкнул пальцами, предлагая N. поторопиться.
…N. шагнул в белоснежную комнату, любовно окинул взором строгий операционный стол. Во рту пересохло — рот словно готовился к агрессии, живя по своим нехитрым законам и не завися от воли хозяина.
* * *
Супруга N., дородная властная дама, присела на тахту, раскрыла записную книжку. Близилась торжественная дата: день их с N. серебряной свадьбы, нужно было всех обзвонить и пригласить — список насчитывал двадцать четыре персоны.
Госпожа N. сняла трубку, набрала первый номер. С минуту она слушала протяжные гудки, затем в раздражении отключилась. Та же история вышла со следующим номером, потом — с третьим, восьмым…
"Повымерли они все, что ли?" — подумала госпожа N. недоуменно. Ее чувства пришли в расстройство. Начиная закипать, она снова и снова крутила телефонный диск.
* * *
Стоматолог усиленно моргал, пот плавно тек ему в глаза. Доктор трудился на совесть, под пальцами похрустывало и похлюпывало.
N. лежал неподвижно. Наркоз оказался волшебной штукой — совершенно фантастические, неземные краски, захватывающие звездные дали, блаженство свободного парения. Собственный голос, звучавший со стороны, убаюкивал вкрадчивым счетом:…четырнадцать…девятнадцать…двадцать три…двадцать четыре…
N. снилось, что ему вырывают зубы.
март 1998



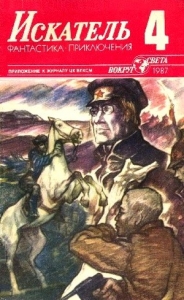

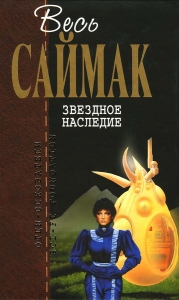
Комментарии к книге «Ядерный Вий», Алексей Константинович Смирнов
Всего 0 комментариев