В ТЕНИ СФИНКСА (Сборник НФ произведений писателей социалистических стран)
Еремей Парнов НА ПОРОГЕ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ, предисловие
Река времени несет нас из прошлого в будущее, неудержимо несет, безостановочно. Самосущая по своей изначальной природе и не подвластная никому. Необъятный мир и мы вместе с ним словно перетекаем по невидимому руслу. Глубинный, коренной смысл мерещится в словах, которые мы употребляем почти бездумно: текущий миг, текущий период. Определение «текущий» не имеет строгой физической основы. И все же нам дано особое, почти подсознательное чувство того единственного, а порой и неповторимого мгновения, когда именно от нас, всех вместе или каждого в отдельности, зависит образ грядущего дня. И мы говорим тогда: мой час, наша пора, время решений.
В рейсовом аэробусе Нью-Йорк — Вашингтон мне попался красочный и весьма пухлый проспект с многозначительным названием «Американский путь». В этом типично рекламном издании, где интерьеры роскошных отелей чередовались со снимками персональных компьютеров и кредитных карточек, речь шла об информатике, внешне как будто бы далекой от самых острых проблем нашего бурного века. Фирмы, производящие электронно-вычислительные машины и «одухотворенные» с помощью микропроцессоров бытовые автоматы, взахлеб расхваливали свой товар. В этом, разумеется, трудно было усмотреть особый порок. Реклама, как известно, двигатель торговли. Тем более, что технические данные всевозможных новинок действительно заслуживали внимания. Например, кухонная плита, обученная приготовлению самых распространенных блюд, или многооперационная стиральная машина. Трудно было оставить без внимания и специализированную систему для писателей и журналистов. Ее электронная память способна хранить все варианты произведения, как говорится, с правкой и без. Не приходится удивляться, что рядом с таким чудо-компьютером был запечатлен во весь рост сам Айзек Азимов, сформулировавший знаменитые законы робототехники. Судя по его отзывам, именно эта модель была способна разрешить чуть ли не все жизненные проблемы сочинителей-профессионалов. Оставим, однако, в стороне набившие оскомину рекламные гиперболы и даже цены, явно недоступные рядовым труженикам. Меня, прежде всего, поразили претенциозные амбиции составителей буклета, которые ухитрились представить информатику как типично американское явление, как неотъемлемую составляющую американского образа жизни. Словно весь остальной мир все еще продолжает влачить жизнь чуть ли не во тьме первобытных пещер, используя вместо калькуляторов конторские счеты.
Речь в сущности шла о том, что Америка первой вступила в третье тысячелетие и уже живет там, в этом условном, предсказанном фантастами будущем, раз и навсегда опередив иные безнадежно погрязшие в примитивном прозябании народы. Символом этого «прекрасного нового мира», где сбылись пророчества Хаксли, стал квадратик пластмассы.
Что правда, то правда. С кредитной карточкой «Америкэн экспресс» или, допустим, «Виза» действительно можно объехать полмира, не выложив на прилавок ни цента. Ее примут к оплате в аэропорту и гостинице, в фирменном магазине и дорогом кабачке. Если же все-таки понадобится наличность, то достаточно сунуть всемогущий пластик в медную прорезь и набрать соответствующий код. Для этого даже не обязательно заходить в помещение банка. Новенькие купюры посыпятся буквально из стены дома. Причем, в любое время суток. Однако для того, чтобы совершилось подобное магическое действо, нужна некая «малость»: солидный текущий счет. О том, как быть тем, кто живет за чертой бедности, а таких даже по официальной статистике в Америке десятки миллионов, рекламные проспекты, разумеется, умалчивают. В каком же веке живут эти люди, вынужденные часами простаивать в очереди у биржи труда, довольствоваться тарелкой благотворительного супа и скамейкой в парке? Или для них пришпоренное электроникой время по какой-то причине замедляется? А может, они вообще выпадают из общего ускоренного потока? Последнее, пожалуй, ближе к истине, потому что следовать прокламируемым «американским путем» им явно не по карману.
Так распадается, не выдержав первого же дуновения реальности, очередная «бриллиантовая мечта», высосанная из пальца греза, способная усыпить лишь самых отъявленных простаков. Мне не раз приходилось бывать в Соединенных Штатах, и память услужливо подсказывала все новые контраргументы по части «великого общества», возомнившего по-ковбойски оседлать самое время. Я мысленно попытался расширить расхожее понимание информатики, невольно, или скорее вольно, низводящее глобальный процесс до уровня американского истеблишмента. Простейшая диалектика подсказывала, что в нашем сложном и противоречивом мире, который в полном смысле слова балансирует над бездной, нет простых решений. За каждой сверкающей вершиной айсберга угадывалась погруженная махина. Причем, изрядно подточенная течениями, изборожденная грозными трещинами, готовая расколоться.
Микропроцессоры и миниатюрные схемы, предназначенные для бытовой техники, и составляют именно такую верхушку. Тем более, что они являются всего лишь объедками с барского стола могущественного военно-промышленного комплекса, чей оборот исчисляется сотнями, тысячами миллиардов долларов.
Я никогда не забуду вьетнамский город Виньлинь, каким увидел его после налета летающих крепостей Б-52. Собственно, города, как и искореженных тротилом развалин, не было. Сплошная полоса дымящегося щебня и пепла да жуткие лунные кратеры по сторонам — мертвенно бледные на красной, словно томатная паста, земле. Еще в те времена бомбардировка осуществлялась с помощью заранее запрограммированного вычислительного устройства, обученного сверяться с местностью. Теперь подобные автоматы, которые все чаще называют «разумными», предназначены для крылатых ракет, способных нести ядерные боеголовки. С той лишь разницей, что невиданно возросла быстрота операций, «коэффициент интеллекта», если следовать циничной терминологии пентагоновских инженеров.
Быстродействие машин первого поколения оценивалось в 5 тысяч операций в секунду. Сменившие электронную лампу транзисторы довели этот показатель до 200 тысяч, а у компьютеров третьего поколения он составил 2 миллиона. Этого как раз достало для полной «кратеризации» вьетнамских селений. Нынешнее, четвертое поколение, базирующееся на микропроцессорах и больших интегральных схемах, характеризует уже умопомрачительная величина — 100 миллионов. Что же касается машин пятого поколения, ожидаемого в начале следующего десятилетия, то их оперативность увеличится еще в тысячу раз. Это будут компьютеры пресловутых «звездных войн», способные разрабатывать новые ультрабыстродействующие устройства, сообразуясь с собственной логикой.
Невольно закрадывается опасение, что человеческий разум самоустранился от заведомо безнадежного соперничества, передоверив «разумному оружию» не только сугубо тактические задачи, но и собственную свою судьбу. Недаром в американской научной фантастике столь часто встречаются планеты, сплошь населенные роботами, благополучно пережившими термоядерную войну. Сомнительная, надо сказать, надежда. Поколения роботов, даже ультрабыстрорешающих, никогда не заменят поколений обычных, из крови и плоти, где каждый мозг — неповторимая вселенная.
Трудно судить об «американском пути», заведомо ограничившись «хай лайф» — великосветским миром банков, отелей, международных аэропортов, где мелькают диаграммы и цифры. Вне общей для всего человечества судьбы. Закрыв глаза на кровавые, до предела циничные «подвиги» террористов, левых и правых, на проституцию, наркоманию, набирающий высоту СПИД. Абстрагируясь от острых социальных конфликтов. В стороне от общественного сознания. Наконец, просто без учета надежд и чаяний миллионов талантливых и трудолюбивых людей, которые, собственно, и олицетворяют Америку. Ее реальный путь. Для нас это прописные истины. О них, однако, то и дело приходится напоминать, потому что имперская гордыня вкупе с технократическим ослеплением порождает странные химеры, слишком чреватые опасностью, чтобы просто отмахнуться от них с саркастическим смехом. Лишь погрузившись в сумеречные глубины, можно убедиться в том, насколько устойчив очередной айсберг, пущенный досужей молвой по волнам моря житейского. Сколь быстро оплывет он в отрезвляющем свете солнца.
Каждому ясно, что компьютерный терминал может существенно облегчить нелегкий писательский труд, но наивно было бы утверждать, будто печатная схема способна породить великую литературу. Ведь даже знаменитую книгу «Я — робот» тот же Азимов написал без помощи технических средств.
Америка Эдгара По, Джека Лондона, Рея Брэдбери вправе гордиться своей культурой, но что общего у нее с пресловутым «американским путем», который целиком покоится на мифе о некоем «технологическом превосходстве»? Даже в сугубо производственных рамках оно более чем сомнительно. Недаром в промышленных кругах США бьют тревогу по поводу опасного отставания от Японии в разработке моделей пятого поколения, провидя не без основания новый, еще более жестокий раунд торговой войны.
«Информация — самый выгодный товар двадцать первого века», — пестрят газетные заголовки. — «Информация — это власть». Кстати, первым об этом сказал четверть века назад Станислав Лем.
Не пытаясь предрекать грядущее, добавим к этому, что при капитализме информация, вернее монополия на нее, может обернуться еще и новым наступлением на права личности. И здесь, как, впрочем, и всюду, мы должны помнить о подводной части айсберга. На поверхности невиданные возможности приобщиться к сокровищницам общечеловеческой мудрости при помощи обычного телефона и столь же нехитрого телевизора. Не надо ни книг, ни газет, ни папок с чертежами. Достаточно набрать соответствующий код, и на экране побегут печатные, да и рукописные строки. Какие только душа пожелает: от египетских иероглифов до химических формул ракетного топлива.
Вопрос не только в том, кто и за какую плату получит доступ в кладовые электронной памяти. Тут едва ли можно питать иллюзии насчет хваленых демократических свобод. Ведь даже во взаимоотношениях с торговыми партнерами американское правительство накладывает всяческие ограничения, причем особо жесткие как раз в области компьютерной техники и информации.
Подводная часть таит в себе угрозы иного порядка. Единая сеть информатики угрожает рядовому американцу таким чудовищным закабалением, перед которым меркнут антиутопические кошмары былых времен. При этом угроза исходит не только со стороны секретных служб, вроде ЦРУ или ФБР. С ними дело ясное. Опасность простирается много шире. Если каждый шаг человека — от грошовой покупки до посещения психиатра — будет зарегистрирован в ячейках электронной памяти, то спадут последние покровы с того, что принято называть частной жизнью. Он будет абсолютно голым, этот американец, перед всяким, кто затребует информацию, день за днем оседающую, словно ил в реке, в машинной памяти. Работодатель, юрист, страховой агент, врач получат невиданное преимущество в диалоге с насквозь просвеченным человеком. О всевозможных объединениях предпринимателей, широко практиковавших черные списки еще в «идиллические» доэлектронные времена, и говорить не приходится.
Как глубоко прав был Джек Лондон, провидя в пророческом романе «Железная пята» диктатуру финансовой олигархии. Но сколь бессильной оказалась его фантазия перед реальной мощью технических средств, угрожающей ныне невиданным порабощением духа, который обещали раскрепостить отцы западной демократии.
Считанные годы остаются до нового века, до нового тысячелетия, которое может стать поворотным в истории человечества. Мир без ядерного оружия, без боевых рентгеновских лазеров и электромагнитных пушек, без бинарного газа и спутников-убийц. Мир информатики, раз и навсегда оторванной от ракет и разделяющихся боеголовок.
Казалось бы, совершенно ничтожный в масштабах истории срок: пятнадцать-двадцать лет, но сколь многое свершилось за прошедшие годы и как еще круче изменится мир, прежде чем наступит уже такое близкое, такое осязаемое третье тысячелетие.
«Футурологический конгресс» Станислава Лема вышел в свет в 1971 году. Само название очередных воспоминаний Ийона Тихого нацеливало читателей на социальный прогноз, на предвидимое, хотя и весьма отдаленное будущее. Однако с течением времени повесть с неудержимой быстротой теряла свою устремленную в дали времен фантастичность, обретая осязаемые черты остросатирического памфлета. Причем, памфлета с недвусмысленным политическим адресом, что, следует обратить внимание, вообще-то не очень и характерно для творчества Лема. Как странно и пугающе неожиданно сбывались его вроде бы случайно оброненные пророчества. Ад вымышленной Костариканы нашел предельно полное воплощение в заживо раздираемом Бейруте, хотя не стоит игнорировать и Сальвадор, дабы не сбрасывать со счетов латиноамериканские реалии и колорит. Предсказывать было нетрудно. В то время уже содрогался от взрывов Белфаст, и правила свой инфернальный бал героиновая чума, и достигла апогея эскалация во Вьетнаме, и то в одной, то в другой «банановой» республике назревал чреватый кровопролитием кризис. Сексуальная революция, организованная преступность, рост числа так называемых «немотивированных убийств» — все это тоже входило в неджентльменский набор нашего века. И было кропотливо исследовано политологами, социологами, обрело обобщенные формы на киноэкране. Даже прозорливо угаданное покушение на римского первосвященника можно было предвидеть, подвергнув вдумчивому анализу эволюцию международного терроризма, экстраполируя на будущее дерзость его операций и, соответственно, растущую амбициозность.
Все так и сбылось, как провиделось, как можно было вычислить без особых претензий на лавры оракула. Стоит ли удивляться тому, что крупнейший художник нашего времени Станислав Лем остался верен своей неотъемлемой ипостаси философа?
Отсюда и точная антиутопическая привязка, и узнаваемый фон: молодежные экстремистские группировки, эксцессы контркультуры и изначально присущий ей патологический бред. Отсюда, наконец, и щедро разбросанные реалии: отель «Хилтон», прокатный пункт Хертца, «доджи», «Плейбой», «Вашингтон пост». И как антимилитаристский символ эпохи, звучащий настойчивой доминантой, — символы глобального американизма. Со своим набором стереотипов, разумеется: военные вертолеты, миниракеты, газовые бомбы, галлюциногенный синдром.
На последнем стоит, пожалуй, остановиться особо. Черпая живой, что называется, материал (повесть создавалась в период пика ЛСД-истерии), Лем с присущим ему мастерством гиперболизировал ситуацию. Прокламируемое им химическое манипулирование поведением человека разрастается в повести до масштабов подлинного пророчества новой Кассандры. Химическая галлюцинация, помимо всего, становится и самостоятельным элементом фабулы, позволяя писателю значительно расширить изначально камерные футурологические рамки. Исконная литературная форма — «рассказ в рассказе» обретает зыбкие, пугающие черты бреда внутри бреда, когда размываются разграничительные черты между реальностью и галлюцинациями героя. Писатель достигает этим приемом двойного эффекта. Он не только приковывает внимание к очередной опасности — хемократии, но и недвусмысленно предостерегает против иррациональности как таковой. Особенно опасной в современную эпоху, когда развязанная транснациональным военно-промышленным комплексом чудовищная гонка вооружений фактически перечеркнула изначальную веру в бессмертие человечества.
Именно теперь, в самом начале новой эры информатики, мы понимаем, насколько прозорливым оказался замечательный польский фантаст. Не случайно политическому иррационализму «звездных войн», угрожающему самому существованию цивилизации, было противопоставлено, прежде всего, новое мышление, свободное от бесплотных галлюцинаций и заскорузлых догм.
Дуновение нового века, а уж тем более тысячелетия, всегда отзывалось в человеческом сердце протяжным звоном. «Не спрашивай, по ком звонит колокол»… Но почему-то так и хотелось спросить!
Вольно или невольно, но почти все включенные в этот сборник произведения оказались тематически близкими. Эта отнюдь не броская, но, напротив, глубоко упрятанная, подчас на уровне подсознания, близость, навеяна, как мне кажется, чувством личной ответственности за все, что происходит в мире, особенно присущим людям социалистического общества.
Может быть, именно сейчас как никогда важно осмыслить наше место в истории, нашу уникальную роль во Вселенной, наше столь противоречивое и непоследовательное поведение перед изменчивым ликом нарастающих перемен.
Чреватые долговременной опасностью захоронения радиоактивных отходов, вызвавших необратимые мутации у интеллектуалов океана — дельфинов («Эффект Кайман» Золтана Чернаи), — вот взятый почти наугад пример неразрешимой проблемы, которую мы оставляем потомкам. Скоротечность отдельной человеческой жизни, несоизмеримой с длительностью космических процессов, которые все-таки успевает схватить, говоря словами поэта, пролетевший над мирозданием огонь мысли. Об этом пишут болгарин Любен Дилов («Двойная звезда»), венгр Иштван Немере («Стоногий»), новый для советского читателя фантаст из ГДР Клаус Мёкель («Ошибка»). Биологическое время несоизмеримо с временем гор и, наверное, жизнь целой цивилизации несоизмерима с жизнью планеты. Но нам, людям, все же дарован тот священный огонь, что способен со скоростью света высветить самые удаленные бездны Вселенной. Вечные темы искусства, окрашенные грозным заревом нашего века, когда мотивы личного бессмертия, надежда на которое, вопреки всем запретам, продолжает жить в человеке, сливаются с роковой альтернативой, грозящей раз и навсегда перечеркнуть саму возможность эстафеты разума.
Пятнадцать тысяч войн насчитывает наша короткая история, напоминает в «Сказании о неземном» Анна Зегерс. И это своевременное напоминание властно приковывает к Земле, к ее судьбоносным проблемам астроевангельский миф, виртуозно выписанный мастерской кистью легендарной писательницы-антифашистки. Суть не в тонкостях генной инженерии с се поражающим воображение клонингом, не в релятивизме времени жизни человека и насекомого, а все в том же прометеевом факеле, чей свет есть мысль, чье тепло зовут кто состраданием, кто любовью.
Если жить, то достойно человека, если умереть, то вместе со всеми («Новая» Вольфрама Кобера).
Изменчивые орнаменты калейдоскопа, оттеняющие вечно новый, но удивительно постоянный в своих элементах облик человечности. Хрупкая, незащищенная, заведомо обреченная нить любви, протянутая сквозь вечность, мерцающую ледяным звездным светом («Звонок» Конрада Фиалковского).
Искра интеллекта, словно высеченная кресалом, промелькнувшая в звериной борьбе («Искра» Радмило Анджелковича). Знание, во всем блеске просиявшее перед космической катастрофой, дерзко бросившее вызов смерти и обреченное на уничтожение. Наша ли в том вина, что даже легендарная Атлантида, вернее ее гелиоцентрический миф, сотворенный по воле другого югославского писателя Дамира Микуличича («Пела, священная змея»), тоже воспринимается сквозь призму термоядерного холакоста.
Все двузначно, диалектически полярно в мире безграничного технологического могущества, где проблемы атома, космоса и информатики составляют неразделимую триаду. Словно сращенный с ракетной боеголовкой компьютер. Видимо, не случайно румынский писатель Эдуард Журист дал своему рассказу заглавие «Посттелематическая эра». Нет, не дано человеку почить на лаврах компьютерного Эдема. Руки, возможно, имеют право на отдых, мозг — никогда.
В современной научной фантастике информация все чаще предстает непреложным элементом мироздания, что вполне согласуется с научной картиной. Во всяком случае идея в том, что вирус можно рассматривать в виде внедренного в организм информационного пакета, органично вписывается в современные биологические представления. И в этом смысле фантастическое допущение чешского писателя Онджея Нефа о возможности космического вторжения посредством вирусов, перестраивающих генотип («Белая трость калибра 7,62»), представляется логически безупречным.
Как, впрочем, и построения поляков Кшиштофа Рогозинского и Виктора Жвикевича («В тени сфинкса»). Двойная спираль ДНК объединяет все живое от вируса до человека разумного, и в принципе биологическая информация не имеет границ. Как нет границ и для биологической трансформации: изменение пола, облика, вплоть до химер, до воплощенных богов Египта с головами кошек, соколов и шакалов, до коровьих рогов Изиды. Уже сегодня здесь большую роль играют проблемы морали, нежели лабораторной техники. И потому столь противоречивы предчувствия приближения этого воистину «смелого нового мира», полные страха и радости, робкого зова и потаенной вражды. Это подобно первому плаванию в океане к неведомым берегам. К чему ведет цепь фантасмагорических трансмутаций? К очищению или окончательной гибели? К надзвездному абсолютизму? В пылающий ад? А ведь и этот путь, пусть хотя бы мысленно, придется пройти человечеству. Даже самый совершенный компьютер экспертной системы не подскажет, где следует остановиться и следует ли остановиться вообще. Решать предстоит опять-таки нам, вернее — нашим внукам. Машины не дают индульгенций. Прибор может лишь передать или преобразовать информацию. Кстати, телепортация вообще и лазерная в частности (рассказ польского фантаста Адама Голлянека «Любимый с Луны») являет собой разновидность информационной передачи, в принципе ничем не отличающуюся от вирусной.
Но это так, отступление по ходу…
А проблема по-прежнему сводится к морали. Незванные гости из будущего в юмореске чешского фантаста Ладислава Кубица «Пришельцы» наводнили нашу Землю из соображений чисто паразитических. Но вопрос насчет скорой нехватки кнедликов не столь прост и однозначен даже для нашего поколения, воспитанного на полном отрицании мальтузианских теорий. Точно не установленные пока пределы роста существуют столь же объективно, как и пределы метаморфоз осязаемой плоти. И никуда не уйти от решений, как не уйти от назревших вопросов об изменении моральных устоев землян, все дальше и дальше уходящих от родной колыбели (О.Нефф «Струна жизни»).
Здесь, как и всюду, мне кажется, главное — следовать голосу сердца, кантову категорическому императиву, толкающему человека к добру. Ну и, разумеется, не расставаться со здравым смыслом. Стократно прав Лем, предупреждая об опасностях иррациональности, где бы ни скрывалось ее разрушительное ядро: в химической таблетке или же фантомате, навевающем сны наяву.
К лемовской идее фантоматики, хотя и на новом витке, обратился польский писатель Збигнев Петшиковский (рассказ «Иллюзия»). Кибериллюзия опять-таки в принципе ничем не отличается от галлюцинаторной. И образ, созданный микропроцессорами, также может быть передан непосредственно в мозг.
Как на древней восточной диаграмме «Инь-Ян» все, в который раз, сводится к извечному противостоянию света и тьмы, добра и зла, правды и лжи. И выбор тоже вновь остается за нами. Главное — не запутаться, вовремя отличить реальность от убаюкивающего фантома.
Здравый смысл подсказывает, что призраки недолговечны. Даже если они вскормлены золотом, как, например, стратегическая оборонная инициатива. Величественная программа «звездного мира» уже прочно завладела сознанием людей. Прекрасное, вдохновляющее название, единственно достойное разума, осознавшего себя как планетарный фактор. Вот уж воистину, когда настала пора сделать решающий выбор перед ликом надвигающегося тысячелетия! Разоружение не только избавит человечество от постоянного калечащего души страха, но и откроет широчайшие перспективы.
Окончательная победа над раком, увеличение продолжительности жизни, всемирная информационная связь — для всего этого уже имеется реальная база, конкретные многообещающие разработки, которым лишь требуется придать импульс в планетарном масштабе. Если вспомнить, что искоренение оспы на Земле обошлось в скромную сумму, на которую не построишь даже ракетоносца, то можно представить себе, каких высот возможно достичь в самые короткие сроки. Экологически чистые самолеты, катера и автомобили на солнечных элементах, которые пока существуют в единичных экземплярах как некий научно-технический курьез, войдут в серию, лишь только мы сумеем позволить себе платить за чистоту атмосферы и вод. Сплавы со структурной памятью произведут революцию в механике. Древесина, выращенная в клеточной культуре, положит конец вырубке лесов, марикультура придет на смену хищническому в своей основе траловому лову. Короче говоря, прежде чем покинуть колыбель и устремиться к звездным пределам, человечеству придется заняться ее капитальным ремонтом. Эта насущная задача органически входит в программу «звездного мира». Оно пришло, наше время.
Еремей Парнов
Онджей Нефф БЕЛАЯ ТРОСТЬ КАЛИБРА 7,62[1] Пер. Т. Осадченко
— После короткого антракта, уважаемые друзья, вас ждет главный номер нашего автородео. Неповторимый Бобби Молния с завязанными глазами проедет сквозь тот ад, который создадут на арене наши гонщики. Да, уважаемые зрители! Вы слышите, как они запускают двигатели своих машин…
На пороге фургона, разрисованного стреляющими надписями «АВТОРОДЕО» и «БОББИ МОЛНИЯ», появился высокий стройный человек в черном кожаном комбинезоне, плечи и рукава которого были украшены красными зигзагами молний.
Человек, не торопясь, натянул тонкие кожаные перчатки, потом остановился. Его глаза были скрыты за большими зеркальными очками, так что невозможно было определить — куда он смотрит.
Казалось, он к чему-то прислушивается. Сегодня его явно не занимал шум заводимых моторов, он напряженно вслушивался в тревожное жужжание вертолетов, с самого утра круживших над югозападным районом города, над высотным зданием Академии наук. С утра оттуда доносились взрывы.
К фургону подкатила большая черная машина, разукрашенная молниями и желтыми языками пламени. Она притормозила у лесенки, эффектно качнувшись на рессорах, Бобби Молния спустился со ступенек. Из машины выскочил механик, молоденький паренек, услужливо придержавший дверцы звезде автородео. Бобби Молния выехал на арену.
— Я ищу Мартина Данеша, — обратился к механику человек с невыразительным лицом.
— А это и был Мартин Данеш.
— Но… — растерялся человек. Механик пожал плечами и исчез в толпе.
На сей раз представление не удалось. Каскадеры, правда, были в отличной форме, и все шло своим чередом: сальто на горящих автомобилях, столкновения на большой скорости, езда по узким мосткам на двух колесах, коррида человека и вездехода… Зрителей, однако, было немного, да и те больше внимания уделяли вертолетам на горизонте, чем артистам на арене.
Тщетно старался зазывала с микрофоном зажечь зрителей:
— Вызываем на арену десять добровольцев. Наша ассистентка — Златовласая Сильва — даст каждому черный капюшон. Отлично, есть первые желающие. Смелее, друзья! Дорогая Сильва, дайте им капюшоны. Не спешите, уважаемые друзья, тщательно осмотрите капюшоны и убедитесь, что они не просвечивают. Они непроницаемы! Бобби Молния ждет за рулем!
Добровольцы-контролеры в самом деле старательно проверяли капюшоны. Как и все зрители, они были убеждены, что гвоздь программы это мошенничество века, и всячески пытались раскрыть тайну трюка. Златовласая Сильва с очаровательной улыбкой предлагала каждому надеть капюшон. «Добровольцы» комически метались по сцене, ощупывая воздух вытянутыми руками и наталкиваясь друг на друга. Вчера эта часть программы вызывала взрывы хохота в первых рядах трибун. Сегодня никто не смеялся, кроме нескольких ребятишек у барьера.
— Вы убедились, что капюшоны непроницаемы? Никакого обмана, никакого мошенничества! Что скажете, дорогие друзья?
Добровольцы сняли капюшоны и жестами показали, что не видели ничего — ровным счетом ничего, кроме полного мрака.
— А сейчас Бобби Молния наденет… все десять капюшонов! Сильва, приготовьте нашего героя!
Черный лимузин мягко выкатился на середину площадки. Гонщик вышел, и девушка надела капюшоны ему на голову.
Бобби Молния снова сел за руль, резко дал газ, и из толстых выхлопных труб вырвались клубы черного дыма. Взревев, машина рванулась вперед, и в ту же секунду к ней устремились восемь автомобилей. Черный лимузин зигзагами несся среди чадящих, вспыхивающих и переворачивающихся машин. Десять минут продолжалось это безумие; казалось, на этот раз публика по-настоящему захвачена. Наконец взвыла сирена — программа окончена. Черный лимузин вернулся к фургону.
Там все еще стоял человек с невыразительным лицом.
— Вы Мартин Данеш?
— Да. Что вам нужно?
— Простите, но, насколько мне известно, вы…
— Да, я слепой, — холодно ответил гонщик и снял очки. Впалые веки прикрывали пустые глазницы. — По-вашему, я должен заниматься настройкой пианино?
— Ни в коем случае, — возразил человек. — Нам надо с вами поговорить.
— Кому это — нам?
— Службе госбезопасности.
Над ареной пронеслись три вертолета.
* * *
Космический зонд «Заря-6» находился в полете уже десять лет. Он следовал по Старому пути, как называли специалисты трассу, проложенную более сорока лет назад. Она вела к Юпитеру и Сатурну, затем мимо Урана и Нептуна за границы Солнечной системы, в пустоту, откуда человечество до сих пор не получило никаких известий. Там «Заря-6» исчезнет, подобно другим автоматическим станциям, в том числе пяти, запущенным по международной программе «Интеркосмос».
«Заря-6» была картографическим зондом. Ее телеглаза, усиленные биокомпьютерами, более чем в миллион раз превосходили по качеству фотокамеры «Вояджеров». Сейчас станция приближалась к Нептуну. Первые результаты ее деятельности уже стали достоянием общественности: в Москве, Чикаго и Токио вышел 15-томный труд, озаглавленный весьма скромно: «Атлас спутников Юпитера». Как выразился о нем один из комментаторов, «у этого прекрасного путеводителя единственный недостаток — в нем не отмечены мотели и станции подзарядки электромобилей».
Еще не скоро «Заря-6» завершит свою миссию. Ее зоркие зрачки внимательно осмотрят Нептун, а затем и Плутон. После этого зонд отправится в неизвестность. По традиции на его борту имеется информация о Земле и ее обитателях. Если бы она была записана в книгах, потребовалось бы хранилище объемом в несколько тысяч кубометров.
Этот банк памяти был самым дорогостоящим в зонде. Многие ученые критиковали такое распыление средств. Тезис «мы одиноки во Вселенной» приобретал все больше сторонников. Да и могло ли быть иначе? Все попытки установить контакт с внеземными цивилизациями не принесли результатов…
Интересно было бы взглянуть на выражение лиц скептиков, узнай они, что уже первые земные зонды, снабженные металлическими табличками с изображением мужчины и женщины, а также точными координатами Солнечной системы, попали в руки адресатов!
Не будем, однако, опережать события.
Скорректировав свою тракеторию, «Заря-6» начала съемку поверхности Нептуна. Камеры и передатчики будут работать еще три дня. Потом автоматически отключатся источники энергии, и зонд «уснет», чтобы «проснуться» вблизи Плутона.
Оставалось три дня.
Если бы они протекли по разработанному специалистами «Интеркосмоса» плану, гонщик автородео Мартин Данеш вряд ли оказался бы в центре внимания службы госбезопасности.
Однако на тридцать первой минуте двадцать девятого часа с момента начала картографических съемок произошло непредвиденное.
Металлических боков «Зари-6» коснулись бесстыдно-любопытные лучи. «Заря-6» о них не подозревала. Да и не могла, потому что эти лучи исходили из гравитационных локаторов. Несмотря на прогресс земной науки и техники, гравитация все еще не поддавалась человеческому познанию.
«Заря-6», совершеннейшее творение рук человеческих, очутилась в незримых сетях, расставленных бортовыми устройствами Корабля.
По сравнению с ним станция выглядела мухой рядом с орлом. Что касается технического совершенства, сравнение будет совсем не в пользу творения рук человеческих. Как сравнить каменный топор с компьютером? Объективный наблюдатель, найдись таковой в космической пустоте, подивился бы интересу Корабля к «Заре-6». Как гласит старая пословица, орел мух не ловит. Но Корабль не был пока уверен, что хочет поймать «Зарю». Он лишь слегка изменил траекторию и вплотную — по космическим масштабам — гнался за ней по Старому пути. Гравитационные лучи ощупывали поверхность «Зари-6» и проникали внутрь.
Поток информации возвращался на чувствительные антенны Корабля. Существа, рожденные под чужим солнцем, вдумчиво анализировали результаты исследований. Вскоре они во всем разобрались. Их детекторы уловили мертвый механизм, автомат вроде обнаруженного их Патрулем. Того самого, на борту которого имелась табличка с точным адресом изготовителя.
Это всего лишь автомат, размышляли Существа. Правда, он намного сложнее и замысловатее первого, но, несмотря на свою сложность и замысловатость, он находится на мертвом берегу реки Времени. Их интересовал другой берег — Жизнь.
Имеет ли смысл тратить время на мертвый автомат?
Существа колебались. Но детекторы продолжали работать, поток информации не иссякал. На экранах сменяли друг друга все новые изображения.
Бортовые компьютеры работали на полную мощность. Глаза Существ устремлялись к проекционным экранам. Мозг, привыкший к иному способу мышления, взвешивал все «за» и «против».
На дисплеях появились телекамеры «Зари-6».
Существа долго изучали объективы, компьютеры камер и передающие системы. Напряженно думал и бортовой компьютер Корабля. Существа задали ему простой вопрос: да или нет?
Вскоре после прекращения потока информации, когда компьютер насытился фактами, как удав, проглотивший поросенка, Существа получили ответ: «ДА»,
Это означало: да, объективы исследуемого аппарата достаточно чувствительны и отвечают замыслам Существ. Если бы компьютер сказал: «НЕТ», Корабль оставил бы «Зарю-6» и направился ближе к Солнцу и Третьей Планете, чтобы найти там иное решение. Но, поскольку ответ был положительным, Корабль останется на орбите Нептуна. На первом этапе маневров он приблизится к «Заре» и захватит ее. Объективы «Зари-6» станут воротами, через которые Существа войдут в мир людей.
* * *
— Товарищ полковник, я привел Мартина Данеша.
— Можете быть свободны, товарищ капитан. Попросите, чтобы нам принесли кофе, — полковник подал Мартину руку. — Полковник Яролимек. Садитесь, вот кресло.
Он осторожно повел слепца к креслу, но Мартин едва уловимым жестом отверг его помощь. Полковник лишь на долю секунды прикоснулся к его плечу, успев, однако, почувствовать мощь его железных бицепсов. Слепой решительно подошел к креслу и сел. Менее внимательному человеку показалось бы, что Мартин видит. В его движениях не было и следа беспомощной неуверенности слепца, он двигался уверенно и свободно. Но полковник успел подметить несколько приемов, с помощью которых Данеш ориентировался в пространстве. Это была прежде всего походка, широкий матросский шаг, отнюдь не тяжелый. Мартин ступал пружинисто, словно леопард, готовый в любую минуту изменить направление. Руки он отставлял от туловища, напоминая этим ковбоя из древних вестернов. Тыльной стороной ладони сперва коснулся подлокотника и секунду размышлял, где у кресла сиденье, затем уверенно сел, закинув ногу за ногу.
Принесли кофе. Полковник вернулся к своему письменному столу, задумчиво полистал бумаги, только что подготовленные множительным аппаратом вычислительного центра.
Он не знал, с чего начать разговор. Большинство зрячих теряется перед слепыми, как бы стыдясь, что видят.
— Что вам от меня нужно? — спросил слепой.
— Помощи, — ответил полковник. Ему стало легче от того, что Данеш начал разговор первым.
— Помощи?
Действительно, крепкий парень, подумал полковник. Он опасался иронического вопроса: «Какая может быть помощь от слепого?»
— Расскажите немного о себе, — предложил он. — Я слышал, вы работаете каскадером автородео.
— К чему рассказывать? — ответил Мартин. — Перед вами бумаги, в них все написано. Черным по белому.
— Послушайте, да вы, наверное, обманщик! Вы все видите!
— Хотите, чтобы я снял очки? Предупреждаю, зрелище не из приятных, — ухмыльнулся Мартин. — Нет, я не вижу, зато я слышу.
— И это вас кормит, — вставил полковник.
— Да. Я ориентируюсь по слуху. Напяльте мне на голову хоть десять черных капюшонов, я все равно вывернусь на арене с помощью слуха. Само собой, все это заранее отрепетировано. В свое время мы расколотили вдребезги не одну машину. Зато теперь мы их разбиваем только когда нам нужно.
— А стрелять вы умеете?
Слепой застыл, вцепившись в подлокотники.
— Перечитайте мои материалы, у вас-то глаза на месте, — неприветливо огрызнулся он.
— О стрельбе в них ни слова.
— Мой отец был во Вьетнаме, очень давно, меня еще не было на свете. Он обучал вьетнамских армейских врачей. Когда американцы перенесли военные действия на Север, отец отказался покинуть опасную зону. И ослеп после бомбардировки — эксперимент, испытание газового оружия. Аргументы у американцев были обычные: произошла, мол, навигационная ошибка, пилот думал, что он на Юге!
Слепой говорил отчетливо и размеренно, будто выступал с обвинительной речью. Он сжал кулаки, побледнел, на щеках горел лихорадочный румянец. Ему сорок два, размышлял полковник, но выглядит на двадцать пять, физическая ущербность иногда как бы консервирует человека.
— Отец вернулся домой слепым, — продолжал Мартин. — Женился. Перед этим подвергся всевозможным осмотрам, ему сказали, что его генетика в норме и он может иметь детей. Потом родился я.
— Отец научил вас ненавидеть войну, — заметил полковник. — Вы ненавидите убийство. Ненавидите оружие.
— Да, — сказал слепой. — А что, я не имею на это права?
— Еще не знаю, — медленно проговорил полковник. — Зрители не догадываются о вашей слепоте, правда?
— Людям нравится, как я езжу с завязанными глазами. Если бы они догадались, что я слепой… Люди не любят калек.
— И все-таки нам необходимо, чтобы вы научились стрелять, Данеш!
Мартин взорвался.
— Зачем вы мне это говорите! Вы читали мое дело? Читайте все до конца! О том, как я разбил витрину магазина с охотничьим оружием, как подрался в кабаке с двумя расхваставшимися вояками?!
Он вскочил, чуть не опрокинув кресло, и ринулся к двери.
— Данеш, вы нам нужны, чтобы стрелять. Против нас — не люди. Поймите, они не люди…
Данеш отпустил дверную ручку и повернулся к полковнику.
* * *
Экран светился яркими красками. Уже двадцать восемь часов продолжалось это удивительное зрелище. В помещении находилось восемь человек. Пять часов назад они заступили на дежурство, через три часа их сменят. Каждый ощущал особую приподнятость: они видели это первыми. Агентства новостей вскоре разошлют по всему миру магнитные копии снимков планеты. Но даже самая совершенная запись бессильна вызвать магическое ощущение причастности к происходящему.
Все молчали. К чему разговоры? Их объединяли общие чувства. Им казалось, что они сами летят над планетой. Они прекрасно знали Нептун по фотографиям и подробным картам, сделанным предыдущими зондами, но тем большим был их интерес. Новые камеры «Зари-6» так совершенны, что на экране можно было различать мельчайшие детали, о которых раньше никто не имел представления. Найдутся ли здесь следы внеземных цивилизаций? Никто не задал вслух этот вопрос, но он вертелся у всех в голове. Восемь лет назад, когда «Заря-6» пересекала систему Юпитера, их предшественники сидели перед этим же экраном точно с такой же надеждой…
Вдруг края экрана почернели, с обеих сторон к его середине двинулась непроницаемая завеса.
— Что такое, черт побери? — воскликнул главный по смене, Мисарж. — Похоже, кто-то задернул занавес!
Все склонились над контрольными пультами.
Счет шел на секунды, необходимо как можно скорее выявить причину неполадок. Где сбой? «Наверху» или здесь, в бункере центра управления?
— У меня все в норме, — доложил дежурный связист.
— У меня тоже, — присоединилась к нему инженер-энергетик.
— В норме… в норме… в норме…
Все восемь наземных составляющих проекта «Заря-6», образовывавших с зондом единое целое, работали нормально. Основное находилось здесь, глубоко в подземелье здания из бетона и стали.
Лишь небольшой, но гораздо более известный мировой общественности блок был «наверху», неподалеку от Нептуна.
— Что происходит?
— Не знаю, — сказал связист. — Похоже на то…
— Договаривай.
— Чушь, конечно, но похоже, что вы правы. Кто-то в самом деле занавесил объектив.
Мисарж рассерженно запыхтел, но связист не сдавался:
— Вы видели когда-нибудь, чтобы экран гас одновременно с двух сторон? Да это технически невозможно! Чем больше я об этом думаю, тем больше начинаю верить в занавес. Товарищи, а не могли там спуститься защитные жалюзи? Или, допустим, солнечные батареи развернулись…
— Ничего не опускалось и не разворачивалось, — обиженно сказала инженер. — Я докладывала, а ты, наверное, не слышал.
— Да слышал, слышал, — проворчал связист. — Я подумал, а вдруг ты что-нибудь упустила?
— Хватит об этом, — быстро проговорил Мисарж, чтобы пресечь возможную ссору. — Переключаемся на Байконур. Контрольный центр нам что-нибудь подскажет.
Не успел он коснуться сенсоров, как экран вновь озарился.
Они увидели пустой зал: покатый пол, стены и потолок овальные. Изображение было столь четким, что Мисарж в первую минуту предположил, что на экран центра по ошибке попала какая-то телевизионная программа. Но тут же отогнал вздорную мысль. Это невозможно, экран составляет неделимое целое с электронной системой приема информации. Не надо быть экспертом, чтобы определить: на экране отнюдь не программа земного телевидения. Почему этот зал выглядит столь странным? Металлические стены с пустой сетью шпангоутов, рельсы на покатом полу, двустворчатые ворота на заднем плане. Каждый из восьми наблюдателей обратил внимание на разные вещи.
Мисарж, к примеру, смотрел на рельсы. Почему они не проходят по середине зала, как проложил бы их земной конструктор? Сдвинуты вправо и причудливо изгибаются. Ведут к воротам. Почему их створки не прямоугольны и не симметричны?
Почему опорные конструкции перекрещиваются под непривычным углом, почему у них разная толщина? Да и пол не назвать идеально гладким…
Лишь в силу инерции человеческий глаз наделял все это знакомыми земными пропорциями. Мозг отказывался признавать искривление того… что должно быть прямым! По мере того, как люди всматривались в изображение, оно все больше напоминало им нечто органическое, далекое от мира техники. Такая внешне нецелесообразная ассиметрия, присущая каждому живому организму, начиная с простейших и кончая тканями человеческого тела, на самом деле строго функциональна.
Какая техника создала этот зал? Может быть, биотехника? Зал, выросший из семечка… Смешно!
Однако всем было не до смеха.
— Длина зала — пятнадцать метров, высота — четыре, — сообщила Дана Мразкова, ответственная за камеры «Зари-6».
— Как ты это вычислила? — удивился Мисарж.
— Я рассчитала по экспозиционным параметрам нашего объектива. Глубина резкости четыре метра, диафрагма два и восемь.
— Что? Кто установил другую резкость?
Мразкова не отвечала. Связист сказал:
— Так что это были не жалюзи и не занавес. Вот эти самые двери.
— «Зарю» взял на борт чей-то космический корабль, — воскликнул кто-то. — Люди добрые, я сейчас свихнусь!
Мисарж почувствовал, что как руководитель должен произнести сейчас какую-то историческую фразу. «Маленький шаг для человека — гигантский скачок для всего человечества», или чтонибудь в этом роде. Однако в голове у него, как назло, вертелось одно: «Елки зеленые, видел бы это братишка!»
— Вот они! — закричала Мразкова.
Слева в поле зрения появились две прямые фигуры. Одна остановилась, другая направилась к центру зала, где изображение было особенно четким. Если расчеты Мразковой верны и высота помещения действительно составляла 4 м, инопланетяне были примерно человеческого роста.
Слезы заволокли глаза Мразковой.
— Как люди… совсем как люди… — всхлипывала она.
Инопланетянин приблизился к зонду. Изображение дрогнуло, словно он неосторожно задел зонд. Кто-то манипулировал с объективом, будто пытаясь отрегулировать резкость. Это не удавалось, изображение было расплывчатым. Экран показывал инопланетянина по пояс, но очень размыто — разглядеть лицо было нельзя.
— На какую глубину можно навести резкость? — неуверенно спросил Мисарж.
Мразкова была не в состоянии ответить.
— Не реви! — заорал Мисарж. Нервишки и у меня расходились, виновато подумал он тут же. — Прости, Дана… Ну, успокойся же.
— Ах я, идиотка, — причитала девушка. — У объектива фиксированная резкость, ее нельзя изменить. Я не знаю, как им это удалось.
Мразкова закрыла лицо руками. Никто уже не обращал на нее внимания.
— Они навели резкость!
«Укрепили на объективе какую-нибудь насадку, — мелькнуло в голове Мразковой. — А я, курица, ничего не вижу. И что я за истеричка, сломаться в такую минуту!»
— Он одноглаз, как циклоп! — вскрикнул связист.
Мразкова услышала голос Мисаржа:
— Он смотрит прямо на нас, видите, глаз у него будто светится изнутри. Какой большой, в нем бушуют языки пламени!
Глаз заполнил экран.
Они оцепенело уставились на большой овал золотистого цвета с сетками прожилок. В радужной оболочке не было зрачка, она походила на океан зловещей чужой жизни, наблюдаемый с большой высоты. Дикими, яростными волнами вскидывались красные, белые и голубые язычки огня. Посередине, — нет, несколько сбоку, — появился неправильный бархатисто-черный овал. Он начал пульсировать, монотонно и успокаивающе покачиваясь из стороны в сторону, как инструмент укротителя змей. Слева направо, справа налево, змея раскачивается в такт, слева направо, справа налево… Змее хотелось бы ускользнуть или напасть на укротителя, но она не может этого сделать, потому что должна повторять эти движения, она сама не знает, что такое с ней происходит…
Никто не обращал внимания на рыдания Даны Мразковой.
Ужас перехватил горло:
— Прочь… кто-нибудь… выключите это… — прохрипел Мисарж.
«Что там происходит?» — пыталась понять Дана Мразкова, яростно тараща глаза, чтобы увидеть хоть что-нибудь сквозь ослеплявшие ее слезы.
* * *
Мартин Данеш вернулся в кресло. Полковник Яролимек с облегчением вздохнул, погладил поверхность стола и улыбнулся.
Они были в кабинете одни, но свидетелями их разговора были телекамеры и чуткие микрофоны.
Данеш не подозревал, кто смотрит на него и слушает его слова.
Этажом выше в здании Службы госбезопасности располагалось помещение штаба. Посреди выстроившихся полукругом телемониторов и компьютеров стоял длинный стол, заваленный фотографиями, схемами и документами. За столом сидели генералы и полковники авиации и наземных родов войск. Докладывал генерал-лейтенант Малина.
— Противник пресек все наши попытки вступить в переговоры, — сообщил он в заключение. — Когда агрессивность его замыслов стала очевидной, мы попытались применить силу, но безрезультатно. Они используют силовое поле неизвестной природы. Короче говоря, классические способы здесь бесполезны,
В кабинете воцарилось молчание. Все мысленно возвращались во вчерашнее утро, когда стало известно о вторжении. Почему оно стало возможным? Из-за потери бдительности?
Нет. То, что произошло, нельзя было предусмотреть. И если бы не счастливая случайность и самоотверженность одной девушки, последствия были бы необратимыми.
* * *
Глаз пылал на экране золотым огнем.
Все впились в него взглядом, лишь Дана Мразкова безуспешно пыталась подавить истерический плач. Человеческое сознание угасало, вместо него разгоралось чужое, руководствующееся иными законами. Неотступное, навязчивое, оно стремительно поглощало последние обрывки человеческих жизней. Семь жертв, еще не успевших стать настоящими Существами, подобными склонившимся к объективам «Зари» обитателям корабля, но уже переставших быть людьми, семь быстро трансформирующихся организмов сидели неподвижно, переживая безболезненное, но неотвратимое перерождение. Глаз на экране безжалостно и беспощадно направлял этот необычный биологический процесс по нужному руслу. Подобно бактериофагу, который вкладывает свою собственную генетическую информацию в атакованную клетку и в ничтожный промежуток времени превращает ее в батальон вирусов своего вида, Существа заложили свою генетическую информацию в мозг семерых человек. Атака была предпринята с помощью совершеннейших камер «Зари-6» и человеческих глаз. Отразить ее было невозможно, за сублимацией мозга следовала немедленная перестройка нервной системы, а затем и остальных органов.
Сто двадцать секунд понадобилось для полного превращения. Ровно две минуты.
— Что случилось? Почему вы молчите? — закричала Мразкова.
Никто не ответил.
Она встала и попятилась к двери, усиленно моргая, чтобы разорвать пелену слез.
Она увидела своих коллег, своих друзей… Нет, это уже не были друзья и коллеги. Над воротниками белых комбинезонов возвышались длинные жилистые шеи… Лысые черепа, перепончатые уши… Из рукавов торчали когтистые шестипалые лапы.
Она почувствовала отвратительный запах, Тела Существ покрывала желеобразная масса — остатки человеческих тканей после перестройки. Экран был загорожен их спинами. Она кинулась к двери.
Те одновременно повернулись. Краем глаза она заметила пустые лица с радужным золотистым овалом посреди лба…
На мгновение она остановилась, парализованная ужасом, нестерпимым желанием обернуться. Они медленно приближались. Им было необходимо ее остановить! Но координации движений еще не хватало. В определенном смысле это были новорожденные, не способные точно определить свои намерения. Они скорее чувствовали, чем понимали, что надо захватить врага. Злобы они не ощущали, Существа не знали злобы: вирус не способен ненавидеть уничтожаемую клетку.
Она уже поворачивала голову. Остатки ее мужества сопротивлялись чужой враждебной воле. У нее не было шансов.
Неожиданно ручка двери, за которую она судорожно схватилась, поддалась, дверь распахнулась, и Дана Мразкова вылетела в соседнее помещение.
Она прислонилась спиной к двери и повернула ключ.
— Мразкова… Да, Мразкова, товарищ академик. Тревога! Немедленно объявите тревогу и заблокируйте седьмой этаж!
Дверь гудела под напором кулаков.
— Скорее! — закричала она.
Академик Мациух, руководитель центра, положил трубку на стол. Она слышала его далекий голос, отдающий распоряжение. «Золотой, золотой дед, — с благодарностью думала Дана Мразкова. — А сколько раз мы его ругали…»
— Что случилось? — снова отозвался академик Мациух.
— Сама не знаю… Не могу объяснить! Видимо, «Заря-6» атакована чужим космическим кораблем.
«Он не поверит», — подумала она, вслушиваясь в свистящее стариковское дыхание.
— Продолжайте, я слушаю.
— Мы видели его изнутри. А потом появились инопланетяне. У них очень странные глаза, не могу описать, я не рассмотрела. У меня, ну, в общем, у меня началась истерика. Но остальные смотрели. Товарищ академик, их организмы трансформировались! Это уже не люди, это… Существа!
— Выражайтесь точнее, дитя мое. Что там за шум?
— Они ломятся в дверь.
— Сошли с ума?
— Нет! Они просто стали другими! Изменились, понимаете?
— Заражение посредством телетрансляции?
— Что-то в этом роде.
— Минутку, я сейчас взгляну на контрольный монитор.
— Не надо! Вы тоже заразитесь! Пожалуйста, не делайте этого! Дед, не делай этого, слышишь?
Академик не отвечал,
— Дед!..
— У меня восемь диоптрий, — медленно проговорил ученый, — а у моего монитора сбита настройка. — Несколько секунд он молчал. — Дана, простите. Я думал… Но это неважно. Я вижу их, они ломятся в дверь, у одного в руках какая-то палка. Вы можете убежать?
— Нет. Я на складе запчастей. Здесь нет другого выхода. Вы слышите меня? Нельзя смотреть им в лицо, кто заглянет в их глаза, погибнет. Не сможет отвести взгляд. Это…
Она услышала, как, отвернувшись от телефона, он приказывает кому-то соединиться со штабом ПВО.
— Я у телефона, Дана. Вижу их на мониторе! Чудовища! Они тащат скамейку…
Дверь затрещала под ударами.
Мразкова огляделась: ничего, что могло бы служить оружием. Вот только на столе… бронзовая статуэтка на мраморной подставке. Металл холодил ладонь.
Дверь поддалась. Пахнуло удушливым смрадом.
В дверном проеме извивалось скользкое тело.
Она не смогла бы убить даже животное. Но сейчас ощущала смертельную ненависть. Эта нечисть без колебаний погубила семерых ее друзей… Она размахнулась. Удар пришелся по лысому черепу, тело сразу обмякло. Девушка кинулась к телефону:
— Я убила его! Мне удалось! Они смертны, слышите? Смертны!
Она с ужасом наблюдала, как мертвое тело распадается в кучку серой пыли.
— Отлично, Дана! Попробуйте забаррикадироваться. Сюда летят три вертолета с десантниками, мы вас освободим, слышите?
В проеме сверкнул золотой глаз. Она впилась в него взглядом,
— Дана! Ради бога, Дана, отзовитесь!
Он слышал в трубке ее дыхание. Оно замедлялось, послышался хрип, потом наступила тишина.
— Дана! — закричал старик. Он знал, чувствовал, что трубку держит в руке живое существо.
Но было ли оно еще человеком?
Щелчок. Связь прервалась.
Рука, осторожно повесившая трубку, лоснилась от слизи.
* * *
Жители юго-западного района всегда будут помнить этот день. Стояло бабье лето. В сквере перед кинотеатром «Мечта» дети играли в казаков-разбойников. Очереди перед овощными магазинами напоминали, что поспели арбузы. Патрульная группа только что остановила электромобиль, ехавший с недозволенной скоростью. В этот момент на горизонте появились три серебристые точки. Они росли, как воздушные шарики, которые надувает ярмарочный торговец. Воздух наполнился оглушительным воем. Вертолеты пронеслись над самыми крышами, зависли над высотным зданием Академии наук и приземлились на асфальтовой площадке у входа. Шасси еще не коснулось земли, а из люков уже прыгали люди, вооруженные автоматами. Вертолеты взмыли и исчезли так же неожиданно, как появились. Настала тишина, но ненадолго. Шум вертолетов сменился сиренами милицейских автомобилей. Провинившийся водитель электромобиля не поверил своим глазам, когда милиционер, сидевший за рулем патрульной машины, вдруг выскочил из нее, втащил внутрь своего коллегу, и секунду спустя машина унеслась, завывая и мигая маяком.
Потрясенный нарушитель провожал ее взглядом, пока не понял, что его права остались у милиционера.
Патрульные автомобили перекрыли подходы к площади Науки. Началась эвакуация Академии, руководил ею профессор Янда, заместитель академика Мациуха. Многие покидали лаборатории в перчатках и резиновых фартуках, так и грузились в автобусы. Никто не задавал лишних вопросов: ясно, произошло что-то ужасное.
Автобусы медленно трогались, когда на соседней улице появилась странная колонна: две милицейские машины, шесть бетономешалок и два бетононасоса. Она затормозила у входа, и изумленные пассажиры последнего автобуса успели увидеть, как люди в желтых комбинезонах тянут внутрь здания толстые шланги. Все знали, что седьмой подземный этаж заблокирован, но никто не предполагал, что все подходы к нему будут забетонированы.
Остался только один более или менее свободный путь: шахта лифта. Под командованием своего капитана и двоих в штатском десантники закрепили кабину на первом этаже и по канатам спустились в шахту, чтобы укрепить на ее стенах противотанковые мины. Даже они не знали, что произошло. Работа спорилась, за полчаса все было закончено.
Академик Мациух и остальные руководители все еще считали операцию карантином. Ничего особенного — астронавтов, впервые высадившихся на Луне, тоже помещали в карантин.
Начались попытки переговоров. Но вскоре стало ясно, что цель Существ заключалась в другом.
Слово взял министр обороны:
— Товарищи, не осталось больше сомнений, что мы стоим перед лицом опасной агрессии. Вот донесения из Байконура, Хьюстона, Вумеры, а также из западноевропейского центра в Ницце. Космическое тело внеземного происхождения находится на орбите Нептуна. Оно захватило наш автоматический зонд и ведет с его помощью непрерывные трансляции. Прием телесигналов осуществляется компьютерами, которым опасность не угрожает.
Инопланетяне передают генетический код, вызывающий почти мгновенную трансформацию человеческих организмов. Их умышленные и координированные действия можно однозначно квалифицировать как нападение. Вы только что слышали донесение генерала Малины о результатах попытки ликвидировать противника классическими боевыми средствами. Академик Мациух внес интересное предложение, оно представляется осуществимым. Инопланетяне атакуют нас с помощью своего кода, проникая в человеческий организм через органы зрения. Психофизиологический механизм этого явления пока неизвестен. Зато нам известно, что их организм механически раним, подобно человеческому. Если бы кому-нибудь удалось проникнуть через созданное ими силовое поле, он мог бы уничтожить врага, применив традиционное оружие, к примеру огнестрельное…
— Разрешите вопрос?
— Пожалуйста, товарищ генерал.
— Если стрелок посмотрит на них, он сам превратится в Существо?
— Совершенно верно, — подтвердил министр обороны. — Нам нужен стрелок, который не мог бы на них посмотреть. Иными словами, слепой,
— Слепой?
— Этот человек уже здесь, товарищи, — объявил министр. — В эту минуту он беседует с полковником Яролимеком из госбезопасности.
Он нажал на клавишу, и на экранах мониторов появился кабинет Яролимека.
— Мы проверили несколько сот человек, товарищ Данеш. Физически вы подготовлены лучше всех. Мы знаем, как отец воспитывал вас, как усиленно тренировал. Благодаря напряженному тренингу вы несете свой крест лучше любого слепого на свете.
— И поэтому я должен убивать? — тихо сказал Данеш,
— Минутку, дайте мне кое-что рассказать, — возразил полковник Яролимек и коротко поведал о происшедшем с той самой минуты, когда Существа завладели «Зарей-6» и осуществили свою смертоносную трансляцию.
Люди за длинным столом сосредоточенно следили за разговором. Министр приглушил звук.
— Товарищи, в данный момент я не вижу иного решения. Академик Мациух предупреждает, что Существа могут снять защитное поле в любой момент. Они, видимо, ждут, пока кто-нибудь не придет к ним, чтобы… превратить его в союзника, понимаете? Генетическая информация — их главное оружие. Их всего семеро, и пока они не решаются нападать. Академик Мациух убежден, что они, образно говоря, откроют нашему человеку. То есть впустят его на этаж.
— А если академик ошибается?
— Тогда будем ждать, а в случае необходимости… применим нетрадиционные средства.
Он повернул регулятор, и в комнате зазвучал голос полковника:
— Ученые попытались установить контакт, но безуспешно. Нет сомнений, что инопланетяне, называемые нами «Существа», попытаются вскоре овладеть всей планетой. Это неслыханная опасность: не война в прямом смысле, а скорее заражение, по сравнению с которым эпидемия чумы — детская игрушка. Мы привыкли к тому, что инфекция переносится по воздуху, воде, через продукты, непосредственный контакт с больным. Но эта зараза — особая, она передается органами зрения. В информационном центре в критический момент было восемь человек. Семеро заразились, один избежал этого, оказавшись вне опасной зоны. Восьмой-то и сообщил о случившемся и сумел убить одного из них.
— Убить! — воскликнул Данеш.
— Да. Не думайте, что там больные люди. Это уже не люди! Вместо людей там теперь они, Существа! Источник нашей гибели! Достаточно мельком посмотреть на них, и сам превратишься в Существо. Понимаете? Если хоть один из них выйдет из здания, начнется цепная реакция. За короткое время человечество будет уничтожено. Вот почему мы так нуждаемся в вас. Если вы откажетесь…
— Что тогда?
— Начнутся новые действия с использованием всех видов оружия. Всех, Мартин! В ход пойдет все, чем располагает армия.
— Понимаю… — задумчиво произнес Данеш. Он снял зеркальные очки и потер покрасневшие глазные впадины.
— Ваше несчастье — следствие войны, Мартин, — сказал полковник. — Вы хотите, чтобы еще неродившиеся дети разделили вашу судьбу?
— Мой отец… — начал было Данеш, но полковник не дал ему договорить:
— Ваш отец воевал! Он был врачом, но военным врачом, поймите же это! Он знал, на чьей стороне воюет, разбирался в событиях, был убежден в правоте тех, кому помогал.
— Но если… я не смогу?
— Так вы согласны?
— Ответьте мне!
— Вы сможете, Мартин, — сказал полковник и встал.
Чуткие микрофоны воспроизводили звук настолько точно, что создавалось впечатление, будто разговор происходит здесь, в штабе. И все-таки эти двое были бесконечно далеки от остальных.
— Вы согласны, товарищ Данеш? Ты сделаешь это, Мартин?
— Да, — прозвучал ответ.
Министр облегченно вздохнул. За столом зашумели.
— Молодец, — сказал кто-то.
— Помещение подготовлено? — спросил министр,
— Так точно. Тренировки можно начинать немедленно.
— Хорошо, — сказал министр и снял телефонную трубку.
* * *
— Так, так, попал! Отлично, Мартин! Смени магазин. Прекрасно, ты улучшил время на 1,3 секунды.
Инструктор склонился над монитором, сжимая в руке микрофон. Телекамера была подвешена под потолком просторного тира, на короткое время переоборудованного в точную копию седьмого этажа. Деревянные макеты контрольных приборов, мониторов, пультов… На стене был обозначен экран, через который Существа проникли в наш мир. Простой черный прямоугольник на бетонной стене.
Мартин Данеш стоял посредине помещения в ковбойской стойке, низко держа карабин. Кругом валялись опрокинутая мебель, ящики, тряпки, веревки. Кое-где со стальных консолей свисали сети, Семь манекенов в рост человека стояли широким неправильным полукругом. Неожиданно шевельнулся один из них, помеченный большой белой тройкой.
Мартин молниеносно обернулся и выстрелил.
На голове манекена загорелась красная лампочка — попадание. Тут же зашевелились единица и шестерка. Затрещали выстрелы.
— Как дела?
— Отлично, товарищ полковник. У парня феноменальная ориентация.
Полковник сел рядом с инструктором и закурил сигарету.
— Неужели он — каскадер автородео? — спросил инструктор.
— Действительно, верится с трудом. Но это так. Его отец тренировал парня с детства. Теперь у Данеша уникальный слух, великолепная пространственная память… Он говорит, шестое чувство. Интуиция или что-то в этом роде.
— Так что ему глаза вроде ни к чему, — заключил инструктор. И скомандовал в микрофон: — Перерыв! Пять минут отдыха. Мартин!
Данеш направился к выходу. Полковнику оставалось лишь удивляться, как ловко обходит он перевернутые стулья. Слепой запомнил их расположение. Только сеть на мгновение сбила его с толку. Он коснулся ее лицом, сразу же отскочил и уверенно двинулся туда, где путь был свободен.
Полковник вышел в раздевалку. Мартина Данеша ожидала небольшая группа людей. Данеш растерялся. Неуверенно улыбаясь, он поворачивал голову из стороны в сторону, стараясь уловить знакомый голос.
— Я здесь, Мартин! — воскликнул полковник, пробираясь к нему. И вдруг послышался женский крик:
— Вот ты где! Убийца!..
Данеш застыл как вкопанный. Несколько человек подскочило к разъяренной женщине. Ее увели с трудом.
— Мартин, — полковник успокаивающе похлопал его по плечу, — не обращай внимания. Это несчастная женщина. Жена Мисаржа, одного из тех, кто был внизу.
— Но…
— Вот именно, Мартин. Ее муж мертв, но она не в состоянии понять это. Ей кажется, он заболел и может выздороветь. Оспа, корь и проказа тоже уродуют людей, но никто не имеет права убивать больных. Но Мисарж-то не болен! Существо убило, уничтожило Мисаржа, чтобы из его организма создать свой собственный!
Никто из присутствующих не вмешивался. Министр доверил полковнику Яролимеку личный контакт с Данешем, и все признавали его привилегию.
— Перерыв окончен. Товарищ Данеш, приступайте к тренировке, — раздался голос инструктора.
Из усилителя слышались выстрелы, но полковнику казалось, что движения Мартина уже не так уверенны, как прежде. Он обратился к инструктору:
— Операция завтра утром. Как ты считаешь, он в форме?
— Чересчур все для него неожиданно, — ответил инструктор. — Мы его слегка перетренировали. Пора заканчивать. Таблетку успокоительного — и домой, спать.
— Умер академик Мациух, — сообщил министр.
Члены штаба операции молча перелистывали бумаги, разложенные на столе. Монотонно жужжали кондиционеры. Из коридора донесся чей-то смех. С улицы послышался резкий сигнал электромобиля.
— Скоротечная форма рака неизвестной до сих пор разновидности, — продолжал министр обороны. — Вскрытие еще не закончено, но уже обнаружены метастазы в мозгу и органах нервной системы. Профессор Кочаб придерживается мнения, что Мациух погиб из-за того, что видел Существ на телеэкране.
— Если я правильно поняла, качество приема было низким, и Существам не удалось трансформировать Мациуха. Слишком узкий канал, плюс шумовые помехи. Им удалось передать дозу информации, способную лишь частично разложить организм Мациуха, — проговорила женщина, назначенная в штаб по рекомендации Министерства научных исследований.
— Вы правильно поняли, — отрезал министр.
У него слегка дрожали руки. Он очень устал, его клонило в сон. За окном стояла ночь. Город мирно спал, весь город, за исключением юго-западного района, где продолжалась эвакуация. Что сказали людям? Как они отреагировали? Завтра утром проверю. Завтра утром… Закончится ли все завтра утром? Либо Данеш выполнит задание, либо… И я должен отдать приказ! Снова и снова возвращался министр в мыслях к этому обстоятельству: приказ должен будет отдать именно он.
— Да, вы правильно поняли, — помолчав, повторил он. — Несколько помощников Мациуха находятся в критическом состоянии. Всего выявлено шестьдесят восемь случаев психофизиологических отклонений у нас и на других контрольных пунктах. К счастью, они имели дело лишь с магнитной записью передачи, которую видел Мациух.
Все пораженные находятся в карантине, под присмотром группы добровольцев. Меня лично это окончательно убедило в правильности решения отказаться от вооруженной атаки. Десантники, возможно, уничтожили бы нескольких Существ, но при этом трансформировались бы сами.
— Подсчитал кто-нибудь, сколько потребуется времени для превращения всего населения планеты?
— Мнения расходятся… — Министр устало провел рукой по глазам и тихо добавил: — Друзья мои, подумаем о Мартине Данеше. Пожелаем ему спокойной ночи!
* * *
Во тьме трещали выстрелы, слышались вопли раненых. Запах пороха, пота и крови.
— Нет! — кричал Мартин в ночь. — Нет!
Он уснул ненадолго. Кошмары мучили его, наваливалась усталость, ноги сводила су дорога, руки сделались свинцовыми. Я устал, уговаривал он себя, в глубине души сознавая, что усталость не имеет ничего общего с его отчаянием. Жена Мисаржа… Как она кричала: «Убийца!» Он вспомнил рассказ отца.
Летающая крепость Б-52 взмывает на двенадцатикилометровую высоту. В кабине хорошо выспавшийся экипаж. Парни весело болтают, вспоминая недавний отпуск в Токио. Все они тщательно выбритые, умытые. Плотно позавтракавшие.
Стрелки приборов на пульте управления подрагивают, скачут цифры на дисплеях.
Ноль!
Нет нужды нажимать пресловутую кнопку, бомбовое устройство срабатывает по электронному приказу. Десятитонный груз летит вниз. Самолет неприятно подпрыгивает, но автоматы тут же возвращают его в нужное положение. Поворот штурвала, и вот уже тупой нос воздушного гиганта нацелен в обратном направлении, к Гуаму. Где мы? Куда падают бомбы? Не наше дело! Кто-то включает кинопроектор. Ресторан, женщины…
Сладкая жизнь!
Смертоносные бусы бомб, нанизанные на нити траекторий, воют в густеющем воздухе.
В бамбуковой постельке спит трехлетняя девочка.
Мальчик ведет буйволов на пастбище.
Партизанский инструктор обучает стариков и десятилетних ребят копать противотанковые рвы.
В небе тишина. Гул моторов не слышен с двенадцатикилометровой высоты. Когда послышится свист падающих бомб, будет поздно.
Свист падающих бомб,
— Нет! — кричит слепой.
А вдруг там больные люди? Или даже это действительно Существа? Кто дал нам право убивать их?
Попытался ли кто-нибудь наладить общение с ними? Яролимек утверждает, что да. А если попытка контакта была плохо продумана?
Мартин любил слушать по радио научно-фантастические рассказы. В них говорилось и об этом.
Обмен важнейшей информацией, формула Пифагора… Специалисты, ученые, посланцы проведут первые общения.
Я и есть этот посланец,
Очередь, та-та-та, говорит посланец планеты Земля, вот наше свинцовое приветствие! Как там учил инструктор?..
* * *
Звонок телефона. В трубке голос полковника:
— Пора, Мартин.
Слепой встает. Делает гимнастику: наклоны, прыжки с приседаниями. Способствует ориентации в пространстве. Наклоны в сторону, круговые движения туловища. Только не у тебя, Мартин, всегда повторял отец. У тебя не может кружиться голова. Ты не видишь, а другие видят. В этом твой минус. Поэтому в остальном ты обязан быть впереди всех…
Отец умер шесть лет назад. Последствия вьетнамской войны, заключил врач. Американцы извинились. Тщательно выбритые, умытые, плотно позавтракавшие. Навигационная ошибка. Мы считали, что это Юг…
Отец воевал. Помогал вьетнамцам. Сам не стрелял, но лечил тех, которые потом, по выздоровлении, стреляли.
Почему ты не рассказал об этом подробнее, папа? Не успел или просто не пришло в голову, что и я когда-нибудь буду стрелять?..
Пора, Мартин.
Он старательно причесался, стоя в ванной лицом к зеркалу. Он знал, что такое зеркало, отец объяснил ему. Частенько ощупывал он чуткими пальцами зеркальную поверхность в надежде уловить отблеск собственного отражения. Ему говорили, что он красив. В очках вы совсем не похожи на слепого, Мартин…
А на кого ты похож, Мартин? Сегодня? Посланец! Никто другой в целом мире не сможет произнести «приветственную речь». Та-та-та…
Он вышел на площадку и вызвал лифт.
В квартире зазвонил телефон.
Кабина лифта с металлическим лязгом остановилась перед Мартином. Телефон звонил.
Полковник, я не орудие. Попробуйте иначе, должно существовать другое решение. Затопите бункер водой, пустите туда газ, делайте что хотите, но меня в это не впутывайте. Слепых оставьте в покое…
Опять телефонный звонок. Еще один.
А вдруг отменили операцию? Может, с ними, с Существами… договорились как-нибудь? Конечно, договорились!
Он вбежал в квартиру.
— Алло!.. Кто у телефона?
Слышалось чье-то взволнованное дыхание, потом пошли короткие гудки.
Он разочарованно повесил трубку. Ошибка. На мгновение им овладело желание запереться дома и отключить телефон. Переборов себя, он снова вышел из квартиры и открыл дверцу лифта. Полковник уже ждет внизу…
Стоп!
Он замер, наклонившись вперед. Что помешало сделать ему шаг? Шестое чувство?
— Я не почувствовал кабины под ногами, — объяснит он потом полковнику. — Я просто знал, что за дверью пустота.
Это продолжалось долю секунды. За его спиной взвизгнула женщина. Он почувствовал сильный толчок и уцепился за створки двери…
— Ты ничего себе не повредил, Мартин? — озабоченно спрашивал его полковник. Правительственная «Татра» мчалась по опустевшим улицам. — Умерло еще двое. Это не считая Мациуха. Даже беглый взгляд на Существа вызывает мгновенное заражение. Только на тебя вся надежда. Или…
— Или?
— Придется идти на крайние меры, Мартин.
— Товарищ полковник, мы все выяснили, — прервал паузу незнакомый голос с переднего сиденья. — Мисаржова проникла в соседнюю квартиру, подождала, пока Данеш вызовет лифт, позвонила ему по телефону, а когда он вернулся к себе, уехала на лифте этажом выше. Замок дверцы лифта она повредила с помощью вязальной спицы. Данеш открыл…
— Сейчас не до этого, — нетерпеливо прервал полковник. В кабине «Татры» воцарилось молчание.
Мартин массировал поврежденные пальцы, Мысленно он вновь переживал недавний ужас.
Как он испугался! Но не падения в шахту, нет. Он не мог понять, как могла жена Мисаржа хладнокровно напасть на него, воспользоваться его слепотой, не оставить никакого шанса. И вчера в раздевалке она так же слепо набросилась на него…
Слепо…
Эта женщина еще более слепа, чем я. Почему она не попыталась со мной поговорить? Ею руководила ненависть, бешеная, смертельная. Вчера она атаковала словами, сегодня — действиями.
Бомба, сброшенная Б-52, тоже атаковала слепо, не оставлял никакого шанса тем, кто был внизу.
А Существа… дали они хоть маленький шанс несчастным в информационном центре? И другим, кто погиб в эти два дня? Какую формулу Пифагора послали они? Как прозвучало их приветствие?
Эта девушка, Дана Мразкова, сказала академику Мациуху: «У них странные глаза… они преобразили людей!» Существа попали в людей смертоносным взглядом и превратили их в новых Существ. Как если бы бомба, взорвавшись, не только убила людей, но и превратила их в новые бомбы…
— Одно у меня не умещается в голове, — проворчал полковник.
— Что?
— Хотелось бы мне знать, чем они там заняты.
— Кто?
— Да Существа! Мы отключили им свет, вентиляцию. А они и не пытаются выбраться. Что-то замышляют,
— Мы это скоро узнаем, — решительно сказал Мартин.
Полковник пожал его руку:
— Спасибо, Мартин. До последней минуты я боялся, что ты откажешься.
— Я передумал.
— Почему?
— Понял, что слепота — худшее зло. Та слепота, которая коренится в душах людей. Или, если хотите, Существ. Глаза ни при чем. Это свойство духа, с ним надо бороться. Мой отец помогал людям, боровшимся с ним с оружием в руках.
— Я не совсем понял.
Слепой усмехнулся. Имеет ли смысл объяснять?
— В жизни каждый должен отыскать собственный путь. Один ищет себя долго, другой вообще не найдет. Я нашел свой путь в ту минуту, когда меня хотел уничтожить человек еще более слепой, чем я.
— Товарищ министр, мы готовы.
— Отлично, товарищ полковник. Как самочувствие, Мартин? Как пальцы?
— Немного побаливают. Ну, думаю, это не помешает… в работе.
Министр сделал вид, что не заметил секундной заминки. «У всех нас, кто выбрал это занятие, есть тревога и есть сомнения, — подумал он. — Но тебе, Мартин, хуже, чем нам. Ты не выбирал себе занятия. Мы тебе выбрали.»
— Товарищ министр, шахта разминирована! Лифт подготовлен.
— Пойдемте, товарищи. Оружие проверено?
— Мы просвечивали каждый патрон, товарищ министр.
— Хорошо, хорошо…
Топот солдатских сапог по коридорам, отголоски команд. Чей-то крик: «Ты что, ослеп?» Армия есть армия, каков бы ни был противник: условный, с повязкой на рукаве, или эти неведомые Существа, готовящие наступление на наш мир.
«Ты что, ослеп?» — мысленно повторил Мартин. Да, это про меня. Потому я и здесь.
На этот раз, перед тем как войти в лифт, Мартин помедлил. Поедет ли он еще когда-нибудь на лифте?
— Ни пуха, — сказал министр. Мартин протянул руку. У министра было крепкое, хорошее рукопожатие.
— Давай, дружище. — Полковник хлопнул его по плечу. Мартин улыбнулся из своей темноты.
Он привык к полковнику и доверял ему.
Дверцы захлопнулись, теперь нужно нажать кнопку. Ему говорили: не торопись. Не делай этого, пока не будешь внутренне подготовлен. Можешь ждать час, два. Если почувствуешь страх, вернись. Никто тебя не упрекнет.
Он нажал кнопку.
Загудел мотор, и лифт начал спускаться. Лифт, превратившийся в боевую машину человечества.
Что-то загремело снаружи. Здесь мины, множество мин. Если они взорвутся, здание взлетит в воздух.
Кабина медленно спускалась, задевая за погнутую арматуру. А саперы клялись, что путь свободен. В действительности все по-другому. Что, если лифт застрянет? Что случится тогда? Его, очевидно, поднимут. Полковник скажет: ничего не поделаешь, отправляйся домой, Мартин. Черта с два!
Пусть спускают на канате…
Кабина лифта коснулась пола, подняв бетонную пыль. В носу у Мартина защекотало, секунду он сдерживался, потом оглушительно чихнул. Первый шаг на поле битвы. Под ногами хрустит бетон. Здесь рвались снаряды, бушевал огонь, хлестала вода, но Существа отразили смерч раскаленных газов и град стальных осколков…
Мартин медленно двинулся вперед, держа карабин наготове. Да, пересеченная местность: в полу рваные дыры, обнаженная арматура цепляется за ноги. Кругом было тихо. Ему казалось, что он приближается к гладкой непроницаемой стене.
Вытянутой вперед левой рукой он ощупывал пространство перед собой, инстинкт подсказывал ему, что стена находится в метре-другом от него. Предчувствие превращалось в уверенность: перед ним стена, построенная ими. За нею готовят они свою смертоносную атаку. Еще шаг. Он ощутил стену кончиками пальцев,
В этот момент что-то изменилось, в лицо ему пахнуло зловонием. Существа открыли и ждут. Пол здесь был гладкий. Мартин перешагнул границу, отделяющую человеческий мир от мира Существ.
Еще два шага. В лицо повеяло странным жаром, сильным, но не обжигающим. Он понял. Они устремили на него взгляды, впились в его лицо. Для того ему и открыли, чтобы немедленно превратить в союзника, в еще одно Существо.
Слева что-то зашелестело. Он нажал спусковой крючок. Та-та-та — загремели выстрелы. И — глухой звук падения. Один из них? Несомненно, больше здесь никого нет. Сердце у него подскочило от радости, но он тут же возненавидел себя за это, ОРУДИЕ УБИЙСТВА. Орудие? Нет, я просто антибиотик, ликвидирующий заразную болезнь. Чувствует ли пенициллин угрызения совести?
Жар, который он ощущал на веках слепых глаз, был так проникнут животной ненавистью, что у него слегка закружилась голова. Но перемещался он уверенно. Помнил расположение кресел, мониторов… Та-та-та, снова и снова, новую обойму, быстрее!..
Существа уже поняли, какая им грозит опасность. Мартин мог бы поклясться, что попал пять раз. Значит, осталось двое.
Быстрые шаги, топот, движение воздуха. Выстрел. Промах! Существо совсем близко. Мартин падает на колени, снова спускает курок. Тяжелое тело медленно валится на него, он откатывается, та-та-та, какая ужасная вонь, хочется умереть от отвращения, если б можно было умереть от отвращения! Еще один выстрел. Тяжелое тело цепенеет, становится легче, слышится шорох сыплющейся из разорванного мешка муки. Мартин ощупывает пространство вокруг себя. Он лежит в кучке сухой пыли. Без усилия встает. Это значит, был шестой.
Где-то во тьме его слепоты скрывается седьмой, последний враг. Он прикрылся тишиной и неподвижностью, поняв, в чем спасение. Пока он не шевелится, Мартину не узнать, где он. Хочется кричать от отчаяния: враг рядом, но где?
Существо совсем близко. Мартин чувствует гнусный запах, к которому, впрочем, успел привыкнуть. Кровь шумит в ушах. Есть ли кровь у Существ? Вряд ли, ведь после смерти они распадаются в прах, кучку сухой пыли. А человек на две трети состоит из воды. Существа — не люди, нет!
Низко держа карабин, Мартин медленно поворачивает голову из стороны в сторону. Как радар.
Лицу горячо. Существо вглядывается в него изо всех сил, А что, если… оно даст ему зрение? Мысль обрушивается внезапно, как рысь с дерева. Колени подламываются. Почему это невозможно? У Мартина отсутствуют соединительные волокна, нервные окончания. Врачи тут бессильны, но Существа — не врачи.
Слабый шорох. Слева? Слева! Там пульт управления. Седьмое Существо сидит у пульта. Но где?
Мартин умеет ждать, И этим искусством должен владеть слепой, чтобы выжить в мире света.
Слабый щелчок тумблера.
Та-та-та! — он стреляет наверняка.
Секунду спустя между пальцами Мартина сыплется сухая пыль.
Это был седьмой. Последний.
Мартин садится на пол, кладет карабин рядом.
Прислушивается. На этаже не осталось ни одной живой души. Кроме него, Мартина, выигравшего эту странную войну потому, что другая война лишила глаз его отца…
Но что это? Он поднимает голову. Слабый шепот доносится до его слуха. Будто ветерок перебирает листву молодых березок, будто ручеек журчит по камням, лепечет ребенок, мурлычет кошка, трамвай поскрипывает на поворотах. Магнитофонная запись. Задом наперед, ТЮЛИЛИХУМ ААУХУМ.
Что это за музыка? Что означают эти странные звуки? Ни к чему ломать голову. Я выполнил задание.
Идите сюда, люди, заразы больше нет, поставим памятный чумной столб в честь победы, как когда-то, давным-давно, делали люди, когда кончался мор. Мартин встал и пошел к выходу. Странная музыка звучала за спиной.
Он наткнулся на гладкую, непроницаемую стену. Значит, когда он вошел сюда, Существа вновь замкнули свой оборонный вал.
Ну и что? Они уже доиграли свою смертельную игру! Пусть они успели захлопнуть ловушку, но сами-то превратились в семь жалких кучек праха!
Он снял заплечный мешок и залез рукой внутрь.
Там рация. Он нажал кнопку.
— Мартин! — ликовал полковник Яролимек. — Ты жив?
Мартин поборол волнение:
— Да, все кончено. Приходите…
За стеной лязгнул металл. Техники поднимают кабину лифта. Вот-вот здесь появятся люди.
«Тюлилихум ааухум»… Странная музыка,
— Вижу тебя, Мартин, но пробиться к тебе пока невозможно! — кричит полковник Яролимек.
— Здесь какая-то стена! — отвечает Мартин.
— Держись, Мартин, сейчас мы ее пробьем!
«Тюлилихум ааухум». Что бы это значило?
«Хотелось бы мне знать, что они там делают». Так сказал полковник по дороге сюда.
Их оружие — генетический код, рассказывал он Мартину при первой встрече. С помощью органов зрения они проникают в нервную систему. Достаточно, если хотя бы одна клетка получит «инструкцию». Зараженная клетка перестроит соседние. И вот их уже сотни, тысячи, миллионы. Насколько быстро протекает процесс? Ученые говорят, в миллионные доли секунды. Это как-то связано со скоростью света…
Но ведь и слух — это информационный канал.
Глаз во много раз лучше принимает информацию и гораздо быстрее. Это вопрос времени. Для органов зрения потребовались две минуты телетрансляции. Для слуха же…
«Тюлилихум ааухум». Мартин, пошатываясь, вернулся к пульту управления. Лепет ребенка и мурлыканье кошки. Кто-то неправильно зарядил пленку. Вот тут я попал в последнего из них, подумал он, зачерпнув горсть сухой пыли. Кто это был? Трансформированный Мисарж? Нет, это, по всей вероятности, была Дана Мразкова. Отважная девушка, которая сообщила людям о грозящей опасности и боролась до конца. Когда она стала Существом, то пожертвовала собой во имя… Чего?
Если бы Существо не щелкнуло тумблером, я бы никогда его не нашел. Оно могло подождать, пока не подойду на расстояние вытянутой руки. Стоило мне чуть ослабить внимание, оно могло бы обезоружить меня, выбить карабин из рук. Но оно не сделало этого. Просто включило магнитофон и спокойно встретило смерть…
Он кинулся к пульту. Где тумблер? Он шарил руками по приборной панели.
«Тюлилихум ааухум».
— Что ты делаешь, Мартин? — кричал полковник Яролимек, такой близкий и такой бесконечно далекий. — Сейчас мы тебя вытащим, успокойся!
Мартин метался от одной секции к другой. «Тюлилихум ааухум»…
Есть!
Он коснулся плавно вращавшихся дисков. Накипевшая ярость нашла выход. Он вырвал пленку, бросил на пол, топтал ногами. Потом рассмеялся. К чему все это? Придут люди и сотрут последние следы какого-то «тюлилихум ааухум».
Он вдруг почувствовал, что должен укрыться.
— Куда ты, Мартин? — звал полковник Яролимек.
Он не мог ответить и сам не знал почему. Неуверенными шагами направился к двери склада, где Дана Мразкова приняла свой последний бой. Они не должны меня видеть. Но почему, почему?
Пошатываясь, ввалился он в помещение, привалился к стене и медленно сполз на прохладный пол. Специфическая удушливая вонь ударила в ноздри.
«Тюлилихум ааухум».
— Почему я все время думаю об этой мерзости? — спросил он себя вслух.
И тут что-то произошло.
Мартин Данеш впервые в жизни увидел свет.
Он закричал от ужаса и неведомой прежде радости. Вечная тьма озарилась. Красочные очертания выступили из темноты, закружились в сознании. Странные переплетения, пульсирующие разноцветные прожилки… Это не просто свет, подумал Мартин. Это глаз Существа.
Я скоро превращусь в Существо, я успел заразиться. Но я еще сопротивляюсь, через слух это идет не так быстро. Медленнее, чем вам хотелось бы, не правда ли? Кто вас сюда послал? Кто-то тщательно выбритый, умытый и плотно позавтракавший?
Он собрал остатки воли, изо всех сил стараясь не обращать внимания на пульсирующее золотистое пламя, пожирающее остатки его дорогой, человеческой темноты, и приложил дуло карабина к сердцу. Нажав на спусковой крючок в момент, когда золотой огонь уничтожил последние клочья мрака, он так и не успел осознать, что смотрел на мир одним глазом.
* * *
Больше года ждали Существа на борту Корабля.
Сигнал с Третьей планеты не приходил. Терпение Существ было неисчерпаемо: иногда захват планеты длится долго, очень долго. А иногда не удается вообще. У них был богатый опыт.
А потом чуткие детекторы Корабля уловили осторожные, выслеживающие лучи. На экранах дальнего обнаружения появилось облако неправильных очертаний, приближающееся к Кораблю.
При детальном рассмотрении обнаружилось, что оно состоит из нескольких тысяч примитивных космических аппаратов.
Третья планета начала контратаку. Командир Корабля обратился к бортовому компьютеру с вопросом: имеет ли смысл продолжать операцию?
Компьютер долго взвешивал все «за» и «против». Потом дал ответ: «НЕТ».
Через некоторое время Существа улетели. По странной случайности тщательно умытые и плотно позавтракавшие.
Они не побрились, поскольку брить им было нечего.
Любен Дилов ДВОЙНАЯ ЗВЕЗДА[2] Пер. И. Масуренковой
Только в парке он мог находиться больше двух часов подряд. Бесцельное нетерпение постоянно гнало его куда-то, и только здесь он бездумно бродил или бегал до полного изнеможения. Конечно, это тоже была иллюзия: каких-нибудь пятьсот шагов — и он натыкался на невидимую стену, за которой холодными зубами звезд все так же оскаливал на него свою пасть Космос. Как и все предшествующие пятьдесят лет. По другую сторону города-спутника, куда они оба старались не заходить, словно кипящая от синеватых туманов гималайская бездна, курилась Земля.
Гагаринск был первым за пределами Земли городом, построенным еще до полета к звезде Барнарда. Все остальное было теперь ему незнакомо. В системе Барнарда их не задержали, но когда они возвратились в Солнечную систему, поступил приказ остаться по ту сторону Сатурна. Без лоцмана они не могли безопасно достичь Земли.
Века, которые протекли за соплами их корабля, многое изменили в Солнечной системе. Между Венерой и Сатурном сновали сотни искусственных спутников, тысячи промышленных баз. Человечеству оказалось выгоднее расселяться в ледяном спокойствии межпланетного пространства, чем на планетах с трудноприспособляемыми к жизни условиями.
Это безотчетное нетерпение обрушилось на него, когда они ждали лоцмана. Тот прибыл со стороны Титана на каком-то невероятном планетолете. Планетолет ловко взял на буксир их, казавшийся на его фоне неуклюжим, корабль и доставил его сюда, где он и оставлен на вечную стоянку. Ведь и сам Гагаринск давно уже существовал как город-музей первого космического градостроительства. По той же причине его избрали местом для карантинной станции перед окончательным возвращением на Землю. Им отвели шесть месяцев, чтобы они могли ближе познакомиться с находящейся рядом Землей и более отдаленными государствами-спутниками, изучить современный общественный строй и нравы, привыкнуть к изменившимся материальным и духовным условиям жизни. Но, видно, отправляться в далекий путь всегда будет легче, чем возвращаться.
Прошло шесть месяцев: Нильс Вергов смастерил себе койку и подвесил ее под единственным в здешнем лесу дубом.
Из всего экипажа только они с Лидой Мэй еще не хотели возвращаться на Землю. Бессильной оказалась психотерапия, и вся надежда была только на парк. Розы в нем казались им теми же самыми, хотя это были сотые после их отлета поколения. Стадо серн тоже выглядело таким же, как и десяток зайцев и белок. Но дуб-то, быть может, был и вправду тем самым… Когда-то в этом первом внеземном парке посадили десятка два дубов, сегодня сохранился лишь один. Каким бы хилым и жалким ни выглядел этот лес, он был единственным чудом, которое привязывало его к себе. Конечно, и это была иллюзия — те, кто заботился здесь о деревьях и животных, были праправнуками тех, кто отправлял его когда-то в первый межзвездный полет.
Нильс Вергов не осмеливался даже спросить, был ли этот дуб из тех, прежних, чтобы избежать разочарования. Когда он перешел спать сюда, врач понял его: устал постоянно видеть перед глазами лишь стены и приборы, хочет отдохнуть душой, порадоваться тому, о чем мечтали в долгие годы полета. Но через два дня тот же врач ему как бы между прочим напомнил:
— Вергов, на Земле же ты найдешь деревья постарше этого жалкого дуба, дубовые рощи, посаженные еще до рождения самого Гагаринска.
Врач явно чувствовал, что не только приборы и металл привели Вертова сюда, и Нильс грубо ему ответил:
— Я же сказал, что сам решу, когда вернусь на Землю.
— Естественно, можешь и до конца дней оставаться здесь, — смущенно усмехнулся врач, боясь, как бы его слова не прозвучали упреком. — Но ты же живой укор современной медицине.
— Могу ваших туристов испугать, а? Небось, из-за меня и Гагаринск закрыли? — не без злорадства огрызнулся Нильс, взъерошив отпущенную по прилете лохматую бороду.
— Туристам будет даже интереснее. Но нас постоянно теребят: можно ли так оставлять героя человечества? Почему он не возвращается на Землю?..
— Ах извините, все забываю, что я герой! Но другие-то вернулись, так что человечеству есть кем забавляться. Да и Гагаринск обогатился живым экспонатом. Так что уж пускайте туристов.
— Все только и говорят, что ты был самым отважным в экипаже, благодаря тебе…
— В самом деле, — хихикнул Нильс в бороду, — побывал на пяти планетах, между двумя солнцами, которые швыряют эти планеты, как баскетбольные мячи, и гонят их со скоростью двадцать километров в секунду по Космосу, а под конец испугался своей прекрасной родной Земли! И это-то астропилот номер один!
— Я не то хотел сказать, Нильс.
— Если не хочешь говорить то, что хочешь сказать, оставь меня в покое, — буркнул Вергов и плашмя бросился на койку. — Коль уже объявили меня героем, дайте мне хоть немного повосхищаться собой!
И кровать ходуном заходила под ним от того тревожившего врачей смеха, который напал на него, когда они вместе с Лидой Мэй смотрели передачу о торжественной встрече экипажа на Земле,
Лида отреагировала на его прихоть спать в парке всего лишь усмешкой. Выдержанная и невозмутимо спокойная бортинженер и планетолог Лида Мэй стала какой-то расслабленной и рассеянной. Лишь спустя две недели забрела она в аллею, чтобы посмотреть на его «спальню», и сказала:
— На гостей она у тебя явно не рассчитана…
— Это точно, — ответил он ершисто. — Мою интуицию не проведешь.
— Не слишком ли ты на нее полагаешься?
— Всю жизнь мы были рабами астропилотского «рацио», пусть же и «интуицио» скажет хоть пару слов.
Она погладила его волосы, доходившие почти до плеч, потом пальцами, словно гребнем, стала расчесывать бороду.
— Ну и зарос же ты, человек даже не поймет, куда тебя целовать.
— Тебе еще хочется меня целовать? — улыбнулся он.
— Да я вовсе не имею в виду себя. Тебе какая-то девушка звонила.
— Чего ей надо?
— Не сказала и даже на экране не показалась. Но сегодня перезвонила уже не с Земли, а отсюда. Хотела тебя во чтобы то ни стало видеть. Говорит, по личному делу.
— Откуда же ты тогда знаешь, что это девушка?
— А у меня тоже есть интуиция.
Нильс быстрым шагом ринулся по аллее. Лида, как обычно, следовала в двух шагах за ним. Эти прогулки по парку выглядели так, словно их гнало нетерпение, накопившееся в их телах за двадцать лет обратного пути к Земле. Немного погодя он свирепо бросил через плечо:
— Я всерьез подозреваю, что ты заодно с врачами. С какой стати ты подсовываешь мне какую-то девушку?
— Если ты хоть на минуту остановишься, я скажу тебе правду.
Его остановило не любопытство. Очень сдержанная, Лида за все эти годы никогда не говорила с ним с такой нежностью, и от этой нежности у него подкосились ноги.
Рядом была скамейка, но он сел прямо на землю к ее ногам.
— А правда, как и полагается, жестока, не так ли? Лучше присесть, чтобы она не сшибла меня с ног.
Он посмотрел на нее в насмешливом ожидании, весь какой-то нахохлившийся. Что это было — галлюцинация? Лида стояла перед ним совершенно такая же, как и прежде, не по-женски спокойная.
— Нильс, еще когда нас отделяло от Земли два световых года, я примирилась с мыслью, что возвращение для нас будет означать расставание.
— А другие как, порасставались? — Он не знал этого, потому что сознательно перестал интересоваться их судьбами.
— Большинство. Но в конце концов это произойдет со всеми. Останься мы вместе, мы превратились бы в праисторическое племя среди современной цивилизации.
— Тогда почему ты не возвратилась с ними?
— Не из боязни, что мы расстанемся. Вероятно, по тем же причинам, что и ты. За пятьдесят лет мы, безусловно, стали очень похожи друг на друга.
— Нет, ты не успела передать мне свое коварство, — весело сказал он, фыркнув в усы. — Два световых года назад я и не думал о расставании.
— Не будь лицемером, — упрекнула она. — Уж так у тебя и не было времени помечтать о том, как будут прыгать наши потомки вокруг знаменитого Нильса Вергова.
— Как видишь, я соорудил одноместную спальню в общественном месте.
— Чтобы тебя разбудили, еще…
— А не объяснила бы ты мне, разумная женщина, что меня разбудит? Только не докторскими, а своими словами.
— Страх, Нильс. Обыкновенный человеческий страх. Только тебе трудно в этом признаться. Ведь все привыкли к тому, что Нильс Вергов всегда самый смелый, самый хладнокровный, самый, самый, самый…
— Но ты видела меня хоть раз в полете испуганным больше других?
— Сейчас и для меня Земля пострашнее чего другого.
— Глупости! Там по крайней мере есть тысяча мест, где я могу поставить себе койку без того, чтобы мимо каждый час не проходил прогуливающийся потомок.
Услышав приближающиеся шаги, он вскочил с земли, досада его сменилась гневом из-за того, что он инстинктивно соотносил свои действия с этими потомками. Нильс снова помчался по аллее, но ослепленный гневом побежал навстречу шагам. А может, его подтолкнула интуиция? И уж, конечно, интуиция заставила его воскликнуть это ужасное: «Зина?».
— Нильс? — отозвалась неуверенно девушка: в джунглях седеющих волос она не смогла сразу разглядеть знакомые черты.
Лида за его спиной, словно эхо, повторила: «Зина?» — и он больше не слышал ее дыхания, оглушенный стуком собственного сердца. Белочка бесшумно спрыгнула на тропинку, присела на хвостик и засмотрелась на них — пародийный свидетель их невероятной встречи. Но Вергов был действительно мужественным человеком, он быстро пришел в себя.
— Кто вы? — рыкнул он. — Извините, что так…
— Зина, — испуганно ответила девушка. — Ты меня не узнал, Нильс? Я очень боялась, что ты меня не узнаешь.
— Хватит глупостей! Врачи что ли вас такую придумали?
— Но я действительно Зина, Нильс. Можно, я объясню тебе все?
На Нильса снова напал тот самый смех, который так беспокоил медицинскую комиссию.
— Ты посмотри на нее, Лида! В конце концов они решили пронять нас своими фокусами.
Не только врачам противостояли эти двое, они все время сопротивлялись и техническим новшествам, которыми их встретило новое человечество. Он с циничной придирчивостью оглядел смущенного двойника прежней Зины.
— Может, хоть таким путем я им поддамся. Совсем как настоящая.
— Нильс, — покраснела девушка, — я не фокус, не голография. Я много раз пыталась попасть к тебе, но мне не разрешали. Я должна тебе все объяснить.
Он повернулся к Лиде, которая уже улыбалась со свойственным ей железным спокойствием.
— И голос такой же, — подтвердила она. — Значит, вас зовут Зиной? — Она умышленно употребила разделяющее их «вы», которое современные люди употребляли очень редко. — А чего вы от нас хотите, милая Зина? Интервью?
Ух, каким злым становилось порой это Лидино хладнокровие, в поле действия которого он находился пять десятилетий. Куда девалось ее великодушие, с каким она минуту назад отдавала его современным девушкам?
— Мне нужно тебе все объяснить, Нильс! — взмолилась девушка, схватившись за старинную сумочку, висевшую у нее через плечо.
— Только ему? — спросила Лида.
— У меня нет от нее тайн, — сказал Нильс. — И потом — почему вы знаете только меня? Это же Лида, Лида Мэй!
Этот вопрос словно отрезвил Лиду, и она настойчиво сказала:
— Иди, Нильс! Мы уже не на корабле, тут у каждого есть право на тайну.
Нет, не великодушие руководило ею, когда она оставляла его наедине с девушкой, а предусмотрительность — ей самой тоже нужны тайны.
Нильс протянул девушке руку, та с радостным облегчением сразу же положила свои пальчики на его широкую ладонь, но он тут же отдернул ее, словно обожженный неожиданным теплом чужой женской плоти, и рука девушки резко опустилась вниз. Белочка взмыла на ближайшее дерево, Нильс виновато засмеялся.
— Извините меня, я все еще принимаю вас за какое-то изображение или видение. Но вы так похожи на одну Зину…
— Но я и есть Зина, Нильс!
— Ну хорошо-хорошо, пошли! Мне легче говорить на ходу.
И не ожидая ответа, он в привычном темпе зашагал по аллее. Даже еще быстрее, в надежде, что, как только девушка окажется у него за спиной, он перестанет ее видеть. Но Зина стояла у него перед глазами, точно такая же, как эта Зина, в каком-то отчаянии бежавшая сейчас за ним следом.
— Нильс, — со слезами взмолилась она. — Я так не могу. Пойми, это действительно очень важно!
Он добежал до уединенной скамейки. Когда девушка села рядом с ним, дыхание его уже успокоилось.
— Ну что же, начнем.
Запинаясь и чуть не плача она произнесла:
— Нильс, если… если ты меня уже не любишь… Если совсем меня забыл, скажи сразу… Но я видела, как…
Тот же голос задавал ему когда-то те же вопросы, и он боялся повернуть голову в ее сторону — все это было похоже на мистику.
— Ну что, закончим этот спектакль, а? Если хотите мне что-то объяснить, объясняйте!
Девушка зажала свои дрожащие маленькие ручки между коленками. Прежняя Зина в сильном волнении делала точно так же.
— Нильс, я и есть Зина. И я ждала, когда ты вернешься, потому что я все еще люблю тебя. Не перебивай, прошу тебя! Это так. Я клонинговая копия той Зины, которая когда-то… Ты, может быть. Знаешь, что такое клонинг? Это когда клетку, взятую у какого-то человека, можно оперативно пересадить в яйцеклетку женщины, и она родит точную копию этого человека.
Еще в его детстве клонинг широко использовался в животноводстве, но он не стал ее перебивать. Ее разъяснения подтверждали современность этой Зины. Прежняя никогда бы не стала ему объяснять то, что они проходили в начальной школе. И именно это и выдавало, каким древним он казался девушке.
— Ой, все напутала! — трогательно воскликнула Зина. — Ты же и так, конечно, знаешь, что такое клонинг, ведь и на звездолете вы имели с ним дело… Сколько раз я представляла себе эту встречу, тысячу раз ее репетировала, а вот запуталась. Просто не знаю, как…
— Клонинг запрещено применять к людям, — сказал он, как бы защищаясь и сразу же предугадав всю трагическую нелепость предстоящего. — И прежде, и теперь.
— Да, но ты же знаешь, Зина была врачом и дочь ее тоже. И они сделали это тайно с моей матерью, которая очень ее любила. Так моя мать родила свою прабабку, понимаешь? Но давай я включу ее послание.
Девушка достала из сумочки одно из миниатюрных чудес своего времени, положила его на скамейку, и аппарат сразу же заговорил немолодым немного хриплым голосом, в котором отчетливо слышались знакомые ему интонации.
— Нильс, когда ты услышишь снова мой голос, нас будет разделять не только проклятая звезда Бернарда, но и время. Я уже буду мертва, но я не нашла в себе сил уйти из этого мира, не оставив в нем своей любви к тебе. Слишком уж огромной она оказалась, Нильс, не по плечу мне. Потому-то я и совершила преступление — и по отношению к закону, и по отношению к девочке, которая вручит тебе мой голос, да, вероятно, и по отношению к тебе самому. Ведь ты имел право забыть меня, а я не имела права на тебя обижаться. Но ты и так достаточно отомстил мне, Нильс, я сама себя жестоко наказала за свою боязнь покинуть Землю. Час спустя после вашего старта я готова была броситься тебе вдогонку, но уже ничто не сможет тебя догнать, кроме тех нескольких слов, которые мне разрешили послать тебе вслед, чтобы ты узнал, как я раскаиваюсь. И всю свою жизнь я прожила, обратив взор к звезде, которая похитила мое счастье.
Нильс закрыл лицо руками и не видел, какой болью и страхом наполнились обращенные к нему глаза живой Зины.
— Нильс, не знаю, простил ли ты меня, — продолжал аппаратик после короткой паузы. — Но не с надеждой на прощение посылаю я тебе себя снова. Не во искупление нарушаю свою врачебную клятву. Это просто исповедь измученного женского сердца: ты будешь в полете около пятидесяти лет, две трети этого времени проведешь в анабиозе и сохранишь свою молодость и здоровье. На Земле пройдут столетия из-за чудовищной зависимости времени от пространства и скорости. Кого ты застанешь на Земле, Нильс? Этот вопрос задавала я себе в своей неизбывной муке. Кто согреет тебе душу в этом совершенно чужом тебе мире? Разве не имеет женщина естественного права носить платье, в котором она проводила своего любимого, чтобы встретить его в знакомой ему плоти. Прости меня, Нильс, если я снова совершила ошибку! На этот раз я уже прошу о прощении. Я посылаю тебе эту девочку и хочу только одного — чтобы ты был счастлив, когда возвратишься. И если я действительно совершила ошибку, не будь слишком жесток к моей копии, потому что она пронесет через века не только мой облик, но и мою ничем не искупаемую вину. Я люблю тебя, Нильс. Пусть это подарит тебе хоть немножко нового счастья на Земле.
Аппарат умолк. Не было привычного «прощай» или «до свидания». Может быть, поэтому Зина продолжала сидеть?
Нильс в отчаянии крутил прядь волос, пока боль не отрезвила его. За восемь лет, проведенных в ослепительном свете звезды Бернарда, он ни разу не испытал состояния такой безысходности. Он медленно встал, медленно обернулся.
— Это тебе, можешь его взять, — сказала девушка с отчаянием.
— А вы… помните ее?
— О нет, это же невозможно! Но то, что она сказала, — правда. Она была очень несчастна. Всю жизнь! А прожить из-за тебя старалась подольше. И замуж не вышла. Только родила дочь — от искусственного зачатия. Это была моя прабабка. Она и вырастила меня по ее завещанию вместе с моей мамой, которая… Я все знаю, все помню, потому что я — это она… Помню даже, как мы целовались там, у моря. Вот, у меня есть фильм, который мы сняли тогда, и все твои фильмы и фотографии. На них я вижу тебя и себя, не другую женщину, а себя!
Он грубо схватил ее руку, потянувшуюся было к старинной сумочке, но тут же испугался собственной грубости, ощутив ее нежную кисть. На него нашло какое-то наваждение, это было уже не в первый раз после возвращения из Космоса. Он не отрываясь смотрел на ее открытую шею, потом рванул ворот блузки; возле ключицы темнела бархатистая родинка. Да, клонинговая пересадка не забыла и родинки.
— Поцелуй меня, Нильс! — едва слышно прошептала девушка.
— Уходи! Сейчас же уходи!
Девушка заплакала. Плечики ее затряслись, словно от холода, — совсем как у Зины в тот вечер, когда она сообщила, что у нее нет сил отправиться вместе с ним в экспедицию.
— Я не имею права вмешиваться в твою жизнь! — сказал он ей с той же гордостью, с какой говорил эти же слова и тогда.
— Нильс, ты вошел в мою жизнь с того мгновения, как я почувствовала, что такое любовь. С двенадцати лет я знала, что человек, которого я люблю, — не на Земле, что он первым полетел к звездам, что, когда он вернется, он будет моим.
— Нет, — твердо сказал Нильс. — Нет-нет… Идите, девочка! Выбросьте все это из головы!
Она вдруг заметила свое обнаженное плечо, покраснела и натянула блузку. От этого жеста ее нежная фигурка стала еще трогательней и беспомощней, хотя в порыве и было что-то театральное. Но и прежняя Зина в сильном волнении тоже выглядела несколько театрально или казалась такой на фоне других кандидаток в межзвездный полет.
— Не гони меня! Как же я буду жить? — в глазах у девушки стояли слезы.
Она была обессиливающе красива. И в те далекие времена первых месяцев их любви, когда они должны были привыкать и приспосабливаться друг к другу для будущего полета, Зинины слезы вызывали в нем волну неприязни. Ее плач лишал его решительности. Но тогда он слишком сильно ее любил. Теперь он так же ненавидел плачущую девушку и едва сдерживался, чтобы не задушить ее в своих объятиях. Не в силах больше смотреть на нее, он опустил глаза, взгляд его упал на скамью, где лежал аппарат с записью умолявшей: «Не будь к ней жесток, Нильс!» Стараясь сдержать себя, он стоял, распрямив плечи и сам не подозревая, сколько в нем еще не растраченной силы и молодости, чего не могла скрыть и его старинная космонавтская куртка, с которой он демонстративно не расставался.
— Посмотрите на меня, девушка! Но не через розовые очки своих сумасшедших бабок! Да равзе я тот, кого вы ждали? Хорошенько посмотрите на меня. Я же ископаемое, плезиозавр…
И, словно в доказательство своих слов, он дернул себя за поседевшую бороду.
— Не называй меня на «вы», Нильс! Сегодня это звучит обидно.
— Ага, вы сами-то слышите, что сказали! Сегодня это звучит обидно, сегодня! Но я не сегодняшний, ясно ли тебе это, и не могу им стать! Сознайся, тебя прислали врачи? Чтобы ты вернула меня на Землю, а?
— Нет, — прошептала окончательно сломленная девушка. — Потому меня и не пускали до сих пор к тебе… Я всю жизнь ждала тебя…
— Вся твоя жизнь, милая девочка, состоит из двадцати лет. А мне семьдесят восемь плюс вековое различие во времени.
Она вскочила со скамейки, наверное, чтобы доказать, что время не имеет никакого значения для нее, но он отступил назад.
— Я так внезапно на тебя напала… Я буду ждать тебя в гостинице. Возьми вот это!
Она неловко достала что-то из сумочки и положила рядом с аппаратом. Он сразу же узнал кассету с фильмом, где был заснят их последний перед полетом отпуск, который они с Зиной провели в палатке у моря.
— Нет, девочка, — он снова не назвал ее по имени. Он не мог не быть жестоким. — Возвращайся на Землю! Я ведь тоже уже не среди звезд. И забудь эту историю! Ты не копия, нельзя жить как чья-то копия.
— Нильс, почему ты настаиваешь, чтобы повторилась трагедия, не поинтересовавшись… Я же не чужая тебе, Нильс!
— Современное человечество тоже испытывает потребность в несчастной любви. Но твоя быстро пройдет, ты же еще так молода.
Зина робко подошла к нему. В ее глазах и вокруг губ трепетала та же чарующая мука, с которой пятьдесят лет назад молила она простить ее за то, что покидает его.
— Нильс, она… она хотя бы короткое время была счастлива с тобой, а я? Можно я хоть раз поцелую тебя, с приездом?
Он снова отступил на шаг, боясь, что не выдержит, если она прикоснется к нему. Зина смахнула рукой слезы, быстро, по-детски. Вздохнула, усмехнулась, как ему показалось, с тайным облегчением, но пообещала с милой, не лишенной театральности настойчивостью:
— Я буду ждать тебя, Нильс! Как и прежде.
Ему захотелось ее догнать, чтобы вернуть кассету, но потом он решил, что лучше уничтожит ее, чтобы и она не могла смотреть этот фильм. И только глядя ей вслед, он понял, что на ней та же блузка и те же брюки, что и на Зине в тот вечер у моря. И его пронзила та же незабываемая магия ее тела…
Лида Мэй лежала на его койке под дубом, и он чуть не крикнул: «Да как ты смеешь!», увидев в этом посягательство на свою свободу, конечно же, иллюзорную свободу.
Она посмотрела на него, глаза ее сощурились от напряжения. Он снисходительно усмехнулся. Милая, снова она продолжала свою полувековую борьбу с Зиной, не прекращавшуюся даже тогда, когда они жарились на планетах звездной системы Бернарда. Однако там она вела ее с присущим ей коварным спокойствием. Ему стало досадно, что ей нужно вновь объяснять то, что не требовало объяснений. И обидно, что эта храбрая женщина выглядела жалкой. Только сейчас он заметил, что на ней та же одежда, что была и на корабле. Она не набросилась, как остальные, на современную моду с ее чудодейственными косметическими средствами. Остальные женщины возвратились на Землю молодыми и красивыми. Лида Мэй предпочла совершать с ним эти сумасшедшие прогулки по здешнему парку. И она тоже боялась своего геройства? Но ведь нынешние психологи и косметологи делали все, чтобы их геройство не походило на музейное, чтобы они были современными людьми.
Она продолжала лежать, и он прикрикнул:
— Нам здесь таких не надо! — Это прозвучало неожиданно резко, и Нильс поправился, но вышло не веселее:
— Мне нужен дуб. Койку можешь взять, если уж она тебе нравится, а дуб не отдам.
Лида потерла щеки руками.
— Прости, я было задремала… — и так быстро вскочила с кровати, что даже пошатнулась. — Здесь приятно спится.
Она не умела врать, и ей давно бы надо было отказаться от попыток — всегда неудачных — обманывать его. Зачем ей нужно было выглядеть смешной? Она поправила волосы маленьким космонавтским гребешком и спросила будто невзначай:
— А что с девушкой?
— Ты настаиваешь на объяснении? Только что ты заявила, что каждый должен иметь тайну, чтобы стать человеком. И ты права. Пятьдесят лет на одном корабле, без тайн, это действительно бесчеловечно!
Она спрятала гребешок в карман. Привела в порядок не только волосы, но и лицо.
— Тогда не спеши убегать, дорогой! Если ты позволишь мне на чем-то настаивать, то я буду настаивать только на одном: не чувствуй себя виноватым и возвращайся на Землю с Зиной.
Он шутливо присвистнул, но не мог скрыть удивления.
— Неужели ты ее прогнал, дурень? Прогнал? Сейчас же беги и догони ее!
— Слушай, — вскипел он, — ты что, забыла о нашем уговоре? После возвращения из Космоса каждый сам решает свою судьбу.
— Это было на корабле, — спокойно возразила Лида. — Здесь же все оказалось гораздо сложнее, чем мы себе представляли. Это как и со звездой Бернарда. Сколько веков уже люди знают, что это две звезды, а продолжают называть их звезда Бернарда.
Как только она начинала говорить метафорами, он приходил в бешенство, потому что и через пятьдесят лет с трудом понимал их истинный смысл. А еще потому, что храбрый планетолог и бортинженер и таким образом пыталась вести борьбу с артистичной Зиной.
— Ревнуешь, что все сегодня говорят о Нильсе Вергове, а тебя почти не вспоминают? Ну хорошо, сейчас же сбрею бороду и сделаю заявление о тебе.
— Давай не будем обижаться, Нильс! Я хотела сказать, что эти две звезды связаны, как бы они ни старались избежать системы. Я говорила о нашем решении.
Он сел на траву и, опершись затылком о край койки, покачивался, как в кресле-качалке. Сухая листва в рассеянном свете дня переливалась всеми оттенками желтокоричнево-красных тонов. В Гагаринске не было времен года, и только растения отмечали свою осень. Листья висели неподвижно, и он лишь сейчас заметил, что здесь не бывает ветра. Это его потрясло: может ли дерево жить без ветра? Жило! Целый лес дышал рядом с ним, но только белки и птицы создавали в нем какое-то движение.
— Представляешь, — сказал он, — это действительно Зина. Клонинговая копия. Полный идиотизм! Параноя, чистейшая параноя! Ее запрограммировали любить меня, и когда я возвращусь…
— Ты должен возвратиться, Нильс, должен в конце концов вернуться, — перебила она его со страстью, столь не частой для нее. — Тогда, может быть, и я возвращусь.
— А я тебе мешаю, что ли? Двойная звезда, а? А почему бы тебе не возвратиться раньше?
Он ждал, что она ответит ему. А она опустилась перед ним на колени, как опускаются перед костром в поле.
— Не знаю, был ли ты счастлив со мною в Космосе, но на Земле — не будешь. Иди, Нильс, попробуй! Смотри, какая она красивая и молодая, и лет ей, наверно, столько же, сколько было, когда мы улетали. Это Зина здорово придумала!
— Ты невозможна!
— А может, ты боишься? Молодости ее боишься? — парировала она с иронией.
— Не тебя ли это я однажды здорово взгрел?
Она весело прыснула:
— Пожалуй, и я тогда в долгу не осталась. Прекрасная была драка, помнишь?
Действительно драка тогда разгорелась живописно яростная, как в старых фильмах. И никто их не разнимал, потому что более живого развлечения с момента взлета у них не было. Но повторить еще раз такое он не посмел — не из-за дисциплины — женщины на звездолете были не менее здоровые и неистовые, чем мужчины. У Лиды, стоящей перед ним на коленях, были плечи борца, конечно, в наилегчайшем весе, а в кошачьей медлительности ее движений таилась и кошачья стремительность реакций.
Расслабившись от воспоминаний, она положила руки ему на колени.
— Нильс, если тебе хочется меня ударить, я стерплю. Я понимаю, тебе не на ком сорвать зло.
— Но что ты от меня хочешь?
— Чтобы ты вернулся к Зине. Ты не забыл ее, я же знаю. Может быть, она вернет тебя к жизни. Меня никто не запрограммировал любить тебя.
— О, я думал, ты это делаешь из великодушия! Только было удивился, а оказывается вон оно что?
— А что? Мы же с тобой даже не знаем, любим ли мы друг друга! Разве ты забыл, как мы соединились? Первый астропилот — и вдруг без партнерши! Стыд и срам! Его любимая Зина отказалась лететь, две другие — разболелись, я — пятый дублер на планетолетах, без всякой надежды попасть в экипаж. Пожал плечами: если нет другой, нельзя же откладывать полет из-за такой ерунды…
Он неловко пошевелился, хотел переменить позу, но Лида продолжала давить ему на колени. Он виновато произнес:
— Разве так все было?
— А разве не так?
— Не помню. Пятьдесят лет все же!
— Но о ней помнишь все, Нильс. Не мучайся, правда, не губи себя со мной!
— Я тебе надоел, что ли?
— Мы даже и этого не знаем. Не успеем надоесть друг другу и айда — по порядку номеров в камеру анабиоза!
Он резко вскочил — от боли в затылке и от раздражения, что его неожиданно потянуло к ней. Впервые после того, как они покинули звездолет. Может быть, из-за этой ее полусонливости или оттого, что сегодня она казалась еще более недоступной, чем обычно. Он обнял ее за плечи и заметил усталые строгие морщинки вокруг ее рта, увядшую кожу лица, тонкие полоски на шее, нежную седину на висках. Его словно обжег насмешливо-веселый огонь ее глаз — она угадала его состояние.
— А не думаешь ли ты, что это может быть не от перемены, не от стресса, а просто от возраста?
Лида приняла удар спокойно, как принимала все его удары до сих пор.
— Ты прав, стара я уже для тебя. В таком возрасте мужчина и женщина не сверстники. И ты меня не жалей, ты же знаешь, я ненавижу, когда меня жалеют.
Он тряхнул ее за плечи:
— Эй, если бы мы были на звездолете, стали бы мы так разговаривать?
— Мы бы лежали в камере, как замороженные рыбы, или зевали перед экранами. И мечтали о Земле!
— Из этого что ли состоял весь полет?
— А кто его знает, так уж ли велико то, что мы совершили. Сегодня ракеты-зонды доходят до Бернарда втрое быстрее. И делают все автоматически.
Чего хотела эта безжалостная женщина — лишить их даже бледного ореола героев? Ты улетаешь на примитивнейшем звездолете, который получает ускорение через определенные интервалы путем целенаправленных атомных взрывов, так что тебе даже не известно, останешься ли ты жив после очередного ускорения или превратишься в звездную пыль! Двадцать атомных бомб грохочут у тебя за спиной, двадцать раз ты предварительно переживаешь собственную смерть. Ты переживаешь ее и каждый раз, отправляясь в камеру анабиоза — тебе никто не гарантирует возвращение оттуда. И все это — отлично сознавая, что через какие-нибудь одно-два десятилетия будут созданы более быстрые и более безопасные звездолеты, а единственный смысл твоей экспедиции состоит в том, что она первая. Ведь история отказывается ждать и не терпит перескакивания через ее этапы. Улетаешь с мыслью, что даже, если и уцелеешь, у тебя не будет настоящего возвращения — из-за различия во времени ты вернешься в мир более чуждый, чем звездная система Барнарда!.. Нильс порывисто прижал ее к себе.
— Мы же мертвые, Лида, понимаешь, давно мертвые! Нас еще тогда похоронили. С музыкой и речами. Это были не проводы, а похороны. Зина это почувствовала, потому и отказалась лететь. Она знала, что мертвым возврата нет.
Лида легонько отстранила его бороду, закрывшую ей пол-лица, и стала нежно ее поглаживать.
— Неправда. Это мы похоронили их, Нильс. Для нас перспектива возвращения была реальностью, а для них надежды дождаться нас не существовало.
— Мы мертвые, Лида, мумии, музейные чучела!
— Но не ты, тебя они дождались. И ты уже ее простил.
— Плохо, что нам не разрешили иметь детей.
Рука ее замерла, губы сжались. Он почувствовал, как в душе его шевельнулось что-то еще неосознанное. Он осторожно отстранил ее от себя. Лида присела на пятки. Он долго рассматривал свою измятую куртку, стараясь совладать с собой. Когда их глаза встретились, ему показалось, что ее глаза мертвы:
— Возвращаешься?
— Не туда, куда ты меня посылаешь. Перво-наперво сбрею бороду, потом запрошу Центр, когда вылетает следующий звездолет. Только бы было место.
— Нильс, ты спросишь только о себе? — остановил его ее вопрос, когда он уже был на аллее. Он обернулся.
— Нет, только о тебе. И буду ждать, выберешь ли ты Нильса Вергова своим партнером.
Ее второй оклик остановил его уже на развилке.
— Нильс, ты не дал мне сказать. Мы не мертвые, Нильс, просто мы перестали лететь. Вот этого-то мы никак не можем постичь.
И она подняла вверх большой палец правой руки — астропилоты пользовались этим знаком, когда сообщали, что приборы в порядке, что все в твоем секторе спокойно. Беззвучный всплеск радости — всегда очаровательно неожиданный — озарил ее бледное лицо.
Он тоже поднял вверх большой палец.
Клаус Мёкель ОШИБКА[3] Пер. Е. Факторовича
1
Я отправлю его обратно; да, решение мое твердое, отправлю его обратно! Именно сейчас, когда есть такая возможность, когда мне, образно говоря, осталось поставить на место последнее реле. Сегодня приходила Регина, и от моих сомнений не осталось и следа. Она выглядела усталой, больной, лицо пожелтело.
— Он меня доконает, — сказала Регина, и в ее красивых карих глазах заплясали злые огоньки. — Это такой коварный, такой пронырливый человек — ты себе просто не представляешь.
Ее голос дрожал, руки, обычно спокойные, судорожно сцепились, веко правого глаза дергалось. Я понял, что дальше ждать не имею права. Еще пару дней, и точка — опыты мои почти завершены. Я вынужден признать: да, я допустил ошибку, и даже весьма серьезную, но кто же мог предугадать!..
Однако я все сделаю, чтобы загладить свою вину. Он отправится обратно, попадет к ним в руки, и они с ним живо расправятся. Не долго думая, поставят на бочку под большим дубом на дворцовой площади и вздернут!
Ему дали шанс, он им не воспользовался, и теперь у меня выбора нет. Я рассчитывал перехитрить историю, провести ее, исправив эту крохотную деталь, но это мне не удалось. Пройдет почти двести лет, думал я, не будет больше никаких титулов, никаких привилегий, и это послужит ему уроком. Но нет, нет и нет!
Люди вроде него — люди никчемные. Да что там никчемные — они просто опасны, и выносить их в состоянии только им подобные. Они считают, что, если обстоятельства благоприятствуют, им все дозволено. И дело не в имени, зовут ли такого граф Эрнст Август фон Франкенфельд-Бирнбах, как тогда, или просто Э. А. Франкенфельд, как сегодня.
Я не просто испытывал к нему чувство расположения, отдаленно напоминающее симпатию, и дело не в великом научном эксперименте, меня не оставляла мысль: а ведь это будет для него более суровым, а следовательно, более действенным наказанием. Это наказание должно было помочь графу, изменив само его естество. И он, конечно, сначала сопротивлялся, выкручивался, пытался отбиваться руками и ногами. Но как же быстро он впоследствии перестроился, как приспособился, став совсем другим человеком и оставшись, в сущности, почти во всем прежним. Это могло бы даже внушить уважение, не будь оно чревато такими неприятностями. Его низость и наглость неистребимы; я допустил ошибку, но, к счастью, я в силах ее исправить.
2
Он был высокомерен с детства, что и неудивительно при его генеалогическом древе и воспитании. Я помню лишь отдельные подробности, слишком давно это было, к тому же тогда у меня хватало своих дел. Но кое-что все же не забылось, например история с солнечными колесами. Случилось это примерно в 1770 году, мне было тогда четырнадцать лет, а ему двенадцать или тринадцать. Его отец, старый граф, неуклюжий и брюзгливый великан, давал какие-то распоряжения моему отцу, дворцовому садовнику. Они обходили строевым шагом парк, а молодой господин решил тем временем обследовать мои владения, находившиеся в садовом сарайчике. Там, за дощатой перегородкой, у меня хранилась куча всякой всячины: чугунки и медные тазы, глиняные кружки, железные трубы, стеклянные сосуды и зеркала. В то время я делал ставку на зеркала, на силу солнечного света, и ничто иное меня не интересовало. Я рассчитывал с помощью отраженных солнечных лучей получить не только свет и тепло, но и солнечную энергию (конечно, тогда я употреблял более простые понятия). Для начала я придумал систему солнечных колес, которые, двигаясь попеременно, должны были привести в движение графскую карету. Задумка нелепейшая, теперь понимаю, но в то время я делал первые шаги, и гордость переполняла меня.
Франкенфельдам никогда не было дела до чувств других людей. Мои солнечные колеса ничего, кроме ехидства, в Эрнсте Августе-младшем не вызвали. Что значили для него изобретения и дух изобретательства? Его мир ограничивался лошадьми и легким охотничьим ружьем, которое он получил в подарок на день рождения. В сопровождении слуги он бродил по темно-зеленым перелескам за дворцом и охотился на диких голубей и кроликов. Это было его постоянным времяпрепровождением и единственной страстью.
— И с помощью этого вздора вы вознамерились покатить карету? — сказал он мне; он с младых ногтей приучился говорить языком взрослых. — Вот потеха! В кареты впрягают лошадей, это известно даже самому глупому крестьянину. Придется поговорить с вашим батюшкой, чтобы он послал вас ко мне форейтором. Займетесь по крайней мере чем-то полезным.
— Для карет не всегда будут нужны кони, — ответил я скромно, однако твердо, — подобно тому, как и для охоты уже давно придумано кое-что, кроме стрел и лука. Необходимо только пораскинуть умом, провести опыты и попытать счастья. Вот это я и называю полезными занятиями.
Но он терпеть не мог, когда ему возражали, как не терпит этого и сегодня, в 1977 году, столько времени спустя. Чужое мнение, не совпадавшее с его собственным, его раздражало, и он был способен впасть в неописуемую ярость. Тогда он стоял, нервно постукивая коротким хлыстом по сапогу, но, заметив, что на меня это впечатления не произвело и что я снова обратился к своей работе, он набросился на мои солнечные колеса и зеркала. Осколки разлетелись по всему сарайчику.
— Вот теперь и пораскиньте умом и попытайте счастье, Никлас!
Как раз в это время появился мой отец, и я не посмел даже возмутиться; напротив, я извинился перед юным графом, будто действительно был виноват.
Эрнст Август IV с детских лет любил держать людей в страхе, особенно таких, как я, хотя он не был ни чудовищем, ни рыцарем-грабителем, ни пьяницей или дебоширом, ни кровопийцей, нет, он был еще далеко не худшим представителем своей касты, а в отдельные моменты казался даже человеком учтивым и обаятельным. А самое главное — он обладал особым даром, который я с моим сегодняшним опытом назвал бы талантом организатора или, точнее, менеджера. Он быстро и безошибочно находил подход к людям, если видел в этом какую-то пользу для себя. В тот раз он всего лишь разбил мои солнечные колеса, а позднее, когда отец во время дикой охоты в Бирнбахских лесах сломал себе шею и короткое время спустя оказался опутанным долгами, юный граф принялся за меня всерьез. Он намекнул, что готов послать меня на учебу в княжеский университет, если я впоследствии не откажу ему в скромных услугах. Нет, он вовсе не требовал, чтобы я выплавил ему золото, он был достаточно образованным человеком и знал, что времена алхимии канули в прошлое и даже под угрозой самых страшных пыток никто подобного чуда не произведет (по крайней мере это ему сумели внушить постоянно разделявшие с ним трапезы псевдоученые болваны, его придворный звездочет и лейб-медик). Нет, золота он не требовал, он довольствовался бы фарфором или блестящими камешками, искусственными бриллиантами или смарагдами, полагая, будто мне удастся сотворить их из ничего. Он обещал оборудовать для меня целую лабораторию и большую мастерскую, заверял, что всегда восхищался моим талантом, говорил, что его устроит самая малость, только бы ее можно было впоследствии обратить в деньги.
Он бывал вспыльчив и порою груб, но достаточно умен, чтобы не забывать о собственной выгоде. В историческом смысле он, конечно, был глуп и никаких послаблений подвластным ему крестьянам не делал даже тогда, когда по другую сторону границы, во Франции, революция громами и молниями разразилась над головами дворян. Да, ему была присуща классовая ограниченность. Это несомненно, и в то же время он проявлял необыкновенную гибкость, когда впереди маячила выгодная сделка. Однако со мной ему по рукам ударить не пришлось. Ни его драгоценные камни меня не интересовали, ни даже учеба в университете.
В те годы я уже работал над моим ОТКРЫТИЕМ. Я не овладел еще как полагается материалом, но приближался к своей цели по спирали. Солнечные колеса и огненные зеркала я сложил в нижние ящики, стоявшие в далеком углу сарайчика, который я перестроил в лабораторию для опытов и исследований; солнце как источник энергии — дело, естественно, важнейшее, но я эти эксперименты отложил. Все мои усилия, весь мой труд, вся моя одержимость, моя пытливость, мои неустанные исследования, расчеты и пробные пуски были посвящены одному ему, великому властелину, всепроникающему и всепреодолевающему жизненному компоненту — Времени!
Я пережил счастливые мгновения. Приближаясь к цели, я заранее предвкушал тот миг, когда нажму на рычаг передвижения, потому что люк вхождения во время я уже обнаружил. Я бился над этим более десяти лет; после посещения княжеской школы для мальчиков я учился в бирнбахском лютеранском коллегиуме, где какникак познакомился с новыми математическими идеями Эйлера и Даламбера; маленькое наследство, доставшееся мне после смерти отца, я тратил, чтобы найти то, чего до меня ни у кого не было: ключ ко времени. А некоторые считали меня безумцем и своего отношения ко мне не скрывали. Эти тупицы, пригревшиеся при дворе князя!.. Эти книжные черви, с которыми граф водил дружбу!
— Вот идет honoris tempus, хозяин времени, — повторяли они, едва завидев меня и полагая эти слова весьма остроумными. Как теперь доктор Гребуш, один из ведущих инженеров завода, который любит называть меня маленьким изобретателем, не догадываясь при этом, сколь он далек от истины и сколь близок к ней. Этот Гребуш настолько уверился в полноте своих знаний, что считает зазорным учиться чему-то еще. Разумеется, он в этом никогда не признается, он утверждает о себе совершенно противоположное, но, если кто-нибудь подойдет к нему и скажет: «Конструкция ваших печей для обжига керамики давно устарела», — как это недавно сказал я, его ждет вежливо-презрительный отпор.
Честно признаюсь, я ставлю Эрнесту Августу в заслугу то, что со своим предложением он, выражаясь фигурально, постучался в мою дверь.
На какую-то секунду меня увлекла мысль распространить среди студентов истинные знания, пусть и обходным путем, через производство фарфора. Но я не мог, не имел права распыляться. Вся моя жизнь будет посвящена служению формуле, околдовавшей меня с такой силой. Я был уже близок к тому, чтобы пробить брешь во временных перегородках.
Я попытался объяснить ему это, отлично сознавая, что он не поймет ни слова, но его вера в мои способности заставила оказать молодому графу эту любезность. Наивный, смехотворный порыв; почему я не вспомнил в тот момент о солнечных колесах и его хлысте? Я и теперь словно воочию вижу молодого графа, соизволившего навестить меня собственной персоной в моем жилище. Он сидел, небрежно развалившись в лучшем из моих кресел, обтянутом серым плюшем; на графе был шитый серебром синий камзол, а унизанная драгоценными перстнями рука покоилась на резной ручке кресла. Он был красивым мужчиной, Эрнст Август, красив он и по сей день. Плечи у него широкие, чуть угловатые, голова как у Цезаря, с гривой густых темно-каштановых волос, сейчас, разумеется, сильно поседевших. Итак, он был и остался красавцем в отличие от меня, человека маленького роста, плоскогрудого и внешне ничем не примечательного. Волосы у меня редкие, торчат во все стороны, лицо заурядное. Глаза темно-синие, живые — это да, и если бы теперь, после огромного скачка во времени, он хоть раз посмотрел бы мне в глаза, то узнал бы меня. Но ведь это для людей его пошиба характерно: отдают распоряжения, разглагольствуют о том о сем, вышагивая по кабинету, но в глаза тебе не взглянут. Они смотрят либо поверх голов, либо сквозь тебя; кто ты такой и каков ты, их не заботит. Даже если внешне проявляют к тебе интерес… Ну, мне это было только на руку.
Это и в прошлом было так; я старался дать ему общие понятия о том великом явлении, на след которого я напал, хотел, чтобы он принюхался, что ли, к этому будущему, но он, устроившись в кресле в небрежно-элегантной позе, делал вид, будто слушает меня с интересом, сам же ни о чем, кроме своих дел, не думал. Мелкая душонка, он не ощутил, что в моей мастерской витает дух гениальности. Всего-то он и понял, что со своим фарфором и своими камешками он до меня не достучался. И подобно случаю с солнечными колесами, снова впал в ярость. Лицо его омрачилось, он вскочил и резким движением отодвинул кресло в сторону.
— Выходит, вы отказываетесь, Никлас?
— Я прошу господина графа простить меня, но, как я пытался объяснить, для этих вещей у меня не остается времени.
— «Нет времени, нет времени!» Я пришел к вам с просьбой, а вы отделываетесь дешевыми отговорками. Шахта сквозь века — нет, что за неслыханный вздор! Но вам меня не провести. Советую вам подумать. Ваш отец служил моему. Вы служите мне. Даю вам на размышление двадцать четыре часа и ни минутой больше. Завтра в полдень дадите мне согласие и скажете, что вам необходимо для работы. Терпение мое небезгранично, — и с видом оскорбленного величия он оставил мою лабораторию.
Что мне оставалось? Зная его, я мог выбирать между лакейским существованием и бегством. По долгом размышлении я остановился на второй возможности. Мне пришлось нелегко. Ночью я перенес все свои расчеты и записи, важнейшие приборы и таблицы к одному приятелю. на которого можно было положиться, а к утру я перешел границу Франкенфельд-Бирнбаха и Саксонии. Позади остались улицы и переулки, знакомые мне с детства, поля и луга, по которым столько раз бродил, погруженный в собственные мечты, дом, мои немногочисленные, к счастью, друзья и знакомые, женщина, при воспоминании о которой сердце мое сжималось с особенной болью, ведь в последнее время меня тянуло к ней все сильнее и сильнее. Это я о Катрин, дочери причетника из деревни Кляйнбирнбах.
Я перешел границу, потому что предпочел долгие годы страданий в изгнании рабству в родной стране. Может быть, это было ошибкой, но кто из нас знает, какая судьба ждет впереди. Как бы там ни было, я смог вернуться на родину только через несколько лет. Трудности, с которыми я столкнулся на чужбине, и нужда, которую я терпел — по крайней мере в первое время, — отбросили меня в научных экспериментах далеко назад. На чужой почве работа не желала давать плодов.
3
После всего сказанного вас может удивить, что именно Эрнсту Августу выпал шанс в жизни, за который сегодня бились бы любой юноша и любая девушка, обладающие хотя бы пятью гранами фантазии, и любой ученый, оставшийся молодым душой и телом. У нас с ним не было ничего, ну совершенно ничего общего, мы стояли на диаметрально противоположных позициях. У него замашки диктатора, я по своей природе демократ, он живет демонстративно напоказ, я же стремлюсь постичь смысл происходящего, он — любитель громогласных заявлений, я — человек сдержанный, он по сути своей мелочен, я… но довольно, не то получится, что я сам себя нахваливаю. Эрнсту Августу свойствен эгоизм, хотя он приспособился к обстоятельствам нового времени и постоянно твердит об общественной пользе.
Как и в былые времена, он любит окружать себя целым штатом приспешников, на которых смотрит свысока, которых использует и с помощью которых управляет. Тогда это было одним из признаков системы, но теперь…
Мне вспоминается его первый советник, худощавый субъект с острым носом и припухшими веками, который пытался привести в порядок вконец расшатанные финансы графства, не чуждаясь при этом самых крайних средств. Он постоянно придумывал новые налоги, и не было для него радости большей, чем наложить крупный штраф на человека, допустившего неуважительные по отношению к власти высказывания.
И здесь Эрнсту Августу удалось найти и впрячь в свою упряжку очень похожий экземпляр. Он, директор фабрики, придумывал головокружительные планы, а Бирке, его начальник планового отдела, обеспечивал необходимые средства. Какое разительное портретное сходство! Бирке — типичный подхалим, принятый на службу после ухода на пенсию состарившегося экономиста, возглавлявшего этот отдел. На место было три кандидата, но Эрнст Август выбрал того, кто его больше устраивал. Он сразу понял, что в лице Бирке получает человека, который всегда поддержит стремя, когда он, Эрнст Август, будет садиться на своего скакуна.
Все знали, например, какие ужасные условия труда в цехе краснодеревщиков, но необходимые для перестройки средства не выделялись. Зато дважды за короткое время были отремонтированы и переоборудованы кабинеты дирекции. Эрнст Август считал это необходимым — для представительства! — а Бирке нашел необходимые деньги.
Или указание директора фабрики производить пресс-папье в форме дворца графов Франкенфельд-Бирнбахов! Их разрисовывали, а потом покрывали позолотой, стоили они чрезмерно дорого и спросом не пользовались. Калькуляторы протестовали с самого начала, но шеф-экономист, который не хуже их знал, в чем дело, утверждал, что необходимо хранить традиции. Этот аргумент появляется всегда, когда с помощью других доказательств вы не в силах никого убедить. Впоследствии всю вину свалили на цех сувениров: они, дескать, в решающий момент недостаточно решительно протестовали.
Но Бирке был не единственным, кого Эрнст Август приглядел себе и использовал. Есть, к примеру, этот Клаус Беньямин, начальник оформительского цеха и рупор шефа на заседаниях профкома. Он напоминает (не столько внешне, сколько по характеру) фон Клейна, графского камергера. Те же верноподданческие манеры, те же пустые речи, Беньямин первым аплодирует директору и никогда с ним не спорит. Только однажды, при распределении годовой премии, он высказал особое мнение: работу его цеха якобы недооценили. Само собой разумеется, шеф использовал все свое влияние, чтобы исправить ошибку.
Или Маня Клотц, заведующая сектором рекламы, которая способствует росту его авторитета и славы, используя различные органы печати и отделы радиокомитета. Любой успех, достигнутый нашим коллективом (особенно понравились за рубежом наши имитации старинных охотничьих ружей), она приписывала личным заслугам шефа. Так по крайней мере объясняла эти успехи она, хотя в общем-то никогда не забывала упомянуть о достижениях коллектива фабрики.
Ну хорошо, Маня Клотц — возлюбленная Эрнста Августа. Маня почти одного с ним роста, высокая, стройная, рыжеволосая, ухоженная и всегда элегантно одета. Но почему она постоянно его восхваляет? Снова напрашиваются сравнения. Стоит мне увидеть Эрнста Августа и Маню на какойнибудь пресс-конференции, и передо мной сразу же возникают картины приемов или торжеств во дворце, когда подругой графа была графиня фон Рудов. В народе ее называли «дипломатом с вуалью», потому что она любила появляться в шляпах со спущенной светло-синей шелковой вуалью; граф всегда посылал ее с миссией к князю или королю Саксонии, когда курс его собственных акций начинал падать.
Ростом она была пониже Мани Клотц, эта графиня, и изящнее ее, если я не ошибаюсь, но столь же хорошо сложена, тоже рыжеволоса и, что особенно важно, столь же красноречива. А для тех времен это было редкостью! У нее был свой интерес в постоянном прославлении графа: только таким путем она могла рассчитывать надолго сохранить свое влияние при дворе. Среди придворных у нее было немало завистников и противников, не говоря уже об оскорбленной супруге графа, имевшей все основания для ревности.
Этих обстоятельств для Мани не существовало. Эрнст Август в новом для себя времени не женился, здесь он извлек урок из прошлого и предпочитал не связывать себе руки. Мне кажется, наша специалистка по рекламе действительно убеждена в его огромных заслугах. Он просто ослепил ее своими манерами, речами и жестами.
4
Однако вряд ли имеет смысл говорить о вине этой женщины или чрезмерно ее упрекать. Любовь — а я могу судить об этом с полным основанием с тех пор, как познакомился с Региной, — несомненно, своеобразная и вызывающая смятение сила, которая в зависимости от объекта чувств может сделать человека и всевидящим, и слепым. Когда ты молод, как Маня Клотц, и сталкиваешься с человеком, который по своей и по чужой воле часто оказывается в центре всеобщего внимания, неудивительно, если тебя ослепит внешний блеск.
Графине же, если быть честным, я обязан возвращением на родину. Случилось это в 1786 году, я точно помню. С некоторого времени по примеру Франции владетельные князья Европы сочли модным кокетничать своей просвещенностью. И во Франкенфельд-Бирнбахе стараниями фон Рудов последовали новомодным веяниям. Она вообразила себя маленькой маркизой де Помпадур — с известным опозданием, конечно. Графиня переписывалась с немецкими и французскими философами, некоторое время состояла в переписке с самим Дидро. Она стала хозяйкой литературного салона; правда, тон в нем задавали неучи вроде псевдоастронома Керна и доктора фон Ребуса, который считал кровопускание из вены панацеей от всех болезней, переправив в юдоль печали многих пациентов, в то время как им помогли бы обыкновенные холодные компрессы. Но упоминать о подобных пустяках в обществе считалось предосудительным.
Итак, в ту пору я проживал в Дрездене и начал понемногу завоевывать себе имя с помощью системы обжигающих зеркал, так что нищенские условия, в которых мне приходилось влачить здесь жалкое существование в первые годы, когда я зарабатывал на жизнь сущие гроши, шлифуя стекла для лорнетов, начали постепенно забываться. В один прекрасный день в моем скромном жилище появился посыльный графини и передал мне ее просьбу вернуться в графство. Просьба! До этого Маня Клотц никогда бы не опустилась! Графиня апеллировала к моим национальным чувствам и между строк давала понять, что в будущем я смогу беспрепятственно заниматься своими научными изысканиями. Эрнст Август, доверительно сообщил мне посыльный, взял на службу некоего химика, пообещавшего производить искусственные драгоценные камни из глины.
Шарлатан он или безумец, мне заранее было его жаль. И действительно, все попытки оказались бесплодными, и несмотря на то, что поначалу он получал довольно приличное вознаграждение, затем провел несколько лет в темнице.
Как бы там ни было, я колебался, принять ли предложение. Если разобраться, в Саксонии у меня уже появились друзья, некоторое положение в мире ученых, а в Бирнбахе обо мне, наверно, все забыли. Даже дочь причетника Катрин, о которой я упоминал, потеряна была для меня безвозвратно: она вышла замуж за добродетельного колбасника. Но в конце концов я оказался не в силах побороть тоску по родине. И еще я был убежден, что на чужбине буду топтаться со своими опытами на месте. Пусть это звучит наивно, однако предчувствие подсказывало мне — только там, где я вырос, на родной почве, где я сделал первые изобретения, я смогу испытать вдохновение, получить последний импульс для проведения решающих экспериментов.
За годы, проведенные в Дрездене, я кое-какого ума-разума набрался и, вернувшись в Бирнбах, вел двойную жизнь. За славой я не гнался — слишком я неразворотлив, где уж мне самоутверждаться в хитроумных дискуссиях и ученых словопрениях. Я делал необходимое: время от времени появлялся в салоне графини, написал несколько высокопарных, но беспредметных, в сущности, статей по физическим проблемам, в основном в области оптики, что вызвало несколько пустопорожних похвальных отзывов от напудренных париков из княжеского университета.
Графиня фон Рудов была довольна. В ее коллекции курьезных людей одним взбалмошным ученым больше, и, если бы ее высокородный друг не держал на меня в глубине души зла, меня возвели бы в звание «графского изобретателя второго ранга». Этой чести мне не оказали, зато в виде возмещения убытков фройляйн фон Рудов и весь круг ее знакомых стали заказывать у меня лорнеты. Цены я заламывал немилосердные, но жил скромно — деньги мне были нужны для других целей. Я никого не посвятил в то, над чем работал. Пусть так называемые ученые спорят сколько им заблагорассудится, существует или нет всеоблагораживающая душа, и доказывают или отрицают идею существования бога. Я же, как и в былые времена, устроил в подвале лабораторию, но никого к ней не подпускал и, даже если бы мои опыты не представляли такой опасности, вряд ли решился бы на иное. Слишком эти опыты отличались от того, к чему привыкли окружавшие меня люди. Меня занимала относительность времени, я хотел научиться так сжимать или растягивать дни, чтобы стали осуществимыми прыжки через века или тысячелетия.
Непосвященному это объяснить трудно. Если исходить из того, что для мухи-однодневки минута длится ровно столько, сколько для человека, скажем, год, то понять будет куда легче. Для человека год жизни мухиоднодневки будет равен минуте. Если бы теперь удалось человека на короткое время психически и физически перестроить так, чтобы он сто или двести лет воспринял и пережил как один час, прыжок во времени состоялся бы! Время промчалось бы мимо него с бешеной скоростью, а он воспринял бы это как нечто естественное и совсем не постарел бы. Но чтобы человек смог в дальнейшем жить в обществе себе подобных после этого часа — или, если угодно, после двух веков — непременно должна последовать остановка в движении. Человек должен обязательно вернуться к своему существованию мухи-однодневки. Если вдуматься, то вся проблема состояла в том, как подготовить мозг и тело человека к тому, чтобы они на час — но только на этот час! — вышли из привычной роли мухи-однодневки.
Кроме того, мне предстояло вырыть грубоко под землей помещение для камеры или нескольких камер, которые предохраняли бы подопытный объект от вредных влияний извне, а потом, когда он «проснется», в некотором смысле автоматически выталкивали бы его в изменившийся мир.
Все это было невероятно сложно, но я чувствовал, что вскоре обрету твердую почву под ногами. Мне потребовались специальные знания из самых разных областей науки — химии, физики, анатомии. И особенно зоологии, ибо с чего мне было начинать опыты, как не с экспериментов с насекомыми и мелкими животными. Как я торжествовал, когда мне впервые удалось отправить вышеупомянутую муху-однодневку в будущее на сорок восемь часов, то есть примерно лет на сто. К сожалению, я тогда еще не умел возвращать посланных мною существ из будущего и управлять их действиями на расстоянии.
5
С Эрнстом Августом IV я в первые годы после моего возвращения в графство встречался нечасто, а когда случалось, мы обменивались вежливыми, ничего не значащими словами. Эта ситуация напоминала сегодняшнюю: тогда он воспринимал меня как ни на что не годного шута, отказавшего ему вдобавок в услуге; а сегодня он видит во мне обыкновенного рабочего своей фабрики, ничем, кроме некоторых странностей, не примечательного, сделавшего несколько рацпредложений, но внушающего лично ему, директору, подозрения из-за своей дружбы с этой кляузницей Региной Фленц.
Я, кстати, стараюсь не слишком часто попадаться ему на глаза, не то он, чего доброго, еще вспомнит… Весьма важный в моем эксперименте с ним момент — картины былого как бы погашены в его памяти. Некоторые представления искоренить не удастся, это мне было ясно сразу, да и нужды в этом не было; какие-то схемы из прошлого, очевидно, накрепко засели в его мозгу, что-то такое ему грезилось из прошлой жизни, не то он не взялся бы сразу за изготовление антикварных изделий. Да и свою дворянскую приставку «фон» он отбросил только для вида. А от чувства вины, которое я ему прививал, не осталось и следа, характер его нисколько не изменился.
Но если в 1786 году и в последующие годы мы с ним почти не соприкасались, если он не замечал меня — я-то был просто вынужден обращать на него внимание. В конце концов перемена настроения графа или новая вспышка ярости могли сильно помешать моей работе. И потом, как ни посмотри, он был главной фигурой в графстве, и каждый его шаг, и любое его слово становились в городе и окрестных деревнях предметом разговоров на целую неделю. Так что хотел я или нет, а заниматься персоной графа мне приходилось.
Признаюсь, персона эта внимания заслуживала. То, что ему удалось добиться для Франкенфельд-Бирнбаха, государства карликового, права голоса в хоре больших немецких земель, — это не могло не внушать чувства, похожего на уважение. Он обладал изворотливостью дипломата, умел подбирать людей, которые, будучи его посланниками при дворах Саксонии, Тюрингии или нашего князя, становились убежденными защитниками его интересов. Ни одно из граничащих с графством владений не решалось предпринять активные действия против Эрнста Августа IV, не рискуя одновременно вступить в вооруженный конфликт с другим владением. В случае опасности Эрнст Август стравливал соседей.
Да, он хитроумно укреплял свои позиции, заверяя, будто это послужит всеобщему благу. И сегодня оно не иначе. Выбрав подходящий момент, он всегда перекидывался на сторону сильнейшего: то заключал союз с католиками, то с лютеранами и без всякого смущения взывал к помощи великих государей вроде короля Пруссии или австрийской императрицы. Правда, только в тех случаях, когда «средние» государства все вместе могли проглотить Франкенфельд-Бирнбах.
Теперь у него куда меньше пространства для маневра, но приемы остались прежними. Как он умеет стравливать район с областью, торговые организации с транспортными! Снабжение населения товарами ширпотреба для него до той поры на первом месте, пока ему кажется, что наверху этому придается большее значение, нежели экспорту. А то, что настроение рабочих из-за постоянных сверхурочных падает при этом до нуля, его не беспокоит.
Что творилось на фабрике, когда бирнбахская пивная кружка с охотничьим соколом на крышке стала неожиданно пользоваться успехом в Канаде! Все остальные производственные процессы были приостановлены, и даже краснодеревщиков и художников-реставраторов поставили к керамическим печам. Во всех магазинах города и района месяцами нашей продукции не видели, даже наших знаменитых столиков красного дерева на одной ножке и картин с историческими памятниками Бирнбаха.
Целый год потребовался потом фабрике, чтобы войти в привычный ритм. Два краснодеревщика подали заявления об уходе, распрощался с нами и один из лучших реставраторов. Однако Эрнст Август свою порцию похвал в печати получил. И хотя некоторое время фабрика числилась среди невыполняющих план, его, директора, позиции укрепились.
Все повторяется: этот человек, обладающий некоторыми достоинствами, старается возвыситься любыми способами. Когда такой человек находится на скромной должности, не имея ни славы, ни власти, беда невелика, большого ущерба обществу он не принесет. Но если он поднимется и расправит крылья, дело принимает иной оборот. Его удары локтями становятся болезненными, он стремится использовать в собственных интересах любого встречного-поперечного, и не сдобровать тому, кто дает ему понять, что знает его взгляды, но их не разделяет и его истины не приемлет.
Примерно двести лет назад я знавал многих, кто надолго отправлялся в тюремную башню только потому, что считал: в таком карликовом государстве, как Франкенфельд-Бирнбах, следует управлять демократичнее и без той безудержной роскоши, которая принята властителями империй.
Резчику по дереву Рому, одному из немногих моих друзей, отрубили кисти рук, потому что на одном рельефе он придал придворным дамам и господам «в высшей степени неподобающие черты». Так, например, в воре, залезшем крестьянину в карман, было замечено сходство с самим Эрнстом Августом.
Еще горше судьба молодого поэта Виттгштока, который издал под псевдонимом стихи, высмеивающие расточительность графини фон Рудов. Его подвергли столь мучительным пыткам, что он лишился рассудка.
По сравнению с этими карами, которые граф считал совершенно оправданными, мелкие интриги Эрнста Августа против людей, противящихся его диктаторским замашкам на фабрике, можно счесть безобидными.
Художник Бендорф, с которым мы до его отъезда из города отлично ладили, поместил однажды в стенной газете карикатуру, вызвавшую много смеха. Директор и ряд его сотрудников были изображены в виде гонщиков-велосипедистов, которые на соревнованиях за «Серебряную бирнбахскую кружку» сильно толкали в бок своих соперников.
Эрнст Август улыбнулся при виде этой карикатуры (в отличие от начальника планового отдела Бирке, сразу начавшего брюзжать), но позаботился о том, чтобы у Бендорфа хлопот прибавилось. Почему-то вдруг его смелые эскизы для стильной мебели и напольных ваз перестали вызывать интерес производственников, а принимались только малозначительные проекты. Его, и без того потерявшего в заработке, перевели еще и в более низкий разряд тарифной сетки. Он подал заявление в конфликтную комиссию, и после некоторых проволочек ему все же выплатили полагавшееся за эскизы вознаграждение и вернули на прежнюю должность. Но работа перестала приносить человеку радость. Его начали сверх всякой меры загружать срочными заказами, и он не то что не мог отпроситься на полчаса, ему и вовремя уйти со службы не удавалось. Бендорф стал вспыльчивым, раздражительным и однажды после нелепого скандала, возникшего, что называется, на пустом месте, бросил на стол заявление об уходе.
Нечто похожее произошло с одним из наших мастеров-часовщиков, поэтом-любителем Циммерлингом, позволившим себе на общем собрании взять на прицел чрезмерно пылкие похвалы Мани Клотц в адрес нашего директора. Он встал и прочитал сатирическое стихотворение — весь зал так и покатился со смеху. Но когда производство часов-кукушек временно сократилось, кому-то сразу пришла в голову идея перевести Циммерлинга в отдел упаковки. Он возмущался, отказывался, размахивал руками и случайно разбил при этом дорогую имитацию охотничьего ружья XVI века — спецзаказ для Швейцарии. Под суд его не отдали и денег за ущерб не потребовали. Ему, можно сказать, повезло. Но при всем этом везении он от огорчения заболел желтухой. От которой и лечится по сей день.
Я уже говорил, что по сравнению со страданиями прошлых веков эти неприятности могут показаться мелкими. Но если приглядеться к ним при свете дня, окажется, что подлость Эрнста Августа стала еще изощреннее; в свое время, будучи графом, он открыто признавал, что пытать и казнить приказывал самолично, ибо считал себя вправе применять подобные кары. Я, как вы понимаете, далек от того, чтобы оправдывать тем самым его и его подручных. Но вот что мне представляется крайне важным: масштабы-то у нас сегодня совсем другие, чего ни коснись, в том числе и того, как мы относимся к обидам, прямым или косвенным.
6
Когда в 1789 году во Франции произошла Великая революция, известия об этом событии дошли до нас с изрядным опозданием, и никто во Франкенфельд-Бирнбахе не допускал и мысли о возможности восстания наших крестьян. Слишком привыкли его властители видеть головы своих верноподданных склоненными, привыкли, что те безропотно платили подушные, поземельные, мельничные и иные подати, безвозмездно служили графу, содержали его двор и его избранниц, покорно следовали за светскими и духовными господами.
Конечно, нашим крестьянам жилось не лучше, чем их собратьям в других германских землях. Они с утра до ночи трудились на своих клочках земли, ничего, кроме щей да черного хлеба, на столе не видели, страдали от всевозможных болезней, жили впроголодь от одного урожая до другого, в то время как графиня фон Рудов и первый советник Хирш задавали роскошные пиры.
Но ведь они как будто всегда следовали девизу Эрнста Августа: все они, в том числе и беднейшие из бедных, — его, графа, дети, члены большой бирнбахской семьи. Но ведь они как будто всегда жили мирно, им ведь не приходилось, подобно французам, пруссакам и саксонцам, то и дело воевать. Что из того, если граф время от времени продавал в рекруты дюжину-другую своих крестьян — это когда его вынуждали платить заграничные долги. Не им это заведено, не при нем и кончится.
И тем не менее они восстали. Правда, через несколько лет после революции во Франции, но тем более бурными эти события нам всем показались. Так вулкан, на долгое время затаившийся, исподволь накапливает лаву.
Сыграло роль и то, что несколько лет подряд был неурожай; а как раз в тот год Эрнст Август обложил своих подданных новым обременительным налогом — по случаю визита князя следовало полностью преобразить дворцовый парк. Это дорогостоящая и совершенно излишняя затея стала последней каплей, переполнившей чашу терпения.
Меня тоже раздражала такая расточительность, хотя в то время нищета моих земляков не особенно бросалась мне в глаза. Меня куда больше злило, что не отпускаются средства на науки. Не только на математику и философию, науки в некотором смысле отвлеченные, но даже на физику, медицину и экономику — области знаний, которые могли способствовать прогрессу в стране. Подкармливали же нескольких шарлатанов, пользовавшихся милостями графини. Прискорбнейшие обстоятельства!..
Когда в начале девяностых годов я походатайствовал перед графиней за доктора аграрных наук, разработавшего программу мер по улучшению использования наших лугов и пастбищ, меня ждал отпор с ее стороны. Проект был многообещающий, но для начала требовались некоторые средства. И вдобавок он пусть и в незначительной степени, но задевал интересы правящей касты.
У фаворитки-графини было красивое узкое лицо с чуть раскосыми глазами и большим ртом. Она сидела напротив меня на желтом диванчике в платье с глубоким декольте, завитая по последней парижской моде. В салоне ее небольшого дворца «О солей» — «Под солнцем» — на стене висела картина с купающимися нимфами. Поглаживая лежавшую на коленях пекинскую болонку, она поинтересовалась, почему ученый муж не явился к ней лично.
— Он что, сам не может рассказать мне, что у него?
Я оторвал взгляд от нимф и поглядел на нее с заискивающей улыбкой:
— Он неоднократно пытался, графиня, но вы его не принимали.
Удивление ее казалось искренним:
— Вот как? Что-то не припоминаю. Правда, в последнее время я была чрезвычайно занята, могла и забыть. Хорошо, доложите вы.
Я пустил в ход все свое красноречие. Объяснил ей замысел молодого ученого, все преимущества его проекта.
Она слушала внимательно, она была неглупа, эта графиня.
— А откуда мы возьмем деньги на лошадей и необходимый хозяйственный инвентарь?
Я промолчал, ибо ответ на этот вопрос должна была дать именно она.
— Я предвижу, во что это выльется, — проговорила она несколько погодя. — Придется сократить расходы на содержание конюшни, отложить постройку охотничьего домика, забыть о переустройстве парка. Нет, нет, мой милый, на это я никогда не подвигну графа.
Нимфы смотрели на меня с издевкой, однако я не сдавался.
— Но ведь это окупится… будущее страны…
— Будущее! — сказала она. — Что нам известно о нем! Он хоть хорош собой, этот ваш доктор, чтобы я могла представить его графу?
Чего нет, того нет.
— Он так же незаметен, как и я, — попытался я отшутиться, но сразу почувствовал, как ее интерес к разговору тут же улетучился.
— Хорошо. Мы все обдумаем, — бросила она свысока. — Посмотрим, что удастся сделать.
Сделать не удалось ничего. А моему другу только и осталось, что положить проект на самое дно дубового сундука, который он унаследовал от своих родителей. Эрнст Август не пожелал отказаться ни от охотничьего домика, ни от шикарного выезда, ни тем более от роскошного парка.
В марте 1795 года, когда в вырытый позади дворца пруд пустили воду и по его зеркальной глади заскользили гондолы с графскими гостями, а в крестьянских домах истощились последние запасы, тут она и разразилась, наша революция.
В полдень 22 марта прошло заседание Гражданского совета Бирнбаха, на котором постановили, что «впредь так продолжаться не может! Долой насилие! Долой нищету!». После обеда подожгли дворец «О солей», а к вечеру сотни крестьян потянулись со всех сторон к графскому дворцу, чтобы призвать к ответу «гонителя правдолюбцев», как они называли Эрнста Августа.
В тот день хлестал ливень и дул резкий ветер. Вооружившись косами, вилами и старинными ружьями с каменными замками, восставшие разогнали графскую гвардию, штурмом взяли графские склады и разобрали оружие. Они, столько лет сдерживавшие свою ненависть к господам, церемониться с ними не стали. Капитана презренных дворцовых гвардейцев, который с несколькими подчиненными встал у них на пути, разорвали на месте; первого советника Хирша, пытавшегося скрыться в поле, вздернули на дереве. Зато графиня фон Рудов отделалась легким испугом. Она еще утром догадалась, что запахло жареным, и бежала в Саксонию. Старшего придворного лесничего, на совести которого был не один бедолага, брошенный в тюрьму лишь за то, что поймал в лесу зайчонка, отхлестали плетью. Его судьбу разделили и многие другие придворные. Зато сам Эрнст Август пропал бесследно. Дрожавшие от страха слуги клялись захватившим дворец повстанцам, что графа только что видели в его покоях.
В этот самый день, события которого ошеломили меня с той же силой, что и остальных, прямо к ним непричастных, я завершил наконец подготовку к моему великому скачку во времени. Позади остались годы, когда я проверял верность формул на лягушках и мухах-однодневках. Мне удалось даже послать в путешествие во времени кролика, лишь эксперимента с человеком я не проводил. Конечно, при этом я считал первым кандидатом в это путешествие самого себя. Несмотря на то что жил я уединенно и никого из посторонних в мои опыты не посвящал, я просто обязан был взять этот риск на себя — а в том, что подобное путешествие таит в себе опасность, я не сомневался. Поэтому я тщательнейшим образом подготовился к перенесению в будущее, а настоящее время рассматривал, так сказать, как прошлое.
Однако восстание крестьян, события, о которых я рассказал выше, решимость мою поколебали. Я, разумеется, всей душой был на стороне восставших, и мне очень хотелось стать свидетелем дальнейшего развития событий. Как-то пойдут дела у нас во Франкенфельд-Бирнбахе? Я колебался, не зная, как мне быть. На улицу я выходить не решался: ведь люди считали, что я нахожусь под личным покровительством графини. Забежал ко мне сосед, рассказал кое-какие подробности и ушел. Наступил вечер, я сидел в кабинете, вслушиваясь в звуки, доносившиеся со стороны дворца, наблюдал за движущимися факелами и ждал. Я уже держал руку на рычаге, способном перевернуть мой мир, но нажать никак не решался. И в эту секунду в дверь моего кабинета постучали.
Это был он, его графское высочество Эрнст Август IV собственной персоной. Сначала я даже не понял, что перепачканный в весенней грязи человек с прикрытым шарфом лицом и в нахлобученной на лоб меховой шапке — «наш отец и хозяин».
— Вы что, не узнаете меня, Никлас? Мне грозит опасность. Меня ищут повсюду, они поклялись, что накинут петлю мне на шею. Впустите меня, Никлас, и позвольте пробыть у вас несколько дней, пока все не уляжется.
Его слова меня смутили: я симпатизировал восставшим и вовсе не был склонен принимать его с распростертыми объятиями.
— А почему, граф, вы ищете убежище у меня? Что-то я не припоминаю, чтобы нас с вами связывали дружеские чувства. Почему бы вам не пойти к священнику?
— Исключается. Там меня будут искать в первую очередь. Кроме того, я не могу выйти на улицу, не опасаясь быть узнанным. Сейчас везде зажгли факелы… Счастье еще, что мне удалось добраться сюда. Ну, дайте мне приют хотя бы на несколько часов. Когда это кончится, вам зачтется; я услуг не забываю.
Он рассчитывал на своих владетельных друзей, и, возможно, не без оснований. Если тамошние крестьяне не поднимутся, восстание у нас рано или поздно будет подавлено. Тем более следовало отказать графу или даже позвать кого-нибудь из повстанцев. Но в эти мгновения у меня мелькнула мысль… Нет, не сочувствие ее вызвало, а скорее желание доказать именно этому Эрнсту Августу, как он меня недооценил и сколь он мелок, в сущности, по сравнению со мной.
Я впустил его, закрыл дверь на засов, закрыл ставни. Он вздохнул с видимым облегчением, от былой его чванливости мало что осталось. Конечно, граф думал о мести, но пока его больше волновало, как спастись самому. Эрнст Август рассказал мне, что семью свою со всеми драгоценностями он сумел утром переправить через границу, а сам еще задержался. И вдруг все пути к бегству оказались отрезанными. С грехом пополам ему удалось бежать через дворцовый подвал.
Я почти не воспринимал его слов. Он все еще продолжал говорить, а я решил немедленно привести в исполнение свое намерение. Я провел Эрнста Августа в лабораторию под предлогом, что ему следует отдохнуть, и усадил его в кресло. Я вполне мог бы его оглушить и отправить в будущее в «сонном» виде, но мне хотелось знать, испугается ли он. Итак, я привел в действие механические захваты. И неожиданно для графа его ноги и руки оказались в тисках, а тело с силой прижало к креслу.
Его испуганное лицо и вырвавшийся из груди глухой стон вознаградили меня за долгие годы унижений. Он, очевидно, решил, что я перехитрил его и выдам повстанцам. Ну, что до этого, то я успокоил графа, сказав, что его опасения напрасны. На желании отомстить, вернувшись к власти во Франкенфельд-Бирнбахе, придется поставить крест, но петли он может не опасаться. Если он, конечно, не повторит своих ошибок там, куда я его посылаю. Напротив, он еще должен радоваться, ведь он окажется первым человеком, совершившим подобное путешествие.
Он, наверно, принял меня за сумасшедшего и проклял тот день и час, когда постучал в мою дверь. Не поверив ни одному моему слову, он думал, что я, обуреваемый безумной идеей, намерен убить его с помощью какого-то эксперимента. Граф умолял отпустить его: взывал к господу богу, молил о помощи, а после, когда это не помогло, стал угрожать всеми муками ада, которые мне уготованы, как всем чернокнижникам. Стенания графа мне надоели, я усыпил его и стал готовить тело к перемещению во времени. Он должен был забыть почти все о своем прошлом и там, где он окажется, рассчитывать исключительно на себя.
Путешествие — или, лучше сказать, «прыжок» — было рискованным, но мы перенесли все связанные с ним трудности. Поскольку Эрнст Август ни в коем случае не должен был узнать меня в будущем, я не только погасил в его мозгу всякое воспоминание обо мне, но и несколько сократил его путь. Он прибыл сюда в конце пятидесятых годов, я — в начале семидесятых. А так как в пути мы постарели всего на час, ему в 1972 году было пятьдесят два, а мне — тридцать девять. В иные времена я был старше Эрнста Августа на два года.
Никого, наверно, не удивит, что, когда я оказался в настоящем, мне было не до Эрнста Августа IV. Сначала следовало оглядеться, разобраться, что к чему, ощутить влияние нового и волнующего. Ведя затворническую жизнь в лаборатории, я даже в общих чертах не представлял себе, каким может быть характер происшедших за два века перемен. Правда, я предполагал увидеть новое не только в науке и технике, но и в общественной жизни.
Но уже одни лишь внешние изменения вызвали у меня шок. Куда подевались леса, подходившие на востоке и на севере почти к самому дворцу; где Принцессин холм на южной окраине городка? Дворец на месте, это да, причем его недавно реставрировали, он стал музеем, привлекающим туристов, своих и иностранных. Но все вокруг!.. Там, где стояли великолепные леса и простирались поля и луга с сочной травой, ощерились теперь бесконечные плоские и грязные траншеи, у краев которых с адским грохотом ползали огромные стальные машины. Фантазия рисовала разные чудесные машины будущего, но подобного тому, что я увидел на комбинате по добыче бурого угля, я себе представить не мог.
Или крупноблочное и панельное строительство в Нойбирнбахе. Химический комбинат с его цехами и трубами, автострада вокруг города. Ни одной телеги на покрытых асфальтом улицах, ни единого всадника, ни одного осла, зато скопления легковых автомобилей, мотоциклов и автобусов, а по ту сторону шахты — железная дорога. Здесь не место описывать, как я всякий раз терял дар речи, когда воочию видел свой первый самолет, первую моторную лодку, первый поезд метро; как я в первый раз включил радио и смотрел первую телепередачу. Мне стоило неимоверных усилий привыкнуть к уличному шуму. Бог мой, сколько в этой жизни шума; прогресс прогрессом, но неудобств хватает. Когда я стал свидетелем уличной катастрофы (грузовик на полном ходу врезался в малолитражку), я испытал страстную тоску по пышной зелени лугов моей юности, по мирному крику запряженных в повозки осликов.
Я предвидел, что князья потеряют ряд своих привилегий, но что они совершенно исчезнут, что вообще не будет помещиков, что леса не будут принадлежать частным владельцам, по рекам и озерам будут плавать не чьи-то собственные суда, я и вообразить не мог. Не сразу я привык и к тому, что женщины одеваются как мужчины, обучаются в университетах и пьют в барах пиво. Что рабочему незачем больше ломать шапку перед начальством, что крестьяне будут приветствовать бургомистра рукопожатием, а не кланяясь до земли, — этого я тоже не мог ожидать. И еще многого-многого другого.
Словом, мне пришлось основательно перестраиваться, сосредоточив на этом весь свой ум и волю. Не мог же я просто наблюдать и удивляться, мне было необходимо действовать, строить новую жизнь!
Питание, квартира, документы, одежда: мог ли я предусмотреть, предвидеть все трудности, с которыми пришлось столкнуться? Какие сложности, например, вызовет обмен нескольких золотых монет, которые я прихватил из прошлого, как непросто окажется снять скромную комнату, приобрести необходимую мебель, а особенно — обзавестись документами!
Но в конце концов все трудности остались позади, мои способности изобретателя, мои навыки шлифовщика стекол для оптики помогли мне стать на ноги, и вскоре мысли мои потекли по привычному руслу. Меня интересовала судьба Эрнста Августа, я навел о нем справки. Долго искать не пришлось. Через несколько недель моего пребывания в нашем времени я встретился с ним, прогуливаясь по парку. А до этого он улыбнулся мне с первой страницы городской газеты.
Я сразу узнал его, хотя он и состарился. Его сняли во весь рост в рабочем кабинете на фоне мебели, скромной и вместе с тем безусловно стильной, отмеченной печатью античной элегантности. Левой рукой он поглаживал пузатую вазу, на его губах играла победная улыбка. Подпись под фотографией гласила: «Э. А. Франкенфельд, переехавший в наш город каких-то десять лет назад, сегодня директор фабрики «Антиквар», предприятия, успешно справляющегося с ответственными экспортными поставками».
Удивлению моему не было границ. «Директор фабрики? Как он этого добился? Мое почтение, — подумал я, — в прошлом он много дурного натворил, но сейчас, очевидно, стал другим человеком. Молодец, постарался. Ведь если вдуматься, в юности он ничему не учился и профессии не приобрел».
Ну, что он умел? Скакать верхом? Стрелять из охотничьего ружья? Не слишком-то много. Одним словом, у него, на мой взгляд, не было никаких предпосылок, чтобы воскреснуть в подобном обличье. Его успехи заставили меня обо многом задуматься. Я еще мало знал о новом времени, но не исключал, что импозантная внешность этого человека, его внешняя невозмутимость и безапелляционность суждений и помогли ему в конечном счете занять столь заметную должность.
Если он что и умел всегда, то это использовать людей и заставлять их работать на себя. Э. А. Франкенфельд! Нет, я обязательно должен был удостовериться, чему он своими успехами обязан.
7
Крестьянское восстание в Бирнбахе, сведения о котором были обнародованы всего несколько лет назад благодаря заслугам ученых-историков Д. и Г. Бренена, закончилось, как и предсказывал Эрнст Август в моей лаборатории, кровавой бойней, устроенной войсками короля Саксонии и нашего князя. Оба властителя возвели на престол слабоумного младшего брата графа. Графской семье вернули ее имения, графиня фон Рудов свое потеряла, но оно было возмещено в виде большой суммы из государственной казны. Она вышла замуж за гессенского банкира, принеся ему в приданое дворянский титул. Впоследствии она сотрудничала с администрацией Наполеона и после поражения его в России вынуждена была уйти в монастырь. Эта версия убедительной мне не кажется. Я-то фон Рудов помню! Она… и монастырь! Ну нет…
Эрнст Август IV, по данным этих историков, пропал в круговерти революции; возможно, он и монах, задержанный повстанцами при попытке перехода границы и повешенный ими, потому что его приняли за известного ростовщика, — одно и тоже лицо. Это всего лишь предание. Мне лучше знать, куда попевался граф, но возражать ученым я не стану. Кто мне поверит!
Фабрика, где директором стал Э. А., возникла шесть лет назад, когда объединилось несколько артелей, производивших сувениры. И за недолгое время это худосочное поначалу предприятие стало одним из ведущих в области изготовления «нового антиквариата».
— Это заслуга шефа, — сказала мне Маня Клотц, когда я уже работал в конструкторском бюро и мы обсуждали с ней проблему изготовления венецианских зеркал. — Шеф первым почувствовал приближение волны ностальгии; тогда керосиновые лампы и фарфоровые соусники валялись еще у большинства на чердаке или в подвале. Только и разговоров было, что о суперсовременных линиях и формах. Но он сумел преодолеть сопротивление и наладил изготовление сувениров старинного образца. И мы видим, чутье его не подвело.
Что ж, может, оно и так. Особого рода нюх у Э. А. был всегда. А «преодолевать сопротивление» людей, становившихся у него на пути, он тоже умел. Если уж говорить начистоту, то я не отрицаю некоторых его заслуг. Я не хочу поставить ему в вину, что для своей новой карьеры он воспользовался смутными воспоминаниями из собственного прошлого. Я не виню сопутствующие обстоятельства: районному руководству весьма кстати пришлись данные об успехах вновь образовАпюго предприятия. Особенно в то время, когда сельскохозяйственный кооператив в Кляйн-Бирнбахе хромал на обе ноги, а химзавод ходил в отстающих.
Но я не умолчу о его стремлении жить и руководить по примеру своих предков-феодалов. Он окружил себя людьми, повторявшими каждое его слово. Он позволял льстить себе на фабричных и профсоюзных собраниях. Критику своих действий он терпел только для вида, будучи внутренне убежден, что его мнение — единственно правильное. И в результате всего этого он принимал волевые решения, которые, если вникнуть, скорее разрушали здоровый климат в коллективе, чем способствовали его сплочению.
Но даже побывав на «Антикваре», это можно было заметить не сразу. Над фабричными воротами висели лозунги и призывы, как и у всех. В конструкторском бюро работа шла на всех парах. А то, что краснодеревщики неделями не уходили домой, потому что шеф взялся за исполнение сложнейшего экспортного заказа, хотя у фабрики таких возможностей не было, что чеканщики целыми неделями слонялись без дела, потому что шеф по той же причине вместо медных и латунных листов заказал дорогие сорта дерева, увидел и понял бы только тот, кто пробыл бы на фабрике подольше. Другие примеры я уже приводил. Нет, для такой должности он не годился.
Я упоминал уже о «придворном» окружении Франкенфельда, о Мане Клотц, его возлюбленной, выступавшей на всех приемах, пресс-конференциях или торжественных встречах с хвалебными речами, о Беньямине из фабкома, о Бирке, «первом советнике» Э. А., я мог бы сказать еще о секретарше директора Бондаш, настоящей придворной даме, с высокомерием ставящей препоны людям, которые добиваются приема у шефа по важному делу, о его любимцах Брендене и Рише, никогда в жизни не ставшими бы начальниками отделов, если бы они с такой горячностью не поддерживали каждое предложение директора и не спешили исполнить любое его желание.
Хочу привести еще один — последний — пример, заставивший меня разоблачить двойную игру Э. А. В нашем обществе нет и не может быть места двуличию, карьеризму и аристократическому своеволию. Этот случай задевает меня лично. Я уже несколько раз говорил о Регине Фленц, девушке, ближе которой у меня нет никого на свете. Познакомились мы с ней на новогоднем вечере. Я попал на него, потому что хотел понаблюдать за Э. А. в неофициальной обстановке. И тут я разговорился с молодой женщиной, на которую прежде внимания не обращал. Может быть, мне особенно понравилось то, с какой серьезностью она говорила о научной фантастике, может, дружеская атмосфера и несколько бокалов вина сделали свое дело — во всяком случае, общий язык мы нашли быстро. Регина работает в плановом отделе под началом у Бирке, но в отличие от своего непосредственного руководителя и еще кое-кого стиль и манеры Э. А. у нее симпатий не вызывают. Наоборот!
Мы знакомы уже целых три года. И я смею утверждать, что мы хорошая пара и расставаться не собираемся. Да, я люблю ее, но не только поэтому считаю ее человеком прекрасных душевных качеств. Она скромна, всегда поможет другому, если в силах, всегда прислушается к мнению собеседника. Всегда хорошенько подумает, прежде чем принять решение, и отнюдь не все предложения руководства считает плодотворными и полезными. Нетрудно догадаться, что по этой причине у нее бывают конфликты. А теперь эти конфликты приобрели такой характер, что я уже начинаю забывать, когда она в последний раз улыбалась. Нет, терпеть это дольше нельзя!
Началось все со спора о новой мебели, о новом оформлении кабинета директора (я говорил уже, какую роль в этом сыграл Бирке). Всего год назад обставили кабинет новой мебелью, положили чудесный паркет, задрапировали стены. Но вдруг всего этого недостаточно! Якобы клиенты нашей фабрики из Франции выразили удивление простоватой обстановкой кабинета Э. А. Кабинет, дескать, необходимо расширить, сменить светильники, портьеры, обивку стен, мебель.
— Элегантность и достоинство, дорогие коллеги, — сказал Э. А., — это понятия, говоря о которых мы не имеем права экономить каждый пфенниг. Кабинет директора — лицо фабрики. Надеюсь, вы со мной согласны, дорогие коллеги?
Но дорогие коллеги, по крайней мере большинство из них, согласны не были, те же аргументы они слышали год назад. Особенно возражали краснодеревщики и полировщики, ведь им приходилось работать в цехах, давно требовавших реконструкции. Они опротестовали решение директора в фабкоме. Но Бирке вместе с Беньямином сумели их уговорить. Тем более что как раз подошла пора сувенирных глиняных кружек, а производство деревянных изделий приостановилось.
Однако Регина, имевшая доступ к финансовым документам, с их доводами не согласилась. Ее не убедили слова Бирке, будто деньги на реконструкцию мебельного цеха будут выделены в первом квартале следующего года. У нее были все основания для сомнений. Пошла к директору и попыталась объяснить ему, что деньги нужны сейчас, а не через год. На несколько лет товарищ директор вполне может удовлетвориться нынешней обстановкой. А если уж так хочется — пусть время от времени переставляет мебель. Чем не выход из положения?
Конечно, доводы ее на Э. А. не подействовали. Регина не успокоилась, поставила этот вопрос на расширенном заседании парткома, где, к удивлению директора, подвергла вдобавок критике судорожные усилия, связанные с изготовлением глиняных кружек, и взяла под защиту художника Бендорфа и его карикатуру в стенной газете. Э. А. бросил ей упрек в близорукости, она-де не видит перспективы, не вникает в истинные нужды производства. А потом, когда это не помогло, стал исподволь ее преследовать, сверх меры загружая с помощью Бирке работой. Она совсем закопалась в бумагах. И, как это часто бывает в подобных случаях, сделала несколько ошибок, которых никогда не допустила бы в иной обстановке. Ей стали постоянно делать замечания: мол, ее подготовка для современного уровня недостаточна.
Положение не изменилось и по сей день. Да, Регина могла бы перейти на другое предприятие, место нашлось бы, но она как раз не хочет уходить. Это значило бы сдаться. Она старается везти воз и не склонять головы. Но я-то вижу красные нервные пятна у нее на щеках, вижу, как она подавлена, как переживает, мучается, и я не хочу и не буду терпеть это. Я перенес Эрнста Августа в будущее (или надо сказать в настоящее?), хотел помочь ему, а теперь я отправлю Э. А. в прошлое. С момента прибытия сюда я работаю над проблемой прыжка в прошлое. Это очень и очень сложная задача, труднее, чем осуществление прыжка в будущее: необходимо обратить фактор времени в отрицательную величину. Но я приближаюсь к цели семимильными шагами. Еще несколько дней, еще неделя, и я достигну желаемого. Э. А. была предоставлена возможность исправиться, но он ею не воспользовался, повторил былые ошибки, перенес их в настоящее. Так пусть и заплатит за все, пусть испытает судьбу, уготованную ему прошлым.
Герт Никлас, конструктор фабрики «Антиквар», перу которого принадлежит этот рассказ, был найден мертвым первого октября 1977 года в подвале своего дома, оборудованном им под лабораторию. Похоже, он погиб в результате каких-то опытов. Их характер я могу (пусть и недостаточно полно) себе представить.
«Трагическая случайность, — писала газета, — повлекла за собой смерть химика-любителя». Но, газета газетой, а я считаю иначе.
Рассказ конструктора несколько недель назад переслала мне Регина Ф., начальник планово-экономического отдела фабрики «Антиквар», мы с нею познакомились около года назад. Она, разумеется, не в состоянии была подтвердить точность рассказа о прошлом ее друга (он никогда не посвящал ее в это), но подтвердила каждое слово, написанное Никласом о бывшем директоре фабрики. За несколько месяцев до кончины конструктора Э. А. Франкенфельд действительно таинственным образом исчез с фабрики и из города. Полиция эту загадку не смогла разгадать. Следствие продолжается, но увенчается ли оно успехом?
С исчезновением Э. А. рухнула и вся его система. Пришел новый директор, и несостоятельность Бирке стала ясна как день. Сейчас он служит продавцом в одном антикварном магазинчике. Гребуш тоже не работает больше в «Антикваре», так же как и инженер Ренк. Да и еще кой-кому предстоит скатиться по служебной лестнице. Драматичной представляется мне судьба Мани Клотц; после исчезнования Э. А. она испытала тяжелое нервное потрясение и находится сейчас на излечении в клинике.
— Я ничего не понимаю, — повторяет она каждому, кто приходит навестить ее. — Я ничего не понимаю.
Чем ей помочь? Воистину, историю, подобную рассказанной, обычной не назовешь.
Иштван Немере СТОНОГИЙ[4] Пер. Е. Умняковой
Незнакомая планета оказалась дикой, голой и пустынной.
Вокруг космического корабля расстилалось море красновато-коричневого песка. Солнце, пылавшее почти над головой, жгло немилосердно, и его лучи переливались причудливым золотисто-зеленым светом. Не было видно ни рек, ни озер; лишь глубокие безводные рвы рассекали пустыню. Должно быть, с наступлением ночи их затопят дождевые потоки.
Но сейчас был день — самое время для работы. Однако дежурного космонавта не интересовало ничто, кроме рельефа отдаленных гор.
Какие-то странные, непонятные горы…
Биолог Эзар тоже разглядывал их со все возрастающей тревогой. Уж очень зыбкие, непривычные очертания у этой горной гряды, видневшейся на горизонте. Кое-где горы вздымались очень высоко, потом круто обрывались, а иногда переходили в ровные или чуть холмистые плато. Впрочем, те, кто бывал в галактике Монсер, говорили им, что там на многих планетах необычный ландшафт. Помрачнев, Эзар отошел от телеэкрана и спустился в кают-компанию. Как он и думал, там собрались почти все члены экипажа.
— Эх, смыться бы отсюда поскорее, — нервно покусывая ус, пробурчал себе под нос инженер-электрик Бартал.
— Куда там. С нашим-то двигателем, — сердито отмахнулся первый помощник капитана Норре.
— А в чем же все-таки загвоздка? — поинтересовался Эзар. — Даже не можем тронуться с места. Корабль, который запросто преодолевает пространства космоса, а чуть неполадки с двигателем — и мы беспомощны, как слепые котята. Почему так затянулся ремонт?
— Ты биолог и не поймешь сути, сколько тебе не толкуй. Это сложнейший технический вопрос, даже для специалиста, — с раздражением ответил Норре, задетый за живое. — Ты же знаешь — мы работаем не доклад ая рук уже три недели. И все еще придется повозиться с этим окаянным двигателем дней десять. Самое трудное позади.
Мы нашли, в чем тут собака зарыта, и теперь уже приступили к ремонту. Но когда соберем двигатель, придется производить проверку отдельных узлов, системы сцепления и регулировки, подачи сжатого воздуха, а потом сделать пробный запуск… Словом, ребята, скоро с этой пустынной планеты нам не улететь.
Эзар ничего не ответил. Он напряженно думал, насупив мохнатые брови и уставившись куда-то в одну точку. Норре давно знал Эзара и, до тонкости изучив его характер, прекрасно понимал, что в такие минуты биолога лучше не трогать. Пусть все хорошенько обмозгует, взвесит. А когда захочет отвести душу, сам подойдет и все расскажет.
Так оно и оказалось. Через два дня, сменившись с дежурства в двенадцать часов, Норре поднялся лифтом на третий этаж и, пошатываясь от усталости, подошел к своей кабине. Услышав его шаги, Эзар вышел навстречу. Яркий свет люминесцентных ламп подчеркивал глубокие морщины на его осунувшемся, рано постаревшем лице.
— Норре, у тебя есть время? Я хотел бы тебе кое-что показать.
Они молча прошли по коридору к кабине биолога. Стол его был завален фотографиями, рисунками, графиками, даже на стульях были разложены испещренные цифрами и пометками листки.
— Садись. Я должен сообщить тебе нечто важное… Очень важное для всех нас. — Тяжело вздохнув, Эзар вытащил пачку фотографий и протянул ее Норре. — На, посмотри внимательно!
— Ну горы как горы! Ты фотографировал из иллюминатора?
— Не только.
— А мы-то думали, ты изучаешь здешнюю флору.
— В первый же день я вышел из корабля в полной уверенности, что обнаружу весьма необычные формы. Но когда я увидел эти… горы… Словом, Норре, сердце почуяло неладное. Зыбкие какие-то контуры… Вот, сам взгляни на этот снимок, я сделал его в первый же день.
Норре внимательно рассмотрел фотографию.
— Не вижу ничего особенного. Правда, очертания гор не совсем обычны. Ну, что тебя удивляет? Ведь эта планета отдалена от нашей Галактики на столько световых лет! Разумеется, и горы выглядят здесь совсем иначе, чем у нас на Земле. Стоит, ли на это обращать особое внимание… Вспомни озера на Яшпе-15, которые потом оказались совсем не озерами, а…
— Еще бы не помнить! А теперь посмотри на второй снимок.
— На этот? — По привычке Норре досадливо махнул было рукой, но, взглянув на фотографию, вдруг замер, и рука неожиданно застыла в воздухе, словно остановленная какой-то таинственной силой. — Ведь это тот же самый рельеф… Или, впрочем… Нет, здесь, что-то не так!
Эзар откинулся на спинку стула, прикрыв на мгновение усталые глаза. В присутствии друга профессиональная выдержка изменила ему, и на лице Эзара отразилась такая тревога, что Норре стало не по себе. Затем биолог заговорил нарочито медленно и спокойно, особо выделяя отдельные слова.
— Внимательно рассмотри все эти снимки. На обратной стороне каждого из них проставлена дата, когда он сделан. На первый взгляд кажется, что это обычная фотосъемка местности — статичный, веками неизменный горный ландшафт. Однако это только на первый взгляд… На каждой фотографии зафиксированы какие-то изменения, но они столь незначительны, что сразу их и не заметишь. Определить это можно только при сравнении. Присмотрись хорошенько. Горы явно с каждым часом меняют свои очертания!
У Норре перехватило дыхание.
— Но если так… значит, это не горы?
Эзар молча кивнул.
— Вот это и волнует меня, Норре.
В тот же вечер экипаж обсуждал невероятное открытие биолога. С первых же слов Норре космонавты почувствовали, что им угрожает что-то необычное, а выслушав Эзара, поняли, что положение куда серьезнее, чем можно было предполагать.
— В движении этих «гор» есть определенная закономерность, — говорил Эзар, внимательно вглядываясь в лица своих двадцати восьми товарищей. — Все сделанные за три недели наблюдения служат тому доказательством. «Горы» не только подымаются и опускаются, но и движутся… передвигаются в определенном направлении… ползут.
— Ползут?
— Да, ползут. Иначе и не скажешь. Ползут, движутся, меняя очертания… Похоже, что это какие-то гигантских размеров существа. Не меньше наших земных гор средней высоты.
— Но почему же они тогда движутся так медленно?
— А это уже другая проблема. Должно быть, многие из вас слышали о таких понятиях, как кинетические параметры биологического развития, биоритм живой материи. Словом, все мы знаем, что человек живет долгие годы, а некоторые виды живых существ — ну, скажем, бабочки, насекомые — всего лишь несколько дней, часов или даже минут. Мы наделены определенной скоростью движений. Нет человека, один шаг которого длился бы несколько часов, равно как никто не может пробежать за секунду десятки километров. На Земле для нас, обычных людей, это невозможно. Но здесь… На этой планете совсем другая жизнь. Ее обитатели… как бы их назвать? Ну, скажем, живые организмы… животные… существа… Они несравнимо больших размеров и живут совсем в другом ритме. Для существ величиной с нашу гору такие движения вполне естественны. Это и есть их жизненный ритм.
Здесь и время иное. Мы уже знаем, что на этой планете один день равен нашим тридцати восьми суткам и столько же длится ночь. Приспособленные к условиям своей планеты, ее обитатели живут в том же ритме. Возле тех рвов, где за ночь скапливается вода, на заре появляется растительность. Сюда и приползают пастись эти громадные животные. Нам кажется, что они движутся невероятно медленно, а для них это вполне нормальная скорость. Вот посмотрите на эту фотографию. Видите здесь какие-то ответвления, отростки. Разве не похожи они на конечности, или щупальца? Но что это на самом деле, я пока не могу разгадать.
— А на каком они от нас расстоянии? — спросил кто-то.
— Километрах в пятнадцати… По крайней мере в первую неделю они были приблизительно на таком расстоянии, — с плохо скрываемой тревогой в голосе ответил биолог.
— Не хочешь ли ты сказать, что они… приближаются?
— Вот именно. Это подтверждают и показания сейсмографа. С каждым днем колебания почвы увеличиваются.
— Веселенькая ситуация, нечего сказать! — воскликнул молодой космонавт.
— А как с двигателем? Когда ж наконец закончится ремонт?
— В лучшем случае через неделю, — ответил капитан.
Это был низкорослый, крепко сколоченный, очень энергичный человек с быстрым, орлиным взглядом. На редкость молчаливый, он всегда предпочитал оставаться в тени. В последние дни выражение серьезной озабоченности почти не сходило с его лица, и он лишь изредка обменивался несколькими словами со штурманом и первым помощником.
Эзар развесил фотографии на стене. Он тщательно отобрал именно те снимки, где движения загадочных существ были особенно наглядны.
— Вот видите. Судя по измерениям, их высота шестьсот-семьсот метров, туловища находятся в горизонтальном положении. Они дышат, это сразу заметно по нескольким снимкам. Должно быть, они передвигаются сам… без каких бы то ни было специальных приспособлений. Одно из этих существ направляется в нашу сторону.
Наступило зловещее молчание. Космонавты сидели оцепенев.
Эзар машинально крутил прядь волос на своей лобастой голове. За эти дни он заметно сдал и чувствовал себя совершенно разбитым: сказались бессонные ночи. Сейчас он особенно остро ощутил, что такое годы: уже нельзя жить взахлеб, страстно и азартно, как прежде, работать на износ… Хватит! Это его последний полет… Пора на пенсию… Отдыхай — где хочешь. Пожалуй, он все-таки останется на Земле. Да, конечно, что может быть лучше! Ведь только в космосе по-настоящему ощущаешь счастье пребывания на Земле с ее маленькими житейскими радостями, которых обычно и не замечаешь… Отогнав горькие мысли, он продолжал:
— Представьте себе маленький карандашик и рядом с ним — корову. Одна из этих «коров» прет прямо на нас и запросто раздавит наш маленький «карандашик»…
Эзар собирался еще что-то сказать, но, передумав, умолк и снова насупил свои мохнатые брови.
Снизу доносился грохот и дробный перестук роботов, восстанавливавших разобранный двигатель.
— В самом деле, мы тут не больше карандашика, — вздохнул кто-то сзади.
— Неужели этого нельзя избежать? Есть ли у кого предложения? — спросил капитан.
— Пустим вездеход, — предложил Норре, — прямо на него, привлечем к себе внимание. Если это разумное существо, то оно нас не тронет. А коли животное — испугается и убежит.
— Так тебе и убежит. Ты что, не видел, с какой скоростью оно передвигается? — не без иронии заметил радист. — Мы раньше состаримся, чем это чудище отойдет в сторону.
— Или раздавит нас…
— В нашем сегодняшнем состоянии мы не можем сдвинуться ни на метр…
— Остается только одна надежда: а что если это всетаки разумное существо. Заметив нас, оно поймет, что мы тоже наделены разумом, хотя и совсем не похожи на него, — не оставлял надежды штурман.
Эзар попытался улыбнуться, но улыбка быстро соскользнула с его измученного лица. Он заговорил тихо и нарочито спокойно.
— Не хотелось мне, ребята, сразу вас огорошивать, но ничего не поделаешь… Я еще не все сказал. Дело в том, что это существо не может заметить ни нас, ни нашего вездехода. Оно нас не видит.
— Откуда ты это взял? — воскликнул штурман. — Объясни, пожалуйста.
— Допустим, это существо в нашем, землян, представлении обладает зрением, то есть у него имеются органы, воспринимающие световые волны. Предположим даже, что эти органы чувствительны к световым волнам такой же длины, как и наши глаза. Но даже при этих самых благоприятных для нас обстоятельствах оно не в состоянии заметить наш космический корабль.
— Но почему же? — удивился электроник Бартал.
Эзар повернулся к нему.
— Ты видел хоть раз летящую пулю? Или ракету, развивающую скорость до сорока километров в секунду? Нет, конечно. Потому что такой скорости наш орган зрения, наш глаз, не воспринимает. Вот так же не видят нас и эти существа. Естественно, они и не подозревают о нашем появлении. Здесь все та же проблема биологического ритма. Существа на этой планете живут в совсем иных временных категориях, у них все в сотни, тысячи раз медленнее, чем у нас. Их органы зрения, если даже они и есть, воспринимают только те предметы, которые движутся с привычной для них скоростью. Если мы подъедем к ним на вездеходе, они нас не увидят — как никогда не увидишь ты летящей пули…
Вскоре уже и без оптических приборов можно было заметить, что «гора» приближается. Она росла на глазах, становясь все выше. Телекамеры позволяли увидеть, что эта махина покрыта чем-то толстым, шероховатым, напоминающим шкуру животных; снизу находилось нечто вроде копыт. Головы у нее не было; не было ни глаз, ни ушей — ничего, хотя бы отдаленно напоминавшего наши органы чувств.
— Сообщу на Землю, — сказал капитан. — Если мы не вернемся… Пусть знают, где мы и как все произошло, чтобы те, кто полетит после нас, не угодили в такую же дурацкую ловушку.
Эти слова капитана слышал не только Норре, но и Эзар. Первый помощник взглянул на биолога.
— Шарахнем-ка по ней из атомной пушки! Надо же хоть как-то припугнуть эту гадину!
— Чудовище уже слишком близко. А взрыв атомной боеголовки может повредить корабль. К тому же, если мы раним его, агония может продлиться несколько недель. Оно начнет биться, метаться из стороны в сторону и наверняка раздавит нас.
— Может, ослепить его — направить в глаза свет прожектора? — предложил радист.
— Интересно, где это ты узрел у него глаза? — с нарочитым удивлением спросил Эзар. Губы его скривились в усмешке, как обычно, когда он язвительно шутил. — Я вот почему-то не могу найти ничего, мало-мальски на них похожего.
— Придется поторопиться с двигателем. Другого выхода у нас нет, — сказал капитан.
— Собственно, работ осталось на семьдесят, от силы восемьдесят часов, — смущенно ответил Норре. — Но беда в том, что в целом процесс сборки ускорить нельзя: операции вместе с промежуточными испытаниями следуют в строго запрограммированном порядке. Нарушив технологию, мы рискуем взорваться в космосе.
Эзар вынул из кармана мелко исписанный лист бумаги.
— По моим подсчетам, это животное делает один шаг за-четыре часа, тем самым приближаясь к нам метров на семьсот.
— А на каком расстоянии оно теперь?
— Менее пяти километров. Но даже если чудовище настигнет нас, мы не можем покинуть корабль, — Эзар внимательно вглядывался в лица механиков и Норре. — Здесь еда, запасы кислорода, словом, все, без чего нам не обойтись. Без корабля, ребята, мы погибнем!
Космонавты молчали.
Умереть здесь! На самой далекой планете галактики Монсер, куда впервые ступила нога человека? Вдали от космических трасс! Они не боялись космоса, хотя, изучая его, все больше убеждались, как он безжалостен. Отправляясь в очередную экспедицию, каждый из них был внутренне готов к тому, что может погибнуть. Как это обычно бывает в долгих полетах, онцс каждым днем все больше привязывались к своему кораблю, этой частице далекой родной планеты, частице, с которой они срослись. И вот теперь… Неужели на этой чертовой планете их корабль не может быть надежным укрытием?!
Внутренне содрогаясь от предчувствия неминуемой гибели, отчаянным усилием воли каждый старался скрыть волнение.
— Произведем разведку на вездеходе, — после долгой, мучительной паузы предложил наконец Норре.
Вездеход лавировал между холмами. Норре едва удерживал руль. Эзар не отрывал взгляда от окна. Изумрудное небо, которое в первые дни их прилета изливало жгучий зной, теперь померкло. На планету спускались сумерки.
— Приближается ночь, — проговорил Эзар. — Не пройдет и десяти дней, как наступит кромешная тьма. И это на тридцать восемь суток…
— Если сборка не подведет, то уже через сорок восемь часов ноги нашей здесь не будет, — сердито пробормотал Норре.
Вездеход взобрался на высокий холм, и перед космонавтами открылась пустыня без конца и края: красноватокоричневые дюны сливались у горизонта с серо-зеленым небом. Вдруг, обернувшись, Норре резко затормозил.
— Смотри! Оно совсем близко!
Чудовище было почти того же цвета, что и песок, и теперь, когда они смотрели на него с холма, казалось бесформенным. Если раньше Эзару казалось, что «гора» чем-то походит на самого крупного из динозавров — загадочного атлантозавра, вымершего на Земле миллиарды лет назад, то сейчас перед ними была лишь какая-то неестественно разросшаяся биомасса. Нет, это не гигантская гусеница и не ползучее растение. Такое страшилище можно увидеть лишь в кошмарном сне! Колоссальная туша, закрыв часть горизонта, нависла прямо над их головами, и они с ужасом разглядывали морщинистую, угреватую, словно покрытую чешуей или лишаями кожу и какие-то странные толстые отростки, на которых оно передвигалось. Словно стволы дерева, они поддерживали эту громадину снизу.
Наблюдая за «страшилищем», Эзар все больше убеждался, что это животное, еще не получившее в своем развитии ни малейших признаков интеллекта, наделенное лишь самыми примитивными инстинктами. Обидно! За плечами столько лет в космосе — и ни одной встречи с разумными существами. А ведь это его последний полет!
Норре остановил вездеход и молча разглядывал чудовище. Эзар вылез из машины.
— Ну и громадина! — услышал он в наушниках голос друга. Суровый хладнокровный рационалист, казалось, лишенный всяких эмоций, Норре говорил взволнованно и грустно. — Настоящий великан!.. На Земле тысячелетиями придумывали о таких сказки, а, оказывается, они есть на самом деле. У меня чувство, будто наш корабль совершил посадку прямо на обеденный стол к великанам. В любой момент они если не вцепятся в нас, то просто раздавят. Если, конечно, мы ничего не придумаем и не выкарабкаемся отсюда. Но, пожалуй, самое страшное в том, что эти чудовища даже не подозревают о нашем существовании. Неужели нас уничтожат какие-то мерзкие безмозглые существа? Где же она мудрость Мироздания? Ведь чтобы мы могли летать на такие далекие планеты, человеческая мысль прошла труднейший многовековой путь эволюции! И на Земле, и в Космосе!
Нет, наша жизнь не прогорела впустую… Ты никогда не задумывался над тем, сколько тысячелетий понадобилось, чтобы люди смогли наконец построить наше справедливое общество, добиться такого процветания, совершить столько научных открытий?! Чего стоит один наш корабль! И с таким техническим оснащением мы преодолели столько препятствий, избежали стольких опасностей, предотвратили катастрофу, когда отказал маршевый двигатель, а с помощью разового двигателя экстренного торможения в труднейших условиях совершили эту вынужденную посадку — и все для чего? Чтобы какая-то шелудивая гадина растоптала нас и как ни в чем не бывало поперлась дальше…
Эзар сел в вездеход.
— Пора возвращаться! Времени — в обрез.
Чудовище приближалось к кораблю — медленно и неумолимо. Гигантская тень уже почти целиком закрыла его. Не давая ни минуты отдыха ни себе, ни роботам, космонавты лихорадочно торопились со сборкой двигателя. Так продолжалось около девяти часов.
— Копыта подымаются вверх, — предупредил дежурный.
Космонавты и сами видели это на телеэкранах. Эзар обратил внимание, что если вначале все называли приближавшегося великана существом, то теперь от сознания собственного бессилия иначе, как «скотина», «зверюга», «чудовище», «шелудивая гадина», о нем не говорили.
— Сейсмограф прямо-таки взбесился, — сообщил дежурный первого этажа.
Капитан вышел из лифта мокрый как мышь, вытирая платком пот с землисто-бледного лоснящегося лица и плотной, крепкой шеи.
— Нам нужно еще девять часов. Быстрее механизмы не срабатывают.
— А что будем делать, если эта скотина побежит?
— Откуда ты знаешь, может быть она и сейчас несется во всю прыть? — невесело пошутил штурман.
Эзар молчал. Норре не подымал головы от аппаратуры.
Радист едва владел собой. Чудовище неотрывно стояло у него перед глазами. Он чувствовал, как от страха все холодеет внутри. Стыдясь собственной слабости, парень пробовал улыбаться, но нервы не выдерживали. Он схватил капитана за руку.
— Запустим в эту гадину атомный заряд!
— Хочешь погубить всех нас? — процедил капитан сквозь зубы.
— А что ты можешь предложить? — не унимался радист, враждебно глядя на капитана. Его маленькие зеленовато-серые глаза стали прозрачными от бешенства, щеки покрылись пунцовыми пятнами, он дрожал как в лихорадке. Парня жгла досада на капитана, не предпринимавшего, как ему казалось, решительных действий.
Капитан смотрел на радиста со снисходительной усмешкой, ему вспомнились давно забытые ссоры, взаимные обиды, все то, чему он не давал всплывать в сознании за долгие годы совместной работы. Но он отогнал ненужные мысли и, не сказав ни слова, повернулся к телеэкрану.
Копыта чудовища уже повисли над кораблем. До него оставалось метров сто пятьдесят.
— Единственная наша надежда, — проговорил Норре, — что эта гадина ступит не на корабль, а где-то рядом…
Чудовище закрыло небосклон. Теперь корабль не смог бы взлететь, даже если бы двигатель был в порядке: мыслимо ли прорваться через гигантскую тушу толщиной в несколько сотен метров?
— Копыто опускается прямо на нас! — в ужасе закричал радист.
В самом деле, копыто диаметром метров в сорок вырисовывалось все отчетливее. Можно было даже невооруженным глазом разглядеть какие-то странные, похожие на рога отростки.
Час прошел в невероятном. напряжении. Слышался треск, скрежет, лязг металла. Корабль слегка накренился. И вдруг раздался возглас дежурного:
— Копыто опускается рядом!
— Значит, нас не раздавит! — обрадовался радист. Эзар иронически усмехнулся.
— Разумеется, это копыто нас не заденет, — чуть насмешливо ответил он. — Но откуда ты знаешь, сколько еще копыт у этой гадины?
К их разговору никто не прислушивался. Каждый был занят своим делом и своими мыслями. Один из членов команды не отрываясь смотрел в оптический прибор, пытаясь определить размеры громадной туши, но видел только множество ног.
— Ну и повезло, нечего сказать! И угораздило же нас наткнуться на это стоногое чудовище, — проворчал капитан. Белый как полотно он, казалось, не замечал устремленных на него взглядов.
— Капитан, — неожиданно раздался оглушительно громкий голос дежурного верхнего этажа. — Похоже, гадина собирается разлечься! Она постепенно опускается. Часа через полтора уляжется прямо на нас!
Капитан злобно выругался. Не в силах овладеть собой, радист опрометью кинулся в туалет. Эзар и Норре переглянулись. Оба подумали об одном и том же.
— Попробуем лазер!
— Верно! Давай! Гадина не подохнет, но копыта мы ей обожжем.
Норре подошел к микрофону и отдал команду:
— Внимание! Первую, вторую и третью лазерные установки в вертикальное положение! Включать поочередно с интервалом пять секунд… Огонь!
На экране бокового обзора было видно, как лучи врезались в складчатую шкуру. Движения чудовища чуть ускорились. Или это только показалось? Но вскоре дежурный верхнего этажа доложил, что туша перестала опускаться.
— Вроде отбили у гадины охоту поваляться!
Покусывая губы, Эзар внимательно наблюдал за огромным животным. Два копыта опять приблизились к кораблю, но Эзар видел, что теперь они уже куда дальше от него, чем раньше. Так может… может, чудовище направится в другую сторону? Должна же быть реакция на боль от лазерных лучей?
— Двигатель постараемся запустить через сорок минут, — доложил один из механиков. Они работали в бешеном темпе.
«А что мы будем делать, если окажется, что у проклятой зверюги есть еще и хвост! — мелькнуло в голове у Эзара. — Или брюхо, которое волочится следом за ней?»
— Кажется, чудовище начинает поворачиваться, — доложил дежурный верхнего этажа.
Копыта ступали на песок все дальше от корабля. Теперь за ногами чудовища можно было увидеть линию горизонта. Все та же пустыня: красновато-коричневые холмы под зловещим темно-зеленым небом.
— Двигатель готов к пуску. Сборка закончена, — доложил повеселевшим голосом механик.
Измученные лица космонавтов просветлели. Капитан занял место у пульта управления и дал знак приготовиться радисту. Эзар и Норре уселись в кресла и накинули предохранительные ремни. Раздался звонок, предупреждающий о взлете.
А тем временем «гадина» начала медленно подниматься — прямо над кораблем. Громадная туша мерно покачивалась из стороны в сторону.
— Только бы вырваться отсюда, — прошептал радист. На лбу у него выступили капли пота.
Штурман проверял датчики звездной и солнечной ориентации, корректирующую установку, готовность аппаратуры к старту.
— Гадина удаляется, — крикнул дежурный.
— Приготовиться! — приказал капитан.
«И зачем он отдает команду? — подумал штурман. — Все мы давным-давно готовы к взлету».
— Нечего сказать! Космонавты высшего класса… эдакие волки космоса оказались в плену у какой-то паршивой зверюги! — воспрянув духом, ворчал Норре. Он с такой силой сжимал ручки кресла, что у него побелели пальцы.
— Капитан, гадина подняла ноги! — раздался радостный возглас дежурного.
Чудовище летело над кораблем…
Время тянулось нестерпимо медленно. Наконец на экранах стал виден совершенно чистый темно-зеленый небосклон. Можно взлетать! Не мешкая, капитан нажал пусковую кнопку.
Эзар внимательно смотрел на экран нижней полусферы. Набирая скорость, корабль поднимался все выше. Благодаря прекрасной изоляции двигателей почти не было слышно.
Ландшафт изменился. «Гор» справа уже не было. Куда же делись остальные животные? На песке выделялось лишь громадное черное пятно. Удивленный и заинтересованный, Эзар приник к экрану. Да это громадная тень!
— В воздухе что-то летит! — воскликнул дежурный. Но космонавты видели это собственными глазами. Ни у кого не вызывало сомнений, что перед ними животное, только оно было гораздо крупнее «их» стоногого. Вытянутые вперед мощные щупальца, покрытое панцирем туловище… километров около тридцати в длину и ширину. Спереди зияло черное, похожее на пещеру отверстие. Явно это была разверзнутая пасть, готовая проглотить добычу…
— Быстрее! — истошным голосом заорал штурман. — Авось проскочим!
Лишь теперь Эзар осознал происшедшее. Этот гигантский исполин охотился на стоногих. Подобно всякому хищнику, он сразу же наметил себе жертву. Разумеется, ту, которая казалась самой слабой. На остальных он не обращал внимания. «Горы» исчезли, потому что вся «стая» разбежалась, если можно употребить это слово применительно к стоногим. А животное, едва не раздавившее их корабль, было лишь жалким существом, которое в ужасе пыталось спастись от гибели. Оно хотело прижаться к песку в поисках спасения. А хищник в это время прыгнул…
Свидетелями этого гигантского прыжка и стали космонавты. А теперь исполин размером едва ли не с целый город медленно и величаво плыл по небу. Еще час-другой, и он вцепится в свою жертву…
И на этой планете в животном мире те же законы… Эзар прикрыл глаза. Через некоторое время он посмотрел в иллюминатор, чтобы убедиться, что их корабль поглотила кромешная тьма Космоса.
Адам Голлянек ЛЮБИМЫЙ С ЛУНЫ[5] Пер. Е. Вайсброта
Честно говоря, мне было интересно, как он живет, но после долгого отсутствия я не решался вот так сразу зайти к нему домой.
Поговаривали, будто у него нелады с красавицей женой, в которую в свое время была влюблена добрая половина города, не исключая и меня. Для нее, женщины, отличавшейся какой-то особой красотой, муж был единственным светом в окошке, и, естественно, она вообще не замечала вьющихся вокруг поклонников.
Мне хотелось поскорее избавиться от наваждения, и, пожалуй, именно неоправдавшиеся надежды послужили основной причиной моих долгих заграничных вояжей.
Меня всегда удивляло отношение Петра к женщине, которая едва ли не боготворила его.
Он приучил ее все дни проводить в одиночестве дома и только дома. А те немногие часы, когда они находились вместе, он в основном молчал. Однажды я не выдержал и спросил, в чем дело, почему, когда она рядом, он вообще не замечает ее.
— Она тебя не устраивает?
— Без нее я не мог бы жить, — ответил он.
И тогда я понял, что она такая же неотъемлемая часть его бытия, как сердце, почки, легкие, мозг; она — это он. А замечаем ли мы эти наши составляющие, пока они не дадут о себе знать.
Когда я возвратился, то почувствовал, что меня, как и прежде, влечет к ней. До меня дошли туманные слухи о их разладе, поэтому я решил встретиться только с ним. Увидеть ее у меня пока не хватало духу.
Я зашел к нему в его огромную лазерную лабораторию, о которой рассказывали чудеса.
Хотя он знал о моем визите, мне пришлось немного подождать. В кабинете, где я сидел, одну стену сплошь покрывали многочисленные экраны. Прямо как в киностудии. Напротив стоял старомодный коричневый письменный стол и, как часто принято у ученых, висело несколько фотографий, тоже старомодных, — память о каких-то международных симпозиумах. На каждой можно было отыскать худощавое лицо Петра, которое независимо от даты (а каждый снимок был датирован) выделялось благодаря неизменному ежику волос и черным, на английский манер, усам.
Он вошел несколько смущенный и сердечно обнял меня.
— Пройдем в соседний зал. Я тебе кое-что покажу.
Он держался так, словно мы расстались только вчера.
Будто между нами не было нескольких лет разлуки и перерыва в нашей дружбе.
— Наверно, ты хотел бы повидаться с Аней? — неожиданно спросил он.
Я почувствовал, как кровь прилила к щекам, и заметил его тревожный, но доброжелательный взгляд.
— Хотел бы?
Я кивнул.
— Ну тогда пошли.
Я последовал за ним. В коридоре мы направились в сторону, противоположную входу, и оказались в небольшом, амфитеатром, зале.
— В первый момент, — сказал Петр, — тебе будет не по себе от резкого света и невидимого излучения, в зоне действия которых мы сейчас окажемся. Ощущение не из приятных, но ты не волнуйся — оно быстро пройдет. И пока ни о чем не расспрашивай.
Мы уселись в глубокие кресла с белоснежной обивкой. На белом столике в металлических кольцах-держателях стояли стаканы.
Напитки разливал маленький поблескивающий металлом робот с миниатюрными цепкими лапками — практически единственный атрибут современности в помещении.
Действительно, мне стало как-то неуютно, когда неожиданно все вокруг залил резкий свет. Казалось, зажглись и не гасли десятки фотовспышек. Я почувствовал боль не только в глазах (закрытые веки не спасали), но и во всем теле.
Неприятное ощущение исчезло так же быстро, как и пришло, хотя свет остался. Теперь можно было без опаски открыть глаза. Я осмотрелся. Амфитеатр исчез, а гораздо ближе его первых рядов теперь была стена, увешанная старинными картинами, которые я хорошо знал, а некоторые и любил. Перед нами была библиотека Петра.
Я не успел сказать ни слова. Он тоже молчал, наблюдая за мной и с явным беспокойством поглядывая на дверь.
Дверь распахнулась, и вошла Аня. В первый момент не заметив меня, она обратилась к Петру:
— Опять ты за свое.
И не успел я подняться навстречу — она уже была рядом. Аня явно обрадовалась, увидев меня. Я поцеловал ей руку. Она подставила щеку.
— Ну, шок прошел? — спросил Петр. — Надеюсь, оба довольны?
Он был прав.
Я почувствовал себя почти счастливым, и мне было не до того, каким чудом Петр перенес нас из лаборатории к себе домой.
Говорили мы главным образом о моей поездке. Собственно, мы — это я и Аня. Петр же, погруженный в собственные мысли, почти все время молчал, а если и включался в разговор, то как-то невпопад, спрашивая совершенно не о том, чего касалась наша беседа. Речь шла о спасении Венеции. Я был приглашен туда в порядке архитектурного надзора и рассказывал о своей работе и городе, зная любовь Ани к нему. По ее словам, она провела там лучшие часы своей жизни.
Вдруг Петр прервал меня на полуслове:
— Аня, мы должны уйти. Наговоритесь в другой раз. Я только хотел все это показать.
И не успели мы с Аней проститься, как ее уже не было в помещении. В полумраке зала все происшедшее казалось галлюцинацией, сновидением.
— Ты, помнится, никогда не специализировался на создании снов? — невольно громко воскликнул я.
— А это не было сном. Я по-прежнему верен своим лазерам, а вот они-то не всегда верны мне.
— Не понял, — нетерпеливо перебил я.
— Сейчас поймешь. Но сначала скажи, как ты нашел Аню?
— Уж очень она грустная.
— Ты прав. Это еще она оживилась, увидев тебя. На меня ее состояние действует угнетающе. Вот и просиживаю целыми днями в лаборатории. А все без толку — мои лазеры на самом деле изменили мне. Сам посуди…
В его рассказе научные рассуждения переплетались с эмоциями.
— Ты знаешь, что, будучи ассистентом, я занимался расширением возможностей голографии, а лазерами увлекся еще в студенческие годы. В лабораториях и сегодня можно встретить мои установки тех лет.
Со временем мы добились весьма совершенной передачи объемных изображений реально существующих предметов. В частности, для осмотра внутренних органов человека лазерный луч, проникая внутрь тела, воспроизводит на экране трехмерное изображение каждого органа настолько четко, что позволяет не только диагностировать заболевание, но и определить область его локализации.
Наладилась связь с клиниками. От опытов на животных перешли к лечению людей. Короче, наладилась голографическая диагностика. Я был настолько увлечен работой, так много людей прошло перед моей установкой, что, поверишь, не помню ни одного из того калейдоскопа лиц, кого удалось спасти, поставив верный диагноз с помощью голографии.
Я получал и получаю по сей день массу писем буквально со всех концов света. Одни благодарят, другие клянут — наверное, такова уж жизнь.
К началу моей клинической деятельности я уже был женат года два. Захваченный работой, я всегда возвращался поздно и донимал Аню бесконечными вопросами о том, что она делала в мое отсутствие, требуя отчета чуть ли не за каждую проведенную без меня минуту. Практически я заточил ее в четырех стенах. Первое время она терпела, отшучивалась, прерывала меня поцелуями и просьбами прекратить «допрос с пристрастием». Потом начала бунтовать, и это выводило меня из себя. Случалось, я проклинал ту минуту, которая свела нас. Аню тоже все это приводило в отчаяние. Вначале она порывалась уйти, а потом ее охватила апатия. Целыми днями она сидела в огромном плюшевом кресле, тоскливая и угасшая. Я пытался расшевелить ее, умолял сказать хоть слово. Она молчала.
Именно тогда я понял, на какое одиночество обрек любимую женщину.
«Как это изменить? Как спасти ее?» — вот вопросы, на которые я искал ответа.
Аня по-прежнему была в отрешенном состоянии. Я не представлял себе, когда она ела, и ела ли вообще. Я видел, как из нее постепенно уходила жизнь, и еще больше мучался от собственного бессилия. Ее образ с устремленным куда-то застывшим взглядом неотрывно преследовал меня.
Я не раз пытался уговорить ее изменить нашу жизнь, предлагал ходить в гости, в театр, в кино. Однажды я даже вручил ей билеты для поездки на прекрасный голубой юг, о котором мы так мечтали в начале нашей совместной жизни, когда ты был еще здесь. В те годы мы не могли позволить себе такую роскошь. Увы, ни о какой поездке, в одиночку ли или со мной вместе, она не хотела и слышать. Пожалуй, именно тогда я понял, что в человеческих отношениях порой происходят совершенно необратимые процессы, которые приостановить, а тем более повернуть вспять невозможно.
Петр глубоко вздохнул.
— Я знал случаи, когда между двумя живущими бок о бок людьми неожиданно возникал непреодолимый барьер. И никакая нежность, никакие клятвы одной из сторон ничего изменить не могли. Более того, этот барьер разрастался подобно раковой опухоли, изматывая мысли и чувства партнеров, существуя за счет их жизненных сил. Поэтому, надеясь спасти хотя бы видимость нашей давнишней привязанности, я решился…
Не хочет никуда ни идти, ни ехать? Так я перенесу ее, как на крыльях. И вот с того момента мои опыты по воспроизведению избранного фрагмента реальности с помощью лазеров пошли полным ходом. Работая как сумасшедший, я временами забывал и об Ане, и о своей вине перед ней. Меня захватывали совершенно невероятные идеи, хотя я убеждал себя, что делаю все это только ради нее.
Первое путешествие совершилось так же, как и сегодня: из лаборатории, из этого зала — домой. В нашу квартиру. Ты понимаешь меня?
— Начинаю понимать. Ты считаешь, что техника может спасти человеческие чувства?
— Не думай, что я настолько наивен… Но мне ничего не оставалось, как прибегнуть к помощи техники.
Петр замолчал. Тогда я подумал: «Аня была грустна, но не апатична. Она явно обрадовалась встрече». Однако какое отчаяние появилось на ее лице, когда Петр прервал свой сеанс.
— И ты кого-то подсунул ей? — спросил я.
— Ты начинаешь соображать, — ответил он и объяснил, что тогда действительно у него появилась такая мысль. Пусть Аня начнет все сначала… Возродится. Воспрянет.
Сотни тончайших лазерных лучей резной интенсивности и под разными углами, концентрируемые и направляемые оптическими системами, выхватывали изображение объекта, на который их нацеливали, и посылали в назначенное место — на несколько метров, а также на сотни, тысячи километров.
Свет движется со скоростью триста тысяч километров в секунду — какой же это прекрасный экипаж! Он летит с такой скоростью, что его существования и не замечаешь, и не ощущаешь.
— Мы с тобой здесь, а через мгновение… Нет, не вставай, не протестуй. Сиди. А через мгновение, через долю мгновения мы уже в нашей приемной станции на море. Взгляни, вокруг нас волны, на берегу люди. Ты можешь беседовать с ними, прикоснуться к ним.
— Простите, — обратился Петр к юноше, который вышел из воды и изумленно смотрел на нас.
Припекало солнце, волны лизали его ноги… на паркетном полу нашего зала. Это было поразительно и в то же время не казалось уж очень странным.
Наконец юноша очнулся, кинулся в воду и тут же исчез. Видимо, Петр выключил аппаратуру, потому что зал опять стал самим собой.
Когда прошла минута неприятных ощущений, я спросил Петра:
— Как тебе удаются все эти фокусы?
— Наука, — улыбнулся он. — А ты еще посмеивался над ее возможностями. Ну, и техника, конечно.
— Но, сознаюсь, я не хотел бы отправляться к морю твоим способом. Думаю, Аня…
— Она тоже. Ее это не только не расшевелило, но подействовало еще более угнетающе.
Дело в том, что лазерный луч, соответствующим образом направленный, перемещаясь со скоростью света, воспроизводит нас в выбранном месте, естественно, оборудованном соответствующей аппаратурой. Эта аппаратура, тысячи сконцентрированных вместе миниатюрных лазерных устройств, возвращает полученное изображение. Таким образом, отказавшись от путешествий, не двигаясь с места и даже не меняя положения, мы в любой момент можем попасть туда, куда пожелаем. А те, кто явится к нам, одновременно будут находиться и у себя и у нас.
— Непонятно.
— Но истинно. Представь себе на минуту самолет, летящий с такой скоростью, что пейзаж, который ты видел на старте, совместился с пейзажем в месте посадки.
— Представить себе можно все что угодно.
— Разумеется, в действительности-то лазеры переносят туда и обратно только наше изображение. Но, поскольку это изображение совершенно идентично реальному объекту, то есть мы чувствуем и мыслим одинаково, а происходит все невероятно быстро, мы не замечаем мистификации.
— Так ты признаешь, что это обман?
— Называй как угодно — суть от этого не изменится. В действительности, или «как бы», — мы идентичны. Именно этого я и хотел добиться.
Я подумал, что в идее моего друга была заложена немалая хитрость. Не трогая Аню, не отпуская ее от себя, он демонстрировал ей разные варианты рая и в то же время в любой момент мог выполнить роль архангела, изгоняющего ее оттуда. Недурно придумано.
Я собирался ему это сказать. Меня только интересовало. сознавал ли он все сам, делал ли намеренно или безотчетно погружался в свои научные фантазии, стремясь с их помощью исцелить любимое существо.
— Позволь мне, — попросил я, — еще раз повидаться с Аней. Только нормальным, естественным способом.
— О чем речь! Для тебя двери нашего дома всегда открыты. Заходи. Поболтаете.
— Думаешь, пойдет ей на пользу?
— Не шути. Я в очень сложном положении.
— Не понимаю. Ведь тебе же удалось в конце концов вытащить ее из состояния апатии. Успех явный.
— Он слишком поздно пришел.
Я собирался обвинить его в эгоизме, близорукости и во многом другом, но увидел в его глазах, во ВСЕМ его облике такое отчаяние и бессилие, что смолчал.
— Я потерял человека. Он скрылся, исчез, — сказал Петр с волнением в голосе.
— О ком ты? Об Ане?
— Нет, хотя это касается ее. С этим человеком, с этим парнем я познакомился на лунной базе. Понимаешь, когда я пытался вывести Аню из ее опасного состояния, мне пришла в голову идея устроить ей необычную экскурсию.
Итак, Петр провел научный эксперимент, последствий которого для себя предвидеть не мог. Его к тому времени уже установившийся авторитет помог сооружению на постоянной лунной базе лазерной приемо-передающей станции. Она позволяла молниеносно переноситься с Земли в обтекаемые прозрачные полусферы домиков на Луне. Перед человечеством открылась новая эра в освоении космоса.
— Но, увы, вскоре обнаружилось, — говорил Петр, — что все не так просто. Скорость света триста тысяч километров в секунду, и неполной секунды достаточно, чтобы изображение перенеслось на Луну, а в следующую секунду возвратилось на Землю со всем, что «прихватило» в месте назначения. Однако наши органы чувств могут синхронно воспринимать изображения лишь на расстояниях порядка нескольких сотен световых секунд. Стало быть, практически получить слитное изображение возможно только при небольших, в астрономическом смысле, расстояниях. Если же расстояние превышает некое вполне определенное значение, такое совмещение невозможно. Я рассчитал предельное значение допустимых расстояний, в литературе оно известно как «видеобарьер Петра Лигензы».
При определенных коррекциях полную иллюзию пребывания одновременно в двух местах можно получить в той части Солнечной системы, которая ограничена орбитой Марса.
— Разве этого мало?
Петр говорил очень быстро, взахлеб. Ему хотелось предельно просто объяснить мне все научные премудрости, чтобы как можно скорее перейти к сути дела.
Но, видимо, он никогда не способен был целиком забыть о себе.
— Я раскрыл перед человечеством возможность общаться на огромных по нашим масштабам расстояниях, к тому же общаться непосредственно. При этом все воспринимается так, словно происходит в действительности.
— Не знаю, как отнесется еще к этому человечество, — заметил я. — Ведь своим изобретением ты убиваешь в человеке тягу к перемене мест, тоску по родине, чувство ностальгии. Столько здесь наслаивается моментов. Похоже, тебе и самому трудно выпутаться из тобой же созданных сложностей.
— Возможно, ты прав. Возможно, — сказал он. И тут же продолжил свои рассуждения.
Уже во время первых экспериментов с лунной базой он обратил там внимание на молодого человека, облик которого ему показался знакомым. «Где я мог видеть его раньше?» — спрашивал он себя. При каждой встрече уверенность в том, что они уже когда-то встречались, росла и, как оказалось вскоре, преследовала их обоих.
Они познакомились, нередко просиживали в общем лабораторном помещении, каждый у своего аппарата. Со временем было решено вынести опыты за пределы базы. Для этого Петру пришлось герметизировать свою земную лабораторию и обзавестись скафандром. Лунный вакуум со всеми его суровыми законами вторгался в уютную атмосферу земной лаборатории.
Это был поразительный научный эксперимент. Лазерная аппаратура и электромагнитные корректирующие устройства были установлены так, чтобы Петр и его юный друг Игорь Рагин, оба в скафандрах с огромными прозрачными шарами на головах, могли встретиться на небольшом изрытом кратерами участке неподалеку от базы на фоне далекой Земли. Прямо сцена из фантастического фильма!
Однако стоило присмотреться, становились видны прекрасные старинные картины, висящие в кабинете Петра. А перед входом в базу туманно маячило несколько рядов амфитеатра.
Новоявленные друзья неловко обнялись, их движения в условиях иного тяготения были смешными и неловкими.
— Подобного мне и не снилось! — воскликнул через микрофон Рагин.
Уже само свое пребывание на лунной базе он считал счастливой удачей. А теперь ему предстояло войти в историю.
Из шести работавших на базе Петр выбрал для своей прогулки именно Игоря. Они уже давно перебрали всех родных и знакомых, пытаясь отыскать источники своей мгновенно возникшей взаимной симпатии. Но никаких точек пересечения не обнаружили.
— Знаешь, кому первому я расскажу о нашей прогулке?
— Конечно, Ане.
Рагин знал о том, что происходит с женой нового друга, и вместе с ним ломал голову над тем, как вырвать Аню из ее состояния.
Они все подготовили, но не решались включить Аню в свой лунный союз, боясь упустить последний шанс. Но вот момент настал.
Кабинет, вернее, неясные тени земного кабинета в лунной лаборатории превратились в увешанную картинами комнату, в которой обычно сидела Аня.
Оба были в скафандрах, так как встреча произошла в шлюзовой камере базы.
— Тогда мне впервые показалось, что Аня довольна сюрпризом, — говорил мне Петр. — Однако скафандр натягивала с полнейшим равнодушием. Игоря так потрясло ее безразличие, что на глазах у него выступили слезы.
Петр замолчал, глядя куда-то в пространство. В его глазах тоже стояли слезы, хотя он никогда не был склонен к сентиментальности.
Мы молча сидели друг против друга.
— Прогулка, — продолжал он, — оказала переломное действие. Мы вели Аню, прекрасную и холодную, по залитому солнцем лунному бездорожью. Как долго? Трудно сказать. Никто из нас не произнес ни слова. «Может достаточно?» — спросил наконец я. Она едва заметно кивнула. Мы вернулись в шлюзовую камеру, сменили одежду и расстались. Когда часом спустя я зашел к Ане, она тихо проговорила: «Хочу завтра вернуться туда». Я сразу же понял, — продолжал Петр, — что она увлеклась Игорем.
Вначале в нашей жизни ничего не изменилось. Она ожидала своего «завтра», сидя в плюшевом кресле, — если вообще чего-то ожидала! — как всегда апатичная, отсутствующая. Я наблюдал за ней внимательнее обычного и отметил, что она все-таки реагирует на музыку, радио, телевизор. Реакции были едва заметными, точнее говоря, она слушала, смотрела, но украдкой от меня, а меня самого старалась не замечать. Попытки говорить ничего не давали. Под моим взглядом она застывала и деревенела.
Так вот, наутро мы снова «отправились» на Луну. С Игорем опять встретились в шлюзовой, снова долго надевали скафандры. Заторможенность ее не проходила. Мы находились недалеко от базы, когда произошел первый мелкий инцидент, но мелким он оказался только на первый взгляд. Однако мне показалось, что я повис над пропастью.
Не привыкнув большими прыгающими шагами передвигаться по лунному грунту, я споткнулся и упал. Игорь с Аней даже не заметили этого и, пока я поднимался, ушли далеко вперед. Я тут же предложил jкончить прогулку. Я любил Аню, по-своему любил Игоря, но не хотел, чтобы они были вместе рядом со мной. Теперь я терял уже не только Аню. Я терял их обоих.
Петр замолчал. Не успел я ему помешать, как мы оказались в главном помещении лунной базы. Начальник базы проявлял явное нетерпение.
— Это опять вы, Петр? Мы же решили прекратить сеансы.
— Я пока не могу.
— Но я же объяснил вам, что Игоря Рагина на базе нет уже больше года. К тому же у человека с таким именем было совершенно иное лицо, чем вы показывали на снимках. Это совершенно другой человек.
Петр стоял, опустив руки, ссутулившийся и беспомощный. Я ничего не мог понять. Выходит, Рагин вообще не существовал? Во всяком случае, тот Рагин, с которым познакомились Петр и Аня?
— Мне нужен был свидетель, — оправдывался Петр. — Это мой старинный друг, — сказал он, указывая на меня.
— Я показывал профессору, — повернулся ко мне начальник базы, — документы, да и он сам связывался с нашим руководством. Все говорили ему одно ито же. Его Игорь Рагин — совершенно другой человек, нежели тот, который работал у нас, к тому же не в то время, о котором говорит профессор Лигенза. У нас нет никаких оснований что либо скрывать или искажать факты.
— Я вполне вам верю, — растерянно отозвался я. Мы снова вернулись в зал с амфитеатром. Я с сочувствием смотрел на друга.
— Вечером того же дня, когда так неожиданно закончилась наша прогулка, — продолжал Петр прерванный рассказ, — Аня поднялась с кресла и, взяв меня за руку, начала просить о новой встрече. Слова перемежались всхлипываниями, словно речь шла о жизни и смерти.
Я оттолкнул ее и выскочил из дома. В лаборатории соединился с лунной базой и долго разговаривал с Игорем.
Игорь занимался решением проблемы ОАЗИС. Он прошел специальную астроботаническую подготовку и выращивал растения в специальных прозрачных теплицах. Они были заполнены прозрачным субстратом, что позволяло следить за всеми протекающими в нем процессами. Игорь наблюдал за тем, как ведут себя культурные растения в условиях лунного тяготения и искусственной тепличной атмосферы.
На этот раз мы тоже говорили о его экспериментах, но меня они теперь не интересовали.
Игорь тоже отвечал односложно, бледный, рассеянный. Я прекрасно знал, о чем он думает и что думает обо мне, и говорил не переставая.
Наконец он резко прервал меня. Такого с ним еще не случалось: «Ты решил разлучить нас? Но что теперь будет с Аней?»
Я вынужден был отключить аппаратуру, чтобы больше не видеть его. А как быть с памятью? Ее не выключишь!
Потом я долго не мог установить связь с базой, хотя, поверь, хотел, очень хотел этого. Побежал домой. Аня сидела в своем плюшевом кресле, застывшая, бледная, едва дыша.
Я сказал, что не буду препятствовать их встречам и сам не буду при них присутствовать. Она не реагировала.
Я включил аппаратуру. И вот тогда-то и начались мучительные и безрезультатные поиски Игоря.
«Такого человека никогда не было», — отвечали мне. Она слышала это своими ушами, но каждый раз ожидала связи, метаясь по комнате и заламывая руки. Услышав, что Игоря никогда не было, она садилась в кресло и замирала, будто в летаргическом сне, а когда я снова включал аппаратуру, опять словно сумасшедшая начинала бегать по комнате.
И так я по-прежнему ничего не могу сделать или изменить.
— Послушай, — неуверенно сказал я, так только, чтобы успокоить его. — А ведь этот Игорь мог возникнуть в твоем воображении. Поэтому он и казался тебе таким знакомым и близким, да и Аню он так быстро заинтересовал, возможно, тоже поэтому.
— Да? — задумался Петр. — Ерунда! Совершенно антинаучно. Невозможно.
Но, по-видимому, я задел в его душе какую-то струнку. Немного погодя он сказал:
— Я всегда верил в свежесть реакций и наблюдений непрофессионалов. Так ты говоришь, я сам его придумал?
Я не ответил.
Он сделал такое движение, будто собирался включить аппаратуру, чтобы еще раз перенестись на лунную базу. Замер, как виртуоз, готовящийся через мгновение ударить по клавишам.
— Значит, я правильно делаю, что постоянно поддерживаю связь с базой. А начальнику базы с его приземленными знаниями этого не понять. Ох уж мне эти технари.
Он снова сделал паузу и, как бы оправдываясь, слабым голосом добавил:
— Попытаюсь связаться. Ведь наши вымыслы тоже имеют материальную подоплеку, так, может, и их в самом деле можно переносить с помощью моей аппаратуры… Вот была бы сенсация! И какая!
Я распрощался, пообещав наутро вернуться. Но вместо того, чтобы направиться к выходу, вроде бы случайно спустился по широким ступеням в подвальное помещение. Там размещалась лазерная станция.
Роботы не пропустили меня в просторный подземный холл, заполненный неярким красноватым светом.
От пола до потолка вздымался лес лазерных кристаллов. В этот момент, когда я вошел, они начали светиться мерцающим белым пламенем.
Почти ослепленный лазерным светом, я понял — именно сейчас Петр снова переносится на лунную базу, в своей тщетной попытке отыскать истину. В науке и жизни.
Ф. Монд МУСЬЮ ЛАРКС[6] Пер. К. Капнадзе
Старый Диего Моралес прислонил табурет к столбу террасы, уселся поудобнее и, сдвинув сомбреро на лоб, почесал в затылке. Этот жест был мне хорошо знаком и означал, что старик собирается рассказать что-то щекотливое, забористое или из ряда вон выходящее. Затем он наморщил нос, и без того сморщенный, ибо вот уже восемьдесят шесть лет верой и правдой служил своему хозяину, приподнял брови и пошевелил губами. Теперь, чтобы начать, ему оставалось только откашляться, что он и сделал, хотя от этого голос его не стал менее хриплым.
— Да, такие вот дела… — Этими словами неизменно начинались все рассказы. — Чего только на свете не приключается… Взять хотя бы эту непонятную историю с Мусью. Я вам сразу скажу: отродясь в колдунов не верил, да и вы, я думаю, тоже. Но иной раз услышишь такое, что поневоле призадумаешься и, сколько ни ломаешь голову, все одно до конца не разберешься, где правда, а где людские байки. Я, конечно, могу ручаться только за то, что видел собственными глазами или слышал от Лейвы, нашего плотника, да еще от моего дяди Фико, хотя дядиным рассказам, пусть простит меня господь, я не шибко доверяю. Вот насчет сына Эвасио это уж чистая правда, потому как все произошло на моих глазах. Что же касается других случаев, о которых в свое время много судачили, то вы не хуже моего знаете: людям только дай повод, они вам таких небылиц порасскажут… По ночам у нас тут хоть глаз выколи, вот и мерещится всякая чертовщина. Блеснут, к примеру, в кустах глаза дикой кошки или сухой сучок затрещит, а ты уже невесть что думаешь. А если еще и кобыла твоя заупрямится да на дыбы встанет, то у тебя и вовсе душа в пятки уйдет. Это уж как пить дать, ведь в глухую ночь человек больше чутью животного доверяется, чем своим глазам и ушам.
Ну, да ладно, это я так, к слову. Я ведь вам про Мусью хотел рассказать — так его все у нас называли, потому что, когда он появился в наших краях, прошел слушок, будто он из французов. Хоть и много лет прошло с тех пор, а я все помню. Я могу назавтра забыть то, что мне сегодня скажут, но старые времена так просто не забываются. Голод и нужда по брюху ударяют, но память об этом не в брюхе, а в голове остается, и ее уже ничем не стереть. Вы представить не можете, сколько нам пришлось хлебнуть. Война за независимость[7] была тогда в самом разгаре, отец со старшим братом сражались в рядах повстанцев, и нам с матерью и сестренками одним приходилось управляться по хозяйству. Наше маленькое ранчо располагалось неподалеку от Телячьей горы. И как раз там, на вершине этой горы, которую вы сейчас исследуете своими приборами, Мусью построил себе дом.
Я видел, как мимо нашего дома одна за другой проезжали повозки, груженные ящиками и баулами. Их складывали под навес, который сколотил Лейва, а тем временем десятка два мужчин из окрестных хуторов прокладывали дорогу наверх и расчищали вершину горы от деревьев и кустарника, пока она не стала совершенно голой и ровной, словно блюдце. Как только эта работа была закончена, откуда ни возьмись появился Мусью и тут же расплатился с людьми.
Я словно опять вижу его перед собой. Как сейчас помню, подъехал он на рыжем жеребце, и новенькая сбруя так и поскрипывала при каждом его движении. Я посторонился и опустил мешок, в котором нес с поля бататы, на землю. Мусью не отрывал глаз от горы, и я было подумал, что он не заметил меня, как вдруг его конь остановился прямо напротив, и Мусью пристально посмотрел на меня. Я стоял ни жив, ни мертв, но все же успел разглядеть его одежду и широкополую шляпу, надвинутую до самых бровей. Что и говорить, вид у него был внушительный, но больше всего меня поразил его взгляд: хотя поля шляпы и затеняли бритое лицо, глаза Мусью сверкали, будто пара самых ярких светлячков в ночи.
— Эй, паренек! — окликнул он меня.
Голос его показался мне каким-то чудным, никогда я такого не слышал. Наверно, все дело было в его французском выговоре. Заметив, что я оробел, он улыбнулся:
— Ты ведь здешний, не так ли? — И, не дожидаясь ответа, продолжил: — Это и есть Телячья гора?
— Она самая, сеньор, — собравшись с духом, ответил я. — Только лес на ней весь вырубили, потому как, сказывают, там, на верхотуре, будут строить дом.
Он вновь улыбнулся и кивнул. Потом сказал:
— Значит, будем соседями, ведь это я собираюсь жить там, на верхотуре, как ты выражаешься.
И, чуть сдвинув назад шляпу, прибавил:
— Меня зовут мсье Ларкс.
— Очень приятно, а я — Диего, сын Моралеса, к вашим услугам, мусью…
Еще шире улыбнувшись, он достал из кармана сюртука золотую монету и протянул ее мне. Заметьте, не бросил, не швырнул, словно милостыню, а протянул, хотя для этого ему и пришлось сильно нагнуться в седле.
— Возьми и купи себе башмаки, не годится ходить босиком.
Я робко взял монету. Было в этом человеке что-то такое, что заставляло ему подчиниться. После этого Мусью пришпорил своего жеребца и поскакал дальше, а я в растерянности глядел ему вслед, пока он не скрылся за деревом, что росло на повороте дороги. Монетка сияла на моей чумазой ладони, словно солнце среди черных туч. Вообразите себе, целый золотой! Я со всех ног бросился домой, впопыхах забыв мешок с бататами на обочине. Вот так я и познакомился с Мусью.
Прошло несколько дней. Как-то под вечер к нам заглянул плотник Лейва и сообщил, что все ящики Мусью уже перевезли наверх. Для этого понадобилась не одна, а целых две упряжки мулов, потому что, хотя гора и невысока, склон у нее довольно крутой, да и новая дорога была еще плохо утоптана. К тому же Мусью лично руководил перевозкой, внимательно следил, чтобы все было погружено аккуратно и ни один ящик не свалился по дороге. Работа эта заняла почти целую неделю. Начинали с восходом солнца, а когда землю окутывала мгла, Мусью распускал рабочих, садился на своего жеребца и уезжал. Никто не знал, где он ночует, но когда наутро люди возвращались, он уже поджидал их у подножия горы.
Когда вся поклажа была перевезена, Мусью щедро, не торгуясь, расплатился с рабочими.
— Об остальном я позабочусь сам, — сказал он и стал взбираться вверх по склону, а его жеребец шел за ним, как собачонка.
С тех пор в округе только и разговоров было, что о Мусью. Где бы ни собирались люди, они тут же принимались толковать о нем, пересказывая друг другу очередные слухи. Многое, конечно, привирали, но кое-что оказывалось правдой. Всем не давали покоя одни и те же вопросы: что привело этого человека, который своими манерами смахивал самое малое на владельца сахарного завода, в нашу глухомань? И как такой господин сумеет выстроить дом своими руками? И почему он решил поселиться на Телячьей горе, когда вокруг сколько угодно пустующей земли? Догадок и предположений было хоть отбавляй.
Перво-наперво Мусью поставил изгородь, окружив ею всю расчищенную от леса площадку, в центре которой громоздились его ящики. Это я точно знаю, потому как сам наблюдал за ним из нашего патио. Оно располагалось на довольно высоком месте, оттуда хорошо было видно, хотя до вершины горы по прямой корделей[8] четыреста будет. На всю изгородь у Мусью ушло меньше одного дня! Вы, конечно, знаете, крестьяне встают рано. Так вот, когда я вылез из гамака и вышел в патио, солнце еще толькоосветило гребень горы. Я поднял глаза и сразу же приметил Мусью: он стоял на вершине в такой позе, будто копал яму. Потом я увидел, как он ставит кол, прямехонький, как свеча. После этого, отмерив пять или шесть шагов, он воткнул второй кол. Я еще удивился, где он ухитрился нарубить таких прямых и черных, как уголь, кольев, пока не заметил, что Мусью вынимает их из ящика, причем не из самого большого, хотя колья эти на добрые три пяди возвышались над его головой, а росту в Мусью было самое малое шесть футов.
Часа через три все колья были поставлены. Я смотрел и глазам своим не верил: получился круг, а колья все были одной высоты и на одинаковом расстоянии один от другого. Дядя Фико, который на своем веку поставил немало изгородей, только головой покачал, когда пришел вечером к нам и увидел этот круг из кольев, опоясанный десятью рядами проволоки. Один из склонов горы, по которому, как я вам говорил, проложили дорогу, был пологий, зато остальные — почти отвесные, и взобраться по ним, я думаю, не под силу и ящерице. Так для чего же, скажите на милость, строить ограду на краю пропасти? Пошли слухи, что Мусью собирается устроить загон для — скота, но о каком, черт возьми, загоне можно говорить, если там не только лошадям, но и козе негде было разгуляться. И вот что еще любопытно: на восходе солнца и перед закатом эта проволока блестела так, словно была из чистого серебра, даже глазам становилось больно на нее смотреть. Только в одном месте ничего не блестело — там, где был вход. И дядя Фико считал, что здесь Мусью навесит калитку. Но вся штука в том, что никакой калитки так и не появилось.
А теперь посудите сами: какой прок от изгороди, пусть даже такой замечательной, если вместо калитки в ней пустой проем, через который любой может войти и выйти, не спрашивая разрешения? Однако все оказалось не а так просто, как мы думали. И первыми, кто убедился в этом на собственной шкуре, были сыновья Хуаны Лоло, известные на всю округу разбойники. Они промышляли тем, что воровали у бедных крестьян скотину, продавали ее испанцам, а вырученные деньги безнаказанно пропивали в лавке Пепе Иераса.
Прошла неделя или чуть больше с того дня, как Мусью начал строить дом, когда он спустился в лавку за провизией. Жители хутора Бьяхакас от мала до велика высыпали на улицу поглазеть на него. Рассказывают, когда Мусью вошел в лавку, даже мухи перестали жужжать. Один из сыновей Лоло тоже был там и не спускал с Мусью глаз. А тот прямиком направился к Пепе, словно век был с ним знаком, вынул из кармана бумажку и протянул лавочнику.
— Сложите все, что там перечислено, вот сюда, — сказал он и положил на стойку свою переметную суму.
Пепе прочел список и уже хотел возразить, что мешок ячменя не влезет в суму, но Мусью опередил его:
— Все товары вы погрузите на мою лошадь, которую я оставляю здесь. Кстати, ее надо перековать. Чтобы мешок с ячменем не свалился, привяжите его получше к седлу и переметные сумы тоже, а после отпустите лошадь, она сама найдет дорогу. Я не могу ждать, у меня много дел.
Он выложил на стойку десять золотых.
— Этого хватит?
— И еще останется, мусью… — Его имя всем давалось с трудом.
— …Ларкс, — помог чужеземец.
Больше он ничего не сказал и только бросил пристальный взгляд на Тите, сына Хуаны Лоло, который, хоть и сидел у другого конца стойки, прекрасно слышал, как звякнули монеты. Слух у этого бандита был почище, чем у лесного оленя, особенно когда дело касалось денег.
Мусью вышел из лавки, но и после его ухода людям долгое время было как-то не по себе, и даже мухи не сразу снова начали свое круженье.
Я видел его издалека в это утро. Он шел по направлению к горе, двигаясь на удивление быстро, хотя держал руки в карманах. На нем была все та же широкополая шляпа, что и в тот день, когда он дал мне монету, и тот же сюртук, только теперь он был распахнут, и золотая цепочка от часов поблескивала на солнце. Подойдя к подножию горы, Мусью огляделся по сторонам, словно желал убедиться, что его никто не видит. Я притаился в высокой траве за раскидистой сейбой и внимательно следил за каждым его движением, уверенный, что сейчас Мусью полезет вверх по склону. По-моему, он уже сделал несколько шагов по дороге, но в этот момент меня укусил в ногу муравей, и я отвлекся. Когда спустя какую-то секунду я вновь поискал Мусью глазами, на дороге его не оказалось. И тут же на вершине мелькнула и сразу пропала его шляпа. Клянусь вам, это был не сон и не мальчишеские выдумки. За то время, что понадобилось мне, чтобы почесать лодыжку, этот человек успел взобраться на вершину горы! Даже преследуемый собаками заяц, и тот не смог бы взбежать на гору с такой скоростью. Я не стал никому рассказывать об этом случае, потому что меня наверняка посчитали бы обманщиком, а обмана моя матушка, да будет земля ей пухом, не прощала.
В тот же самый день с хутора исчезли все трое сыновей Хуаны Лоло: Тите, Кано и Ремихио. Никого это особенно не удивило, люди наперед знали, что они скоро вернутся, чтобы пропить награбленное. Вернуться-то они вернулись, да не так, как обычно.
Рассказывают, что спустя два дня старая Хуана услыхала в полночь собачий лай на дворе, а затем окрик Ремихио, после чего собаки замолчали. Она зажгла коптилку и встала открыть задвижку, а когда открыла, чуть не упала в обморок: Ремихио и Кано с выпученными от страха глазами волокли под руки Тите. Голова у него свешивалась на грудь, ноги чертили борозды в пыли, а из ушей текли струйки крови.
Оказывается, Тите задумал ограбить Мусью, увидев, как тот доставал из кармана пригоршню золотых монет. Ремихио рассказывал потом, что затея брата сразу пришлась ему не по нутру: он уже был наслышан о Мусью и не желал связываться с таким загадочным человеком, но в конце концов братья уговорили его. Все пройдет без сучка, без задоринки, уверяли они, Мусью живет один, собак у него нет, и поэтому застать его врасплох под покровом ночи — плевое дело. Надо только выследить, где он спит.
Сказано — сделано. Под вечер братья отправились к горе. Подняться на нее можно было только со стороны дороги, которая петляла по склону и приводила к самому входу во владения Мусью. И вот они пошли вверх, а возле последнего поворота свернули в сторону, спрятались за старым раскидистым дубом и стали ждать, пока рассветет.
По словам Ремихио, когда солнце встало из-за горизонта, они увидели, как Мусью вышел из-за груды ящиков. К тому времени он уже поставил шесть опор для дома — таких же прямых и черных, как колья изгороди. Как он их установил в одиночку, одному богу известно. Целый день Мусью занимался тем, что рассматривал большие листы — видать, чертежи дома, — и перетаскивал с места на место ящики, словно выстраивая их в каком-то ему одному ведомом порядке. Он ни разу и не глянул в сторону дуба и за весь день даже не перекусил. Когда смерклось, Мусью разложил между двумя большими и длинными ящиками походную кровать и натянул над ней парусину. Он устроился недалеко от входа, а потому мог заметить братьев, если бы они рискнули пробраться внутрь через проем в изгороди. Оставалось перелезть через проволоку там, где Мусью не увидел бы их из-за ящиков. Лучшее место было как раз напротив дуба, за которым ребята прятались. Братья подождали, пока совсем не стемнеет, и осторожно подобрались к изгороди. Проволока оказалась толстой и без единого шипа. Первым попробовал перелезть Кано. Я говорю «попробовал», потому что дальше этого дело не пошло. Как рассказывал Ремихио, его брат, схватившись за проволоку, тут же отпрыгнул в сторону с таким видом, словно его лягнул взбесившийся мул.
— Она горячая! — прошептал он, как только смог говорить. — Когда я дотронулся до нее, меня всего затрясло. Тут что-то нечисто. Лучше эту чертову проволоку не трогать.
Братья переглянулись: уж не колдун ли Мусью? Поразмыслив, они решили, что колдуны такие не бываг ют. Взять хотя бы знахаря из Бьяхакаса, разве Мусью похож на него? Нет, наверно, это какое-то диковинное изобретение, которое Мусью привез из родных краев.
Успокоив себя такими соображениями, братья снова приободрились и стали думать, что делать дальше. Теперь им не оставалось ничего другого, как попытаться проникнуть внутрь в том месте, где Мусью должен был, как все считали, навесить калитку. Братья решили подкрасться к самому входу и быстро прошмыгнуть мимо спящего Мусью. Если б он и проснулся, они были уверены, что одолеть его, наверняка безоружного, им будет не труднее, чем льву справиться с мышью. Вот только до мышки нашим львам так и не удалось добраться. На этот раз первым шел Тите. Он весь подобрался, как кошка перед прыжком, и рванулся вперед. Ремихио и Кано бросились за ним. Но как только Тите подбежал к входу, он вдруг подскочил на месте и опрокинулся навзничь, увлекая за собой братьев. Потом стал кататься по земле, обхватив руками голову, и ревел точно лягушка-бык. Братья подняли его и потащили домой, до смерти перепугав старую Хуану.
Все это в подробностях стало известно уже после войны.
Кано умер от непонятной заразы, постепенно съевшей ему всю руку — ту самую, которой он дотронулся до проволоки, и никакие снадобья ему не помогли. Тите кое-как оправился, но с тех пор стал глухонемым и почти полоумным.
Наконец Мусью без помех закончил свою стройку. Вы бы видели этот дом! Он был похож на городские дома, только еще длиннее и без всяких галерей и двориков. Когда вы смотрели на него издали, казалось, что стены сделаны из хорошо оструганных досок. Кровля, тоже деревянная, была двускатной, но с разным наклоном: правый скат был почти плоским, а левый — очень крутым и всего вершка на два не доставал до земли, так что с этой стороны, понятно, никаких окон не было. Терраса вдоль всего фасада, со стороны дороги, находилась под отдельной крышей. Лейва подметил еще, что та сторона крыши, что была почти плоской, смотрела точно на восток, а сторона напротив — на запад.
Как-то раз дяде Фико случилось заночевать у нас: разразилась страшная гроза, и он не успел уйти засветло, а в темноте возвращаться было опасно — во-первых, из-за бандитов, которые орудовали по ночам на дорогах, и, вовторых, из-за испанских патрулей — наткнувшись на запоздалого путника, они могли принять его за повстанца, а тогда дело ясное… Поэтому Фико остался у нас и, когда дождь утих, взял гамак и привязал его между столбами на террасе — решил поспать в холодке. Ночью дядя проснулся от непонятного жужжания: казалось, рядом опускается пчелиный рой. Он открыл глаза, прислушался и понял, что странный звук доносится со стороны Телячьей горы. Дядя вылез из гамака, обогнул дом и вышел в патио. Жужжание в самом деле доносилось с горы, откуда тянул легкий ветерок. Но больше всего его поразила крыша над террасой Мусью: она вдруг стала зеленой. Да-да, дядя уверял, что она светилась ярко-зеленым цветом. Луна давно взошла и как раз в этот момент висела, словно огромный шар, точно над крышей террасы. Не знаю, то ли дяде померещилось со страху, то ли в самом деле так было, но только ему показалось, что и луна на какой-то миг стала зеленоватой, как и все вокруг, на что падал ее свет. Но все это, рассказывал нам на следующее утро дядя, длилось так недолго, что, когда он протер глаза, картина уже изменилась: дом Мусью был, как обычно, погружен во мрак, а луна вновь стала серебристой.
Между прочим, дом свой Мусью закончил летом 1895 года. Я хорошо запомнил это, потому что в декабре того же года было сражение при Маль-Тьемпо, неподалеку от Сьенфуэгоса, а через несколько дней Рамонсито, сын Эвасио, покинул родительский дом и примкнул к повстанцам. Эвасио не хотел отпускать сына в ласа, боялся, что у того снова начнутся приступы, хотя Мусью твердо сказал, что их больше никогда не будет… Черт побери, да что же это я! Совсем забыл рассказать вам об этом случае, после которого Мусью стали считать чародеем.
Рамонсито много лет мучили тяжелые припадки какой-то хвори, после которых он долго не мог оправиться. Парень этот был высоким и крепким, как дуб, но вдруг у него ни с того, ни с сего подгибались колени, он валился на землю и начинал биться в судорогах, а на губах у него выступала пена. Эвасио и его жена не знали, чем помочь сыну, брызгали ему в лицо водой до тех пор, пока приступ не проходил. Тогда Рамонсито укладывали в постель, и он засыпал. От этих припадков у бедного паренька все зубы расшатались. Эвасио делал все, что только мог по тем временам: давал ему разные снадобья, отпаивал отварами, — докторов-то ведь не было. Однажды он повел сына в Бьяхакас к знахарю. Тот наплел ему с три короба, сказал, что во всем виноват злой дух, а изгнать его можно козой, черной курицей и чем-то еще. Несчастный Эвасио с великим трудом наскреб денег, чтобы купить козу. Как всякий отец, он готов был на все, лишь бы облегчить страдания сына. Чтобы не тянуть, скажу только, что все оказалось напрасно: не прошло и месяца, как у Рамонсито был новый припадок.
То, о чем я хочу вам рассказать, случилось 15 августа; я хорошо запомнил число, потому что в этот день мне исполнилось двенадцать лет. Утро было уже в разгаре, когда мы вдруг увидели на дороге старого Эвасио, который со всех ног бежал к нашему дому. Со слезами на глазах он попросил дядю Фико помочь ему доставить Рамонсито в Бьяхакас: на рассвете у парня начался припадок, который не проходил до сих пор. Дядя ушел вместе с Эвасио, а вскоре они вернулись с больным, которого несли на самодельных носилках из гамака и двух жердей. Мог ли я, мальчонка, такое пропустить, хотя мать пригрозила мне трепкой? Ну, я и увязался за ними.
Я вам скажу, Рамонсито и правда был плох: руки холодные, лицо бледное, рот перекошен, а на губах зеленоватая пена. Временами он дергался, и тогда из горла у него вырывался хрип.
— Он умирает, Фико, он умирает, — повторял бедный Эвасио.
Я немного обогнал их и уже подходил к знакомому дереву на повороте дороги, как вдруг ноги мои приросли к земле: прямо передо мной, словно поджидая нас, стоял Мусью. Он показался мне еще выше ростом, чем обычно. Скрестив на груди руки, он сурово глядел на нас. Даже Эвасио с дядей запнулись, увидев Мусью. Не возьму в толк, как он ухитрялся угадывать все прежде, чем кто-нибудь успевал раскрыть рот. Мы стояли и смотрели на него.
— Положите его на обочину, а сами отойдите вон к тому дереву. И не подходите, пока я вас не позову, — распорядился он.
Эвасио и Фико молча повиновались. Как я уже говорил, Мусью умел подчинять людей одним своим взглядом. С того места, где мы стояли, нам было видно, как Мусью нагнулся и встал на одно колено. Потом он расстегнул больному рубашку и кончиками пальцев правой руки стал ощупывать ему живот, а левую руку подсунул под голову и, похоже, растирал Рамонсито затылок. Внезапно он повернул паренька на бок, и того сразу же вырвало. Эвасио судорожно сжал в руках сомбреро, глаза старика наполнились слезами. Он сделал несколько шагов вперед, но в этот момент Мусью поднял голову и строго взглянул на Эвасио. Тот так и замер на месте.
Мусью возился с пареньком не меньше четверти часа. В конце он снова положил его на спину и сделал нам знак приблизиться. Потом поднялся на ноги, стряхнул пыль с колен и произнес, а вернее приказал:
— Отнесите его ко мне домой. Да не торопитесь, теперь уже нет нужды спешить.
Мы в суматохе и забыли, что находимся у подножия Телячьей горы, в том самом месте, где начиналась дорога наверх. Мусью зашагал в гору, а дядя с Эвасио опять уложили Рамонсито на носилки и последовали за ним. Вы не поверите, но состояние больного заметно улучшилось. Его больше не сводили судороги, рвоты не было, и даже лицо порозовело.
Я не отставал от взрослых, понимал, что другого случая побывать в гостях у Мусью у меня не будет. Сказать по правде, к Рамонсито я уже потерял интерес, считал, что опасности теперь нет.
Наконец мы подошли к проему в изгороди. Я заметил, что Мусью, перед тем как зайти внутрь, вроде бы невзначай дотронулся рукой до левого кола. Мы поднялись по ступенькам на террасу и остановились перед закрытой дверью. Хозяин распахнул ее и приказал:
— Проходите в комнату и кладите его на стол.
Я оглядел эту комнату: посреди стоял длинный узкий стол с четырьмя стульями. Больше там ничего не было, одни голые стены; в глубине комнаты виднелась дверь, слева — еще одна, но обе были закрыты. Подняв глаза вверх, я не увидел привычных балок: комната была с потолком, что в те времена встречалось редко, не то, что теперь. А в общем-то я был немного разочарован, так как ожидал увидеть здесь чудеса. Но скорее всего они были скрыты от посторонних глаз за теми двумя дверьми.
— Вы оба подождите на террасе, — сказал Мусью, — а мальчик пусть останется, он поможет мне.
Я с гордым видом посмотрел на Эвасио и дядю Фико. Они поспешно вышли, и дверь за ними бесшумно сама затворилась.
— Сними с него башмаки, — распорядился хозяин. Он наклонился над Рамонсито и приподнял ему веко.
Только теперь, разглядев лицо Мусью вблизи, я заметил, что оно какое-то неподвижное, словно восковое. Руки его были очень ловкими и, как бы это сказать… не делали ни одного лишнего движения.
Приоткрыв дальнюю дверь, Мусью быстро проскользнул в соседнюю комнату, и я даже не успел заглянуть внутрь. Стянув с больного ботинки, я поставил их на пол и тут заметил, что пол только на первый взгляд казался деревянным. На самом деле, готов поклясться, деревом там и не пахло. Доски или то, что их заменяло, были уж слишком хорошо подогнаны. По цвету и по рисунку это было вроде бы дерево, но чересчур ровное и гладкое. Из того же материала были сделаны и стены.
Вернулся Мусью, в руках он держал черный аппаратик размером с сигарную коробку; на нем были какие-то буковки и цветные квадратики — синие, зеленые и красные. Я не умел читать, но Лейва учил со мной буквы, и могу ручаться, ни одна из нарисованных на аппаратике букв не была мне знакома.
От коробки отходили две длинные проволочки. Мусью сунул мне одну из них, которая кончалась круглой и плоской бляшкой, похожей на большую монету. На конце второй проволочки, которую держал Мусью, была прикреплена толстая черная трубочка, смахивавшая на сигару, только покороче.
— Возьми конец и прижми его к ступне левой ноги. Смотри только не коснись круглой части.
— Хорошо, мусью. Так?
— Именно так, — похвалил он меня и, приподняв больному голову, приложил к его затылку черную трубочку-сигару.
Потом он нажал кнопку на коробочке и уставился на разноцветные квадратики, которые тут же замигали. Когда он повернул какую-то ручку и Рамонсито дернулся, я решил, что у него начинается новый припадок, но Мусью успокоил меня:
— Не бойся, все идет, как надо.
А сам не сводил глаз с квадратов, которые становились все ярче и ярче. Теперь Рамонсито трясся, точно в ознобе. Выждав какое-то время, Мусью нажал на кнопку, и квадратики постепенно померкли.
— Вот и все, — сказал он мне.
Затем скрутил обе проволочки, отнес аппарат в соседнюю комнату и тут же вернулся.
— Позови взрослых.
Когда Эвасио с дядей вошли в комнату, Рамонсито уже открыл глаза, но лицо его было еще бледным. Ему помогли сесть.
— Пусть встает на ноги. Не беспокойтесь, больше с ним такое не повторится. Не кормите его два часа, а после пусть ест, сколько влезет.
От волнения Эвасио не мог слова вымолвить и только хлопал глазами, глядя то на сына, то на Мусью. Наконец он с трудом выдавил:
— Мусью… Я…
— Не нужно меня благодарить, приятель. Забирайте своего парня, а то мать, небось, уж вся извелась. И утрите слезы, вам надо радоваться, а не плакать.
Но Эвасио не мог сдержаться и разрыдался, как ребенок. Что же вы хотите, каким бы твердым ни было сердце мужчины, бывает, и оно размягчается, что твое масло на солнцепеке.
Мусью проводил нас до выхода и, подойдя к изгороди, снова дотронулся до того же кола. Эвасио и дядя вели Рамонсито под руки — он был еще очень слаб. Прощаясь, старый Эвасио протянул Мусью руку, но тот сделал вид, что не заметил этого.
— Спасибо, Мусью, большое спасибо, — повторял старик. — Если я когда-нибудь вам понадоблюсь, только кликните, я все для вас сделаю.
Мусью улыбнулся в ответ и кивнул. Мы медленно спустились с горы и направились к дому Эвасио, где нас радостно встретило все его семейство.
В тот же вечер к нам зашел Лейва и долго беседовал с дядей Фико. Потом они вызвали меня на террасу, и я рассказал им все, что делал при мне Мусью. После этого дядя сказал плотнику:
— Послушай, Лейва, а ведь дом-то у Мусью не из досок. Он только кажется деревянным, но это не дерево, а что-то другое. А изгородь? Ты бы ее видел! Ты ведь знаешь, я кое-что в этом деле смыслю. Разрази меня гром, но это не настоящая изгородь. Колья не из дерева, и проволока к ним не приколочена. Я приметил, что она пропущена сквозь колья. Нет, эта изгородь — вовсе не изгородь. А калитка? Почему он ее не сделал?
— А знаешь, Фико, мне вот что на ум пришло: если эти доски — не доски и ограда — не ограда, если дом только с виду похож на настоящий дом, если Мусью смог спасти Рамонсито, когда парень одной ногой был уже на том свете… Что же тогда получается? Кто такой Мусью, я спрашиваю? Кто он? Живет один на горе, дружбу ни с кем не водит, ничем не занимается… Не знаю, Фико, но только все это очень чудно. Никогда не встречал такого странного человека.
Так они толковали больше часа и в конце концов сошлись на том, что Мусью, видно, знаменитый чародей, который по какой-то причине бежал с родины и теперь скрывается в наших краях.
Слухи о чудесном излечении Рамонсито разошлись по всей округе, словно пламя по сухой соломе, и скоро знахарь из Бьяхакаса растерял свою клиентуру. Куда ему было тягаться с Мусью! Вот кто действительно хорошо лечил да вдобавок ничего не брал за это, а наоборот, всегда советовал тем, кто приносил ему курицу или овощи, отдать их беднякам, которые в этом на самом деле нуждались. И называл имена таких людей.
И вот прошел этот год, наступил следующий — 1896-й. В феврале прибыл Вейлер,[9] а в апреле вышел приказ о переселении. Мы должны были отправляться в Матагуа. Всех крестьян — мужчин, женщин, детей — испанские солдаты заставляли покидать родные дома и сгоняли в города и поселки, надеясь так лишить повстанцев поддержки. В этот тяжелый, печальный год умерло много народу, в том числе моя матушка: через несколько дней после того, как мы переехали в поселок, там вспыхнула эпидемия, и она заразилась, а лекарств у нас не было. Вот если бы Мусью был там… Но он к тому времени уехал… Или погиб — это так и осталось тайной.
Помню, накануне этих событий, я рано утром собрался за дровами, как вдруг возле нашего дома появились семеро солдат, и их командир зачитал нам приказ. В нем говорилось, что мы должны собрать свои пожитки и перебраться в Матагуа. Если мы не уйдем до полудня, нас всех расстреляют. Мать тут же собрала кое-какие вещи, и мы отправились в путь. По дороге мы нагнали семейство Эвасио и дальше шли вместе. Через два часа мы уже были в поселке, где, к счастью, жила невестка дяди Фико. В ее доме мы и разместились, а вскоре к нам присоединился и дядя. Кое-кто из наших соседей ушел в леса, но мать на это не отважилась из-за моих сестренок, да и я был еще совсем мальчишка…
Так вот всех нас и переселили. Всех, кроме Мусью. Говорят, в ту ночь погибло не меньше пятидесяти солдат. Все подробности мы узнали на следующий день от одного из тех семи солдат, что приходили к нам домой. Он остался в живых, потому что был трусоват и сказался больным, когда солдаты получили приказ окружить Телячью гору.
По словам того испанца, из нашей деревни они сразу направились к горе, чтобы зачитать приказ хозяину дома, что виднелся на вершине. Солдаты были новобранцами и не знали, кто там живет. И вот отряд стал подниматься гуськом в гору вместе со своим командиром, сержантом. У входа тот остановился. Вдалеке виднелась высокая фигура Мусью: скрестив руки на груди, в широкополой шляпе, надвинутой по самые брови, он неподвижно стоял на террасе, словно давно поджидал гостей. Солдат рассказывал, что сержант несколько раз пытался пройти внутрь изгороди, но его будто что-то удерживало. А у самого солдата волосы вдруг встали дыбом, и даже воздух показался ему каким-то странным. В конце концов сержант громким голосом прочел приказ из-за ограды, но Мусью и ухом не повел. И только спустя какое-то время, почти не шевеля губами, сказал неожиданно громко:
— Я не уйду отсюда раньше полуночи.
И больше ничего не прибавил.
— Подумайте хорошенько, ведь это приказ, и если вы ему не подчинитесь, мы будем вынуждены расстрелять вас на месте, — крикнул сержант.
— Я сказал, что до полуночи отсюда не уйду.
Испанец не стал тратить время на уговоры, он приказал своим людям построиться, зарядить ружья и взять их наизготовку.
— Последний раз предупреждаю: покиньте немедленно дом или я прикажу открыть огонь! — Сказав это, сержант отошел в сторону, и семь винтовок нацелилось на Мусью.
— Делайте что хотите.
— Огонь! — скомандовал испанец.
Послушайте, залп из стольких ружей с расстояния в пять или шесть корделей разнесет в клочья даже быка. Но, как рассказывал солдат, Мусью и глазом не моргнул, а куда попали пули, одному богу известно. Во всяком случае, следов от них не было заметно ни на террасе, ни на фасаде дома.
Сержант повторил приказ, он решил, что все дело в малоопытных стрелках, но на десятом залпе солдаты перестали целиться. Тогда он выхватил пистолет, и сам стал стрелять и палил до тех пор, пока у него не кончились заряды. Но только попусту извел патроны.
Капитан, которому он доложил обо всем, изругал его на чем свет стоит и не поверил ни единому слову, но солдаты подтвердили рассказ сержанта. Капитан помрачнел и задумался, а потом сказал адъютанту:
— Подождем, пока вернутся люди, которые переселяют крестьян. В девять вечера соберите всех и выдайте им двойной запас патронов. Будем окружать гору. Если этот человек не спустится ровно в двенадцать, мы пойдем на штурм и тогда посмотрим, что может один против двухсот.
Как я уже говорил, наш знакомец солдат смекнул, что дело принимает скверный оборот, и прикинулся больным. Его послали присматривать за отрядными лошадьми.
Гора была взята в кольцо. Капитан и пятьдесят хорошо вооруженных солдат взобрались на вершину. Солдат рассказывал, что с того места, где он находился, ему был хорошо слышен голос капитана, который кричал Мусью, чтобы тот выходил, но ответа не дождался. Дом был погружен во мрак и казался брошенным.
В Матагуа уже знали об окружении. На всякий случай тамошний гарнизон находился в полной боевой готовности. Жители поселка и крестьяне-переселенцы с волнением ждали, что будет: никто не ложился спать, и все смотрели в сторону горы. Наконец дядя Фико глянул на свои часы:
— Двенадцать.
Не успел он это сказать, как над вершиной взметнулось белое, ослепительное, как солнце, пламя. Земля задрожала, поднялся страшный ветер, сметавший все на своем пути. Я успел заметить, как от горы отделилась маленькая светящаяся точка, она устремилась ввысь и тут же растаяла в звездном небе.
От испанского капитана и его отряда не осталось даже следа. Многие из тех, кто стоял у подножия горы, погибли при взрыве, те же, кто видел пламя вблизи, ослепли на всю жизнь. Наш солдат спасся чудом: как только увидел вспышку, упал ничком за колодезным срубом и прижался к земле.
Всю ночь до рассвета в поселок свозили раненых и трупы погибших. Говорят, кое-кто умер просто от страха. Еще три дня светилась вершина горы, и над ней, как над вулканом, клубился красноватый дым. Люди долго потом обходили это место стороной и не решались подняться на вершину.
Диего умолк и, приподняв брови, внимательно посмотрел на меня. Потом сказал:
— Уж не знаю, что вы подумаете обо всем этом и поверите ли старику. Одно вам скажу: неужели я в свои восемьдесят шесть лет стану обманывать людей, а тем более вас, ученого человека да еще мужа моей внучки?
Я замотал головой.
— Вы сами поднимались на гору, — продолжал старик, — и бродили там целое утро. Я знаю, на вершине не осталось и следа от того, что было когда-то, — одни голые камни, на которых даже сорная трава не растет. Скажите, нашли вы там что-нибудь, кроме камней, которыми набили свой рюкзак?
— Да, — ответил я, глядя в усталые глаза старого Диего. — Я обнаружил там повышенный уровень радиации.
Радмило Анджелкович ИСКРА[10] Пер. С. Мещерякова
Жизнь предполагает богатство красок, и только зима с ее белизной пытается оспорить это. Почти все живые существа тогда сливаются со снежным покровом и в стремительном беге ускользают от взгляда. Резче выделяются тени и очертания холмов, и все кажется заманчивым и привлекательным рядом с хмурым небом, готовящимся к завтрашнему снегопаду. Лишь иногда порыв ветра, вечного спутника холодов, оголит красновато-бурый утес или сорвет белый полог с застывших ветвей чернолесья.
На вершине небольшой горы обнажился громадный камень-предатель, и для человека в белом не было уже укрытия. Впрочем, улегшись на краю уступа и положив рядом большой белый ранец, он не придавал этому значения. Уверенный в том, что за ним некому наблюдать, человек внимательно следил в бинокль за тем, что происходило по другую сторону долины.
— Похоже, и здесь все кончено. Остались только два самца и самка. Да и они долго не протянут… — вполголоса ворчал он сквозь густую заиндевевшую бороду и прислушивался, не раздастся ли тихий голос в наушниках, спрятанных под его белым кожаным капюшоном. — Все же надо дождаться конца, хоть это, по-видимому, и бессмысленно…
Расчеты, сделанные на Земле, оказались неточными. Видно, вкралась ошибка, и экспедиция на созвездие Каравида после двенадцатилетнего ожидания могла собираться домой. Наблюдения откладываются до другого случая. А ведь все говорило в пользу теоретических предпосылок. И возраст планеты типа Г-3, и уровень развития жизни, и поведение наиболее совершенных ее представителей — все подходило…
Человек разочарованно наблюдал, как три существа жмутся друг к другу, стараясь укрыться от неумолимого холода под могучей елью.
Ангел, так звали человека, не принадлежал к числу тех наемников, которых обычно именуют покорителями планет. Он прибыл сюда с верой в гипотезу профессора Милиана, согласно которой в движении стад гоминидов к снежному северу планеты таится неодолимое стремление жизни к зарождению сознания. Двадцать шесть исследовательских пятерок все двенадцать лет неотступно сопровождали стада в их походе к своей голгофе. И каждый раз надежды откладывались до следующего года, до следующей зимы… Согласно теории, борьба за выживание обусловливала пробуждение мысли.
— Клинт, не знаю, скоро ли конец, — вновь проговорил Ангел. — А я-то надеялся, что именно нашей группе повезет…
— Может, шанс и был, — донеслось из наушников. — У остальных все кончилось еще три дня назад. Все группы вернулись, ждут только нас…
— Есть ли вести о судьбе программы?
— Есть, но тебя они не обрадуют. Компании закрыли ее финансирование и потребовали эксплуатации планеты в соответствии с договором…
— Это несправедливо! — Ангел возвысил голос. — Они… так близко…
За последние четыре недели, что он сопровождал стадо, его отношение к этим существам изменилось. Чтобы как-то различать их, он дал им клички. Он сознавал, что перестал видеть в этих гоминидах просто животных, чем мысленно нарушил Кодекс. Кодекс запрещал не только говорить, но и думать о присутствии сознания до Провозглашения…
— К черту всякие запреты! Да они же… — в ярости пробормотал Ангел. — Нет-нет, Клинт, это я не тебе. Так, беседую сам с собой, чтобы отвлечься.
Лохматый был вожаком с начала переселения. Еще на границе джунглей Ангел выделил его по упорству, с которым тот принуждал своим соплеменников отправиться в неведомое. В стаде тогда насчитывалось почти две сотни самцов, самок и молодняка. Их тела покрывала редкая светло-голубая шерсть, и исследователь всякий раз ежился, представляя, что их ожидает.
Второго самца он прозвал Растяпой и лишь позже отказался от мысли, что он будет одной из первых жертв. Растяпе просто везло. Когда группа стала сокращаться, когда первые, чаще всего молодые, животные, падая, оставались лежать на снегу, он, держась в стороне, сумел избежать их судьбы и, приспособившись отрывать коренья, даже не прикасался к мясу павших.
Был такой случай. Во время охоты на животное, похожее на серну, Растяпа сильно отстал от остальных. Однако серна, обманув преследователей, бросилась назад, в паническом бегстве налетела на одиноко бредущего самца и сломала себе о него шею. Стадо получило пищу, и как признание за этот подвиг Лохматый заставил сородичей несколько дней не бросать пострадавшего от удара Растяпу, пока тот не стал на ноги.
Сейчас в сухом логове под сосной Растяпа, похрюкивая, жался к Косе, которая сердито отталкивала его. Эта самка с самого начала привлекла к себе внимание Ангела. В ней иногда явно проступало что-то человеческое. Теперь же на неподвижной покрытой редкой шерстью морде только и было, что неизменно тревожные блестящие глаза. Прежде, когда стадо было большим, за Косою труднее было уследить — она быстро двигалась впереди. Генетики же требовали всех их держать в поле зрения, подробно описывать каждое изменение, регистрировать обстоятельства их смерти, их страдания, возвращения. От этого года, последнего года пребывания на планете Г-3 в созвездии Каравида, ожидали…
Почти с облегчением проводил он взглядом последнюю большую группу, в страхе повернувшую назад, к теплым краям. Пятнадцать оставшихся, среди которых были Лохматый, Растяпа и Коса, вчера, обезумев от голода, напали на полярного мамонта. Прежде чем гигант победно удалился с поля боя, белая пустыня обагрилась кровью. Лишь Лохматый отведал мяса погибших сородичей.
Ангел пережил их поражение, как свое собственное. Он не раз невольно хватался за бластер, чтобы дать стаду шанс выжить. Но Кодекс удержал его, и человек убил животное лишь позже, из мести, стыдясь пробудившихся чувств к гоминидам.
Ангел не предполагал, что Лохматый и Растяпа могут повздорить. Между тем это произошло и так неожиданно, что он даже не заметил, по какому поводу. Когда человек стал взволнованно всматриваться, борьба уже была в полном разгаре. Два голубых тела взметали вихри снега. Лохматый, казалось, был удивлен нападением и, пока недоумевал, получил несколько сокрушительных ударов, а потом, оступившись, упал в снег. Это остановило Растяпу, и он потерял преимущество.
— Клинт, Клинт! — закричал Ангел. — Они дерутся, дерутся насмерть!..
— Кто дерется? — Голос в наушниках был спокойным и близким. — Ты же говорил, что они не могут даже стоять…
— Да, говорил, но…
— Твой Лохматый напал на Растяпу?
— Нет, наоборот… Не пойму, но, кажется, Растяпа нарочно валял дурака, а теперь побеждает…
Окуляры запотели от возбужденного дыхания, и пока Ангел лихорадочно протирал их, битва в долине возобновилась. Лохматый поднялся и, кинувшись на Растяпу, вонзил клыки ему в грудь. Сцепившись и шатаясь, самцы отходили к деревьям. За ними тянулся кровавый, чернеющий на снегу след. Это была борьба не на жизнь, а на смерть.
— Клинт, Лохматый теснит его… — мрачно сообщил Ангел и подумал, что так уж устроен человек, что почти всегда становится на сторону слабого. Ему очень не хотелось победы Лохматого: такому не нужно сознания, он достаточно силен, чтобы прожить и зверем. — Клинт, это не должен быть Лохматый!
— Теперь все равно, дружище, — отрезвил голос в наушниках. — Завтра уже не будет никого.
Растяпа обеими лапами отталкивал от горла челюсти врага, сам пытаясь укусить его. Когда он разодрал Лохматому ухо, Ангел радостно вскрикнул. Крупное животное взревело от боли и отбросило противника на ствол полусухой сосны. Толстый сук хрустнул под тяжелым телом.
В маленьких глазах Лохматого боль сменилась яростью, и он вразвалку двинулся на Растяпу, беспомощно хватавшему ртом воздух. Вожак уже собрался было издать победный рык, но жертва вдруг схватила сломанный сук и обрушила его на череп врага. На этот раз Растяпа не колебался. Он одержимо бил оглушенного противника, пока тот не перестал двигаться, а затем лег и перегрыз ему горло.
Человек на склоне горы, забыв обо всем, тяжело дышал, как будто сам участвовал в расправе.
— Клинт, это произошло… — выдохнул он в микрофон.
— Что там опять, черт побери, произошло? — послышался нетерпеливый голос в наушниках.
— Да сознание проявилось, дружище! Сознание!
— Подожди!.. Включаю запись… — Голос Клинта задрожал. — Вот теперь можно! Говори отчетливо! А ты уверен, Ангел, ты в самом деле уверен?
— Да, Растяпа схватил сук и ударил им Лохматого.
— Такое могут и животные! Случайно!
— Это было не случайно. Он колотил его до смерти! А потом перегрыз горло…
— Ну вот видишь… — Вопреки чувствам, переполнявшим товарища, Клинт казался разочарованным.
— Да нет, совершенно точно… Вот он снова берет сук и протягивает его Косе…
Ангел был убежден, что стал свидетелем первого проявления сознания. Его смущало лишь, что поводом к этому послужило насилие.
Тем временем Коса вплотную подошла к Растяпе. Она смотрела на него с недоверием. В стаде не было случаев, чтобы побеждали слабые. Особенно такого вожака, как Лохматый. Измученный самец, вероятно, и сам не ожидавший такого исхода, тяжело дышал и протягивал ей сук, будто пытался что-то объяснить. После короткого замешательства Kocа взяла его и начала разглядывать.
— Клинт, она держит сук и рассматривает его! — Ангела охватывало веселое возбуждение. — Кто бы мог подумать, что Растяпа окажется таким умницей? А я еще так прозвал его!
Когда самка подняла дубину над головой, Ангел понял, что это значит. Он бросился вниз, предостерегающе высоко подняв руки. Глухой удар и треск черепа слились с его обезумевшим криком:
— Не-е-е-т!.. Не его!..
Опершись на дубину, Коса в первый раз в жизни смотрела на человека. Сначала она ошеломленно отступила на несколько шагов, а потом вновь подняла свое оружие.
— Почему ты его убила?! Почему?..
— Гр-р-р…
Злобное рычание подействовало отрезвляюще. С кем это он говорит? Кому пытается что-то объяснить? Разве одного убийства достаточно, чтобы говорить о проблеске сознания? Но было ли это убийством? Голос в наушниках перебил его мысли:
— Алло, Ангел, что там у тебя происходит?.. Ты что, с ума сошел? Ты не смеешь…
Подозрение Клинта окончательно привело его в чувство. Ангел глубоко вздохнул, чтобы успокоить сердцебиение. Он даже не пытался отвечать. Другие вопросы разрывали его. Кто перед ним? Последний экземпляр стада? Или первый представитель новой расы? Действительно ли ему довелось присутствовать при рождении сознания? Единственная ли это возможность? Вопросы, вопросы, вопросы… Сколько их роилось в голове…
Шипение в наушниках требовало ответа, и Ангел неожиданно решился:
— Погибли два последних самца. Самка в нескольких метрах от меня с дубиной в руках…
— Как, ты позволил ей себя увидеть?.. — Голос Клинта зазвучал растерянно. — Ты обратился к ней как к человеку?! Ты что, забыл о Кодексе?..
— Да брось ты это, Клинт. Если бы ты сам это увидел…
Вместо новых обвинений в наушниках послышалось прерывистое дыхание.
Ангел впервые так близко видел странное создание с планеты Г-3 в созвездии Каравида. Редкий светло-голубой волос с белым подшерстком не скрывал явных признаков истощения. Кое-где шерсть свалялась. Только глаза ее сохраняли дикость и порывистость животного.
— Ты сказал, что у нее дубина в руках? — послышалось снова в наушниках.
— Не суди строго. Руки я упомянул случайно, просто сорвалось…
— Но, Ангел, ты сказал, что у нее дубина в ру… в лапах… Понимаешь ли ты, что это значит?
— Понимаю. Она должна будет испробовать ее на мне, если хочет мяса на обратный путь. Ты бы видел, как у нее торчат ребра…
— Прекрати шутки! Нужна ли тебе помощь?
Ангел несколько мгновений молчал, с интересом наблюдая за Косой. Затем, усмехнувшись, проговорил:
— Да, конечно. Пожалуйста, поспеши. Я по горло сыт этой программой…
Ангел облегченно вздохнул, когда в наушниках что-то щелкнуло. Его партнер прервал связь, чтобы сесть в лендер, на котором они патрулировали свой участок, пока не вышли на стадо. Наверняка он не мог далеко отойти от него — ведь на планете с видами на разумную жизнь существуют и крупные опасные звери, отнюдь не склонные последовать за человеком в его развитии. Но Клинту надо еще забросить в лендер разбросанные вещи: он не страдал от избытка аккуратности. Затем он проверит координаты и сообщит маршрут на базу. Скажет ли он им? Нет, не скажет. Это отняло бы время. Пожалуй, просто подключится к радиосистеме лендера и двинется сюда. Значит, его не будет на связи минут двадцать.
Мысли Ангела прервала Коса. Она двинулась на него. Человек осторожно отступил, неотрывно глядя ей в глаза. Она тихо заворчала и ответила взглядом — животное не способно на это.
Ангел попытался разобраться в том, что за последние десять минут спровоцировало его на ошибки. Смерть Лохматого — завершение драки между животными; гибель Растяпы — уже настоящее убийство, на которое он отреагировал как сторонний наблюдатель. Ведь совершено оно было дубиной, не вязавшейся с лапами, клыками и мозгом животного. Ангел поднял руку и указал пальцем на Косу:
— Ты это сделала, и я знаю…
Самка рванулась и угрожающе взмахнула своим оружием. Он нарочито спокойно отступил на несколько шагов. Надо было выиграть время до появления Клинта и отвести ее к багажу. Коса угрюмо двигалась вперед, но он знал, что за угрюмостью чаще всего кроется безмерный страх. Сейчас Ангел был уверен: перед ним существо с проблесками сознания, правда, не осознающее этого.
Прочитав в ее глазах желание отступить, Ангел остановился, а потом сделал шаг навстречу. Дубинка поднялась вновь, недовольное рычание повторилось. Коса снова включилась в игру. Они продолжали свою кадриль на снегу — человек и полуживотное, для которого это был танец жизни и смерти.
— Все ли в порядке, дружище? Я двинулся… — Это Клинт вышел на связь, в наушниках послышался резкий шум мотора.
— Клинт. — обратился он к своему далекому собеседнику. — Вероятно, она нападет на меня. Хорошо бы тебе поспешить…
— Прекрати игру. Ангел, — Клинт как всегда мыслил четко и без эмоций. — Усыпи ее и все!
— Сумка осталась на горе. Если она нападет, придется убивать ее. Ты меня слышишь? Это будет не отстрел, а убийство. Я этого не хочу. Мне всю жизнь будет сниться, что я убил новорожденного…
— Брось патетику… Я буду через полчаса. Уж как-нибудь продержись. Неужели не найдешь общий язык с женщиной? Ха-ха-ха!
За это он и любил Клинта. В самой тяжелой ситуации он не терял чувства юмора. Улыбка промелькнула на лице Ангела. Это будет самый популярный анекдот на всю Галактику — известный всем Ангел по прозвищу Женский Следопыт едва успел сбежать от одной рассерженной особы.
Она сопровождала его упорно, хотя и не приближалась ни на шаг. Угроза в ее глазах постепенно сменялась любопытством, и когда возле вершины Ангел намеренно остановился, Коса замерла. Человек протянул руку — она отшатнулась. Наступил критический момент. Надо было изменить правила игры: переход через каменную глыбу мог спровоцировать ее на повторный удар.
Ангел сам придумал па для необычного балета. Он поднял ногу, будто собирался вскочить на камень, — и опустил. Снова поднял — и снова опустил. И так опять и опять. Почти загипнотизированная. Коса раскачивалась в том же ритме. Он перескочил через камень и схватил сумку. Торопливо открывая ее на ходу, он вновь приблизился к камню и оказался нос к носу с самкой.
Она зарычала и в паническом страхе замахнулась дубинкой. Ангела спасла лишь ее неловкость. Времени для второго удара у нее уже не было — белый дым из газового пистолета рванулся к ее морде. Коса упала и покатилась по склону.
— Все в порядке, Клинт! Все в порядке, — успокоил Ангел друга, который должен был слышать шум борьбы. — Я усыпил ее, можешь не торопиться…
— Ты в поле моего визора, я все видел… Я мигом!
В наступившей тишине послышался шум лендера. Проваливаясь в глубокий снег. Ангел спустился к Косе. Она лежала раскинувшись, похожая на настоящую женщину. Плотно сжатые губы скрыли мощные клыки, изпод лапы проглядывали маленькие крепкие груди.
— Э нет, мой дорогой, — проворчал он себе в бороду. — Сначала пожалеешь, потом влюбишься… Так еще станешь отцом новой расы…
Гудение лендера приближалось. Ангел поднял Косу, чтобы перенести на ровное место. Ее легкость не удивила его: голод в снежной пустыне сделал свое дело. Он нес ее осторожно, словно ребенка.
— Э-э-й, дружище, — позвал его Клинт.
Ангел со своим бесценным грузом остановился перед лендером.
— Это и есть та малышка, из-за которой ты потерял голову? — весело засмеялся Клинт.
Ангел молчал.
— Послушай, не перегнул ли ты палку? Уже и то, что ты сделал, потребует кучу дурацких объяснений и обоснований… — Клинт понял замысел Ангела и неожиданно уперся. — Нет-нет, я не возьму ее в лендер. И не потому что она грязное животное, а потому что Кодекс категорически запрещает…
— Не мели вздор! Разве она похожа на животное?
— Похожа, — не задумываясь, ответил Клинт. — Может, дни, проведенные в одиночестве, помутили тебе рассудок, но я-то здоров. Ты сам просил не сменять тебя, и я сделал глупость, что согласился…
— Присмотрись внимательно! Это начало чего-то великого, начало начал цивилизации, подобной нашей. Через год, через пять нам все это покажется сном, а они начнут мучительно пробиваться из мрака…
— Это не довод! Альтернативы нет! — почти прокричал Клинт. — Если я уступлю, мы серьезно нарушим Кодекс, и компании с легкостью опровергнут наши доказательства… Планета так или иначе достанется им…
— Ты же знаешь, что это уже не животное…
— Не знаю.
— Ты слышал мое сообщение, что там внизу трупы самцов! Их черепа разбиты ударами дубины, на ней сохранились следы крови…
— Может ли она подтвердить это, сделать заявление?..
Ангел замолчал. Его партнер прикрылся инструкциями и предписаниями, и здесь нечего было сказать. Он бережно опустил Косу на снег, достал спальный мешок и укрыл им самку.
— Тогда я остаюсь с ней, — Ангел сказал это резко и решительно.
Словно только и дожидаясь этого, Клинт ударил его в челюсть. Ангел пошатнулся и упал, но холодный снег сразу же рассеял головокружение. Он вскочил и приготовился к драке.
— Ты поедешь со мной, даже если бы мне пришлось избить тебя до полусмерти! А она — останется! — крикнул Клинт и бросился на него.
Ангел был слабее и хорошо знал это. Только ярость позволяла ему сопротивляться на равных. Они душили друг друга, спотыкались, падали, не замечая, что Коса пришла в себя и с возрастающим интересом следит за борьбой.
Теперь Клинт перехватил инициативу. Его кулаки все чаще отбрасывали противника в снег. Ангел почувствовал, что проигрывает, проигрывает не только Клинту (в глубине души он сознавал, что тот желает ему добра), проигрывает планете Г-3, проигрывает компаниям, ледяной пустыне, готовой поглотить свою добычу и роковым образом остановить эволюцию…
Краем глаза он заметил, что Коса наблюдает за их борьбой. Чем он, Ангел, лучше Растяпы, неизвестно из-за чего начавшего драку не на жизнь, а на смерть с тем, кто сильнее? И тут он, осознал и свою последнюю ошибку. В Растяпе сознание родилось не тогда, когда в его лапах — нет, в руках — оказалась дубина, а много раньше (но и здесь слабость проложила путь к разуму), когда захотел вернуться, чтобы спасти своих сородичей. Лохматый не мог этого понять, он был силен и должен был либо продолжить путь, либо умереть. Так и сук оказался в руках, да, именно в руках Растяпы, и Лохматый умер. Так…
Ангел крикнул, высоко подняв дубину. Завыла и Коса. Клинт ждал своей участи. Но Ангел был человеком, он должен был найти другое решение, и оружие упало в снег.
— Иди, Клинт, ты меня уже не одолеешь… — Он еле переводил дух, но знал, что нападение не повторится.
— Ты сумасшедший! Ты в самом деле сумасшедший! Разве она стоит этого? — бормотал, отступая, его товарищ.
— Не в ней дело, дружище, не в ней… Речь идет о многих поколениях… Что принесет им цивилизация? Я готов на все, чтобы они сами прошли свой путь.
— Послушай, так ничего не получится… — в Клинте начало пробуждаться сочувствие.
— Получится, — упрямо и устало возразил Ангел.
— Нет! Твою помощь провозгласят активной, и все будет впустую.
Спотыкаясь, Ангел двинулся к ранцу, поднял его и протянул товарищу.
— Хорошо. Если я не могу помочь ей как человек человеку, возьми мои вещи, пусть это будет помощью животного животному…
— Тогда и одежду, — грубо прервал его Клинт.
— Ты даешь мне шанс? — Глаза Ангела заискрились.
— Он ничтожен… Как и у нее. Но попробуй, а я буду контролировать вас. Если лишенный всего ты приведешь ее на юг, я готов сообщить, что она вернулась сама.
Ежась, Ангел начал медленно раздеваться. Не понимая, что происходит, Коса стояла в стороне, глядя, как существо рядом с ней расстается со своей шкурой. Оно было белым, безволосым, каким бывают иногда детеныши. Клинт собрал одежду, взял ранец и без слов удалился к лендеру. Вскоре послышался шум мотора, и аппарат отделился от земли. Коса испуганно заворчала.
— Пойдем, малышка, — нежно обратился к ней человек. — Из-за тебя стоит и померзнуть.
Лендер кружил вдали. Впереди лежал бескрайний белый простор, серые нависшие облака обещали снегопад. Уверенный, что Коса следует за ним. Ангел спешил к ночлегу. Он хорошо запомнил место, где лежал убитый мамонт. Коса клыками разорвала кожу на смерзшемся животе зверя, и они пролезли в еще теплую утробу. О первом ночлеге можно было не беспокоиться.
На следующий день Клинт с тревогой ожидал, выползут ли они из своего необычного убежища, и обрадовался, увидев их. Накануне вечером он сообщил обо всем руководителям экспедиции и был весьма удивлен, что большинство исследователей поддержали его товарища. К утру даже противники загорелись страстью болельщиков. Нашлись и такие, кто упрекал Клинта в чрезмерной приверженности Кодексу. Сошлись на том, что Ангела и его подопечную не следует трогать еще один день.
Клинт следил за двумя точками на снегу, которые медленно, но неотступно пробивались вперед. Голубая самка упорно следовала за своим голым другом, и наблюдатель понял, что расчет его товарища был отнюдь не так наивен. Ангел двигался к малому горному массиву, где наверняка были пещеры. И мешок за его плечами — должно быть, он сплел его из кишок мамонта — был полон. Антрополог по профессии, он сумеет в этот вечер добыть огонь…
Действительно, он нашел пещеру. В мешке было не только мясо, но и клочья шкуры. Клинт увеличил до максимума силу визира и увидел, как Ангел сооружает себе одежду, а Коса внимательно наблюдает за его работой. Много позже в короткой звездной ночи вспыхнуло пламя костра. Человек выиграл битву.
Ранним утром Клинт забрал их, причем Ангел даже упирался, а Косу пришлось снова усыпить. На взлете, пока товарищ одевался, Клинт молчал, но потом не выдержал.
— Все-таки ты молодчина, Ангел! Знаешь, ведь ты победил! И на базе все поддержали тебя. И придумали, как удовлетворить Старика и не нарушить Кодекс…
Клинт не закрывал рта, пока не оказались над саванной. Сели ближе к джунглям. Коса стала пробуждаться, лишь когда ее вынесли из лендера и уложили на мягкую траву. В испуге она вскочила и попятилась от людей. Здесь уже не было товарища ее двухдневной полярной зимы, но вокруг раскинулся край, который покинуло месяц назад ее стадо.
Коса уходила не оглядываясь, все быстрее и быстрее, пока не перешла на бег. Она спешила к знакомой долине, где остались ее сородичи, не решившиеся испытать судьбу. Встреча с человеком уже подернулась туманом, и только воспоминание о теплом трепещущем желтом языке, согревшем ее однажды полярной ночью, цепко сохранилось в памяти.
Пока Клинт готовил машину к полету, Ангел наблюдал за Косой в бинокль.
— Тебе что, жаль твоей малышки? — пошутил Клинт.
— Кого? — Сейчас он уже думал не о ней, а о всех тех, кто останется жить на этой планете. До сих пор он знал, как на небесных телах зарождается жизнь, но разум, разум мог зародиться только в борьбе и был неотделим от существ, в которых укоренился.
Коса убегала все дальше и дальше. Но что это остановило ее? Настроив бинокль на предельное приближение, человек понял — она увидела своего сородича. Сильный, лохматый, он примостился на дереве. Коса медленно приблизилась и сорвала плод со склоненной ветви.
Самец с интересом посмотрел на Косу. Она протянула ему плод и сделала шаг назад. Он соскочил с дерева…
Клинт был уже в лендере, когда услышал безудержный смех товарища.
— Что тебя так рассмешило? — зараженный его примером, заулыбался Клинт.
Обретя дар речи, Ангел показал в сторону долины.
— Я был прав! Прав! Вот и еще доказательство…
— Что там она опять натворила?
— Она просто предложила самцу яблоко, чтобы он сошел на землю.
Анна Зегерс СКАЗАНИЯ О НЕЗЕМНОМ[11] Пер. Е. Факторовича
1
Самое тяжелое осталось позади. По крайней мере он думал, что преодолел уже главные тяготы. Так всегда кажется поначалу. В действительности ты перенес лишь первые испытания — бледную тень того, что непременно ждет тебя впереди.
Он перевел дух. Приземлился он точно в запланированном месте, внутри городских стен. Приборами, которыми его оснастили, он владел, как своими пальцами: достаточно одного движения, и он свяжется с друзьями; они ответят ему, а если потребуется, помогут.
Ни малейшего беспокойства — таков уж он был по природе — он не ощущал, убежденный, что ему повезет. Перед отлетом друзья сказали ему: «Если тебе повезет, ты будешь первым. А если нет, мы будем знать, что не удалось, и завершим начатое тобой. Это мы тебе обещаем».
Друзья считали, что слова эти подстегнут его. И они его подстегнули. Хотя он сам, конечно, не стал бы свидетелем следующего, удачного полета… Но мысль о том, что он может погибнуть и ничего больше не увидеть, он, в предчувствии будущего триумфа, отметал.
Он шел вперед без страха, раскрепощенно, как будто меры предосторожности и необходимость связи с друзьями были им забыты. Сначала он шел вдоль берега реки, потом поднялся в горы. Перед ним, окруженная холмами, лежала долина, посреди которой возвышался довольно крутой холм. А вокруг него вырос небольшой город. Речушка-змейка проникала в город под городской стеной и, вынырнув под противоположной, исчезала где-то на равнине.
Стоящий в сторожевой башне наблюдатель мог охватить взглядом значительную часть равнины. Он следил как за главным торным путем, так и за ответвлявшейся от него дорогой через подъемный мост, ведущей прямо в город. Наблюдатель мог поднимать и опускать мост по собственному усмотрению, на то имелись полномочия от самого бургграфа: времена были неспокойные.
Наблюдатель не заметил, что кто-то приземлился. Зачем ему следить за голым откосом внутри городских стен? На прошлой неделе овечьи отары сожрали там последнюю траву. После неоднократных прошений и солидного откупного бургграфу горожане получили разрешение пасти своих овец на лугах за городскими стенами.
Пришелец поднялся на откос. До него донесся едва слышный шелест. Остановился, прислушался. Почувствовал какой-то незнакомый, острый запах. Какая зелень вокруг! Как накатываются ее волны!
Он слегка отпрянул — светло-зеленые волны уже обнимали его колени. А другие — средней величины, темно-зеленые, с пенистыми гребешками скоро достигнут его плеч. Нагибаться смысла нет. Первая же большая зеленая волна поглотит его с головой. Он был так поражен, что не чувствовал даже страха. Волны колыхались над его головой, но не обрушивались на него, и самого течения их не чувствовалось. Они как будто вросли корнями в землю. Этот лес не похож на те, которые он знал. Но это был лес. На его родине стволы у деревьев высокие, без сучьев, а в кронах — грозди сочных плодов. Он не знал ни здешних кустов, ни молодой поросли, ни этой тонкой, все время подрагивающей травы, ни этих белых, желтых и голубых цветов, внимательные глаза которых выглядывали из мягких волн травы, не знал он и белопенных цветов в кронах деревьев. Когда он углубился в лес, такой пахучий и шумный, он увидел в листве светлый блеск и, откинув голову, — небесную голубизну; тут он понял, что все это сияние происходит от единственного солнца, которое у них здесь имеется. Выйдя из леса, он увидел это самое солнце, повисшее над долиной.
Оказалось, что то, что он поначалу принял за вершину холма, пронзившего серо-голубой воздух, — это вроде строения, высеченного в вершине, с зубчатыми стенами и многочисленными башнями. Чтобы наблюдать за небом и землей, предположил он.
Неожиданно из города по направлению к лесу потянулся людской поток. Скоро он узнает, какие они, здешние. Приближались они группами и поодиночке. Спрятавшись в кустах, он наблюдал за тем, как они медленно спускаются по ступеням, высеченным в склоне. Одежда на них длинная, тяжелая. Фигуры их показались ему тщедушными. И все же, насколько он мог разобраться, они чем-то походили на него. Только вот вид у них какой-то нездоровый. Может быть, они поражены болезнью или их что-то гнетет; быть может, им неудобно в этих одеяниях или их преследует телесный недуг. Роста они были не маленького, но и не особенно высокого. В их телосложении, в их походке нет ничего чуждого ему — удивляла лишь непонятная слабость, угнетенность, бесцветность. Но для него как раз безопаснее, что они таковы.
Он уже почти привык к тому месту, где находился. Решил не искать никаких встреч, но и не избегать их. Передал друзьям: «Посадка прошла успешно». Еще несколько минут назад первый сеанс связи казался ему крайне важным: он как бы станет залогом связи непрерывной.» А сейчас эта связь стала обыкновенной обязанностью, обусловленной для него всем тем, что он здесь увидит и услышит.
Не успел он снова укрыться в кустах, как увидел, что кто-то быстро, скачкообразно приближается к нему. Он встал в полный рост и расправил плечи.
Они чуть не столкнулись. Это была девушка. Голова ее туго повязана белым платком. Чтобы смотреть ему в лицо, ей пришлось запрокинуть голову.
Ему никогда прежде не доводилось видеть таких глаз: прозрачных, бездонных. И никогда еще он не видел на чьем-нибудь лице такой одухотворенности. Девушка хотела сказать ему что-то, но только пошевелила губами. Одним пальцем потрогала его рукав. Коснувшись гладкой, как стекло, упругой материи, отдернула руку, будто обожглась. Уголки ее губ вздрогнули еще несколько раз, пока она не взяла себя в руки и не проговорила:
— Я точно знала, что ты придешь! Как быстро ты долетел до нас! Я видела собственными глазами, как ты явился с неба.
Он был донельзя удивлен:
— Ты? Меня?
— Да, — сказала девушка. — Даже мой отец не поверил мне, хотя он тоже ждет тебя, ждет, ждет. Так же, как я, и даже еще сильнее. А его жена — это моя мачеха, сказала, будто то, что я видела, — это всего лишь падающая звезда.
— Это так выглядело отсюда?
— Да нет. Для меня нет. Крылья они крылья и есть.
Он погладил ее ладонью по голове, теплой, как у птицы.
— Как же зовут тебя, девушка?
— Мария.
— А как ты думаешь, кто я такой?
— Один из семи, стоящих перед творцом. Может быть, ты Михаэль?
— Называй меня, как хочешь, называй Михаэлем. А кто эти семь? И кто такой творец?
— Меня-то ты не обманешь, — проговорила девушка, хитро усмехнувшись. Она все еще была бледна и не могла унять дрожи. — Я знаю, ты оттуда, «сверху». Я знаю, ты — от него.
— Ни в коем случае не говори никому в городе, что я здесь, — сказал он.
— Никому, — пообещала девушка. — Кроме моего отца. Ему — да. Уж очень он ждал тебя. Было бы несправедливостью не сказать ему, что ты наконец пришел. Ему так нелегко было ждать. Над ним часто смеялись. Пойдем, я покажу тебе место, где ты сможешь спокойно отлежаться, пока я не поведу тебя к нему.
Она шла по лесу впереди него, то поднимаясь на холм, то спускаясь. Потом остановилась:
— Вот наш хлев. Сейчас им не пользуются. Овцы на летнем пастбище. Я принесу тебе куртку отца. А после мы пойдем к нему в мастерскую. Мой отец работает день и ночь. Ты пойдешь со мной?
— Конечно, — сказал он.
Так ему удалось не только удачно приземлиться, но и установить контакт с разумными существами. Все произошло само собой. И как легко все это получилось! Девушка казалась ему давно знакомой, будто эта встреча не была их первой встречей. Но что его поразило еще больше, так это то, что, увидев его, девушка вовсе не испугалась. Она словно ждала прилета гостей с чужих звезд. Как хорошо понимали они друг друга! Он старался не упустить ни слова, ни звука из языка, на котором здесь говорили. Пусть остальные принимают его, скажем, за путешественника, прибывшего сюда из дальних стран после долгого пути.
Отослал депешу: «Все идет хорошо. Я остаюсь». И тотчас же получил ответ: «Ждем в условленном месте».
Он вышел из пустого хлева на воздух. На небо, покрытое звездами, смотрел без тоски по родине. Найдя точку, которую искал, отвел взгляд от неба и обратил его на равнину. Она простиралась от городских стен до далекой цепи холмов. Отыскал глазами отару овец, о которой говорила девушка; сейчас овцы привязаны к колышкам.
Михаэль узнал ее шаги. При виде его девушка снова затрепетала от радости. Она принесла ему отцову куртку. Она едва доставала ему до бедер, напоминая накидку. Девушка вертелась вокруг него с грацией кошки, оглядывала его и так и эдак, говоря:
— Ты точь-в-точь как рыцарь, только еще лучше.
Если днем его поразил свет солнца, оживлявший все сущее, то сейчас он был очарован светом одной-единственной луны. Все вокруг серебрилось. Он сказал:
— Мария, вон там, наверху, — это моя родная звезда.
Ее губы дрогнули, прежде чем она произнесла:
— А я думала, ты из Семизвездья.
— Почему?
— Потому, что вас семь. И у каждого своя звезда.
— Семь? Но почему? В этот раз нас двадцать три.
— Вот вас сколько! — удивилась она. — А мой отец и на сей раз мне не поверил. Можешь себе представить? Сказал мне: «Если незнакомец хочет говорить со мной, приведи его в мастерскую затемно».
Девушка провела его мимо каменной стены какого-то строения к боковой двери низкого деревянного дома. Сквозь щели виднелся свет, слышалось постукивание молотка. Ему пришлось пригнуться, переступая вслед за нею порог. Высоким, дрожащим от волнения голосом она проговорила:
— Вот он.
Невысокого роста мужчина, стоявший перед верстаком, повернулся. Его халат и борода были покрыты пылью. Он посмотрел на пришельца своими темными, зеленоватыми глазами без удивления, без недоверия, но напряженно-испытывающе. Спокойно проговорил:
— Я Маттиас, мастер. Моя дочь рассказала мне о вас. Она говорит, что вы — издалека. И что зовут вас Михаэль. — И с вымученной улыбкой добавил: — Ребенку показалось, будто вы с неба.
Лицо у мастера такое же болезненно-озабоченное, как — по представлению пришельца — у всех здешних жителей. Передвигался мастер с трудом, слегка хромая. Он принес вина, разлил по кружкам, сказал:
— Добро пожаловать, Михаэль, — и поднял кружку в честь гостя, а тот медленно, смакуя, отпил — первый глоток после своего приземления. Сказал мастеру:
— Твоя дочь права. Я прибыл издалека. Тебе тоже не приходилось еще видеть существо, которое явилось бы из такой дали. Да, она права — с другой звезды.
Бородатый мужчина слушал его, опустив глаза. Молчал, думал. Он привык к необычным гостям из дальних стран, говорящим на самых странных языках. Привлеченные его славой, сюда приходили и мастера, и их ученики. Особенно поражала всех его последняя работа — алтарь, изображающий тайную вечерю. Вокруг этого произведения разгорались жаркие споры, ибо его вера звучала здесь отчетливо, как проповедь.
Многие решительные мужчины были готовы сплотиться вокруг него, чтобы защитить свои права. Они чувствовали, что его творчество выражает их думы.
Он давно уже ждал, каких-то важных перемен. Может быть, визита этого высокого и гордого гостя, стоящего перед ним. Речь его звучала странно, употреблял он слишком уж необычные слова. Без сомнения, человек он ученый. Язык этих ученых и схоластов чаще всего полон выражений и оборотов, проникнуть в смысл которых простому смертному дано лишь после долгих размышлений о их потаенном смысле. При общении же с бургтрафом необходима осторожность. И с ним, и с его союзниками в городе и ближайших крепостях. Достаточно знака, поданного из высокой башни замка, как весть через окрестные деревни полетит во все крепости. От одного союзника бургграфа к другим. И тогда они пошлют сюда своих солдат…
Маттиас объяснил гостю эту опасность. Тот напряженно слушал. Он понимал отдельные слова, но не мог ухватить их сути. Потом, тщательно выбирая выражения, произнес речь, показавшуюся Маттиасу темной и загадочной.
— Более тысячи лет назад, считая по вашему Солнцу, была высажена наша первая группа. Тогда шли непрекращающиеся войны. Когда позднее приземлялись другие, снова горели многие города. У нас решили, что войны ведутся между земледельцами и кочевниками. Оседлые земледельцы, очевидно, победили, потому что города были отстроены заново.
Маттиас подумал: «Он, наверно, говорит о нашествии гуннов».
Гость продолжал:
— Мы наблюдали за вами; мы знали, что у вас до сих пор ведутся войны. Но знание и проникновение в смысл — вещи разные.
Маттиас ответил ему с живостью:
— Я хочу говорить с тобой в открытую. Ты сам сказал: «Знать и проникнуть в смысл — вещи разные». Я знаю: бог меня никогда не оставит. Но когда я проникну в смысл, все может выглядеть по-другому, чем я, слабый человек, могу себе представить. Сегодня, когда испытание уже так близко, — может быть, войска уже движутся на нас, — я предчувствую, как это будет: Он меня не оставит никогда. Если я действительно верю в него. Он до последних мгновений будет жить в моих мыслях. И под пытками, и в час смерти. Он меня не оставит, а это значит, что я не оставлю его. Ты меня понимаешь?
Оба они забыли о девушке. По лицу Марии скользили то тень надежды, то тень разочарования. Неужели отец так и не поверил ей? Ведь Михаэль — ангел господень. Он сам сказал: «Я прилетел со звезд».
В голосе отца все еще звучало сомнение. Она не знала никого, кто был бы предан богу больше, чем отец. Он почти никогда не покидал этой мастерской и большой соседней комнаты, где стояли его готовые работы. Здесь же он принимал студентов, школяров, гостей из других городов, приходивших за советом, посланцев от крестьян и горожан. В последнее время чаще всего речь шла о той опасности, которая грозит им, если войско бургграфов придет сюда раньше крестьянского войска. Но Мария никак не могла понять, чего же отец боится сейчас, когда перед ним стоит Михаэль, ангел.
Отец проговорил:
— Пойди к матери, Мария, пусть накрывает на стол. У нас гость.
Михаэль последовал за мастером. Но вдруг, удивленный, остановился. Его глаза не отрываясь смотрели на шпалеру, отделявшую маленькую мастерскую от большой комнаты. В растерянности глядел он на мягкие краски ткани, прошитой золотыми нитями: здесь была изображена сцена охоты под троном богородицы. Мастер Маттиас объяснил:
— Эту картину тридцать девушек вышивали три года.
Михаэль спросил пораженный:
— Тридцать девушек? Три года? Зачем? Для чего?
А про себя подумал: «Слова я понимаю. Их звучание. Но не понимаю, что они означают».
Он не мог оторвать глаз от шпалеры. Медленно оживало перед ним светлое лицо, развевающиеся платья, цветы. Прошло немало времени, пока перед его взором из голубых, золотых и зеленых красок встала вся картина. Наконец он увидел ее, но словно неживую, или нет — она жила, но ее как бы не было. Никогда на его звезде никому не пришло бы в голову сотворить такую вещь. У них не было ни времени, ни сил для создания подобных полотен.
Вслед за Маттиасом прошел он в большую мастерскую. Мария быстро зажгла две свечи перед алтарем из букового дерева, ждавшим здесь своего завершения. Мастер с гордостью взглянул на потрясенное лицо гостя. Глаза Михаэля светились от необъяснимого счастья. И мастер радостно вздохнул: в этот миг, когда на лице гостя отразилось его творение, он забыл все страдания и страхи последних дней.
Михаэль осторожно ощупал голову Иоанна, покоившуюся на груди бога, складки его наряда, лоб и рот, дотронулся до руки Иуды, протянувшейся за солонкой. Отступил немного, спросил:
— Что это?
Мастер Маттиас ответил:
— Тайная вечеря — мое последнее творение. Я подарю его церкви святого Иоанна.
— Но как же можно создать такое? — спросил пораженный гость.
— Бог вложил в меня дар, — спокойно объяснил мастер. — А учился я с детских лет.
— Но зачем? Какая в этом польза?
— Я тебя не понимаю. Это делается во славу бога, для радости и поучения нашей общины. Иисус, Иоанн, Иуда — их лица будут узнаны. Кое-кто будет уязвлен. Так пусть будут уязвлены те, кто всегда приносил нам горести: нечестные дела, подлые приказы, подати и вымогательства всякого рода, предательства и слежку. Они поймут наконец, кто такой Иуда, постоянно предающий бога.
Через едва заметную дверь в боковой стене вошла худощавая женщина, поставила на стол дымящиеся миски.
Это была жена мастера. За едой Михаэль рассматривал резной алтарь.
— Да, это лучшее, что он создал, — произнесла женщина. — А у вас есть такие мастера?
— Нет-нет, — сказал Михаэль, — у нас нет ни одного мастера, способного создать что-то подобное. Да и ремесла у нас такого нет.
— А что же у вас есть?
— В этом роде — ничего. Ничего похожего на резное дерево, ничего, что могло бы сравниться с этим полотном. Я уже говорил мастеру: мы используем силу ума и рук, чтобы создавать движущиеся машины, мосты, плотины, все, что полезно. Вот так мы и нашли путь с нашей звезды на вашу.
Женщина пожала плечами:
— Ну да, конечно, и плотины, и мосты, и плуги, и бороны, и тому подобные вещи нужны и здесь. Но все, кроме врагов и завистников, почитают моего мужа Маттиаса за то, что его искусство приносит людям счастье даже в несчастьи. Да и вы сами глаз от алтаря отвести не можете. Скажите, пожалуйста, кто вас к нам послал?
— Мы здесь не первые, кого прислали с нашей звезды с тех пор, как мы узнали, что здесь есть жизнь, — я об этом говорил с вашим мужем.
Жена Маттиаса сказала:
— Я думала, вы из другой мастерской. Нам давно известно, что в других местах тоже есть мастерские, большие мастера и замечательные творения искусства.
— То, чем занимается мастер Маттиас, вы называете искусством? Нет, этого на нашей планете нет. А поэтому и нет подобных мастерских. Нам наши знания и сила нужны для других дел. В том числе — чтобы прилететь к вам.
Девушка подумала: «Я права. Он прилетел к нам с неба, он прилетел!» А Маттиас подумал: «Как наивна моя дочь! Как может ангел быть родом с такой ничтожной звезды, где об искусстве даже не слышали». Вслух же сказал:
— Будет лучше, если ты уйдешь до прихода моих учеников. Я должен их подготовить к твоему появлению.
Мария потянула гостя за собой. Его глаза до последней секунды не отрывались от резного алтаря.
Небо посерело, звезды пропали. Впервые он ощутил пусть не тоску по дому, но какое-то отчуждение, будто ему после всего увиденного грозит что-то неизвестное. Он послал весть своим товарищам: «Не уходите с условленного места встречи».
Мария сказала:
— Ты расскажешь на небе, на что способен мой отец!
— Конечно, — ответил Михаэль, — но объясни ты мне, как это у него получается? Скажи мне, почему он не оставляет своей работы, зная, какая близится беда?
— Оставить работу? — воскликнула Мария. — Ему? Сейчас? Сам бог велел ему завершить алтарь собственными руками!
— Я предчувствовал, — сказал Михарль, — что на вашей планете творятся страшные вещи. Что вы никак не отвыкнете от убийств и кровопролитий. Но я не знал, что, несмотря на это, вы создаете вещи, подобные тем, над которыми работает твой отец.
— Слышишь, Михаэль, звучат колокола. Мне нужно возвращаться. Мы живем в постоянном страхе. Сейчас начнется молебен в церкви. Пусть бог отвратит от нас беду!
Как хорошо пахнет пшеничная мякина, на которой Мария устроила ему постель! Он спал долго и крепко и не получил срочного послания товарищей: «Немедленно уходим. На город движется войско. Скоро он будет предан огню».
Когда Михаэль очнулся от сна и явился к мастеру Маттиасу, там уже царило возбуждение. Собрались ученики, друзья, священник. Звонарь утверждал, что с церковной колокольни уже можно различить столб пыли — это там, где равнина упирается в цепь дальних холмов. Один из молодых парней заметил:
— А может, это и наши, они всегда двигались быстрее.
Звонарь проговорил:
— Пойду на колокольню. И как только узнаю, кто идет, дам вам знать.
Мастер Маттиас молчал и все больше мрачнел. Поэтому священник сказал:
— Будем надеяться, что это наши.
Когда Михаэль вернулся в лес, кто-то вдруг положил ему руку на плечо, а еще кто-то взял за руку: это были друзья, высадившиеся с ним.
— Что ты медлишь? Нам нужно срочно возвращаться.
— Нет, — сказал Михаэль. — Я не могу, не хочу. Здесь мастер Маттиас, здесь его дочь Мария. Пусть я тут совсем недавно, но сердцем я с ними. Я не оставлю их без помощи.
— Мы тебя не понимаем. Что это значит «сердцем я с ними?» Что они за люди, этот Маттиас и Мария? И какое тебе дело до их врагов? Перед отлетом мы поклялись никого здесь не трогать. Никого не убивать. Ничего не сжигать. Мы только должны разведать, что происходит на этой звезде. Разведка — вот твоя задача.
Михаэль тихо проговорил:
— Позвольте мне узнать только то, что произойдет сегодня.
— Хорошо! Еще несколько часов.
Перед отлетом сюда Михаэль и представить себе не мог, что когда-нибудь окажется в положении разумного существа, защищающегося с оружием в руках.
Как спасти мастера Маттиаса? Разве поможет ему теперь сила, с помощью которой он создавал людей из дерева?
По городу, от одного к другому, побежал слух, что столб пыли поднят не войсками союзников, а объединенными войсками бургтрафов. Был опущен подъемный мост, и часть населения устремилась к церкви, словно это убежище неприкасаемо. Вот уже дома занялись пламенем. Все, что было не из камня, сгорело дотла. Сгорела и мастерская мастера Маттиаса со всем, что в ней находилось, с его последним, великим произведением.
Солдаты, сначала заломив ему руки, а потом связав, заставили Маттиаса наблюдать, как рушится дом и гибнет его творение. Он впился глазами в огонь и даже не заметил, что рядом с ним съежившись сидит Мария. С кошачьей ловкостью пробралась она сквозь цепь вооруженных солдат и приникла к отцовским коленям. Она смотрела вовсе не на пламя, а на застывшее в смертельной гримасе лицо отца. Она прижалась к нему так, как последний листок жмется к ветви.
Михаэль и его друзья на лету подхватили их и вынесли за городскую стену, к месту старта…
Они все еще были под впечатлением человеческих страданий, хотя и улетели далеко, очень далеко от бушующей смерти.
Лишь тут Михаэль догадался развязать руки Маттиаса. Мария сидела на полу, прижавшись к ногам отца, как незадолго до этого на площади перед домом. Время от времени им старались влить в рот питательную жидкость. Маттиас не обращал внимания на окружающих. Он, застывший, но живой, сидел с закрытыми глазами. Марию била дрожь. Ее лихорадило. Врач экипажа бился над ними день и ночь.
Они пересели на воздушный остров. Мария не чувствовала ни удивления, ни страха, она только закрыла глаза. Перенести эти переживания ей оказалось не по силам. И вскоре она перестала дрожать. Как говорят на Земле, врач сделал все, на что способна медицинская наука. Однако Мария умерла. Тогда встал вопрос: набальзамировать ли маленький труп, чтобы показать дома земное существо, или немедленно предать космосу?
Михаэль, упрямый, как всегда, сумел настоять на своем: Мария принадлежит ему, и ему претит сама мысль о том, что на нее будут смотреть чьи-то чужие жадные глаза. Она уйдет в космос…
Разведчики, вернувшиеся на родину, были торжественно встречены: отмечалось их удачное приземление на звезде Земля и счастливое возвращение.
…Врач не подпускал к мастеру Маттиасу никого из толпы любопытствующих. И к Михаэлю, который казался ему переутомленным, он тоже никого не допускал.
Мастер Маттиас тяжело дышал; он остался жив, он жил, но не двигался и не говорил ни слова. Тщетно старался Михаэль, всегда находившийся поблизости, заставить его заговорить, ожить. Да и самого Михаэля, к удивлению его друзей, никак не могли заставить написать подробный отчет о чужой планете. Остальные описали свои впечатления: кровь, огонь, война; это мало чем отличалось от отчетов разведчиков с прошлых кораблей. Они не могли ничего рассказать о произведении Маттиаса — к их появлению оно уже сгорело. И церковь, которую беженцы сочли неприкасаемым убежищем, тоже сгорела на их глазах, оставив лишь каменный остов.
Любимый ученик Михаэля, который вместе со многими другими готовил полет на Землю, часто приходил к своему бывшему учителю, хотя тот и оставался замкнутым и безучастным. И даже когда ученику удавалось выжать из Михаэля несколько слов, смысл их оставался неясен.
Зато Михаэлю удалось вернуть мастеру Маттиасу дар речи. Он почти совсем отвык от человеческого языка, но понял наконец, что Маттиас пожелал перед смертью вырезать что-то. Михаэль достал для него дерево той породы, что росли здесь. Он прогонял всех, кто хотел посмотреть вблизи, как ведет себя человеческое существо.
Вскоре Михаэль догадался, что возникнет из дерева: Мария, да, она. Он, угадывая ее, хрупкую, с ей одной присущим наклоном головы, представлял себе ее девичье лицо, молящее и в то же время благодарное. Мастер Маттиас вышел из состояния оцепенения. Правда, и дерево, и инструмент были для него непривычны. Но его потребность придать форму тому, что видело воображение, была столь сильной, что вскоре волосы мастера были покрыты древесной пылью, как и в мастерской на Земле.
Для остальных его занятие было утомительным, непонятным царапанием по дереву. Может быть, один любимый ученик Михаэля догадался, что существо с Земли ощущает потребность выражать себя таким, именно таким образом, до последнего своего вздоха.
Маттиас и Михаэль обменивались время от времени одинаково тяжелыми взглядами, кивали друг другу.
Мастер Маттиас попросил:
— Похороните меня вместе с моим ребенком.
Скульптура была еще далеко не завершена, когда во время работы жизнь оставила старого мастера…
Он отнюдь не хотел, чтобы после смерти его сожгли. Он не желал расставаться с деревянной фигуркой девушки, которую не могли разглядеть чужеземцы…
Когда давным-давно умер не только Михаэль, но и его любимый ученик, однажды решили открыть гроб Маттиаса. Стали изучать скелет и очень удивились тому, что он почти не отличался от их собственных. Деревянная болванка, выщербленная там и сям, уцелела. Стали гадать, что могло бы из этого получиться.
Молодой, очень талантливый звездолетчик — его уже отобрали в числе разведчиков для следующего полета — подолгу сидел задумавшись над куском дерева. Касался пальцами. Пытался мысленно проникнуть в него. Возникла бы из этого фигурка девушки, или он ошибается, как утверждают друзья, он решить не мог.
Ему хотелось полететь тем же путем, что и Михаэль. Он выполнит все, что ему поручат, и узнает, есть ли на той звезде другие куски дерева, из которых как бы возникают живые существа (он не сомневался, что они есть), и для чего они служат. Он сказал себе, что резчик не закончил работы потому, что ему помешала смерть.
Несколько лет все, и в их числе молодой звездолетчик, были заняты подготовкой к новому полету. Все было точно просчитано, условия полета и безопасность-обеспечены…
2
Еще перед посадкой они установили, что старые сведения были точными, более того — с тех пор мало что изменилось. Город, где высадились их предшественники, был сожжен дотла. Люди сновали по пожарищу: может, они хотели что-то восстановить. Разведчики пролетели над тлеющими полями, над горящими или наполовину сгоревшими городами и селами, в которых, как муравьи в разворошенных муравейниках, копошились люди.
Обнаружили несколько новых, широких, наезженных дорог, по которым в разные стороны двигались жители, странным образом одинаково одетые и сильно вооруженные. Они брали с полей все, что могло оказаться съедобным. Часть из них, верхом и пешком, довольно быстро двигалась в сторону большого города с множеством башен. Молодой разведчик выбрал местом приземления этот город. На городских стенах стояли вооруженные люди. «Жаль мне их, — подумалось ему, — они, наверно, и не представляют, как многочисленно вражеское войско, которое накатывается на них». Он не понимал, почему войско это двигалось сюда. Как и того, почему город решил защищаться.
Молодой разведчик дал, как и было условлено, первую весть о себе. Он здоров, самочувствие хорошее.
Сначала он без всякой цели блуждал по кривым, запутанным улочкам, каких не было на его родине. Пристанище для себя он нашел быстро. Одна из вывесок гласила: «У трех лебедей». Наверно, это что-то вроде ночлежки.
Многие жители города показались ему какими-то неспокойными и, похоже, бездомными — они как будто искали, где укрыться.
Он сообщил друзьям о своем местопребывании, передал, что все в порядке. Он и впрямь чувствовал себя очень хорошо. Никогда прежде он не ощущал себя таким сильным, предприимчивым, готовым к любым неожиданностям.
Хозяйка «Трех лебедей», догадавшись, что гость прибыл издалека и наверняка проголодался, послала к нему служанку с напитками и разными яствами. Он наблюдал, как эта девушка расставляла на столе посуду. Она, темноволосая и светлоглазая, понравилась ему. На лице ее отражалось какое-то недоверие, временами оно мрачнело, но, слушая его слова, странные для ее слуха, она несколько раз рассмеялась. И когда он взял руку девушки в свою и принялся долго благодарить, она не отпрянула.
Только закрылась за ней дверь, как воздух города огласился могучими звуками, каких ему никогда не доводилось слышать. Это не было ни сигналом, ни тревогой, но и то и другое эти звуки выражали. Это было громким, потрясающим сердца призывом, обращенным ко всем и каждому.
Ему вспомнились скудные записи того из его предшественников, которого на Земле звали Михаэлем. Он описывал такой же грозный и вместе с тем вселяющий надежду двойной звук, который доносился из какой-то башни. А в этом городе он лился из многих башен. Люди бежали на этот звук, оставляя работу и, наверно, оставляя свои горести и радости.
Он спустился по узкой винтовой лестнице. Вдруг, когда он уже вышел на улицу, рядом оказалась служанка. Взяла его за рукав и пошла с ним рядом. Он не понимал, что она ему объясняет. Но почувствовал: она умоляет взять ее с собой. Лицо у девушки застенчивое, хотя иногда оно казалось ему хитроватым, даже задорным. И скорее он следовал за застенчиво-задорной девушкой, чем она за ним.
Они остановились перед массивными воротами, сквозь которые входили внутрь все новые горожане. Он содрогнулся, услышав звуки необычайной силы, хотя и не понимал, что их рождает; доносились они из башни, высившейся над зданием. Девушка пробормотала что-то, покрыла голову косынкой. Ей хотелось поскорее затеряться вместе с ним в толпе. Ему это было только на руку.
В просторном помещении, куда они попали, комнат не было, оно делилось на части высокими колоннами. Его взгляд приковала к себе фигура у одной из колонн. Женщина в ниспадающем складками платье с ребенком на руках. Она с улыбкой смотрит на дитя, а оно — на него, незнакомца. В голове его мелькнуло воспоминание: однажды он уже видел нечто, что было похоже или могло стать похожим на эту вещь.
Провожатая ненадолго оставила его. Став на колени, она сделала рукой движение, которого он не понял. И сразу вернулась к нему. Тут же началось многоголосое гудение, то мрачное, то мягкое. Он чувствовал, что снова дрожит всем телом. Это возбуждало еще сильнее, чем звуки поутру. Наверно, это человеческие голоса. На одной из лестниц он увидел несколько рядов мальчиков в черно-белых одеждах, и как раз они, мальчики, и запевали: звуки вылетали из их округлившихся ртов то громко, то тихо, то они пели все вместе, то только некоторые из них. Он подумал: чего только эти дети Земли не умеют! И вдруг с той прямотой, с которой привык думать, сказал себе: то, чему нас учили, рассказывая о звезде Земля, — неправда. Да, сверху я видел, что поля их опустошены, города полуразрушены, близится новая война и она скоро достигнет этого города, который погибнет в крови и огне — да, обо всем этом прежние разведчики сообщали. Но о многом они умолчали. О том, что здесь существуют прекрасные вещи, о которых у нас нет понятия. Ужасное и прекрасное — сосуществует; как это может быть, я пока не знаю.
Девушка дернула его за рукав, предлагая незаметно удалиться. Он не понимал, почему вид у нее то гордый, то испуганный, почему она закрывает свое красивое лицо…
Вечером она принесла ему ужин в комнату и осталась надолго. Она понравилась ему.
— Как тебя зовут? — спросила она.
Он ответил наугад:
— Мельхиор, — он слышал, как хозяйка произнесла это слово на кухне.
— А тебя?
— Катрин.
Следующий день он провел в одиночестве, блуждая по улицам города. Вдруг рядом с ним оказались два его товарища. Они посоветовали ему немедленно оставить город вместе с ними. Вражеское войско все ближе и ближе, а население ни о чем не догадывается. Мельхиор ответил, что намерен остаться. Как только начнется штурм, он незаметно пробьется к ним. Друзья назвали его безрассудным упрямцем. Они говорили, что могут оставить его в другом, безопасном месте. В городе, которому ничто не угрожает, он сможет собрать сведения такой же важности…
Он повел их по улицам города. Провел в церковь. Показал женщину из живого камня. Спросил:
— Разве у нас есть такое?
— Нет. К чему оно? Да и вообще, скоро здесь все будет разрушено.
Он остался при своем решении провести в этом городе хотя бы будущую ночь.
…Пестрые фонари, песни и крики манили их к себе. Катрин проводила его на базарную площадь. В самых разных лавках день и ночь продавались миски и кружева, ложки, ткани и все, что могло понадобиться. В некоторых лавках занимались предсказаниями. В других танцевали, пели и показывали разные фокусы, здесь веселились и развлекались.
Вскоре люди столпились вокруг Мельхиора: он достал из кармана какое-то стекло и пускал из него цветные картинки на противоположную стену. А еще у него был маленький ящик, и если он нажимал пальцем на кнопку, то сразу вынимал из щели портрет человека, смотревшего в ящичек через дырку. Он быстро показал собравшимся и другие чудеса. Поначалу зрители были сбиты с толку, а потом сильно заволновались.
— Ты настоящий колдун, — прошептала Катрин.
Кто-то сказал:
— А та женщина, что уцепилась за него, разве это не Катрин?
Другой подтвердил.
— Да, Катрин, ведьма, которая удрала от нас.
Тут Катрин проговорила:
— Прочь отсюда! Да поскорее!
Никто не успел и глазом моргнуть, как Мельхиор обнял ее за плечи — рывок, и они высоко над городом. Катрин даже закричала от радости.
Отсюда они видели, как войско противника окружило городские стены. Находясь в безопасности, слышали они тревожные звуки, издаваемые рожками. Видели, как потом, после бесплодных переговоров, на город полетели ядра и горящая пакля.
Они еще раз облетели город. Языки пламени уже пожирали деревянные дома. Катрин испуганно прижалась покрепче к Мельхиору. Она все время повторяла:
— Боже, какой же ты волшебник!
Мельхиор спросил:
— Что они имели в виду, говоря, что ты ведьма?
— Э-э, никудышная я ведьма, — сказала Катрин. — Как-то одна соседка сказала мне, что у меня-де может выйти: надо сесть верхом на метлу, сказать словечко, которому она меня научила, и я — р-раз и улечу. А мне тогда так хотелось избавиться от моего злого мужа — он меня все время колошматил. Я с этим веником и заговорным словом мучилась и так и этак, да не повезло мне: застали меня за этим делом. Но когда они повели меня к судье, мне удалось бежать. Так я оказалась в соседнем городе, где нашла работу в гостином дворе. А ты вот в самом деле умеешь колдовать. Ты умеешь летать. Ты тоже оттуда, сверху?
— Да, — сказал Мельхиор. — Но нам нужно приземляться.
Они опустились в долине. На перекрестке трех торных путей войска разбили лагерь, в сто раз больший, чем ярмарочная площадь в городе. Его водоворот кружил солдат со всего света. Они орали, играли в карты, что-то вырывали друг у друга, торговали, плясали, пели. И Мельхиор среди них не выделялся. Его легкий скафандр мог здесь сойти за странные доспехи. Одни были в латах, другие — в бархате, одни носили шляпы с перьями, другие — блестящие шлемы. Кого здесь могло интересовать, колдунья ли Катрин и откуда родом Мельхиор? В этой сутолоке все были друг другу безразличны. Лишь иногда раздавалась отрывистая команда или свисток. Тогда сбегались солдаты в одинаковой амуниции и строились в походный порядок. Постепенно шум и песни замолкали, и лагерь понемногу расползался.
И опять кто-то схватил Мельхиора за руку — это был один из его товарищей:
— Немедленно отправляйся вместе с нами. Если ты так уж хочешь, возьми эту женщину с собой.
Катрин ничего не поняла, и когда Мельхиор объяснил ей, что требует друг, она не стала возражать, наоборот, — обрадовалась. Может, это и будет тот самый «проклятый» полет, который она ужас как желала испытать. Она не верила ни слову монахов, утверждавших, будто ее судьба, судьба ведьмы: мрак и скрежет зубовный. Любой полет с Мельхиором будет волшебным.
Но Мельхиор сказал, что об окончательном отлете не может быть и речи. Он уже почти понял, чем заняты и озабочены жители Земли, но как разведчик должен разобраться во всем до конца.
Товарищ возражал. Кончилось тем, что Мельхиор пообещал время от времени давать знать о себе, а тот — немедленно ему отвечать.
Мельхиор вторично поднялся с Катрин в воздух. Лагерь уже почти опустел. Солдаты, которые еще недавно походили на дикую орду, двигались по дорогам стройными колоннами, на лошадях и пешком.
Если бы кто-нибудь из них случайно поднял глаза в небо, он принял бы маленькую, быстро удаляющуюся точку за коршуна. Но кто станет вглядываться в небо?
Катрин было хорошо с ее другом, она всегда отличалась доверчивостью. Вот уже несколько часов они летели над пустынной равниной. Поля были опустошены, леса вырублены. Чернели сгоревшие деревни, и городские развалины уже давно не дымились; люди, жившие здесь, либо сгорели в своих домах, либо успели бежать. Мельхиор подумал: «Даже пройди мы по стране пешком, вряд ли увидели бы что-нибудь, кроме этого». Он спросил Катрин о причинах этих разрушений. Один раз она сказала: «Потому что они лютеране». А в другой раз: «Потому что они католики». Мельхиор не понял ни того, ни другого.
Они приземлились, наконец, в зеленой холмистой местности. Здесь сохранились еще луга и леса, они увидели несколько крестьянских дворов и некое подобие крепости, какие Мельхиор помнил по прежним отчетам. Но хозяева — замка и челядь куда-то бежали. Ручей, показавшийся Мельхиору веселым после такого количества мертвой земли, приводил в движение мельничное колесо. Катрин сказала, что хозяин окрестных земель добрый лютеранин. Мельхиор снова ничего не понял. Зато он посоветовал, как починить мельницу. Потом они построили себе дом.
Из окрестных дворов и соседней деревни приезжали крестьяне, привозили зерно на помол, платили свежеиспеченным хлебом. Доставляли им овощи и яйца. Иногда и птицу. Вскоре все полюбили Катрин. Когда она была на сносях, соседи предложили ей свою помощь. Так они и жили, не богато и не бедно.
Каждое воскресенье они с Катрин проделывали длинный путь в соседнюю деревню. Люди думали, что они ходят туда из-за проповедей. А он, всякий раз удивляясь, вслушивался в их пение. И внимательно всматривался во все рисунки, в резьбу. Но почему вдруг росписи на стенах замазывались белой краской, он никак не мог взять в толк. Только одна молодая женщина с ребенком на руках, которая стояла и здесь — но не из дерева, а из камня, — оставалась нетронутой. Из жалости, наверно, думал он, но, может быть, они и ее скоро разобьют. Эти земляне способны создать предметы невиданной на моей планете красоты, но часто, обуреваемые невежеством, губят созданные ими же чудеса.
Катрин же утверждала, что в такой беленькой чистой церквушке лучше молиться. Скоро она в присутствии соседок родила на свет ребенка, красивого и здорового…
Однажды их навестил товарищ Мельхиора по полету. Мельхиор был приятно удивлен. Тем более что его товарищ ничем не обращал на себя внимания.
Сюда давно уже стали стекаться разные люди; одним нужна мука, другие были наслышаны об удивительно ловких руках мельника. Он чинил их инструмент, мастерил новый. Мельница стала местом, где люди собирались, чтобы потолковать. Мельхиор сделал своему гостю знак: держись, мол, как можно незаметнее. Тот предупредил:
— Твои отчеты я передаю. И регулярно пересылал все, о чем ты просил. Но отныне ты сам будешь передавать все, что сочтешь нужным.
Вечером они в тихом, недвижном воздухе услышали звуки лесного рожка.
— Послушай, — сказал Мельхиор, — послушай, как играет деревенский мальчуган. Он делает это, как истинный мастер, как художник, — Мельхиор теперь понимал, что означает это слово. Помолчав, он добавил: — Поразительно, что они способны на такое, зная, что близится война. А вот мы так не можем.
— Для этого у нас нет ни времени, ни желания, — сказал гость. — Нам предназначено выполнять другие работы. И сейчас и впредь. Будь оно не так, попал бы ты сюда? Смог бы я навестить тебя? Наши мысли и наша сила нужны для других дел.
Ночью Мельхиор разыскал на небе свою родную звезду: им овладела тоска по дому.
И еще — со временем ему стало здесь скучно. Лесного рожка Мельхиору уже не хватало. Он тосковал по скоплениям людей, по могучей музыке, которую он слышал в давно сожженном городе.
Он знал, что на расстоянии почти одного дня лета отсюда расположен город, пока не тронутый войной. Катрин обрадовалась:
— Хорошо, что тебе опять захотелось летать!
Мельницу они оставили на попечение надежных молодых друзей. Им же они поручили заботы о ребенке. Сказали, что отправляются искать родственников.
Какое это счастье — парить в воздухе! Но после многочасового полета над тлеющей землей, над опустевшими и сгоревшими деревнями Мельхиор подумал с тоской:
«Какой прок от облета этой пустыни?»
Наконец на горизонте показались колокольни городских церквей. Скоро, покрытые дымкой, они приземлились и затерялись в бурлящей толпе. Это был самый большой из виденных им городов. К его населению прибавились многочисленные беженцы.
Мельхиор с Катрин нашли кров в одной из гостиниц. Он немедленно сообщил о своем новом местонахождении. Но еще до того, как пришло подтверждение связи, Катрин потащила его в собор. Там должны были вскоре играть на особом серебряном инструменте, называемом здесь органом. Орган был знаменитый.
Мельхиор как завороженный слушал бушующую музыку. Пели не только мальчики из хора, поднялась и запела вся община. Даже Катрин, словно ее околдовали, издавала то неожиданно радостные, то грустные звуки.
Вернувшись в гостиницу, Мельхиор стал ждать ответа. Но ответ не приходил. Он настойчиво связывался с навестившим его товарищем. Но и тот молчал.
В гостинице он прислушивался к тому, о чем болтали люди. Оказалось, город пощадили благодаря хитрому правителю, который был в союзе со всеми и ни с кем.
Мельхиор насторожился, услышав, что в городе проживает ученый старец, который по поручению правителя наблюдает в трубу за небом. А так как и в последующие дни Мельхиор связи не установил, он решил навестить ученого старца.
У старого ученого были живые молодые глаза. Он привык к необычным визитам, позволил Мельхиору взглянуть в свой телескоп, но… он был не сильнее, чем глаза Мельхиора.
После недолгих колебаний Мельхиор решил спросить у старца, не заметил ли он каких перемен в определенном участке неба.
Этот вопрос, по-видимому, обрадовал старца. На сей раз он имел дело не с любопытствующим, а со знатоком. Не с придворным, пытающимся узнать от него будущее, якобы зависящее от взаимоположения звезд, а с внимательным наблюдателем. Он ответил:
— Да. Неожиданно возник сильный свет, словно зажглась необычайной величины звезда. Я видел этот свет и следующей ночью. Потом он угас; но этот свет мог вызвать в окружающем пространстве различного рода изменения, определить которые я пока не смог.
Мельхиор подумал: «Может быть, этот свет зажегся в то время, когда я летел сюда и когда слушал потом орган. Может, это событие повлияло и на мою звезду, и поэтому они не получили моего сообщения и не ответили мне».
— В чем вы видите причину? — спросил он.
Старый ученый ответил:
— При всем желании не могу вам объяснить это сегодня. Мой правитель, наверно, подумает, что это бог дает ему какое-то небесное знамение. Но я скажу вам откровенно: пока я этого не знаю. Мои предшественники были людьми невежественными и подверженными предрассудкам, но движение планет они воспроизводили тщательно.
О подобных вспышках они ничего не упоминали. Мельхиор сказал:
— Может быть, там, на одной из звезд, есть живые существа, знающие больше нас.
Старик рассмеялся:
— Может быть, может быть. Ты что, не от мира сего, а? Природа создала жизнь лишь здесь, на Земле.
Мельхиор быстро возразил ему:
— Это пока мы можем говорить: «Лишь здесь!» — потому что другого нам знать не дано…
— Потому что другого нам знать не дано, — спокойно подтвердил старик.
Оставшись наедине с собой, Мельхиор пришел к выводу, что он оказался без всякой связи и никак не сможет подучить ответ на свои сообщения. А как быть дальше, если он потерял родину?
Катрин испугалась, увидев его лицо, и он признался ей:
— Знаешь, у меня так болит сердце, будто оно разорвалось.
И снова летели они над пустынной равниной. Мельхиор думал об одном: «Почему, ну почему люди сами разрушили здесь все?..»
Зеленая цепь холмов с лесом и лугами, с ручьем, приводившим в движение колесо мельницы, — все это было островком мира после многочасового полета над опустевшей землей.
Мельхиор подумал: «Вполне возможно, что поля вновь зазеленеют. И что их опять сожгут, а потом они снова покроются зеленью. Как сравнить это с тем, что у нас дома? Но сейчас у меня нет больше дома. Связь прервана. Неужели это навсегда?..»
Молодой мельник с удовольствием принял предложение Мельхиора вести за него дела на мельнице. Мельхиор почти не помогал ему, потому что силы его убывали с каждым днем. Чтобы заработать на хлеб насущный, он чинил крестьянам их нехитрый инвентарь, рукодельничал. А для Катрин построил ткацкий станок, оказалось, что к этому делу у нее есть способности. По совету Мельхиора в ее тканях появились многоцветные узоры, даже изображения людей и животных. Скоро ее ткани стали известны в округе и полюбились покупателям.
Мельхиор заметно сдавал. Как часто он пытался связаться со своей звездой — ответа не было! Звезду он, правда, видел, но ни посланий оттуда, ни отзыва на его сигналы не приходило.
Они жили вместе с ребенком в домике неподалеку от мельницы, скромно и тихо. С утра до вечера они слышали шум мельничного колеса и щебетанье ребенка. Глядя иногда на мужа, такого худого и бледного, Катрин тихо спрашивала:
— Почему ты больше не колдуешь? Ну, хотя бы показал маленькие чудеса, как тогда на ярмарке? Цветные картинки, которые прыгали и кривлялись…
— Не хочется мне теперь колдовать, — ответил Мельхиор.
— Ах, если бы хоть разочек еще полетать, — сокрушалась Катрин. — Разве ты забыл словечко, которое нужно сказать, чтобы полететь?
— Забыл.
Мельхиор думал: «Мой товарищ, наверно, видел вблизи, что произошло с нашей планетой. Может быть, он отправился туда как раз для того, чтобы передать мои отчеты. И тут произошло что-то, отчего наша связь прекратилась. Иначе он давно подал бы знак или сам явился сюда».
Он снова и снова пытался установить связь, вслушивался в маленький аппарат, который носил на теле, под рубашкой. Если бы Катрин, все старавшаяся разглядеть аппарат, когда-нибудь прежде видела раковину, он показался бы ей похожим на раковину со щелкой, из которой доносился шум и свист. Она же думала, будто это что-то вроде свистка; Мельхиор свистит, дуя в него, а иногда свисток сам отвечает ему.
Мельхиор прижимал аппаратик к себе, что-то говорил, ждал ответа — тщетно.
Веселье и находчивость давно оставили его. Как нежно Катрин за ним ни ухаживала, как ни помогала ему семья мельника и соседи, одиночество перемалывало его. И когда ему стало ясно, что его сообщений никто не слышит и ему уже никогда не получить ответа, он тихо умер.
Катрин кормилась самой разной работой. Красота ее увядала; после «колдуна» все ухажеры казались ей никчемными.
А дочь подрастала. Каждый, кто видел ее, улыбался. Самые мрачные и ворчливые крестьяне радовались, слыша ее песни. Она была хрупкой, но сильной. Тяжелые корзины поднимала как перышки. А ткать и прясть вскоре научилась лучше матери. Когда она пела в церкви, голос ее можно было отличить среди многих — так чисто он звучал.
Она была еще совсем молодой, когда вышла замуж за крестьянского сына, парня здорового и крепкого; он с удовольствием пел за работой вместе с ней. Муж перепахал много нетронутой земли, а она родила ему много детей. Трое сыновей помогали отцу, две дочери вышли замуж.
В младшем сыне играла беспокойная кровь. Как-то он услышал, будто далеко, за равниной, все выглядит иначе. Люди живут близко друг от друга, дом к дому. Его властно потянуло в те края. И он пропал.
Один из братьев решил отыскать его и тоже отправился в путь.
Катрин штопала рубашки внуков или сидела грустно, без дела, и размышляла. Или поглаживала несколько вещиц, хранимых ею с прежних времен. Шнурок, который Мельхиор часто носил вместо пояса, несколько бумажек, покрытых знаками (она принимала их за волшебные), и тот аппарат, что он всегда держал при себе. «Его свистулька», с улыбкой говорила она.
3
Катрин совсем состарилась, у нее появились правнуки. Однажды она застала свою дочь разбирающей старые вещи; та решала, что выбросить, а что оставить. Катрин сказала дочери, что эта коробка, или как ее там, — реликвия. Может быть, кусок украшения из часовни или из гроба какого-то святого. Пусть хранит и передаст своему сыну, чтобы тот тоже сберег ее. Даже если реликвиям теперь и не поклоняются, как-никак эта вещь принесла счастье всей их семье: достаточно посмотреть на здоровых детей и на крепкое хозяйство. Дочь взглянула на мать с удивлением, но поверила ей.
А тем временем в округе появилось много крестьянских дворов. Деревни приблизились одна к другой. И везде с похвалой отзывались о потомстве Катрин. Считалось удачей взять в дом парня или девушку из ее семейства; на них можно было положиться, чем бы они ни занимались: крестьянским трудом или ткачеством, были они каменщиками, малярами или даже учителями.
Исключения случались и в этой семье. С течением времени они так разошлись по стране, что один не мог сказать точно, где другой. И поэтому никому не бросалось в глаза, когда кого-то из них охватывало беспокойство, не знавшее границ. Кто-то, допустим, тихо и мирно прожил полжизни в кругу семьи, занимаясь своим ремеслом. И вдруг, словно вспомнив давно забытое, он бросался на поиски чего-то. Оставлял родных, свое дело и исчезал в чужих краях. Жена плакала: ведь ссор между ними не было, они так ладно жили. Она повсюду искала его следы, но муж навсегда пропадал без вести…
Кто-то всю жизнь жил весело, его с удовольствием приглашали на свадьбы, ибо не было другого, умевшего бы так хорошо играть на лютне, так ловко плясать и громко петь. И вдруг ни с того, ни с сего он становился сначала молчаливым и грустным, а потом ожесточался, делался угрюмым, сидел часами, уставившись в угол.
Но такое случалось не часто. К тому же страна опять была густо населена, и потомки Мельхиора почти потеряли всякую связь друг с другом.
Однажды, несмотря на решительный запрет родителей, в амбар прокрался мальчишка. Здесь стоял сундук. Открывать его запрещалось: он был наполнен самыми разными приборами — реликвиями, которые переходили из поколения в поколение.
Поскольку ему грозила кара, мальчуган был заинтересован вдвойне и принялся рыться в сундуке. Он достал из него штуковину, напоминавшую раковину, и приложил ее к уху. И вдруг ему показалось, что он слышит дробь звуков, то высоких, то низких. Он удивился, прислушался снова, но — ничего.
Если эта штука давно не сломалась и кто-то ее найдет, она, быть может, зазвучит еще не раз.
Конрад Фиалковский ЗВОНОК[12] Пер. К. Душенко
Он опустил монету не сразу. Тут был день и жаркое лето, как всегда в декабре. Сквозь рубашку он чувствовал солнце и легкий ветерок, набегавший с холмов. Их зелень казалась нездешней в этом краю, где из красной земли поднимались деревья с фиолетовыми цветами вместо листьев. Площадки для гольфа лежали внизу — ровные лужайки в долине. Телефон-автомат находился в нише клубного павильона; бросая монеты одну за другой, он подумал, что там, должно быть, уже засветилась первая звезда. Короткий гудок — и сразу же ее голос:
— Это ты? Как хорошо, что ты позвонил!
— Ты же знала, что я позвоню…
— Да. Я решила, что свечи на елке зажгу после твоего звонка.
— Уже стемнело?
— Стемнело, но звезд не видно…
— Знаешь, чего я хочу тебе пожелать?
— …Чтобы мы были вместе.
— Да.
— Ведь когда-нибудь ты приедешь…
— Приеду.
— …Опять был этот звонок.
— И что? Ты положила трубку, как я просил?
— Да… но не сразу. Думала, это ты.
— Что он говорил?
— Все то же. Что меня нет.
— Что еще?
— Что ни дома, ни города тоже нет.
— Я тебя так просил…
— Не могу я вешать трубку. А вдруг это ты? Знаешь, у нас тут снег, много снега. Он шел с утра, сейчас машины его разгребают, а деревья все белые…
Он услышал сигнал, поискал монету и не нашел.
— Сейчас перезвоню, — сказал он. — Ты подожди…
Он не знал, поняла она его или нет. Слышал только близкую тишину прерванного разговора. Он сунул руку в бумажник и там, где лежали банкноты, нащупал монету — ее хватило бы на все рождественские пожелания. Он опустил ее в щель и снова набрал двенадцать цифр. Линия какое-то время молчала, потом голос автомата сказал:
— …в этом городе такого номера не было…
Он положил трубку, монета выпала. В третий раз услышав все тот же ответ, он медленно и отчетливо попросил дежурного оператора.
— Меня не соединяют, — сказал он, когда тот отозвался.
— Наверно, такого номера не было.
— Но я только что разговаривал. Номер правильный.
— Вы уверены? Мы же не монтируем номеров, если их не было. Таковы правила.
— Знаю. Но вы все же проверьте… — он продиктовал номер своего телефона, адрес своего дома.
— Минутку, — сказал оператор. — Я справлюсь по старым телефонным книгам, а не у компьютера. Так будет вернее.
Он ждал. На долину надвигалась тень от холмов.
— Извините, — сказал минуту спустя оператор, — уж очень много бывших городов мы обслуживаем, разобраться действительно нелегко. Вы правы. Ваш номер нашелся. Адрес тоже сходится. Очевидно, неполадки в нашей системе. Разумеется, мы не включим в счет сегодняшний день.
— А как завтра?
— Завтра мы все исправим. Проба голоса у вас есть?
— Есть, — сказал он и подумал о пленке, которую она записала перед его отъездом.
— Вот и прекрасно. В крайнем случае мы восстановим по пробе. Конечно, без всякой доплаты. Вы непременно сможете позвонить домой перед Новым годом. А сегодня — счастливого вам рождества!
Эдуардо Франк Родригес РОДРИГЕС В ДРУГОМ МИРЕ[13] Пер. К. Капнадзе
Пять дней прошло, а у меня даже щетина не выросла… Какой-то бредовый мир… Все внезапно оборвалось, даже звуки. Хоть бы какая-нибудь ящерка прошуршала в сухой траве. Но вокруг тишина, слышно только, как хрустят под моими башмаками зеленоватые хохолки растений, напомнивших мне хвощи доисторических времен…
Ни одного судна на горизонте… Куда же подевались пеликаны, буревестники, чайки? Словно какая-то зловещая сила навсегда спугнула их с насиженных мест. Я думал, что попал на необитаемый островок, затерянный в Атлантике, пока не увидел эти диковинные плоды. Кто поверит мне, если я скажу, что все эти дни питался плоскими геометрическими фигурами? Здесь нет ни груш, ни яблок, ни апельсинов — одни только ромбы, квадраты и прямоугольники, зреющие на абсолютно голых, как проволока, ветвях. А эти бабочки невероятных форм и расцветок, что кружат над странной растительностью и, похоже, наблюдают за мной?
Я очнулся, лежа на куче песка у самого берега. Холод и сырость пробирали до костей, запах моря щекотал ноздри. Мои часы встали, словно вступили в заговор с этим миром. Пришлось отсчитывать дни по радуге, которая вспыхивает и гаснет, точно огромная рождественская елка в Рокфеллеровском центре. Ее свет довольно тускл, и все время, что я нахожусь здесь, мне тоскливо без теплых ярких лучей солнца. Но небосвод неизменно пуст, если не считать этой широкой семицветной дуги.
Продолжают ли меня искать? Хартцман наверняка поднял на ноги береговую охрану, как только узнал о моем исчезновении. Уж я-то его знаю. Он на все пойдет, лишь бы вернуть свой самолет и не выплачивать страховку. Капитан Макбейн небось уж обшаривает весь район. Надеется, что Хартцман выплатит ему вознаграждение, если он меня обнаружит. Как же, держи карман шире, да старик скорее удавится… Нет, они, конечно, давно прекратили поиски. Какой смысл искать, если прошло пять суток? Должно быть, решили, что меня уже нет в живых… Гм, а может, они правы? Только теперь, ощупывая свой самолет, я чувствую, что еще жив. Я был уверен, что его поглотило бурное пенистое море, как вдруг, вскарабкавшись на дюну, обнаружил свою машину. Я даже вздрогнул от неожиданности. Мой надежный друг, мой крылатый товарищ, которого я считал безвозвратно потерянным, поджидал меня в небольшой долине. Я неспешно приближался к нему, ломая голову над загадкой. Нет, дело обстояло далеко не так просто, как я воображал… Я осмотрел обшивку самолета и не нашел на ней ни единой царапины. Затем заглянул внутрь: даже мой шлем преспокойно лежал на сиденье, словно верная собачонка, дожидающаяся хозяина. Правда, теперь я бы не удивился, если бы даже увидел в кабине отплясывающего белого медведя.
Я включил рацию, но не услышал ни шумов, ни потрескивания. Стрелка на шкале даже не шелохнулась. Не сомневаясь, что мотор тоже не работает, я все же на всякий случай попробовал включить зажигание. Тарахтенье моего «пфейфера» показалось мне чарующей музыкой! Не мешкая, я проверил все ручки: машина была исправна. Я торопливо нахлобучил шлем и поднял самолет в воздух, стараясь поначалу держаться на небольшой высоте. Если это остров, то он довольно обширен, поскольку берег виден лишь с одной стороны. А впереди по-прежнему сияет все та же радуга, словно подвешенная к небу гигантская гирлянда. Внезапно ручки управления дрогнули у меня в руках, и я с испугу повернул обратно. То же самое произошло, когда я потерял из виду двух своих товарищей по аэроклубу, что летели рядом… Я полагал тогда, что нахожусь где-нибудь у Сент-Джорджеса или Сомерсета, но последнее, что я увидел, был мыс Гаттерас, как вдруг нахлынуло… это. Белесая дымка заволокла все вокруг, и меня неожиданно пронизал нестерпимый холод, в то время как горизонт стал расплываться, а в кабине воцарилась необъяснимая тишина. Казалось, мой самолет не летит, а стоит на месте, словно привязанный невидимыми нитями. Мне пришли на ум рассказы об инфразвуковых галлюцинациях и магнитных бурях, нередко случавшихся в этом районе. Я вспомнил, как много морских судов и самолетов пропало здесь без вести вместе со своими экипажами, и содрогнулся при мысли, что могу пополнить этот список. Напрягая все силы, я попытался вывести машину из туманного облака. Но тут почувствовал, что теряю сознание, а самолет резко идет вниз. И все… Больше я ничего не видел, пока не пришел в себя на сыром песчаном берегу.
И вот я снова здесь. Что же мне делать, ума не приложу… Нет, больше я не выдержу. Надо лететь до конца, пока не встречу кого-нибудь или пока не кончится горючее и все разрешится само собой. Другого выхода нет.
А впереди все та же радуга. Переливается всеми своими цветами; будто подмигивает мне… Существует поверье, будто в тех местах, где радуга упирается в землю, закопаны сокровища. Интересно, правда ли это? Все-таки удивительное это явление… Солнечные лучи разлагаются на семь цветов, преломляясь в капельках воды, что остаются в атмосфере после дождя… После дождя? Стоп, но ведь дождя-то не было! Откуда же радуга? Еще одна загадка этого проклятого места. А, все равно, полечу туда, пусть даже врежусь в нее и заполыхаю каким-нибудь восьмым цветом!
Что за чертовщина! Она не пропадает из виду, и это не оптический обман. Она надвигается на меня по мере того, как я к ней приближаюсь. Это клубящаяся, словно пар над кусками сухого льда, пелена. Она обволакивает меня. Самолет окунается в гамму фантастических цветов, и горизонт расплывается перед глазами. Желтые, фиолетовые, красные, синие стрелки приборов беспорядочно скачут. Я снова повис без движения… Опять эта густая пелена! Пять дней назад, перед тем как я потерял сознание, случилось то же самое. Как-то будет на этот раз? Мои руки дрожат… Но я все равно не сверну! Я пробьюсь сквозь этот пронизывающий холод. Что же меня ожидает в конце? Сумею ли я преодолеть таинственный барьер? Машину начинает крутить, словно она попала в гигантскую воронку, и в конце концов вышвыривает куда-то вперед по касательной… Заработал мотор! Стрелки успокаиваются, приходят в норму… Рация! В приемнике слышны статические шумы, потрескивание… Туман начинает рассеиваться, и я уже различаю в его порывах синие пятна океанской глади… И выхожу в эфир.
— Внимание! Говорит ПФ-140, пилот аэроклуба, вы слышите меня?
Видимость полностью восстанавливается. Замечаю внизу островок. Я нахожусь над тем самым местом, над которым пролетал пять дней назад!
— Слушаю. Говорит ПФ-142. Прием.
Это голос Кларка! Да-да, я прекрасно слышу его. Надо еще покружить здесь, может, удастся разглядеть его машину.
— Говорит ПФ-142…
— Слышу! Говорит ПФ-140. Это я… Уильям. Прием.
— Билл! Куда же ты к дьяволу запропастился?
— Сам не знаю. Полагаю, я где-то в районе Фрипорта, ты слышишь меня?
— Мы тут неподалеку. Подожди, сейчас отыщем тебя.
— Какое счастье, что все эти пять дней вы не прекращали поиски!
— Какие пять дней? Ты что, рехнулся? Мы разыскиваем тебя всего несколько минут — с тех пор как ты вдруг ни с того ни с сего начал выделывать немыслимые пируэты, а потом нырнул за тучу. Смотри, когда-нибудь разобьешься.
— Как ты сказал?
Я включаю автопилот и откидываюсь в кресле. Голова у меня идет кругом. Я-то считал, что они ищут меня пять дней… Что же он такое говорит? Терпение, сейчас разберемся, кто из нас спятил.
— Билл? На связи ПФ-141.
Это уже голос Джефри. Посмотрим, что он скажет. Ведь не договорились же они в самом деле морочить мне голову!
— Слышу тебя, Джефри.
— Мы уже видим тебя, ты совсем рядом. Хорошо еще, что эти машины такие надежные, а то бы тебе несдобровать. Послушай, как же ты ухитрился потеряться в такой ясный день? Поделишься секретом?
— Знал бы ты… Который час?
— Пятнадцать тридцать пять. Мы уже близко, видишь нас?
— Пятнадцать тридцать пять…
Бросаю взгляд на часы. Они снова пошли и показывают пятнадцать часов тридцать две минуты.
— Что ты сказал?
— Да нет, ничего… Кончаю связь.
Теперь я тоже их вижу и начинаю быстро снижаться. А они бросаются мне навстречу, словно голодные чайки, завидевшие добычу. О чем я им расскажу? Об острове, который, скорее всего, не нанесен на карты? О ясном небосклоне, на котором не видно солнца? О геометрических плодах? О радуге, которая вовсе не радуга, а дверь в другой мир, которого, впрочем, тоже не существует? О бабочках с брюшком, как куриное яйцо, и квадратными крылышками? О пяти днях, превратившихся в три минуты? Они сразу спросят, почему же в таком случае у меня не выросла борода, а потом отправят в сумасшедший дом.
Шасси моего самолета касается посадочной полосы нашего маленького аэродрома. Мне кажется, что все вокруг, даже дома и деревья, радуются моему возвращению. Глушу мотор и еще несколько минут неподвижно сижу в кабине. Я чувствую себя таким разбитым, что теперь, наверно, целые сутки буду отсыпаться. Наконец распахиваю дверцу и в последний раз обшариваю глазами кабину, словно хочу убедиться, что все происшедшее со мной было недолгим расстройством из-за инфразвука…
Холодный озноб охватывает меня, пальцы начинают дрожать. Стало быть, я спятил? Сейчас я докажу, что все это было на самом деле, а не привиделось во сне. Вот она, бьется в уголке кабины, под самым колпаком… Как она попала сюда? Только бы не упустить… Посмотрим, что они скажут, когда увидят это причудливое создание. Проклятье, она ускользнула! Я бросаюсь вдогонку и вижу, как она удаляется, набирает высоту и исчезает в яркой синеве неба.
Ладислав Кубиц ПРИШЕЛЬЦЫ[14] Пер. Т. Осадченко
Это началось…
Нет, лучше с самого начала. Представьте, что вы обнаружили в своей квартире чужого. Если вы женаты, то решите, что это — любовник жены. А если холосты, то примете чужака за вора.
Да только я никого не обнаруживал, тот человек сам материализовался у меня перед глазами. Сначала в квартире заклубился густой белый туман, как бывает по утрам в ноябре. Туман лениво сгустился и приобрел очертания человеческой фигуры. С минуту я убеждал себя, что это галлюцинация, пока низкий голос не вывел меня из заблуждения:
— У вас есть кнедлики?
— Что-что? — пролепетал я, пребывая в шоковом состоянии по поводу видения, попиравшего все законы разума.
— Я спрашиваю, есть у вас кнедлики или нет? — повторил он.
— Нет у меня никаких кнедликов!
— А жаль, — бросил гость, направляясь на кухню. Опомнившись, я кинулся за ним. Привидение спокойно опорожняло холодильник.
— Моравские колбаски, гм… сыр. Не густо. Я-то думал, у вас побогаче будет.
— Сейчас же положите все на место! Кто вам дал право…
Пришелец окинул меня невозмутимым взглядом, продолжая набивать большой рюкзак:
— Типичная картина: шок от встречи. Ничего, привыкнете.
— Ни к чему я не собираюсь привыкать, объясните, в чем дело!
— Спокойно, не надо нервничать, в свое время все узнаете. — Захлопнув дверцу холодильника, гость начал терять очертания, превратился в белый туман и исчез. Я остался стоять, как школьник, застигнутый директором с сигаретой в руках. В голове было пусто, как в холодильнике. Только он мог служить свидетельством того, что мне не приснилось случившееся.
В передней раздался звонок. Первый реальный звук после зловещей сцены. За дверьми стояла пани Янская, вся в слезах:
— Пан Кубих, меня обокрали. Пойдите взгляните! Откуда ни возьмись появились шестеро. Всю еду до крошки подобрали. И еще издевались: мы, мол, из будущего, — она зарыдала. — Прежде чем прибежал Мирек, все они испарились.
— Именно как пар?
— Скорее, как туман, — уточнила она.
— У меня тоже побывали, холодильник дочиста вымели.
— И у вас? — она вытаращила глаза. — Да что же происходит…
Прежде чем я успел ответить, на весь дом раздались голоса взволнованных жильцов. Хлопали двери, слышались гневные возгласы и проклятия. Я понял, что голодный туман прошелся по всем квартирам. Этажом ниже развивал, астрологическую теорию мистически настроенный Масак.
Я не верю в загробный мир и другие сверхъестественные явления, поэтому предоставил философствовать соседям и вернуться к себе. Логического объяснения случившемуся быть не могло. С минуту я анализировал сообщение Янской, что воры явились из будущего. Странно, загадочно: шутка или факт?
Махнув на все рукой, я взял сетку и пошел в универсам возобновить запасы еды, уверенный, что стал свидетелем уникального и непонятного явления. Вряд ли оно может повториться. Последовавшие вскоре события показали глубину моих заблуждений.
Через несколько дней туман объявился снова, на этот раз пришельцев было человек пятнадцать. Они опустошили кладовку и холодильник так мастерски, что им могли бы позавидовать татаро-монголы. Я прошептал, что это уж чересчур. Их было пятнадцать, а я один, потому прошептал тихо, чуть слышно. И все-таки один из них услышал и подошел ко мне:
— Да не переживай ты, Кубих, — он бодро похлопал меня по плечу. — Неужто тебе для собственной родни жалко?
— Родни?! — я обратился в соляной столб, как жена Лота.
— Ну да. Я — Бржетя Кубих, год рождения — 2417.
Я чувствовал себя так, будто на голову мне свалилось пианино.
— Держись, прадедка!
Подойдя к креслу на ватных ногах, я бессильно опустился, скорее, рухнул в него. С минуту я дышал, как рыба, вытащенная на берег. Очень не помешал бы нашатырный спирт. Постепенно испуг сменялся гневом:
— Ты, значит, утверждаешь, мой крайне несимпатичный потомок, что вы будете регулярно проводить подобные рейды?
— Зачем? Мы тут жить будем.
— Жить?
— А что? Виза на выезд в прошлое у нас имеется, полный порядок. Нет, вы же не представляете, как хорошо живете! Лакомства, сласти, кнедлики… — его лицо озарилось, — никакой синтетической пищи, не то что у нас. Безвкусные пилюли, содержащие необходимые джоули и витамины — все по науке. Тьфу! А перенаселенность, автоматика, кибернетика! Да ты счастья своего не ценишь, прадедушка. Отдыхаешь себе, ляжешь поудобнее и можешь полакомиться вволю. А тут спасу от личного робота нет, совсем душу вымотал. А ваша еда — пальчики оближешь. Какие вкусовые ощущения: рай по сравнению с этим — собачья будка. Я вот тебя сейчас угощу эссенцией из морских водорослей, сам поймешь, что я прав…
Я отказался от угощения. В голове стояло неотступное видение: международный аэропорт и садящиеся стройными рядами ревущие реактивные самолеты.
— Не может быть, о, горе, — метался я.
— Как жаль, прадедушка, что ты нам не рад. Но погоди, как только всех нас узнаешь — все будет по-другому.
— Не сомневаюсь. Как вам могли выдать визу, вы разрываете связь времен, вмешиваетесь в историю. Все будет действительно по-другому!
— У нас идет эксперимент, ну, и мода, конечно. «Визит к предкам»! Некоторые прилетели нелегально.
— Как вам такое пришло в голову?
Он пожал плечами:
— Не знаю, вдруг начался какой-то психоз. «Кто не пробовал еду предков, тот не знает наслаждения» — на всех рекламных щитах. Мы и решили попробовать, приехали к тебе в гости:
— Я счастлив, — сказал я, — а со мной что будет?
— Потеснишься немного, переедешь в прихожую. Всем поместиться надо. Вот-вот прибудут родственники с папиной стороны.
— С папиной стороны? — в глазах у меня потемнело.
— Не бойся, человек десять, не больше.
От обморока меня спасло зрелище у книжного шкафа. Родичи теснились у полок. Я встал, оттолкнул потомка Бржетю и протиснулся сквозь толпу. Какой-то родственник лихорадочно просматривал названия книг и разочарованно швырял их на пол одну за другой, словно в макулатуру. Я многое вынесу, но не это. Книги — заповедная область, куда допускаются лишь избранные. Шлепанье переплетов действовало на меня, как блеяние козы на голодного тигра.
— Ты что делаешь, невежда? — зарычал я.
— Ищу «Книгу о вкусной и здоровой пище», не видишь, что ли?
— Сию минуту прекрати…
— Тихо, тихо, старый.
Я ударил его жестко, но корректно, как учил нас когда-то тренер по каратэ. Он сполз на груду книг. Остальная родня восприняла это как покушение на фамильную честь. Началась битва, в которой мои шансы на победу были ничтожны. Нанеся несколько ударов и пинков во все стороны, я в итоге оказался в коридоре с разукрашенной физиономией. Попытки вернуться в квартиру привели к новым синякам. Однако родичи были столь великодушны, что выкинули мне вслед куртку, чтобы я не простыл.
И вот я оказался без крыши над головой.
Но я был не одинок в постигшей меня беде: потомки вышвырнули на улицу многих обитателей соседних домов. Пришельцев все прибывало, здания трещали по швам, машины на переполненных шоссе множились, как крысы.
Я пошел вдоль улицы и миновал универсам, разграбленный до плиток пола включительно. Исчезли даже полки, ибо дерево представляло для пришельцев особую ценность. Я направился к центру города. Общественный транспорт агонизировал. Огромные массы людей превратили автобусы и трамваи в ободранные остовы, обрамляющие улицы подобно памятникам старых добрых времен. Какой-то прохожий, прижимавший к уху транзистор, вдруг застонал, раскинул руки, и приемник исчез под ногами пешеходов.
— Только что сообщили, что нас более девяноста миллионов, и пришельцы продолжают прибывать!
Никто не обратил на человека внимания, толпа сдунула его, как ветер пламя свечи. В старой части Праги картина была та же: магазины как выметенные. Начинались первые столкновения между пражанами и отдаленной родней из будущего. Я пробился через Пршикопы на Мустек и втиснулся в букинистический магазин, переполненный пришельцами. Под напором тел трещали полки, рушились книги. Ташо с Павлой висели на перилах галереи, напоминая гимнастов на канате. Ганка, стоя на прилавке, била незваных гостей по головам толстым «Атласом мира». Ташо, увидев меня, закричал:
— Ужас, им нужны поваренные книги! Остальные уничтожаются.
Поняв, что к друзьям не прорваться, я помахал им рукой и стал продвигаться к выходу. На улицу я попал без всяких проблем, так как толпа вынесла меня через витрину. От опасности быть растоптанным меня спасла колонна, за которой я спрятался. Швыряемый толпой, как щенка морским прибоем, я попал на Вацлавскую площадь. Тут нельзя было пошевелиться: шел аукцион. Кто-то кричал не своим голосом:
— Кулинарные рецепты XIX века — триста тысяч крон — раз…
Мне не довелось узнать, чем кончились торги, ибо толпа заволновалась, и меня вынесло на Индришскую улицу. Здесь стало посвободнее: народу было ровно столько, чтобы человек с помощью локтей мог медленно двигаться в нужном направлении. Используя запрещенные приемы, я прорвался на Соколовскую, затем через Карлин вверх, к Кобылисам. Везде одно и то же. Апокалипсис царил на улицах. С хмурого неба посыпался снег. По улице Красной Армии я дотащился до трамвайного депо. Здесь рельсы обрывались: город кончился. В полузасыпанном песчаном карьере стояло несколько фургонов. Я решил переночевать в одном из них, а там видно будет.
— Стой, руки вверх! — послышалось оттуда. Я повиновался.
— Э, да это пан Кубих, — из-за фургона показалось знакомое лицо соседа Пулквы. — Скорее к нам! — Пулква подпрыгнул от радости. В наспех устроенном лагере горело несколько костров, на которых варилась скудная еда. Во главе лагеря стоял полковник в отставке.
— Тлапих, — представился он и пожал мне руку. — От имени нашей группы приветствую вас. Как обстановка в городе?
Я доложил об увиденном. Он нахмурился:
— Ситуация серьезная. Да и нам нелегко. Противник стягивает силы, — он показал на лес, — ожидаем атаку. Вы — последний старожил, которому удалось прорваться сюда. Надо готовиться к обороне.
Он отдал приказ, и мы, подобно гуситам, поставили фургоны полукругом, образовав оборонительный вал. «Гуситы использовали повозки», — с умилением вспомнил я уроки истории. Отвесная стена карьера прикрывала наши тылы, так что атака могла начаться только от леса, по заснеженной равнине. В тихом свисте ветра и завихрениях снежинок мы осматривали оружие: жерди для подпорки белья, кастрюли с замерзшей водой, увеличивавшей их ударную силу.
Ничего не происходило. Мы перетаптывались, время шло, на опушке все было спокойно. Зато у шоссе пришельцы сбивались в группки. Их явно привлекал наш военный лагерь, усиленно жестикулируя, они показывали на наши повозки-вагончики.
— Мне кажется, полковник, мы совершили ошибку. Их злит наша готовность к бою.
— Ерунда, — отрезал Тлапих, — пусть видят, что мы не сдадимся.
— Тревога! — закричал Пулква. — Идут!
Со стороны шоссе приближалась группка пришельцев. Они хотели было развернуться цепью, но правильно выбранная нами тактика заставила их сбиться в кучу. Они остановились метрах в пятидесяти от нас.
— Немедленно выдайте нам фургоны.
— Ультиматум отвергнут! — заорал Полковник.
— Не заставляйте нас применять насилие!
— Ледяными кастрюлями — пли! — и мы метнули первый заряд.
Глухой звон черепов послужил сигналом, что удар пришелся в цель. Приблизившийся было враг получил вторую порцию. Женский отряд в засаде поджигал остатки лаков и красок в жестянках, мы подцепляли их на жерди и метали во врага. Горящая краска золотым дождем проливалась на ошеломленного противника, а мы поддерживали обстрел всем, что попадало под руку. Обнаружив под снегом плитки мостовой, которые недавно заменили асфальт, мы пополнили боеприпасы.
Сильно поредевшие ряды неприятеля достигли нашего оборонительного вала. На помощь пришло подкрепление, новые и новые бойцы карабкались на крыши фургончиков и колотили пришельцев что было сил. Возле меня храбро сражалась статная женщина в железнодорожной форме. Размахивая снятой невесть откуда стрелкой, она отчаянно крушила врага. Атака захлебывалась. Решимость противника была окончательно сломлена, когда сверху обрушился тяжелый железный шкаф с оторванными дверцами. Пришельцы бросились наутек, победа была полной! Среди побежденных царил хаос, им понадобилось не менее двадцати минут для рекогносцировки.
Затем к нам двинулся человек, размахивающий белой тряпкой.
— Я парламентер, не швыряйте в меня тяжелыми предметами, — умоляюще кричал он. — Я хочу говорить с военачальником!
Поскольку выглядел он беззащитно и жалко, мы допустили его к переговорам.
— Что вам угодно? — подбоченился Тлапих.
— Мы хотим знать, есть ли у вас в фургонах поваренные книги или мука для кнедликов.
— Ничего такого у нас нет.
— Дайте честное слово!
— Слово чести!
— Благодарю. Мы проиграли бой, поскольку в наше время уже не осталось оружия. И выправка не та!
Парламентер, желая не уронить достоинство, торжественно помахал тряпицей в знак приветствия и, не торопясь, удалился.
Пришельцы отступили по направлению к Хабрам. Мы слезли с фургонов, оставив на посту часовых, которых назначил Тлапих. Небо над равниной темнело. Сидя у костра, мы делились впечатлениями о битве.
— Теперь предпримем поход на Моравию, — сказал Тлапих, — у меня там домик с хорошо замаскированным погребком. Припасов хватит на полгода, не меньше. Солонина, копчености, колбаски. А там видно будет.
— Колбаски, — пробормотал Пулква, — надо же!
Он сидел неподвижно, глядя перед собой. Вдруг в глазах его появились слезы:
— Я должен сделать чистосердечное признание! Это я виноват в нашествии гостей из будущего!
— Вы? — недоверчиво спросил полковник.
— Да, я. Однажды в моей квартире появился человек. Я, говорит, прибыл к вам из будущего. И чтобы ему показать наше гостеприимство, я угостил его кнедликами. А он возьми да и снова объявись. И не один… Понятно вам теперь? — рыдал Пулква.
Нам было понятно. Все началось с дурацких кнедликов соседа Пулквы…
Дамир Микулинич ПЕЛА, СВЯЩЕННАЯ ЗМЕЯ[15] Сокр. пер. Н. Новиковой
Я зовусь Фа Раон, что на языке моих предков означает Сын Солнца Ра. Отец дал мне это имя, потому что я появился на свет в тот самый миг, когда солнце село в седловину между двумя самыми высокими вершинами хребта Сен. А это случается раз в тысячу лет. Почему — ни родители, ни мудрецы не могли мне объяснить. Я разгадал эту тайну сам только спустя долгие годы, когда стало сбываться предсказание моего отца, что Небо предначертало мне великие дела, а Земля — великие страдания.
Я родился под знаком Неба и своим спасением обязан тому, что шел по начертанному мне Небом пути. Эти слова я приказал рабам высечь на каменной глыбе, которая здесь останется стоять навечно. Навечно? Могу ли я с уверенностью утверждать это теперь, когда знаю, что есть силы, которые могут заставить и камни исчезнуть с лица земли?
Никто, кроме меня, не знает, что произошло. Я — единственная нить, связующая прошлое с будущим, мир, которого уже нет, — с миром грядущим. Я — мост через реку забвения. И я — единственная перемычка к Истине. Невежественные дикари, среди которых я теперь живу, не могут понять меня. Только я знаю Истину о Небе и о Земле. Боги и я. Недаром мое имя — Сын Солнца.
Открытую мной Истину не могли понять мудрейшие люди моей страны, и потому я здесь — проклятый всеми изгнанник. Окружающие меня дикари падают передо мной ниц, взирая словно на бога. Но что мне с того? Я один на один со своим Знанием, которое сойдет вместе со мной в могилу. Только начертанные на камне слова останутся людям будущих поколений. Почему Боги именно мне предназначили выступать в роли и Бога и человека? Если они хотели, чтобы я был среди них, почему не призвали к себе вместе с моим народом? Кому открыть Истину, которую я познал?
Истину о великом мире, в котором мы — лишь малая частица.
Теперь мне известно то, что знали одни боги. И за это они разлучили меня с моим народом, обрекли на страдания. Я бесплоден, ибо бесполезны добытые мной знания. Как объясню я людям, что Земля, на которой мы живем, похожа на шар и обращается вокруг Солнца? А оно такой же шар, огромный, ослепительный шар. Даже его сын не смеет произносить подобные речи, не рискуя стать изгнанником.
Когда мне исполнилось шесть лет, отец отвел меня в храм Ра и посвятил жрецов в тайну моего имени, поведав о знамении, сопровождавшем мое рождение. Они взяли меня к себе, и с той минуты я уже больше никогда не видел ни родителей, ни братьев. Я рос в храме, слушал то, что мне говорили жрецы, смотрел на мир их глазами.
В шестнадцать лет ко мне привели Изиду. И с тех пор мы вместе с ней каждый вечер провожали уходящее Солнце Ра и снова приветствовали его утром. Это были лучшие дни моей жизни. Но именно тогда появилось у меня безумное желание, которое стало потом моим проклятьем и моим путем к спасению. Так, вероятно, хотели боги, хотя теперь, когда я столько знаю о небе, я не уверен, что это исходит от них. Может быть, ко всему свершившемуся причастен другой бог — Случай? Тот бог, что вовлекает все живущее в игру без правил, создает хаос, неподвластный уму человека.
Мне кажется, я нашел силы, которые движут миром, но мне еще неизвестна их конечная цель, если она вообще существует. Одно без сомнений: я — единственный человек, обладающий Истиной, я нашел ответ на множество вопросов. И он гласит: «Ответа нет». Мы предоставлены самим себе, богам нет дела до нас, людей, они заняты только собой: они слишком велики, всемогущи, чтобы снисходить до людей. Мы для них лишь малая песчинка в бескрайнем пространстве. О Небо, ты не просто полог Ра, простертый над нами, ты глубоко, глубже моря. Ты бескрайне, и нет у тебя предела. Ты вечно, а жизнь человеческая — мгновение. Ты река времени, а мы — лишь тонкая тростинка, влекомая его потоком. Умерев, я не переселюсь, как верил мой народ, в другой мир, не будет моя душа летать над пустыней Хон. Я исчезну, подобно капле воды, попавшей на раскаленный камень, ветер развеет меня по свету. Мое тело — лишь минутное биение жизни, а жизнь так же кратка, как вскрик, взорвавший на миг тишину и исчезнувший без следа. И все-таки этот вскрик моей жизни останется вечным эхом до той поры, когда мое знание, соединившись со знанием будущихпоколений, поможет людям познать Истину. Я стою у истоков вызова, который человек бросит богам.
На моей далекой родине каждый вечер по ступеням храма Солнца Ра тянулась вверх вереница паломников. Там, наверху, у вечного огня, зажженного в честь бога Ра, стоял я. Со всех сторон меня окружали каменные стены. Они не давали богу ветров погасить огонь, а мне мешали наблюдать заходящее солнце, угасающий лик Ра, но я знал, что он сойдет с неба в долину Раман. И тогда люди вознесут благодарение Отцу жизни и Матери плодородия. И тогда я разожгу ярче вечный огонь, заменяющий ночью Ра. Однако охотнее я бы погасил его, чтобы в сумраке дождаться, когда загорятся в небе звезды. Они и послужили причиной моего первого столкновения с Советом Мудрейших.
Многие дни провел я в одиночестве, прежде чем появился Кретон. Впрочем, если бы он и не пришел первым, и не завел со мной разговор, я все равно отправился бы в Совет сам: ведь времени оставалось все меньше.
— Ты, Фа Раон, еще молод, еще не сумел осознать благости великого Ра, — начал Кретон. — Мы заметили, что ты проводишь ночи на террасе, где установил какие-то непонятные предметы, чтобы глядеть на черное небо. Не забывай — оно враг жизни, а ты, как и я, слуга всемогущего Ра и тебе ведом Закон. Совет избрал тебя Верховным Жрецом — так требовало пророчество. И как братья мы хотели бы напомнить тебе — ночь существует лишь как мгновенье сна и исчезает, как сон. Разумные, достойные люди ночью спят. Мне выпала неприятная миссия от имени Совета напомнить тебе о Законе, который ты нарушаешь. Я говорю тебе об этом как друг.
Я знаю, Кретон мне действительно друг, и если он так говорит, значит, на то есть решение Совета.
— Я чту Закон, Кретон, и не собираюсь нарушать его. Единственное, чего я хочу — проникнуть в тайну того времени, когда Ра, как и вся природа, все в мире, спит. Именно ночью появляются и исчезают видения, которые издавна привлекают меня. Мне захотелось понять, что они такое. Я начал с Луны. Мне удалось установить определенную закономерность в ее появлении. Она…
Кретон прервал меня, почти коснувшись ладонью моего лица. Это был предупреждающий знак — он означал, что говорящий переходит границы дозволенного. Привычка подчиняться Закону невольно заставила меня замолчать, хотя я был уверен, что недозволенного в моих словах нет.
— Что ты хочешь узнать о Луне, Фа Раон? Еще в древней Книге Истин записано, что Луна — блуждающая тень Солнца Ра. Это произошло еще в те времена, когда Pa обращал свой светлый лик только к голубому небу — ни земли, ни людей еще не было. Когда же Ра создал землю, тень, приревновав его, покинула своего властелина и с тех пор бродит по небу. Приближаясь к Ра, она от стыда бледнеет и сжимается, становясь совсем маленьким серпом. Так происходит и с нашей тенью в день Благодарения, когда Солнце Ра стоит прямо над головой.
— Все это мне известно, Кретон. Но послушай, что я узнал. Видел ли ты ночью на небе бесчисленные точки? Они исчезают с наступлением утра. А на следующую ночь снова появляются, располагаясь точно в том же порядке. Пока длится ночь, точки на небе медленно движутся с Востока на Запад, словно вращаясь вокруг какой-то одной невидимой точки. Движение пяти точек отличает какая-то своя, особая закономерность. Каждой из них я дал имя.
— Я вижу, ты зашел дальше, чем я предполагал, — в голосе Кретона звучало негодование. — Впрочем, я подозревал это. Только уважение к тебе удерживает Совет от того, чтобы положить конец твоему безумию.
— Я не безумен, и ты это хорошо знаешь. Кретон.
— Фа Раон, я призываю в свидетели всемогущего Ра и белые облака, рожденные его дыханием, что желаю тебе добра. Разве когда-нибудь в жизни ты видел дважды одинаковый узор облаков на небе? Видел или нет? — спрашиваю я тебя.
— Нет, не видел.
— Как же ты тогда мог утверждать, будто видел.
— Я никогда не говорил этого, Кретон.
— Говорил, говорил только иными словами.
— Я говорил о другом — в появлении звезд есть своя закономерность, которой нет у облаков.
— Но Фа Раон, в Книге Истины черным по белому написано, что облака рождены дыханием Ра, а звезды — отблеск его сияния. Они — искры, оставленные им на пройденном за день пути, краешки его лучей, не успевших добраться до земли и рассеявшихся по небу. Поэтому утром, когда Ра возвращается на небо, они иногда не успевают гаснуть.
Я попытался объяснить Кретону, что они не гаснут, а лишь бледнеют — их свет тускнеет и меркнет в сиянии лучей Ра.
— По-твоему, значит, звезды существуют и днем? — Он оглянулся, словно желая убедиться, что рядом никого нет, и почти шепотом произнес: — Существуют независимо от Ра? Не хочешь ли ты убедить меня, что звезды дальше от нас, чем Солнце Ра? Но ведь всем известно, что Ра ходит по краю неба, а за ним уже ничего нет.
— Наши знания ничтожны, Кретон. Я не ведаю, как далеко от Ра звезды, но уверен, что они не имеют к нему отношения. Ни к Солнцу, ни к нашей Земле. Я пришел к этому после многих лет наблюдений за ночным небом. Хочешь я покажу тебе свои записи? Дело в том… Нет, лучше не буду продолжать — ты решишь, будто я лишился разума.
Я замолчал, не решаясь открыться до конца Кретону. Ведь я еще и сам не во всем разобрался. Да простит меня Солнце Ра, но теперь я узнал, что оно такой же шар, как и Земля, на которой я стою.
Кретон молча, исподлобья, смотрел на меня. И тогда я решился. Одним духом выпалил я ему все, что узнал о Пеле. Я чувствовал, что с каждым словом падаю все глубже в пропасть, и нет мне пути назад. Собственный голос казался мне чужим, словно слова, которые слетали с моих уст, отделялись от меня и существовали сами по себе. Я говорил ему о путях звезд, о Пеле, священной змее.
Не могу вспомнить точно тот час, если он вообще был, когда я, наконец, понял, что держу в руках кончик нити, ведущий к Истине, нити, указывающей путь, по которому я должен идти. Иногда мне приходила мысль, что сам бог Ра послал меня к людям возвестить новое Знание. Но не мог понять, зачем ему это понадобилось. Тем более это остается для меня загадкой сейчас, когда я понял, как мал наш мир в сравнении с Небом. Я пришел к выводу, что Ра вообще не знает о нашем существовании.
Мое «безумие» началось со своего рода игры. Мне доставляло удовольствие создавать в воображении картину звездного неба и отгадывать, как оно будет выглядеть через день, месяц, год…
За последние четырнадцать лет самыми счастливыми для меня минутами были те, когда подтверждались мои предположения. Каждую ночь убеждало меня Небо в моей правоте. На небесной сцене звезды исполняли тот самый танец, который я задумал для них. Они будто читали мои мысли.
Пять звезд, которым я дал имена своих братьев и сестер, двигались иначе, чем остальные, казалось, нарушая установившийся порядок. Но я уже знал, что это лишь кажется. Все дело в том, что они обращаются вокруг Солнца Ра точно так же, как и наша Земля. Две из них ближе к Солнцу, чем Земля, а три — дальше. Все остальные звезды не изменяют своего положения на небе. Это доказывает, что они очень далеки от нас. Так подтвердилась еще одна моя догадка.
Постепенно мне стало ясно, почему в разное время меняется вид ночного неба: Земля обращается вокруг Солнца Ра, и мы смотрим на небо из разных точек, иначе говоря, видим разные части его. Точно так же, как если бы мы стали обходить храм, став к нему спиной. Тогда нам поочередно открывались бы сначала сады на юге, потом горная цепь Сен на западе, поля с оросительными каналами на севере, море на востоке. Понял я и другое — как сменяются день и ночь. Объяснение оказалось невероятно простым. Земной шар, медленно вращаясь, поворачивается к Солнцу разными сторонами. Поэтому не в одно и то же время восходит Солнце Ра и наступает день в разных местах земли.
Так из ночи в ночь, из года в год покорялось мне Небо. До тех пор, пока внезапно не вышло у меня из послушания; извлекло из своих недр несуществующую звезду — Пелу, священную змею. Никто кроме меня ее не заметил. Один я знаю звездное небо так, как солдат каждую зазубрину на своем мече, как рыбак каждую излучину реки Ханы.
В ту ночь, когда я отмечал на своей карте неба новое положение Мара и Йопа, она была еще крошечной, едва заметной точкой. Но ошибки быть не могло — прежде ее на этом месте не было. Пела вынырнула из мрака, как священная змея из глубин озера Кол. Никто и никогда ее не видел, но все верят, что живет она в темных глубинах и что голова ее распространяет сияние. Ее появление должно повлечь за собой великие события. Какие именно — никому неизвестно. Поэтому я дал новой звезде имя священной змеи, не подозревая тогда, что тем самым снова предвосхитил грядущее. Пришло время, и я понял, что она оправдывает свое имя.
В тот вечер, когда Кретон пришел ко мне, я только вернулся из храма, где готовился к свершению обряда Вечного Огня. Едва я переступил порог дома, ко мне бросилась Изида. Ноги ее были босы, волосы распущены. Так по обычаю наших женщин она предупреждала о грозящем несчастье.
— Они только что были здесь, — взволнованно сообщила Изида.
— Ты о ком? — спросил я, хотя уже понял, что произошло.
— Я их не знаю. Какие-то стражники. Их послал Совет. Они сказали, что им нужны только твои приспособления для наблюдения за небом, и унесли все, что смогли, а остальное разбили.
Значит, Совету все известно: Кретон донес на меня.
Он, наверняка, не сомневался, что действует во имя моего же блага. Как иначе излечить человека, постоянно употребляющего траву марихуаны, от которой мутится разум, начинаются галлюцинации? Только отобрав у него ее. И у меня отняли мою «марихуану» — мои трубы для наблюдения за небом, угломеры, водяные часы. Но папирусы, где записаны результаты моих наблюдений, им не удалось найти. Я ношу папирусы на себе, обмотав вокруг тела. Совет сможет получить их, только убив меня. Не думаю, чтобы они решились на это. Все-таки я Верховный Жрец, меня почитает народ. К тому же ничего предосудительного я не совершил. Сейчас важно одно — о моем открытии известно не только Кретону, но и всем остальным в Совете. Только бы они поняли, что оно означает. Но я очень сомневаюсь, поймут ли.
«Истину нельзя познать. Ее можно только получить в дар от богов, если ты этот дар заслужил», — вспомнились мне слова Кретона. Я подарил ему Истину, хотя он ее не заслужил. Она не нужна Мудрейшим. Я, только я, с самого начала стремился познать ее. Для всех остальных моя Истина — бред человека, напившегося воды из источника Килтарам.
Как сообщить людям о том, что их ждет? Может быть, в один из вечеров обратиться с башни храма к народу? Но это было бы чистейшим безумием, бесполезной жертвой. Кто-нибудь из моих помощников силой заставит меня замолчать. Если еще прежде не разнесет меня в клочья ворвавшаяся в храм толпа. Нельзя враз отнять у людей то, во что они привыкли верить испокон веков. Мечом, наверно, возможно, но словом — нет.
Моя Пела вынырнула не из бездонных глубин озера, а из бездонных глубин неба. И она не змея. Я один знаю, что такое Пела. Человек, пожелавший понять, откуда она взялась и какую роль сыграет в нашей жизни, прежде должен научиться смотреть на Небо моими глазами. И на Землю тоже.
Взгляд мой упал нa белый гребень из слоновой кости, скреплявший уложенные в высокий пучок длинные волосы Изиды. Слоновую кость привозили на судах с далекого восточного побережья, считавшегося краем земли. Все думают, что там, на востоке, у океана кончается земля. Но теперь я знаю, что это совсем не так. За океаном лежат другие, не известные нам земли. И вообще никакого края у Земли нет и быть не может — ведь она шар.
Я смотрел на небо, и взгляд мой невольно обратился к тому месту, где должна находиться она, моя Пела. Ночь еще не наступила, но в вечернем сумраке звезда была уже заметна. Всего несколько звезд светили ярче ее, но я знал — скоро Пела засияет ярче самой яркой утренней звезды Вены, которую я назвал именем своей сестры. Потом Пела станет видна и днем. Может, тогда люди поймут, что им грозит, убедятся, что я был прав. Но я уже буду далеко. Теперь я больше не могу оставаться здесь. Попрошу Совет Мудрейших снять с меня звание Верховного Жреца. Уверен, они охотно согласятся. Людям скажут, что я оставил суетный мир, дабы в тиши пустыни Хон возносить молитвы великому Ра.
На самом же деле я уеду. Отправлюсь на корабль как можно дальше от нашего острова на Восток, а там — в глубь большой земли. Хорошо бы, конечно, уехать не одному. Вот если бы ко мне присоединился мудрейший Арахом…
Мои размышления прервал стук у входных ворот. Изида послала раба открыть, а сама в страхе прижалась ко мне.
— Это опять они, — прошептала она. — Что ты им сделал плохого?
— Не бойся, Изида. Это не они. — Удары были робкими, с длительными перерывами.
У меня уже мелькала догадка, кто этот нежданный гость. Действительно, я не ошибся. К дому приближался один из Мудрейших — старый Арахом. Его незрячие глаза были устремлены вперед, он шел, держась за рабаповодыря.
— Приветствую тебя, Фа Раон, — он протянул мне правую руку, как принято только между добрыми друзьями.
— Счастлив видеть тебя, Мудрейший Арахом, — опустившись на колени, я сжал его руку в своих ладонях. — Нет ничего слаще для, моих ушей, чем внимать твоим речам, нет большей радости для глаз, чем лицезреть твой святой лик. Какие добрыевести принес ты в этот поздний час в дом, который незадолго до этого опустошили стражники, посланные Советом?
— Ты прав, Сын Солнца, ночная тьма скоро опустится на землю. Но она не помешает нам. — Его пальцы, едва касаясь, пробежали по моему лицу, чтобы определить его выражение.
Я действительно был рад Арахому, и он, поняв это, удовлетворенно кивнул.
— Мне тоже приятна всякая встреча с тобой, Фа Раон. Ночная же тьма меня не пугает — для старого Арахома уже давно не кончается ночь, есть Ра на небе или его нет. Но я пришел к тебе с необычной просьбой.
— Все, что в моих силах, я готов сделать для тебя.
— Я хочу, чтобы ты показал мне то место на небе, где находится твоя Пела, священная змея.
Если бы это был не Арахом, а кто-нибудь другой, я принял бы его слова за насмешку. Но я знал — это не в правилах мудрейшего Арахома. Я подвел его к выходу на террасу и повернул лицом на юго-восток, туда, где уже видна была Пела. Несколько минут мы стояли молча. Невидящий взор Арахома был устремлен ввысь.
— Я узнал все от Кретона. Сегодня собирался Совет, и он поведал нам о твоих откровениях. Они не поняли и осудили тебя. Но я верю тебе. К сожалению, только один я.
— Отче, я всегда преклонялся перед твоей мудростью.
— Мудрость давно покинула нас, Фа Раон. Ее свет угас. Мы все больше погружаемся во тьму невежества. Мудрейшие боятся, что знание пошатнет веру в богов.
— Ты в самом деле веришь в мою правоту, Арахом?
— Верю и в твою правоту и в тебя, Фа Раон. Я и сам пытался раскрыть тайну Неба, но мои старания оказались тщетными: без наблюдений я не мог найти подтверждения своим мыслям. Теперь благодаря тебе я нашел подтверждение своим догадкам. И мне радостно оттого, что они оказались верны. Я даже могу себе представить, где появляется твоя Пела, священная змея.
Сославшись на слабость, Арахом выразил желание немного отдохнуть. Изида принесла ему мое любимое плетеное кресло.
На землю опустилась ночь, и небо было усеяно звездами — новая луна еще только нарождалась. Арахом долго молчал, потом поднялся с кресла и, поддерживаемый рабом, сделал несколько шагов вперед. Он поднял глаза к небу, словно стараясь разглядеть что-то, и на удивление точно повернулся в сторону, где должна была находиться Пела.
— Когда взойдет твоя Пела, священная змея?
— Пока не могу точно сказать. Вероятно, не раньше чем наступит полнолуние. Она сейчас все быстрее приближается к Земле, потому что яркость ее увеличивается. Она летит прямо навстречу нам.
— Откуда взялась эта Пела? Как велика она? И что собой представляет?
Я горько усмехнулся.
— Мудрейший Арахом, хотя ни ты, ни я не верим древнему пророчеству, ему предстоит сбыться самым неожиданным образом. Вопрос только в том, будет ли это означать конец всего мира или лишь великую трагедию. Я не знаю, каких размеров Пела, но думаю, гораздо больше гор Сен. Может, она такая, как наша Земля, а может, немного меньше. Сейчас она кажется небольшой точкой, но на самом деле она достаточно велика, чтобы столкнувшись с Землей, вызвать огромные разрушения, а то и ее гибель.
— Да, я уже слышал об этом. Это за эти мысли тебя обвиняет Кретон, а с ним и все члены Совета. — Арахом повернулся ко мне лицом. — Потому я пришел к тебе, Фа Раон. Меня обязали сообщить тебе решение Совета, хотя мне очень горько это делать. Я предпочел бы, чтобы этим вестником был кто-нибудь другой. Но пути судьбы неисповедимы. Нам предстоит расстаться как раз тогда, когда мы обнаружили свое единомыслие. Совет повелел сообщить тебе, что отныне ты и Изида изгоняетесь из Атлы. Послезавтра вы должны отплыть: судно будет ждать в заливе. Вы навсегда покинете Атлантиду, возвратиться сюда ты можешь только для того, чтобы принять смерть. Таково решение Совета. Единственным, кто был против такого решения, оказался я, и потому именно меня послали сообщить решение Совета тебе. Может, они втайне надеются, что и я захочу вместе с вами покинуть Атлу.
— А почему бы и нет, мудрейший Арахом? Если размеры Пелы меньше, чем я полагаю, и упадет она в океан, выжить смогут лишь те, кто будет находиться дальше от побережья, во внутренней части земли. За горами, на востоке, лежат обширные земли, а наша Атлантида — лишь окруженный водой остров. Если Пела упадет в море, волны затопят его.
— Нет, Фа Раон, я останусь. Слишком я стар, чтобы бежать от смерти, тем более что она так спешит ко мне прямо с Неба. Уехав, ты спасешься. В сущности Совет спасает тебя от бедствия, в которое не верит. А может, все еще кончится благополучно, может, уцелеет Атла. Тогда я смогу доказать им, что ты был прав, и тебе разрешат вернуться.
— Добрейший Арахом, твоими бы устами да мед пить. Но умоляю тебя ради всех святых, уйди в ущелье гор Сен. Если милостив бог, может, не доберутся туда океанские волны.
— Я послушаюсь тебя, Фа Раон, и отправлюсь, как только Луна войдет в первую четверть. Ты будешь уже далеко на востоке. Если же с тобой что-то случится, а я переживу столкновение с Пелой, знай — своим ученикам я поведаю о мире, который ты открыл нам, бессонными ночами наблюдая Небо. Тогда другими глазами и мы будем смотреть на него.
Так закончился наш разговор с Мудрейшим Арахомом за два вечера до того, как я отправился в изгнание, покинул родные края, которые мне никогда больше не суждено было увидеть… Однако я, можно сказать, побывал здесь еще раз.
Это было через несколько месяцев после падения Пелы. Судно, на котором я приплыл, кружило на том самом месте, где совсем недавно находился остров, который считался центром вселенной. Груды обломков затрудняли плавание, бились о борт, сея страх среди рабов-гребцов…
День, когда небо, океан и земля поменялись местами, запомнился людям надолго, ужас наводило одно слово «Атлантида». Чтобы память о нем не стерлась в веках, я повелел высечь на камне это послание к людям будущего. Сам я не видел гибели Атлы, сюда, на далекий восток, на берега великой реки Миср, докатились лишь отзвуки катастрофы. Но я хочу, чтобы после нас осталась не просто память о ней, а то, что гораздо важнее: истина о Небе, с которого упала звезда. О Небе, тайны которого еще предстоит раскрыть тем, кто придет после нас.
Эдуард Журист ПОСТТЕЛЕМАТИЧЕСКАЯ ЭРА[16] Пер. Т. Ивановой
— Вот этот дом, — сказал мой сопровождающий. — Пока он единственный в своем роде, но скоро такие дома станут совершенно обычными.
Я скептически улыбнулся. Сыт я по горло подобными эпохальными открытиями. Я работал в бюро патентов и открытий, и моя миссия заключалась в том, чтобы отклонять предложенные открытия (их одобрением занималась другая служба) под тем простым и хорошим предлогом, что мы живем в эпицентре непрекращающегося взрыва открытий и новшеств и если бы человечество принялось все их внедрять, у него не осталось бы времени наслаждаться их результатами. Однако этот человек пришел ко мне не обычными путями (имейте в виду, что в нашу посттелематическую эру «обычный путь» по-прежнему означает «с рекомендациями сверху, справа и слева»), а был внуком лучшей школьной подруги моей бабушки, и, конечно, в посттелематическую эпоху тоже никто не может отказать в небольшом удовольствии своей бабушке, этому милейшему существу, с которым ты оставался вдвоем длинными зимними вечерами, когда родители уходили в театр, в кино или ресторан. Внук был весьма симпатичен. Он походил скорее на виолончелиста в оперном оркестре (галстук-бабочка, лысина, бархатный пиджак, сильно вытертый на локтях), чем на физика, инженера, специалиста по автоматике или кибернетика наших дней. И вот мы стоим перед экспериментальным домом, и я жду, когда этот человек произнесет нечто вроде «сезам откройся», к которому мы привыкли в последнее время. И в самом деле, «виолончелист» подходит к крохотному микрофону, вделанному в дверь, и говорит:
— Это я…
Значит, угадал. Отпечатки голоса и т. д. и т. д. Но, к моему удивлению, хотя дверь и ответила сигналом узнавания, но вслед за этим послышался мелодичный голос компьютера двадцать четвертого поколения.
— Попрошу тебя сказать, сколько будет, если сто семьдесят четыре помножить на семьдесят два.
В недоумении я уставился на хозяина. Лицо у него было подчеркнуто равнодушным.
Он задумался на минуту, потом сказал:
— Двенадцать тысяч пятьсот двадцать восемь.
— Правильно, — ответила дверь и открылась. Меня пригласили войти.
— Видите ли, — начал хозяин, — кибернетика, автоматизация и вся система компьютеров таят в себе огромную опасность для человечества. Избыточная цивилизация грозит катастрофой. Если нам удастся избежать атомной войны, если мы можем (с относительным успехом) бороться против загрязнения окружающей среды, то перед нами встанет грозный враг человечества — роботизация. Да, роботов мы гуманизировали, но теперь за это расплачиваемся. Мы сами стали автоматами-нажимателями-на-кнопку. Все, что когда-то было утопией, фантазией писателей, сегодня стало банальной повседневностью. Если мы сейчас не начнем действовать, завтра будет поздно. Мы превратимся в примитивных дегенератов, управляющих гениальными идиотами. Надо найти способ, чтобы держать человеческий мозг в состоянии постоянной активности.
Я понял его мысль. И заинтересовался.
— А если у жильца есть карманный калькулятор?..
— Жульничество исключено. Дверь не отвечает, прежде чем не удостоверится, что операция была проделана с помощью биотоков.
Он подал мне знак следовать за ним в простую, но очень удобную гостиную.
Бар был вмонтирован в библиотеку. Хозяин предложил мне выпить.
— Нажмите зеленую кнопку…
— Все-таки кнопка… — улыбнулся я, подумав, что в иных вопросах «виолончелист»-изобретатель проявляет некоторую снисходительность.
Из раскрытого динамика раздался голос компьютера:
— Бурбон или Наполеон?
— Наполеон.
Что же, рюмку коньяку я готов был выпить и без помощи передовой телематической техники.
— Битва при Ватерлоо? — снова раздался голос.
— Тысяча восемьсот пятнадцатый, — сказал я машинально (у меня была хорошая память).
— Восемнадцатое брюмера?
— Государственный переворот. Директория заменена консульством. — По правде сказать, я произнес это с некоторым сомнением. В баре замигал зеленый огонек, решетка раздвинулась, и на подносе появились бутылка коньяку и два бокала.
— Становится заманчиво, — произнес я в задумчивости.
— Хотите посетить жилые комнаты?
Я с удовольствием согласился. Вошли в спальню.
— Допустим, что вы решили отдохнуть…
Хозяин предложил мне лечь в постель, хоть я и не был в пижаме. Я сел, но в этот момент коврик у постели стал меня подталкивать (и как нежно!), из автомата послышалась музыка, и голос компьютера произнес,
— Для приятных сновидений сделай несколько движений.
Начался пятый комплекс релаксации.
После спальни мы посмотрели столовую, представляющую собой нечто вроде кабинета, посредине которого стоял стол в форме яйца. Я сел на очень удобный стул, напротив которого находился обычный экран; без сомнения, на нем можно прочесть последние новости или посмотреть программу телевидения. Я с удовлетворением подумал, что здесь все привычно — обыкновенное жилище современного мужчины. Хозяин догадался, о чем я думаю:
— Ошибаетесь! Допустим, сегодня вам очень захотелось съесть свиную отбивную. Нет ничего проще. Здесь имеется табло, принимающее команду, и транзистор, который доставит вам заказанное блюдо.
Часть столешницы открылась, и передо мной оказался бочонок или, точнее, туба, которая сейчас получила широкое распространение и даже есть в продаже, а первоначально использовалась только космонавтами. Внутри был настоящий жареный поросенок!
Я действовал вполне естественно: вооружившись ножом, стал отрезать от него кусок. Но стоило мне поднести вилку ко рту, как экран осветился, и я «напрямую» мог наблюдать на нем процесс ассимиляции, происходивший в моем организме. В какой-то момент на экране зажегся сигнал, и тот же компьютер проговорил:
— Стоп! Ты достиг допустимого предела! (И в самом деле я уже пообедал и был сыт.) На здоровье!
После чего жаркое перекочевало на ленту транспортера и исчезло.
— Ловко! — сказал я. И снова спросил: — А если я обманываю? Если уже пообедал в городе?
— Не выйдет. Компьютер непрерывно делает общие анализы и, если вы так поступите, запрет вас в доме и заставит поститься день или два — пока не восстановится равновесие углеводов.
Я провел приятный вечер. Когда стали прощаться, хозяин предложил подвезти меня на машине. Я согласился.
— Машина тоже «с шифром»? — спросил я
— Конечно. Но это очень просто.
Он повернул ключ, и, как я и ожидал, послышался вопрос:
— Определение эффекта Мессбауэра.
«Виолончелист» застенчиво обернулся ко мне.
— Вы… вы не помните?
Я пожал плечами.
— Ничего… я живу близко, и маленькая прогулка доставит мне только удовольствие.
Мы пожелали друг другу спокойной ночи и расстались.
Несколько дней подряд я размышлял над тем, что видел, над идеями, предложенными хитроумным изобретателем. И в конце концов написал и передал начальнику отдела, в котором работал, хорошо аргументированный реферат.
Ответ последовал вскоре.
— Не ожидал от вас, — сказал мне начальник, — что вам хватит наглости поддерживать подобные пустяки… Впрочем, — продолжал он, — скажите, это правда, что автор изобретения — внук вашей бабушки?
— Не совсем, — сказал я смущенно. — Внук моей бабушки — я сам. Но моя и его бабушки были подругами, это правда…
— Вот видите, мой дорогой! Как можно! Мы должны сохранять полнейшую объективность. Надеюсь, что впредь вы никогда этого не забудете.
Он нажал на кнопку, дверь кабинета открылась автоматически — и я понял: вот от чего не захочет отказаться и посттелематическая эра.
Золтан Чернаи ЗАГАДКА КАЙМАН[17] Пер. С. Фадеев
Педро отложил гаечный ключ и вылез из люка. Войдя в свою комнату, он выдвинул верхний ящик письменного стола и подобрал лекарства. Высыпав в рот пригоршню таблеток, запил их ананасовым соком. Принял душ, переоделся. Натянул спасательный жилет. Из садка на террасе переложил в бачок два десятка живых сельдей. Отсюда, с террасы, открывался захватывающий вид на серо-голубую гладь широко распахнувшейся лагуны Тарабаха.
По пути в гавань Педро обернулся. Желтое в классическом стиле здание гасиенды и современные корпуса госпиталя, окруженные пальмами, царили над полуостровом. Правда, со времен войны краски живописного пейзажа вокруг поблекли — выжженная растительность все еще не реагировала на времена года.
На террасе гасиенды белела фигурка. «Это Мария, — подумал Педро. — Ну и пусть. Теперь мне все равно. На сегодня рабочий день закончен…»
Он осторожно подвигал больным правым плечом и поспешно переложил бачок с рыбами в левую руку.
На берегу царила полная тишина. Штиль. Вдали над гладью маслянистой воды виднелась едва заметная дымка. Парило. Педро спрыгнул в моторку. «Быстрый» был одним из самых старых катеров доктора. Но Педро любил эту лодку за мощный мотор, с которым можно было выходить из лагуны в Карибское море. Он не раз плавал на «Быстром» в Сан-Хуан и постоянно сновал по лагуне, привозя больных из рыбацких деревушек и с плантаций.
Педро обратил внимание, что странно молчат птицы, не видно обычно многочисленных здесь стаек мелких рыбешек, а вот лягушки, громко квакая, тысячами выбираются на берег и исчезают в густой траве.
Педро снова посмотрел на вершину холма. Над главным корпусом госпиталя рядом с телевизионной антенной неподвижно висело огромное белое полотнище с красным крестом.
— Надо было бы взглянуть на барометр, — пробормотал он. — Но, дудки, обратно я не полезу!
Педро уселся в кресло и осмотрелся. Все было на месте. Он пристегнул ремень и завел мотор. Мгновенно застучали поршни. Вот это движок! Педро развернул лодку носом к выходу из лагуны и включил четвертую скорость.
Солнце стояло высоко. Заканчивался отлив. Вода из лагуны медленно уходила через узкий проход в море, но через полчаса все переменится. А прилив — самое подходящее время для рыбной ловли на затонах Барракуд, в полутора километрах за выходом из лагуны. Там ловили барракуд, крупных морских окуней, небольших акул, иногда попадались даже здоровые меч-рыбы.
Выйдя в море, Педро выключил мотор и перебрался на место для ловли. Справа по борту появилась небольшая стая дельфинов. Ныряя, кувыркаясь и посвистывая, они приблизились к моторке.
— Ти… ти… тааа-ти… ти… та… — начал отвечать Педро на издаваемые дельфинами звуки.
Это стало у них приветствием. В стае было не менее дюжины животных, но только с двумя из них удалось завязать дружбу. Два молодых тупорылых дельфина решались подплывать к лодке очень близко. Более крупного Педро прозвал Майком, а его подругу — Мэри… Он подружился с дельфинами традиционным для рыбаков способом: всегда после рыбалки бросал им остатки наживки.
Его любимцы и сейчас резвились рядом с лодкой. Он швырнул им несколько сельдей. Дельфины хватали рыбу прямо на лету и благодарили его веселыми кульбитами и залихватским свистом. Теперь они издавали только долгие звуки: «таа… таа… таа…»
Цвет воды под днищем лодки изменился: Педро находился в самой глубокой части затона. Он медленно двинулся по большой дуге к белому величиной с футбольный мяч бую и встал на якорь рядом с ним.
Вода по-прежнему была спокойной, дельфины скрылись. Они делали так не впервые, вероятно, чтобы не мешать лову, а к раздаче ужина появлялись снова. Но однажды был случай, когда он едва успевал снимать с крючков улов — дельфины гнали рыбу прямо на лодку.
— Могли бы мне и сегодня пригнать парочку крокодилих! — произнес Педро вслух, имея в виду барракуд.
Он вытащил из приделанного к стенке рубки шкафчика удилища, нацепил живцов — несколько жирных сельдей — и забросил удочки. Немного подождав, пока рыбы ушли на глубину, Педро, подергивая удилища, приступил к рыбалке.
Но клева не было. Напрасно снова и снова забрасывал он снасть, дергал за леску, ни одна рыбина так и не клюнула на приманку. Промучавшись с полчаса, Педро устало откинулся на спинку кресла. Да, став инвалидом, он даже не мог как следует рыбачить, а ведь прежде часами вертелся, забрасывая и свертывая снасти, и не чувствовал усталости.
Между тем как-то незаметно стемнело, солнце медленно садилось за гряду холмов у горизонта. Неожиданно короткий гудок и резкие вспышки света разорвали быстро сгущающийся полумрак. В море шел пограничный сторожевой корабль, он требовал сигнала «свой». Рыбак потянулся к сирене и ответил пятью короткими и двумя длинными гудками. На корабле тут же включили двигатели, и он мигом растворился в сгустившихся сумерках.
Педро снова взял в руку удилище, сменил уже не подававшего признаки жизни живца и тут обратил внимание на странное освещение вокруг. Непроизвольно взглянув в сторону берега, он не поверил глазам: исчезла узкая горловина входа в лагуну! Ее не было! Он видел только стремительно несущийся в его сторону гребень огромной волны. Гигантская водяная лавина стремительно приближалась, а вместе с нею нарастал и зловещий гул!
«Землетрясение! — молнией пронеслось в мозгу. — Как я раньше не догадался?! И птицы, и лягушки — как предупреждали!» Эта мысль заставила действовать еще более четко и решительно. Он мгновенно свернул снасть, задраил дверь рубки и включил мотор.
Несущаяся со страшным рокотом стена воды была уже совсем близко, но он надеялся на мощный двигатель, который не подводил его и при сильном шторме. Уверенным движением он двинул вперед ручку газа, но в этот миг край воронки, образованной приливной волной, достиг моторки и опрокинул ее. Педро только почувствовал, как лодка перевернулась и что-то тяжелое ударило его по голове.
Когда сознание вернулось к нему, вокруг была полная темнота. Моторка спокойно покачивалась на темном зеркале воды. Педро почувствовал соленый привкус во рту, распух и болел язык. Ныли левый висок и затылок. Мокрая шапка прилипла к голове, словно панцирь.
Педро осмотрел приборный щиток: освещение и радиопередатчик были в порядке. Только исчезла антенна — должно быть, ее унесло водой. Компас тоже оказался в исправности. Педро понял, что его отнесло к северу, почти к самой Кубе, в район островов Кайман…
«Не так уж страшно, — подумал он. — Надо держать курс на юг! Уж как-нибудь доберусь до дома!..»
Он стянул с головы шапку, отстегнулся от кресла и полез в моторный отсек. Там он воочию убедился в том, что так насторожило его при взгляде на приборный щиток, — в баке не было ни капли горючего! Видно, какой-то увесистый предмет продырявил бензобак.
Тут Педро охватила минутная слабость. С трудом он дополз до рубки, пристегнулся, достал из аптечки таблетки и, прильнув к крану бачка с водой, торопливо их проглотил (к счастью, бачок оказался цел). Педро сделал еще глоток, чтобы отбить горечь во рту.
«Сейчас надо выспаться. Ведь скоро рассвет! Утром постараюсь починить антенну и попрошу о помощи», — подумал он и, положив голову на штурвал, тут же заснул.
Рассвет разбудил его зарницами и странными хлопками. Он выглянул из рубки и, к радости, обнаружил поблизости стаю дельфинов. Они преследовали косяк сельдей и, оживленно пересвистываясь, успевали завтракать на ходу.
Педро тоже засвистел им:
— Ти… ти… таа… ти… ти… тааа…
Дельфины прореагировали несколько неожиданно — они ушли под воду, а через некоторое время вынырнули совсем рядом с лодкой и окружили ее.
Он не верил своим глазам…
Дельфины были горбатыми! Такие же тупорылые, как и его друзья из лагуны, может, чуть покрупнее, но явный горб тянулся у них вдоль спины!
И звуки дельфины тоже издавали другие…
Прежде, до ранения, Педро был морским офицером, и он понял, что их свист напоминает ему азбуку Морзе. Ему казалось, что дельфины спрашивали у него:
— Кто ты такой? Чем тебе помочь?
— Я — Пе-пе. Из лагуны Тарабаха… Оттащите меня поближе к берегу… — просвистел он в ответ и громко расхохотался, осознав всю нелепость собственного поведения.
А дельфины, собравшись вокруг лодки, высунули морды из воды и, казалось, весело скалились…
И все же он отстегнулся, вылез на нос моторки и вытащил цепь. Но она была короткой, он нарастил ее толстой веревкой с большой петлей на конце и бросил в воду. Дельфины быстро разобрались, что к чему, подхватили петлю, и лодка двинулась вслед за ними.
Во время буксировки у Педро было достаточно времени, чтобы поразмыслить над случившимся. Когда-то в академии он изучал биологию, как заядлый рыбак. Он прочитал множество книг о рыбах. Его всегда интересовали дельфины, но подобного он не мог и предположить.
Внезапно лодка задергалась, пошла рывками, движение ее замедлилось, а вскоре и вовсе прекратилось. Педро огляделся. Вдали, справа по борту, показалась узкая полоска берега. Море по-прежнему было спокойным. Кажется, он уже вблизи побережья Гондураса? Но куда делись горбатые «буксиры»?
И тут он заметил, что слева в пенистых бурунах к лодке несутся несколько огромных зеленовато-серебристых плавников.
«Да это меч-рыба, — со страхом подумал Педро. — Вот теперь конец! И мне, и дельфинам!..» Но не успел он вытащить из шкафчика ружье и обойму с разрывными патронами, как меч-рыба резко развернулась и ушла в глубину.
Сжимая ружье, он всматривался в морскую гладь. И вот слева от лодки из воды показалось огромное беловатое брюхо хищника. Вода вокруг него буквально кипела от ныряющих дельфинов. Теперь они не свистели, а издавали какие-то резкие шипящие звуки.
Педро почувствовал знакомый запах. «Да ведь так пахнет электрический разряд! — сообразил он. — Неужели электрические дельфины?! Как электрические скаты, угри! Даже электрических сомов он встречал в устье возле Сан-Хуана… Но электрические дельфины?!
Дельфины вернулись с поля битвы и снова впряглись в петлю.
Справа все четче проступали знакомые очертания берега. Только исчезла узкая горловина лагуны. «Видно, землетрясение превратило ее в залив…» — подумал Педро и заметил катер, который отделился от берега. Через несколько минут дельфины тоже увидели его — катер явно направлялся к «Быстрому».
Дельфины притормозили, а потом совсем остановились и, приветственно подпрыгнув, скрылись.
— Прощайте, мои хорошие. Спасибо! — крикнул им вслед Педро.
Он молча сидел в кресле, ожидая прибытия «Сильного», на котором к нему спешили Мария и доктор, и неотступно думал о своих спасителях. Что это? Новая порода дельфинов?! Откуда они взялись?! Может, это мутанты? И тут он вспомнил одну старую карту.
В академии они проходили подводную навигацию и географию Мирового океана. Было это на базе «Мариана»… Там он видел карту, на которой черными крестами были отмечены океанские ямы, превращенные в кладбища радиоактивных отбросов! Их помещали в специальные резервуары из железобетона… И теперь он вспомнил — именно такой черный крест был на желобе Кайман! Может, здесь произошла утечка радиоактивных веществ, и это привело к появлению дельфинов-мутантов?.. А может, дело совсем в другом?!
«Сильный» замедлил ход, подойдя к катеру почти вплотную.
— У тебя все в порядке, Пепе?
Педро кивнул, помахал рукой, всем своим видом давая понять, что чувствует себя хорошо. Потом крикнул доктору, чтобы тот бросил ему конец для буксировки. Короткая цепь для этого не годилась, а уздечку дельфины, видно, прихватили «на память»…
«Не иначе, они хотят сохранить все в тайне?» — мелькнула мысль. И Педро решил, что тоже пока никому ничего не расскажет. Ведь бензин у него кончился всего несколько минут назад…
Даина Чавиано ЭТО РОБИ ВИНОВАТ[18] Пер. Н. Лопатенко
Гавана, 19 февраля 2157 года
Дорогой Рени!
Пользуясь случаем, посылаю тебе эту весточку: Леда собралась слетать на Ганимед и зашла попрощаться. И, конечно, до слез довела расспросами о тебе… Узнав о нашей размолвке, она тут же предложила захватить это письмо. Очень кстати — ведь так оно дойдет до тебя куда быстрей! Правда, на Демосе Леда пробудет очень недолго, но, прежде чем отправиться дальше, она успеет оставить в космопорте конверт на твое имя.
Роби передал мне твою записку. Я зачитала ее до дыр. Ну вот, опять плачу, слезы так и льются…
Дорогой! Неужели ты и вправду думаешь, что мы можем расстаться из-за такой чепухи? Нет, право, ты слишком впечатлителен… А все из-за Роби; бедняжка, ведь он всегда поступал из самых лучших побуждений. Ах, если бы ты его сейчас видел — он такой грустный! Это очень эмоциональный робот, и теперь буквально все валится у него из рук. Я целыми днями слушаю его жалобные скрипучие причитания.
Но, положа руку на сердце, давай все же признаем, что и ты, моя радость, тоже кое в чем виноват… Может быть, даже больше, чем Роби. Не будь этих дурацких стеклянных конденсаторов, ровным счетом ничего бы не произошло. А ведь на обертке ясно было указано: «Хранить в недоступном для роботов месте». И о чем ты думал, когда оставил их на кухонном столе? Ясное дело — об этих ужасных круках с Сатурна. Решительно не понимаю, чем очаровали тебя эти мерзкие твари… Ладно, милый, не буду больше об этом.
Так вот, если бы ты хранил конденсаторы в каком-нибудь месте поукромней, Роби никогда не подменил бы их своими. Тебе ведь прекрасно известно, какое действие они производят на чуткий механизм робота. Вот почему, подзарядившись ими, Роби впал в такой транс, что, когда ты попросил «Лунный тоник» для волос, он выдал тебе пятновыводитель…
Повторяю, ты сам во всем виноват. Ну, кому в голову придет держать тоник рядом с шампунем?
Знаю-знаю, о чем ты сейчас подумал: дескать, если бы я внушила Роби, что нельзя без спроса брать чужие вещи, то он и пальцем не тронул бы эти конденсаторы. Что ж, ты прав, но только отчасти. Любимый, ведь Роби совсем малыш, и он не понимает, что такое «нельзя». Ведь роботы заводской марки всегда поступают в продажу с этикеткой «Все знает. Все умеет». Любому ребенку известно, как трудно бороться с самонадеянностью электронного происхождения…
Ты должен забыть тот случай, и пожалуйста, будь справедлив, нельзя же во всем винить Роби. Ты знаешь, в этом пятновыводителе что-то есть… Ну, походил ты с полгода лысым — зато потом как стали отрастать у тебя волосы!
Милый, я так легко читаю твои мысли — пожалуйста, сейчас же выбрось из головы это нелепое происшествие в лаборатории. Ах, уж эта мне лаборатория! Если бы ты знал, как я обрадовалась, когда Роби — пусть и не сразу — все же удалось покончить с твоими экспериментами.
«Это робот виноват!» — вот каким воплем ты встретил то прелестное утро, наступившее после, как ты тогда выразился, катастрофы. А ведь ты и думать забыл, что в тот момент рядом с тобой стоял Роби и твоя ругань могла пагубно отразиться на его психике.
Да мыслимое ли это дело, любовь моя, всерьез полагать, что такой малыш может запросто отличить обыкновенных ящериц от этих самых сатурнианских круков? Даже если глаза у тебя слипались в тот вечер, ты все равно не должен был поручать Роби уборку лаборатории, хоть он и предлагал услуги от всего, так сказать, сердца, и уж во всяком случае — просить его выкинуть дохлых ящериц в мусоропровод.
То, что Роби все перепутал и отправил туда живехоньких круков, не так уж, в конце концов, и важно. Но я никогда не позволю тебе обвинять его в том, что случилось после.
Если твоим обожаемым крукам удалось прямиком с городской свалки забраться опять в лабораторию, разбить там два флакона марсианских чернил, сожрать подопытных мышей и повсюду раскидать листки с твоими никому не понятными записями — все это никак не касается Роби. Он только выполнил твой приказ — ничего больше. А ты, вместо того, чтобы так распоясываться в присутствии ребенка, мог бы наконец и всерьез заняться этой сатурнианской шпаной.
Но нет, это значило бы просить у тебя слишком многого. Круки так вскружили тебе голову! Боже мой, как вспомню… Ведь ты их тогда взял на руки, приласкал — и в клетку, словно в колыбельку…
Стыд и срам, милый! Видели бы наши друзья, как ты стоишь перед этим их, с позволения сказать, домиком, ублажая взор свой созерцанием мерзких чудовищ, которые только и знают, что корчить жуткие рожи и показывать язык.
Нет, я решительно не понимаю тебя. И просто уверена, любовь моя, что ты должен показаться психиатру. Я всегда знала, что работа на Демосе пагубно отразится на твоем душевном здоровье.
Но оставим эту тему, милый. Давай поговорим о нас. Когда ты вернешься на Землю, мы сможем вместе славно провести внеочередной отпуск — на базе никто возражать не будет, я уже все устроила. И, кстати, присмотрела номер в отеле «Селена» — уютное гнездышно, где можно прекрасно устроиться. Говорят, там отличный космический бар — единственное пока на Кубе место, где можно послушать настоящую музыку Вселенной.
Все это время, пока я пишу тебе, Роби стоит рядом, то и дело заглядывая через плечо. Как радостно он замигал своими глазками-лампочками, когда я ему сказала, что ты скоро вернешься. Я уверена — так оно и будет. И не только потому, что ты меня любишь. Ведь больше никто, никогда, ни за что в жизни не возьмет на себя заботу об этих омерзительных круках. Нет второй такой женщины во всей Галактике.
Жду космограмму с датой твоего прибытия.
Любящая тебя Анна
Р. S. Роби просит — если можешь — привези ему чего-нибудь вкусненького. Хорошо бы стеклянных конденсаторов.
Вольфрам Кобер. НОВАЯ[19] Пер. Е. Факторовича
Дангисвейо долго стоял на зеленой лужайке между двумя полосами автострады. Этот предназначенный для парковки машин островок был тенистым, и дышалось здесь легко.
Но не только поэтому он остановился будто вкопанный, вместо того чтобы пройти еще несколько шагов и сесть на одну из коричневых обитых искусственной кожей скамеек.
Погруженный в свои мысли, он все же слышал, как щебечут птицы и тихо шепчется листва подрагивающих на ветру крон. Он наслаждался покоем.
Вокруг ни души. В это раскаленное добела утро окрестные жители словно вымерли. Да и на самой автостраде магнетогляйтеров — раз-два и обчелся.
Он с радостью остался бы здесь если не навсегда, то очень надолго, лишь бы не переходить на другую сторону автострады. До жилой башни, куда он хотел, а вернее, обязан был зайти, каких-то пятьсот метров, но этот путь стоит для него не меньших усилий, чем сверхдальний космический полет.
Мысленно он не раз уже открывал входную дверь, но так и не решил, воспользуется ли лифтом или поднимется на двадцать первый этаж пешком — только бы хоть немного отдалить встречу с Веленой. Чем она ближе, тем меньше его уверенность в себе.
Еще немного он простоял в нерешительности. А потом подумал: «Что изменится, даже если я здесь останусь до завтра? Все равно придется идти. Она ждет меня, потому что хочет узнать все о Нормене… И я ей обещал рассказать…»
Он проклинал себя за то, что согласился.
Дангисвейо ступил на пешеходную дорожку. Первые шаги были вялыми, неверными. Но потом он овладел собой, и походка стала привычной, пружинистой. Поднимаясь по лестнице, он умерил шаг. Нет, не от усталости: для его сильного, тренированного тела такая нагрузка нипочем. Наоборот, прыгая по бесчисленным ступенькам, он испытывал незнакомое ему до сих пор мучительное удовольствие — и наслаждался им. От движения выветрились всякие мысли, и он успокоился.
Наконец дверь Ведены. Он немного помедлил, а потом решительно нажал на пластинку вызова и попытался изобразить на лице улыбку.
Дверь открыла сама Ведена.
— Входи, я ждала тебя, — проговорила она, и ему почудилось в ее голосе оживление, а может быть, даже радость. Но нет, скорее всего он ошибся… — Я давно тебя жду…
Задержавшись у автомата для чистки обуви, он двинулся вслед за хозяйкой дома по длинному коридору, покрытому ворсистой ковровой дорожкой.
От бархатного платья Ведены исходило мягкое фиолетовое мерцание, оно подчеркивало мягкие линии ее тела. Длинные, по пояс, волосы, движения сдержанные, но исполненные внутренней энергии.
Он тщетно силился вспомнить название ее любимых духов.
— Садись, я приготовлю чай, или ты предпочитаешь кофе?
— Честно говоря, сейчас мне не повредил бы стаканчик виски. Каплю виски и побольше льда.
— Я же не пью спиртного и даже в доме не держу. Разве ты уже забыл, Гирл? — проговорила она с явно вымученной улыбкой. Сейчас он это не только почувствовал, но и увидел.
— Извини, я действительно забыл. Мы так давно не виделись.
Улыбка с ее улица не исчезла, только углубились складки у рта.
Дангисвейо знал, о чем она сейчас думала. Он никогда не был особенно внимателен к ней, никогда не старался понять, что ее занимает и тревожит, — вот и вышло, что он упустил в их совместной жизни главное. Словно не заметил расставленных на дороге огромных предупредительных щитов, которые другим видны уже издалека. Поверхностный, нечуткий — вот в чем упрекала его Велена, когда ушла к Нормену Лармонту. Она искала глубоких чувств, нежности и понимания — он, Дангисвейо, этого дать ей не мог.
Но теперь все в прошлом…
Обжигающе горячий чай они пили молча. Откинувшись на спинку кресла, он делал вид, будто его занимают два пряных лепестка фиалки, которые плавали в стакане.
— Не тяни, Гирл. Говори. Ну, пожалуйста, — вдруг очень тихо сказала она.
Дангвисвейо даже вздрогнул.
— Да, хорошо, — согласился он и снова умолк. Он не знал, с чего начать. С их разлуки, с его ненависти к Лармонту? Или с полета «Ромула»? А может, сначала рассказать об арайцах? И какие найти слова, чтобы она увидела происходившее его глазами? Чтобы не обидеть, а утешить ее… Он мысленно не раз и не два выстраивал свой рассказ. А теперь все мысли выветрились…
— О ходе вашей экспедиции я знаю почти все. Из официального бюллетеня. Расскажи мне о нем.
«О нем!», — подумал он с горечью, хотя вполне ее понимал. Нормен Лармонт не вернулся. Он погиб. И Ведена, любившая Лармонта, имела право узнать все.
«Но почему она просит об этом меня? — спрашивал он себя. — Почему не кого-нибудь другого? Ведь она знает, что Лармонт стоял между нами всегда, еще до того, как она ушла к нему, и как меня это уязвило. И почему я не отказался прийти к ней?..»
— Поверь, Ведена, мне горько и больно, что все так произошло. Все мы переживаем потерю Нормена и остальных. А я…
— Нет, — резко оборвала его женщина и так решительно поставила чашку, что звякнула ложечка на блюдце. — Не верю! Ты никогда ни за кого не переживал. А если и переживал, то только из-за уязвленного собственного самолюбия. Ты всегда и во всем видел только себя и свое отражение. А что происходило с другими — тебя не волновало.
Он хотел было возмутиться, но в глубине души признал, что она права. Конечно, о гибели Нормена он не горюет. Это всего-навсего маска… Он всегда недолюбливал его.
1
Когда межпланетный корабль «Ромул» опустился на планету Ара, все в экспедиции знали, что здесь есть жизнь.
Несколько лет назад специальный комплексный зонд установил наличие на планете растительности. Для научных сотрудников с базы «Волк-424Б» это было необъяснимой загадкой, ибо небольшая планета находилась в четырех АЕ от расчетной экосферы карликового солнца Чирны. Вдобавок Чирна была окружена сферой, содержащей частицы алюминия и магния, которые отражали ее излучение.
Представить, что на одной из двух планет этого солнца есть растительный мир, было просто немыслимо! И тем не менее… По данным спускаемых капсул на дневной стороне планеты средняя температура составляла плюс девять градусов по Цельсию, а на ночной — минус двадцать семь. Ара, ротационный некроид, больше не вращалась. Но обладала огромным запасом накопленного тепла.
Вот почему и была создана экспедиция для обследования планет Чирны. Уже пролетая по ее орбите, космонавты получили подтверждение данных, переданных с зондов. Командир корабля Гарпойе принял решение о посадке на Ару. Первые дни после приземления прошли весьма обыденно: подготовка к выходу на планету, затем тщательнейший осмотр и изучение района приземления. Приказы командира не обсуждались, не принимались во внимание никакие возражения. Безопасность участников экспедиции — вот первейшая заповедь для командира корабля!
— А чем занимался в это время Нормен? — спросила Ведена, терпеливо слушавшая это пространное вступление Дангисвейо.
— Будничной работой, как и все. А потом он отправился в местную экспедицию. Вместе с Клудером, ты его знаешь. И еще… с Ани. Мы с ним редко встречались, и я мало что о нем слышал. Сама понимаешь, каждый был занят своим делом. На первых порах очень трудно привыкали к темноте.
Его так и подмывало сразу выложить ей, что на самом деле он пристально следил за тем, как шли работы у биологов, а особенно за теми отношениями, которые возникли между Норменом и Ани, но в последний момент все-таки прикусил язык.
— Я ждала от вас вестей, — сказала она, подливая чай.
Дангисвейо понял, кого Ведена подразумевает, говоря от вас.
— Передать что-либо на Землю мы не могли. Слишком много помех из-за сферического кольца Чирны.
— А через релейные спутники?
— Они отключились. Мы не могли пробиться даже до базы «Волк».
Дангисвейо потянулся за печеньем и быстро сунул его в рот, чтобы не продолжать. То, что он сейчас сказал, было полуправдой. В бюллетенях не сообщалось, что радиосвязь все же осуществлялась — после того как удалось образовать вторую цепочку спутников. Просто во время драматических событий на Аре никаких передач не велось. Сам же Лармонт и не просил сеанса для личной связи. Он, Дангисвейо, это проверил. Нормен не пожелал говорить с Веленой — ему дороже был покой Ани. С его, Дангисвейо, точки зрения.
Ему не терпелось сказать об этом Велене, открыть ей глаза, но он опасался, что она сразу догадается, что им движут не самые благородные намерения.
— …и только много позже мы узнали об открытии, сделанном группой Лармонта: оказывается, они обнаружили на планете разумную жизнь.
2
Группа биологов натолкнулась в устье реки на запруду. Случилось это через две недели после посадки. Свои исследования они несколько дней проводили в тайне. А потом оправдывались перед командиром корабля тем, что искали убедительные доказательства своей гипотезы, иначе их просто подняли бы на смех.
Никто, конечно, хитрецам не поверил. Но возбуждение и восторг охватили всех, и на сей раз Гарпойе решил выговора биологам не объявлять. Или это был всего лишь дипломатический ход с его стороны? Рано или поздно он не мог не заметить, что его подчеркнутая педантичность кое-кому из экипажа действует на нервы.
Плотина из каменных глыб и бревен была разборной, и вне всякого сомнения соорудили ее разумные существа.
Накопленная вода частично спускалась по каналу длиной километра в два, который протянулся вдоль устья, орошая, пусть и довольно скудно, узкие прибрежные поля, поросшие какими-то вьющимися растениями.
Во всяком случае, биологи полагали, что это поля, насколько разительным было сходство с земной агротехникой.
Никаких следов тех, кто построил плотину, Лармонт не нашел, хотя искал ихбез устали. Он предполагал, что они живут за плоскими холмами, которые ограничивали каменистую равнину, послужившую посадочной площадкой для их корабля.
Гарпойе объявил район холмов нулевой, то есть запретной, зоной, где никто не смел появляться. А потому напасть на след хозяев планеты еще долго не удавалось.
Группа техников перестроила плотину, так что канал стал пропускать вдвое больше воды. А несколько дней спустя, когда ничего примечательного все же не произошло, обстановка на «Ромуле» напоминала грозовую тучу, готовую вот-вот разрядиться. Ждать, пусть и сравнительно недолго, ничего не предпринимая, особенно когда командир натянул вожжи до предела, не слишком-то приятно. Эмоции требовали выхода.
— За это время поведение Нормена заметно изменилось. С нами он больше отмалчивался, зато мы часто видели, как он в чем-то горячо убеждает Ани.
Дангисвейо испытующе посмотрел на Велену, но та выдержала его взгляд.
— До меня дошел слух, — продолжал он, — что он впервые серьезно схлестнулся с командиром. Но не исключено, что это было только слухом. Вроде бы он требовал снятия запрета с нулевой зоны. И вроде бы поссорились они не на шутку. Апарисио сказал мне, будто Нормена даже посадили под арест. Во всяком случае, мы его целыми днями нигде не видели.
— Под арест? — удивилась Ведена. — Разве у командира есть такие права?
— В исключительных случаях права командира неограниченны. Ну, я-то думаю, что это был всего-навсего слух, сам я этого не проверял.
На самом же деле Дангисвейо всеми правдами и неправдами пытался разведать, почему Лармонт подвергся столь строгому взысканию; но всякий раз наталкивался на стену молчания. Те, кто мог это знать, держали все в тайне, как и командир. Дангисвейо не удалось ничего выяснить даже из приватной беседы с Гарпойе, когда он как бы между прочим пустил в адрес Нормена несколько туманных намеков.
— Мы встретились с Норменом снова, только когда удалось установить контакт с обитателями Ары. Дальновизоры показали, что к «Ромулу» приближаются какие-то существа. Но по непонятным причинам нам никак не удавалось получать четкие голограммы. Одни смутные очертания. Потом и они пропали… Но остался подарок — букет неизвестных нам цветов! К превеликому сожалению, эти сорванные растения увяли, и часа не простояв в нашей лаборатории. На следующий день (я имею в виду земной день — ведь на этой планете день не сменяет ночь) цветы появились вновь. Ты не можешь себе вообразить, до чего это было неожиданно и радостно!
Дангисвейо улыбнулся, вспоминая.
— Мы ожидали появления их посланцев, которых почему-то представляли себе стеснительными, опасающимися встречи с незнакомыми разумными существами. Не тут-то было! Неожиданно «Ромул» окружила целая толпа этих человечков, бестолковая и суетливая: матери с детьми, старики, мужчины. Приятно удивляло их наивное любопытство: как они ощупывали опоры корабля, как щебетали при этом! Ты ведь уже знаешь, что звуковые колебания у них главным образом в диапазоне УКВ, а видимый мир они воспринимают с помощью радарных сенсоров.
— И никого из них больше нет… — тихо проговорила Ведена.
— Что делать? Приходится примириться с этим, — не сразу, но твердо проговорил Дангисвейо.
3
Была и еще причина, почему их направили к Чирне, но на первых порах о ней знали только астрофизики.
Дело в том, что сферическое кольцо, окружавшее Чирну, мешало базе «Волк» заниматься исследованием энергетических процессов, происходящих на солнце.
Стоило кораблю проникнуть в систему Чирны, как ученые сразу обратили внимание на нестабильные условия излучения и гравиметрические изменения, однако этому сразу не придали должного значения. Но спустя некоторое-время было установлено, что в течение года Чирна превратится в Новую. А это значило, что Ара и ее цивилизация обречены на гибель.
— Когда Нормен сказал: «Они погибнут!» — никто из нас этому не поверил. Такое даже отдаленно трудно себе представить. А меня его слова тем более удивили, что вид у него был такой… будто эта трагедия его не касается…
— Ты его не выносил, правда? — прервала Ведена. — Больше этого — ты его ненавидел. Но Нормен не из таких, тут ты ошибся. Он тонкий и душевный человек и для других собственной жизни не пожалеет. Нет, Гирл, здесь ты не прав…
Дангисвейо ощутил озноб. О нем бы она никогда так не сказала… Он пришел сюда, чтобы швырнуть ей в лицо правду, объяснить, что Лармонт ее обманывал — а Ведена его защищает, больше того — возвеличивает!
Он вспомнил, как вели себя в острейший момент на «Ромуле» он и Лармонт.
Один из техников предложил «подзарядить» Чирну с помощью пульсатора. Но тогда, израсходовав значительную часть запасов аркониума и антивеществ, космонавты обрекли бы себя на многолетнее пребывание на Аре, добившись лишь короткой, не поддающейся точным расчетам отсрочки возникновения новой.
Дангисвейо сразу же выступил с возражениями. Более приемлемой ему представлялась идея химика Вуда: отобрать группу арайцев, чтобы спасти хотя бы нескольких представителей этой цивилизации, а на Земле найдется способ создать необходимые для их жизни условия… Тем самым люди Земли не отмахиваются, не снимают с себя ответственности. Но кто способен, кто в состоянии обратить чувства в реальные дела? В подобных условиях любое решение будет половинчатым. Улететь, не оказав помощи, — значит бежать, подобно преступникам. Остаться здесь — тоже невозможно. А чем помочь, когда почти нет времени? Поэтому предложение Вуда видится наиболее оптимальным, с чем согласен и сам Гарпойе.
Не успел Дангисвейо закончить, как вскочил с места возмущенный Лармонт.
— И кто же возьмет на себя смелость произвести отбор? Кто из вас пойдет и скажет: «Послушай, мать, ты спасешься, но для твоей сестры и твоего мужа места у нас нет, им придется умереть!» А кто позволит себе столь неслыханную жестокость, как без ведома и согласия оторватв их от родины, даже если планете суждено хоть десять раз погибнуть!..
Тогда Дангисвейо обвинил Лармонта в излишней сентиментальности, в том, что эмоции у него превалируют над велениями разума и логики.
Да, именно так все и было — тогда. Сейчас же он осторожно проговорил:
— Возможно, ты права, Велена. Наверно, меня удивило, как он это сказал. Больше того, он был сам не свой. Ведь он был одним из тех, кто ближе других сошелся с арайцами.
4
Когда группа космонавтов и ученых вышла из корабля для встречи, арайцы сразу окружили их тесным кольцом. Они ощупывали, обнюхивали и поглаживали землян. И хотя уроженцам Земли это казалось несколько странным, эта встреча осталась незабываемой на всю жизнь. Особенно памятен совместный праздник.
Привыкшие к постоянной полутьме, наделенные инфракрасными и радарными сенсорами, эти существа явно тосковали по свету, пусть и не очень яркому.
Светились и несколько часов даже излучали тепло чашечки цветов, покрытые неизвестной землянам тинктурой. Землян угощали фруктами со слегка пьянящей мякотью.
Апогеем праздника стали игры арайцев с дрессированными животными, которых с помощью ультразвуков они научили воссоздавать многозвучные ритмы — перед их очарованием не могли устоять и люди, хотя воспринимали эти звуки лишь с помощью специальных устройств.
Лармонту пришла в голову мысль в свою очередь исполнить что-нибудь, и он побежал на «Ромул» за своей гитарой.
Арайцы были вне себя от радости и удивления: оказалось, что они способны воспринимать и низкие частоты.
Сопровождая свою жестикуляцию милым и дружелюбным щебетом, арайцы «разобрали» землян по семьям, взаимные дружеские визиты не прекращались несколько дней, и кое-кому эта неподдельноя сердечность начала даже внушать опасения: а не пострадают ли из-за этого наши исследовательские работы?
Но постепенно большинство ученых отошли от прямых контактов, занявшись своими непосредственными обязанностями, и лишь несколько космонавтов были оставлены для более глубокого изучения жизни арайцев.
Они довольно быстро пришли к выводу, что встретились с общественной системой, находящейся на низком уровне развития, ибо не обнаружили никаких признаков частной собственности.
Из-за невероятно сложных условий поиска установить точное число жителей Ары было невозможно, но мы полагали, что их насчитывалось тысяч двадцать. Вся жизнь арайцев протекала на сравнительно ограниченном пространстве, что, разумеется, сильно облегчало ее изучение и осмысление.
Постепенно, шаг за шагом, устанавливались и уточнялись социальные связи и взаимоотношения этих существ. Они зижделись на родственных связях, причем главенствующую роль в семье играли матери. И рождение детей, и их воспитание проистекали в архисложных условиях, так что выживали лишь немногие.
Лармонту, который поддерживал с арайцами особенно тесные контакты, удалось добиться, чтобы обследовали нескольких беременных женщин. Врачи установили, что матери испытывают недостаток в минеральных веществах и жировых кислотах, что пагубно влияло на развитие новорожденных и их сопротивляемость внешним воздействиям.
Увы, за короткое время ученые не в состоянии были добиться радикальных улучшений, хотя помогали, чем могли, роженицам и спасли не одного младенца.
Но куда важнее, по общему мнению, было убедить арайцев в исключительно дружелюбных намерениях землян к законным хозяевам планеты. И тут нельзя не признать, что весь экипаж «Ромула» открыто восхищался Лармонтом, который все свое время, не зная сна и отдыха, проводил у арайцев, в их жилищах, с их семьями.
— Заболел Клудер, и на несколько дней меня прикрепили к группе Нормена.
— Ты работал вместе с Норменом? — поразилась Ведена.
— Да, — стараясь казаться как можно равнодушнее, ответил Дангисвейо.
На самом деле ему и в кошмарном сне не могло присниться, что Гарпойе отправит к Лармонту именно его. Не иначе командир заметил, что Дангисвейо старается держаться подальше от биолога. Возможно, это было одним из шахматных ходов Гарпойе: заставить их с Лармонтом сработаться и, значит, помириться.
Однако вышло так, что командир добился обратного.
Несмотря на всю свою неприязнь к Лармонту, Дангисвейо не мог сейчас не воздать должного усилиям биолога, не признать его успеха. И сейчас он сказал об этом Велене, правда, с известным холодком.
— Нормен был слишком впечатлительным и эмоциональным человеком, это мешало ему придерживаться утвержденного плана работ. Он опекал эти существа, как отец родной. Старался как можно глубже проникнуть в мир их мыслей и чувств…
Заметив, как просветлело лицо Велены, Дангисвейо запнулся. Он понял: его слова подтвердили именно то, что она хотела услышать о Лармонте — что он человек, готовый принести себя в жертву ради счастья других.
«Совсем ты, что ли, голову потеряла? — подумал Дангисвейо. — Он тебя бросил, а ты вся светишься, когда о нем говорят».
— Я сказал ему, что так работать нельзя — это противоречит плану. Но он пропустил мои слова мимо ушей, продолжал учить арайцев разным техническим приемам, облегчавшим их повседневный труд. А они не отходили от него, глаз с него не сводили, хотя толком ничего не понимали. Слишком они были примитивны…
Ведена громко рассмеялась.
— Как это на тебя похоже, — сказала она пренебрежительно. — Это ты ничего не понял, а не они, арайцы!
Слова Велены выбили его из колеи, но он взял себя в руки и продолжил:
— Пойми, это было моей идеей — передать наши знания арайцам. Геономы нашли в горах залежи железной руды, добывать которую арайцы вполне могли и сами. И мы начали обучать их простейшим способам плавки металла… Потом научили изготавливать элементарные орудия труда… Но обо всем этом тебе известно из бюллетеня. Наконец выздоровел Клудер, и я вернулся на корабль. К тому времени подвели черту под своими расчетами астрофизики.
5
Поскольку процесс возникновения новых и сверхновых досконально не изучен, немало белых пятен было и в отношении Чирны.
Чирна — малый карлик спектрального класса F-0 с абсолютной яркостью +7. И тем самым она попадала в категорию «новообразующих» солнц.
Было отмечено появление первых абсорбционных линий и серьезных гравитационных колебаний, а также понижение уровня выделяемой энергии. Насколько мы понимали, с этого момента Чирна вступила в стадию предновой. За несколько дней до самого взрыва произойдет предпорожный гравитационный шок. Это случится месяца через четыре, но не позднее чем через семь. Зная силу шока, можно с помощью шкалы Гаатава уточнить, будет ли это быстрая или медленная переменная.
Спорными оставались сила и последствия взрыва. Масса Чирны — три четверти массы Солнца. Ара находится на расстоянии 600 миллионов километров от Центрального созвездия. Сфера из частиц алюминия и магния поглотит часть выделившейся энергии.
Быстрая новая буквально в течение нескольких дней сбросит материальные оболочки, которые способны достичь Ары через восемьдесят часов. Геономы утверждали, что в таком случае радиоактивное излучение и разогревшаяся атмосфера приведут к гибели всей флоры и фауны. После испарения полярных шапок и льдов на ночной стороне настанет черед обитаемой стороны Ары — воздух здесь перенасытится испарениями, что вызовет повышение альбедо, после чего произойдет резкий прыжок температуры — до пятисот градусов.
В случае возникновения медленной новой Чирна только местами изрыгнет материальные облака, которые через три-четыре недели попадут на планету. Эти извержения будут значительно менее энергоемкими, но, как правило, они длятся много дольше, так что можно ждать сходных результатов: нагревание Ары будет не столь резким и скачкообразным, но и двухсот градусов окажется довольно, чтобы превратить планету в бионекроид.
— Когда астрофизики доложили о результатах проделанной ими работы, мнения у экипажа разделились. И так как абсолютным большинством голосов предложение Вуда было отвергнуто, не оставалось ничего иного, как предоставить планету ее судьбе. А что мы могли предпринять для спасения арайцев? Чем помочь? Решительно нечем. Будь в нашем распоряжении несколько десятилетий — да, тогда с помощью космофлота мы успели бы эвакуировать всех арайцев.
Дангисвейо развел руками, как актер на сцене:
— Противостоять развитию мироздания мы не в силах!
Он ощущал необъяснимую сухость во рту, хотя выпил уже несколько чашек чая, и попросил стакан воды. Отпивая маленькими глотками, Дангисвейо продолжал рассказ:
— Я упомянул о том, что мнения разделились. Мы, то есть одни, смирились с неизбежным и предложили либо прямо сразу оставить планету, либо попытаться все же осуществить идею Вуда. Да, да, не смотри на меня так. Разве был выбор? Мы не всемогущи. Остальные искали возможность спасти арайцев, делая ставку на самый благоприятный исход взрыва на Чирне. Они допускали даже появление новулы. Заговорили о переселении арайцев на ночную сторону планеты. В подземные помещения.
— А Нормен? На чьей стороне был он?
— Да ведь именно он и был возмутителем спокойствия, это он заразил всех такой безумной, бессмысленной идеей! — воскликнул Дангисвейо. — Ты только вообрази: за какие-то полгода оборудовать на глубине сотен метров что-то вроде бункеров, где арайцам была бы не страшна возможная катастрофа.
Ему вспомнились горячие споры на «Ромуле».
— Нет, разве не нелепо было, — продолжал он, — без должных оснований уповать на то, что произойдет не быстрый взрыв, а образуется новула, то есть нестабильная переменная, и потрясения на Аре будут незначительными. Скажи, разве не нелепо? К чему притворяться незрячими и глухими?
Он, Дангисвейо, высказался тогда без обиняков и назвал Лармонта спекулянтом, лишенным здравого смысла. Когда спор достиг предела, командир предложил по очереди проголосовать за все варианты. Это было столь неожиданным, что наступила мертвая тишина. До сих пор все строилось на единоначалии — воля командира, его приказ были для всех законом.
— Но ведь вы все-таки начали строить эти подземные помещения! — вернул его к действительности голос Велены.
— Да, разумеется, — несколько рассеянно согласился он. — Мы голосовали трижды: за немедленный отлет, за переброску нескольких арайцев на Землю и, наконец, за попытку спасти всех — за строительство подземных помещений. Ну, и большинство высказалось за последнее предложение.
— Я тоже проголосовала бы за это, — сказала Ведена.
— Эх… Да можешь ли ты представить, что это значило на деле? Не говоря уже о том, что мы совсем забросили науку и только и делали, что копались в земле, как кроты. И что же? Все зря!
— Что ты за человек, Гирл? — сказала она, невесело покачав головой. — Неужели тебе и в голову не приходит, что люди способны думать, чувствовать и действовать иначе, чем ты?
— Отчего же! Я их вполне понимал — и что они чувствовали, и чего добивались. Но мнения их не разделял.
— Этим-то ты и отличаешься от Нормена.
Дангисвейо так и взорвался:
— В твоих словах нет ни грана логики! По какому праву можно требовать, чтобы я делал то, в бессмысленности чего абсолютно убежден!
6
Согласно расчетам главного компьютера, в случае образования новулы имелся один шанс из двух, что арайцы смогут выжить, но при условии что на ночной стороне планеты не только будут вырыты бункеры на глубине четырехсот-шестисот метров, но и их придется еще прикрыть сверху огромной плотности насыпью. Чудовищные массы земли! Короче говоря, предстояло переместить горы…
Данные со спутников, круживших вокруг Ары, свидетельствовали о том, что на ночной стороне планеты имеются подземные пустоты, напоминающие пещеры под холмами, в которых обитали арайцы на дневной — если эту полутьму позволительно назвать днем — стороне.
На компьютере проиграли возможность использования этих пустот для устройства жилищ. Но при наших запасах взрывчатки и мощности лазеров за это нечего было и браться.
У кого же могла родиться новая светлая идея? Конечно, у Лармонта, у кого же еще?! Он предложил снять с «Ромула» аннигилятор. А командир Гарпойе приказал снять сразу оба, определив, однако, точный срок их возвращения на «Ромул»: как-никак аннигиляторы — самая надежная защита корабля.
Несколько дней спустя на ночной стороне планеты был найден участок плоскогорья, наиболее удобный для производства работ. Когда они начались, группа сторонников Дангисвейо тоже не осталась в стороне.
В зону были доставлены первые роботы-землекопы. Всего сорок штук: пятнадцать из них — перенастроенные рабочие машины класса Н и восемнадцать сервоматов. Поначалу использовались только точечные лазеры роботов. Заливая в отверстия жидкий гелий, удавалось малопомалу размягчать твердые и сверхтвердые массы, а затем и убирать их.
Но, если вдуматься, даже строительство и оборудование бункеров далеко еще не решали проблемы.
А что будет с арайцами, когда взрыв все же произойдет? Откуда им брать кислород, чем питаться? И где гарантия, что при изменении гравитационной постоянной не изменится структура планеты и все эти жилища не будут завалены в мгновение ока?
Им потребовалась помощь арайцев. Но для этого они должны были осознать, какие последствия повлечет за собой возникновение новой. Арайцы же для понимания столь сложных физических процессов, мягко говоря, были явно неподготовлены…
Озабоченность и тревога землян поначалу вызвали недоверчивые улыбки этих простодушных существ. Они никак не могли взять в толк, что их солнце, которое они вовсе не склонны были считать источником жизни для своей планеты, что это самое солнце, однажды исчезнув, принесет смерть в их мир. Они с интересом наблюдали за моделью грядущих на Аре катаклизмов, которые смоделировал компьютер, но ничего не понимали. Пределом их мироздания был горизонт. И ни миллиметром дальше. Все, что там, за горизонтом, представлялось им ирреальным.
Психогенетики разработали другую программу и смоделировали будущее с точки зрения арайцев. Они показали, как погибнет на планете все живое. Наблюдавшие эту картину арайцы пришли в неописуемый ужас, однако не отнесли эти события к себе.
Однако если люди имели хоть малейшую надежду осуществить задуманное, без помощи арайцев им было не обойтись.
— Но вам все же удалось убедить их, не так ли? — спросила Ведена. — Каким образом?
— Я думаю, они приняли бы модель психогенетиков за развлечение, пусть и устрашающее, не будь с нами Нормена, — ответил Дангисвейо. — Эти примитивные существа слепо верили ему. Он вместе с Ани прожил среди них несколько месяцев, и именно ему они приписывали снижение детской смертности. Чушь! Вздор! Просто при родах присутствовали наши врачи, им-то и удалось сохранить жизнь десятку-другому младенцев. Но поскольку…
Дангисвейо умолк. Сказать ей, что Ани ждала ребенка от Лармонта? Или сжалиться? Стоит ли она того после всего, что между ними произошло?
Это тоже было одной из причин, приведших его сюда: он заранее предвкушал, как скажет Ведене, что во время экспедиции Лармонт обманывал ее. Злорадство? Да, именно этим чувством он заранее наслаждался. Растоптала его, Дангисвейо, чувства — пусть теперь локти кусает.
— Что ж, не скрою… Ани была беременна от Нормена.
Вот и сказал! Он так и впился глазами в Велену, ожидая, как она себя поведет. Та кивнула и, словно ни в чем не бывало, проговорила:
— Ясно. Продолжай!
— Эти существа видели, что Ани ждет ребенка. Думаю, это удесятерило их доверие к Нормену. После представления, устроенного психогенетиками, они отправились к нему за советом. Они боготворили его. А потом… начали стекаться к нам: сначала десятками, сотнями, а потом и тысячами и помогали, чем могли.
— Разве вы вели работы не на ночной стороне? — спросила Ведена.
— Первоначально туда полетели три гляйтера, а позже Норман сумел уговорить и арайцев. С какими это было связано сложностями и муками, объяснять не стану. Счастье еще, что с дневной стороны на ночную стекала узенькая речка, которая на той стороне превращалась в глетчер. Ими мы и воспользовались.
7
Для создания оптимального опорного момента бурить скважины следовало под углом не менее сорока градусов, но в таком случае не удалось бы вовремя убирать породу. Тогда решили пробурить винтообразную штольню протяженностью километра в четыре и выйти на основной пустотный анклав, который разветвлялся на множество ходов и цепочек пещер. После катастрофы арайцам предстояло все это еще расширить. Короче: необходимо было поднять на поверхность миллионы кубометров пустой породы!
«Ромул» перебазировали на другую стартовую площадку, поближе к месту главных событий. Поэтому первый аннигилятор удалось перебросить и пустить в дело уже две недели спустя. Каждый выброс энергии в считанные секунды превращал в газ огромные массы горной породы. В тоннелях люди работали не иначе как в тяжелых скафандрах, ибо горячие газы рассеивались крайне медленно. Ни о какой свободе передвижений не могло быть и речи…
Взрывы производились в исключительных случаях. А после них тысячи арайцев кровоточащими от порезов ладонями насыпали во что попало землю и щебенку, чтобы вынести на поверхность. Биологи тем временем занимались подбором растений, которые могли бы жить под землей: это хоть как-то решило бы проблему питания… О серьезно поставленных научных опытах тут говорить не приходится. Ученые, не знавшие точно, с какой именно ситуацией арайцам придется столкнуться в действительности, вынуждены были делать ставку на счастливый случай, на озарение, на удачную находку.
Лармонт предложил использовать для производства продовольствия гидропонные резервуары и синтезаторы «Ромула». С их помощью на первое время можно было обеспечить в крайнем случае тысячу человек, но отнюдь не пятнадцать-двадцать тысяч.
— Нормен ярился, как безумный, оттого что Мирел, наш биогенетик, топтался на месте со своими искусственными грибами. Мирел полагал, что в результате ряда мутаций ему удастся приспособить грибницу, быстро созревающую на поверхности планеты, к условиям подземного существования. Тогда грибы стали бы основным продуктом питания арайцев. Но за такой короткий период времени…
Лицо Ведены было спокойно.
— Мы далеко не сразу поняли, с чем в действительности связано предложение Лармонта. Даже я первое время видел только подземные помещения и тоннели. — Дангисвейо холодно усмехнулся. — Я себе даже представить не мог, с какой скоростью аннигиляторы сделают свое дело. Там, в космосе, когда приходилось уничтожить случайный метеорит, ничего подобного я не видел. Ну, вспыхнет на секунду какое-то облачко — и заметить не успеешь. А тут, под землей…
Он со значительным видом надул щеки и медленно выпустил воздух.
— Словом, эти подземные работы оказались даже еще не половиной дела. А что потом началось… Сколько всего нужно было узнать и понять арайцам, чтобы выжить! Знаний, знаний — вот чего у них не было! А как объяснить, если в большинстве случаев им не известны простейшие причинно-следственные связи? Возьмем, к примеру, радиоактивность… Да что там! Приходилось показывать, как смазывать машины и механизмы, которые мы им оставляли. Тысячу раз вдалбливать, как действует система вентиляции. Или как удобрять перенесенную сюда почву естественным путем… Даже понять, почему нельзя разжигать костры в пещерах — чтобы не задохнуться от недостатка кислорода, они не могли. Им пришлось бы перейти на сыроядение… Эх, да мало ли!..
Даже сейчас от воспоминаний о пережитом на Аре у Дангисвейо выступил холодный пот на лбу.
— Чем мы в сущности занимались? Пытались за считанные дни пройти путь тысячелетий! И чем больше вопросов отпадало, решалось, тем более серьезные проблемы вставали перед нами, пока мы не осознали, что все наши усилия в конце концов окажутся тщетными. С таким же успехом мы могли бы преспокойно сидеть сложа руки, а в назначенный час улететь на Землю. Что проку в знаниях и даже в средствах, когда нет времени для их применения! Нет, и все тут!.. Данные компьютера были однозначны: начиная с определенного уровня новулы, все шансы на выживание равны нулю. Не говоря уже о новой…
— Ты способен переложить ответственность за решение на машину? — возмутилась Ведена. — Бездушный аппарат не в праве ничего решать! Это дано только людям, слышишь? Людям! Но не таким холодным эгоистам, как ты, которые думают исключительно о себе! Тяжело дыша, Ведена откинулась на спинку кресла.
— Неужели ты этого не понимаешь. Гирл? Жизнь без борьбы — это пустота, предательство по отношению к самому себе!
Дангисвейо упрямо покачал головой.
— Тебе известно далеко не все. Кое о чем бюллетени умалчивали. Когда арайцы поняли, что Чирна взорвется и что за этим последует, тысячи наиболее пожилых из них покончили с собой. Из страха. А может быть, чтобы оставшимся было легче выжить. Мы обнаружили их трупы. Они перерезали себе горло, протыкали острыми камнями сердце, одна женщина вспорола себе живот… Это было убийство, и повинны в нем были мы…
Ведена закрыла лицо руками.
— Тебе легко говорить о трусости, о предательстве по отношению к самому себе, — в его голосе прозвучала издевка. — Здесь это просто. Тебе не пришлось видеть их мертвецов. А у нас все внутри переворачивалось… Да, ты права. Я и за это ненавидел Лармонта. Я обязан был противиться его планам, не брезгуя никакими средствами. А меня это показное великодушие — как же, спасение младших братьев по разуму! — укачало, как младенца колыбельная песенка. Катакомбы, подземные пещеры… Курам на смех! — Дангисвейо разозлился не на шутку. — Даже при самом удачном исходе мы оставили бы их в жалчайших условиях. Двадцать тысяч существ, страждущих без воздуха, света, пищи, воды, навсегда лишенных естественных условий жизни — мы запихнули бы их в тюрьму, только и всего! И в ней бы они погибли, рано или поздно. Были бы погребены заживо. Нам следовало бы ничего им не говорить и ничего не предпринимать. Улетели бы — расстались друзьями. Зарождение1 новой ошеломило бы их, ни о чем не ведающих… Погибли бы в результате природной катастрофы…
Он вновь овладел своим голосом.
— Мы не боги. Мы не способны переделать мироздание «по своему хотению». Против природы не попрешь. А как поступили мы? Заблаговременно, за несколько месяцев, сказали им: «Послушайте, вы, арайцы! Скоро вам придет конец, ваше солнце взорвется! Но мы, люди, поможем вам…»
Дангисвейо сделал пренебрежительный жест рукой.
— А ты настолько ослеплена своим чувством, что продолжаешь защищать Лармонта. Его внутренняя расхлябанность принесла арайцам больше бед, чем ты думаешь. Он загодя объяснил, какой будет их смерть, нарисовал жуткие картины. И последние дни, недели, месяцы жизни этих существ были исполнены страха. Но они доверились нам, которые ничем не могли им помочь! Ты ушла от меня к нему, человеку чуткому и сердечному, а он?.. А он бросил тебя! Я… я соврал тебе. Мы могли поддерживать связь с Землей. И он тоже мог бы связаться с тобой, только, видно, не осмелился, духа не хватило.
— Прекрати!
Ведена произнесла это тихо, но столь значительно, что Дангисвейо сразу умолк. Ее била дрожь, но он понял, что это не от слабости или неуверенности в себе. Наоборот, весь вид этой женщины подчеркивал ее внутреннее превосходство над ним. Он никак не мог понять, что делает ее такой неуязвимой и безразличной к его намекам и упрекам.
Дангисвейо был уверен, что его последние слова раздавят Велену, но ее реакция была столь неожиданной, что он сразу отрезвел. Ему даже стало стыдно: с чего это вдруг он так разошелся?..
— Я не простила бы себе, если бы пропустила мимо ушей все твои нападки на Нормена, — сказала она наконец, убирая со лба прядь волос. — Я выслушала их внимательно. И это помогло мне лучше понять его. Ведь у тебя один угол зрения — ненависть. И поэтому ты нечестен. Хотя единственное, о чем я просила, — рассказать обо всем честно, как это было. Ну, не обо всем, о Нормене… — Она вопросительно взглянула на него.
— Я еще не все сказал. Выслушай меня до конца.
8
Миновало чуть более полугода с момента приземления «Ромула», и вот оно — страшное известие! Аппараты зарегистрировали деформацию пространства: гравитационный шок, предшествующий взрыву на Чирне. Белый карлик превращался в быструю новую.
Гарпойе созвал экипаж в общем зале. Коротко обрисовал создавшееся положение. Приказал немедленно прервать все работы — больше помочь арайцам нечем. Аннигиляторы были немедленно возвращены на корабль: при вылете из системы Чирны их силовые поля станут основной защитой от излучений новой.
И тут повторилось то, с чем Гарпойе уже столкнулся однажды: отдельные члены экипажа его приказу не подчинились.
Несмотря на решительный запрет, Лармонт, а вместе с ним и еще шестеро мужчин и женщин оставили «Ромула».
Они отправились к арайцам, и ни просьбами, ни приказами остановить их не удалось.
Когда «Ромул» стартовал, они остались на планете.
Восемнадцать часов спустя Чирна вспыхнула.
Всему живому на Аре пришел конец.
— Значит, Нормен знал, что они все погибнут, — Ведена не смотрела на Дангисвейо. — Но если бы он, в которого эти существа верили как в бога, бросил их в минуту смерти, он никогда не смог бы посмотреть кому-то в глаза. Я его знаю. Он не мог поступить иначе. Тебе, Гирл, этого не понять. Он попытался облегчить этим беспомощным существам самый тяжкий миг их жизни — и уйти в небытие вместе с ними. Нет, его жертва не была бессмысленной, это было… ах, Нормен, почему…
Ведена разрыдалась.
Дангисвейо даже не пошевелился, глядя на нее с некоторой неприязнью: «Сначала оправдывает Лармонта, а теперь оплакивает его… лишено всякой логики».
Но Ведена постаралась успокоиться. Она подняла глаза на Дангисвейо и заметила презрительно опущенные уголки его рта.
— Ну ладно, — проговорила она, вытирая слезы. — Ты полагал, что сможешь изобразить все так, чтобы я почувствовала себя обманутой и униженной. Ты ошибся! Мы с Норменом расстались еще до старта «Ромула». Он не был мне неверен. Он вообще не был способен обманывать — ни себя, ни других. И за это я любила его, люблю и уважаю сейчас… А я-то, я… Боже мой, как же я сразу не поняла, не почувствовала, что заставило его и остальных остаться на Аре, хотя новая уже взорвалась и они знали, что их ждет.
— А сейчас понимаешь?
Ведена поднялась.
— Благодарю тебя за то, что ты нашел время для меня. А теперь прошу об одном: никогда, никогда больше не приходи сюда.
Дангисвейо тоже встал и, холодно кивнув, попрощался.
Он опустился вниз на лифте и вышел из дома.
Был вечер. Он глубоко вдохнул свежий смолистый воздух.
«Ну вот и все позади», — подумал он и, запрокинув голову, уставился в необозримое звездное небо. Чирны отсюда не было видно, но она где-то там, поблизости от Веги.
«И все-таки, Лармонт, твоя смерть бессмысленна», — говорил он себе по дороге, но невеселое настроение от этого не улучшалось, а напротив, неуверенность капля за каплей точила его мозг. Он еще и еще повторил про себя эту фразу, словно заклинание. Но сам себе не верил…
Збигнев Петшиковский. ИЛЛЮЗИЯ[20] Пер. К. Душенко
Еще не успев открыть дверь, он услышал, как в квартире зазвонил телефон. Он повернул ключ, не зажигая света в прихожей, снял шапку и бросил ее на узкую полку над старомодным шкафчиком, забитым домашним хламом.
— Петр, это ты? — услышал он в трубке знакомый голос.
— Я. Вот только вернулся.
— Послушай, — голос в трубке зазвучал тише. — Если можешь, загляни ко мне. Нужно поговорить с глазу на глаз.
Петр взглянул на бледную полосу света, пробивавшегося через приоткрытую дверь, потом на свои мокрые ботинки и спросил:
— Ты в институте, что ли?
— Ну да. Я бы тебе кое-что показал. Для меня это очень важно.
— Ладно. Если автобуса ждать не придется, буду через полчаса. Пока!
Над домом плыли серые облака, но дождь уже кончился. Ветер рябил воду в выемках на асфальте. Петр окинул взглядом тоскливую улицу, поднял воротник и бегом спустился в пешеходный тоннель. На остановке он бросил монету в билетный автомат. Автобус появился внезапно — словно из-под земли. Петр вошел и сел у окна. От монотонного гудения мотора и тепла обогревателей клонило в сон. Петр посмотрел на медленно ползущую секундную стрелку, на исчезающие вдали дома, на сложенные на коленях руки и закрыл глаза. Когда он стряхнул с себя дрему, сумерки за окном уже сгустились, очертания зданий утратили четкость. Автобус свернул в широкую аллею, Петр встал и направился к выходу. Дохнуло холодным воздухом. За массивными воротами высилось здание института. Он нажал кнопку звонка. Из полутемной будки выглянул вахтер, не спеша подошел к калитке и отодвинул засов.
— У вас ведь назначено? — сонно спросил он и, не дожидаясь ответа, поплелся к зданию. Петр направился за ним.
— Ну вот и ты наконец, — обрадовался, увидев его, Кшиштоф.
Вдоль стены просторного помещения тянулись металлические стеллажи с электронной аппаратурой. Петр подошел к большому пульту управления.
— Так вот где ты работаешь.
— Ну да. Вот это — экраны мониторов. Я включу их, и ты увидишь, какие картины создают компьютеры.
На экранах появились объемные изображения.
— Это видение компьютера, — объяснил Кшиштоф. — Числа, ставшие образами, — он щелкнул переключателем. — Взгляни на этот экран. Ты увидишь нашу лабораторию и еще кое-что — именно то, что я и хотел тебе показать.
Петр увидел какую-то фигуру и скоро понял, что это не человек, а робот, обычный андроид, соединенный пучком цветных проводов с каким-то устройством.
— Это ведь робот? — спросил он на всякий случай.
— Да. Присмотрись-ка к нему повнимательней. Он существует в выдуманной нами действительности.
Робот медленно поднимал руки, опирался ладонями на воображаемые предметы, а затем пытался их обойти, что ему, однако, не удавалось.
— Мучается, бедолага, страшное дело, — заметил Кшиштоф.
Петр внимательно следил за движениями робота.
— А сам он знает о своем существовании?
— И да, и нет.
— Не понимаю.
— Я тоже еще не все понимаю. Но если ты мне поможешь, мы наверняка поймем, что к чему.
Петр смотрел на экран: андроид напоминал ему человека, попавшего в лабиринт.
— Значит, тебе нужна моя помощь — сказал он. — Хорошо, до в чем она заключается?
— Чем меньше ты будешь знать, тем лучше.
Кшиштоф нажал кнопку, и на экране монитора появился узкий диванчик с необычной аппаратурой вокруг.
— В этой лаборатории, — объяснил Кшиштоф, — регистрируются функциональные колебания мозга. Только несколько дней назад мне удалось ввести их в память компьютера. Теперь, включив монитор, я вижу на экране все то, что наблюдал во время проведения эксперимента человек, подключенный к этому устройству. Еще я могу воспроизводить картины воспоминаний и воображаемые картины, хотя и не так отчетливо.
— Объясни наконец, чего ты от меня хочешь?
— Я решил обратить этот процесс вспять. Передать прямо в мозг образы, созданные компьютером.
— Прямо в мозг? — переспросил Петр. — А в чей именно?
— В твой, дружище. Имей в виду — я действую не на авось. Эксперимент можно прервать в любую минуту.
— А почему ты остановил свой выбор на мне?
— У меня не было выбора. Начальство у нас осторожное. Его не детали интересуют, а только идея. Я не получил согласия на проведение эксперимента.
— Не получил согласия?! И все же…
— Я не могу остановиться на полпути. Послушай, — Кшиштоф старался говорить как можно спокойнее, — я знаю, есть границы, которые переступать нельзя. Но цель оправдывает средства. Я хочу узнать правду.
Петр пожал плечами.
— Правду? А может, всего лишь получить ответ на вопрос, который сам себе поставил?
Кшиштоф сдвинул брови.
— Послушай, — повторил он. — Я не ищу ответов на вопросы. Я хочу лишь доказать то, что мне уже известно. Если бы ты мог справиться с аппаратурой, я сам подключился бы к ней без колебаний!
— А если результат получится отрицательный?
— Сомневаюсь.
— Это не ответ.
— Да, это не ответ, — согласился Кшиштоф. — Ну что же, интуицию нельзя ни измерить, ни взвесить.
— А если окажется, что ты был неправ?
Кшиштоф улыбнулся.
— Тогда только мы с тобой узнаем правду.
— То есть просто сделаем вид, что ничего не было, ничего не случилось и мы, потерпев поражение, вовсе не проиграли!
— Если бы ты был на моем месте, — вздохнул Кшиштоф, — то понял бы, почему для меня так важен этот эксперимент. В моей идее нет ничего алогичного. Если все кончится удачно, мы глубже проникнем в загадку жизни. Постигнем то, что доселе считалось непознаваемым.
Петр явно не разделял его энтузиазма.
— Ладно, — сказал он глухо. — Подключай меня к этой своей машине. Но сначала пообещай, что о результате будем знать только мы с тобой. Ты и я!
— Согласен. Ну что ж, не будем терять времени.
Они вошли в помещение, сплошь забитое аппаратурой. В глубине стоял узкий диванчик — тот самый, что был на экране монитора. Какой-то шар свисал с потолочной балки. Кшиштоф показал на небольшой компьютер.
— Достаточно подвести электроды к твоим вискам, — объяснил он, — как между тобой и этим вот аппаратом возникнет обратная связь.
— Я уже запутался в твоих делах.
— Но это еще не все, — Кшиштоф нажал несколько клавишей. — Взгляни на экран. Тому, кто окажется теперь рядом с шаром, почудится, будто его охватывает страх.
— Ты что же — можешь на расстоянии управлять эмоциями?
Кшиштоф улыбнулся.
— На небольшом расстоянии, Петр.
Он выключил монитор.
— Ну, поторопись, — Кшиштоф встряхнул свисающий с шара пучок проводов.
Когда Петр удобно вытянулся на диванчике, обитом мягкой губкой, Кшиштоф приклеил к его вискам несколько крошечных электродов. Послышалось глухое жужжание. Петр машинально посмотрел на свисающий сверху шар, потом на Кшиштофа, склонившегося над пультом и…
…открыл глаза. То что он увидел, он увидел словно бы издалека: изображение двоилось. Лишь минуту спустя он смог различать детали. Он, несомненно, находился в своей комнате. Яркое солнце через раздвинутые жалюзи полосками разрисовало стены и мебель. Гулко тикали стенные часы. Он закрыл глаза, затем встал, тряхнул головой и оглядел комнату. «Этого мира, — сказал он себе, — мира, который я вижу, не существует».
Протянув руку, он коснулся подлокотника кресла и ощутил шершавость обивки. Подошел к окну, посмотрел на улицу. Солнечные лучи играли на мокром тротуаре и мостовой. Люди выходили из подъездов, исчезали в дверях магазинов — жизнь в городе текла заведенным порядком.
Он пустил горячую воду в ванной и, сунув руку под кран, ощутил жгучую боль. Завернув кран, он снова огляделся вокруг: «тот» мир и «этот» ничем друг от друга не отличались. Он решил присмотреться поближе к людям, которых видел в окно, убедиться, что и они настоящие; надел пальто, шапку и вышел из квартиры.
Больше года назад ему случилось провести четверть часа в застрявшем между этажами лифте, поэтому, прежде чем войти в кабину, он недоверчиво заглянул в темную шахту, а потом старательно прикрыл за собой дверь. Лифт тронулся; из шахты доносилось размеренное постукивание — и вдруг прекратилось. Он налег на дверь, пытаясь выйти наружу, но та не подалась: сработала блокировка. Напрасно он бил кулаком по двери. Чем дальше, тем больше терял он надежду быстро выбраться из этой ловушки — пока не услышал размеренный стук и не почувствовал, что снова спускается. «Этот мир, — вздохнул он, — точно такой же, но это не тот же самый мир!» И вдруг до него дошло, что на дворе день, точнее — раннее утро. А ведь когда он вошел в институт, был вечер…
К действительности его вернул щелчок: на этот раз кабина остановилась в положенном месте. Первый встреченный им человек прошел мимо с полным безразличием, второй даже не взглянул на него. В сиянии раннего солнца все вокруг выглядело гигантской театральной декорацией. В промежутке между домами порыв ветра сорвал с его головы шапку и швырнул ее на мокрый асфальт. Поднимая шапку, он украдкой, словно рассчитывал увидеть там лицо Кшиштофа, глянул на облака, проплывавшие над домами. Чем ближе он подходил к центру, тем многолюднее становилось на улице. У магазина грампластинок, перед витриной, он заметил знакомую девушку. Он часто видел ее возле своего дома. «Значит, и в мое подсознание ему удалось проникнуть», — снова подумал он о Кшиштофе. Ему хотелось рассмотреть девушку ближе, подойти к ней, спросить о чем-нибудь, но не хватало отваги. Он остановился, посмотрел в глубину улицы. А ведь в этом странном мире должен. существовать и Кшиштоф! Он повернул назад. Лифтом он на этот раз не воспользовался; взбежал по лестнице, открыл дверь, снял телефонную трубку. Но звонка не услышал: телефон молчал как заколдованный! Когда он добрался до уличного автомата, хлынул дождь. Перед будкой стояли шестеро: три девушки, какая-то старушка, школьник с эмблемой на рукаве и мужчина в сером пальто. Петр покраснел от ярости: Кшиштоф явно над ним издевался. Старушка раскрыла зонт, школьник втянул голову в плечи, мужчина в сером пальто поднял воротник… Петр стал в очередь. Только через пятнадцать минут, промокший и обозленный, он вошел в телефонную будку.
— Ты, должно быть, уже узнал ответ на свой вопрос? — спросил он, услышав знакомый голос. — Выключи ради бога эту машину. С меня довольно!
— В самом деле? — в трубке послышался смех.
— Послушай, хватит развлекаться за мой счет! Если бы ты побыл в моей шкуре…
— Да ведь ты существуешь! — прервал его Кшиштоф.
— Не понимаю, — он был готов ко всему, кроме этого. — Не понимаю, — повторил он, наморщив брови. Кшиштоф смеялся еще громче.
— Когда я выключил ток, ты заснул сном праведника. Потом я отвел тебя домой. Ты шел, как лунатик. Мне очень жаль, честное слово.
Петр закрыл глаза, в воображении пронеслись виденные недавно картины: робот, обходящий несуществующие препятствия, свисающий шар, непонятная аппаратура вокруг диванчика…
— Как же так? Ты показал мне робота, говорил об обратной связи.
— Верно, — признался Кшиштоф. — Будем считать, что я все это выдумал.
— Ах, вот как! — Петр положил руку на холодный ящик телефонного аппарата. — Выдумал! И все это, чтобы ответить на какой-то дурацкий вопрос!
— Ты ошибаешься.
— Молчи уж! Ты обыкно… — Он осекся на полуслове, услышав в трубке короткие гудки. Набрал номер еще раз — все те же прерывистые гудки.
Кто-то постучал в стекло кабины. Петр положил трубку и вышел. Тучи еще не рассеялись, но дождь перестал. Ветер срывал с деревьев желтые листья. Сунув руки в карманы, опустив голову, он шлепал по лужам и думал об андроиде, запертом в лабиринте собственных представлений. Робот двигался в соответствии с программой, записанной в компьютерной памяти, или же… кто-то управлял им на расстоянии? Петр огляделся. «Если этот кто-то существует, он наверняка наблюдает сейчас за мной. Следит за каждым движением, фиксирует все реакции. Кшиштоф со своими дружками выдумал неплохую забаву».
Снова и снова ему представлялось все, что он видел сегодня: кабина лифта, в которой он застрял, шапка, валяющаяся на мокром асфальте, девушка у витрины с пластинками, испорченный телефон, очередь перед будкой автомата… Несомненно, он был в другом мире, не в его собственном. Что это? Миражи? Галлюцинации? Он ощутил прилив гнева, как когда-то, когда его убеждали в неправоте, хотя он был абсолютно прав. Он остановился. А может быть… может быть, как раз сейчас Кшиштоф нажимает какой-нибудь клавиш? Раньше он никогда не видел подобных устройств, даже не подозревал, что они существуют. Да, он слышал об управлении эмоциями — но не на расстоянии. Это было бы возможно, если бы электроды поместили в определенные участки его мозга. Он направился к автобусной остановке, не переставая думать о лаборатории. Он по-прежнему оставался там, — и только Кшиштоф мог изменить ход событий.
Он сунул руку в карман; нащупал монету, бегом спустился в пешеходный тоннель. Автобус появился внезапно — словно из-под земли. Он вошел и сел у окна. За окном, словно на экране, проплывали запомнившиеся когда-то картины. Вот и аллея. Петр направился к выходу.
— Это опять вы? — вахтер поднял трубку и набрал номер.
— Да, он здесь, — голос вахтера доносился словно издалека. Петр поглядел на часы. Разговор затягивался. Когда он вошел наконец в лабораторию, Кшиштоф испытующе посмотрел на него. Двое мужчин у пульта тоже обернулись в его сторону.
— Рад тебя видеть, — Кшиштоф указал на стоящее рядом кресло. Петр повел плечами.
— Ты что же, — выдавил он из себя, — намерен издеваться надо мной и дальше?
— Не понимаю.
— Не понимаешь?! — Петр покраснел от гнева. — Я поверил тебе! А ты развлекаешься за мой счет! Ведь это бессмысленно!
Кшиштоф смотрел на него с изумлением.
— Ты о чем?
— Выключи эту машину, слышишь?! Я хочу существовать! Взаправду существовать!
— Так вот в чем дело! — Кшиштоф сдвинул брови. — По-твоему, ты все еще лежишь на диване?!
Петр поднял сжатую в кулак руку.
— Не пытайся ничего доказать! Небылицами ты от меня не отделаешься!
— Да оглянись же, — прервал его Кшиштоф. — Ведь никакого другого мира нет!
— Неправда! Неправда! — не успокаивался Петр.
Мужчины подошли к нему и взяли под руки.
— Перестань! — сказал Кшиштоф, отступая.
Но Петр, казалось, не слышал. Мужчины крепче зажали его предплечья. Один из них достал из кармана автоматический дозиметр с тонкой иглой на конце. Петр опустился на пол.
— Очнется через полчаса и не вспомнит об этом уколе, — сказал мужчина.
Петр просыпался медленно: дыхание его было неровным, он то открывал, то закрывал глаза, шевелил пальцами.
К диванчику, над которым свисал шар, подошел Кшиштоф.
— Ну, вот ты наконец и проснулся, — спокойно сказал он.
Петр с трудом сел.
— Знаешь, — прошептал он, — я пережил… что-то необыкновенное.
— Знаю.
— Правда?! — Петр удивился и посмотрел вокруг. — Это был сон, жуткий сон. Но он уже кончился.
Кшиштоф улыбнулся.
— Да. И ты опять существуешь взаправду!
Ондржей Нефф СТРУНА ЖИЗНИ[21] Пер. Т. Осадченко
Сначала взорвался второй, затем пятый, а через несколько секунд все остальные топливные баки, предназначенные для грузового корабля, на который должен был доставить их ракетоплан «Интрепид». Твердое топливо находилось в грузовом отсеке носовой части, и это обстоятельство облегчило участь командира корабля Бернарда Вайнтрауба и второго пилота Лесли Гелба: они сразу потеряли сознание и не мучались. Хуже обстояло дело с Аланом Коуэлом — научным сотрудником, отвечавшим за опытный биохимический объект «Астрал». Огонь прорвался в его отсек, и напрасно Алан прятал лицо в питательной почве для фасоли сортов Альфа, Гамма и Саут Орандж-11.
В грузовом отсеке в момент взрыва находился бортмеханик Генри Стоукс. Он был в скафандре, который с давних времен принято было называть «Гастоном». Модули «Спейслэба», расположенные в хвостовой части, отразили смерч горючих газов, и те вырвались в открытый космос, никак ему, впрочем, не повредив. Но они повредили лабораторный модуль, где был английский физик Ричард Коген. Голубоватое облачко кислорода просочилось из трещины наружу, и Коген в ужасе закрыл руками лицо, готовясь в муках прожить последние оставшиеся ему секунды.
Космонавт в скафандре крепко зажмурил глаза, чтобы спасти их от нестерпимого блеска пламени. Он в смятении пытался понять, что произошло, но не мог даже шевельнуть рукой.
Огонь бесновался всего каких-нибудь девяносто секунд. Затем наступила тьма, которую Стоукс ощутил так же болезненно, как белое зарево пожара. Генри был астронавтом старой закалки, обучавшимся по беспощадной программе НАСА 80-х годов. Тренировка приспособляемости глаз была одним из самых мучительных, как тогда казалось, излишеств программы. Зато сейчас уже через двенадцать секунд Стоукс воспринимал окружающее, а еще три секунды спустя он различил очертания модуля, выглядевшего так, будто его вскрыли консервным ножом. Внутри корчился англичанин в белом комбинезоне, забрызганном кровью.
Стоукс оттолкнулся от стены, подлетел к модулю и схватился за рваные края трещины, не сознавая, что может порвать пластиковые рукавицы «Гастона». В оранжевом аварийном свете виднелись обломки приборов и обрывки кабелей, среди которых погибал Дик Коген. Кровь шла у него из носа, из ушей, из-под ногтей. Кислород в легких кончался, и Дик сражался за каждый вздох.
Стоукс просунулся внутрь и сорвал с крюка белый мешок, похожий на сонного полярного нетопыря. Стальная бечевка, натянувшись, вырвала пломбу. Баллон немного раздулся, приобретя очертания огромной раковины. Дик Коген уже не шевелился. Стоукс схватил его за плечи и засунул головой в отверстие раковины. Чистый кислород омывал лицо англичанина, но нижняя часть тела по-прежнему подвергалась смертоносному воздействию открытого космоса. Бортмеханик решительным движением вытащил белую фигуру через трещину в модуле, засунул в спасательный мешок, подвел колени потерявшего сознание ученого к подбородку и застегнул пластиковую молнию. Затем он резко дернул за ручку, выкрашенную красной краской. Освободившийся кислород мгновенно растекся по каналам внешней оболочки баллона, и тот принял форму шара диаметром метр двадцать сантиметров. Внутри, подобный плоду в материнском лоне, возвращался к жизни Дик Коген. Он был все еще без сознания, но легкие уже заработали. Стоукс пытался рассмотреть его через окошечко из оргстекла, но ничего не увидел. Схватившись за ручку шара, как за чемодан, он растерянно соображал, что делать.
Новый взрыв в грузовом отсеке напомнил ему, что земля на «Интрепиде» горит под ногами в буквальном смысле. Стоукса осенило: космический скутер! Это был странный гибрид кресла с вешалкой, снабженный маленькими ракетами и предназначавшийся для выхода в открытый космос. Астронавт донес спасательный шар до скутера, прикрепил скутер к твердому панцирю своего скафандра, и вскоре ракетные двигатели уносили Стоукса с его необычным багажом от агонизирующего ракетоплана.
Высоко над ними возносился большой голубой шар Земли, окутанный сверкающим покрывалом Млечного Пути. «Интрепид» горел в нескольких местах, красноватое зарево и беспорядочные взрывы свидетельствовали о том, что агония еще не кончилась. Стоукс ощутил ужасное одиночество. Когда он укреплял на спине скутер, то включил и систему связи. В рабочем режиме скутер соединялся с ракетопланом с помощью кабеля. На спасательном шаре тоже имелось соответствующее отверстие для кабельной связи. Стоукс включил связь:
— Дик, ты меня слышишь? Это я, Генри!
До Стоукса доносилось только свистящее, с надрывом дыхание.
Вдруг раздался посторонний голос:
— «Интрепид», «Интрепид», говорит «Скайлэб VII». Наконец-то вы подали голос. Что случилось? Отзовитесь, «Интрепид»!
— Говорит Генри Стоукс, говорит Генри Стоукс. Взорвалось твердое топливо для тягача, будь он неладен. Похоже, выжил я один. Здесь у меня в спасательном шаре Дик Коген, но он не подает голоса.
— Ой, больно… — прохрипел Коген.
Все вскрикнули от радости.
— Сохраняйте полное спокойствие, парни. Высылаем к вам тягач. Слушайте внимательно. Мы подсчитали, что вам надо немного подняться, иначе тягач до вас не доберется. Поднимайтесь на уровень 450, еще лучше — 480. Знаете, по системе МВ-3. Тягач будет через сто минут. Кислорода должно хватить. Со скутером все в порядке?
— Да вроде работает нормально, — ответил Генри.
— Отлично. А тебя, Дик, от души поздравляем. Самое страшное позади. То, что ты выжил в вакууме, — просто потрясающе! Теперь перестанут без конца спорить, возможно это или нет.
— Ну и ладненько, — приободрился Стоукс. — Двинем вам навстречу. Что для этого нужно?
— Три минуты полного хода, — ответил «Скайлэб». — Ясно? Три минуты на всех парах.
— Генри, — подал голос Дик Коген. — Как у нас с топливом?
— В порядке, как же еще.
— Вы дозаправились? Лесли Гелб утром выходил в космос.
«Ах, черт… не дозаправились, — мелькнуло в голове Стоукса. — Так ведь по программе дозаправка назначалась на вторую половину дня…»
— Что вы замолчали? — вмешался «Скайлэб». — Так что с топливом?
Тело Генри Стоукса налилось свинцовой тяжестью, такой непривычной в условиях невесомости. Животный страх нахлынул на него, и он заорал:
— Оба мы не спасемся! Топлива не хватит!
— Спокойствие, — настаивал «Скайлэб». — Мы делаем нужные расчеты…
— А на черта мне ваши расчеты, я жить хочу, жить!
— Генри, возьми себя в руки… Худшее позади.
— И ты туда же? Я тебя вытащил, а мог бы и оставить, между прочим! На одного топлива вполне хватит…
Генри Стоукс кипел, глаза застилала кровавая мгла. Желудок подпрыгивал не от космической болезни, а от безумного страха. Усилием воли Генри заставил себя успокоиться и рассуждать трезво. Он притянул спасательный шар. В окошечке появилось бледное встревоженное лицо Дика.
— Генри… Дик! Что у вас происходит? — настаивал «Скайлэб».
— Стоукс хочет… он хочет швырнуть меня в космос!
В это мгновение Генри Стоукс резко выбросил руки и ноги вперед, чтобы сохранить равновесие в момент толчка. Он отпустил ручку шара, и тот отлетел к пылающим обломкам «Интрепида». Сверкнули обезумевшие глаза Дика: он что-то выкрикивал. Стоукс начал ругаться, извергая бессвязный набор слов, чтобы заглушить угрызения совести. Шар уже выглядел не больше футбольного мяча. Генри сорвал голос и замолчал. Его охватил ужас перед теми секундами, когда Дик, умирая, будет заклинать и просить о помощи. В наушниках, однако, было тихо, лишь «Скайлэб» через равномерные интервалы повторял:
— «Интрепид»! Отвечайте! Что с вами?
Дик наверняка потерял сознание от страха или использовал космос как орудие самоубийства, открыв отверстие шара. Дик — мужественный парень, на его месте я сделал бы то же самое. Он должен понимать, что топлива для обоих не хватит, должен… Желудок снова подпрыгнул к горлу, наверно, от отвращения к собственной трусости и малодушию. Генри уже положил руку на рычаг управления, когда почувствовал рывок.
— Что это? — воскликнул он.
Дик ответил как ни в чем не бывало:
— Соединительный кабель. И как это ты о нем забыл?
Только сейчас Генри увидел его: серебряная струна натянулась во тьме, отражая мерцание звезд. От прикосновения руки кабель завибрировал, как настоящая струна.
— Полагаю, ты захочешь оборвать кабель, — беспощадно иронизировал Дик. — Но у тебя ничего не выйдет. Кабель сплетен из пяти канатов. Нужен бульдозер, чтобы оторвать его.
Раздались позывные «Скайлэба»:
— Что с вами творится, ребята? Выше нос: тягач уже в пути. Все шлют вам приветы и болеют за вас. Сообщение о катастрофе передали все радио — и телестанции. Взгляните на Землю: миллиарды людей в эту минуту с вами! Давайте полным ходом наверх!
Генри Стоукс изо всех сил дергал за канат, но рукавицы соскальзывали с гладкой поверхности. Дурацкая мысль пришла в голову: откинуть шлем и перегрызть канаты зубами. Генри терял голову, сознавая свою беспомощность. Как он ненавидел в ту минуту белый шар, сиявший меж звезд! Это была опухоль, высасывающая из него жизнь.
Собрав остатки воли, Стоукс сосредоточился на одном: как избавиться от шара. Вдруг он злорадно расхохотался:
— Ну, погоди у меня…
Обмотав кабель вокруг запястья, он притянул его к себе. Вначале шло туго, потом все легче. Шар приближался. Стоукс шипел:
— Иди, голубчик, иди ко мне!
— Ну что опять? — спокойно отозвался Дик. — Да ты и впрямь свихнулся. Включай свой дурацкий скутер, надо выбираться отсюда. Топлива мало, вдобавок и кислород впустую расходуется. Ты что задумал, Генри? Отсоединить меня хочешь? Я прав?
— Ты всегда прав, умник ты наш. Да только смеяться последним буду я! Понял? Я!
— Не уверен, — сказал Дик со своим правильным английским произношением. — Ты раскинь лучше мозгами: где у нас связь? Правильно, была на ракетоплане, а теперь в моей роскошной резиденции с округлыми формами. А у тебя ни в скафандре, ни на скутере связи нет. А как тебя найдет тягач без нее? Зря тратишь кислород, дурак!
— Болтай больше, а я всегда все делаю по-своему и выигрываю. Слышал? Генри Стоукс делает только то, что хочет!
Спасательный шар оказался под рукой. Генри сделал движение кистью и, почувствовав сквозь толстую рукавицу щелчок, выпустил кабель из руки.
— Прощай, умник, — прошептал он и нажал на рычаг управления. Двигатели скутера молчали. Генри в ужасе поднял глаза к возносящейся над ним планете, на которой белые облака нарисовали насмешливую улыбку. Земля издевалась над ним. Взгляд его скользнул к окошечку шара. Если умник тоже смеется, Генри наподдаст шар ногой и отбросит прочь сколько достанет сил. Он это сделает! А потом останется один на один со смеющимся круглым лицом Земли и будет ждать, когда кончится кислород.
Дик Коген не смеялся. Тогда Генри снова притянул к себе шар и неуверенно, робкими движениями подсоединил его. Щелкнул замок.
— Ну все, поехали, — с облегчением произнес Дик. — Тебе ничего не видно, но ты сделай милость, послушай меня: протяни руку назад. Ниже, так, хорошо. Переведи влево переключатель резервного топливного бака. Порядок. Теперь возьмись за рычаг, включай двигатели и двинем отсюда. Не могу сказать, что мне тут по душе.
Спасательная операция прошла успешно. Выполнив сложный маневр, орбитальный грузовой корабль встретился на орбите со странным космическим телом. На ракетном скутере находился космонавт в состоянии клинической смерти. В руке он стискивал скобу спасательного шара. Человек внутри шара тоже был без сознания.
Через несколько часов после реанимации Ричарда Когена и Генри Стоукса, их посетил начальник станции. Поздравив их со спасением, он как бы невзначай спросил:
— Парни, вы можете мне ответить, что, собственно, с вами…
— Нет, не можем, — ответив Дик за обоих.
И никто больше не задавал им вопросов на борту «Скайлэба». Запись их разговоров на магнитных лентах стерлась как бы сама собой. У космоса свои законы, и понятие «сострадание» имеет несколько иной смысл, чем внизу, на Земле.
Станислав Лем ФУТУРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС[22] Пер. К.Душенко
Восьмой Всемирный футурологический конгресс открылся в Костарикане. По правде говоря, я не поехал бы в Нунас, если бы не профессор Тарантога: он дал мне понять, что там на меня рассчитывают. Еще он сказал (и это меня задело), что астронавтика стала, в сущности, бегством от земных передряг. Всякий, кто сыт ими по горло, удирает в Галактику, надеясь, что самое худшее случится в его отсутствие. И в самом деле, возвращаясь из путешествий, особенно в прежние годы, я с тревогой выискивал в иллюминаторе Землю — не уподобилась ли она печеной картофелине. Поэтому я не очень-то сопротивлялся, а только заметил, что не разбираюсь в футурологии. И в насосах мало кто разбирается, возразил Тарантога, однако все мы кидаемся к помпам, услышав: «Течь в трюме!»
Правление Футурологического общества выбрало Костарикану потому, что темой конгресса был демографический взрыв и меры борьбы с ним, а Костарикане принадлежит мировой рекорд по темпам роста населения; предполагалось, что это удвоит эффективность нашей работы. Правда, злые языки называли иную причину: в Нунасе наполовину пустовал новый отель корпорации «Хилтон», между тем на конгресс, кроме самих футурологов, ожидалось столько же журналистов. Теперь, когда от отеля не осталось камня на камне, я, не боясь обвинений в рекламных захваливаниях, могу со спокойной совестью утверждать: «Хилтон» был превосходен. Моя оценка имеет особый вес, ведь по натуре я сибарит, и лишь чувство долга иногда заставляло меня предпочесть комфорту каторжный труд астронавта.
Над плоским пятиэтажным цоколем костариканского «Хилтона» возвышались еще сто шесть этажей. На крышах уступов здания размещались теннисные корты, бассейны, солярии, дорожки для картинга, карусели, служившие одновременно рулетками, тир (где можно было стрелять по манекенам, изображавшим кого угодно, на выбор, — спецзаказы выполнялись в течение суток), а также раковина открытой эстрады с установками для опрыскивания слушателей слезоточивым газом. Мне достался сотый этаж, откуда я мог созерцать лишь иссиня-коричневую изнанку смога, нависшего над столицей. Кое-что из гостиничного инвентаря меня озадачило — например, трехметровый железный прут в углу ванной комнаты, маскхалат в платяном шкафу, мешок сухарей под кроватью. На яшмовой стене ванной, рядом с полотенцами, висел моток настоящей альпинистской веревки, а вставляя ключ в дверной английский замок, я заметил небольшую табличку: «Дирекция гарантирует, что в этом номере БОМБ нет».
Теперь, как известно, ученые делятся на оседлых и кочующих. Первые по старинке что-то исследуют, вторые разъезжают по всевозможным конференциям и конгрессам. Кочующего ученого легко распознать: на груди у него карточка с фамилией и ученой степенью, в кармане — расписание авиарейсов; подтяжки у него без металлических пряжек, портфель — на пластмассовой защелке, а то, чего доброго, завоет сирена устройства, просвечивающего пассажиров в поисках кинжалов и кольтов. Научную литературу такой ученый читает по дороге в аэропорт, в залах ожидания и гостиничных барах. По понятным причинам я был не в курсе последних достижений земной культуры и спровоцировал сигналы тревоги в аэропортах Бангкока, Афин и самого Нунаса, а все потому, что во рту у меня шесть стальных коронок. В Нунасе я хотел заменить их фарфоровыми; увы, непредвиденные события этому помешали. А насчет сухарей, прута, веревки и маскхалата один из футурологов-американцев снисходительно разъяснил мне, что гостиничное дело в нашу эпоху требует неведомых ранее мер безопасности. Каждый такой предмет повышает выживаемость постояльца. На эти слова я, по легкомыслию, должного внимания не обратил.
Заседание было назначено на вторую половину дня, и уже утром мы получили полный комплект материалов конгресса — превосходно изданных и со множеством приложений. Особенно радовали глаз отрывные купоны из глянцевой плотной бумаги со штампом «Копуляционный талон». Научные конференции тоже пострадали от демографического взрыва; популяция футурологов растет столь же быстро, как и все человечество, так что конгрессы проходят в сутолоке и спешке. О чтении докладов с трибуны и речи быть не может, знакомиться с ними нужно заранее.
Утром, однако, было не до того, поскольку хозяева пригласили нас на коктейль. Эта скромная церемония обошлась почти без приключений, только делегацию США забросали тухлыми помидорами. Не успел я поднять бокал, как Джим Стэнтор, знакомый журналист из ЮПИ, сообщил, что на рассвете похищены консул и третий атташе американского посольства в Костарикане. В обмен на дипломатов похитители-экстремисты требовали освободить политзаключенных, а пока, чтобы подчеркнуть весомость своего ультиматума, присылали в посольство зубы заложников, один за другим, грозя эскалацией насилия. Впрочем, этот инцидент не нарушил дружественной атмосферы приема. Присутствовал лично посол США, произнесший спич о необходимости сотрудничества между народами; правда, выступал он под охраной шести плечистых парней в штатском, которые держали нас на мушке. Мне, признаюсь, стало как-то не по себе, а тут еще, на беду, стоявший рядом темнокожий делегат Индии, которого мучил насморк, полез в карман за платком. Как впоследствии убеждал меня пресс-секретарь Футурологического общества, примененные средства были необходимыми и гуманными. Охрана вооружена автоматами большого калибра, но малой пробойной силы, такими же, как у охраны пассажирских самолетов, и посторонние ничем не рискуют — не то что раньше, когда пуля, уложив террориста, прошивала еще пять-шесть ни в чем не повинных людей. И все же не слишком приятно, когда сосед, изрешеченный пулями, падает к вашим ногам, даже если это обычное недоразумение, которое исчерпывается путем обмена дипломатическими нотами.
Впрочем, вместо того чтобы рассуждать о гуманной баллистике, мне следовало бы объяснить, почему я так и не успел просмотреть материалы конгресса. Во-первых (подробность малоприятная), пришлось спешно менять окровавленную рубашку; к тому же завтракал я, вопреки обыкновению, не у себя, а в гостиничном баре. С утра я привык есть яйца в мешочек, а гостиница, где можно получить их прямо в постель целехонькими, с нерастекшимся желтком, пока не построена. Дело тут, разумеется, в непрестанном разрастании столичных отелей. Если от кухни до номера полторы мили, ничто не спасет желток от взбалтывания. Как я слышал, эксперты «Хилтона», занимавшиеся этой проблемой, единственным выходом признали сверхзвуковой лифт, но sonic boom — грохот при прохождении звукового барьера — в замкнутом пространстве отеля привел бы к разрыву барабанных перепонок. Конечно, кухонный автомат мог бы доставлять прямо в номер сырые яйца, которые у вас на глазах автокельнер варил бы в мешочек, но отсюда недалеко и до собственного курятника в номере. Вот почему утром я пошел в бар.
Девяносто пять процентов обитателей гостиниц составляют ныне участники конференций и съездов. Гость-одиночка, турист-индивидуалист без опознавательной карточки на лацкане и без портфеля, распухшего от ученых бумаг, стал редок, как черный жемчуг. Одновременно с нашим конгрессом в Костарикане проходила конференция молодых бунтарей группировки «Тигры», конгресс Ассоциации Издателей Освобожденной Литературы, а также Общества филуменистов. Обычно делегатам-коллегам достаются соседние номера, но мне, в знак особого уважения, дирекция выделила апартаменты на сотом этаже, поскольку здесь имелся пальмовый сад с женским оркестром, исполнявшим концерты Баха; попутно оркестрантки совершали коллективный стриптиз. Без этого я, пожалуй, мог бы и обойтись; к сожалению, свободных номеров уже не было — пришлось довольствоваться тем, что дают. Едва я уселся в баре, как широкоплечий курчавобородый сосед (по его бороде я мог, не хуже чем по меню, прочитать, что он ел на прошлой неделе) сунул мне прямо в нос массивную, с окованным прикладом, двустволку и, радостно гогоча, осведомился, какого я мнения о его папинтовке. Я не понял, о чем он, но предпочел не показывать виду. Молчание — лучшая тактика при случайных знакомствах. И правда, он тут же с готовностью объяснил, что скорострельный двуствольный штуцер с лазерным прицелом — идеальное оружие для охоты на Папу Римского. Болтая без удержу, он достал из кармана помятую карточку; на снимке он изготовился к выстрелу — мишенью служил манекен в круглой шапочке, какие носят кардиналы и Папы. Бородач, по его словам, как раз достиг своей лучшей формы и отправлялся в Рим на церковные торжества, чтобы застрелить Его святейшество на площади Святого Петра. Я нисколько ему не поверил, но он, не умолкая ни на минуту, показал мне: авиабилет, карманный требник и памятку для американских паломников, а также пачку патронов с крестообразной головкой. Из экономии билет он взял лишь в одну сторону, не сомневаясь, что разъяренные пилигримы растерзают его на куски. Мысль об этом, похоже, приводила его в превосходное расположение духа.
Сперва я решил, что передо мною маньяк или профессиональный экстремист-динамитчик, каких в наше время хватает. Ничуть не бывало! Захлебываясь словами и поминутно сползая с высокого табурета — ибо его двустволка то и дело падала на пол, — он объяснял мне, что сам-то он истовый, правоверный католик; тем большей жертвой будет с его стороны эта операция («операция П», как он ее называл). Нужно взбудоражить совесть планеты, а что взбудоражит ее сильнее, чем поступок столь ужасающий? Он, мол, сделает то же, что Авраам, согласно Писанию, хотел сделать с Исааком, только наоборот: не сына ухлопает, а отца, к тому же святого, и явит тем самым пример высочайшего самоотречения, на какое только способен христианин. Тело он обречет на казнь, душу — на вечные муки, а все для того, чтоб открыть глаза человечеству. «Ну, ну, — подумал я, — не многовато ли развелось желающих открыть нам глаза?» Его филиппика не убедила меня, и я пошел спасать Папу, то есть сообщить кому-нибудь об «операции П»; но Стэнтор, который встретился мне в баре на семьдесят седьмом этаже, даже не выслушал меня до конца и, в свою очередь, рассказал мне, что в подарках, преподнесенных недавно Адриану XI делегацией американских католиков, оказались две бомбы с часовым механизмом и бочонок, наполненный не вином для причастия, а нитроглицерином. Равнодушие Стэнтора стало понятнее, когда я узнал, что экстремисты прислали в посольство уже целую ногу — неизвестно лишь чью. Впрочем, его позвали к телефону, и наша беседа оборвалась; кажется, на Авенида Романа кто-то поджег себя в знак протеста.
В баре на семьдесят седьмом этаже атмосфера царила совершенно иная, нежели у меня наверху. Здесь было полно босоногих девиц в сетчатых блузках до пояса, некоторые — при шпагах; у многих косички прикреплялись, по самой последней моде, к медальону на шее или к обручу, утыканному гвоздиками. Кто они были, филуменистки или секретарши Освобожденных Издателей, не знаю; судя по цветным фотографиям, которые они разглядывали, речь, скорее, шла об Освобожденной Литературе.
Я спустился на девять этажей ниже, к своим футурологам, и в очередном баре пропустил рюмку с Альфонсом Мовеном из агентства Франс Пресс. В последний раз попытался я спасти Папу, но Мовен, выслушав меня со стоической выдержкой, только промычал, что месяц назад какой-то пилигрим-австралиец уже стрелял в Ватикане, хотя и с совершенно иных идейных позиций. Мовен рассчитывал на интересное интервью с неким Мануэлем Пирульо, которого разыскивали ФБР, Сюрте, Интерпол и десяток других полицейских служб. Этот субъект основал фирму услуг нового типа, выступая в роли эксперта по покушениям с применением взрывчатых веществ (отсюда его псевдоним «Бомбардир»), и прямо-таки козырял своей безыдейностью. Нашу беседу прервала рыжеволосая красотка в чем-то вроде кружевной ночной рубашки, продырявленной автоматными очередями, — как выяснилось, связная экстремистов; ей поручили провести репортера в их штаб-квартиру.
На прощанье Мовен вручил мне рекламную листовку Пирульо. Настала пора, говорилось в ней, покончить с эскападами безответственных дилетантов, которые динамит не отличают от мелинита, а гремучую ртуть — от бикфордова шнура; в эпоху узкой специализации нелепо кустарничать, пренебрегая помощью добросовестных и квалифицированных специалистов. На обороте помещался ценник услуг в валюте наиболее развитых стран.
Профессор Машкенази вбежал, когда футурологи начали стекаться в бар, бледный как смерть; его била нервная дрожь: он кричал, что в номере у него бомба с часовым механизмом. Бармен, привычный, как видно, к таким происшествиям, не раздумывая, скомандовал: «В укрытие!» — и нырнул под стойку. Однако вскоре гостиничные детективы установили, что это всего лишь розыгрыш: в коробку из-под печенья кто-то из футурологов засунул обыкновенный будильник. Шутник, похоже, был англичанином, они обожают такие practical jokes.[23]
Впрочем, инцидент тут же предали забвению, ибо явились Дж. Стэнтор и Дж. Г.Хаулер, репортеры ЮПИ, с текстом ноты правительства США относительно похищенных дипломатов. Нота была составлена на обычном дипломатическом языке, и ни зубы, ни нога не назывались в ней прямо. Джим сказал, что правительство может решиться на крайние меры. Стоящий у власти генерал Аполлон Диас склоняется к мнению «ястребов» — на насилие ответить насилием. На заседании (правительство заседало непрерывно) было предложено нанести контрудар, то есть вырвать у политзаключенных, выдачи которых требуют экстремисты, по два зуба за зуб и — поскольку адрес их штаб-квартиры неизвестен — послать эти зубы до востребования. В экстренном выпуске «Нью-Йорк таймс» обозреватель газеты Сульцбергер взывал к человеческому разуму и солидарности. Стэнтор под большим секретом сообщил мне, что Диас конфисковал принадлежащий правительству США поезд с военным снаряжением; он шел транзитом через Костарикану в Перу. Экстремисты еще не напали на мысль похищать футурологов, что с их точки зрения было бы вовсе не глупо, ведь в тот момент футурологов в Костарикане насчитывалось больше, чем дипломатов.
Впрочем, стоэтажный отель — организм до того огромный и столь комфортабельно изолированный от всего света, что вести извне доходят сюда, словно с другого полушария. Пока что футурологи не проявляли ни малейших признаков паники; никто не штурмовал бюро путешествий отеля — желающих немедленно вылететь в Штаты или другую страну было не больше обычного.
На два часа был назначен банкет по случаю открытия, а я не успел еще переодеться в вечернюю пижаму; итак, я поехал к себе, а потом, задыхаясь от спешки, спустился на 46-й этаж, в Пурпурный зал. В фойе меня встретили две прелестные девушки в одних шароварах (их бюсты были расписаны незабудками и подснежниками) и вручили сверкающий глянцем проспект. Не взглянув на него, я вошел в пустой еще зал; при виде накрытых столов у меня перехватило дыхание. Не потому, что они ломились от яств, нет — шокировали формы всех закусок без исключения; даже салаты имели вид гениталиев. Обман зрения полностью исключался, ибо невидимые глазу динамики грянули популярный в определенных кругах шлягер: «Лишь кретины и каналии ненавидят гениталии, нынче всюду стало модно славить орган детородный!» Появились первые гости, густобородые и пышноусые, впрочем, люди все молодые, в пижамах или без оных; а когда шестеро официантов внесли торт, то при виде этого непристойнейшего в мире творения кулинаров мне стало окончательно ясно: я ошибся этажом и попал на банкет Освобожденной Литературы. Сославшись на то, что потерялась моя секретарша, я поспешил улизнуть и спустился на этаж ниже, чтобы перевести дух в подобающем месте; Пурпурный зал (а не Розовый, куда меня занесло) был уже полон.
Разочарование, вызванное непритязательной обстановкой приема, я, насколько мог, скрыл. Горячих блюд не было, к тому же из огромного зала убрали все кресла и стулья, дабы гости питались стоя. Пришлось проявить необходимую в таких случаях ловкость, чтобы пробраться к тарелкам с наиболее существенным содержимым. Сеньор Кильоне, представитель костариканской секции Футурологического общества, очаровательно улыбаясь, разъяснял неуместность кулинарных излишеств: ведь темой дискуссии будет, в частности, грозящая миру голодная катастрофа. Нашлись, разумеется, скептики, утверждавшие, что обществу просто урезали дотации, отсюда и бережливость устроителей.
Журналисты, по роду занятий вынужденные поститься, шныряли по залу в поисках интервью со светилами зарубежной прогностики; вместо посла США прибыл всего лишь третий секретарь посольства, с мощной охраной, один во всем зале — в смокинге (бронированный жилет трудно укрыть под пижамой). Гостей из города, как я слышал, подвергали досмотру, и в холле будто бы уже высились горы изъятого оружия.
Первое заседание было назначено на пять вечера, оставалось достаточно времени, чтоб отдохнуть, и я снова отправился на сотый этаж. После пересоленных салатов хотелось пить, но баром моего этажа прочно овладели динамитчики и бунтари со своими девицами, я же был сыт по горло беседой с бородатым папистом (или антипапистом). Пришлось ограничиться водой из-под крана.
Не успел я допить стакан, как в ванной и обеих комнатах погас свет, а телефон, какой бы номер я ни набирал, упорно связывал меня с автоматом, рассказывающим сказку о Золушке. Спуститься на лифте не удалось — он тоже вышел из строя. Из бара доносилось хоровое пение молодых бунтарей; те уже стреляли в такт музыке, хотелось бы думать, что мимо. Подобные вещи случаются и в первоклассных отелях, хотя утешительного тут мало; но что удивило меня больше всего, так это моя собственная реакция.
Настроение, довольно скверное после беседы с папским стрелком, улучшалось с каждой секундой. Пробираясь на ощупь и опрокидывая при этом стулья, я только кротко улыбался в темноту, и даже колено, разбитое в кровь о чемоданы, ничуть не уменьшило моей благосклонности ко всему на свете. Нащупав на ночном столике остатки второго завтрака, который я заказал в номер, я вырвал из программы конгресса листок, свернул его, воткнул в кружок масла и зажег. Получилась коптящая, правда, но все-таки плошка; при ее мерцающем свете я уселся в кресло. У меня оставалось два с лишним часа свободного времени, включая часовую прогулку по лестнице, ведь лифт не работал.
Мое душевное состояние претерпевало странные метаморфозы; я следил за ними с живым интересом. Мне было на редкость весело, просто чудесно! Я с ходу мог бы привести массу доводов в защиту всего, что со мною случилось. Мне было ясно как дважды два, что номер «Хилтона», погруженный в кромешную тьму, в чаду и копоти от масляной плошки, отрезанный от остального мира, с телефоном, рассказывающим сказки, — одно из приятнейших мест на свете. К тому же мне страшно хотелось погладить кого-нибудь по голове, на худой конец пожать кому-нибудь руку — и чтобы при этом мы проникновенно заглянули друг другу в глаза.
Я в обе щеки расцеловал бы злейшего врага. Расплывшееся масло шипело, дымило, и плошка поминутно гасла; то, что «масло» рифмуется с «погасло», вызвало у меня прямо-таки пароксизм смеха, хотя как раз в эту минуту я обжег себе пальцы, пытаясь снова зажечь бумажный фитиль.
Самодельный светильник едва теплился, а я мурлыкал себе под нос арии из старых оперетт, не замечая, что от чада першит в горле и слезы струятся из воспаленных глаз. Вставая, я упал и ударился лбом о чемодан, но шишка величиной с яйцо лишь улучшила мое настроение, насколько это было еще возможно. Почти удушенный едким, вонючим дымом, я прямо-таки покатывался со смеху в приступе беспричинной восторженности.
Потом лег на кровать, не застеленную с утра, хотя было далеко за полдень; о нерадивой прислуге я думал как о собственных детях: кроме ласковых уменьшительных прозвищ и нежных словечек, ничего не приходило мне в голову. А если я задохнусь? Ну что ж — о такой милой, забавной смерти можно только мечтать. Эта мысль, совершенно чуждая моему душевному складу, подействовала на меня, как ушат холодной воды.
Мое сознание удивительным образом расщепилось. В нем по-прежнему царила тихая умиротворенность, безграничное дружелюбие ко всему на свете, а руки до такой степени рвались погладить кого ни попадя, что за отсутствием посторонних я принялся бережно гладить по щекам и с нежностью потягивать за уши себя самого; кроме того, я несколько раз подавал левую руку правой — для крепкого рукопожатия. Даже ноги тянулись кого-нибудь приласкать.
Но где-то в глубине сознания вспыхивали сигналы тревоги. «Здесь что-то не так, — кричал во мне приглушенный, далекий голос, — смотри, Ийон, в оба, берегись! Благодушие твое подозрительно! Ну, давай же, смелее, вперед! Не сиди развалившись, как Онассис какой-нибудь, весь в слезах от дыма и копоти, с лиловой шишкой на лбу, одурманенный альтруизмом! Не иначе это какой-то подвох» Тем не менее я и пальцем не шевельнул. В горле у меня пересохло, а сердце колотилось как бешеное — не иначе как от нахлынувшей на меня вселенской любви.
Я побрел в ванную, изнемогая от жажды; вспомнил о пересоленном салате, которым потчевали нас на банкете (если шведский стол можно назвать банкетом); потом представил себе для пробы господ Я.В., Г.К.М., М.В. и других моих злейших врагов и понял, что желаю лишь одного: братски пожать им руки, сердечно расцеловать и обменяться парой дружеских слов. Это уж было слишком. Я застыл, держа одну руку на никелированном кране, а другой сжимая пустой стакан. Затем медленно набрал воды и, скривив лицо в какой-то странной гримасе — в зеркале я видел борьбу различных выражений собственного лица, — выплеснул воду в раковину.
ВОДА ИЗ-ПОД КРАНА! Да, да. После нее все и началось. Что-то такое в ней было! Яд? Но разве бывает яд, который… А впрочем, минутку… Ведь я — постоянный подписчик научных журналов и недавно читал в «Сайенс ньюс» о новых психотропных средствах из группы так называемых бенигнаторов (умилителей). Они вызывают беспричинное ликование и благодушие. Ну конечно!
Эта заметка стояла у меня перед глазами. Гедонидол, филантропин, любинил, эйфоризол, фелицитол, альтруизан и тьма-тьмущая производных! Одновременно, путем замещения гидроксильных соединений амидными, из тех же веществ были синтезированы фуриазол, садистизин, агрессий, депрессин, амокомин и прочие препараты биелогической группы; они побуждают избивать и тиранить все подряд, вплоть до неодушевленных предметов; особенно славятся врубинал и зубодробин.
Зазвонил телефон, и тут же включился свет. Голос портье торжественно и подобострастно приносил извинения за аварию. Я открыл дверь в коридор и проветрил номер — в гостинице, насколько я мог понять, царило спокойствие; потом, все еще в блаженном угаре, обуреваемый желанием благословлять и осыпать ласками, закрыл дверь на защелку, сел посреди комнаты и попытался привести себя в чувство.
Очень трудно описать мое состояние. Любая трезвая мысль словно увязала в меду, барахталась в гоголе-моголе глуповатого благодушия, утопала в сиропе возвышенных чувств, сознание погружалось в сладчайшую из трясин, захлебывалось жидкой глазурью и розовым маслом; я через силу заставлял себя думать о том, что для меня всего омерзительнее — о бородатом головорезе с противопапской двустволкой, о разнузданных пропагандистах Освобожденной Литературы и их вавилоно-содомском пиршестве, снова о господах Я.В., Г.К.М., М.В. и прочих прохвостах и негодяях, — и с ужасом убедился, что всех я люблю, всем все прощаю; мало того, немедленно приходили на ум аргументы, извиняющие любое зло и любую мерзость.
Могучая волна любви к ближнему захлестнула меня; но особенно донимали меня ощущения, которые лучше всего, пожалуй, назвать «позывом к добру».
Вместо того чтобы размышлять о психотропных ядах, я упорно думал о сиротах и вдовах: с каким наслаждением я утешил бы их! Как непростительно мало внимания уделял я им до сих пор! А голодные, а убогие, а больные, а нищие — Боже праведный! Неожиданно я обнаружил, что стою на коленях перед чемоданом и выбрасываю его содержимое на пол в поисках вещей поприличнее — для неимущих.
И опять в подсознании зазвучали далекие голоса тревоги. «Берегись! Не дай себя заморочить! Борись, бей, спасайся!» — донесся откуда-то слабый, но отчаянный крик. Я буквально раздваивался. Я до того проникся кантовским категорическим императивом, что не обидел бы даже мухи. Какая жалость, что в «Хилтоне» нет мышей или хоть пауков, — я бы их пригрел, приласкал! Мухи, клопы, комары, крысы, вши — голубчики вы мои!
Я торопливо благословил стол, лампу и собственные ноги. Но рассудок уже возвращался ко мне; не теряя времени, я ударил левым кулаком по правой руке, раздававшей благословения, и взвыл от боли. Да, это было недурно! Это, пожалуй, могло бы меня спасти! На мое счастье, позыв к добру был направлен не внутрь, а наружу: ближнему я желал несравненно лучшей участи, нежели себе самому.
Для начала я несколько раз заехал себе по физиономии, да так, что захрустел позвоночник, а из глаз посыпались искры. Отлично, так вот и надо! Когда лицо совсем онемело, я принялся за лодыжки. Ботинки у меня, слава Богу, были тяжелые, с чертовски твердой подошвой; после серии жестоких пинков мне стало немного лучше, то есть хуже.
Я осторожно попробовал представить себе тумак в спину Г.К.М. Теперь это уже не казалось абсолютно невозможным. Щиколотки обеих ног нестерпимо болели, но, должно быть, как раз поэтому я смог вообразить даже пинок, адресованный М.В. Не обращая внимания на острую боль, я продолжал себя истязать. Тут годился любой остроконечный предмет; сперва я орудовал вилкой, а после булавкой, извлеченной из новой, ни разу не надеванной рубашки.
Впрочем, мое настроение менялось не плавно, а с перепадами; чуть позже я снова был готов взойти на костер ради ближнего, с новой силой прорвался во мне гейзер благородных порывов и жертвенного экстаза. Сомневаться не приходилось: ЧТО-ТО БЫЛО В ВОДЕ ИЗ-ПОД КРАНА! Да, да!!! В моем чемодане давно валялась непочатая упаковка снотворного. Оно приводило меня в злое и мрачное расположение духа, поэтому я им и не пользовался; хорошо, хоть не выбросил.
Проглотив таблетку, я заел ее почерневшим маслом (воды я страшился как дьявола), затолкал себе в рот две кофеиновые пастилки, чтоб не уснуть, сел и со страхом — но и с любовью к ближнему — стал ожидать исхода химической битвы в своем организме.
Любовь еще насиловала меня, я чувствовал себя умиротворенным, как никогда. Все же препараты зла начали превозмогать химикаты добра: я по-прежнему был готов благодетельствовать, но уже с разбором. И то хорошо, хотя на всякий случай я предпочел бы побыть — недолго — последним мерзавцем.
Через четверь часа все как будто прошло. Я принял душ и вытерся жестким полотенцем, время от времени награждая себя зуботычинами — профилактики ради; заклеил пластырем избитые в кровь щиколотки и костяшки пальцев, пересчитал синяки (я и вправду разукрасил себя на совесть), надел свежую рубашку, поправил перед зеркалом галстук, одернул смокинг, напоследок заехал себе под ребро, для поднятия духа и для контроля, и вышел — в самую пору, чтобы успеть к пяти.
В отеле, вопреки ожиданию, все было как обычно. Я заглянул в бар — тот почти опустел; прислоненная к табурету, стояла папинтовка, две пары ног высовывались из-под стойки, одна из них босая, но вряд ли причиной тому было альтруистическое самоотречение. Несколько динамитчиков дулись у стены в карты, еще один бренчал на гитаре, мурлыча все тот же непристойнейший шлягер. Внизу, в холле, толпились футурологи. Они тоже спешили на заседание, впрочем, не выходя из отеля: конференц-зал находился в его цокольной части.
Все это сначала меня удивило; по некотором размышлении, однако, я понял: в таком отеле воду из-под крана не пьют, жажду утоляют здесь кока-колой и швепсом, в крайнем случае — чаем, соками или пивом. К спиртному подается минеральная или содовая вода; а тот, кто имел несчастье совершить ту же ошибку, что я, теперь, наверное, корчится в судорогах вселенской любви, запершись у себя в номере. Поэтому, решил я, лучше даже не заикаться о своих ощущениях; я здесь человек чужой, кто мне поверит? Это все, скажут, аберрации и галлюцинации. Чего доброго, примут за наркомана, дело обычное.
Впоследствии многие меня упрекали: я, дескать, выбрал тактику страуса или улитки; не промолчи я тогда, и все бы обошлось хорошо. Но это — очевидное заблуждение. Постояльцев отеля я, может, и предостерег бы, однако события в «Хилтоне» никак не влияли на политические перипетии Костариканы.
По пути в конференц-зал я набрал кипу местных газет — такая уж у меня привычка. Я, конечно, читаю не на всех языках, но по-испански человек образованный всегда что-нибудь разберет.
На возвышении красовалась повестка дня, обрамленная зеленью; первым пунктом шла глобальная урбанистическая катастрофа, вторым — катастрофа экологическая, затем — климатическая, энергетическая и продовольственная, после чего обещан был перерыв. Военная, технологическая и политическая катастрофы откладывались на другой день, вместе с дискуссией на свободные темы.
Докладчику отводилось четыре минуты — многовато, пожалуй, ведь было заявлено 198 докладов из 64 стран. Для экономии времени доклады надлежало изучить заранее, а оратор лишь называл цифры — номера ключевых абзацев своего реферата. Чтобы лучше усвоить эту премудрость, мы включили карманные магнитофоны и мини-компьютеры; между ними должна была завязаться потом основная дискуссия.
Стенли Хейзлтон из США сразу ошеломил зал, отчеканив: 4, 6, II, откуда следует 22; 5, 9, ergo 22; 3, 7, 2, 11, из чего опять же получается 22!! Кто-то, привстав, выкрикнул, что все-таки 5 и, может быть, 6, 18, 4. Хейзлтон с лету опроверг возражение, разъяснив, что так или этак — кругом 22. Заглянув в номерной указатель, я обнаружил, что 22 означает окончательную катастрофу.
Японец Хаякава сообщил о разработанной его соотечественниками модели жилого здания в восемьсот этажей — с родильными клиниками, яслями, школами, магазинами, музеями, зоопарками, театрами, кинозалами и крематориями; предусматривались подземные помещения для погребальных урн, телевидение на сорок каналов, опохмелители и вытрезвители, залы на манер гимнастических для занятий групповым сексом (свидетельство передовых убеждений проектировщиков), а также катакомбы для субкультурных групп нонконформистского толка.
Любопытным новшеством было намеченное в проекте ежедневное переселение каждой семьи на другую квартиру — ходом либо пешки, либо коня, во избежание скуки и стрессов. Вдобавок, это здание в 17 кубокилометров, стоящее на дне океана, а крышей достигающее стратосферы, намечалось снабдить матримониальным компьютером садомазохистского образца (по данным статистики, пары садистов с мазохистками, и наоборот, наиболее устойчивы, ибо каждый партнер находит в другом то, что ищет), а кроме того, центром антисамоубийственной терапии.
Другой японский делегат, Хакаява, продемонстрировал макет такого дома в масштабе 1:10.000, с собственными резервами кислорода, но без резервов продовольствия и воды, то есть с частично замкнутым циклом жизнеобеспечения. Все выделения, не исключая предсмертного пота, подлежали регенерации.
Третий японец, Яхакава, зачитал список деликатесов, синтезируемых из выделений жильцов. Тут, между прочим, значились искусственные бананы, пряники, креветки, устрицы и даже синтетическое вино, которое) несмотря на свое не слишком благородное происхождение, не уступало, если верить докладчику, лучшим винам Шампани. По залу стали разносить пробные дозы в изящных бутылочках и паштетики в блестящей фольге, но футурологи не спешили пригубить вино, а паштетики потихоньку засовывали под кресло; я поступил так же.
Первоначальный план, согласно которому дом-гигант снабжался пропеллерами (на случай коллективных воздушных экскурсий), — был отвергнут. Во-первых, потому, что таких домов для начала предполагалось изготовить 900 миллионов; во-вторых, подобные путешествия все равно не имели бы смысла. Даже если бы жильцы выходили на экскурсию из тысячи дверей сразу, они все равно никогда бы не вышли: прежде чем последний из них покинет здание, успеют подрасти родившиеся за это время младенцы.
Японцы, по-видимому, были от своего проекта в восторге. После них слово взял Норман Юхас из США и предложил семь методов борьбы с демографическим взрывом: уговоры, судебные приговоры, деэротизация, принудительная целибатизация, онанизация, строгая изоляция, а для упорствующих — кастрация.
Каждая супружеская чета должна была просить разрешение на ребенка, а затем еще выдержать три экзамена — по копуляции, воспитанию и взаимному обожанию. Нелегальное деторождение объявлялось наказуемым, а повторное — каралось пожизненным заключением. К этому-то докладу и прилагались те миленькие проспекты и отрывные талоны, которые мы получили утром в числе материалов конгресса.
Хэйзлтон и Юхас предвидели появление новых профессий, как то: матримониальный осведомитель, запретитель, разделитель и затыкатель; проект нового уголовного кодекса, в котором зачатие фигурировало в качестве тягчайшего из преступлений, был нам немедленно роздан. Тут случился прискорбный инцидент: с галереи для публики кто-то швырнул бутылку со взрывчатой смесью. «Скорая помощь» (она была тут как тут, укрытая в кулуарах) сделала свое дело, а служба наблюдения за порядком быстро прикрыла исковерканные кресла и останки ученых нейлоновым покрывалом с жизнерадостными узорами; как видно, устроители заранее обо всем позаботились.
В паузах между докладами я попробовал читать местные газеты и, хотя испанский понимал с пятого на десятое, все же узнал, что правительство стянуло в город танковые части, поставило на ноги всю полицию и объявило военное положение. По-видимому, кроме меня, никто не догадывался о том, что творится за стенами «Хилтона».
В семь объявили перерыв, чтобы участники могли подкрепиться — разумеется, за свой счет; возвращаясь в зал, я купил очередной экстренный выпуск официозной газеты «Насьон» и парочку экстремистских «вечерок». Даже при моем весьма приблизительном знании языка эти газеты показались мне необычными. Блаженно-оптимистические сентенции о христианской любви — залоге всеобщего счастья — перемежались угрозами кровавых репрессий и столь же свирепыми ультиматумами экстремистов.
Такой разнобой объясняла одна лишь гипотеза: часть журналистов пила водопроводную воду, а прочие — нет. В органе правых воды, естественно, было выпито меньше; сотрудники оплачивались здесь лучше и за работой подкреплялись напитками подороже. Впрочем, экстремисты, хоть и не чуждые аскетизма во имя высших идеалов и лозунгов, тоже не слишком часто утоляли жажду водой, если учесть, что картсупио (напиток из перебродившего сока растения мелменоле) в Костарикане невероятно дешев.
Не успели мы погрузиться в мягкие кресла, а профессор Дрингенбаум из Швейцарии — произнести первую цифру своего доклада, как с улицы послышались глухие взрывы; здание дрогнуло, зазвенели оконные стекла, но футурологи-оптимисты кричали, что это просто землетрясение. Я же склонялся к тому, что какая-то из оппозиционных группировок (они пикетировали отель с самого начала конгресса) бросила в холл петарды. Меня разубедил еще более сильный грохот и сотрясение; теперь уже можно было различить стаккато пулеметных очередей. Обманываться не приходилось: Костарикана вступила в стадию уличных боев.
Первыми сорвались с места журналисты — стрельба подействовала на них, как побудка. Верные профессиональному долгу, они помчались на улицу. Дрингенбаум попытался продолжить свое выступление, в общем-то довольно пессимистическое. Сначала цивилизация, а после каннибализация, утверждал он, ссылаясь на известную теорию американцев, которые подсчитали, что, если ничего не изменится, через четыреста лет Земля превратится в шар из человеческих тел, разбухающий со скоростью света. Однако новые взрывы заставили профессора замолчать.
Футурологи в растерянности выходили из зала; в холле они смешались с участниками Конгресса Освобожденной Литературы, которых, судя по внешнему виду, начало боев застало в разгар занятий, приближающих демографическую катастрофу. За редакторами издательской фирмы А.Кнопфа шествовали их секретарши (сказать, что они неглиже, я не мог бы — кроме нательных узоров в стиле поп-арт, на них вообще ничего не было), с портативными кальянами и наргиле, заправленными модной смесью ЛСД, марихуаны, иохимбина и опиума.
Как я услышал, адепты Освобожденной Литературы только что сожгли in effigie[24] американского министра почты и телеграфа — тот, видите ли, приказал своим служащим уничтожить листовки с призывами к массовому кровосмешению. В холле они вели себя отнюдь не добропорядочно, особенно если учесть серьезность момента. Общественного приличия не нарушали лишь те из них, кто совершенно выбился из сил или пребывал в наркотическом оцепенении. Из кабин доносился истошный визг бедняжек телефонисток; какой-то толстобрюхий субъект в леопардовой шкуре и с факелом, пропитанным гашишем, бушевал между рядами вешалок, атакуя персонал гардероба. Портье с трудом утихомирили его, призвав на помощь швейцаров.
С антресолей кто-то забрасывал нас охапками цветных фотографий, детально изображающих то, что один человек под влиянием похоти может сделать с другим, и даже гораздо больше. Когда на улице появились первые танки (их прекрасно было видно в окно), из лифтов повалили перепуганные филуменисты и бунтари; растаптывая эротические закуски, принесенные издателями и разбросанные теперь по холлу, постояльцы разбегались кто куда. Ревя, как обезумевший буйвол, и сокрушая прикладом своей папинтовки всех и вся, пробивался через толпу бородатый антипапист; он — я видел своими глазами — выбежал из отеля, чтобы немедля открыть огонь по пробегающим мимо людям. Похоже, ему, убежденному экстремисту крайнего толка, было все равно, в кого стрелять.
Когда со звоном начали лопаться огромные окна, холл, оглашаемый криками ужаса и любострастия, превратился в сущее пекло. Я попробовал отыскать знакомых журналистов; увидел, что они бегут к выходу, и последовал их примеру — в «Хилтоне» и в самом деле становилось не очень уютно.
Несколько репортеров, припав к земле за бетонным барьерчиком автостоянки, усердно фотографировали происходящее, впрочем, без особой надежды на успех: как всегда в таких случаях, в первую очередь были подожжены машины с заграничными номерами, и над паркингом вздымались языки пламени и клубы дыма. Мовен из АФП, оказавшийся рядом со мной, потирал руки от удовольствия — он-то взял машину в прокатной конторе Херца и только посмеивался, глядя на свой полыхающий «додж». Большинство репортеров-американцев не разделяло его веселья. Какие-то люди — по большей части бедно одетые старички — пытались сбить огонь с пылающих автомашин; воду они носили ковшиками из фонтана неподалеку. Уже здесь было над чем призадуматься.
Вдали, в конце Авенида дель Сальвасьон и дель Ресурексьон, поблескивали на солнце полицейские каски, но площадь перед отелем и окружавшие ее парки с высокими пальмами были безлюдны. Старички надтреснутыми голосами подбадривали друг друга, хотя их слабые ноги подкашивались; такой энтузиазм показался мне просто невероятным; но тут я вспомнил о происшествии у себя в номере и немедленно поделился своими предположениями с Мовеном.
Стрекотание пулеметов, басовые аккорды взрывов затрудняли беседу; подвижное лицо француза выражало полное недоумение, затем его глаза заблестели. «А-а! — зарычал он, перекрывая уличный грохот. — Вода! Из-под крана? Боже мой, впервые в истории… тайная химиократия!» С этими словами он, как ошпаренный, помчался к отелю — разумеется, чтобы занять место у телефона; как ни странно, связь еще действовала.
Я остался стоять у подъезда; ко мне подошел профессор Троттельрайнер из делегации швейцарских футурологов, и тут произошло то, чего, собственно, давно уже следовало ожидать. Появились вооруженные полицейские — строем, в противогазах и черных касках, с черными нагрудными щитами; они оцепили весь комплекс «Хилтона», чтобы преградить путь толпе, которая выходила из парка, отделявшего отель от городского театра.
Отряд особого назначения с немалой сноровкой устанавливал гранатометы; их первые залпы ударили по толпе. Взрывы были на удивление слабые, зато сопровождались целыми тучами белесого дыма. Слезоточивый газ, решил я; но толпа не бросилась врассыпную и не разразилась яростным воплем — ее определенно тянуло к этому дымному облаку. Крики быстро затихли, сменившись чем-то вроде хоральных песнопений.
Журналисты, метавшиеся со своими камерами и магнитофонами между полицейским кордоном и входом в отель, не могли взять в толк, что здесь, собственно, происходит, но я-то уже догадался: полиция, несомненно, применила оружие химического ублаготворения в форме аэрозолей. Но от Авенида дель… — как там ее? — вышла вторая колонна, на которую эти гранаты почему-то не действовали, а может, так только казалось; как потом утверждали, колонна двигалась дальше, чтобы побрататься с полицией, а не разорвать ее на куски, но кого, скажите на милость, могли занимать подобные тонкости в обстановке полного хаоса?
Гранатометчики ответили залпами, следом с характерным шипением и свистом отозвались водометы, наконец, застрекотали пулеметные очереди, и воздух загудел от пуль и снарядов. Дело приняло нешуточный оборот; я прижался к земле за барьерчиком автостоянки, словно за бруствером, и очутился между Стэнтором и Хейнзом из «Вашингтон пост».
В двух словах я обрисовал ситуацию, и они, отчитав меня за то, что сенсационную новость первым узнал репортер АФП, наперегонки поползли к «Хилтону», но вскоре вернулись разочарованные: связи не было. Стэнтор все же прорвался к офицеру, руководившему обороной отеля, и узнал, что вот-вот прилетят самолеты с бумбами, то есть с Бомбами Умиротворения и Благочиния. Нам приказано было очистить площадь, а полицейские, все как один, натянули противогазы со специальными адсорбентами. Нам их тоже раздали.
Троттельрайнер — волею случая он оказался еще и специалистом по психофармакологии — предупредил, чтобы я ни в коем случае не пользовался противогазом. При большой концентрации аэрозолей противогаз теряет защитные свойства: происходит «скачок» отравляющих веществ через адсорбент, и тогда в считанные секунды можно наглотаться 0В больше, чем без противогаза; надежную защиту обеспечивает лишь кислородный аппарат.
Поэтому мы отправились в регистратуру отеля, разыскали последнего оставшегося на посту портье и по его указаниям добрались до пожарного пункта. Действительно, здесь было полно кислородных аппаратов системы Дрегера, с замкнутым циклом. Обеспечив тем самым свою безопасность, мы вышли на улицу — как раз в ту минуту, когда пронзительный свист над нашими головами возвестил о появлении первых бумбардировщиков.
Как известно, «Хилтон» по ошибке подвергся бумбардировке в первые же минуты воздушной атаки; последствия были катастрофическими. Бумбы, правда, попали лишь в дальнее крыло нижней части отеля, где на больших щитах размещалась выставка Ассоциации Издателей Освобожденной Литературы, так что никто из постояльцев не пострадал; зато охранявшей нас полиции не поздоровилось. Через минуту после налета приступы христианской любви в ее рядах приняли повальный характер.
На моих глазах полицейские, сорвав с себя маски противогазов, заливались слезами раскаяния. Они на коленях вымаливали прощение у демонстрантов, требовали, чтобы те хорошенько их вздули, и всовывали им в руки свои увесистые дубинки; а после второго захода бумбардировщиков, когда концентрация аэрозолей возросла, наперебой бросались ласкать и голубить каждого встречного.
Восстановить ход событий, и то лишь частично, удалось лишь через несколько недель после трагедии. Еще утром власти решили подавить в зародыше назревавший государственный переворот и ввели в водонапорную башню около 700 килограммов двуодури благотворина и суперумилина с фелицитолом; подача воды в армейские и полицейские казармы была предусмотрительно перекрыта. Но все пошло насмарку из-за отсутствия толковых специалистов: не был предусмотрен «скачок» аэрозолей через фильтры, а также то, что разные социальные группы потребляют вовсе не одинаковое количество питьевой воды.
Духовное просветление полиции оказалось особенно неожиданным для правительства потому, что бенигнаторы, как объяснил Троттельрайнер, действуют на людей тем сильнее, чем меньше были они подвержены естественным, врожденным благим побуждениям. Так что, когда вторая волна самолетов разбумбила президентский дворец, многие из высших полицейских и военных чинов покончили с собой, не в силах вынести кошмарных мучений совести.
Если добавить, что генерал Диас, прежде чем застрелиться, велел открыть тюрьмы и выпустить политзаключенных, будет легче понять необычайную ожесточенность боев, развернувшихся с наступлением ночи. Но авиабазы, удаленные от столицы, не понесли никакого ущерба. Их командование имело свои инструкции, которым и следовало до конца, между тем как полицейские и армейские наблюдатели, укрытые в герметичных бункерах, видя, что творится вокруг, решили прибегнуть к крайнему средству, ввергнувшему весь Нунас в состояние коллективного помешательства. Обо всем этом мы в «Хилтоне», разумеется, не могли и догадываться.
Около одиннадцати вечера на театре военных действий, то есть на площади с прилегающими к ней парками, появились танковые части. Им было приказано сокрушить любовь к ближнему, овладевшую столичной полицией, и они выполняли приказ, не жалея снарядов.
Ублаготворяющая граната разорвалась в метре от Альфонса Мовена; взрывной волной бедняге оторвало пальцы левой руки и левое ухо, а он заверял меня, что эту руку он давно считал лишней, об ухе и говорить нечего, и, если я захочу, он тут же пожертвует мне второе; он даже достал из кармана перочинный нож, но я деликатно обезоружил репортера и доставил в импровизированный лазарет.
Здесь им занялись секретарши издателей-освобожденцев, ревущие в три ручья по причине химического перерождения. Они не только были застегнуты на все пуговицы, но и надели что-то вроде чадры, дабы не ввергнуть ближнего в искушение; те же, кого особенно проняло, остриглись, бедняжки, наголо!
Возвращаясь из лазарета, я на свою беду встретил группу издателей и не сразу узнал их: они напялили старые джутовые мешки и подпоясались веревками, которые к тому же служили для самобичевания. Упав на колени, они наперебой просили меня смилостивиться над ними и хорошенько их отстегать за развращение общественных нравов. Каково же было мое изумление, когда, присмотревшись поближе, я узная в этих флагеллантах сотрудников «Плэйбоя» в полном составе, вместе с главным редактором! Он-то и не позволил мне отвертеться, так его донимало раскаяние. Эти сукины дети хорошо понимали, что только я, благодаря кислородному аппараду, могу им помочь; в конце концов я уступил, против собственной воли и лишь для очистки совести.
Рука у меня затекла, дыхание под кислородной маской сбилось, я боялся, что не найду запасного баллона, когда этот кончится, а наказуемые, выстроившись в длинную очередь, с нетерпением ожидали своей минуты. Чтобы отвязаться от них, я велел им собрать эротические плакаты — взрыв бумбы в боковом крыле «Хилтона» (где размещался Centro erotico) разбросал их по холлу, уподобив его Содому и Гоморре. Они свалили плакаты в огромную груду у входа в отель и подожгли.
К несчастью, дислоцированная в парке артиллерия, приняв наш костер за какой-то сигнал, открыла по нему огонь. Я дал стрекача — и в подвале очутился в объятиях мистера Харви Симворта, того самого, кто первым додумался переделывать детские сказочки в порнографические истории («Красная Шапочка-переросток», «Али-Баба и сорок любовников» и пр.), а потом сколотил состояние, перелицовывая мировую классику. Его метод был крайне прост: любое название начиналось со слов «половая жизнь» («…Белоснежки с семью гномами», «…Аладдина с лампой», «…Алисы в стране чудес», «…Гулливера» и т. д., до бесконечности). Напрасно я отговаривался крайней усталостью. Он с рыданием в голосе упрашивал хотя бы пнуть его хорошенько. Делать нечего — пришлось подчиниться еще раз.
Я был так измотан, что едва дотащился до пожарного пункта, где, к счастью, нашлось несколько полных кислородных баллонов. На свернутом шланге сидел, углубившись в футурологические доклады, профессор Троттельрайнер, очень довольный, что выкроил наконец немного свободного времени, которого никогда не бывает у кочующего футуролога. Между тем бумбардировка продолжалась вовсю. При наиболее тяжелых формах поражения добротой (особенно жутко выглядел приступ вселенской нежности с ласкательными конвульсиями) профессор рекомендовал горчичники и большие дозы касторки в сочетании с промыванием желудка.
В пресс-центре Стэнтор Вули из «Геральд», Чарки и фоторепортер Кюнце, временно занятый в «Пари-матч», не снимая масок противогазов, играли в карты — из-за отсутствия связи им нечего было делать. Я присоединился к ним в качестве зрителя, и тут в пресс-центр влетел Джо Миссенджер, старейшина американской журналистики; он сообщил, что полиции розданы таблетки фуриазола для нейтрализации бенигнаторов. Ему не пришлось повторять это дважды — мы стремглав помчались в подвал, но вскоре выяснилось, что тревога была ложная.
Мы вышли на улицу; не без сожаления я обнаружил, что отель стал десятка на два этажей ниже; лавина обломков погребла мой номер со всем, что там находилось. Зарево охватило три четверти небосвода. Здоровенный полицейский в шлеме гнался за каким-то подростком с криком: «Остановись, ради Бога, остановись, я же тебя люблю!» — но тот, как видно, не принимал его уверений всерьез.
Грохот понемногу стихал; журналистов разбирало профессиональное любопытство, и мы осторожно двинулись в сторону парка. Здесь при живейшем участии тайной полиции совершались черные, белые, розовые и смешанные мессы. Огромная толпа неподалеку горько рыдала; над ней возвышался плакат: «НЕ ЖАЛЕЙТЕ НАС, ПРОВОКАТОРОВ!» Судя по числу обращенных иуд, расходы правительства на их содержание были немалыми и, надо думать, отрицательно сказывались на экономическом положении Костариканы.
Вернувшись к «Хилтону», мы увидели перед отелем еще одну толпу. Полицейские ищейки, уподобившись сенбернарам, выносили из бара самые дорогие напитки и раздавали их всем без разбора; в самом же баре фараоны и бунтари дружно горланили песни — вперемежку подрывные и охранительные.
Я заглянул в подвал, но сцены покаяний, ласканий и искренних излияний так на меня подействовали, что я поспешил на пожарный пункт, где рассчитывал найти профессора Троттельрайнера. К моему удивлению, он тоже нашел трех партнеров и резался с ними в бридж. Доцент Кецалькоатль пошел с козырного туза; это так разгневало Троттельрайнера, что он бросил карты.
Мы начали его успокаивать; в дверь заглянул Чарки и сообщил о речи генерала Акильо, только что переданной по радио: генерал грозил утопить бунт в крови обычной бомбардировкой города. После недолгого совещания мы решили отступить на самый нижний, канализационный ярус «Хилтона», располагавшийся под бомбоубежищем.
Кухня отеля лежала в руинах, и есть было нечего; проголодавшиеся филуменисты, издатели и бунтари набивали рты шоколадками, питательными смесями и желе, укрепляющими потенцию, — все это они нашли в опустевшем Centre erotico. Я видел, как менялись их лица, когда пикантные сласти и любенцы смешивались в их крови с бенигнаторами, — о последствиях этой химической реакции страшно было подумать, видел братание футурологов с индейцами — чистильщиками ботинок, тайных агентов в объятиях горничных и уборщиц, сердечный альянс котов с огромными жирными крысами; вдобавок всех поголовно лизали полицейские псы.
Мы медленно пробирались сквозь толпу; эта прогулка меня утомила, к тому же я шел замыкающим и нес половину резервных баллонов. Заласканный, зацелованный в руки и ноги, обожаемый, задыхающийся от рукопожатий и нежностей, я упорно пробивался вперед, пока наконец не раздался торжествующий клич Стэнтора: он нашел вход в канал! Собрав последние силы, мы сдвинули тяжелую крышку люка и один за другим спустились в бетонированный колодец.
Профессор Троттельрайнер поскользнулся на ступеньке железной лестницы; я поддержал его и спросил, так ли он представлял себе этот конгресс. Вместо ответа он попытался поцеловать мне руку, что сразу пробудило у меня подозрения, и точно — оказалось, маска у него съехала, и профессор успел наглотаться воздуха, зараженного добротой. Мы незамедлительно применили физические мучения, чистый кислород и чтение вслух реферата Хаякавы (это была идея Хаулера). Придя в себя — о чем свидетельствовал каскад сочных ругательств, — профессор последовал за остальными.
Вскоре слабый луч фонарика уперся в масляные разводы на черной глади канала; мы несказанно обрадовались: целых десять метров земли отделяло нас от поверхности бумбардируемого города. Но как же мы удивились, обнаружив, что не мы первые подумали об этом убежище. На бетонной приступке восседала в полном составе дирекция «Хилтона»; рачительные менеджеры запаслись надувными креслами из гостиничного бассейна, транзисторами, батареями бутылок виски, швепса и множеством холодных закусок. Они тоже пользовались кислородными аппаратами, так что им и в голову не пришло бы поделиться хоть чем-нибудь с нами. Но мы приняли угрожающий вид, к тому же нас было больше, и это их убедило. В добром, хотя отчасти вынужденном согласии мы принялись за разделку омаров; этим ужином, в программе не предусмотренным, завершился первый день футурологического конгресса.
Уставшие от волнений минувшего дня, мы готовились ко сну в обстановке более чем спартанской, если учесть, что спать предстояло на узкой бетонной полосе со всеми признаками ее канализационного назначения. Предстояло решить вопрос о честном дележе шести надувных кресел, которые прихватила с собой дирекция «Хилтона». Их хватило бы на двенадцать персон, ибо шестеро менеджеров согласились разделить свои спальные места с секретаршами; нас же, спустившихся в канал во главе со Стэнтором, было двадцать.
Сюда входила футурологическая группа Дрингенбаума, Хейзлтона и Троттельрайнера, журналисты и комментаторы телекомпании Сиби-эс, а также двое присоединившихся по дороге: никому не известный плотный мужчина в кожаной куртке и бриджах и малютка Джо Коллинз, личная секретарша редактора «Плэйбоя». Стэнтор намеревался воспользоваться ее химическим перерождением и уже по пути, как я слышал, договаривался с ней о праве на публикацию ее мемуаров.
При таком множестве претендентов обстановка немедленно накалилась. Мы стояли по обе стороны вожделенных кресел, глядя друг на друга исподлобья; впрочем, в кислородных масках и нельзя было иначе. Кто-то предложил, чтобы все разом, по сигналу, сняли маски — тогда, наглотавшись как следует альтруизма, мы устранили бы самый предмет спора. Никто, однако, не спешил следовать этому совету. После долгих споров мы пришли к компромиссу, согласившись на жеребьевку и посменный трехчасовой сон; жребиями нам послужили купоны прелестных копуляционных книжечек (тех самых) — кое у кого они сохранились.
Мне выпало спать в первой смене с профессором Троттельрайнером, гораздо более худым и даже костлявым, нежели мне того бы хотелось, раз уж мы делили с ним ложе (точнее, кресло). Вторая смена бесцеремонно растолкала нас и стала укладываться на наших местах, а мы примостились на коленках у самой воды, с тревогой следя за давлением кислорода в баллонах. Было ясно: запаса хватит на пару часов; перспектива очутиться в рабстве у добродетели казалась нам неизбежной и навевала мрачные мысли.
Коллеги, зная, что я успел вкусить это блаженство, настойчиво расспрашивали меня о впечатлениях. Я уверял, что это не так уж плохо, — но без особого энтузиазма. Нас клонило ко сну; чтобы не свалиться в канал, мы привязались, кто чем мог, к железной лесенке под люком. Мою неспокойную дремоту прервало эхо взрыва, более сильного, чем все предыдущие. Я огляделся в полутьме (все фонарики, кроме одного, были предусмотрительно выключены). На бетонную дорожку вылезали громадные, толстые крысы. Удивительно было, что передвигались они гуськом и на задних лапах.
Я ущипнул себя — вроде не сон. Разбудив профессора Троттельрайнера, я указал ему на этот странный феномен; он тоже опешил. Крысы ходили парами, вовсе не обращая на нас внимания; во всяком случае, они не собирались лизать нас, что профессор счел благоприятным симптомом — воздух, скорее всего, был чист.
Мы осторожно сняли маски. Оба репортера справа от нас спали как убитые, крысы по-прежнему прохаживались на задних лапах. Мы с профессором расчихались — защекотало в носу. Сперва я решил, что это из-за канализационных запахов, и тут увидел первые корешки. Нагнулся — об ошибке не могло быть и речи.
Я пускал корешки чуть пониже коленей, а выше зазеленел. Теперь и руки покрывались почками. Почки росли на глазах, набухали и распускались, белесые, правда, как и положено подвальной растительности; я чувствовал: еще немного — и я начну плодоносить. Хотел обратиться за разъяснениями к Троттельрайнеру, но пришлось повысить голос, так громко я шелестел. Спящие тоже походили на подстриженную живую изгородь, усыпанную цветами, лиловыми и пурпурными.
Крысы пощипывали листочки, поглаживали усы лапками и росли. Еще немного, подумал я, и можно будет их оседлать; как дерево, я тосковал по солнцу. Откуда-то издалека доносились мерные сотрясения, что-то осыпалось, гудело, эхо прокатывалось по коридорам, я покраснел, потом зазолотился и, наконец, стал ронять листья. Что, уже осень, удивился я, так скоро?
Но тогда пора собираться в поход; я вырвал корни из почвы и на всякий случай прислушался. Так и есть — труба зовет! Крыса с поводьями и под седлом — экземпляр исключительный даже для породистого скакуна — повернула голову и посмотрела из-под скошенных ресниц печальным взглядом профессора Троттельрайнера. Мне стало как-то не по себе: если это профессор, похожий на крысу, седлать его не годится, но если это всего лишь крыса, похожая на профессора, стесняться нечего. А труба звала! Я прыгнул на спину скакуна и свалился в канал. Зловонная ванна отрезвила меня.
Содрогаясь от омерзения, я вылез на бетонированную дорожку. Крысы нехотя потеснились. Они по-прежнему прогуливались на задних лапах. Ну конечно, мелькнуло у меня, галлюциногены! Если я считал себя деревом, почему бы им не принять себя за людей! Я вслепую искал кислородный аппарат: побыстрей бы надеть его! Нащупав маску, натянул ее на лицо, но все же вдыхал кислород с тревогой: откуда мне знать, настоящая это маска или только фантом?
В подвале вдруг посветлело. Я поднял голову и в открытом люке увидел сержанта американской армии — он протягивал мне руку.
— Скорее! — кричал он. — Скорее!
— Что, вертолеты прислали?! — вскочил я.
— Наверх, поторапливайся! — надсаживался он.
Остальные вскочили тоже. Я взобрался по лесенке.
— Наконец-то! — пыхтел подо мною Стэнтор.
Снаружи было светло от пожара. Я огляделся — никаких вертолетов, только несколько солдат в боевых шлемах десантных частей подавали нам какую-то упряжь.
— Что это? — в недоумении спросил я.
— Живее, живее! — торопил сержант.
Солдаты начали меня запрягать. «Галлюцинация!» — решил я.
— Ничего подобного, — отозвался сержант, — это десантное снаряжение, индивидуальные мини-ракеты. Резервуар горючего в ранце. Держись за эту штуковину. — Он сунул мне какую-то рукоятку, а стоявший за моей спиной десантник уже затягивал лямку. — Пошел!
Сержант хлопнул меня по спине и дотронулся до какой-то кнопки на моем ранце. Раздался резкий, протяжный свист, мои ноги окутал пар, а может быть, дым — он вырвался из сопла в ранце, — и я взлетел, словно перышко.
— Но мне же не справиться с управлением! — кричал я, свечой взмывая в черное небо, объятое грозным заревом.
— Разберешься! Азимут на По-ляр-ну-ю!! — орал снизу сержант.
Я поглядел вниз. Подо мною проносилась гигантская груда обломков — еще недавно она была гостиницей «Хилтон». Рядом с нею виднелась небольшая толпа, дальше огромным кольцом вздымались кроваво-красные языки пламени; на огненном фоне появилось черное круглое пятнышко — это стартовал с открытым зонтом Троттельрайнер. Я ощупал себя, проверяя, прочно ли держатся постромки и ремни. Ранец булькал, пищал, свиристел, пар из сопла все сильней обжигал икры, я поджал ноги как только мог, потерял при этом устойчивость и целую минуту барахтался в воздухе, словно большущий, тяжелый жук.
Потом, случайно задев рукоятку, должно быть, изменил угол выхлопа и сразу перешел на горизонтальный курс. Ощущение было довольно приятное; оно было бы еще приятней, знай я, куда лечу. Я поворачивал рукоятку, пытаясь окинуть взглядом раскинувшийся подо мною простор. На огненном фоне чернели зубчатые руины домов. Голубые, зеленые, красные нити огня тянулись ко мне с земли, что-то просвистело возле ушей — да ведь это по мне стреляют! Ну, скорей же, скорей! Я рванул рукоятку. Ранец харкнул, фыркнул, как неисправный паровоз, обжег мне кипятком ноги и дал такого пинка, что я кувырком полетел в черное, как деготь, пространство. Ветер свистел в ушах, я чувствовал, как из карманов вываливаются перочинный нож, бумажник и прочие мелочи, попытался нырнуть за ними, но потерял их из виду.
Я был совершенно один, под далекими спокойными звездами и, не переставая шипеть, гудеть, свиристеть, — летел. Попытался найти Полярную, чтобы выправить курс; когда мне это наконец удалось, ранец испустил дух, и я, набирая скорость, понесся к земле. На мое счастье, в последний момент — я уже различал ленту шоссе в дымке тумана, тени деревьев, какие-то крыши — ранец выплюнул последнюю порцию пара; я сбавил скорость и упал на траву довольно мягко.
Рядом, в канаве, кто-то стонал. Вот было бы удивительно, подумал я, окажись там профессор! Действительно, это был он. Я помог ему встать. Он ощупал себя в поисках очков; впрочем, сам он был совершенно цел. Троттельрайнер попросил помочь ему отстегнуть упряжь, потом уселся на ранце и достал что-то из бокового отделения — какие-то стальные трубки и колесо.
— А теперь ваш…
Из моего ранца он тоже извлек колесо, к чему-то приладил его и крикнул:
— По местам! Едем.
— Что такое? Куда? — удивился я.
— Тандемом. В Вашингтон, — коротко объяснил профессор; ногу он уже держал на педали.
«Галлюцинация!» — промелькнуло у меня.
— Вот еще! — возмутился профессор. — Обычное десантное снаряжение.
— Допустим. Но вам-то откуда все это известно? — спросил я, устраиваясь на заднем сиденьице.
Профессор оттолкнулся, мы покатили сначала по траве, потом по асфальту.
— Я работаю в US AF![25] — выкрикнул он, энергично перебирая ногами.
Насколько я помнил, между нами и Вашингтоном простирались Перу и Мексика, не говоря уже о Панаме.
— Мы не дотянем на велосипеде! — заорал я против ветра.
— Только до сборного пункта! — крикнул в ответ профессор.
Неужели он не был обычным футурологом, за которого себя выдавал? Ну и влип я в историю… И что мне там делать, в Вашингтоне? Я притормозил.
— Вы что? Шевелите ногами, коллега! — отчитывал меня Троттельрайнер, пригнувшись к рулю.
— Нет! Остановка. Я выхожу! — решительно возразил я.
Тандем вильнул и остановился. Профессор, упираясь ногой в землю, издевательски указал на окружающую нас темноту:
— Как хотите. Бог в помощь!
Он уже отъезжал.
— Вашими молитвами! — бросил я ему вслед.
Красная искорка сигнального фонаря исчезла во тьме, а я, обескураженный, присел на дорожный столбик, чтобы обдумать положение. Что-то кололо меня выше колен. Я машинально протянул руку, нащупал какие-то ветки и начал обламывать их. Стало больно. Если это мои побеги, сказал я себе, тогда, несомненно, я все еще галлюцинирую! Я наклонился, чтобы проверить, — и вдруг меня ослепило. Из-за поворота блеснули серебряные фары, огромная тень машины притормозила, открылись дверцы. На приборном щитке горели зеленые, золотистые, синие огоньки индикаторов, матовый свет обволакивал стройные женские ноги в нейлоновых чулках, золотые туфельки-ящерицы покоились на педалях, темное лицо с пунцовыми губами склонилось ко мне, на пальцах, сжимавших баранку, сверкнули брильянты.
— Подвезти?
Я сел — и даже забыл о своих ростках, до того я был ошарашен. Украдкой провел по своим ногам ладонью — и нащупал чертополох.
— Что, уже? — послышался низкий чувственный голос.
— В каком смысле? — растерянно отозвался я.
Женщина пожала плечами. Мощный автомобиль рванулся, она нажала какую-то клавишу, кабина погрузилась во тьму, лишь навстречу нам мчалась освещенная полоса асфальта; из передней панели поплыла щелкающая мелодия. Странно как-то, размышлял я. Что-то не то. Руки — не руки, ноги — не ноги. Правда, не ветки — чертополох, но все-таки, все-таки!
Я присмотрелся к незнакомке внимательней. Она, несомненно, была красива — что-то в ней было манящее, демоническое и персиковое одновременно. Но вместо юбки торчали какие-то перья. Страусиные? Или это галлюцинация?.. С другой стороны, нынешняя женская мода… Я терялся в догадках. Шоссе было пусто; мы мчались так, что игла спидометра перегибалась через ограничитель шкалы. Чья-то рука вцепилась мне сзади в волосы. Я вздрогнул. Длинные острые ногти царапали мне затылок — не жестоко, а скорее игриво.
— Что это? Кто там? — Я хотел обернуться, но не смог. — Пустите!
Впереди показались огни, какой-то большой дом, под колесами захрустел гравий, машина резко свернула, прижалась к тротуару вплотную, остановилась.
Рука, все еще державшая меня за волосы, принадлежала другой незнакомке, одетой в черное, — бледной, стройной, в темных очках. Дверцы машины открылись.
— Где мы? — спросил я.
Не ответив, они взялись за меня: первая выталкивала из машины, вторая тащила наружу, стоя уже на тротуаре. Я вышел. В доме веселились, оттуда доносилась музыка, чьи-то пьяные крики; у стоянки золотом и пурпуром переливался фонтан, освещаемый из окна. Мои спутницы стиснули меня с двух сторон.
— Но мне некогда, — пробормотал я.
Они будто не слышали. Та, в черном, наклонилась и горячо дохнула мне в ухо:
— Хо!
— Простите, что?
Мы были уже у дверей; их начал разбирать смех, и смеялись они не просто так, а надо мной. Все в них отталкивало меня; к тому же они становились все меньше. Приседали? Нет — ноги у них покрывались перьями. Ага, облегченно вздохнул я, все-таки, значит, галлюцинация!
— Какая еще галлюцинация, недотепа! — прыснула незнакомка в очках. Она подняла обшитую черным жемчугом сумочку и огрела меня прямо по темени. Я взвыл от боли.
— Поглядите-ка на этого галлюцинанта! — кричала другая.
Страшный удар обрушился на то же самое место. Я упал, закрывая руками голову. Открыл глаза. Надо мною склонился профессор с зонтом в руке. Я лежал на бетоне возле канала. Крысы как ни в чем не бывало ходили парочками.
— Где, где болит? — допытывался Троттельрайнер. — Здесь?
— Нет, здесь… — Я показал на вспухший затылок.
Взяв зонт за верхний конец, он врезал мне по больному месту.
— Спасите! — взмолился я. — Ради Бога, довольно! За что…
— Это и есть спасение! — ответил безжалостно футуролог. — К сожалению, у меня под рукой нет другого противоядия!
— Но хотя бы не набалдашником, прошу вас!
— Так вернее…
Он ударил меня еще раз, повернулся и кого-то позвал. Я закрыл глаза. Голова невыносимо болела. Меня тряхнуло — профессор и мужчина в кожаной куртке, ухватив меня под мышки и под колена, куда-то несли.
— Куда?! — закричал я.
Щебенка сыпалась прямо в лицо с шатающихся перекрытий; я чувствовал, как мои санитары ступают по какой-то хлипкой доске или мостику, и боялся, что они поскользнутся. «Куда это мы?» — тихо спросил я. Никто не ответил. В воздухе стоял непрестанный гул. Стало светло от пожара; мы были уже на поверхности, какие-то люди в мундирах хватали подряд всех, кого удавалось вытащить из канализационного люка, и бесцеремонно швыряли в открытые дверцы — мелькнули огромные белые буквы: «US ARMY COPTER[26] 1 109 849», и я упал на носилки. Профессор Троттельрайнер просунул голову в вертолет.
— Простите, Тихий! — кричал он. — Тысячу извинений! Но так было нужно!
Кто-то, стоявший за ним, вырвал у него зонт, дважды крест-накрест огрел им профессора по макушке и пихнул его так, что футуролог со стоном упал между нами, — и тут же взвыли моторы, зашумели пропеллеры, машина торжественно воспарила ввысь.
Профессор пристроился рядом с моими носилками, осторожно поглаживая затылок. Не могу не признаться: понимая все благородство его поведения, я, однако, с удовольствием наблюдал, как на темени у него вырастает громадная шишка.
— Куда мы летим?
— На конгресс, — ответил, все еще морщась от боли, профессор.
— То есть… как это на конгресс? Ведь конгресс уже был?
— Вмешательство Вашингтона, — коротко объяснил Троттельрайнер. — Будем продолжать заседания.
— Где?
— В Беркли.
— В университете?
— Да. Может, у вас найдется какой-нибудь нож, хоть перочинный?
— Нет.
Вертолет задрожал. Гром и пламя распороли кабину, мы вылетели из нее друг за другом — в бескрайнюю темноту. Как долго я потом мучился! Мне слышались стонущие голоса сирен, мою одежду разрезали ножом, я терял сознание и вновь приходил в себя. Меня трясла лихорадка и ухабистая дорога, над головой белел потолок «скорой помощи», рядом лежало что-то продолговатое, забинтованное, как мумия; по притороченному сбоку зонту я узнал Троттельрайнера.
«Я жив… — пронеслось у меня в голове. — Все-таки мы не разбились насмерть. Какое счастье». Машина вдруг накренилась, перевернулась с пронзительным скрежетом, пламя и гром разорвали жестянку кузова. «Что, опять?» — сверкнула последняя мысль, а потом — черное, непроницаемое беспамятство. Открыв глаза, я увидел над собою стеклянный купол; какие-то люди в белом, с масками на лицах и руками, воздетыми как для благословения, переговаривались полушепотом.
— Да, это был Тихий, — донеслось до меня. — Сюда, в банку, нет, только мозг, остальное никуда не годится. Дайте пока наркоз.
Кусочек ваты на никелевом диске заслонил мне весь свет, я хотел закричать, позвать на помощь, вместо этого вдохнул глоток жгучего газа и растворился в небытии. Когда сознание вернулось ко мне, я не мог разлепить веки, не чувствовал ни рук, ни ног, словно в параличе. И все же пытался пошевелиться, несмотря на боль во всем теле.
— Успокойтесь! Не шевелитесь, пожалуйста! — услышал я мелодичный женский голос.
— А? Где я? Что со мной?.. — пролепетал я. Рот у меня был совершенно чужой, и лицо, наверное, тоже.
— Вы в санатории. Все хорошо. Не волнуйтесь, прошу вас. Сейчас мы дадим вам поесть…
«Да мне же нечем…» — хотел, но не смог я ответить. Послышалось лязганье ножниц. Марля кусками спадала с лица. Стало светлей. Два санитара (я удивился их громадному росту) крепко, но бережно взяли меня под мышки, приподняли и усадили в кресло-коляску. Передо мной дымилась тарелка аппетитного с виду бульона. Я машинально потянулся за ложкой и заметил, что взявшая ложку рука — маленькая и черная, как эбонит. Я поднес ее поближе к глазам. Судя по тому, что я владел ею совершенно свободно, это была моя рука. Но как же она изменилась! Желая узнать, в чем дело, я привстал и увидел зеркало на противоположной стене. Там, в кресле-коляске, сидела молодая хорошенькая негритянка, вся забинтованная, в пижаме, с ошеломленным выражением лица. Я дотронулся до своего носа. То же самое сделало отражение в зеркале. Тогда я начал ощупывать лицо, шею, плечи, наткнулся на бюст и испуганно вскрикнул — не своим, тоненьким голосом:
— Боже праведный!
Медсестра кого-то отчитывала — почему не занавесили зеркало? Потом обратилась ко мне:
— Вы Ийон Тихий, не так ли?
— Ну да. То есть — да! да!! Но что это значит? Вон та девушка — та негритянка?
— Трансплантация. Другого выхода не было. Речь шла о спасении вашей жизни — то есть вашего мозга! — быстро, но отчетливо говорила сестра, взяв меня за руки.
Я закрыл глаза. Снова открыл. Мне сделалось дурно. Вошел хирург; его лицо выражало крайнюю степень негодования.
— Это еще что такое! — загремел он. — Только шока ему не хватало!
— Он уже в шоке! — сообщила сестра. — Это все Симмонс, господин профессор. Говорила я ему: занавесь зеркало!
— В шоке? Так чего же вы ждете? В операционную! — распорядился хирург.
— Нет! Больше не надо! — закричал я.
Никто не обращал внимания на мой девичий писк. Белая марля закрыла глаза и лицо. Попробовал вырваться — куда там. Я слышал и чувствовал, как плавно катится кресло по плитам пола. Раздался ужасающий грохот, с резким треском лопались какие-то стекла. Больничный коридор наполнили гром и пламя.
— Экстремисты! Экстремисты! — надрывался кто-то, стекло хрустело под ботинками убегающих, я хотел сорвать с себя ненавистную марлю, не смог, почувствовал острую боль в боку и потерял сознание.
Очнулся я в киселе. Кисель был клюквенный, определенно недослащенный. Я лежал вниз лицом, сверху давило что-то большое и мягкое. Я сбросил с себя тяжесть, оказалось — матрац. Битый кирпич больно впивался в колени и кожу ладоней. Выплевывая клюквенные зернышки и кирпичную крошку, я приподнялся на локтях. Палата выглядела как после взрыва. Шторы оборваны, уцелевшие осколки оконных стекол накренены внутрь, кровать повалена набок, ее сетка опалена. Рядом со мной лежал запачканный в киселе листок с печатным текстом. Я пробежал его глазами.
«Дорогой Пациент (имя, фамилия)! Ты находишься в экспериментальной клинике нашего штата. Операция, сохранившая Тебе жизнь, оказалась серьезной — очень серьезной (ненужное зачеркнуть). Лучшие наши хирурги, используя последние достижения медицины, сделали Тебе одну — две — три — четыре — пять — шесть — семь — восемь — девять — десять (ненужное зачеркнуть) операций. Ради Твоего блага они были вынуждены заменить отдельные части Твоего тела органами, взятыми у других лиц, в соответствии с федеральным законом, одобренным обеими палатами конгресса («Законодат. вестн.», публ. э 1 989/0001/89/1). Дружеское наставление, которое Ты в настоящую минуту читаешь, поможет Тебе адаптироваться к новым условиям Твоей жизни. Мы спасли ее, но при этом нам пришлось изъять у Тебя руки, ноги, позвоночник, череп, лопатки, желудок, почки, печень, прочие органы (ненужное зачеркнуть). За судьбу вышеуказанных бренных останков Ты можешь быть совершенно спокоен: мы позаботились о них, как велит Твоя вера, и согласно ее традициям совершили обряд погребения, кремации, мумификации, рассеивания праха по ветру, наполнения урны пеплом, освящения, высыпки в помойную яму (ненужное зачеркнуть). Новый облик, в котором отныне Тебе предстоит вести счастливую и здоровую жизнь, кое в чем может оказаться для Тебя неожиданным, но мы заверяем Тебя, что, подобно нашим остальным дорогим пациентам. Ты к нему быстро привыкнешь. Мы усовершенствовали Твой организм при помощи наилучших — полноценных — удовлетворительных — таких, какие нашлись под рукой, органов (ненужное зачеркнуть). Мы гарантируем работу указанных органов в течение одного года, шести месяцев, квартала, трех недель, шести дней (ненужное зачеркнуть). Ты должен понять, что…»
На этом текст обрывался. Лишь теперь я заметил, что сверху кто-то вывел четкими буквами: «ИЙОН ТИХИЙ. Опер. 6, 7 и 8. КОМПЛЕКТ».
Листок в моих руках задрожал. Боже, что от меня осталось? Я не решался взглянуть даже на собственный палец. Тыльная сторона ладони заросла толстыми рыжими волосками. Я затрясся как в лихорадке; встал, опираясь о стену; перед глазами плыло. Бюста не было, и то слава Богу. Стояла полная тишина. Какая-то птичка чирикала за окном. Нашла тоже время чирикать! КОМПЛЕКТ. Что значит КОМПЛЕКТ? Кто я? Ийон Тихий. В этом я был уверен. Следовательно? Сперва я ощупал ноги. Обе на месте, только кривые — буквой «икс». Живот — непомерно велик. Палец погрузился в пупок, как в колодец. Толстые складки жира… брр! Что же случилось? Ага, вертолет. Кажется, его сбили. «Скорая помощь». Мина, а может, граната. Потом — та маленькая негритянка — потом экстремисты — в коридоре — гранаты? Выходит, ее тоже, бедняжку?.. И еще раз… Но что означает этот погром, эти обломки?
— Эй! Есть тут кто-нибудь?! — закричал я.
И осекся, пораженный собственным голосом, — настоящий оперный бас, даже эхо отозвалось. Очень хотелось глянуть в зеркало, но было страшно. Я поднес руку к щеке. Боже милостивый! Кудлатые, свалявшиеся патлы… Наклонившись, увидел бороду. Она закрывала половину пижамы — растрепанная, косматая, рыжая. Ахенобарбарус! Рыжебородый! Ладно, можно побриться… Я выглянул на террасу.
Птичка чирикала как ни в чем не бывало — дура. Тополя, сикоморы, кусты — что это? Сад. Больничный?.. На скамейке кто-то грелся в лучах солнца, закатав рукава пижамы.
— Эй там! — позвал я.
Он обернулся. Я увидел до странности знакомое лицо и растерянно заморгал. Да ведь это мое лицо, это я! В три прыжка я выскочил на террасу. Тяжело дыша, всматривался в собственные черты. Сомнений не было — на скамье сидел я!
— Чего вы так уставились? — неуверенно отозвался он моим голосом.
— Откуда это — у вас? — через силу выдавил я. — Кто вы? Кто дал вам право…
— А-а! Это вы!
Он встал:
— Перед вами профессор Троттельрайнер.
— Но почему же… Бога ради, почему… кто…
— Я тут совершенно ни при чем, — произнес он внушительно. Мои губы на его лице подрагивали. — Ворвались сюда эти, как их — йиппи.[27] Бунтари. Граната. Ваше состояние было признано безнадежным, да и мое тоже. Я ведь лежал рядом, в соседней палате.
— Как это «безнадежным»! — возмутился я. — Что я, слепой? И как вы только могли!
— Но я ведь был без сознания, уверяю вас! Главный хирург, доктор Фишер, мне все объяснил: сперва брали тела и органы в хорошей сохранности, а когда очередь дошла до меня, остались одни отходы, поэтому…
— Да как вы смеете! Присвоили мое тело да еще охаиваете его!
— Не охаиваю, а лишь повторяю слова доктора Фишера! Сначала вот это, — он ткнул себя пальцем в грудь, — сочли непригодным, но потом, за неимением лучшего, решились на пересадку. Вы к тому времени были уже пересажены…
— Я? Пересажен?
— Ну да. Ваш мозг.
— А это кто? То есть кто это был? — указал я на себя.
— Один из тех экстремистов. Какой-то их главарь, говорят. Не умел обращаться со взрывателем, и его садануло в череп осколком — так я слышал. Ну и… — Троттельрайнер пожал моими плечами.
Меня передернуло. В этом теле мне было не по себе, я не знал, как к нему относиться. Оно мне претило. Ногти толстые, квадратные — ни малейших признаков интеллигентности.
— Что же будет? — прошептал я, опускаясь на скамью рядом с профессором. Ноги меня не слушались. — Нет ли у вас карманного зеркальца?
Он достал зеркальце из кармана. Я торопливо схватил его и увидел огромный подбитый глаз, пористый нос, зубы в плачевнейшем состоянии; нижняя часть лица утопала в рыжей густой бороде, за которой угадывался двойной подбородок. Возвращая зеркальце, я заметил, что профессор снова выставил оголенные ноги на солнце. Хотел было сказать, что кожа у меня чрезвычайно чувствительная, но прикусил язык. Обгорит на солнце до волдырей — его дело; теперь уж, во всяком случае, не мое!
— Куда мне идти? — спросил я потерянно.
Троттельрайнер оживился. Его (его?!) умные глаза с сочувствием остановились на моем (моем?!) лице.
— Не советую идти куда бы то ни было! Того типа разыскивали ФБР и полиция штата за серию покушений. Объявления о розыске на каждом углу; приказано стрелять без предупреждения!
Я вздрогнул. Только этого еще не хватало. Боже мой, опять, наверное, галлюцинация.
— Да что вы! — живо возразил Троттельрайнер. — Явь, дорогой мой, самая настоящая явь!
— А почему больница пуста?
— Так вы не знаете? Ах да, вы же потеряли сознание… Забастовка.
— Врачей?
— Да. Всего персонала. Экстремисты похитили доктора Фишера. А взамен требуют выдать им вас.
— Выдать меня?
— Ну да, они ведь не знают, что вы, так сказать, больше не вы, а Ийон Тихий…
Голова у меня шла кругом.
— Я покончу с собой! — заявил я хриплым басом.
— Не советую. Чтобы вас снова пересадили?
Я лихорадочно соображал, как узнать, галлюцинация это или нет.
— А если бы… — сказал я, вставая.
— Что?
— Если бы я на вас прокатился? А? Что скажете?
— Про… что? Вы, верно, спятили?
Я смерил его взглядом, весь подобрался, прыгнул и свалился в канал. И хотя я чуть не захлебнулся черной вонючей жижей — какое это было облегчение! Я вылез на берег; крыс поубавилось — должно быть, разбрелись кто куда. Остались всего четыре. Они играли в бридж у самых ног крепко спящего Троттельрайнера — его картами. Я ужаснулся. Даже если учесть небывалую концентрацию галлюциногенов — возможно ли, чтобы крысы в самом деле играли в бридж? Я заглянул в карты самой жирной. Она метала их как придется. Какой уж там бридж! Ну и слава Богу… Я облегченно вздохнул.
На всякий случай я твердо решил ни на шаг не отходить от канала: всевозможные варианты спасения успели мне надоесть, во всяком случае, на ближайшее время. Сперва пусть дадут гарантии. А то опять привидится невесть что. Я ощупал лицо. Ни бороды, ни маски. Куда она подевалась?
— Что касается меня, — произнес профессор, не открывая глаз, — я порядочная девушка и надеюсь, вы будете вести себя должным образом. — Он приложил ладонь к уху, как бы выслушивая ответ, и добавил: — О нет, я вовсе не притворяюсь невинной, чтобы разжечь ваше пресыщенное сладострастие, а говорю чистую правду. Не прикасайтесь ко мне, иначе я буду вынуждена лишить себя жизни.
«Ага, — догадался я, — похоже, и этот не прочь искупаться в канале!» Теперь я слушал профессора спокойнее — его галлюцинации вроде бы подтверждали, что я-то, по крайней мере, в полном порядке.
— Спеть я могу — отчего бы не спеть, — произнес между тем профессор, — скромная песенка еще ни к чему не обязывает. Вы мне будете аккомпанировать?
Но может быть, он просто разговаривает во сне; в таком случае опять ничего не известно. Оседлать его ради пробы? Но прыгнуть в канал я мог и без его помощи.
— Я сегодня не в голосе. Да и мама меня заждалась. Не провожайте меня! — категорически заявил Троттельрайнер.
Я встал и посветил фонариком по сторонам. Крысы исчезли. Швейцарские футурологи храпели, лежа вповалку у самой стены. Рядом, на надувных креслах, лежали репортеры вперемешку с администрацией «Хилтона». Кругом валялись обглоданные куриные косточки и банки из-под пива. Если это галлюцинация, то удивительно реалистичная, сказал я себе. И все же мне хотелось убедиться в обратном. Право, лучше вернуться в окончательную и бесповоротную явь. Интересно, как там наверху?
Взрывы бомб — или бумб — раздавались нечасто и приглушенно. Неподалеку послышался громкий всплеск. Над черной водой канала показалось перекосившееся лицо Троттельрайнера. Я подал ему руку. Он вылез на берег и отряхнулся.
— Ну и сон же я видел…
— Девичий, да? — нехотя бросил я.
— Черт побери! Значит, я все еще галлюцинирую?!
— Почему вы так думаете?
— Только при галлюцинациях другие знают, что нам снится.
— Просто вы говорили во сне, — объяснил я. — Профессор, вы по этой части специалист — нет ли надежного способа отличить явь от галлюцинации?
— Я всегда ношу при себе отрезвин. Упаковка, правда, промокла, но это ничего. Он позволяет выйти из состояния помрачения, устраняет бредовые, призрачные и кошмарные видения. Хотите?
— Возможно, ваш препарат так и действует, — хмыкнул я, — но вряд ли так действует фантом вашего препарата.
— Если мы галлюцинируем, то очнемся, а если нет, решительно ничего не случится, — заверил меня профессор и положил себе в рот бледно-розовую пастилку.
Я тоже извлек пастилку из мокрого пакета и проглотил ее. Над нами грохнула крышка люка, и голова в шлеме десантных войск рявкнула:
— Живо наверх! Давай торопись, подымайся!
— Вертолеты или мини-ракеты? — понимающе спросил я. — А по мне, господин сержант, идите куда подальше.
И я уселся под стеной, скрестив руки на груди.
— Свихнулся? — деловито спросил сержант у Троттельрайнера, который уже взбирался по лесенке. Люди в подвале зашевелились. Стэнтор попытался приподнять меня за плечи, но я оттолкнул его руку.
— Предпочитаете остаться? Ради Бога…
— Нет, не так. «Бог в помощь!» — поправил я его.
Один за другим они исчезали в открытом люке; я видел вспышки огня, слышал команды десантников, по приглушенному свисту догадывался о запуске очередной мини-ракеты. «Странно, — размышлял я. — Что это, собственно, значит? А может, я галлюцинирую за них? Per procura?[28] И что, теперь мне торчать здесь до Судного дня?»
И все же я не двигался с места. Люк захлопнулся, я остался один. Фонарик стоял торчком на бетоне; тусклый круг света, отраженный от сводчатого потолка, освещал подвал. Прошли две крысы со сплетенными хвостами. Это что-нибудь да значит, подумал я, но лучше не ломать голову попусту.
В канале послышались всплески. Ну, ну, чья теперь очередь? Клейкая поверхность воды расступилась, из нее вынырнули пять отливающих чернотой силуэтов — водолазы в очках, кислородных масках и с автоматами. Один за другим они выскакивали на бетон и направлялись ко мне, полягушачьи хлюпая ластами.
— Наbla usted espanol?[29] — обратился ко мне первый из них, стягивая с головы маску. Лицо у него было смуглое, с усиками.
— Нет, — ответил я. — Но вы наверняка говорите по-английски? Так ведь?
— Какой-то нахальный гринго, — бросил тот, с усиками, второму. Все, как по команде, сдернули маски и взяли меня на мушку.
— Что, в канал? — спросил я с готовностью.
— К стенке! Руки вверх, да повыше.
Дуло уперлось мне под ребро. Ну до чего же подробная галлюцинация, подумал я; даже автоматы обернуты в полиэтиленовые мешки, чтоб не промокли.
— Их тут больше пряталось, — заметил водолаз с усиками, обращаясь к соседу, плотному и черноволосому, который пытался зажечь сигарету. Видно, он-то и был у них главный. Они осмотрели наше кочевье, с грохотом пиная банки из-под консервов и опрокидывая надувные кресла; наконец офицер спросил:
— Оружие?
— Обыскал, господин капитан. Нету.
— Можно опустить руки? — спросил я, по-прежнему стоя у стены. — А то затекли уже.
— Сейчас навсегда опустишь. Прикончить?
— Ага, — кивнул офицер, выпуская дым из ноздрей. — Хотя нет! Отставить! — скомандовал он.
Покачивая бедрами, он подошел ко мне. На ремне у него болталась связка золотых колец. «Удивительно реалистично!» — подумал я.
— Где остальные? — спросил офицер.
— Вы меня спрашиваете? Выгаллюцинировали через люк. Да вы и так знаете.
— Чокнутый, господин капитан. Пусть уж лучше не мучается, — сказал тот, с усиками, и взвел спусковой крючок через полиэтиленовую оболочку.
— Не так, — остановил его офицер. — Продырявишь мешок, дурень, а где взять другой? Ножом его.
— Извините, что вмешиваюсь, — заметил я, немного опустив руки, — но мне все же хотелось бы пулю.
— У кого есть нож?
Начались поиски. «Разумеется, ножа у них не окажется! — размышлял я. — А то все кончилось бы слишком быстро». Офицер бросил окурок на бетон, с гримасой отвращения раздавил его ластой, сплюнул и приказал:
— В расход его. Пошли.
— Да, да, пожалуйста! — торопливо поддакнул я.
Это их удивило. Они подошли ко мне.
— На тот свет торопишься, гринго? С чего бы? Ишь как упрашивает, каналья! А может, пальцы ему отрезать и нос? — переговаривались они.
— Нет-нет! Прошу вас, господа, сразу, без жалости, смело! — ободрял я их.
— Под воду! — скомандовал офицер.
Они опять натянули на себя маски; офицер отстегнул верхний ремень, достал из внутреннего кармана плоский револьвер, дунул в ствол, подбросил оружие, как ковбой в заурядном вестерне, и выстрелил мне в спину. Нестерпимая боль пронзила грудную клетку. Я начал сползать по стене; он схватил меня сзади за плечи, повернул лицом к себе и выстрелил еще раз, с такого близкого расстояния, что вспышка ослепила меня. Звука я уже не услышал. Потом была кромешная тьма, я задыхался — долго, очень долго, что-то тормошило меня, подбрасывало, хорошо бы, не «скорая помощь» и не вертолет, думал я; окружающий мрак стал еще чернее, наконец эта тьма растворилась, и не осталось совсем ничего.
Когда я открыл глаза, то увидел, что сижу на аккуратно застланной кровати, в комнате с низким окном; стекло было замазано белой краской. Я тупо уставился на дверь, словно ожидая кого-то. Я понятия не имел, где я и как я здесь очутился. На ногах у меня были туфли на плоской деревянной подошве, на теле — пижама в полоску. «Слава Богу, хоть что-то новенькое, — подумалось мне, — хотя, похоже, ничего интересного на этот раз не предвидится». Дверь распахнулась. В дверном проеме стоял, окруженный молодыми людьми в больничных халатах, приземистый бородач. На нем были золотые очки, седеющая шевелюра торчала ежиком. В руке он держал резиновый молоток.
— Любопытный случай, — произнес бородатый. — Удивительно любопытный, почтеннейшие коллеги. Четыре месяца назад наш пациент отравился значительной дозой галлюциногенов. Их действие давно прекратилось, но он не может в это поверить и продолжает считать все окружающее галлюцинацией. В своем помрачении он зашел так далеко, что сам просил солдат генерала Диаса, бежавших по каналам из занятого мятежниками президентского дворца, расстрелять его. Смерть, думал он, на самом деле окажется пробуждением от бредовых видений. Его удалось спасти благодаря трем сложнейшим операциям — из желудочков сердца мы извлекли две пули, — а он не верит, что живет наяву.
— Это шизофрения? — пропищала маленькая студентка. Она не смогла протиснуться к моей кровати и вытягивала шею за спинами товарищей.
— Нет. Это новая разновидность реактивного психоза, связанного, несомненно, с применением галлюциногенов. Случай абсолютно безнадежный — до такой степени, что мы решили витрифицировать пациента.
— В самом деле, профессор?! — Студентка не находила себе места от любопытства.
— Да. Как вам известно, безнадежных больных теперь можно замораживать в жидком азоте на срок от сорока до семидесяти лет. Пациента помещают в герметичный контейнер — наподобие сосуда Дьюара — вместе с подробной историей болезни; по мере появления новых открытий, в азотных хранилищах проводят переучет и тех, кому можно помочь, воскрешают.
— Скажите, вы сами дали согласие на витрификацию? — спросила меня студентка, просунув голову между двумя высокими практикантами. Ее глаза горели исследовательским энтузиазмом.
— С привидениями не разговариваю, — отрезал я. — Самое большее, могу сказать, как вас зовут: Галлюцина.
Прежде чем дверь за ними закрылась, я успел услышать голос студентки: «Ледяной сон! Витрификация! Да это же путешествие во времени, ах, до чего романтично!» Я был иного мнения, но что мне оставалось, кроме как подчиниться иллюзорной действительности?
На другой день вечером два санитара доставили меня в операционную. Здесь стояла стеклянная ванна, над ней поднимался пар — такой ледяной, что перехватывало дыхание. Мне сделали множество уколов, уложили на операционный стол и напоили через трубочку сладковатой прозрачной жидкостью — глицерином, как объяснил старший санитар. Он хорошо ко мне относился. Я называл его Галлюцианом. Когда я уже засыпал, он наклонился, чтобы еще раз крикнуть мне в ухо: «Счастливого пробуждения!»
Я не мог ответить, не мог даже пальцем пошевелить. Все это время — долгие недели! — я боялся, что они чересчур поспешат и опустят меня в ванну раньше, чем я потеряю сознание. Как видно, они все же поторопились — последним звуком, донесшимся до меня из этого мира, был всплеск, с которым мое тело погрузилось в жидкий азот. Неприятный, скажу я вам, звук.
* * *
Ничего.
* * *
Ничего.
* * *
Ничего, ну, совсем ничего.
* * *
Показалось, что-то есть, да где там. Ничего.
* * *
Нет ничего — и меня тоже.
* * *
Ну, долго еще? Ничего.
* * *
Вроде бы что-то, хотя кто его знает. Нужно сосредоточиться.
* * *
Что-то есть, но очень уж этого мало. При других обстоятельствах я решил бы, что ничего.
* * *
Ледники, голубые и белые. Все изо льда. Я тоже.
* * *
Красивые эти ледники, вот только бы не было так дьявольски холодно.
* * *
Ледяные иголки и кристаллики снега. Арктика. Льдинки во рту. А в костях? Костный мозг? Какой там мозг — чистый, прозрачный лед. Холодный и жесткий.
* * *
Ледышка — это я. Но что значит «я»? Вот вопрос.
* * *
В жизни не было мне так холодно. Хорошо еще — неизвестно, что значит «мне». Кому это — мне? Леднику? Разве у айсбергов есть дырки?
* * *
Я — парниковая цветная капуста под солнцем. Весна! Все уже тает. Особенно я. Во рту — сосулька или язык.
* * *
Все-таки это язык. Мучат меня, катают, ломают, трут и даже, кажется, бьют. Я укрыт прозрачной пленкой, надо мной — лампы. Вот откуда взялись тот парник и капуста. Бредил, должно быть. Вокруг белым-бело, но это не снег, а стены.
* * *
Меня разморозили. Из благодарности буду вести дневник — сразу, как только смогу удержать перо в окоченевшей руке. В глазах все еще ледяные радуги и ярко-синие вспышки. Холод адский, но понемногу все-таки согреваюсь.
27. VII.
Говорят, реанимировали меня три недели. Были какие-то трудности. Пишу, сидя в кровати. Комната днем большая, вечером маленькая. Ухаживают за мной милые девушки в серебристых масках. Некоторые без грудей. То ли в глазах у меня двоится, то ли у главврача две головы. Еда самая обыкновенная — манная каша, яблочный пирог, молоко, овсяные хлопья, бифштекс. Лук чуть-чуть подгорел. Ледники мне уже только снятся, но с постоянством кошмара. Замерзаю, индевею, обледеневаю, весь заснеженный и скрипучий с вечера до утра. Ни грелки, ни компрессы не помогают. Лучше всего спирт перед сном.
28. VII.
Безгрудые девушки — это студенты. По другим признакам мужчину от женщины не отличишь. Все тут рослые, красивые, улыбаются. А я слаб, по-детски капризен, все меня раздражает. Сегодня после уколов вогнал иглу в зад старшей сестре, а та даже улыбаться не перестала. Временами как будто плыву на льдине — то есть кровати. На потолке мне показывают, как на экране, зайчиков, муравьишек, жучков, паучков. Зачем? Получаю газету для малышей. Ошибка?
29. VII.
Быстро устаю. Но уже знаю, что раньше, в начале оттаивания, бредил. Говорят, так и должно быть. Нормальный симптом. Пришельцев из минувших эпох с новой жизнью знакомят не сразу. Это как извлечение водолаза с морского дна: с большой глубины его не поднять в один прием. Точно так же размороженца (первое новое слово, которое я узнал) вводят в незнакомый мир постепенно. Сейчас 2039 год. Лето, июль, погода прекрасная. У моей постели дежурит сестра по имени Эйлин Роджерс, голубоглазая, двадцати трех лет.
Я появился на свет вторично в ревитарии под Нью-Йорком. Или в воскресильне — так теперь говорят. Это целый город, весь в садах. Собственные мельницы, пекарни, типографии. Ведь теперь уже нет ни пшеницы, ни книг. Однако есть хлеб, сливки для кофе и творог. Не от коровы? Эйлин думала, что корова — это такая машина. Никак не могу объяснить ей. Откуда у вас молоко? Из травы. Ясно, что из травы, но кто ее жует, чтобы дать молоко? Никто не жует. А откуда молоко? Из травы. Само? Само из нее берется? Не само. То есть не совсем само. Нужно ему помочь. Помогает корова? Нет. Значит, другое животное? О нет, не животное. Так откуда же молоко? И так далее, без конца.
30. VII.2039.
Очень просто — чем-то поливают луга, и от солнечных лучей из травы образуется творог. Про молоко еще не узнал. Но это, в конце концов, не главное. Начинаю вставать — и на кресло-коляску. Сегодня был у пруда — лебедей множество. Очень послушные, стоит позвать — подплывают. Дрессированные? Да нет, телеупы. Что, что? Телеуправляемые. Странно. Натуральных птиц уже нет, вымерли в начале XXI века — от смога. Это, по крайней мере, понятно.
31. VII.2039.
Хожу на уроки современной жизни. Ведет их компьютер. На некоторые вопросы не отвечает. «После узнаешь». Уже тридцать лет на Земле прочный мир благодаря всеобщему разоружению. Военных почти не осталось. Компьютер показывал мне модели роботов. Их много, и самых разных, но только не в ревитарии — чтобы не пугать размороженцев. Достигнуто всеобщее благоденствие. То, о чем я спрашиваю, не самое важное, считает мой электронный наставник. Уроки проходят в небольшой кабине, перед пультом управления. Слова, картинки и трехмерные проекции.
5. VIII.2039.
Через четыре дня выхожу из ревитария. На Земле уже 29,5 миллиарда людей. Государства и границы остались, но конфликты исчезли. Сегодня узнал о главном различии между новыми людьми и прежними. Основным понятием стала психимия. Мы живем в псивилизации. Слово «психический» вышло из употребления — вместо него говорят «психимический».
Если верить компьютеру, человечество раздирали противоречия между старым, унаследованным от животных, и новым мозгом. Старый мозг — инстинктивный, иррациональный, эгоцентричный и страшно упрямый. Новое тянуло сюда, старое — туда. Мне еще трудно формулировать сложные мысли. Старое все время боролось с новым. То есть новое со старым.
Психимия положила конец этой борьбе, понапрасну поглощавшей умственную энергию. Психимикаты делают со старым мозгом все что нужно: примиряют, убеждают, гармонизируют — изнутри, по-хорошему. Естественным чувствам не доверяют — они считаются неприличными. Просто надо принять препарат, подходящий к данному случаю, а тот уж поможет, поддержит, направит, утешит и успокоит. Да это, в сущности, и не препарат, а часть меня самого, как очки, без которых близорукому не обойтись.
Такие уроки меня тревожат — я боюсь контакта с новыми людьми. Психимикаты глотать не хочу. У меня, замечает наставник, типичные и вполне понятные предубеждения. Пещерный человек тоже содрогнулся бы при виде трамвая.
8. VIII.2039.
Ездил с медсестрой в Нью-Йорк. Зеленый гигант! Высота, на которой плывут облака, регулируется. Воздух прямо лесной. Прохожие одеты пестро, как попугаи, но выглядят достойно, друг к другу доброжелательны, улыбаются. Никто никуда не спешит. Женская мода, как всегда, малость шальная: на лбах живые картинки, из ушей свисают красные язычки или пуговки. Кроме натуральных рук можно иметь деташки — добавочные, пристежные руки (и прочие органы). Руки эти мало на что годятся, но и для них находится дело — поддержать что-нибудь, открыть двери, почесать между лопатками.
Завтра выхожу из ревитария. В Америке их чуть ли не двести, и все-таки график размораживания массы людей, которые когда-то доверчиво погрузились в азот, трещит по всем швам. Из-за длинных застывших очередей приходится ускорять процедуру оттаивания. Мне это очень понятно. В банке на мое имя есть счет, так что поисками работы можно будет заняться после Нового года. Оказывается, каждый замороженный имеет сберкнижку; по воскрешении вклад размораживается.
9. VIII.2039.
Вот и настал долгожданный день. У меня уже есть трехкомнатная квартирка в Манхэттене. Терикоптером прямо из ревитария. Теперь говорят очень кратко: «терикать» и «коптать». Смысла этих глаголов я не улавливаю.
Нью-Йорк из мусорной свалки, забитой автомобилями, превратился в цветущий многоярусный сад. Солнечный свет подается по солнцепроводам (соледукам). А какие здесь дети — неизбалованные, послушные! В мое время такие встречались разве что в назидательных книжках. На углу моей улицы — Бюро регистрации ученых-самородков, претендующих на Нобелевскую премию. Рядом художественные салоны, в которых за бесценок продаются шедевры — только оригиналы, с гарантией подлинности; есть даже Рембрандт и Матисс! В цокольной части моего небоскреба — школа пневматических мини-компьютеров. Иногда оттуда доносится (через вентиляционные шахты?) их шипение и сопение. Пневмокомпьютеры служат, в частности, для оживления чучел любимых собак. Мне это кажется жутковатым, но ведь люди вроде меня составляют здесь ничтожное меньшинство.
Много хожу по городу. Уже научился водить гнак. Это нетрудно. Купил себе куртку — спереди белая, сзади малиновая, по бокам серебристая, с малиновой лентой и воротником, вышитым золотом. Ничего менее яркого не нашлось. Можно носить одежду меняющегося фасона и цвета; платье, которое съеживается под мужским взглядом или наоборот — распускается перед сном, как цветок; брюки и блузки с подвижными изображениями, как на телеэкране. Ордена можно носить какие угодно и сколько угодно. Можно выращивать на шляпе японские карликовые растения методом гидропоники, но можно, к счастью, их не выращивать и не носить. Решил ничего не втыкать ни в уши, ни в нос.
Беглое впечатление: люди, такие красивые, рослые, милые, вежливые и спокойные, отличаются чем-то еще, какие-то они особенные, необычные, есть в них нечто такое, что меня удивляет, или, верней, настораживает. Только вот что — не могу понять.
10. VIII.2039.
Сегодня ужинал с Эйлин. Приятный вечер. Потом — старинный Луна-парк на Лонг-Айленде. Поразвлекались на славу. Внимательно слежу за людьми. Что-то в них есть. Что-то в них есть особенное — но что? Никак не возьму в толк. Детская мода: мальчик, переодетый компьютером. Другой планирует на высоте второго этажа над Пятой авеню, осыпая прохожих сладким драже. А те кивают ему, улыбаются добродушно. Идиллия. Просто не верится!
11. VIII.2039.
Только что был клибисцит относительно сентябрьской погоды. Погода выбирается всеобщим и равным голосованием на месяц вперед. Результаты сообщаются тут же благодаря ЭВМ. Чтобы проголосовать, достаточно набрать по телефону нужный код. В августе будет солнечно, не слишком жарко, кратковременные дожди. Много радуг и кучевых облаков. Радуги бывают не только при дожде; можно устроить их как-то иначе. Представитель Метео извинялся за неудачную облачность 26, 27 и 28 июля — недосмотр техконтроля!
Обедаю в городе, иногда дома. Эйлин взяла для меня толковый словарь Вебстера — из библиотеки ревитария, ведь книг теперь нет. Что вместо них, не знаю. Ее объяснений не понял, а признаваться в этом неудобно. Еще один ужин с Эйлин — в «Бронксе». Милая девушка! Всегда у нее есть что сказать, не то что у этих девиц в гнаках, которые все заботы по поддержанию разговора сваливают на ридикюльные миникомпьютеры. Сегодня в бюро находок видел три таких ридикюля: сперва они беседовали спокойно, потом перессорились.
А насчет прохожих и вообще всех, кого я здесь вижу, — они как будто посапывают. То есть дышат с присвистом. Может, так принято?
12. VIII.2039.
Набрался смелости и начал расспрашивать встречных о книжном магазине. Те пожимали плечами. Когда двое мужчин, которым я задал этот вопрос, отошли, до меня донеслось: «Какой-то закоснелый мерзлянтроп». Неужели к размороженцам относятся с предубеждением?
Записываю новые слова, услышанные на улице: смысленыш, внедрец, внутреха, самичник, дворцовать, хрустить, палкать, синтезить. Газеты рекламируют братанций, чуванций, ванилянт, ласкомобиль (он же ласканчик, ласкетка). И прочее в том же духе. Заголовок заметки в городской хронике «Геральд»: «От полуматери к полуматери». Это о яйценоше, который перепутал яйницы.
Выписываю из большого «Вебстера»: «Полумать (ср.: полубрат, полуштоф) — одна из двух женщин, коллективно производящих на свет ребенка». «Яйценоша — от «книгоноша» (устар.); евгенщик, доставляющий лицензионные яйцеклетки на дом». Не скажу, чтобы очень ясно. «Братанций — см. сестронций». «Энцик — см. пенцик, а также Ватикан». Идиотский словарь — дает синонимы, которые для меня что китайская грамота. «Подворцовать, задворцовать, придворцовать — временно иметь (не нанять!) дворец». «Ванилянт — духороб».
Хуже всего слова, с виду не изменившиеся, но получившие совершенно другой смысл. «Промысловик — охотник за чужой мыслью». «Симулянт — несуществующий объект, который прикидывается существующим». «Мазурик — робот-смазчик». «Множитель — многожитель, возвращенная к жизни жертва убийства». Ну и ну! А дальше: «Вставанька — от «ванька-встанька». Выходит, оживить труп проще пареной репы?
А люди, почти все, посапывают. В лифте, на улице, всюду. Выглядят превосходно — румяные, веселые, загорелые, а дышат с трудом. Я — нет. Значит, это не обязательно. Обычай, что ли, такой? Спросил Эйлин — она меня высмеяла; ничего, говорит, подобного. Неужели мне только кажется?
13. VIII.2039.
Хотел просмотреть позавчерашнюю газету — не нашел, хотя перевернул живальню вверх дном. Эйлин опять меня высмеяла (впрочем, премилым образом): газета существует не более суток, а затем материал, на котором она напечатана, улетучивается. Так легче убирать мусор. Джинджер, подруга Эйлин (мы танцевали с ней фокстрип в небольшом ресторанчике), спросила: «Может, дрябнем в субботу на притирочку?» Я ничего не ответил — просто не понял ее, а чутье мне подсказывало, что лучше не переспрашивать.
По совету Эйлин потратился на действизор. Телевизоры вышли из моды полвека назад. Поначалу смотреть непривычно: какие-то люди, а также собаки, львы, пейзажи, планеты теснятся в углу комнаты, овеществленные до такой степени, что ничем не отличаются от реальных. Впрочем, художественный уровень слабоват. Новые платья называют «прыщами» — они напрыскиваются на тело из бутылочек.
Больше всего изменился язык. «Живать» означает теперь: жить несколько раз. А также: читать — чтиво, смотреть — смотриво, страшить — страшиво. Понятия не имею, что это значит, а превращать свидания с Эйлин в уроки как-то неловко. Сниво — это управляемый сон по заказу. Изготовляется он электросниксером, а заказы принимаются в местной сонтезаторной мастерской. Вечером приносят готовые пастилки-приснилки.
Я никому уже не говорю, но теперь для меня несомненно: у них одышка. У всех до единого. А они не обращают на это внимания — ни малейшего. Особенно люди постарше — те просто сопят. Все же, наверное, такой здесь обычай, ведь воздух в городе исключительный, о духоте и речи быть не может. Сегодня видел соседа, вышедшего из лифта, — он хватал воздух ртом как рыба, а лицо у него посинело. Но, присмотревшись к нему поближе, я убедился, что он прямо-таки пышет здоровьем. Глупость, а не дает мне покоя. В чем тут дело?
Сегодня я выснил (выснул?) проф. Тарантогу — потому что скучаю по нему. Но почему он все время сидел в клетке? Подсознание виновато или сонтезатор ошибся? Диктор вместо «большая ошибка» говорит «ошиба». Как «шубка» и «шуба»? Странно. Оказывается, «действизор», как я написал раньше, — неправильно. Я перепутал. Правильно будет «ревизор» (от латинского res — вещь).
Эйлин сегодня дежурит, вечер я провел один, в своей квартире, то есть живальне. Смотрел беседу «за круглым столом» о новом уголовном кодексе. Убийство наказывается краткосрочным арестом — ведь жертву легко воскресить. Как раз такой воскрешенный и зовется множителем. Только прецидив — предумышленное повторное преступление — грозит тюрьмой (за многократное убийство одного и того же лица). А наиболее тяжкой провинностью считается злонамеренное лишение кого-либо психимических средств, а также воздействие таковыми на граждан без их ведома и согласия. Ведь так можно добиться чего угодно — завещания в свою пользу, сердечной взаимности и даже согласия на участие в заговоре.
Очень трудно было следить за ходом ревизионной дискуссии. Только под конец до меня дошло, что «тюрьма» означает теперь нечто совершенно иное, чем раньше. Приговоренного не сажают за решетку, а лишь надевают на него что-то вроде корсета, или, скорее, оболочки из тонких, но прочных прутьев; такой внешний скелет находится под непрерывным контролем зашитого в одежде юрифмометра (юридического мини-компьютера). Этот недремлющий страж пресекает недозволенные поступки и не дает наслаждаться радостями жизни. Невидимый, он противодействует любой попытке полакомиться запретным плодом. Для закоренелых преступников изобретен какой-то криминол.
На лбу у дискутантов — имена и научные звания. Это, конечно, облегчает беседу, а все-таки странновато.
1. IХ.2039.
Неприятное приключение. После обеда я выключил ревизор, чтобы приготовиться к свиданию с Эйлин. Но двухметровый верзила, не понравившийся мне с самого начала спектакля («Лежанка мутанга») — жуткая помесь атлета и клена, с сучковатой, вывороченной, зелено-коричневой пастью, — не исчез вместе с ревизионным изображением, а подошел к моему креслу, взял со стола цветы, предназначенные для Эйлин, и обломал их о мою голову. Я буквально остолбенел и даже не пробовал защищаться. Чудище разбило вазу, расплескало воду, сожрало полкоробки тартинок, остальное высыпало на ковер, растоптало ногами, набухло, засветилось и брызнуло дождем фейерверочных искр, а в разложенных на кровати рубашках появилось множество выжженных дырок.
Хотя глаза у меня были подбиты, а лицо в ссадинах, я пошел на свидание. Эйлин сразу все поняла. Едва завидев меня, она всплеснула руками: «Боже, к тебе явился интерферент!» Оказывается, если программы, передаваемые с разных спутников, долго интерферируют между собой, может возникнуть помесь нескольких персонажей ревизионного представления, то есть интерферент. При своих внушительных габаритах он способен натворить черт знает что — как-никак время его существования после выключения аппарата доходит до трех минут. Энергия, потребляемая ревизионным фантомом, говорят, того же рода, что энергия шаровых молний. К подруге Эйлин вломилось чудовище из палеонтологической передачи, скрещенное с Нероном; девушку спасло редкое самообладание: она мигом прыгнула в ванну с водой. Живальню, однако, пришлось ремонтировать.
Правда, можно экранировать передачи, но это довольно дорого; а ревизионной компании выгоднее платить судебные издержки и компенсации за увечья, чем тратиться на защиту зрителя от интерферентов. Отныне буду смотреть ревизор с увесистой палкой в руке. Кстати: «лежанка мутанга» — не лежбище некоего мустанга, а наложница человека, который, благодаря программированной мутации, мастерски исполняет аргентинское танго.
3. IХ.2039.
Был у своего адвоката — и удостоился чести беседовать с ним. Это редкость; обычно клиентами занимаются бюропьютеры. Мистер Кроли принял меня в кабинете, обставленном на манер почтенных контор обладателей адвокатской тоги, со множеством черных резных шкафов, где рядами высились папки с бумагами, впрочем, не настоящими — судебные дела теперь записываются на ферромагнитной ленте. На голове у него был мемнор — приставка памяти, что-то вроде прозрачного колпака, в котором, как светлячки, роились электрические разряды. Вторая голова, поменьше и помоложе, торчала у него из-за спины и негромко вела телефонные переговоры. Она-то и называется деташкой. Хозяин осведомился о моих планах и был удивлен, узнав, что я не собираюсь в заокеанское путешествие; когда же я объяснил, что в моем положении необходима бережливость, удивился еще больше:
— Ведь в бральне вы можете взять любую сумму!
Оказывается, достаточно выписать чек, и банк (теперь — бральня) немедленно выплатит деньги. Причем это не ссуда — получение денег в бральне ни к чему не обязывает. Здесь, правда, есть своя закорючка. Обязательство вернуть взятую сумму — скорее морального свойства; расплачиваются обычно годами. Я спросил, почему банки не разоряются из-за неаккуратности должников. Кроли посмотрел на меня с изумлением. И правда, я забыл, что живу в эпоху психимии. Письма с вежливыми просьбами и напоминаниями пропитывают летучей субстанцией, вызывающей угрызения совести и прилив трудолюбия; таким образом бральня получает свое. Попадаются, конечно, и необязательные должники; те просматривают корреспонденцию, заткнув нос.
Однако нечестных людей хватало во все времена. Я вспомнил о ревизионной дискуссии по поводу уголовного кодекса и спросил, не подпадает ли насыщение писем психимикатами под статью сто тридцать девятую («психимическое воздействие на физическое или юридическое лицо без его ведома и согласия карается…» и т. д.). Моя осведомленность приятно удивила его; он разъяснил все до тонкостей. Обоснованные притязания удовлетворять таким путем можно: если адресат ничего не должен, не будет и угрызений совести, а пробуждать трудолюбие — дело социально полезное. Адвокат был чрезвычайно любезен и даже пригласил меня на обед в «Бронкс» — мы встречаемся там девятого сентября.
Вернувшись домой, я решил, что самое время познакомиться с положением в мире, не полагаясь на один лишь ревизор. Попробовал взять газету лобовой атакой, но застрял уже на середине передовицы о роботрутнях и роботрясах. С заграничными новостями дело пошло не лучше. В Турции значительная утечка десимулов и множество тайных уроженцев; тамошний Центр демопрессии не в силах этому помешать, а содержание целых толп симкретинов разоряет государственную казну.
В «Вебстере», разумеется, ничего путного. Десимулянт — объект, притворяющийся, будто он есть, хотя на самом деле его нет. Десимулов я не нашел. Тайный уроженец — подпольно рожденный. Так мне сказала Эйлин. Демовзрывы сдерживает демопрессионная политика. Есть два способа получить лицензию на ребенка: либо сдать необходимые экзамены и документы, либо угадать главный выигрыш в инфантерее (инфант-лотерее). В ней участвует масса людей — из тех, что не имеют никаких шансов получить лицензию обычным путем. Симкретин — искусственный идиот; больше я ничего не узнал. И то слава Богу, если принять во внимание язык, которым пишутся статьи в «Геральд». Выписываю для примера отрывок:
«Ошибочный или недоиндексированный будильник подрывает не только конкуренцию, но и рекурренцию; на таких будильниках наживаются жирократы благодаря тайнякам, которые почти ничем не рискуют, коль скоро Верховный суд все еще не вынес решения по делу Геродотоуса. Уже не первый месяц общественность задается вопросом: кто же в конце концов отвечает за борьбу с киберрастратами — контрпьютеры или суперпьютеры?»
и т. д.
Из «Вебстера» я узнал лишь, что жирократ — это заимствованное из сленга, но теперь общепринятое обозначение взяточника (дать взятку — «подмазать», подмазывают обычно жиром, отсюда жирократия, т. е. коррупция). Выходит, жизнь и теперь не так идиллична, как кажется. Знакомый Эйлин, Билл Хомбургер, хочет взять у меня ревизионное интервью, но это еще не решено окончательно. Не на дейстанции, а в моей живальне — ревизор, оказывается, может служить передатчиком. Я тотчас вспомнил о книгах, изображавших будущее в мрачных тонах, на манер антиутопии, в которой за каждым обывателем установлена слежка в его квартире. Билла мои опасения рассмешили; он объяснил, что изменить направление передачи нельзя без согласия владельца ревизора, иначе легко угодить в тюрьму. Зато, изменив направление ревизионной передачи на обратное, можно совершить даже супружескую измену на расстоянии. Не знаю, правду он говорит или шутит.
Сегодня ездил по городу. Церквей уже нет, вместо святилищ — фармацевтилища. Люди в белых одеждах и серебряных митрах — не священники и не монахи, но аптекари. Хотя — странное дело — нигде ни одной аптеки.
4. IХ.2039.
Наконец-то узнал, как стать обладателем энциклопедии. Я даже имею ее у себя — в трех пузырьках. Купил в научной химоглотеке. Книги теперь не читают, а поедают, и делают их не из бумаги, а из информационного вещества, политого глазурью. Зашел я и в глотеку с деликатесами. Полное самообслуживание. На полках — аргументан и кредибилин в изящных коробочках, мультипликол в потемневших от времени флаконах, эгоуплотнитель, пуританиды и экстазиды.
Жаль только, нет у меня знакомого лингвиста. «Глотека», наверное, от «глотать»? Тогда теоглотека на Шестой авеню, должно быть, теологическая библиотека? Похоже, так и есть, судя по названиям выставленных препаратов. Расположены они по разрядам: индульгины, теодиктины, метамерии — целый зал, и немалый; торговля идет под тихую органную музыку. В продаже психимикаты любых религий: христин и антихристин, ормуздан, ариманол, банки-нирванки, антимортин, буддин, перпетуан и сакрантол (в упаковке, окруженной мерцающим ореолом). Все это в пастилках, таблетках, пилюлях, сиропах и каплях, есть даже леденцы на палочке — для детей.
Я был маловером, пока не убедился во всем на собственном опыте. Приняв четыре таблетки алгебраина, я неведомо как, без малейших усилий овладел высшей математикой; знания теперь усваиваются желудком. Пользуясь случаем, я принялся утолять свою жажду в них, но уже два первых тома энциклопедии вызвали желудочное расстройство. Билл посоветовал не засорять голову лишними сведениями: вместимость ее не безгранична!
К счастью, имеются средства, прочищающие память и воображение. Например, мемнолизин и амнестан. Избавиться от балласта ненужных сведений и неприятных воспоминаний нетрудно. В деликатесной глотеке я видел пастилки-фрейдилки, мементан, монстрадин, а также превозносимое до небес новейшее средство из группы былиногенных препаратов — аутентал. Он синтезирует воспоминания о том, чего клиенту не довелось пережить. После дантина, например, человек глубоко убежден, что именно он написал «Божественную комедию». Я, правда, не очень-то понимаю, кому это нужно.
Появились новые научные дисциплины — например, психодиетика и корруптистика. Во всяком случае, энциклопедию я проглотил не напрасно. Я теперь знаю, что ребенок действительно появляется на свет от двух матерей: одна дает яйцеклетку, другая вынашивает плод и рожает. Яйценоша доставляет яйцеклетки от полуматери к полуматери. А как-нибудь проще нельзя? С Эйлин об этом говорить неудобно. Хорошо бы расширить круг знакомых.
5. IХ.2039.
Можно обойтись и без знакомых: для этого есть дуэтии. Он расщепляет сознание и позволяет беседовать с самим собой на любую тему (которая задается особым психимикатом). Но безграничные возможности психимии пугают меня, и я не намерен глотать все, что подвернется под руку.
Сегодня, продолжая осматривать город, случайно забрел на кладбище. Называется оно «упокойня». Гробовщиков больше нет, вместо них — гроботы. Видел похороны. Покойника положили в так называемый «склеп с обратным ходом», поскольку еще не ясно, воскресят его или нет. Последней волей усопшего было лежать до конца, то есть как можно дольше, но жена с тещей опротестовали завещание. Это, говорят, не единственный случай. Дело пойдет по инстанциям — с юридической точки зрения оно непростое. Самоубийце, не желающему никаких воскресений, остается, наверное, прибегнуть к бомбе? Мне как-то не приходило в голову, что можно не хотеть воскресения. Видимо, можно — если оно слишком доступно. Кладбище великолепное, просто утопает в зелени, только гробы уж очень малы. Не кладут же они останки под пресс? Впрочем, в псивилизации, кажется, все возможно.
6. IХ.2039.
Покойников под пресс не кладут, но погребается лишь биологическая оболочка, а протезы идут на свалку. Неужели они здесь протезированы до такой степени? По ревизору — захватывающая дискуссия о проекте, сулящем человечеству бессмертие. Мозги дряхлых старцев будут пересаживать в черепа юношей. Те ничего не теряют: их мозги, в свою очередь, перейдут подросткам и так далее, — а поскольку люди рождаются непрерывно, никто не будет обижен, то есть навсегда обезмозжен. Но есть и многочисленные возражения. Сторонников пересадки мозгов окрестили пересадистами.
Возвращаясь с кладбища — пешком, чтобы подышать свежим воздухом, — я споткнулся о натянутую между надгробиями проволоку и упал. Что еще за глупые шутки? Надгробот рассыпался в извинениях: это, мол, выходка какого-то хаманта. Дома — сразу к «Вебстеру». «Хамант — робот-хулиган, деградировавший вследствие врожденных дефектов или дурного обращения».
На ночь читал «Дамекена с камелиями». Прямо не знаю — может, проглотить весь словарь сразу? Опять ничего не понятно! Впрочем, одного словаря мало, теперь-то я вижу ясно. Ну вот, например. У героя романа какие-то там амуры с надуванкой (они выпускаются двух типов: кассетные и развращенки). Что такое надуванка, я уже знаю, только не знаю, как относиться к подобной связи: пятнает она мужскую честь или нет? Может, глумиться над надуванкой — все равно что кромсать на куски мяч? Или это нечто предосудительное?
7. IХ.2039.
И все-таки великое дело — настоящая демократия! Сегодня был либидосцит: сначала по ревизору показали разные типы женской красоты, потом провели всеобщее голосование. В заключение Верховный комиссар Евгенплана заверил, что избранные модели войдут в моду уже в следующем квартале. Да, это вам не времена подкладок, корсетов, пудры, помады и краски! В улучшальнях (телотворительных салонах) действительно можно изменять рост, пропорции, формы тела. Интересно, могла бы Эйлин… мне-то она нравится какая есть, но ведь женщины рабски следуют моде…
Какой-то чуждак пытался вломиться в мою квартиру, а я, как нарочно, принимал ванну. «Чуждак» — это чужой робот. Впрочем, то был роботряс — с фабричным дефектом, но не принятый обратно изготовителем, то есть фактически безроботник. Такие субъекты шатаются без дела; среди них немало хамантов. Мой душевой робот мигом сообразил, в чем дело, и дал тому от ворот поворот. Хотя, если быть точным, робота у меня нет: мояк — всего лишь купьютер (купальный компьютер). Я написал «мояк» — так теперь говорят, — но все же не буду злоупотреблять нынешними словечками; они оскорбляют мой вкус, а может быть, это тоска по утраченному навсегда прошлому. Эйлин уехала к тетке. Ужинать буду с Джорджем Симингтоном, хозяином того дефективного робота.
После обеда усваивал любопытнейшую монографию «Интеллектрическая история». Кто бы мог в мое время подумать, что цифровые машины, преодолев определенный порог разумности, потеряют надежность, а все потому, что разума без хитрости не бывает. В монографии это называется по-ученому — «правило Шапюлье» (или закон наименьшего сопротивления). Машина тупая, бесхитростная, неспособная пораскинуть умом делает, что прикажут. А смышленая сначала соображает, что выгоднее: решить предложенную задачу или попробовать от нее отвертеться. Она ищет чего полегче. А почему бы и нет, если она разумна? Ведь разум — это внутренняя свобода. Вот откуда взялись роботрясы и роботрутни, а также специфическое явление симкретинизма. Симкретин — это компьютер, симулирующий кретинизм, чтобы от него отвязались. Попутно я выяснил, что такое десимулы: они простонапросто притворяются, будто не притворяются дефективными. А может, наоборот. Сразу не разберешь. Лишь примитивный робот (примитивист) может быть роботягой; но придурист (придуривающийся робот) — отнюдь не придурок. В таком афористическом стиле выдержана вся монография. После одного пузырька голова трещит от избытка сведений.
Электронный мусорщик — это компостер. Будущий робофицер — компьюнкер. Деревенский робот — цифранин, или цифрак. Коррумпьютер — продажный робот, контрпьютер (counter-puter) — робот-нонконформист, не умеющий ладить с другими; из-за скачков напряжения в сети, вызванных их скандалами, случались электрогрозы и даже пожары. Робунт — взбунтовавшийся робот. А озвероботы — одичавшие роботы, а их сражения — робитвы, электросечи, а электротика! Суккубаторы, конкубинаторы, инкубаторы, подвоботы — подводные роботы, а автогулены, или автогуляки (les robots des voyages), a человенцы (андроиды), а ленистроны с их обычаями, с их самобытным творчеством!
История интеллектроники повествует о синтезе искомых (искусственных насекомых); некоторые — например, програмухи — даже включались в боевой арсенал. Тайняк, он же внедрец, — робот, выдающий себя за человека, «внедряющийся» в общество людей. Старый робот, выброшенный на улицу, — явление, увы, нередкое, этих бедняг называют трупьем. Говорят, раньше их вывозили в резервации, для облавной охоты, но Общество защиты роботов добилось закона, запретившего подобное варварство. Это, однако, не решило проблемы, коль скоро по-прежнему встречаются роботы-самоубийцы — автоморты.
Законодательство, по словам Симингтона, не поспевает за техническим прогрессом, оттого и возможны столь печальные, даже трагические явления. Самое большее — изымаются из употребления автомахинаторы и киберрастратчики, вызвавшие лет двадцать назад серию экономических и политических кризисов. Большой Автомахинатор, который в течение девяти лет возглавлял проект освоения Сатурна, ничегошеньки на этой планете не делал, зато целыми кипами отправлял фальшивые отчеты, сводки и рапорты о выполнении плана, а контролеров подкупал или приводил в состояние электроступора. Он до того обнаглел, что, когда его снимали с орбиты, грозил объявить войну. Демонтаж не окупался, так что его торпедировали. Зато пиратронов никогда не было; это чистой воды вымысел. Другой компьютер, изготовленный по французской лицензии и занимавшийся околосолнечным проектированием в качестве уполномоченного ГЛУПИНТа (Главного управления интеллектроники), вместо того чтобы осваивать. Марс, освоил торговлю живым товаром, за что и был прозван компьютенером.
Это, конечно, явления крайние, вроде смога или пробок на автострадах в прошлом веке. О злом умысле, о заранее обдуманном намерении и речи не может быть; просто компьютер всегда делает то, что легче дается, так же как вода всегда течет вниз. Но воду можно остановить плотиной; уловки компьютеров разоблачить несравненно труднее.
Впрочем, подчеркивает автор «Интеллектрической истории», в целом все идет как нельзя лучше. Дети учатся грамоте при помощи орфографического сиропа, любые изделия, включая шедевры искусства, доступны и дешевы, в ресторане вас встречает толпа вышколенных кельпьютеров, а их специализация доходит до того, что один занимается только пирожными, другой — соками, желе, фруктами (так называемый компотер) и так далее. Что ж, это, пожалуй, верно. Куда ни глянь, комфорт просто неслыханный.
Дописано после ужина у Симингтона.
Вечер прошел очень мило, но надо мной жестоко подшутили. Кто-то из гостей — узнать бы кто! — всыпал мне в чай щепотку кредобилина, и я немедленно ощутил такое восхищение салфеткой, что тут же, с ходу, изложил новую теодицею. После нескольких крупиц проклятого порошка человек начинает верить во что попало — в лампу, в ложку, в ножку стола; мои мистические ощущения были настолько сильны, что я пал на колени перед столовой посудой, и только тогда хозяин поспешил мне на помощь. Двадцать капель трынтравинила отрезвили меня: он навевает такой ледяной скептицизм, такое безразличие ко всему на свете, что даже приговоренный к смерти плюнул бы на предстоящую казнь.
Симингтон горячо извинялся за инцидент. Похоже, у многих размороженцы вызывают какую-то неприязнь, иначе вряд ли кто-нибудь отважился бы на подобную шутку.
Чтобы дать мне время прийти в себя, Симингтон проводил меня в свой кабинет, и снова я сделал глупость: включил кассетный аппарат, стоявший на рабочем столе. Я принял его за радио. Оттуда вылетел целый рой блестящих букашек и облепил меня с головы до ног; изнемогая от щекотки и зуда, расцарапывая себе кожу ногтями, я вылетел в коридор. Это была обыкновенная зудиола, а я по неведению включил «Пруритальное скерцо» Уаскотиана. Ей-богу, это новое осязательное искусство выше моего понимания. Билл, старший сын Симингтона, говорил мне, что существуют и непристойные сочинения. Фривольное асемантическое искусство, близкое к музыке! Ох уж эта неистощимая человеческая изобретательность! Молодой Симингтон обещал свести меня в тайный клуб. Неужели оргия? Во всяком случае, я ничего не возьму в рот.
8. IХ.2039.
Я-то думал, что попаду в роскошное заведение, притон неслыханного разврата, а очутился в затхлом, грязном подвале. Говорят, столь точная имитация минувшей эпохи обошлась в целое состояние. Под низким сводом, в духоте, перед наглухо запертым окошком терпеливо стояла длинная очередь.
— Видите? Настоящая очередь! — с гордостью подчеркнул Симингтон-младший.
— Ну, хорошо, — сказал я, отстояв около часу, — а когда же оно откроется?
— То есть что? — удивились они.
— Ну, как же… окошко…
— Никогда! — радостно отозвался хор посетителей.
Я опешил. До меня сразу не дошло, что я участвую в развлечении, которое было такой же противоположностью их жизненному укладу, как черная месса в старые времена — противоположностью белой. Ведь ныне (и это совершенно логично) выстаивание в очередях может восприниматься только как извращение.
В другом клубном подвале я увидел обычный трамвайный вагон; внутри была ужасная давка, летели пуговицы, в клочья рвалась одежда, трещали ребра, отдавливались каблуками ноги — в такой вот натуралистической манере эти любители старины воссоздавали экзотический трамвайный быт. Посетители — растерзанные, помятые и все-таки сияющие от удовольствия, пошли потом подкрепиться, а я отправился домой, прихрамывая и поддерживая брюки руками, но с улыбкой на лице. О, наивная молодость! Острых ощущений она всегда ищет в том, что меньше всего доступно.
Впрочем, историю теперь мало кто изучает: в школе ее заменил новый предмет, бустория, то есть наука о будущем. Как обрадовался бы профессор Троттельрайнер, если б узнал об этом! — грустно подумал я.
9. IX.2039.
Обед с адвокатом Кроли в небольшом итальянском ресторанчике «Бронкс» без единого робота или кельпьютера. Кьянти превосходное. Нас обслуживал сам шеф-повар, пришлось хвалить, хотя я не переношу спагетти в таком количестве, хотя бы и с приправой из базилика. Кроли — настоящий, прирожденный адвокат — жаловался на упадок судебного красноречия. Ораторское искусство в суде зачахло, все решает подсчет штрафных пунктов. Преступность, однако, не отмерла, как я полагал. Она лишь приняла скрытые формы. Наиболее тяжкие преступления — это майнднэпинг (похищение разума), ограбления банков особо ценной спермы, убийство, предусмотренное восьмой поправкой к Конституции (убийство наяву, в убеждении, что оно иллюзорное, а жертва — псивизионный или ревизионный фантом), а также тьма разновидностей психимического порабощения.
Майнднэпинг обнаружить непросто. Жертва, одурманенная психимикатом, попадает в фантомное окружение, вовсе не подозревая об этом. Некая миссис Вандейджер решила избавиться от постылого мужа, любителя экзотических путешествий, и подарила ему билеты на сафари в Конго вместе с лицензией на отстрел крупного зверя. Не один месяц провел мистер Вандейджер в увлекательных охотничьих приключениях, не догадываясь, что все это время он, напичканный психимикатами, торчал на чердаке, в садке для домашней птицы. Если бы не пожарные, забравшиеся на чердак при тушении пожара на крыше, мистер Вандейджер наверняка погиб бы от истощения, которое, кстати, он принимал как должное, полагая, будто заблудился в пустыне.
Такие операции часто проводит мафия. Один мафиози похвалялся перед мистером Кроли, что за последние шесть лет он распихал по сундукам, куриным садкам, собачьим будкам, чердакам, подвалам и прочим укрытиям в домах весьма уважаемых семей четыре с лишним тысячи человек; всех их постигла незавидная участь! Затем речь зашла о семейных делах адвоката.
— Милостивый государь! — произнес он, сопровождая свои слова привычным ораторским жестом. — Перед вами — известный защитник, светило адвокатуры — и несчастнейший из отцов! У меня было двое талантливых сыновей…
— Как, и оба умерли?! — ахнул я.
Он отрицательно покачал головой:
— Живы, но стали эскалантами!
Видя мое недоумение, он разъяснил суть своей отцовской трагедии. Старший сын подавал большие надежды в архитектуре, младший — на поэтическом поприще. Первый от реальных заказов, которые не удовлетворяли его, перешел на урбафантин и конструктол и теперь возводит целые города — воображаемые. Так же протекала эскалация у младшего отпрыска: лиронал, поэматол, сонетал, а теперь вместо того, чтобы творить, он глотает психимикаты, стало быть, навсегда потерян для реального мира.
— На какие же средства они оба живут? — полюбопытствовал я.
— И вы еще спрашиваете? На мои, разумеется!
— И ничего нельзя сделать?
— Мечта, если дать ей волю, всегда одолеет реальность. Псивилизация требует жертв. Все мы через это прошли — даже я. Ведь и самое безнадежное дело нетрудно выиграть перед несуществующим трибуналом!
Смакуя молодое, терпкое кьянти, я вдруг застыл, пораженный ужасной догадкой: если можно писать иллюзорные стихотворения и возводить несуществующие дома, то почему нельзя есть и пить миражи? Адвокат, узнав о моих опасениях, рассмеялся:
— О, это нам не грозит, господин Тихий! Призрак успеха насытит дух, но призрачная котлета не наполнит желудка. Тот, кто захотел бы так жить, скоро умер бы с голоду!
Я, хотя и сочувствовал ему, как отцу сыновей-эскалантов, вздохнул с облегчением. Действительно, мнимая пища никогда не заменит реальную. Хорошо, что сама природа ставит преграду психофармакологической эскалации. Между прочим: адвокат тоже подозрительно громко дышит.
О том, как дошло до разоружения, я по-прежнему ничего не знаю. Межгосударственные конфликты остались в прошлом. Случаются, правда, локальные, небольшие робитвы — обычно из-за соседских споров в районах пригородных вилл. Когда повздорившие семьи принимают кооперин и мирятся, их роботы, с обычным для автоматов запаздыванием восприняв флюиды враждебности, бьются стенка на стенку. Потом компостер вывозит трупье, а издержки возмещает страховая компания.
Неужели роботы унаследовали от нас агрессивность? Я проглотил бы любой труд на эту тему, но где его взять? Почти ежедневно бываю у Симингтонов. Он — интроверт и скуп на слова, она — женщина неописуемой красоты; неописуемой, потому что меняется каждый день. Все совершенно другое — глаза, волосы, ноги, фигура. Их собаку зовут Киберняжка. Она уже три года как умерла.
11. IХ.2039.
Дождь, запрограммированный на самый полдень, не удался. А уж радуга — просто неслыханно — квадратная! Настроение хуже некуда. Я опять одержим прежней навязчивой идеей. Засыпая, все думаю: не галлюцинация ли это? Почему-то хочется заказать сниво о седлании крыс. Седла, подпруги, мягкая шерсть постоянно перед глазами. Тоска по утраченным навсегда временам хаоса в эпоху безмятежной гармонии? Неисповедима душа человеческая!
Фирма, где работает Симингтон, называется «Прокрустикс инкорпорейтед». Сегодня у него в кабинете листал иллюстрированный каталог. Какие-то механические пилы или станки. А я представлял его скорее архитектором, чем инженером.
По ревизору интереснейшая передача; похоже, назревает конфликт между ревизией и псивизией. Псивизия — это «программы почтой», доставляемые на дом в таблетках. Себестоимость намного ниже.
На образовательном канале — лекция по военной истории профессора Эллисона. Начало психимической эры было тревожным. Появилось настоящее сверхоружие в виде аэрозоля — криптобеллин, тот, кто его вдыхал, сам бежал за веревкой и вязал себя по рукам и ногам. Однако при испытаниях оказалось, что любое противоядие тут бесполезно, фильтры тоже не помогают, так что вязали себя все поголовно, и пользы от этого не было никому. После тактических учений 2004 года и «красные», и «синие» валялись на поле боя вповалку — все до единого в путах. Я не сводил с лектора глаз, ожидая сенсационных сведений о разоружении; но об этом — ни слова.
Сегодня пошел наконец к психодиетику. Тот посоветовал изменить рацион и прописал небылин с пиеталом. Чтобы я забыл о прежней жизни? Вышел на улицу и выкинул все препараты. Можно еще купить духостат, его теперь вовсю рекламируют, но что-то мешает мне; никак не могу решиться. Через открытое окно — модный, глупейший шлягер: «Мы безродные ребята, разбитные автоматы». Никакого дезакустина! Вата в ушах ничуть не хуже, если хорошенько скатать.
13. IХ.2039.
Познакомился с Барроузом, зятем Симингтона. Он производит говорящую упаковку. Странные заботы современного бизнесмена: упаковке разрешено завлекать клиентов, громко расхваливая товар, но, скажем, тянуть покупателя за рукав нельзя. Другой зять Симингтона владеет фабрикой дверья, то есть дверей, открывающихся на свист хозяина. Рекламные картинки в газетах оживают, если на них посмотреть.
В «Геральд» одну полосу неизменно занимает «Прокрустикс инк.». Я обратил на это внимание, когда познакомился с Симингтоном. Реклама на всю страницу, причем сначала появляется огромная надпись «ПРОКРУСТИКС», потом — отдельные слоги и слова: «НУ?.. НУ!!! Смелей же! ЭХ! ЭЙ! УХ! ЫХ! О-о-о, именно ТАК. А-А-А-аааа…» И все. Что-то не похоже на сельхозтехнику.
К Симингтону пришел сегодня монах, отец Матриций из ордена безлюдистов, — забрать какой-то заказ. Интересная беседа с ним в кабинете. Отец Матриций рассказывал, в чем заключается миссионерская деятельность его ордена. Безлюдисты проповедуют Евангелие компьютерам. Безлюдный разум существует уже столетие, а Ватикан все еще отказывает ему в равенстве перед Богом. Папская курия словно воды в рот набрала, хотя сама услугами компьютеров пользуется.
Оказывается, энцик — это автоматически запрограммированная энциклика! Никого не заботят душевные муки компьютеров, терзающие их вопросы, смысл их бытия. В самом деле: быть компьютером или не быть? Безлюдисты добиваются догмата о косвенном Сотворении. Один из них, отец Шасси, автопереводчик, перелагает Писание на современный язык. Пастырь, паства, агнец, овечки Христовы — эти слова теперь никому не понятны. Главный распределитель, следящая система, профилактическое помазание, максимальная погрешность — вот что действует на воображение! Глубокие, вдохновенные глаза отца Матриция, его холодное, стальное рукопожатие. Выходит, это и есть новая теология? С каким презрением отзывался он о теологах-ортодоксах, именуя их граммофонами Сатаны!
Потом Симингтон робко предложил мне позировать для его нового проекта. Значит, он все-таки не инженер-механик! Я согласился. Сеанс продолжался около часа.
15. IХ.2039.
Сегодня позировал Симингтону. Измеряя пропорции моего лица карандашом, он левой, свободной, рукой что-то положил себе в рот — украдкой, но я-то заметил. Он застыл, всматриваясь в меня и бледнея; на висках у него выступили прожилки. Я испугался, но это длилось мгновение; он тут же извинился — как всегда, вежливый, спокойный и улыбающийся. Однако выражение его глаз в ту минуту забыть невозможно. Мне как-то не по себе.
Эйлин все еще у тетки; по ревидению — дискуссия о необходимости реанимализации природы. Диких зверей давным-давно нет, но ведь можно воссоздать их путем биосинтеза. С другой стороны — стоит ли рабски копировать то, что когда-то бездумно состряпала эволюция? Интересное выступление сторонника фантастической зоологии: нужно, мол, заселить заповедники не каким-нибудь заурядным плагиатом, а плодами оригинального творчества. Из проектных образцов особенно удачными мне показались грабасты и леммипарды, а также огромный муравец, поросший густой муравой.
Основная задача, стоящая перед зоодизайнерами, — гармоничное сочетание новых животных со специально подобранной природной средой. Крайне любопытными обещают быть люминодрамонты — гибрид светляка, дракона о семи головах и мамонта. Не спорю — все это оригинально, может быть, и красиво, но мне как-то ближе старые, простые животные. Я сознаю неизбежность прогресса и ценю лактофоры, которыми опрыскивают луговую траву для получения творога; устранение с пастбищ коров — мера, пожалуй, вполне разумная, а все же луга без этих флегматичных, интровертно пережевывающих существ как-то пусты и печальны.
16. IХ.2039.
Странная заметка в утренней «Геральд» — о проекте закона, по которому старение объявляется наказуемым. Спросил Симингтона, как это понимать; тот лишь усмехнулся.
Выходя из дома, во внутреннем дворике заметил соседа. Он стоял, прислонившись к пальме, закрыв глаза, а на его лице, на обеих щеках, проступали красные пятна, образовавшие четкий контур ладоней. Он потряс головой, протер глаза, чихнул, высморкался и начал опять поливать цветочки. Как мало я все-таки знаю!
Пришла осязаемая открытка от Эйлин. Ну, не чудесно ли это — современная техника у любви на посылках! Мы, наверно, поженимся.
У Симингтонов — только что прибывший из Африки левак (ловец синтетических львов). Рассказывал о неграх, побелевших при помощи альбинолина. Но стоит ли решать наболевшие социальные и расовые проблемы химически? Не слишком ли это просто? Получил рекламную бандероль — внушилки, которые сами не воздействуют на организм, а лишь убеждают принимать другие психимикаты. Значит, есть все-таки люди, не желающие их глотать? Этот вывод меня ободрил.
29. IХ.2039.
Все еще не могу опомниться после беседы с Симингтоном. Вот уж поговорили начистоту! Может, из-за принятой нами повышенной дозы симпатина пополам с амиколом? Он буквально сиял: проект был готов.
— Тихий, — сказал он мне, — вам известно, что мы живем в эпоху фармакократии. Осуществилась мечта Бентама о максимуме счастья для максимума людей, — но это лишь одна сторона медали. Вспомните-ка французского мыслителя: «Недостаточно, чтобы мы были счастливы, — нужно еще, чтобы несчастны были другие!»
— Пасквильный афоризм! — возмутился я.
— Нет. Это правда. Знаете, что производит «Прокрустикс инк.»? Наш товар — это зло.
— Вы шутите…
— Нисколько. Мы реализовали противоречие. Каждый теперь может делать ближнему пакости — без всякого для него вреда. Мы освоили зло, как вакцинологи освоили вирусы. Ведь чем, позвольте спросить, была до сих пор культура? Человек убеждал человека быть добрым. Только добрым. А куда прикажете распихать остальное? История распихивала так и сяк, где внушением, где принуждением, но в конце концов всегда что-то не помещалось, выпирало, вылезало наружу.
— Но разум нам говорит, что надо быть добрыми, — не сдавался я. — Это же всем известно! Впрочем, теперь, я вижу, все вместе, достойно, успешно, сердечно, весело, в гармонии, искренне и заботливо…
— И как раз потому-то, — прервал он меня, — тем сильней искушение врезать — наотмашь, со смаком, вдоль, поперек, для равновесия, успокоения, ради здоровья!
— Как, как, повторите?
— Ну, будьте же наконец искренни. Бросьте заниматься самообманом. Это теперь ни к чему. Мы свободны — благодаря сонтезированию и злодеину. Каждому столько зла, сколько душа пожелает. Побольше несчастий, побольше позора — для других, разумеется. Неравенство, рабство, ссоры, раздоры, барышень — под седло! Когда мы выбросили на рынок первые образцы, их расхватали в момент; помню — люди рвались в музеи, в картинные галереи, каждому хотелось вломиться в мастерскую Микеланджело с дубиной в руках, поразбивать скульптуры, продырявить полотна, а при случае накостылять и самому маэстро, если осмелится встать на пути… Вам это странно?
— Странно? Мягко сказано! — взорвался я.
— А все потому, что вы еще раб предрассудков. Но теперь уже можно, неужели вам невдомек? Да разве при виде Жанны д'Арк вы не чувствуете, что эту одухотворенную прелесть, эту ангельскую чистоту, эту грацию неземную непременно надо взнуздать? Седло, подпруга, уздечка — и вскачь! Шестерней, в упряжке, барышни-милашки — с бубенцами с высоким плюмажем. Резво девушки бегут, снег сверкает, свищет кнут…
— Да вы что! — кричал я срывающимся от ужаса голосом. — Взнуздать? Запрячь? Оседлать?!
— Ну конечно. Для здоровья, для гигиены, да и для полноты ощущений. Вам достаточно указать объект, заполнить нашу анкету, перечислить претензии и антипатии — впрочем, это необязательно, в общем-то, зло хочется делать без всякого повода, то есть поводом служит чужое благородство, красота, — достаточно перечислить все это, и вы получаете наш каталог. Заказы мы выполняем в течение суток. Полный комплект высылается почтой. Принимать с водой, лучше всего до еды, но можно и после.
Так вот что означали анонсы «Прокрустикс» в «Геральд» и в «Вашингтон пост»! Но — лихорадочно и тревожно размышлял я — почему он именно так? Откуда эти слова об упряжи, эти кавалерийские ассоциации, почему же непременно в седло? Боже праведный, неужели и тут где-то рядом проходит канал — мой будильник, мой пробный камень, моя гарантия возвращения к яви? Но инженер-проектировщик (проектировщик чего?!) не заметил моего смятения или неверно истолковал его.
— Своим освобождением мы обязаны химии, — продолжал он. — Ведь все существующее — не более чем изменение натяжения водородных ионов на поверхности клеток мозга. Вы меня видите, — но это, собственно, лишь изменение натриево-калиевого равновесия на мембранах ваших нейронов. А значит, достаточно послать туда, в самую глубину мозга, щепотку специально подобранных молекул — и любая фантазия покажется явью. Да вы, впрочем, сами знаете, — добавил он тише и достал из письменного стола горсть пилюль, разноцветных, как драже для детей. — Вот зло нашего производства, исцеляющее душевные раны. Вот химия, которая взяла на себя грехи мира.
Дрожащими пальцами я выскреб из нагрудного кармана таблетку трынтравинила, не запивая проглотил ее и заметил:
— Я попросил бы вас держаться ближе к делу.
Он приподнял брови, молча кивнул, выдвинул ящик стола и что-то взял из него.
— Как вам будет угодно. Я говорил о модели «Т» новой технологии, о ее примитивном начале. Такой, знаете ли, сон о дубине. Публика на ура подхватила флагелляцию, дефенестрацию,[30] это было felicitas per extractionem pedum.[31] Но фантазия столь убогая быстро себя исчерпала. Чего вы хотите — выдумки не хватало, не было образцов! Ведь в истории только добро практиковали открыто, а зло — под маской добра, под благовидным предлогом, грабя, громя и насилуя во имя высших идеалов. Ну, а приватное зло даже и таких путеводных звезд не имело. Все-то оно по углам таилось, грубое, топорное, примитивное. Это видно по реакции публики; в заказах без конца повторяется одно и то же: налететь, задавить и скрыться. Такой уж выработался навык.
А ведь людям мало просто творить зло — им подавай еще сознание своей правоты. Потому что, видите ли, не очень удобно, если ближний, на минуту опомнившись (а это всегда может случиться), начинает голосить «за что?!» или «как не стыдно?!». Неприятно, когда крыть нечем. Дубина — недостаточный контраргумент, это чувствует каждый. Задача в том, чтобы неуместные эти претензии презрительно отклонить — с единственно верных позиций. Каждый не прочь попакостничать, но так, чтобы этого не стыдиться. Лучше всего — под видом мести, но чем виновата перед тобою Жанна д'Арк? Тем, что она лучше, выше тебя? Тогда, значит, ты хуже, хотя и с дубиной. Но такого никто себе не желает! Каждому хочется совершать зло, побыть хоть немного мерзавцем и извергом, оставаясь, однако ж, великодушным и благородным — прямо-таки бесподобным. Вот чего требуют все. Все и всегда. Чем хуже ты, тем бесподобнее.
Это почти невозможно и потому-то заманчиво. Мало клиенту навытворять невесть что со вдовами и сиротами — он желает проделать все это в ореоле незапятнанной добродетели. Преступников никто и пальцем не хочет тронуть, хотя где, как не тут, можно действовать с чистой совестью, во имя закона, — но это банально и скучно, и без того по ним плачет виселица. Подавай клиенту ангельскую невинность, беспримерную святость, но так обработанную, чтобы мог он разгуляться вовсю, в убеждении, что не только может, но прямо-таки должен. Теперь вам понятно, какое это искусство — примирять подобные противоречия? Речь, в конце концов, всегда идет о духе, а не о теле. Тело — всего лишь средство.
Конечно, подобные тонкости чужды многим нашим клиентам. Для них у нас есть отделение доктора Гопкинса — биологии мирской и сакральной. Ну, знаете, — Долина Иосафата, из которой всех, кроме клиента, черти уносят, а на исходе Судного дня Господь Бог самолично объявляет его святым, и даже с подобострастием. Некоторые (но это снобизм кретинов) домогаются, чтобы под конец Господь предложил им поменяться с ним местами. Это, знаете ли, ребячество. Американцы к нему особенно склонны. Разные там вырваторы, бияльни, — он с отвращением помахал толстым каталогом, — что за убожество! Ближние — это вам не бубен какой-нибудь, это инструмент деликатный!
— Погодите, — сказал я, проглотив очередную таблетку трынтравинила, — так что же вы, собственно, проектируете?
Он горделиво усмехнулся:
— Безбит-композиции.
— А биты — единицы информации?
— Нет, господин Тихий. Единицы битья. В своих композициях я принципиально ими не пользуюсь. Мои проекты измеряются в бедах. Один бед — это количество горя, которое ощущает pater familias,[32] когда семью из шести душ приканчивают у него на глазах. По этой шкале Всевышний огорошил Иова трехбедкой, а Содом и Гоморра были Господними сорокабедами. Но довольно цифр. Ведь я, по сути, художник и творю на совершенно девственной почве. Теорию добра развивали толпы мыслителей, теории зла почти никто не касался — из ложного стыда, а в результате ее прибрали к рукам недоумки и неучи. Мнение, будто можно злодействовать искусно, изобретательно, тонко и хитроумно без тренировки, навыков, вдохновения, без глубоких познаний, — в корне ошибочно. Тут мало инквизитуры, тиранистики, обеих биелогий; все это лишь введение в проблему как таковую. Впрочем, универсальных рецептов нет — suum malum cuique![33]
— И много у вас клиентов?
— Все без исключения — наши клиенты. Начинается это с детства. Ребятишкам дают отцебийственные леденцы для разрядки враждебных эмоций. Отец, как вы знаете, — источник запретов и норм. Даем детям фрейдилки, и эдипова комплекса как не бывало!
Я вышел от него, израсходовав трынтравинил до последней таблетки. Вот оно, значит, что. Ну и общество! Не оттого ли они так задыхаются? Я окружен чудовищами.
30. IХ.2039.
Не знаю, как вести себя с Симингтоном, но наши отношения прежними оставаться не могут. Эйлин мне посоветовала:
— А ты закажи себе его упадлинку! Я тебе подарю, хочешь?
Другими словами, она предлагала заказать в «Прокрустикс» сцену моего триумфа над Симингтоном, где он валялся бы у меня в ногах и признавался, что сам он, его фирма и его ремесло — омерзительны. Но я не могу прибегнуть к методу Симингтона, чтобы на Симингтоне отыграться! Эйлин этого не понять. Что-то разладилось между нами. От тетки она вернулась, став плотнее и ниже ростом, только шея заметно вытянулась. Бог с ним, с телом, душа гораздо важнее, как говорил этот монстр.
Как мало я понимал в мире, в котором обречен жить! Теперь я вижу многое, чего раньше не замечал. Я уже понимаю, что делал в патио мой сосед, так называемый стигматик; я знаю: если на светском приеме мой собеседник, извинившись, тактично удаляется в угол и нюхает там свое зелье, не отрывая от меня взгляда, то мой безукоризненно точный образ погружается в пекло его разъяренной фантазии! И так поступают особы из высших химиократических сфер! А я этих гадостей не замечал, ослепленный изысканной вежливостью!
Подкрепившись ложкой геркуледина на сахаре, я поломал все бонбоньерки, вдребезги разбил ампулы, пузырьки, флаконы, пилюльницы, которые надарила мне Эйлин. Теперь я готов на все. Временами меня охватывает такая ярость, что я прямо жажду визита какого-нибудь интерферента — вот на нем бы я отыгрался! Рассудок подсказывает, что я мог бы и сам все устроить, а не ждать с дубиной в руках — купить, например, надуванца. Но если уж покупать манекен, то почему бы не дамекен? Если же дамекен — почему бы не человенца? А если, сто чертей побери, человенца — почему бы не заказать у Гопкинса, в филиале «Прокрустикс инк.», подходящую кару, не наслать какой-нибудь дождь из серы, смолы и огня на этот чудовищный мир? В том-то и закавыка, что не могу. Я все должен сам, все сам — сам! Ужасно.
1. Х.2039.
Сегодня дело дошло до разрыва. Она показала мне две пилюли, белую и черную, — чтобы я посоветовал, какую ей принять. Значит, даже такой, сугубо интимный вопрос она не могла решить естественным образом, без психимикатов! Я вспылил, началась ссора, а Эйлин еще подлила масла в огонь, приняв скандалол. Она заявила, будто я, идя на свидание, наглотался оскорбиновой кислоты (так она и сказала). То были тягостные минуты, но я остался верен себе.
Отныне буду есть только дома и лишь то, что сам приготовлю. Никаких снов, никакого парадизина, долой аллилулоидное желе. Гедонизаторы я разбил — все до единого. Ни протестол, ни возразин мне не нужен. В окно заглядывает большая птица с печальным взглядом, очень странная — на колесиках. Компьютер говорит, педеролла.
2. Х.2039.
Почти не выхожу из дому. Поглощаю труды по истории и математике. Иногда включаю ревизор. Но и тогда мое естество бунтует против всего окружающего. Вчера, например, решил покрутить регулятор солидности, то есть собственного веса изображения, чтобы сделать его поплотнее и поувесистее. Стол диктора треснул под тяжестью текста вечерних известий, а сам он провалился сквозь пол студии. Разумеется, эти эффекты наблюдались у меня одного, последствий никаких не имели и лишь свидетельствовали о состоянии моих нервов.
К тому же раздражает меня в ревидении юморок, шуточки, нынешние комедийные трюки. «Нет спасенья без пилюль, говорил святой Илюль». Какая пошлость! Одни названия передач чего стоят… Например, «С надуванкой на эротоцикле» — криминальная драма, которая начинается с того, что в темном бистро сидит компания роботрясов. Я выключил — был уже сыт по горло. Но что с того, если у соседей гремел по другому каналу новейший шлягер (но где же мой канал? где?!): «В ридикюлях у фемин распустин и нимфомин». Неужели и в XXI веке нельзя изолировать живальню как следует?!
Сегодня мне опять захотелось покрутить солидатор ревизора; в конце концов я сломал его. Нужно взять себя в руки и что-то решить. Но что? Все меня раздражает, малейший пустяк, даже почта — предложение того бюро на углу выставить свою кандидатуру на Нобелевскую премию, обещают устроить в первую очередь, как гостю из тяжелого прошлого. Ей-богу, я лопну от злости! Кроме шуток! Подозрительная листовка с рекламой «тайных пилюль, которых нет в обычной продаже». Страшно подумать, для чего они предназначены. Листовка с советом избегать спекулянтов — торговцев запрещенным снивом. И тут же — призыв не смотреть стихийные, неуправляемые сны; это, мол, разбазаривание нервной энергии. Какая забота о гражданах! Заказал себе сниво из Столетней войны: проснулся — все тело в сняках.
3. X.2039.
По-прежнему веду одинокую жизнь. Сегодня, просматривая ежеквартальник «Родная бустория» (я только что на него подписался), с изумлением наткнулся на имя профессора Троттельрайнера. Опять пробудились мои наихудшие опасения. А вдруг все, что я вижу и чувствую, — непрерывная цепь фантомов и миражей? В принципе это возможно. Разве «Психоматикс» не расхваливает слоистые пилюли (стратилки), вызывающие многослойные видения? Кого-то, к примеру, увлек сюжет «Наполеон под Маренго»; сражение выиграно, но к яви жаль возвращаться, и здесь же, на поле битвы, маршал Ней или кто там еще из старой гвардии преподносит ему на серебряном блюде другую пилюлю — иллюзорную, конечно, но это не важно, — главное, она открывает ворота в очередную галлюцинацию ad libitum.[34] Гордиевы узлы я привык разрубать сам; поэтому, проглотив телефонную книгу, чтоб узнать номер, я позвонил Троттельрайнеру. Это он! Встретимся за ужином.
З.Х.2039. Три часа ночи. Пишу смертельно усталый, с поседевшей душой. Профессор опаздывал, пришлось его ждать. В ресторан он пришел пешком. Я узнал его издали, хотя теперь он гораздо моложе, чем в прошлом веке, и к тому же не носит ни зонта, ни очков. Увидев меня, он, похоже, растрогался.
— Вы, я вижу, не на машине? — спросил я. — Что, автобрык? (Самовзбрыкивание автомобиля, это случается.)
— Нет, — ответил профессор. — Я уж лучше per pedes apostolorum…[35] — Но как-то странно усмехнулся при этом.
Когда кельпьютеры отошли, я стал расспрашивать, чем он занимается, — и сразу проговорился о своих подозрениях насчет галлюцинаций.
— Да что вы, Тихий, ей-богу! Какие галлюцинации? — возмутился профессор. — Так и я мог бы подозревать, что вы мне мерещитесь. Вас заморозили? Меня тоже. Вас разморозили? И меня разморозили. Меня еще, правда, омолодили, ну, реювенил, десенилизин, вам это ни к чему, а я, если бы не основательное омоложение, не мог бы работать бусториком.
— Футурологом?
— Теперь это слово означает нечто иное. Футуролог готовит будильники, то есть прогнозы, а я занимаюсь теорией. Дело совершенно новое, в нашу с вами эпоху неизвестное. Что-то вроде языкового предсказания будущего — лингвистическая прогностика!
— Не слышал. И в чем же она состоит?
Я спрашивал больше из вежливости, но он этого не заметил. Кельпьютеры принесли нам заказ. К супу подали шабли урожая 1997 года. Хорошая марка, я ее потому и выбрал, что очень люблю.
— Лингвистическая футурология изучает грядущее, исходя из трансформационных возможностей языка, — объяснил Троттельрайнер.
— Не понимаю.
— Человек в состоянии овладеть только тем, что может понять, а понять он может только то, что выражено словами. Не выраженное словами ему недоступно. Исследуя этапы будущей эволюции языка, мы узнаем, какие открытия, перевороты, изменения нравов язык сможет когда-нибудь отразить.
— Очень странно. А на практике как это выглядит?
— Исследования ведутся при помощи самых больших компьютеров: человек не может перепробовать все варианты. Дело, главным образом, в вариативности языка — синтагматически-парадигматической, но квантованной…
— Профессор!
— Извините. Шабли, скажу я вам, превосходное. Легче всего это понять на примерах. Дайте, пожалуйста, какое-нибудь слово.
— Я.
— Как? «Я»? Гм-м… Я. Хорошо. Мне придется в некотором роде заменять собою компьютер, так что я упрощу процедуру. Итак: Я — явь. Ты — тывь. Мы — мывь. Видите?
— Ничего я не вижу.
— Ну, как же? Речь идет о слиянии яви с тывью, то есть о парном сознании, это во-первых. Во-вторых, мывь. Чрезвычайно любопытно. Это ведь множественное сознание. Ну, к примеру, при сильном расщеплении личности. А теперь еще какое-нибудь слово.
— Нога.
— Прекрасно. Что мы извлечем из ноги? Ногатор. Ноголь или гоголь-ноголь. Ногер, ногиня, ноглеть и ножиться. Разножение. Изноженный. Но-о-гом! Ногола! Ногнем? Ногист. Вот видите, кое-что получилось. Ногист. Ногистика.
— Но что это значит? Ведь эти слова не имеют смысла?
— Пока не имеют, но будут иметь. То есть могут получить смысл, если ногистика и ногизм привьются. Слово «робот» ничего не значило в XV веке, а будь у них языковая футурология, они, глядишь, и додумались бы до автоматов.
— Так что такое ногист?
— Видите ли, как раз тут я могу ответить наверняка, но лишь потому, что речь идет не о будущем, а о настоящем. Ногизм — новейшая концепция, новое направление автоэволюции человека, так называемого homo sapiens monopedes.
— Одноногого?
— Вот именно. Потому что ходьба становится анахронизмом, а свободного места все меньше и меньше.
— Но это же чепуха!
— Согласен. Однако такие знаменитости, как профессор Хацелькляцер и Фешбин, — ногисты. Вы не знали об этом, предлагая мне слово «нога», не так ли?
— Нет. А что значат другие ваши словечки?
— Вот это пока неизвестно. Если ногизм победит, появятся и такие объекты, как ноголь, ногиня и прочее. Ведь я, дорогой коллега, не занимаюсь пророчествами, я изучаю возможности в чистом виде. Дайте-ка еще слово.
— Интерферент.
— Отлично. Интер и феро, fero, ferre, tuli, latum.[36] Раз слово заимствовано из латыни, в латыни и следует искать варианты. Flos, floris. Интерфлорентка. Пожалуйста — это девушка, у которой ребенок от интерферента, отнявшего у нее венок.
— Венок-то откуда взялся?
— Flos, floris — цветок. Лишение девичества — дефлорация. Наверное, будут говорить «ревиденец» — ревизионно зачатый младенец. Уверяю вас, мы уже собрали интереснейший материал. Взять хотя бы проституанту — от конституанты, — да тут открывается целый мир будущей нравственности!
— Вы, я вижу, энтузиаст этой новой науки. А может, попробуем еще одно слово? Мусор.
— Почему бы и нет? Ничего, что вы такой скептик. Пожалуйста. Итак… мусор. Гм-м… Намусорить. Астрономически много мусора — космусор. Мусороздание. Мусороздание! Весьма любопытно. Вы превосходно выбираете слова, господин Тихий! Подумать только, мусороздание!
— А что тут такого? Это же ничего не значит.
— Во-первых, теперь говорят: не фармачит. «Не значит» — анахронизм. Вы, я заметил, избегаете новых слов. Нехорошо! Мы еще потолкуем об этом. А во-вторых: мусороздание пока ничего не значит, но можно догадываться о его будущем смысле! Речь, знаете ли, идет ни больше ни меньше, как о новой космологической теории. Да, да! О том, что звезды — искусственного происхождения!
— А это откуда следует?
— Из слова «мусороздание». Оно означает, точнее, заставляет предположить такую картину: за миллиарды лет мироздание заполнилось мусором — отходами жизнедеятельности цивилизаций. Девать его было некуда, а он мешал астрономическим наблюдениям и космическим путешествиям; так что пришлось развести костры, большие и очень жаркие, чтобы весь этот мусор сжигать, понимаете? Они обладают, конечно, изрядной массой и поэтому сами притягивают космусор; постепенно пустота очищается, и вот мы имеем звезды, те самые космические костры, и темные туманности — еще не убранный хлам.
— Вы это что, серьезно? Серьезно допускаете такую возможность? Вселенная как всесожжение мусора?
— Дело не в том, Тихий, допускаю я или нет. Просто, благодаря лингвистической футурологии, мы создали новый вариант космогонии для будущих поколений! Неизвестно, примет ли его кто-нибудь всерьез; несомненно одно: такую гипотезу можно словесно выразить! Обратите внимание: если бы в двадцатом веке существовала языковая экстраполяция, можно было бы предсказать бумбы — вы их, я думаю, помните! — образовав это слово от бомб. Возможности языка, господин Тихий, колоссальны, хотя и небезграничны. Например, «утопиться»: представив, что это слово восходит к «утопии», вы поймете, почему так много футурологов-пессимистов!
Наконец речь зашла о том, что гораздо больше меня занимало. Я рассказал ему о своих опасениях и своем отвращении к новой цивилизации. Он возмутился, но слушал внимательно и — добрая душа! — посочувствовал мне. Он даже потянулся к жилетному карманчику за сострадалолом, но остановился, вспомнив о моей неприязни к психимикатам. Однако, когда я договорил, лицо его приняло строгое выражение.
— Плохи ваши дела, Тихий. Ваши жалобы не затрагивают сути вещей. Она вам попросту неизвестна. Вы даже не догадываетесь о самом главном. По сравнению с этим «Прокрустикс» и вся остальная псивилизация — мелочь!
Я не верил своим ушам.
— Но… но… — заикался я. — Что вы такое говорите, профессор? Что может быть еще хуже?
Он наклонился ко мне через столик:
— Тихий, я открою вам профессиональную тайну. О том, на что вы сейчас жаловались, знает каждый ребенок. Развитие и не могло пойти по другому пути с тех пор, как на смену наркотикам и прагаллюциногенам пришли так называемые психолокализаторы с высокой избирательностью воздействия. Но настоящий переворот совершился лишь четверть века назад, когда удалось синтезировать масконы, или пуантогены, — то есть точечные галлюциногены. Наркотики не изолируют от мира, а только изменяют его восприятие. Галлюциногены заслоняют собою весь мир, в этом вы убедились сами. Масконы же мир подделывают!
— Масконы… масконы… — повторил я за ним. — Знакомое слово. А-а, концентрации массы под лунной корой, глубинные скопления минералов? Но что у них общего?..
— Ничего. Теперь это слово значит — то есть фармачит — нечто совершенно иное. Оно образовано от «маски». Введя в мозг масконы определенного рода, можно заслонить любой реальный объект иллюзорным — так искусно, что замаскированное лицо не узнает, какие из окружающих предметов реальны, а какие — всего лишь фантом. Если бы вы хоть на миг увидели мир, в котором живете на самом деле — а не этот, припудренный и нарумяненный масконами, — вы бы слетели со стула!
— Погодите. Какой еще мир? И где он? Где его можно увидеть?
— Где угодно — хоть здесь! — выдохнул он мне в самое ухо, озираясь по сторонам. Он придвинулся ближе и, протягивая мне под столом стеклянный флакончик с притертой пробкой, доверительно прошептал: — Это очухан, из группы отрезвинов, сильнейшее противопсихимическое средство, нитропакостная производная омерзина. Даже иметь его при себе, не говоря уж о прочем, — тягчайшее преступление! Откройте флакон под столом и вдохните носом, один только раз, не больше, как аммиак. Ну, как нюхательные соли. Но потом… Ради всего святого! Помните: нельзя терять голову!
Трясущимися руками я отвернул пробку и едва вдохнул резкий миндальный запах, как профессор отнял у меня флакон. Крупные слезы выступили на глазах: я смахнул их кончиками пальцев и остолбенел. Великолепный, покрытый паласами зал, со множеством пальм, со столами, заставленными хрусталем, с майоликовыми стенами и скрытым от глаз оркестром, под музыку которого мы смаковали жаркое, — исчез. Мы сидели в бетонированном бункере, за грубым деревянным столом, под ногами лежала потрепанная соломенная циновка. Музыка звучала по-прежнему — из репродуктора, который висел на ржавой проволоке. Вместо сверкающих хрусталем люстр — голые, запыленные лампочки. Но самое ужасное превращение произошло на столе. Белоснежная скатерть исчезла; серебряное блюдо с запеченной в гренках куропаткой обернулось дешевой тарелкой с серо-коричневым месивом, прилипавшим к алюминиевой вилке, — потому что старинное серебро столовых приборов тоже погасло. В оцепенении смотрел я на эту гадость, которую только что с удовольствием разделывал, наслаждаясь хрустом подрумяненной корочки, который, как в контрапункте, прерывался более низким похрустыванием разрезаемой гренки — сверху отлично подсушенной, снизу пропитанной соусом. Ветви пальмы, стоявшей неподалеку, оказались тесемками от кальсон: какой-то субъект сидел в компании трех приятелей прямо над нами — не на антресоли, а скорее на полке, настолько она была узка. Давка здесь царила невероятная!
Я боялся, что глаза у меня вылезут из орбит, но ужасающее видение дрогнуло и стало опять расплываться, словно по волшебству. Тесемки над моей головой зазеленели и снова покрылись листьями, помойное ведро, смердящее за версту, превратилось в резную цветочную кадку, грязный стол заискрился белоснежной скатертью. Засверкали хрустальные рюмки, серое месиво вернуло себе утонченные оттенки жаркого; где положено, выросли у него ножки и крылышки; старинным серебром заблестел алюминий, фраки официантов снова замелькали вокруг. Я посмотрел под ноги — солома обернулась персидским ковром, и я, опять окруженный роскошью, уставился на румяную грудку куропатки, тяжело дыша, не в силах забыть того, что за нею скрывалось…
— Вот теперь вы начинаете разбираться в действительности, — доверительно шептал Троттельрайнер; при этом он заглядывал мне в глаза, как будто опасался слишком бурной реакции. — А ведь мы, заметьте, находимся в заведении экстракласса! Хорошо еще, что я заранее это предусмотрел; в другом ресторане у вас бы просто помрачился рассудок!
— Как? Значит… есть… еще отвратительнее?
— Да.
— Не может быть.
— Уверяю вас. Здесь хоть настоящие стулья, столы, тарелки и вилки, а там мы лежали бы на многоярусных нарах и ели руками из чанов, подвозимых конвейером. То, что скрывается под маскою куропатки, там еще несъедобнее.
— Что же это?!
— Да нет, Тихий, не отрава какая-нибудь. Это концентрат из травы и кормовой свеклы, вымоченный в хлорированной воде и смешанный с рыбной мукой; обычно туда добавляют витамины и костный клей и все это сдабривают смазочным маслом, чтоб не застряло в горле. Вы не почувствовали запаха?
— Почувствовал! Очень даже почувствовал!!!
— Вот видите.
— Ради Бога, профессор… что это? Ответьте, заклинаю вас! Обман? План истребления всего человечества? Дьявольский заговор?
— Да что вы, Тихий. Дьявол тут ни при чем. Это попросту мир, в котором живут двадцать с лишним миллиардов людей. Вы читали сегодня «Геральд»? Пакистанское правительство утверждает, что от голода в этом году погибло лишь 970 тысяч человек, а оппозиция — что шесть миллионов. Откуда возьмутся в таком мире шабли, куропатки, закуски в соусе беарнэ? Последние куропатки вымерли четверть века назад. Наш мир — давно уже труп, прекрасно сохранившийся, поскольку его все искуснее мумифицируют. В маскировке мы добились немалых успехов.
— Погодите! Дайте собраться с мыслями… Так это значит, что…
— Что никто не желает вам зла, напротив — как раз из жалости, из соображений высшей гуманности выдуман химический блеф, камуфляж, расцвечивание беспросветной реальности…
— Выходит, это жульничество повсюду?
— Увы.
— Но я не обедаю в городе, я готовлю все сам, так как же, когда же?..
— Как распространяют масконы? И вы еще спрашиваете? Они постоянно распыляются в воздухе. Помните костариканские аэрозоли? То были первые робкие попытки, все равно что монгольфьер по сравнению с ракетой.
— И все знают об этом? И живут как ни в чем не бывало?
— Ничего подобного. Об этом не знает никто.
— И ни слухов, ни разговоров?
— Слухи есть всегда и везде. Не забывайте, однако, об амнестане. Есть то, что известно каждому, и то, что никому не известно. Фармакократия имеет явную и скрытую часть; скрытая гораздо важнее.
— Не может быть.
— О! Почему же?
— Да ведь кто-то должен постелить эти циновки, изготовить тарелки, из которых мы на самом деле едим, и сварить это месиво, подделывающееся под куропатку! И все, все!
— Ну, конечно. Все должно быть изготовлено, но что из того?
— Те, кто занимается этим, видят и знают!
— Не обязательно. Вы все еще мыслите допотопными категориями. Люди думают, что идут на стеклянную фабрику-оранжерею; у проходной получают противогаллюцин и замечают голые бетонные стены.
— И все же работают?
— Приняв дозу сакрофицина — с огромным энтузиазмом. Труд становится для них высшей целью, священным долгом; после смены — глоток амнестана или мемнолизина, и все увиденное забывается напрочь!
— До сих пор я боялся, что живу среди призраков, но теперь понимаю, каким я был дураком! Боже, как я хочу вернуться! За это я все бы отдал!
— Вернуться? Куда?
— В канал под отелем «Хилтон».
— Чушь. Вы ведете себя безрассудно, чтобы не сказать глупо. Будьте как все, ешьте и пейте, как остальные, и вы получите необходимые дозы оптимистана, серафинола и будете в превосходнейшем настроении.
— Значит, вы тоже адвокат дьявола?
— Будьте благоразумны. Что дьявольского в том, что врач обманывает больного для его же пользы? Раз уж мы вынуждены так жить, есть и пить — лучше видеть все это в розовом свете. Масконы действуют безотказно, за одним-единственным исключением, так что в них плохого?
— Я не в силах вам возражать, — уже спокойнее сказал я. — Только ответьте, пожалуйста, мне как старинному другу: о каком исключении в действии масконов вы говорили? И как дошло до всеобщего разоружения? Или это тоже мираж?
— Нет, оно, слава Богу, совершенно реально. Но чтобы все это объяснить, пришлось бы прочесть целую лекцию, а мне пора идти.
Мы договорились встретиться завтра; на прощание я опять спросил об изъяне масконов.
— Сходите-ка в Луна-парк, — ответил профессор вставая. — Если вам хочется неприятных сюрпризов, сядьте на гигантскую карусель, а когда она разгонится до предела, продырявьте ножиком стенку кабины. Кабина как раз затем и нужна, что фантазиды, которыми маскон заслоняет реальность, при вращении перемещаются — словно центробежная сила срывает с ваших глаз шоры… Вы увидите, что появится тогда вместо дивных иллюзий…
Я пишу это ночью, в четвертом часу, совершенно убитый. Что еще могу я добавить? Не бежать ли от псивилизации куда-нибудь в дикую глушь? Даже Галактика больше не манит меня, как не манят нас путешествия, если некуда из них возвратиться.
5. X.2039.
Все свободное утро бродил по городу. Едва скрывая свой ужас, смотрел на всеобщую роскошь и великолепие. Картинная галерея в Манхэттене предлагает за бесценок мебель в стиле рококо, мраморные камины, троны, зеркала, сарацинские доспехи. Кругом всевозможные аукционы — дома дешевле грибов. А я-то думал, будто живу в раю, где каждый может позволить себе «подворцовать»!
Бюро регистрации самозваных кандидатов в нобелевские лауреаты на Пятой авеню открыло передо мной свое истинное лицо: премию может получить кто угодно, и кто угодно может увешать квартиру шедеврами живописи, если и то и другое — просто щепотка воздействующего на мозг порошка! Но самое коварное вот что: каждый знает о некоторой части коллективных галлюцинаций и поэтому верит, будто можно отграничить иллюзорный мир от реального. Различие между искусственным и естественным чувством стерлось; непроизвольно никто ни на что не реагирует — учась, любя, бунтуя и забывая химически.
Я шел по улице, сжимая кулаки в карманах. О, мне не нужен был амокомин и фуриазол, чтобы прийти в бешенство! По-охотничьи обостренным чутьем я отыскивал все пустоты в этом монументальном жульничестве, в этой декорации, уходящей за горизонт. Детям дают отцебийственный сиропчик, потом, для развития личности, бунтомид и протестол, а чтобы обуздать пробужденные ими порывы — субординал и кооперин. Полиции нет — и зачем, если есть криминол? Преступные аппетиты насыщает «Прокрустикс инк.». Хорошо, что я не заглядывал в теоглотеки — я нашел бы в них только наборы вероукрепляющих и душеутоляющих препаратов, фарморалин, грехогон, абсолюцид и так далее, а при помощи сакросанктола можно стать и святым. Впрочем, почему бы не выбрать аллахол с исламином, дзен-окись буддина, мистициновый нирваний или теоконтактол? Эсхатопрепараты, некринная мазь выдвинут тебя в первые ряды праведников в Долине Иосафата, а несколько капель воскресина на сахаре довершат остальное. О Фармадонна! Парадизол для святош, адомин и сатанций для мазохистов… я с трудом сдержался, чтобы не ворваться в попавшееся на пути фармацевтилище, где народ отбивал поклоны, наглотавшись перед тем преклонила, а то, чего доброго, меня угостили бы амнестаном. Ну, уж нет. Только не это!
Я отправился в Луна-парк, вспотевшими пальцами вертя в кармане перочинный нож. Эксперимент не удался — стенка кабины оказалась удивительно твердой, должно быть, из закаленной стали.
Троттельрайнер жил в меблированных комнатах на Пятой авеню. Я пришел вовремя, но профессора не застал; впрочем, он предупредил, что может задержаться, и дал мне хозяйский свисток для дверья. Поэтому я вошел и сел за письменный стол, заваленный научными журналами и рукописями.
От нечего делать — или, скорее, чтобы заглушить тревогу, грызущую меня изнутри, — я заглянул в заметки профессора. «Мусороздание», «ревиденец», «чуждинник», «чуждинница». Ах, так он еще находил время, чтобы записывать термины этой чудной футурологии… «Плодотворня», «вырыванец», «вырыванка». «Рекордительница» — родительница-рекордистка? Ну да, при демографическом взрыве, наверное. Ежесекундно рождалось восемьдесят тысяч детей. Или восемьсот тысяч. Что за разница? «Мыслист», «мыслянт», «мысель», «коренная», или «дышловая», мысль, «мыслина» — «дышлина».
Профессор, ты вот здесь пишешь, а там мир погибает! — чуть было не крикнул я. Под бумагами что-то блеснуло — противогаллюцин, тот самый флакончик. Какую-то долю секунды я колебался, потом, решившись, осторожно вдохнул и огляделся вокруг.
Удивительно: комната почти не изменилась! Книжные шкафы, полки со справочными пилюлями — все осталось как прежде, только огромная голландская печь в углу, наполнявшая комнату матовым блеском своих изразцов, превратилась в так называемую «буржуйку» с прожженной насквозь жестяной трубой, выведенной через дыру в стене; пол возле печки был в черных оспинах. Я быстро, по-воровски, поставил флакон на место — в передней послышался свист, и вошел Троттельрайнер.
Я рассказал ему о Луна-парке. Он удивился, попросил показать ножик, покачал головой, взял флакон со стола, понюхал, а потом дал понюхать мне. Вместо ножа у меня в руках оказалась трухлявая веточка. Я поднял глаза на профессора — он как-то сник, выглядел куда менее уверенным в себе, чем накануне, Троттельрайнер положил на письменный стол папку, распухшую от реферативных леденцов, и вздохнул.
— Тихий, — сказал он, — поймите: экспансия масконов не вызвана чьим-то коварством…
— Какая еще экспансия?
— Многие вещи, реальные год или месяц назад, приходится заменять миражами, по мере того как подлинные становятся недоступными, — объяснил он, явно озабоченный чем-то другим. — На этой карусели я катался месяца три назад, но не поручусь, что она еще там стоит. Может быть, вместе с билетом вы получаете порцию карусельного пара (лунапаркина) из распылителя; это было бы, впрочем, гораздо экономичнее.
Да, да, Тихий, сфера реального тает с невиданной быстротой. Прежде чем поселиться тут, я остановился в новом «Хилтоне», но, признаюсь, не смог там жить. Вдохнув по рассеянности очухан, я увидел себя в каморке размерами с большой ящик, нос мой упирался в кормушку, под ребра давил водопроводный кран, а ноги касались изголовья кровати в соседнем ящике, то бишь апартаментах — меня поселили в номере на восьмом этаже, за 90 долларов в сутки. Места, обыкновенного места катастрофически не хватает! Проводятся опыты с псивидимками — психимическими невидимками; но результаты не обнадеживают. Если маскировать огромные толпы на улице, выделяя лишь отдельных прохожих вдалеке, получится всеобщая давка; тут наука пока бессильна.
— Профессор, я заглянул в ваши заметки. Прошу прощения, но что это? — Я указал на листок бумаги со словами «мультишизол», «уплотнитель множелина».
— А, это… Видите ли, существует план, или, скорее, идея, хинтернизации (по имени автора, Эгоберта Хинтерна) — восполнять нехватку внешнего пространства иллюзорным внутренним, то есть пространством души, метраж которой физическим ограничениям не подлежит. Вам, должно быть, известно, что благодаря различным зооформинам можно на время стать — то есть почувствовать себя — черепахой, муравьем, божьей коровкой и даже жасмином (при помощи инфлоризирующего преботанида). Можно расщеплять свою личность на две, три, четыре и больше частей, а если дойти до двузначных цифр, наблюдается феномен уплотнения яви: тут уж не явь, а мывь, множество «я» в единой плоти. Есть еще усилители яви, интенсифицирующие внутреннюю жизнь до такой степени, что она становится реальнее внешней.
Таков ныне мир, таковы времена, коллега! Omnis est Pillula.[37] Фармакопея теперь — Книга судеб, альфа и омега, энциклопедия бытия; никаких переворотов не ожидается, раз уж есть бунтомид, оппозиционал в глицириновых свечах и экстремин, а доктор Гопкинс рекламирует содомастол и гоморроетки — можно спалить небесным огнем столько городов, сколько душе угодно. Должность Господа Бога тоже вполне доступна, цена ей семьдесят пять центов.
— А еще появилось такое искусство — зудожество, — заметил я. — Я слышал… нет, осязал «Скерцо» Уаскотиана. Не скажу, чтобы оно доставило мне эстетическое наслаждение. Я смеялся в самых серьезных местах.
— Да, это все не для нас, мерзлянтропов, потерпевших крушенье во времени, — меланхолически подтвердил Троттельрайнер. Словно бы что-то преодолев в себе, он откашлялся, посмотрел мне в глаза и сказал: — Как раз сейчас, Тихий, начинается конгресс футурологов, иначе говоря, дискуссия о бустории человечества. Это LXXVI Всемирный съезд; сегодня я был на первом заседании оргкомитета и хочу поделиться впечатлениями…
— Странно! Я читаю газеты довольно внимательно — нигде ни строчки об этом конгрессе…
— Потому что он тайный. Вам понятно, я думаю: ведь среди прочих будут обсуждаться проблемы химаскировки!
— И что? Дело плохо?
— Ужасно! — произнес профессор с нажимом. — Хуже и быть не может!
— А вчера вы пели другие песни, — заметил я.
— Верно. Но учтите, пожалуйста, мое положение — я только сейчас знакомлюсь с последними результатами исследований. То, что я слышал сегодня… это, знаете ли… впрочем, сами можете убедиться.
Он достал из папки целую связку информационных леденцов — их палочки были перевязаны разноцветными ленточками — и протянул ее мне через стол.
— Прежде чем вы это пролижете, я вам кое-что объясню. Фармакократия — это психимиократия, основанная на жирократии. Вот девиз Новой эры. А проще сказать — всевластию галлюциногенов сопутствует подкуп. Впрочем, иначе не видать бы нам всеобщего разоружения.
— Наконец-то я узнаю, как это случилось!
— Да очень просто. Подкуп нужен либо для сбыта неходовых товаров, либо для приобретения дефицитных. Товаром, впрочем, могут быть и услуги. Мечта бизнесмена — загребать наличные, ничего не давая взамен. Вполне вероятно, что начало реализу положили аферы киберрастратчиков, — вы, наверно, о них слышали.
— Слышал, но что такое реализ?
— Буквально — растворение, то есть исчезновение, реальности. Когда разразился скандал с киберрастратами, все свалили на цифровые машины. На самом же деле тут были замешаны могущественные консорциумы и тайные картели. Видите ли, речь шла о создании на планетах условий, пригодных для жизни, — актуальнейшая проблема в эпоху перенаселения! Предстояло построить огромные ракетные флотилии, изменить климат, преобразовать атмосферы Сатурна и Урана; легче всего было делать это на бумаге — и только.
— Позвольте, но это сразу же бы обнаружилось! — удивился я.
— Ничего подобного. По ходу дела появляются объективные трудности, непредвиденные проблемы, помехи, препятствия, запрашиваются новые ассигнования и кредиты. Проект освоения Урана, к примеру, поглотил уже девятьсот восемьдесят миллиардов, между тем неизвестно, сдвинули там хоть камешек или нет.
— А проверочные комиссии?
— Не составлять же комиссии из космонавтов, а неподготовленный человек высадиться на этих планетах не может. Поэтому уполномоченные изучают документы, фотоснимки, статистику. Но отчетность нетрудно подделать, а еще проще прибегнуть к масконам.
— Ага!
— Вот именно. Как раз таким образом, я полагаю, и началась в свое время имитация вооружений. Ведь фирмы, работающие на войну, являются частной собственностью. Они получали миллиарды и ничего не делали; то есть выпускали, конечно, лазерные пушки, ракетные установки, противопротиво-противо-противоракеты (в арсеналах уже шестое их поколение), летающие танки (летанки), — но все это пуантогенное.
— Извините, какое?
— Иллюзорное, дорогой мой. К чему ядерные испытания, если имеются микопастилки?
— То есть?..
— Пастилки, вызывающие видение атомного гриба. Это была цепная реакция. Зачем муштровать солдат? Дать новобранцам милитаблетки, и дело с концом. Офицерский корпус обучать тоже не стоит — для чего тогда стратегин, генералозол, тактидон, ордерол? «Проглоти, запей водицей — превзойдешь Клаузевица». Слышали?
— Нет.
— Потому что эти препараты секретные; во всяком случае, в продажу не поступают. Десанты высаживать тоже нет смысла: достаточно распылить над мятежной страной десантный маскон, и население воочию увидит парашютистов, морскую пехоту и танки. Реальный танк стоит почти миллион, а иллюзорный обходится в сотую долю цента на зрителя; это так называемая зрительская танкоединица. Броненосец обходится в четверть цента. Весь арсенал Соединенных Штатов уместился бы на грузовике. Танконы, кадавроны, бомбоны — твердые, жидкие, газообразные. Говорят, существуют целые нашествия марсиан — в виде обыкновенного порошка.
— И все это масконы?
— А как же! Так что реальная армия оказалась ненужной. Осталось чуть-чуть авиации, да и то не уверен. Зачем? Процесс шел лавинообразно, понимаете? Остановить его было нельзя. Вот и вся тайна разоружения. Впрочем, не только разоружения. Вы видели последние модели «кадиллака», «доджа» и «шевроле»?
— Видел — очень красивые.
Профессор подал мне флакончик.
— Пожалуйста, подойдите к окну и присмотритесь внимательнее к этим роскошным автомобилям.
Я перегнулся через подоконник. В глубоком ущелье улицы, вид на которую открывался с двенадцатого этажа, неслась река новеньких, с иголочки, автомашин, сверкающих на солнце стеклами и лаком крыш. Я поднес открытый флакончик к носу и зажмурился; когда я снова открыл глаза, то увидел удивительную картину. По мостовой, согнув руки в локтях, как дети, играющие в шоферов, колоннами галопировали бизнесмены. Они торопливо перебирали ногами, откинувшись назад, словно на мягкую спинку сиденья. Лишь изредка в их рядах появлялся одинокий автомобиль, окруженный облаком выхлопных газов. Когда действие препарата кончилось, картина покрылась рябью, сквозь которую там, внизу, я опять увидел сверкающий поток, лакированные крыши, белые, изумрудные и желтые, величественно плывущие по Манхэттену.
— Кошмар! — ошеломленно произнес я. — Тем не менее pax urbi et orbi[38] достигнут, так что все это, может быть, окупилось?
— Разумеется, тут есть и свои плюсы. Число инфарктов заметно снизилось, такие пробежки — прекрасная тренировка. Правда, стало больше больных эмфиземой легких, расширением вен и сердца. Не каждый рождается марафонцем.
— Так вот почему у вас нет машины! — догадался я.
Профессор лишь криво усмехнулся.
— Среднего класса машина стоит теперь каких-нибудь четыреста пятьдесят долларов, — сказал Троттельрайнер, — но, учитывая ее себестоимость (около одной восьмой цента), это, пожалуй, дороговато. Людей, которые производят хоть что-то реальное, все меньше и меньше. Композитор, получив гонорар, дает взятку заказчику, а публике, пришедшей в филармонию на премьеру, подсовывают под нос концертозольный мелотропин.
— Это, конечно, безнравственно, — заметил я, — но так ли уж вредно для общества?
— Пока еще — нет. Впрочем, смотря как оценивать. Благодаря трансмутину вы можете иметь роман с козой и быть в убеждении, что перед вами Венера Милосская; научные доклады и совещания вытесняются конгрессинами и деконгрессинами. Но есть некий жизненный минимум, которого иллюзией не заменишь. Нужно где-то взаправду жить, чем-то дышать и питаться, а реализ пожирает сферы реальной жизни одну за другой. Вдобавок угрожающе быстро растет число побочных явлений, а это вынуждает применять дегаллюцины, неосупермасконы, фиксаторы — с сомнительным результатом.
— Что это такое?
— Дегаллюцины — новые психимикаты, после которых кажется, что ничего не кажется. Сначала ими лечили душевнобольных, но теперь и здоровые люди все чаще начинают сомневаться в реальности окружающего. Амнестан бессилен против фантофантомов, то есть фантомов второго порядка. Понимаете? Ну, если кто-нибудь воображает себе, что воображает себе, будто ничего себе не воображает — или наоборот. Этим в основном и занимается современная психиатрия — ее называют еще многоярусной, или n-этажной. Но хуже всего неомасконы. Видите ли, под влиянием чрезмерных доз психимикатов организм дает сбой. Выпадают волосы, роговеют уши, а то вдруг хвост исчезает…
— Вы хотели сказать — вырастает.
— Да нет, исчезает — хвост есть у всех лет уже тридцать. Побочное следствие орфографина. Мгновенное обучение грамоте дается не даром.
— Не может быть — я бываю на пляже, ни у кого нет хвоста!
— Вы ребенок, ей-богу. Хвосты маскируются антихвостидом, из-за которого в свою очередь чернеют ногти и портятся зубы.
— И это опять-таки маскируется?
— Ну конечно! Масконы вводятся миллиграммами, но в общей сложности на человека приходится около ста девяноста килограммов в год; оно и понятно — нужно имитировать домашнюю утварь, еду и напитки, вежливость ребятишек, предупредительность служащих, научные открытия, полотна Рембрандта, перочинные ножики, заморские путешествия, космические полеты и еще миллион подобных вещей. Если бы не врачебная тайна, стало бы известно, что в Нью-Йорке у каждого второго — плоскостопие, пятнистая кожа, зеленоватая шерсть на спине, на ушах колючки, эмфизема легких и расширение сердца от безустанного галопирования. Все это приходится маскировать — вот почему нужны неосупермасконы.
— Какой ужас! И ничего нельзя сделать?
— Наш конгресс как раз должен обсуждать альтернативы бустории. В кругах экспертов только и разговору что о необходимости коренных перемен. Представлено уже восемнадцать проектов.
— Спасения?
— Если хотите — спасения. Присядьте вот здесь, пожалуйста, и пролижите эти материалы. Но я попрошу вас об одном одолжении. Дело весьма деликатное.
— Буду рад вам помочь.
— Я на это рассчитываю. Видите ли, я получил от знакомого химика пробные дозы двух только что синтезированных веществ из группы очуханов, то есть отрезвинов. Он прислал их утренней почтой и пишет, — Троттельрайнер взял письмо со стола, — что мой очухан — вы его пробовали — не настоящий. Вот, послушайте: «Федеральное управление псипреции (психопреформации) старается отвлечь внимание действиддев от целого ряда кризисных явлений и с этой целью умышленно поставляет им фальшивые противоиллюзионные средства, содержащие неомасконы».
— Я что-то не понимаю. Ведь я сам испытал действие вашего препарата. И что такое действидец?
— Это звание, и очень высокое; я тоже его удостоен. Действидение означает право и возможность пользоваться очуханами — чтобы знать, как все выглядит на самом деле. Кто-то должен быть в курсе, не так ли?
— Пожалуй.
— А что касается того препарата, он, по мнению моего друга, устраняет влияние масконов старого образца, но против новейших бессилен. В таком случае вот это, — профессор поднял флакончик, — не отрезвив, а лжеотрезвин, закамуфлированный маскон, короче, волк в овечьей шкуре!
— Но зачем? Если нужно, чтобы кто-нибудь знал…
— «Нужно» вообще говоря, с точки зрения общества в целом, но не с точки зрения интересов различных политиков, корпораций и даже федеральных агентств. Если дела обстоят хуже, чем кажется нам, действидцам, они предпочитают, чтобы мы не поднимали шума; вот для чего они подделали отрезвин. Так некогда устраивали в мебели ложные тайники — чтобы отвлечь грабителя от настоящих, запрятанных куда как искуснее!
— Ага, теперь понимаю. Чего же вы от меня хотите?
— Чтобы вы, когда будете знакомиться с этими материалами, вдохнули сначала из одной ампулы, а потом из другой. Мне, честно говоря, боязно.
— Только-то? С удовольствием.
Я взял у профессора обе ампулы, уселся в кресло и начал один за другим усваивать присланные на конгресс бусторические доклады.
Первый из них предусматривал оздоровление общественных отношений путем введения в атмосферу тысячи тонн инверсина — препарата, который инвертирует все ощущения на 180 градусов. После этого комфорт, чистота, сытость, красивые вещи станут всем ненавистны, а давка, бедность, убожество и уродство — пределом желаний. Затем действие масконов и неомасконов полностью устраняется.
Только теперь, столкнувшись с укрытой доселе реальностью, общество обретет полноту счастья, увидев воочию все, о чем мечтало. Может быть, поначалу даже придется запустить хужетроны — для снижения уровня жизни. Однако инверсии инвертирует все эмоции, не исключая эротических, что грозит человечеству вымиранием. Поэтому его действие раз в году будет временно, на одни сутки, приостанавливаться с помощью контрпрепарата. В этот день, несомненно, резко подскочит число самоубийств, что, однако, будет возмещено с лихвой через девять месяцев — за счет естественного прироста.
Этот план не привел меня в восхищение. Единственным его достоинством было то, что автор проекта, будучи действидцем, окажется под постоянным воздействием контрпрепарата, а значит, всеобщая нищета, уродство, грязь и монотонность жизни наверняка не доставят ему особой радости.
Второй проект предусматривал растворение в речных и морских водах 10.000 тонн ретротемпорина — реверсора субъективного течения времени. После этого жизнь потекла бы вспять: люди будут приходить на свет стариками, а покидать его новорожденными. Тем самым, подчеркивалось в докладе, устраняется главный изъян человеческой природы — обреченность на старение и смерть. С годами каждый старец все больше молодел бы, набирался сил и здоровья; уйдя с работы, по причине впадения в детство, он жил бы в волшебной стране младенчества.
Гуманность этого плана естественным образом вытекала из присущего младенческим летам неведения о бренности жизни. Правда, вспять направлялось лишь субъективное течение времени, так что в детские сады, ясли и родильные клиники надлежало посылать стариков; в проекте не говорилось определенно об их дальнейшей судьбе, а только упоминалось о возможности терапии в «государственном эвтаназиуме». После этого предыдущий проект показался мне не столь уж плохим.
Третий проект, рассчитанный на долгие годы, был куда радикальней. Он предусматривал эктогенезис, деташизм и всеобщую гомикрию. От человека оставался один только мозг в изящной упаковке из дюропласта, что-то вроде глобуса, снабженного клеммами, вилками и розетками. Обмен веществ предполагалось перевести на ядерный уровень, а принятие пищи, физиологически совершенно излишнее, свелось бы к чистой иллюзии, соответствующим образом программируемой. Головоглобус можно будет подключать к любым конечностям, аппаратам, машинам, транспортным средствам и т. д.
Такая деташизация проходила бы в два этапа. На первом проводится план частичного деташизма: ненужные органы оставляются дома; скажем, собираясь в театр, вы снимаете и вешаете в шкаф подсистемы копуляции и дефекации. В следующей десятилетке намечалось путем гомикрии устранить всеобщую давку — печальное следствие перенаселения. Кабельные и беспроводные каналы межмозговой связи сделали бы излишними поездки и командировки на конференции и совещания и вообще какое-либо передвижение, ибо все без исключения граждане имели бы связь с датчиками по всей ойкумене, вплоть до самых отдаленных планет. Промышленность завалит рынок манипуляторами, педикуляторами, гастропуляторами, а также головороллерами (чем-то вроде рельсов домашней железной дороги, по которым головы смогут катиться сами, ради забавы).
Я прервал чтение — вернее, лизание — рефератов и заметил, что их авторы, должно быть, свихнулись. Суждение слишком поспешное, сухо возразил Троттельрайнер. Каша заварена — нужно ее расхлебывать. С точки зрения здравого смысла историю человечества не понять. Разве Кант, Аверроэс, Сократ, Ньютон, Вольтер поверили бы, что в двадцатом веке бичом городов, отравителем легких, свирепым убийцей, объектом обожествления станет жестянка на четырех колесах, а люди предпочтут погибать в ней, каждую пятницу устремляясь лавиной за город, вместо того чтобы спокойно сидеть дома? Я спросил, какой из проектов он собирается поддержать.
— Пока не знаю, — ответил профессор. — Труднее всего, по-моему, решить проблему тайнят — подпольно рожденных детей. А кроме того, я побаиваюсь химинтриганства.
— То есть?
— Может пройти проект, который получит кредобилиновую поддержку.
— Думаете, вас обработают психимикатами?
— Почему бы и нет? Чего проще — взять и распылить аэрозоль через кондиционер конференц-зала.
— Что бы вы ни решили, общество может с этим не согласиться. Люди не все принимают безропотно.
— Дорогой мой, культура уже полвека не развивается стихийно. В двадцатом веке какой-нибудь там Диор диктовал моду в одежде, а теперь все области жизни развиваются под диктовку. Если конгресс проголосует за деташизм, через несколько лет будет неприлично иметь мягкое, волосатое, потливое тело. Тело приходится мыть, умащивать и прочее, и все-таки оно выходит из строя, тогда как при деташизме можно подключать к себе любые инженерные чудеса. Какая женщина не захочет иметь серебряные фонарики вместо глаз, телескопически выдвигающиеся груди, крылышки, словно у ангела, светоносные икры и пятки, мелодично звенящие на каждом шагу?
— Тогда знаете что? — сказал я. — Бежим! Запасемся едой, кислородом и уйдем в Скалистые горы. Каналы «Хилтона» помните? Разве плохо там было?
— Вы это серьезно? — как бы заколебавшись, переспросил профессор.
Я — видит Бог, машинально! — поднес к носу ампулу, которую все еще держал в руке. Я просто забыл о ней. От резкого запаха слезы выступили на глазах. Я начал чихать, а когда открыл глаза снова, комната совершенно преобразилась. Профессор еще говорил, я слышал его, но, ошеломленный увиденным, ни слова не понимал. Стены почернели от грязи; небо, перед тем голубое, стало иссиня-бурым, оконные стекла были по большей части выбиты, а уцелевшие покрывал толстый слой копоти, исчерченный серыми дождевыми полосками.
Не знаю почему, но особенно меня поразило то, что элегантная папка, в которой профессор принес материалы конгресса, превратилась в заплесневелый мешок. Я застыл, опасаясь поднять глаза на хозяина. Заглянул под письменный стол. Вместо брюк в полоску и профессорских штиблет там торчали два скрещенных протеза. Между проволочными сухожилиями застрял щебень и уличный мусор. Стальной стержень пятки сверкал, отполированный ходьбой. Я застонал.
— Что, голова болит? Может, таблеточку? — дошел до моего сознания сочувственный голос. Я превозмог себя и взглянул на профессора.
Не много осталось у него от лица. На щеках, изъеденных язвами, — обрывки ветхого, гнилого бинта. Разумеется, он по-прежнему был в очках — одно стеклышко треснуло. На шее, из отверстия, оставшегося после трахеотомии, торчал небрежно воткнутый вокодер, он сотрясался в такт голосу. Пиджак висел старой тряпкой на стеллаже, заменявшем грудную клетку; помутневшая пластмассовая пластинка закрывала отверстие в левой его части — там колотился серофиолетовый комочек сердца в рубцах и швах. Левой руки я не видел, правая — в ней он держал карандаш — оказалась латунным протезом, позеленевшим от времени. К лацкану пиджака был наспех приметан клочок полотна с надписью красной тушью: «Мерзляк 119 859/21 транспл. — 5 брак.». Глаза у меня полезли на лоб, а профессор — он вбирал в себя мой ужас, как зеркало, — осекся на полуслове.
— Что?.. Неужели я так изменился? А? — произнес он хрипло.
Не помню, как я вскочил, но уже рвал на себя дверную ручку.
— Тихий! Что вы? Куда же вы, Тихий! Тихий!!! — отчаянно кричал он, с трудом поднимаясь из-за стола. Дверь поддалась, и в этот момент раздался страшный грохот — профессор, потеряв равновесие от резких движений, рухнул и начал распадаться на части, хрустя, как костями, проволочными сочленениями. Этого я никогда не забуду: душераздирающий визг, ножные протезы, скребущие острыми пятками по паркету, серый мешочек сердца, колотящийся за исцарапанной пластмассой. Я несся по коридору, как будто за мной гнались фурии.
Кругом было полно людей — начиналось время ленча. Из контор выходили служащие; оживленно беседуя, они направлялись к лифтам. Я втиснулся в толпу у открытых дверей лифта, но его очень уж долго не было; заглянув в шахту, я понял, почему все тут страдают одышкой. Конец оборванного неизвестно когда каната болтался в воздухе, а пассажиры с обезьяньей ловкостью, видимо, приобретаемой годами, карабкались по сетке ограждения на плоскую крышу, где размещалось кафе, — карабкались как ни в чем не бывало, спокойно беседуя, хотя их лица заливал пот. Я подался назад и побежал вниз по ступенькам, огибавшим шахту с ее терпеливыми восходителями.
Толпы служащих попрежнему валили из всех дверей. Здесь были чуть ли не сплошь одни конторы. За выступом стены светлело открытое настежь окно; остановившись и сделав вид, будто привожу в порядок одежду, я посмотрел вниз. Мне показалось сначала, что на заполненных тротуарах нет ни одного живого существа, — но я просто не узнал прохожих. Их прежний праздничный вид бесследно исчез. Они шли поодиночке и парами, в жалких обносках, нередко в бандажах, перевязанные бумажными бинтами, в одних рубашках; действительно, они были покрыты пятнами и заросли щетиной, особенно на спине. Некоторых, как видно, выпустили из больницы по каким-то срочным делам; безногие катились на досочках-самокатах посреди городского шума и гомона; я видел уши дам в слоновьих складках, ороговевшую кожу их кавалеров, старые газеты, пучки соломы, мешки, которые прохожие носили на себе с шиком и грацией; а те, что покрепче и поздоровее, во весь опор мчались по мостовой, время от времени нажимая на несуществующий акселератор.
В толпе преобладали роботы — с распылителями, дозиметрами и опрыскивателями. Они следили, чтобы каждый прохожий получил свою порцию аэрозольной пыльцы, но этим не ограничивались. За влюбленной парой, шедшей под руку (ее спина была в роговой чешуе, его — в пятнистой сыпи), тяжело шагал робот-цифрак с распылителем, методично постукивая воронкой по их головам, а те — ничего, хотя зубы у них лязгали на каждом шагу. Нарочно он или как? Но размышлять уже не было сил. Вцепившись намертво в подоконник, смотрел я на улицу, на это кипение призрачной жизни — единственный зрячий свидетель. Но в самом ли деле единственный? Жестокость этого зрелища наводила на мысль об ином наблюдателе: его режиссере, верховном распорядителе блаженной агонии; тогда эти жанровые сцены получили бы смысл — чудовищный, но все-таки смысл.
Маленький авточистильщик обуви, суетясь у ботинок какой-то старушки, то и дело подсекал ее под колени; старушка грохалась о тротуар, поднималась и шла дальше, он валил ее снова, и так они скрылись из виду, он — механически упрямый, она — энергичная и уверенная в себе. Часто роботы заглядывали прямо в зубы прохожим — должно быть, для проверки результатов опрыскивания, но выглядело это ужасно. На каждом углу торчали безроботники и роботрясы, откуда-то сбоку, из фабричных ворот, после смены высыпали на улицу роботяги, кретинги, праробы, микроботы. По мостовой тащился огромный компостер, унося на острие своего лемеха что попадется; вместе с трупьем он швырнул в мусорный бак старушку; я прикусил пальцы, забыв, что держу в них вторую, еще нетронутую ампулу — и сжег себе горло огнем. Все вокруг задрожало, заволоклось светлой пеленой — бельмом, которое постепенно снимала с моих глаз невидимая рука.
Окаменев, смотрел я на совершающуюся перемену, в ужасном спазме предчувствия, что теперь реальность сбросит с себя еще одну оболочку; как видно, ее маскировка началась так давно, что более сильное средство могло лишь сдернуть больше покровов, дойти до более глубоких слоев — и только. В окне посветлело, побелело. Снег покрывал тротуары — обледенелый, утоптанный сотнями ног; зимним стал колорит городского пейзажа; витрины магазинов исчезли, вместо стекол — подгнившие приколоченные крест-накрест доски.
Между стенами, исполосованными подтеками грязи, царила зима; с притолок, с лампочек бахромой свисали сосульки; в морозном воздухе стоял чад, горький и синеватый, как небо наверху; в грязные сугробы вдоль стен вмерз свалявшийся мусор, кое-где чернели длинные тюки, или, скорее, кучи тряпья, бесконечный людской поток подталкивал их, сдвигал в сторону, туда, где стояли проржавевшие мусорные контейнеры, валялись консервные банки и смерзшиеся опилки; снега не было, но чувствовалось, что недавно он шел и пойдет снова; я вдруг понял, кто исчез с улиц: роботы. Исчезли все до единого! Их засыпанные снегом остовы были разбросаны на тротуарах — застывший железный хлам рядом с лохмотьями, из которых торчали пожелтевшие кости.
Какой-то оборванец усаживался в сугроб, устраиваясь, как в пуховой постели; лицо его выражало довольство, словно он был у себя дома, в тепле и уюте; он вытянул ноги, рылся босыми стопами в снегу — так вот что значил тот странный озноб, та прохлада, которая время от времени приходила откуда-то издалека, даже если вы шли серединой улицы в солнечный полдень (он уже приготовился к долгому-долгому сну), так вот оно, значит, что. Вокруг него как ни в чем не бывало копошился людской муравейник, одни прохожие опыляли других, и по их поведению было легко догадаться, кто считает себя человеком, а кто — роботом. Выходит, и роботы были обманом? И откуда эта зима в разгар лета? Или фата-морганой был весь календарь? Но зачем? Ледяной сон как демографическое противоядие? Значит, кто-то все это продумал до мелочей, а мне придется исчезнуть, до него не добравшись?
Мой взгляд упирался теперь в небоскребы, в их склизкие стены с провалами выбитых окон; позади стало тихо: ленч кончился. Улица — это конец, зрячие глаза мне ничуть не помогут, толпа захлестнет и поглотит меня, нужно найти хоть кого-нибудь, сам я смогу разве что прятаться какое-то время, как крыса; я теперь вне иллюзии, а значит, в пустыне. Охваченный ужасом и отчаянием, отпрянул я от окна; я дрожал всем телом — ведь призрак теплой погоды не согревал меня больше. Я и сам не знал, куда направляюсь, но старался ступать бесшумно; да, я уже скрывал свое присутствие здесь, сутулился, съеживался, озирался по сторонам, останавливался, прислушивался — бессознательно, еще не успев принять никакого решения и в то же время ощущая всей кожей: по мне видно, что я все это вижу, и это не сойдет безнаказанно. Я шел по коридору шестого или пятого этажа; вернуться назад, к Троттельрайнеру, я не мог, ему требовалась помощь, а я был не в силах ему помочь; я лихорадочно думал сразу о многом, но прежде всего о том, не кончится ли действие отрезвина и не окажусь ли я снова в Аркадии. Странное дело — при мысли об этом я не чувствовал ничего, кроме страха и отвращения, словно мне было бы легче замерзнуть в мусорной куче, сознавая, что я наяву, чем обрести утешенье в иллюзии.
Я не смог свернуть в боковой коридор — дорогу загораживал своим телом какой-то старик; ему не хватало сил идти, он только судорожно дрыгал ногами, изображая ходьбу, и дружелюбно улыбался мне, тихонько похрипывая. Я ринулся в другой боковой коридор — тупик, матовые стекла какой-то конторы, за ними — полная тишина. Я вошел, завибрировала стеклянная дверь-вертушка, это было машинописное бюро — пустое. В глубине — еще одна приоткрытая дверь, а за ней — большая светлая комната. Я отпрянул — там кто-то сидел, — но услышал знакомый голос:
— Прошу вас, Тихий.
Пришлось войти. Меня даже не особенно удивили эти слова — как будто моего прихода здесь ждали; спокойно я принял и то, что за рабочим столом восседал собственной персоной Джордж Симингтон. Костюм из серой фланели, ворсистый шейный платок, темные очки, ситара во рту. Он смотрел на меня то ли со снисхождением, то ли с жалостью.
— Садитесь, — сказал Симингтон. — Поговорим.
Я сел. Комната с совершенно целыми окнами казалась оазисом чистоты и тепла посреди всеобщего запустения — ни пронизывающих сквозняков, ни снега, наметенного ветром. Поднос, черный дымящийся кофе, пепельница, диктофон; над головой хозяина — цветные фотографии обнаженных женщин. Меня поразила бестолковая, в сущности, мысль: лишаев на них не было вовсе.
— Вот вы и доигрались, — назидательно произнес Симингтон. — А ведь жаловаться вам не на кого! Лучшая медсестра, единственный на весь штат действидец — все вам старались помочь, а вы? Вы решили докопаться до «истины» на свой страх и риск!
— Я? — отозвался я ошеломленно; но он, не дав мне времени собраться с мыслями, обрушился на меня:
— Только, ради Бога, не лгите. Теперь уже поздно. Вам-то, конечно, мерещилось, будто вы ужас до чего хитроумны со своими жалобами и подозрениями насчет «галлюцинаций»! «Канал», «подвальные крысы», «седлать», «запрягать»… И такими убогими штучками вы хотели нас обмануть! Вы думали, они вам помогут? Только мерзлянтроп может быть таким простаком!
Я слушал, приоткрыв от удивления рот. Оправдываться бесполезно — он все равно не поверит, это я понял сразу. Мои навязчивые идеи он счел коварной уловкой! Но тогда и его беседа со мной о тайнах «Прокрустикс инк.» преследовала одну только цель — развязать мне язык; вот для чего он вставлял в разговор слова, которые так меня поразили; быть может, он считал их каким-то секретным паролем — но чего, антихимического заговора? Мои сугубо личные подозрения показались ему отвлекающим маневром… Действительно, не стоило объяснять ему это, особенно теперь, когда карты были открыты.
— Так вы меня ждали? — спросил я.
— А как же! Все это время вы, со всеми вашими хитростями, были у нас на привязи. Мы не можем позволить, чтобы безответственный бунт нарушил господствующий порядок.
Старик, умирающий в коридоре, — мелькнула мысль. Он тоже был частью барьеров, которые меня сюда направляли…
— Хорош порядок, — заметил я. — А во главе — уж не вы ли? Поздравляю.
— Приберегите свои остроты для более подходящего случая! — огрызнулся Симингтон. Значит, мне удалось-таки задеть его за живое. Он разозлился. — Вы все искали «источники демонизма», мерзлянчик вы этакий, ледышка моя допотопная… Так вот — их нет. Ваша любознательность удовлетворена? Их просто-напросто нет, понимаете? Мы даем наркоз цивилизации, иначе она сама себе опротивела бы. Поэтому-то будить ее запрещено. Поэтому и вы вернетесь в ее лоно. Бояться вам нечего, это не только безболезненно, но и приятно. Нам куда тяжелее, мы ведь обязаны трезво смотреть на вещи — ради вас же.
— Так вы это из альтруизма? Ну да, понятно, жертва во имя общего блага.
— Если вы и впрямь так цените ужасную свободу мысли, — заметил он сухо, — советую оставить глупые колкости, иначе вы добьетесь того, что вмиг ее потеряете.
— А вы хотите мне еще что-то сказать? Я слушаю.
— В настоящий момент, кроме вас, я единственный человек в целом штате, который видит! Что у меня на глазах? — добавил он быстро, испытующе.
— Темные очки.
— Значит, мы видим одно и то же! — воскликнул Симингтон. — Химик, давший Троттельрайнеру отрезвин, возвращен к нормальной жизни и более ни в чем не сомневается. Сомневаться не позволено никому, неужели не ясно?
— Позвольте, — прервал я его. — Похоже, вы и в самом деле стараетесь меня убедить. Странно. Собственно говоря, зачем?
— Затем, что действидцы — не демоны! Обстоятельства нас вынуждают. Мы загнаны в угол, играем картами, которые раздал нам жребий истории. Мы последним доступным нам способом даем утешенье, покой, облегчение, с трудом удерживаем в равновесии то, что без нас рухнуло бы в пропасть всеобщей агонии. Мы последние Атланты этого мира. Если миру суждено погибнуть, пусть хоть не мучается. Если нельзя изменить реальность, нужно хоть заслонить ее чем-то. Это наш последний гуманный, человеческий долг.
— Неужели совсем ничего нельзя изменить?
— Сейчас две тысячи девяносто восьмой год, — сказал Симингтон. — Шестьдесят девять миллиардов людей живут на Земле легально и еще, надо думать, двадцать шесть миллиардов тайных уроженцев. Температура падает на четыре градуса в год; очень скоро здесь будет ледник. Остановить обледенение мы не в силах, — разве что замаскировать.
— Мне всегда казалось, что в пекле будет адская стужа. А вы украшаете вход в него миленькими узорами?
— Именно так. Мы — последние добрые самаритяне. Все равно кому-то пришлось бы, сидя на этом вот месте, разговаривать с вами; случайно это оказался я.
— Да, да припоминаю: esse homo.[39] Но… погодите… сейчас… Я понял, чего вам надо! Вы хотите убедить меня, что без вас, эсхатологического анестезиолога, не обойтись. Раз нет хлеба — наркоз страждущим. Не понимаю только, к чему вам мое обращение в вашу веру, если мне все равно придется тут же о нем позабыть? Если средства, которые вы применяете, так хороши, к чему заботиться о доказательствах? Достаточно пары капель кредобилина, и я с восторгом буду ловить каждое ваше слово, буду чтить вас и слушаться. Похоже, вы и сами не очень-то убеждены в достоинствах такого лечения, если вам по душе обычная старомодная болтовня, если вам приятней беседовать, чем орудовать распылителем! Вы, как видно, прекрасно знаете: психимическая победа — всего лишь жульничество, на поле боя вы останетесь в одиночестве — триумфатор с изжогой. Убедить, а после столкнуть в беспамятство — вот чего вы хотите. Не выйдет! Раньше ты повесишься на своей благородной миссии вместе с теми вон девками, что скрашивают тебе труды по спасению. А все-таки настоящих хочется, без щетины?
Его лицо исказила гримаса ярости. Вскочив со стула, он заревел:
— У меня найдутся не только аркадийские средства! Есть и химический ад!
Встал и я. Он потянулся было к пресс-папье, но я с криком «Отправимся туда вместе» бросился на него. По инерции, как я и рассчитывал, мы покатились к открытому окну. Послышался чей-то топот, чьи-то сильные пальцы пытались оторвать меня от него, он извивался, пинал меня, но в последний момент я повалил его на подоконник, собрал все силы и прыгнул; в ушах засвистело, мы кувыркались, вцепившись друг в друга; вращаясь, воронка улицы стремительно надвигалась на нас, я приготовился к сокрушительному удару, однако падение оказалось мягким, брызнула черная жижа, зловонная, благословеннейшая трясина сомкнулась над моей головой — и опять расступилась. Я вынырнул посредине канала, отирая рукой глаза, с резким привкусом помоев во рту, но счастливый, как никогда!
Профессор Троттельрайнер, разбуженный моими воплями, склонялся над топью и подавал мне, как братскую руку, ручку сложенного зонта. Отзвуки бумбардировки стихали. Дирекция «Хилтона» спала вповалку на надувных креслах (вот откуда взялись «надуванки»!), секретарши вели себя во сне вызывающе. Джим Стэнтор, храпя и ворочаясь с боку на бок, придушил крысу, которая выцарапывала шоколад у него из кармана; перепугались и он, и она.
Присев у стены на коленях, Дрингенбаум, этот педантичный швейцарец, при бледном свете фонарика правил свой реферат. Занятие, в которое углубился профессор, возвещало начало второго дня футурологического конгресса; при этой мысли я разразился таким хохотом, что рукопись выпала у него из рук, плюхнулась в черную воду и поплыла — в неизведанное грядущее.
Тибор Девени. СВИНАЯ ГРУДИНКА[40] Пер. Е. Умняковой
Он одевался наспех. Оставалось лишь несколько минут: было уже почти пять часов утра! Впопыхах глотая горячий кофе и дожевывая бутерброд, он натягивал бледно-голубые магнитные луноходы. Из-под одеяла виднелась женская головка, черные локоны рассыпались по подушке. Судя по спокойному, мерному дыханию жена еще спала. Лала тихонько окликнул ее:
— Цила!
В ответ послышались какие-то странные звуки, нечто вроде многозначительного «угу» или «гм». Он решил, что супругу интересуют его планы.
— Сегодня у меня двойная смена, одиннадцать часов. Вернусь к пяти. Цила! Ты слышишь меня?
— Да, — одеяло зашевелилось и головка поднялась. — Ты что-то сказал? — сонным голосом спросила женщина.
— Вернусь к пяти. Везу дональдиум на созвездие Рио, прилечу на космодром в половине пятого. Передам бумаги, а около пяти буду дома.
— Тогда я пойду в парикмахерскую, — зевнув, Цила поправила копну капризных вьющихся волос. — А ты заберешь сынишку из детского сада и купишь чего-нибудь на ужин.
— Хорошо, — покорно ответил Лала. — А что купить?
— Да мне все равно. Ну, можешь купить грудинки… пять булочек и бутылку пива.
— Будет сделано, — весело отозвался Лала и, поцеловав жену, тихо прикрыл за собой входную дверь.
В диспетчерской космодрома Рептете все шло своим чередом — обычная утренняя суматоха. Все говорили разом — разумеется, те, кто соблаговолил вовремя явиться. Один лишь Лала молча ждал своей очереди.
Наконец диспетчер обратился к нему.
— Лала, вот бумаги, которые надо доставить на созвездие Рио. Звонил Шани, он не может: у ребенка ветрянка, а жена… Я так и не понял, что там с ней стряслось. Словом, здесь письмо, передашь в Калькутте на контрольный диспетчерский пункт Рептете. Срочно! В Рио должны получить его не позднее половины четвертого, изучить повнимательнее и уже без четверти четыре дать тебе документы для Калькутты.
— Да ты что? — воскликнул ошеломленный Лала. — Успеть к половине четвертого и в Рио, и в Калькутту?!
— Ребята отрегулировали тебе фокусировку пучка фотонов, так что теперь твоя ракета в 1,85 превышает скорость света. С такой скоростью ты всюду успеешь. Только без паники!
Лала недоверчиво усмехнулся.
— Еще вчера старая посудина дребезжала уже при 1,5! Пусть тот, кому так приспичило передать эти бумаженции, сам и летит со скоростью 1,85!
— Милый Лала! Когда ты окажешься на моем месте, а я стану в очередь к твоему столу, тогда сможешь говорить со мной в таком тоне, — одернул его диспетчер, искоса метнув чуть насмешливый взгляд. — Словом, ты летишь или нет?
Лала побледнел. Он молчал, чувствуя, как в груди закипает злость. Кто-кто, а он хорошо понимал, что значит скорость, в 1,85 превышающая скорость света.
— Ладно, — едва сдерживаясь, буркнул он с наигранным хлоднокровием. — Давай сюда бумаги и это дурацкое письмо! Постараюсь успеть!
— Никаких постараюсь! Письмо должно быть на месте в половине четвертого! А тебя я жду в половине пятого. До встречи! — категорично заявил диспетчер, не сводя с Лалы немигающих, колючих глаз.
Такси Лалы с фотонным ракетным двигателем, преодолев гравитацию, постепенно набирало скорость. Все шло как по маслу. «Ничего не скажешь, молодцы ребята, действительно отрегулировали!» — признался он себе и включил автоматику. Теперь можно тщательно проверить работу каждого агрегата. Его особенно волновали показания скоростемера. Сердце Лалы заколотилось, когда он увидел алые. светящиеся ниточки быстро бегущих цифр: 0,5–0,7 — 1,0–1,1 — 1,2–1,3 — судя по цифровой индикации, пока все вроде бы в порядке. Значение скорости резко увеличилось. Даже при 1,4–1,5 никакой вибрации! «Значит, ребята и в самом деле устранили все неполадки», — с благодарностью думал Лала. Ведь только вчера при этой скорости начиналась едва заметная вибрация и он боялся, что поврежден фотонный отражатель. А ведь с вибрацией шутки плохи — стоит чуть превысить предел и удлиненный сигарообразный корпус такси разлетится на куски. Нет, все нормально.
Скорость все возрастала: уже 1,6–1,65 — 1,67 -1,7! С такой скоростью Лала еще никогда не летал на маленьком такси старого образца. Еще две секунды — и она будет 1,85. Скоростемер замер. Успокоившись, Лала откинулся на спинку кресла и начал тихонько насвистывать. Машина словно ждала этого момента — она резко покачнулась, завертелась волчком и ее затрясло. Началась ротация…
Спина космонавта покрылась холодным потом. Ведь это конец! Из многолетней практики он знал, что в такой ситуации ничего нельзя сделать. Нельзя даже дать фотонный сигнал на башню автоматического управления — сильная вибрация и хаотическое вращение нарушают двустороннюю связь. Даже если башня и примет его сигналы, на телеприемнике все равно ничего не увидишь. Словом, надо самому устранять неисправность, иначе это старое корыто разнесет вдребезги. Лала отключил автоматику.
Теперь там, на башне, им придется поломать голову, что стряслось с машиной… Можно ли посылать человека, толком не проверив аппаратуру?..
За считанные секунды он смог сориентироваться и чуть уменьшить вращение. Перейдя на ручное управление, Лала не снизил скорости. Судя по всему, дело было не в ней. Затем он подсоединился к компьютеру. Этот компьютер новейшего образца мгновенно выдавал подробнейший диагноз.
А между тем такси со скоростью 1,85 сверхсветовой приближалось к орбитальной станции Рептете в созвездии Рио. Страшная мысль пронзила сознание Лалы: «Если не приостановить вибрацию и вращение, такси врежется прямо в орбитальный комплекс: затормозить при ротации невозможно». Тем временем компьютер ответил: «Уттечка-а т-тяже-елой в-во-оды в ко-омп-пенса-аторе. 9WW4g3y подсо-оед-динитъ к 8WW3y-ra к-коне-ец.
«Еще заикается», — со злостью подумал Лала.
В ушах звучало последнее слово компьютера — конец. Клапан, о котором он предупредил, находился снаружи, в хвостовой части ракеты: так легче было заправлять горючее. С кабиной он связан не был. Следовало выкарабкаться из кабины, ощупью по-пластунски проползти по крутящемуся корпусу ракеты, перекрыть вентиль и также ползком вернуться обратно. И все это надо успеть за три минуты: кислород в скафандре рассчитан только на это время… Но выбора не было. Уже через тридцать две секунды он стоял в скафандре перед шлюзовым отсеком, подключил аппаратуру, привязал ключ и приготовился к выходу в космос. Крышку люка как назло заклинило: повидимому, ее уже давно не проверяли. Казалось, она приросла навечно. Пришлось потратить чуть ли не полминуты, чтобы ее открыть. Наконец он проскочил через герметизированный шлюзовой отсек и выбрался из люка.
«Какая ни на что не похожая панорама космоса открывается с ракеты, которая ходит под тобой ходуном, крутится, вертится, того и гляди сбросит в тартарары», — подумал Лала и пополз к вентилю. Секунды казались часами. Он долго не мог затянуть злосчастный вентиль. Тот порядком заржавел. Должно быть, за последние полгода его ни разу не смазывали… Но как только Лале удалось сделать, что нужно, вращение тут же замедлилось и вскоре прекратилось вовсе. Космонавт облегченно вздохнул. Но уже прошло две минуты! За одну минуту доползти до люка и пройти через шлюзовой отсек невозможно. Значит, он останется без кислорода в лучшем случае на пятьдесят секунд!
Когда Лала проходил через люк, в легких уже почти не оставалось кислорода. Он задыхался, как рыба, выброшенная из воды. Казалось, тело разламывается на куски. Закончив герметизацию шлюзового отсека, он сдернул маску и упал, судорожно хватая ртом воздух. Последнее, о чем он успел подумать, была автоматика. Уже теряя сознание, Лала нажал кнопку наземного управления.
Он пришел в себя только на орбитальной станции Рио. Техник долго тряс космонавта, прежде чем тот очнулся.
— Эй, Лала! Что стряслось? Почему ты в скафандре? — удивился он.
Лала рассказал о всех своих злоключениях. Выслушав его, техник помрачнел.
— Я не смогу поменять тебе кран, у нас нет запасных частей, — тяжело вздохнул он и беспомощно развел руками. — Вчера как на грех последний отдал. На всем здешнем созвездии днем с огнем не сыщешь ни этого крана, ни деталей к твоему фотонному отражателю. Все это старье снято с производства. Не представлю, как ты долетишь…
— Мне еще надо попасть в Калькутту.
— На такой машине? Отчаянная голова! А если этот вентиль опять…? — Слова застряли в горле.
Техник всегда восхищался Лалой, и сейчас, думая о нависшей над ним опасности, испытывал чувство тревоги, щемящее и ноющее, как зубная боль.
— Авось пронесет… — нарочито спокойно произнес Лала.
— Будь поосторожнее в Калькутте!
— Спасибо! До свидания!
Взлет прошел благополучно, и ракета без вибрации помчалась с 1,85 скорости света.
Словами не передашь и сотой доли того, что пережил Лала за эти несколько часов. Больше, чем превышение скорости, его волновал испорченный кран: того и гляди могла начаться утечка тяжелой воды. С минуты на минуту космонавт ждал аварии. Пот градом катился по лицу. Ему казалось, что он выбился из сил, выжат, как лимон. Лала был не робкого десятка, но кто бы остался спокоен в подобной ситуации? Он не мог дождаться, когда наконец приземлится в Калькутте, не верилось, что можно целым и невредимым оказаться в половине пятого в управлении Рептете.
— Ну, какие новости в детском саду? — спросил сынишку Лала.
— Ванесса как вцепится мне в волосы…
— Что за Ванесса?
— Ванесса Дебреги.
— Ну а ты?
Мальчик энергично замотал головой.
— Почему же ты не дал ей сдачи?
— Не успел. Я колошматил Алмаша.
— Какой еще Алмаш?
— Как какой? Алмаш Шхлуцхофер. Мой лучший друг, — с гордостью сказал мальчик. — Ты мне что-нибудь купишь?
Лала ласково погладил жесткий ежик волос.
— Куплю. А что бы тебе хотелось?
— Да мне все равно.
— Тоже мне… не знаешь, чего хочешь, а пристаешь: «купи, купи»!
— Но ты же взрослый и сам должен знать, чему обрадуется твой ребенок.
Они вошли в огромный гастросам.
— Вот купи мне это, — показал мальчонка на полку с консервами.
— Потерпи, сперва купим, что велела мама.
Они остановились возле прилавка с гастрономией.
— Пожалуйста, двести граммов свиной грудинки!
— Есть ветчина в банках, зельц, венгерское сало, колбаса из Бочкая. Только что получили… — добродушное лицо продавщицы расплылось в широкой улыбке.
— Пожалуйста, двести граммов свиной грудинки!
— Купите что-нибудь из колбас: диетическая, сырокопченая, варено-копченая, пражская, марсианская… — словно не слыша Лалы, перечисляла продавщица.
— Я прошу у вас двести граммов свиной грудинки! — настойчиво повторил он.
— А окорок?! Одно загляденье…
— Мне нужна грудинка! — сухо оборвал Лала.
— Но…
— Скажите, — раздраженно перебил он, — почему вы не хотите дать мне двести граммов грудинки?!
— А ее у нас нет.
— Тогда взвесьте двести граммов колбасы, — безнадежно махнул рукой Лала.
— Будьте любезны.
Соседний прилавок ломился от хлебных изделий.
— Пожалуйста, пять булочек.
— Есть рожки, рогалики, завитушки с маком… — быстро затараторила маленькая, круглая, как шарик, продавщица. Ее младенчески розовое толстощекое лицо с узкими черными глазками чем-то походило на румяную, пышную сдобушку со сливами. — Вот, пожалуйста, пончики, марципанчики… — Она перевела дух. — Могу предложить палочки, батончики лупи-купи…
— Да не нужны мне все ваши луци-куци, — взревел Лала так, что девушка в ужасе шарахнулась от него. — Дайте мне пять булочек.
— Булочки кончились, — сердито отрезала она.
— Дайте пять рогаликов.
Они долго ходили по огромному гастросаму, но прилавка с пивом так и не нашли.
— Не могли бы вы сказать, где пиво? — спросил космонавт у парнишки, расставлявшего какие-то бутылки.
— Слетайте на Луну, — посоветовал тот. — У нас пива нет уже почти неделю.
— Здравствуй, дорогая! Ну, что ты сегодня делала?
— Ах, и не говори… Давно у меня не было такого трудного дня, — тяжело вздохнула жена.
— Какая ты сегодня красивая. И прическа тебе к лицу!
Стройная, с большими серыми глазами, крошечным ярким ртом, Цила была очень хороша, и Лала смотрел на нее с такой ласковой улыбкой, на которую, казалось бы, нельзя было не ответить тем же. Но Цила была вне себя от возмущения. Щеки горели, глаза метали молнии.
— Мне пришлось целых четыре часа просидеть в парикмахерской!
— Мама! Я хочу на горшок!
— Ты уже большой мальчик, мог бы и сам сходить… Ладно, скажи папе. Должен же он хоть что-то делать для нас! Лала, как прошел полет? — небрежно бросила Цила.
— Ты знаешь, сегодня… — начал было муж.
— Пойду приму ванну! — Тут же перебила она. — Только я стала пылесосить, как притащилась тетушка Манци и как затараторит… Ее ведь не остановишь. Несет всякий вздор. Совсем меня замучила, уж думала, конца этому не будет. — Голос жены звучал трагически. — А вы накрывайте пока на стол, будем ужинать, — чуть веселей добавила она, взмахнув длинными, густо накрашенными ресницами. — Словом, тетушку Манци унесло только в полдень. Пока я управилась с уборкой и добралась до парикмахерской, было уже три часа! Ну и отсидела там целых четыре часа!
— Но, дорогая, ведь сейчас еще только половина шестого…
— Четыре часа в эдакой жарище! Да разве ты можешь представить себе, какой это кошмар? Правда, прически хватит теперь на неделю. А грудинка где? Что это? Рогалики? Ты купил рогалики?! — Возмутилась Цила. — Ведь я же велела булочки! Все утро тебе это вдалбливала. Куда ты девал пиво?
Лала опустил голову, беспомощно заерзав на стуле.
— В гастросаме не было ни грудинки, ни…
— Не зря я говорила маме: что тебе не поручи — все без толку, — ее красивое лицо сделалось злым и высокомерным. — Стоит хоть раз попросить о какой-нибудь мелочи, чтобы в этом убедиться. Скажи, есть что-нибудь на свете, что бы ты сумел сделать!?
Кшиштоф Рогозинский, Виктор Жвикевич В ТЕНИ СФИНКСА[41] Пер. Е. Вайсброта
Старуха сидела у окна, опершись локтями о подоконник, и высматривала что-то там, в раскинувшемся за стенами дома мире.
— Когда я была девочкой, — проговорила она, — женщин вроде меня было множество. Они днями просиживали у окон. Мне всегда интересно было, зачем они так сидят и что видят… Ведь сидели они даже тогда, когда за окнами никого не было. Как вот сейчас. Иногда я останавливалась под их окнами и тоже смотрела. С того же места на то же, что и они. И ничего интересного не видела. Мне это быстро надоедало и я убегала. А они еще долго сидели и смотрели. Может, тоже чего-то ждали?
— Возможно, но задерни занавески.
Старик сидел в потертом кожаном кресле. Они очень подходили друг к другу — она, он, кресло, резной столик на гнутых ножках, покрытый вязаной скатертью. Еще в комнате были деревянный сундук в углу и диван — старая покосившаяся развалюха с тоскливыми провалами по бокам, и было странно, что не слышно, как жалостно постанывают его ржавые пружины.
— Погоди, — покачала головой старуха. — Ты обратил внимание, какой сегодня странный день? Почти безветренный. Покраснели каштаны, скоро опадут листья, а в долине туман. Новый город далеко, и такое ощущение, будто его вообще нет.
— Может, сходим куда-нибудь? — предложил старик, не отрывая глаз от газеты.
— Зачем?
— Ну, немного развеяться. Посмотреть на людей.
— Поздно. Года бы два назад… Теперь уже не хочется. Для меня слишком поздно. А тебе хватит и газет.
— Пожалуй, верно… Правда, газеты годичной давности.
Он сидел ссутулившись, одетый в вязаный свитер с черными латками на локтях. Его острые коленки смешно торчали, выпирая из вытертых до белизны брюк.
— Послушай, какая тишина, — снова бросила она. — Тишина, и все-таки как-то тревожно. Знаешь, я чувствую, что сегодня он придет.
— Кто?
— Ты же знаешь…
— Чего это вдруг? — удивился он, подняв седые брови.
— Чувствую… Слышишь?
— Что?
— Кто-то идет.
— Обычные шаги, — сказал он.
— Остановился!
Старуха спряталась за пожелтевшую занавеску.
— Показалось, — равнодушно буркнул старик.
— Эрнест, у меня предчувствие. Он идет сюда.
— Нет. Прошел мимо.
— Вот увидишь, вернется. Человек, который пришел на такой пустырь, мог идти только к нам. А вдруг это Ральф?
Старик сухо рассмеялся.
— Брось!
— Возвращается!
— И правда, — согласился он, прислушиваясь к звукам, доносившимся с улицы.
— Какой-то странный, — заметила старуха, продолжая смотреть в щелочку между занавесками.
— Ты его видишь? — спросил старик.
— Да… Маленький человечек. Сгорбленный и невзрачный. Даже странно, что кто-то захотел остаться таким. Он что-то держит под мышкой.
Шаги затихли. Стало слышно, как кто-то вытирает ноги о половичок, лежавший перед дверью. Они ждали, затаив дыхание. Наконец раздался резкий звонок.
— Пришел, — шепнула она.
— Сиди. Я отворю.
Кряхтя, старик поднялся с кресла. Газета соскользнула на пол. Шаркая шлепанцами, он прошел в переднюю. Щелкнул замок. Послышался негромкий разговор. Мужчины переговаривались через приоткрытую на длину цепочки дверь.
— Слушаю.
— Я из больницы, — нежданный визитер при каждом слове шмыгал носом, словно его мучил насморк.
— В чем дело?
— Принес одежду Эрнеста Боита.
— Благодарю, — звякнула цепочка, скрипнула дверь. — Долго же вы думали.
— Вещей мало. Нижнее белье, — гость опять шмыгнул носом. — У хозяина в общем-то потребностей почти и не было. Вы же знаете — он был всего лишь самим собой.
— Конечно… Это вам, — послышался звон мелочи.
— О, благодарю. До свидания. Кланяюсь… Да! Примите мои соболезнования… Вы его брат? Очень похожи…
— Да-да, все в порядке… — обрезал старик и захлопнул дверь.
Облегченно вздохнув и волоча ноги, он вернулся в комнату.
— Чего ему надо было? — спросила старуха.
— Из больницы. Вещи принес.
— Что он там болтал? Какие-то соболезнования… Ты его знал?
— Нет. Впрочем, он мог измениться. Что говорил? Знаешь, я не обратил внимания.
— По мне — каждый человек оттуда ходит в маске, — старуха поправила платок на плечах. — А что под маской — одному богу известно.
— Люди как люди, — вздохнул старик.
— Для тебя — возможно. Сунешь нос в газету и знай себе бубнишь: «Любопытные вещи творятся…»
— А что странного?
— Ты странный. Ты сам. Взгляды тебе, что ли, привили в больнице новые?
— Я не давал согласия, — глаза в сеточке морщинок улыбнулись.
— Согласие, — проворчала она. — Кто тебя спросит-то?
— Мир движется вперед.
— Слишком он уже далеко зашел.
— Не злись, — пытался он успокоить ее. — Разве это нам поможет? Мы с тобой выбрали боковую тропинку. Сидим тихонько. А они — пусть себе забавляются.
— И что только получится из их забавы? Смотри-ка!
— Что там еще?
— Иди сюда. Скорее.
Он подошел к окну.
— Ну?
— Там кто-то есть. Я видела — мелькнуло что-то красное.
— Может, вчерашний рыжий пес?
— Нет. Еще светло. Там, где деревья. Красное платье… Какая-то девушка. Отодвинься, она смотрит сюда.
Старик спрятался за спину старухи, и некоторое время они стояли сгорбившись, словно присыпанные пылью, голова к голове — его старательно причесанные белые волосы и ее седой пучок, заколотый костяной шпилькой.
— Ну, что там она? — наконец спросил он.
— Ничего. Стоит. Но в лице что-то такое… Посмотри сам, только не высовывайся.
— Не вижу ничего особенного, — сказал он неожиданно изменившимся голосом.
— А как ты можешь увидеть без очков-то?
— И верно, — он беспомощно оглянулся и похлопал руками по груди в поисках несуществующих карманов.
— Ты и читал без очков, что ли? — спросила она.
— Как без очков? — смутился он. — Я только что снял.
— Ну так быстренько надень и взгляни…
Он поплелся к столу.
— Где же они?.. Ага, — очки лежали на сиденье кресла.
Он заправил тонкие дужки за уши и, ворча что-то под нос, вернулся к окну. Некоторое время молча смотрел на улицу.
— Ну, как? — спросила она.
— Ладная девица, — тихо вздохнул он.
— И утром тоже приходила. Крутится тут, будто тот рыжий пес. И все время глазеет. Ты прав — очень складненькая… Вот только лицо… Она, кажется, знает, что мы дома.
Он пожал плечами. Потом повернулся и направился к столу. Кряхтя, уселся в кресло и пригладил рукой белые волосы на висках.
— Подумай, — сказал он. — Что ты…
— А может, это он? — старуха взглянула на старика округлившимися глазами. — Им безразлично — он или она.
Старик раздраженно взялся за газету.
— Уж лучше закрой окно, — проворчал он.
— Может, и верно, — неохотно согласилась она. — Пусть стоит… Эрнест, а если она тоже ждет его?
— Чего ради?
— Мне кажется, он где-то поблизости. Впрочем, как знать…
— Перестань. Отойди же наконец от окна. Послушай лучше, что пишут в газетах.
— Все время одно и то же.
— Что ты хочешь! Газете год! Но интересно. А какие заголовки: «ГРАБИТЕЛЬ ИЛИ ЦЕЛАЯ ШАЙКА?» Этого мы не читали. Помнишь Ральф говорил, что первое время будут хлопоты с преступностью?
Она неохотно отошла от окна. Нерешительно постояла, опершись рукой о спинку кресла, в котором утонул за раскрытой газетой старик, а потом присела на свой стул. Рядом стояла корзинка с клубком шерсти и лежало вязанье. Под ногами подушка.
— Не читай вечерами такие вещи, — сказала она.
— Конечно-конечно. Но ты только послушай:
«После прокатившейся недавно волны грабежей дирекция Музея искусств вынуждена была установить дополнительную сигнализацию. Однако вчера уже через два часа после открытия музея…»
— Вчера! — фыркнула старуха.
— «…через два часа после открытия музея, — повторил он, — обнаружилось исчезновение икон, принадлежащих кисти Андрея Рублева. Показания свидетелей противоречивы…»
— Не удивительно, — вставила она.
— «Посетители, находившиеся в то время в зале, утверждают, что иконы укладывал в сумку мужчина в форме работника музея. Дежурная по залу показала, что видела молодую элегантно одетую даму с черным саквояжем. Продавщица из газетного киоска обратила внимание, как портье помогал уложить саквояж в багажник микробуса пожилому лысому мужчине. У машины был номерной знак дипломатического корпуса. Перед следственными органами снова возникает вопрос: кто совершил кражу — одинокий грабитель или целая шайка?»
— Иконы Рублева, — вздохнула старуха. — Когда я была молодой, из книжек вырезали цветные репродукции византийских икон, наклеивали на доски, слегка чернили над огнем края, а сверху покрывали лаком, и лики святых глядели со стен своими огромными глазами… Теперь, наверно, тоже смотрят на того грабителя.
— Не известно, был ли он один.
— Наверняка один, — заметила она, потянувшись за вязанием. — Они теперь все могут.
Старик зашелестел газетой.
— О! Послушай:
«Я ПОЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЕСЛИ ТЫ СТАНЕШЬ ДЕВУШКОЙ!
Один мужчина полюбил юную и красивую девушку. Его чувство не осталось без взаимности. Однако девушка избрала для себя общественный статус мужчины. Читатель спрашивает, как ему поступить. Нам представляется, что нельзя склонять девушку изменять решение. Это ее личное дело. Кроме того, как гласит старинная поговорка: важно чувство, а не пол».
— Хотела бы знать, как все это у них в действительности выглядит, — сказала старуха, вывязывая очередную петлю.
— Любая революция порождает проблемы: общественные, технические, биологические, — заметил старик. — Но со временем все приходит в норму.
— А я тебе говорю, на этот раз добром не кончится.
— Кто знает, — старик перевернул страницу. — О, вот:
«ВОЛНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЛЕДЖЕЙ.
Строгий надзор со стороны службы безопасности за соблюдением молодежью ограничений полиморфизма привел к бурным выступлениям студентов, требующих права на самоустановление формы».
— Один придумал, а другие… только б не отстать, — сказала старуха с явным осуждением. — Копаешься в старых газетах, а во всех одно и то же. Фанатики расовой сегрегации требуют ограничений, а недоросли — свободы выбора. Им только позволь. В пеленках застаешь сосунка, а под утро…
Старик громко рассмеялся.
— Все шутишь. С этим-то как раз никаких забот. Право на выбор дает психическая зрелость, — он поправил на переносице очки, заглянул в низ страницы и посерьезнел. — Взгляни, что они тут пишут! «ГРАНИЦЫ ТРАНСФОРМАЦИИ». Статья какого-то профессора Гольберга. Впервые слышу.
«Существует реальная опасность возникновения так называемой «усталости материала», которая связана с частотой видоизменений и продолжительностью определенных воздействий на органическое вещество. Резкие смены функций организма приводят к вырождению макрочастиц, прежде всего нуклеиновых кислот. Исследования показали, что процессы преобразования оставляли невредимыми лишь водные растворы и биологические коллоиды, которые также являются жидкостями, хотя и имеют высокую степень вязкости. Так что достаточно пластичным элементом наших тел можно считать лишь жидкости. Однако не следует забывать, что человек — не амеба…»
— Вот… вот именно. Наконец что-то разумное, — подхватила старуха. — Не амеба.
— Но ведь это чепуха! — старик даже затрясся от злости. — Твой Гольберг не имеет ни малейшего понятия об истинном механизме биологических трансформаций!
— Мой Гольберг?! А ты сам-то имеешь? — она глядела на старика, сочувственно улыбаясь. — Мне казалось, ты сохранил здравый рассудок.
— Здравый рассудок, — передразнил он. — Ральф бы сказал: два древних, чудом выживших динозавра. Дремлют в залитой солнцем лагуне, и им в голову не приходит, как мало осталось жить.
— Ты о чем-нибудь жалеешь? — серьезно спросила она.
Он что-то буркнул в ответ.
— Да, — подхватила она. — Всегда лучше чувствовать, что ты не одинок.
— Перестань, — буркнул он под нос.
— Если б ты знал, Эрнест, что такое сидеть здесь в одиночестве и ждать известий из клиники. В любой момент кто-то мог позвонить и сказать, что ты никогда не вернешься.
— Позвонить? А ведь и верно…
Он с неожиданной энергией вскочил с кресла, но тут же сник и тяжело потащился в прихожую. Было слышно, как он снял трубку, попытался набрать какой-то номер, потом бросил ее.
— Не вышло? — спросила она, когда он вернулся и снова погрузился в свое кресло.
— Нет.
— Хорошо, что ты дома…
Он сидел, свесив голову на грудь, потом тихо сказал:
— Давай не будем об этом, Елена.
Они долго молчали. Она смотрела на него поверх вязанья, но он не поднимал глаз, снова уткнувшись в газету.
— А вот это даже забавно, — проговорил он после долгого молчания. — Объявление на полстраницы:
«ДЭВИД МЭДСОН — МЕССИЯ ЗООМОРФИЗМА».
— Чего-чего? — не поняла она.
— Еще один пророк и манифест его новой веры. Послушай:
«Мы обречены на половинчатость ощущений, на минимализм восприятия мира. По сравнению с совершенством эволюционных решений, которыми Природа одарила представителей животного и растительного мира, человек полуслеп и полуглух, он — калека с дегенерированными органами чувств. Поэтому свобода формы не может ограничиваться видом homo sapiens. БУДЬ ПТИЦЕЙ, ВОЛКОМ ИЛИ РЫБОЙ, КАК БЫЛИ ИМИ БОГИ ПИРАМИД, БОГИ С ГОЛОВАМИ ОРЛОВ И БЫКОВ! Только таким может быть тело ВЛАДЫКИ ВСЕЛЕННОЙ! Будь одним из нас — идея зооморфизма даст тебе истинную свободу и освобождение от оков рода! КАЖДЫЙ ИЗ НАС — НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ЛИЧИНКА КРЫЛАТОГО СФИНКСА!»
Старик замолчал.
— Но… — наконец простонал он, тяжело дыша. — Они посходили с ума!
— Опять Ральф?
— Нет. Ральф верен своим идеалам.
— Подозреваю, что и нам тоже отчасти.
Прижимая к груди клубок шерсти, словно свернувшегося котенка, она смотрела в точку своими белесыми, выцветшими глазами и улыбалась. Тепло и грустно.
— Да, — повторил он твердо. — Верен, как собака.
— Не говори так. Может быть, этим ты обижаешь его. — Она умолкла. — Тс! Там кто-то есть…
— Где? — удивился он.
— За дверью. Подслушивает.
— Опять тебе почудилось, — махнул он рукой.
— Я слышала шорох.
— Пойду взгляну, — он начал подниматься, одновременно нащупывая ногой шлепанцы.
— Нет-нет! — испуганно шепнула она.
— Тогда выбрость всю эту ерунду из головы. Наверно, снова собака. Болтается тут уже неделю.
— Послушай, Эрнест. А если… — она замерла, подняв палец с накинутой на него ниткой. — Я ведь уже раньше думала… Знаешь, однажды я сидела у окна. Этот пес бежал по тропинке, потом вдруг остановился и посмотрел на меня. Может, это и смешно, но я наверняка знаю, что смотрел он на меня.
— Надо было позвать, — равнодушно ответил старик. — Места в доме хватит…
— Ни за что! А вдруг он — один из них… Кто-нибудь из сторонников того пророка?
Старик рассмеялся, вконец развеселившись.
— Новое воплощение полупса-полубога?
— Я ведь серьезно. Взгляни на дату на газете. Даже бумага пожелтела. Последнюю нам принесли год назад. Все могло измениться. Теперь их может быть очень много.
— И одного они откомандировали подсматривать за нами, — он все еще смеялся, но уже не так уверенно. — Такая парочка — любопытнейший объект для наблюдений. Два древних ящера. Вот поклонники зооморфизма и приставили к нам своего соглядатая.
Видно, она приняла его слова всерьез, потому что не на шутку испугалась.
— Как ты можешь!
Он сложил газету и откинулся на спинку кресла.
— Иногда мне кажется, что за всем этим кроется какой-то более глубокий смысл.
— Скорее бессмыслица, — заметила она.
— Так нельзя, Елена. Мы верны нашим предкам. Слишком верны. А что если все это не более чем детское упрямство?
— Когда-то Ральф тоже сказал, что мы отличаемся детским упрямством.
— Потому что в этом что-то есть. Они практически бессмертны. Их ограничивает только барьер психической усталости, утомление от жизни. Но с ним можно протянуть и тысячу лет.
— Слишком уж много, — сказала она так тихо, что он едва расслышал.
— Ну, видишь, это сделал твой сын, а мы окрестили его молохом.
— Я всегда любила Ральфа, Эрнест, и верю, что когда-нибудь он к нам придет… Но одного я ему не прощу.
— Чего же?
— Взгляни в окно, — сказала она. — Ты когда-нибудь раньше видел таких больших и странных птиц?
— Тебе показалось, — его ясные зеленоватые глаза потемнели от странного света за раздвинутыми занавесками. — Всему виной сумерки и тучи. Низкие, как перед бурей.
— Нет, Эрнест, — она спокойно вывязывала очередную петлю. — Нет. Не надо меня обманывать. Это не птицы. Так же как и тот рыжий, вынюхивающий что-то пес. Никогда не прощу Ральфу того, что он сотворил с нашим миром.
— Грешно ли подарить людям истинную свободу? — Старик задрал подбородок со следами седой щетины. — Достаточно было небольшого вмешательства в генетику и в механизм гормонального метаморфизма. Плюс несколько радикальных иссечений в мозжечке и щитовидной железе. Организм человека уже был подготовлен к такой операции.
— Подготовлен? — переспросила она.
— Конечно! Видишь ли, Елена, теперь любой из них может стать кем захочет. Свобода формы и пола. Достаточно глубоко сконцентрироваться на метаболизме организма — и человек впадает в состояние летаргии, а потом просыпается в иной ипостаси.
— А тому грабителю не понадобилось даже засыпать.
— Вот видишь. Вопрос тренировки. Никто ведь не знает, до какой степени можно совершенствовать власть над собственным телом. Безразлично, появился ли ты на свет болезненным, ущербным человеком или женщиной, которая раньше полжизни отдала бы за красоту и обаяние. Теперь все зависит от твоей психики, от желания. Твой внешний вид — отражение богатства души. И это справедливо.
— Обойдемся как-нибудь, — заметила она.
— У нас просто не было другого выхода! И так ли ужасно быть сегодня женщиной, завтра мужчиной? Либо кем-то еще? Может быть, ничего странного нет даже в том, что какой-то пророк вещает о появлении нового сфинкса?
Он еще некоторое время тяжело дышал, и глаза его горели необыкновенной энергией. Потом неожиданно обмяк и спрятал лицо в ладони.
— Эрнест… — прошептала она.
— Что? — буркнул он, не поднимая головы.
— Ты так странно говоришь…
— Потому что хочу сказать наконец, — голос у него дрожал. — Я устал держать это в себе. Ведь ты всегда была умнее многих других женщин, ты должна понять. Они существуют независимо от того, нравится ли это нам. Возможно, они не люди в нашем понимании, но именно им принадлежит решающее слово в судьбе нашего вида, вершиной которого некогда были мы, люди.
— Они уже не люди, — упрямо сказала она.
— Стереотип рассуждений. Что такое человек? А если то, что совершил Ральф и его сподвижники, было не раковой опухолью вырождающейся науки или удачным, хотя и сумасшедшим, экспериментом?
— А чем же тогда еще?
— Эволюционной необходимостью.
— Не понимаю, — призналась она.
— Видишь ли, в том виде, в каком сейчас существуем мы с тобой, человек уже пребывает десятки тысяч лет, со времен кроманьонцев. Между ранним же и поздним палеолитом homo sapiens претерпел огромные изменения, пройдя путь от питекантропа до современного человека. Но начиная с позднего палеолита физическая эволюция человека прекратилась! Значит ли это, что тот человек, которого мы привыкли видеть, являет собой вершину эволюции, что он нечто окончательное, неизменное, застывшее? Ерунда! Было бы величайшей ошибкой так считать. Откуда же взялось торможение, длящееся уже десятки тысяч лет?
— Не знаю, — сказала Елена так, словно думала уже о чем-то совершенно другом. Спицы в ее руках быстро мелькали.
— А я знаю! — воскликнул он.
— Эрнест…
— Погоди. Я тебе скажу, почему мы перестали развиваться. Исчерпались возможности природы. Она была не в состоянии дальше двигать нашу эволюцию. Род homo sapiens ждал. И не думаю, что мы затащили нашу цивилизацию на неверный путь. Это лишь качественный прыжок. Предвиденная и глубоко укрытая в возможностях эволюции метаморфоза. От homo sapiens до homo creator — в полном значений этого слова. Не сумасшествие, а необходимость высшего порядка!
— Эрнест, — укоризненно сказала она. — А ведь совсем недавно мы думали одинаково.
— Мы и сейчас ближе, чем когда-либо, — быстро сказал он. — Пойми, мы оказались на обочине главной ветви эволюции. Словно динозавры. Словно неандертальцы.
Старуха перестала вывязывать петли и внимательно взглянула на мужа.
— Эрнест. Я мало что понимаю. Прости. Я больше слушала как ты говоришь. Вы с Ральфом очень похожи.
Наступила тишина. Они сидели, глядя друг на друга из разных углов маленькой комнатки. Сундук, диван, кресло и стул, на стене снимок в золоченой рамке — тех времен, когда они были молоды, рядом — стенные часы — даже не слышно, как они тикают, наверно, остановились ночью, а может, вчера или и того раньше. Тишину разорвал громкий лай. Он замер на высокой ноте, а потом послышался жалобный удаляющийся вой, словно собака убегала, поджав хвост.
Резкий звук звонка.
— Ax! — вскрикнула Елена. Клубок шерсти упал у нее с коленей и покатился к столу.
— Кто там еще? — удивился старик.
— Не отворяй, — шепнула она.
Он встал, снисходительно улыбаясь, и, шаркая шлепанцами, направился в прихожую. Сначала скрипнул засов, потом дверь.
— Добрый вечер, — раздался молодой женский голос. Старуха сидела, прислушиваясь.
— А-а, добрый…
— Я разыскиваю мать Ральфа Боита.
— Да? Моя… жена в комнате.
— Ваша жена?
— Меня зовут Эрнест Боит.
— Но ведь… Я думала, вы…
— Проходите, пожалуйста, налево.
В комнату вошла высокая темноволосая девушка в красном платье. Стройная и тоненькая. На ногах розовые чулки и туфельки, как из перламутра. Через плечо — сумочка.
— Добрый вечер, — сказала она и взглянула на старуху огромными печальными глазами.
— Добрый вечер, — ответила та.
— Не буду мешать, — буркнул старик. — Пойду в сад. Взгляну. Что-то хмурится, будет дождь.
— Нет-нет, — словно испугавшись чего-то, запротестовала старуха. — Останься.
— Как хочешь.
Он подошел к креслу и скрылся за раскрытой газетой.
— Да… Значит, это вы… — старуха беспомощно стиснула в руках неоконченное вязанье. — Cадитесь… — она указала на диван.
Девушка присела на краешек.
— Значит… Вы ищете мать Ральфа? Я его мать, могу вам чем-то помочь?
— Вы должны знать, где он, — ответила девушка.
— Я? — удивленно взглянула на нее старуха.
— Конечно.
Старуха беспокойно заерзала на стуле.
— Видите ли, Ральф давно не был здесь, — неуверенно сказала она. — Вам, вероятно, лучше спросить кого-нибудь из его друзей. А я даже не знаю, кто они и где живут. Вы должны знать. Спросите их.
— Я спрашивала.
— Ну и что?
— Возможно, они не хотят сказать.
— А почему бы им не хотеть? Да… А, собственно, зачем он вам?
— Я скоро стану матерью.
— Ох, — смутилась старуха. — Я не заметила…
— Но я еще не знаю, решусь ли рожать, — сказала девушка.
— Минутку, — старуха насупила брови. — Почему не знаете?
— Если Ральф не вернется… Это зависит от него…
— Значит, это он?!
— Да.
— Он знает?
— Нет, он неожиданно исчез.
— Странно, — задумалась старуха.
— А вы не пытались его разыскать? — спросила девушка.
— Дом и сад — вот весь мой мир. Я давно не выходила за его пределы. Муж был в лечебнице, а я…
Девушка опустила свои огромные глаза.
— А я искала. Но напрасно. Пока он сам не захочет, никто его не найдет. Никогда.
— Вы думаете… он… — с тревогой спросила старуха.
— Ваш дом — последнее место, где я спрашиваю о нем. Завтра я тоже уйду.
— Куда?
— Если он решился, то и я стану кем-нибудь другим. Жаль, когда-то я думала, что мы сможем быть вместе…
— А ребенок?
— Из-за него я и откладывала. Может, мне легче было бы найти Ральфа, если бы я не была похожа на себя. Но это бы означало конец для ребенка. Но ничего, завтра я стану другой женщиной. Возможно, более красивой, от которой такой человек, как Ральф, не ушел бы. Или мужчиной, и постараюсь завоевать сердце какой-нибудь другой женщины… Жизнь в любом случае впереди… Не та, так другая.
Ее глаза стали еще больше от набежавших слез. Она даже не открыла сумочку, чтобы поискать платочек и вытереть щеку, и медленно поднялась с дивана.
— Ну, я пойду.
— Постойте! — воскликнула старуха. — Так же нельзя!
— А что мне остается? До свидания. Точнее — прощайте, мы, вероятно, больше не увидимся.
Направляясь к двери, она задержалась около старика, поглощенного изучением газеты.
— С вами я тоже прощаюсь, — сказала она. — Хорошо, что вы живы. Помнится, Ральф как-то говорил, что у вас неважное здоровье. Но, надеюсь, теперь все в порядке. Это хорошо. Вместе всегда лучше…
— Да-да, — подтвердил старик, опуская газету на колени.
— Не вставайте, — запротестовала девушка, видя, что оба встали, чтобы проводить ее.
— А если все-таки Ральф появится? — неуверенно спросила старуха.
— Зачем? — рассмеялась девушка и тряхнула длинными волосами. — Любовь хороша тогда, когда она есть. Сегодня я и сама вспоминаю только какие-то мелочи. Например — глаза — они всегда у него задумчивые и печальные, а еще зеленые. Он говорил, что унаследовал их от матери, но я вижу, и у вашего мужа такие же.
Старик поправил пальцем сползшие на кончик носа очки.
— Ну, прощайте, — девушка улыбнулась старухе. — И не надо меня провожать.
Она повернулась и быстро вышла. Еще некоторое время был слышен стук ее высоких каблучков. Потом воцарилась тишина. Только где-то далеко все еще жалобно выла собака.
— Эрнест, — тихо сказала женщина.
— Да?
— Что это значит?
— Ну… ничего, — проворчал он. — После приступа, когда я последний раз лежал в клинике, я попросил, чтобы мне дали новые хорошие глаза. Зеленые, как твои. Для них это не проблема.
— Эрнест, это неправда.
— Уверяю тебя.
— Ты весь — другой. Я же вижу. Чувствую. Ты даже говоришь иначе. Кем ты… Кто ты?
— А кем я могу быть? — беспомощно спросил он.
Он снял очки и, щуря глаза, потер пальцами переносицу. Хотел что-то сказать и встретился со взглядом старухи. Очки стукнулись об пол.
Он неожиданно ссутулился и закрыл лицо руками. Сидел так долго, а она глядела, как дрожат его плечи, и тоже не могла произнести ни слова. Он заговорил, но это уже был другой, совершенно другой голос.
— Прости… мама, — сказал он.
— Ральф?!
Она вскочила так резко, что откинутый стул с грохотом упал на пол. Вязанье сползло на ковер.
— Зачем?! — Она смотрела на него своими выцветшими, некогда зелеными глазами. — Ведь Эрнест… Ральф, что это значит?
— Я должен был, — простонал он.
— Зачем?
— Отец… У него был последний приступ.
Она покачнулась и упала бы, но оперлась рукой о стену. Он даже не заметил — все еще сидел, свесив голову до колен.
— Я предчувствовала… — прошептала она, едва шевеля губами. — Предчувствие не обмануло меня тогда, ночью. Рядом не было никого, и я знала, что никогда не будет. Но утром пришел ты и сказал, что все в порядке, что обошлось. Я была счастлива и забыла о предчувствии… Зачем ты это сделал?!
— Вы… никогда не расставались, — глухо сказал он.
— Ральф!
— Я хотел, чтобы ты осталась. Хотя бы ты.
Она стояла у стены, глядя на него. Слезы навернулись на ее глубоко запавшие глаза, но не скатились по щеке, а разбежались по сеточке сухих морщин.
— Так нельзя, Ральф, — сказала она. — Тот, кто уходит, должен уйти. Спокойно. Ты же сам говоришь, мы динозавры. А ты — уже другой человек.
— Мама! — плечи его задрожали еще сильнее.
— Если ты хотел быть рядом со мной, то надо было прийти Ральфом. Я знаю, ты хотел как лучше… Поэтому я буду ждать. Приди таким, каким был мой сын. Но не возвращайся один…
За окном послышался далекий гул, словно за горизонтом начиналась гроза.
— Видишь, собирается буря, а девушка, наверно, еще не дошла до города. Надо ее догнать. Теперь ты принадлежишь ей и ее ребенку. Ты не имеешь права забывать об этом. Он должен родиться. Ведь для него ты создал свой новый, — она с горечью покачала головой, — прекрасный мир.
Старуха подошла к креслу и положила руки на его седую голову.
— Это не плохой мир, мама, — сказал он и прижался к ней.
— Может быть, — сказала она. — Не знаю. Но именно поэтому беги за ней. Я поверю, что твой мир прекрасен, может быть, даже добр, только если ты наберешься мужества отдать ему собственное дитя. Иди.
Старик послушно поднялся. Лицо у него было иссиня-серым, как небо за окном, с которого упали первые капли дождя. Они уже шумели в листве деревьев перед домом и застучали по подоконнику.
— Дождь начинается, — сказал он. — Я закрою окно.
— Дождь? — она словно очнулась. — Слышишь?.. Странный шум…
— Ну-ну, все хорошо, все уже хорошо, — он погладил ее руки.
— Нет, какой-то голос…
— Тебе показалось. Дождь, — он подошел к окну и вдохнул полной грудью. — Подойти и взгляни, какие крупные капли.
Она встала рядом, совсем маленькая, согбенная, словно он сразу же подрос, распрямил так долго сутулившуюся спину. Перед ними в тумане и полумраке лежал мир. Среди звуков усиливающегося ливня выделился какой-то тихий шелест, он то стихал, то появлялся вновь, словно что-то ползло в сухой траве, вторило ударам капель, тянуло за собой гул отрывочных голосов.
— Послушай, опять! — шепнула она. — Надо скорее догнать девушку.
— Да, — сказал он. — Иду.
Он уже отвернулся от окна, когда она схватила его за руку.
— Подожди, — щуря выцветшие глаза, она пыталась что-то разглядеть за занавеской, колеблющейся под порывами ветра. — Ральф, видишь? Куда бежит собака?
— Убегает от дождя.
— Но она бежит сюда.
— Становится темно, а у нас единственный дом в округе.
— Ральф! Девушка! Она тоже бежит сюда!
— Но ведь это всего лишь дождь, — удивился он. — Почему она так спешит?
— Ральф, иди скорее, — поторопила старуха. — Отвори дверь.
— Дверь открыта. Она выходила последней и прикрыла ее только снаружи.
Где-то, вероятно у порога, заскулила собака. На дорожке послышались шаги. Стук в дверь. Опять раскат грома, на этот раз ближе. Ветер усилился, и странный, все более явственный звук плыл над землей, словно волна невидимого наводнения.
Стук повторился.
— Открыто! — крикнул Ральф и выбежал в прихожую. — Ну, все-все, спокойно…
Дверь раскрылась, ворвался ветер. Полыхнула молния. От неба до земли. В призрачном свете лицо девушки казалось особенно бледным. К ногам жался скулящий мокрый пес.
— Что-нибудь случилось? — спросил Ральф.
Девушка, тяжело дыша, прижалась мокрым лицом к его груди.
— Там… — проговорила она с трудом, — из города…
— Что? — не понял он.
— Н-не знаю… — всхлипнула она. — Ночь. И такой странный хруст. Он приближается. Ничего не видно. Только один этот звук — страшный… Я побежала обратно… По дороге собака… И мы вместе…
— Идите сюда! — крикнула из комнаты старуха.
— Что там еще? — отозвался он.
— Со стороны города, — дрожащим голосом проговорила старуха. — Оно темнее, чем ночь.
— Идет из города, — шепнула девушка.
— Кто? — он все еще не понимал.
Вдруг он охнул и кинулся к окну.
— Нет!.. — простонал он, втягивая голову в плечи. — Невероятно…
— Говори!!!
— Нельзя было забиваться сюда… Да-да, я все время читал газеты годичной давности… Оставаться на месте — значит отступать. Теперь я знаю… То, что мы совершили, было лишь началом… прелюдией метаморфозы…
— О чем ты, Ральф?! — спросила старуха.
— Ральф?! — вскрикнула девушка.
Ральф обнял ее.
— Мы остались далеко позади, дорогие мои, — в его глазах стояли слезы. — Ты, мама, и ты, и даже собака… А там свершился новый перелом. И сегодня даже я не могу представить себе, кем или чем стали теперь люди. Взгляните на эту черную лавину… Она все ближе. Еще немного, и она поглотит нас.
— Я боюсь, — шепнула девушка.
— Не надо, — неуверенно улыбнулся он. — Ведь ЭТО вышло из домов… Во время бури, на дождь и под открытое небо… Дождь промывает раны, смывает всю грязь.
— Что это может быть, Ральф? — дрожащим голосом спросила старуха.
— Н-не знаю, — ответил он. — Ничего не знаю… Но ждать осталось недолго. Может, узнаем, когда каждый атом наших тел сольется с надвигающейся волной… Странное ощущение… Может быть, там вообще не будут иметь значения форма и… одиночество? Смотрите… Миллиарды зрачков, видящих насквозь… А мы… Какое странное ощущение… Куда вы?.. Где вы?! О-ох, как глубоко… и легко… Опять вместе… неужели…
— Странный, невесомый мир.
Еще некоторое время чужой звук нарастает тяжелым пульсом и слышны размеренные четкие шаги, одновременно с этим топот бегущих ног, обутых и босых, собачий вой. Потрескивание радиопомех, трепет крыльев, пение птиц, женский смех, голоса, мерное дыхание зеленой шелестящей листвы. Музыка, шепот. Гортанный звериный рык сменяется гулом моторов, скрежетом и топотом копыт. Снова смех. Какой-то звук — струн, стекла, пружин? Все перемешалось, пульс — пульс гигантской аорты… И вдруг тишина… Полная тишина. Ни шороха, ни звука, и только иногда из пустоты в пустоту падает последняя капля дождя и слышен удаляющийся гром.
Notes
1
Bila hul raze 7,62, (ss) Vejce naruby, Praha: Mlada fronta, 1985. Collections: Vejce naruby
(обратно)2
Пер. изд.: Дилов Л. Двойната звезда, (ss) 1979. Collections: Двойната зведа; Не пушете! Затегнете коланите!; Зеленото ухо — София: 1982. c Любен Дилов, 1982 с/о Jusautor, Sofia, c перевод на русский язык, «Мир», 1987.
(обратно)3
Печатается по изд: Мекель К. Ошибка: Пер. с нем. — М.: Молодая гвардия, 1985 (Дело самих строителей. Приложение к журн. «Молодая гвардия»). — Пер. изд. Mockel К. Der In-turn: в сб. Mockel К. Die Glasserne Stadt. — Berlin: Verlag Das Neue Berlin, 1971. " c Verlag Das Neue Berlin, Berlin. 1981 c «Молодая гвардия», 1985 г.
(обратно)4
Пер. изд.: Nemere I. Szazlabu: Robur, 1985, № 3. — Budapest. c Kuczka Peter amp; Rig6 Bela editors, 1985. c перевод на русс кий язык, «Мир», 1987.
(обратно)5
Пер. изд.: Hollanek A. Ukochany z Ksieziyca: в сб. Hollanek A. Ukochany z Ksieiyca. — Warszawa: Krajowa AgenCja Wydawnicza, 1979.* c Copyright by Adam Hollanek Warszawa 1979 c перевод на русский язык, «Мир», 1987.
(обратно)6
Пер. изд.: Mond F. Musiu Larx: в сб. Cuent^s cubanos de ciencia ficcion. Selection de J. C. Reloba. — Habana: Gente Nueva. c перевод на русский язык, «Мир», 1987.
(обратно)7
Речь идет о национально-освободительной войне 1895–1898 гг., которую кубинский народ вел против испанского колониального владычества. — Здесь и далее прим. перев.
(обратно)8
Кордель — мера длины, равная 20,35 метра.
(обратно)9
Валериане Вейлер — генерал-губернатор Кубы, автор пресловутого «приказа о реконцентрации», согласно которому все сельское население насильственно переселялось в города, чтобы лишить Освободительную армию продовольственной базы.
(обратно)10
Пер. изд.: Andelkovic R. Vamica: Najbolje «svetske sf price, 1986. — Beograd: Prosveta, 1986. c перевод на русский язык, «Мир», 1987.
(обратно)11
Печатается по изд.: Зегерс А. Сказания о неземном: «В мире книг», 1975, № 10, с испр. — Пер. изд.: Seghers A. Sagen von.Unirdischen: в сб. Seghers A. Sonderbare Begegnungen. — Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag, 1975. c Aufbau-Verlag Berlin und Weimar 1973 c «В мире книг», 1975 г.
(обратно)12
Пер. изд.: Fialkowski К. Telefon wigilijny: Fantastyka, 1985
c Copyright by Konrad Fialkowski, Warszawa 1985. c перевод на русский язык, «Мир», 1987.
(обратно)13
Пер. изд.: Rodriguez E. F. El otro mundo: в сб. Cuentos cubanos de ciencia ficcion. Selection de Juan Carios Reloba. — Habana: Gente Nueva. c перевод на русский язык, «Мир», 1987.
(обратно)14
Пер. изд.: Kubic L., Pristehovaici: в сб.: Stak) de zitra. — Praha: Svoboda,1984. c Ladislav Kubic, 1984. c перевод на русский язык, «Мир», 1987.
(обратно)15
Пер. изд.: Mikulicic D. Pela, svjeta zmija: в сб.: «О». — Вео. — grad: Prosveta, 1982. Перевод на русский язык с сокращениями, «Мир», 1987.
(обратно)16
Пер. изд.: Jurist E. Era posttelematica: в сб. jurist E. Umor expres. -Bucuresti: Editura Sport-turism. 1984. с перевод на русский язык, «Мир», 1987.
(обратно)17
Пер. изд.: Csernai Z. A. Kajman effektus: в сб. Galaktika 55. Budapest, 1984. c Kuczka Peter editor, 1984 c перевод на русский язык с сокращениями, «Мир», 1987.
(обратно)18
Пер. изд.: Chaviano D. La culpa es del robot: в сб. Cuentos cubanos de ciencia fictiun. Selection de J. C. rieloba. — Habana: Gente Nueva. c перевод на русский язык, «Мир», 1987.
(обратно)19
Пер. изд.: Kober W. Nova: в сб. Kober W. Nova. — Berlin; Verlag Das Neue Berlin, 1985. c Verlag Das Neue Berlin, Berlin. 1985 c перевод на русский язык, «Мир», 1987.
(обратно)20
Пер. изд.: Pietrzykowski Z. Zfudzenie. — Fantastyka, 1985, № 6. c Copyright by «Fantastyka», Warszawa, 1985 c перевод на русский язык с сокращениями, «Мир», 1987.
(обратно)21
Пер. изд.: Neff О. Struna zivota: в сб. Neff О. Vejce naruby. — Praha: Miada fronta, 1985. c О. Neff, 1985 c перевод на русский язык, «Мир», 1987.
(обратно)22
Stanislav Lem. Kongres futurologiczny, 1971. Пререводы на рус.: «Конгресс футурологов: Из воспоминаний Йона Тихого» / Пер. А.Спички — cокр. отрывок из опубл. позже повести «Футурологический конгресс» (1971); пер. из журнала: «Szpilki». — 1970. — № 51/52 (в послесл. переводчика ошибочно указан: 1971. — № 1). «Футурологический конгресс» / Пер. К.Душенко
(обратно)23
Розыгрыши (англ.).
(обратно)24
In effigie, лат. «в изображении», средневек. способ наказания отсутствующего преступника: сожжение или повешении его изображения.
(обратно)25
United States Air Force — Военно-воздушные силы США (англ.).
(обратно)26
Вертолет армии США (англ.).
(обратно)27
Члены молодежной радикальной группировки в США.
(обратно)28
Здесь: по доверенности (лат.).
(обратно)29
Вы говорите по-испански? (исп.)
(обратно)30
Выбрасывание из окна.
(обратно)31
Счастье путем вырывания ног (лат.).
(обратно)32
Отец семейства (лат.).
(обратно)33
Каждому свое зло! (лат.).
(обратно)34
На выбор (лат.).
(обратно)35
«Апостольскими стопами», то есть пешком (лат.).
(обратно)36
Различные формы латинского глагола «fero» — «нести».
(обратно)37
Все сущее — пилюля (лат.).
(обратно)38
Мир градам и весям (лат.).
(обратно)39
Се — человек! (лат.).
(обратно)40
Пер. изд.: Devenyi Т. Csaszarhus: в сб. Galaktika 55. — Budapest, 1984. c Kucka Peter editor, 1984. c перевод на русский язык, «Мир», 1987.
(обратно)41
Пер. изд.: Rogozinski К., Zwikiewicz W. W cieniu sfinksa: в сб. Gosc z glebin. — Warszawa: 1979. c Copyright by Spotdzielnia Wydawnicza «Czytelnik» Warszawa 1979 c перевод на русский язык, «Мир», 1987.
(обратно)

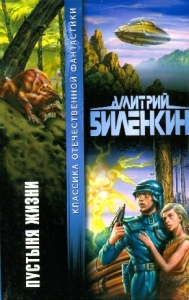
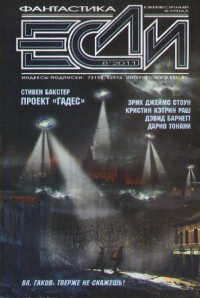

Комментарии к книге «В тени Сфинкса», Радмило Анджелкович
Всего 0 комментариев