Михаил Васильев ЛЕТАЮЩИЕ ЦВЕТЫ
I
Горный поток низвергался со стометровой высоты. Подбежав к краю ущелья, он делал первый головокружительный прыжок вниз: казалось, голубовато-зеленая лента свешивается с серой скалы. Затем лента исчезла в белом облаке брызг — поток падал на каменные глыбы.
Но это была только первая треть пути. Весь в белой пене, щедро разбрасывая клочья ее по сторонам, поток падал дальше, перескакивая с уступа на уступ. Внизу в серой тьме ущелья, пробежав по камням, он сливался с другим, более мощным потоком, и вместе они продолжали путь к морю.
Завьялов полулежал на узком выступе скалы как раз над тем местом, где голубоватые струи водопада сталкивались с летящими навстречу брызгами. Иногда ветер подхватывал и бросал ему в лицо пригоршню мелких капель. Скала от них становилась мокрой и скользкой. Держаться на ней было трудно.
Завьялов повернул голову налево и прижался правой щекой к холодному шершавому камню. Перед его глазами повис водопад. Отсюда, вблизи, он отнюдь не казался голубой лентой — это была лавина воды, могучая и яростная, с прожилками пены и мути, готовая подхватить и беспощадно перемолоть в жерновах камней все, что попадет в ее холодные упругие струи. Завьялов осторожно повернул голову и прижался к скале левой щекой. Взор скользнул по голой базальтовой стене. Нет, продолжать подъем было невозможно. Опытный альпинист, Завьялов понял это еще сорок минут назад, осматривая стенку ущелья снизу. Он не поверил себе, решил убедиться. И полез, цепляясь упрямыми пальцами за шатающиеся обломки разбитого выветриванием камня, используя каждую трещинку, пробитую корнем растения. Сорок минут подъема и сорок возможностей сделать последние в жизни полшага. Нет, пожалуй, он не имел права позволить себе такую роскошь!
Завьялов снова осторожно повернул голову и посмотрел вверх. До цели оставалось совсем немного. Метрах в двадцати выше, по ту сторону водопада, на отвесной стене были выбиты человеческие фигурки. Одни из них, припав на колено, целились из лука, другие метали на бегу копья, третьи сидели в ладьях и гребли.
Чуть ниже находилось черное отверстие пещеры. А над ним, перечеркнув все поле рисунка, разрушив часть фигур, темнел большой крест, видимо появившийся здесь значительно позже.
Эта-то пещера, окруженная первобытными изображениями, и интересовала Завьялова. Высоко в горах, почти на границе вечных снегов, такая находка была неожиданностью, способной заинтересовать и археологов и этнографов. Конечно, в обязанности группы геологов, состоявшей к тому же всего из четырех человек, включая проводника — местного охотника, не входили археологические исследования. Но сейчас Завьялова интересовало другое — как добирались к пещере люди, оставившие там вечные следы своего пребывания? Может быть, они использовали другие, более доступные входы? Или водопад, преградивший путь Завьялову, возник позднее и именно он отрезал пещеру?
Действительно, с той стороны потока кое-где на скале виднелись трещины, уступы, выбоины… Ступив на тот рыжеватый камень, можно дотянуться до прижавшегося к скале кустика, явно скрывающего под листвой глубокую трещину. А оттуда, переставив левую ногу на черный выступ, надо перейти к вертикальной расщелине. По ней можно подняться, упираясь в ее стенки ногами и руками, метров на пять. А дальше использовать карниз, почти неприметный отсюда… Да, путь к пещере продолжался с той стороны потока. Не легкий и не простой путь, но во всяком случае проходимый.
Мимо щеки Завьялова деловито проползли вверх две жирные зеленые гусеницы. «Этим легко, — подумалось ему, — у них восемь ног, а у меня вместе с руками вдвое меньше…»
Завьялов сдвинулся чуть-чуть вперед. Тело устало от напряженного пребывания в одной позе. Слегка повернувшись на бок, он на несколько секунд освободил одну ногу, затем другую. Потом, заняв наиболее устойчивое положение, левой рукой достал бинокль. Тот показался чрезвычайно тяжелым: рука, державшая его, перевешивала всю остальную часть тела. На мгновение Завьялов почувствовал, что теряет равновесие и валится вниз. К горлу подкатился клубок тошноты. Но, пересилив слабость, прижавшись подбородком к мокрому камню, он перенес руку с биноклем к лицу и снова повернул голову. Окуляры стремительно приблизили ту сторону водопада, казалось, до нее можно достать рукой. Да, на ней было за что зацепиться. Завьялов шаг за шагом проследил путь до самого входа в пещеру. Но как перескочить через пятиметровую серо-голубую ленту кипящей воды?
Завьялов опустил бинокль, противоположная стена отпрыгнула и стала на свое место. В этот момент камень, за который он напряженно держался правой рукой, качнулся, готовый выскочить из своего ложа. Левая рука непроизвольно выпустила бинокль и, инстинктивно ища опоры, упала на камни. Через мгновение равновесие было найдено, но бинокль исчез в белом облаке брызг и пены…
— Надо спускаться, устал, — сказал себе Завьялов и не услышал собственного голоса, заглушенного грохотом водопада. Только сейчас геолог почувствовал этот могучий рев, не доходивший прежде до сознания. Он закричал изо всех сил и снова не услышал своего крика.
Извиваясь, как змея, он пополз вперед по холодному, скользкому камню. Почти переваливаясь за переднюю грань карниза, служившего ему опорой, он на миг дотянулся до поворота скалы, до края щели, в которую низвергался водопад, и увидел вспененный край потока. Основная масса воды падала вниз, оторвавшись от скалы, — это был прыжок в воздухе, а не скольжение по склону. Крупные капли упали ему на щеку. Прижимаясь к скале, он начал спускаться…
Площадка не завершала спуск, но дальнейший путь по пологому каменистому склону был нетруден. Завьялов сел, прислонившись спиной к обломку скалы и вытянув вперед ноги. Колени трясла мелкая дрожь, в кистях рук не было силы, а пальцы сейчас не смогли бы расстегнуть даже пуговицу. Ему стало страшно…
Из-за горы выглянуло солнце, площадка расцветала желтыми, голубыми, красными цветами — необычайно нежными и слабыми на вид, но необыкновенно стойкими и упорными в борьбе с суровой природой. Завьялов любил робкую красоту этих цветов. Он долго смотрел, как между ними, перелетая с одного на другой, жужжал большой бархатный шмель. Вот он зацепился лапками за край желтого пушистого цветка, сунул в его чашечку переднюю часть своего тела и почти весь скрылся там. Сделав свое дело, он вылез, деловито почистил передние лапки и полетел дальше, облепленный желтой пыльцой…
На сырую гимнастерку Завьялова села большая мохнатая, необыкновенно красивая бабочка. Устроившись поудобнее, она сложила крылья, и через мгновение раскрыла их, словно обмахиваясь двумя роскошными веерами. Завьялов сидел совершенно неподвижно. Вторая бабочка села ему на колено и тоже распахнула крылья. Эта бабочка была уродлива, одно крыло у нее было меньше другого. Третья села на руку. Туловище ее было заметно больше, чем у первых двух. И все они в такт, как по команде, одновременно складывали и раскрывали свои пестрые, нарядных раскрасок крылья…
II
Николай и Оля не сразу подошли к костру. Они замешкались на несколько секунд шагах в десяти, на границе свата и темноты. Завьялов понял: Николай нес оба рюкзака и теперь один отдает своей спутнице.
По заданию они должны были сегодня обследовать западные ветви ущелья. Завьялов удивился, когда Николай, высокий, стройный юноша, развернув карту, показал итоги дневной работы. Он не ожидал, что они смогут пройти так далеко.
— Ну, а каковы находки?
Николай разложил образцы пород. Здесь были граниты и кварцы, несколько кристаллов горного хрусталя, несколько образцов гальки, принесенной потоками. По ним можно составить представление о породах, залегающих выше по течению этих потоков.
Завьялов достал контрольный аппарат и, надев наушники, исследовал образцы на содержание радиоактивных элементов, поиски которых были задачей экспедиции. Граниты и гнейсы дали два-три щелчка в минуту — обычное содержание урана в таких породах. При испытании прочих образцов аппарат вообще безмолвствовал.
— У меня сегодня тоже пусто, — сказал Завьялов, — прячется волшебный металл. А где-то здесь его должно быть очень много. Чувствую. Нюх мой никогда меня не обманывал. Ну, об этом завтра. А сейчас — немедленно ужинать.
За ужином Завьялов рассказал о выбитых на скале изображениях и пещере. Он умолчал о своей попытке добраться до входа: это было бы непедагогично. Молодых геологов не следует учить излишнему риску, да и к тому же еще ничем не оправданному. В работе геолога-разведчика и так слишком много рискованного и опасного.
На усталых студентов сообщение не произвело почти никакого эффекта. Зато откликнулся четвертый член группы-проводник, местный охотник. Звали его обычно фамильярно и дружелюбно — папаша.
— Это место «Гамаюнов крест» называется, а пещера — Гамаюновой. Но дороги нет в ту пещеру. Никто до нее не добирался. Только горные духи могут в нее перенести. Для этого волшебное слово надо знать.
— Как же никто не добирался, если там на скале фигуры и крест выбиты?
— А про фигурки рассказ особливый. Это Гамаюн их вырезал.
— Расскажите, какой Гамаюн? — вмешалась Ольга.
— Гамаюн — это, сказывают, был один богатый охотник, кулак по-теперешнему. Злой и жадный, никому пощады не давал. Была у него дочь, звали ее Дин. Такая красавица! Не было парня в деревне, чтобы не вздыхал по ней. Первые богачи огромный калым предлагали. Полюбила же она работника своего отца, пастуха Гица. Порешили они бежать от Гамаюна и пожениться. «Мир велик, — говорил Гиц, — неужели я в другом месте не добуду стрелой горного барана и не подниму медведя на рогатину». Узнал об этом Гамаюн — он колдун был, ничего скрыть от него было нельзя — и в ночь, когда должен был совершиться побег, опоил с вечера свою дочь снотворным зельем, призвал горных духов и унес ее с их помощью в такое скрытое место, что даже Гиц, который знал все тропки в горах, не смог бы найти. У отца на Дин свои планы были: хотел выдать ее за старика (богача из соседней деревни) и большой калым взять. Хотя у старика и так три жены было, он на Дин давно заглядывался. А было ей в то время пятнадцать лет — самый возраст для невесты в наших местах.
Прождал Гиц полночи с конями на краю селения и решил, что изменила ему Дин. С первыми лучами солнца вскочил он в седло и поскакал в горы. К полудню притомился конь, спешился Гиц, сел у родника. Что ему делать, не знает… А Дин меж тем проснулась в пещере, куда ее отнесли горные духи. Как раз в той пещере, которую, Сергей Андреевич, вы сегодня заметили. Мокрая насквозь — ее духи в поток окунули. Встала — она с травянистого ложа, подошла к отверстию и видит, что перед ней отвесная скала и внизу водопад гремит. Нет выхода! Что делать?! И вдруг слышит, травинки, прилепившиеся к скале, человеческим голосом к ней обращаются.
— Хочешь скажем Гицу, где тебя искать? — спрашивают травинки.
— Хочу, — отвечает Дин.
— А что ты дашь нам за это?
— А что вы хотите, травинки?
— Красоту и силу твою.
— Зачем вам они? — удивилась Дин.
— Сила — за камни держаться, с ветром спорить, красота — чтобы любовались нами. Видишь, мы сейчас какие слабенькие и некрасивые?
— А что же мне самой останется, если я красоту и силу вам отдам?
— Тебе любовь останется. Ведь это у тебя самое главное.
Подумала Дин: действительно, зачем ей сила и красота, если не будет с нею ее любовь? И согласилась.
И сразу расцвели кругом цветы изумительной красоты. Колокольчики взяли себе голубизну Дининых глаз, гвоздики — алый цвет губ, фиалку — белизну рук и плеч. Не знала Дин, что все это у нее взято, только почувствовала вдруг слабость какую-то во всем теле и опустилась на гранит скалы. А взглянув на руки свои, увидела, что стали они серыми, шершавыми, дряблыми, как у старухи. Но и это не огорчило Дин, ибо в сердце ее ничего, кроме любви, не осталось.
— Ну когда же вы выполните свое обещание? — спросила Дин.
Один из цветков оторвался от стебля и полетел, перебирая лепестками. Он поднимался все выше и выше; так высоко, что смог из поднебесья увидеть Гица, сидящего над ручьем. Тогда он упал к нему на плечо и сказал, где найти Дин.
Вскочил Гиц на коня и поскакал. Он был могучий и смелый человек. Но только с помощью горных духов можно пробраться в Гамаюнову пещеру. Полпути прополз Гиц и понял, что выше подняться нельзя. Висит он на выступе скалы, сидит у пещеры Дин, а между ними кипит водопад.
Встал Гиц, укрепил ноги в трещинах и крикнул так, что, несмотря на рев потока, услышала его Дин:
— Прыгай ко мне!
Прежняя Дин перепрыгнула бы поток и упала бы прямо в руки Гица, а, отдавшая всю свою силу, она допрыгнула едва до середины. Схватил ее водопад и понес вниз мимо Гица. Вытянул руки Гиц и поймал свою любовь. Чуть-чуть оба не погибли. Спустился со скалы, вскочил вместе с ней на коня и поскакал.
Вернулся в свою пещеру Гамаюн — нет Дин. Понял он, что похитил ее отсюда Гиц, и решил послать на них погибель. Для волшебства надо ему было нарисовать Гица и его противников. Но нечем было ему рисовать. Тогда схватил он камень и начал вырубать изображения на скале. Первым послал он против Гица охотника со стрелой. Услышал охотник топот, думал, что враг это, и послал стрелу. Но Гиц поймал ее рукой в воздухе и, повернув, бросил назад. И пробила она грудь охотнику. Многих врагов, посланных Гамаюном в эту ночь, победил Гиц. Настоящая любовь может победить все на свете…
И, наконец, Гиц вместе с Дин ускакали так далеко, что перестало доставать волшебство Гамаюна. Спешился Гиц, развел костер. Положил около него Днн, ослабевшую до того, что она уже и сидеть не могла. Ведь ничего не осталось в ее сердце, кроме любви, а одной любовью не может жить человек. И умерла она, положив голову на колени Гица и закинув руки к нему на плечи…
Гиц, рассказывают, тоже умер вскоре. Да и как мог бы он жить, когда каждый цветок напоминал ему о Дин — розы о нежной краске ее щек, колокольчики — о голубизне глаз…
— А Гамаюн, — тихо спросила Ольга, давно кончившая ужин, — что случилось с ним?
— С ним? Бают, как узнал Гамаюн о смерти Дин, начало детоубийцу мучить раскаяние. Взял он камень и выбил на скале крест. И горные духи оставили его — они креста боятся. Или он умер в пещере, или бросился в водопад — этого никто не знает… Только не видели его больше никогда…
— Давно это случилось? — спросил Завьялов.
— Мне рассказывал мой дед, он слышал от своего деда, а тот рассказывал, что его дед в молодости знал старика, который еще мальчишкой видел Гамаюна!..
— До чего же хорошо вы рассказываете, папаша, — сказала Ольга. — А как вы считаете, правда это?
— Да как сказать вам? Не все в сказках неправда, не все и правда. А урок всегда есть. Умные люди у нас рассказывают сказки-то…
— Какая красота, — говорила Ольга, пристально глядя на догоревшие угли костра, — какая сила любви!.. И какая умная философия: любовь может победить все на свете, но одной любовью еще не может жить человек… До чего ж хорошо, и как верно… Значит, прелесть альпийских цветов — это красота погибшей Дин… А что бы такое мог символизировать летающий цветок? Я нигде никогда не встречала такого образа. Вы не знаете, Сергей Андреевич?
Завьялов очнулся. Его тоже заворожил рассказ охотника, но совсем по-другому. Он вспомнил о своем, о прошедшем, но оставившем след… как бы он хотел, чтобы эта девушка, обратившись к нему, назвала его не Сергей Андреевич, а просто Сережа… Она была и похожа и не похожа на ту, другую. Нет, она, конечно, лучше той, лучше уже потому, что сейчас сидела с ним здесь, у костра. Та никогда не осмелилась бы покинуть свою удобную квартиру, разве только сменяв на номер в курортной гостинице. Как бы хотел он… Но Ольга никогда не узнает этих его мыслей. Ему за тридцать, ей всего двадцать. К тому же она определенно нравится Николаю. Они отличная пара. И ему, руководителю группы, не пристало ухаживать за проходящей у него практику студенткой.
— Что же вы молчите? Или вы тоже уснули?
— Нет, задумался просто…
— А все-таки скажите, где-нибудь в народных преданиях вы встречали летающие цветы?
— Кажется, нет.
— Значит, это местный образ. Под такими обычно скрывается что-нибудь конкретное…
III
— Заснуть, когда рассказывают такую дивную легенду! Ты не человек, Колька! Надо не иметь в душе ни единой искорки!
— Я геолог. Легенды меня интересуют только в той степени, в какой они относятся к моему делу. Вот если бы шла речь о забытых рудниках, я навострил бы уши. А то обычный припев: красавица дочь, тиран отец, бедный жених — добрый молодец…
— А летающие цветы?… Даже Сергей Андреевич говорит, что не знал такого образа…
— Летающие цветы — это интересно ботаникам, а я геолог.
— Заладил: геолог, геолог… Сергей Андреевич тоже геолог, а смотри, как широки его интересы. Он увлекается и археологией, и этнографией, и китайской медициной… А ты знаешь, о чем он мечтает?
— О чем?
— Проводить геологические исследования на других планетах. Быть геологом в составе первой космической экспедиции. Он даже стихи писал о космических полетах.
— Откуда ты знаешь?
— В институте помнят об этих стихах с тех пор, как он учился. Хочешь прочту?
— Ну прочти.
Завьялов поморщился. Видимо, разговаривавшие не подозревали, что он вернулся в палатку и слышит их. Однако дотошная девчонка, где она могла достать его стихи? Он действительно писал их когда-то и действительно мечтал быть первым астроархеологом. Он и сейчас активно работает в секции астронавтики.
Но стихов он уже не пишет. Не пишет с тех пор… Рита замужем уже пять лет, а он все еще как в тумане. Работает, читает доклады, ведет научную работу… Может быть, он сделал ошибку. Ведь он сам отказался от Риты, не пожелавшей разделить с ним его судьбу. Может быть, ему надо было разделить ее судьбу?… Тогда Рита не стала бы женой этого, другого… «Счетоводишка», как сказал он при их последней встрече. Что ответила Рита?… Наверное, какой-нибудь пословицей: она любила отвечать пословицами, причем именно теми, которые придуманы для сытых спокойных людей. «Лучше воробей в руке, чем сокол в небе»… Сокол в небе — это он, Сергей Андреевич Завьялов, стрелок-радист в годы Отечественной войны, затем дипломник Геологоразведочного института, аспирант, через год бросивший аспирантуру. То, что он ушел на полевые работы, и было главной причиной разрыва.
«Ты не умеешь устраиваться, как люди», — бросила она однажды. Нет, он умел устраиваться, он твердо держал свою судьбу в руках, но он предпочитал в жизни не то, что она, не в том, в чем она, видел счастье. А в чем оно, счастье? Вчера папаша сказал словами легенды: «Одной любовью не может быть жив человек». А может ли жить человек без любви? Но ведь он же живет уже пять лег… Хотя жизнь ли это?…
Нет, все-таки главное в жизни труд, и он сделал правильный выбор. Но почему же до сих пор он не может забыть, забыться?… И вот только теперь эта девочка Оля… И опять не его, чужая…
Невдалеке рокотал по камням горный поток, с его шумом смешивался вой ветра, падавшего вниз по ущелью. И как-то по-особенному живым, убедительным и проникновенным был на этом диком фоне девичий голос, повествующий о свершении дерзновенной мечты человечества — завоевании соседних планет.
…Счастливый путь! Хоть и чиста лазурь Земных небес, нам встретятся преграды Космических лучей, магнитных бурь И метеоров черные громады… Но мы пройдем сквозь это все. И там, Куда мечтой не долететь поэтам, Из вечной тьмы блеснет навстречу нам Таинственная новая планета… Сжимая траектории кольцо, На трепетном локаторе экрана В упор увидим мы ее лицо В венце из гроз и северных сияний; Рассыпанные цепи островов, Озер и гор причудливые пятна, И перед нами — странен и суров — Возникнет мир… И станет необъятным…Девичий голос замолк, оборвавшись на какой-то очень высокой и очень взволнованной ноте. С полминуты собеседники помолчали. Затем диалог возобновился.
— Разбрасывается твой Сергеи Андреевич. Если бы он поменьше писал стихи, он бы давно докторскую защитил. А то вот вместе с нами по ущельям ползает. Разве это жизнь — в палатках да у костра.
— Перестань, Колька! — Ольга почти закричала. Завьялов представил себе ее гневное лицо с горящими, бесконечно глубокими, потемневшими в это мгновение голубыми глазами. — Как тебе не стыдно! Его несколько раз приглашали в институт, в Академию наук… Его научные статьи цитируют в учебниках. А ты… мальчишка ты перед ним…
— Ай-ай-ай, ну не надо такую бурю на мою седую голову… — Николай был явно смущен этим взрывом. — Ну пусть приглашали, пусть отказывался. Пусть он гений, а я мальчишка. Я просто говорю, что он разбрасывается. А ты следуешь его примеру. Вот эти твои сегодняшние бабочки. К чему они тебе?… И уж я не откажусь, когда меня пригласят читать лекции и вести семинары в институте…
Надо прекратить это недостойное и невольное подслушивание. Завьялов закашлялся, как будто он только что вошел. Голоса испуганно смолкли.
Он вышел из палатки и направился под навес.
— Ну, чем вы занимаетесь?
— Я разбираю пробы, Оля играет бабочками… Ответ Николая был явно провокационным. Но Завьялов сделал вид, что не заметил этого. Он внимательно просмотрел каталог, записи, сделал несколько несущественных замечаний. Николай был умелым работником. Затем повернулся к девушке. Та сидела, склонившись над ящиком из-под продуктов, накрытым стеклом. Русые локоны непокорно выбились из-под косынки, брови были сдвинуты. Она внимательно смотрела в ящик. Под стеклом сидел целый цветник роскошных бабочек, таких же, каких Завьялов наблюдал у водопада.
— Смотрите, какие красавицы, — сказала девушка. — Если не ошибаюсь, это еще не описанный в науке вид.
— Нет, ошибаетесь. Это обычные бабочки, но претерпевшие значительные изменения от воздействия совершенно определенных внешних условий.
— Каких же?
— Повышенного радиоактивного облучения. Смотрите, какое разнообразие мутаций[1] — в окраске, в размерах, в форме крыльев и брюшка. Кстати, где вы их наловили?
— У водопада. Я ходила смотреть Гамаюнову пещеру. Но вы знаете, это далеко не такое необитаемое место, как кажется. Здесь бывали и до нас и не так давно.
— Почему вы так думаете?
— Вот что я нашла там. — Ольга извлекла избитый и искрошенный, словно прошедший сквозь молотилку, металлический остов бинокля. В глазах девушки дрожала тревога.
— Не волнуйтесь, Оля, это мой бинокль. Я случайно разбил его и бросил в воду, а она довершила остальное. Что же вас интересует в этих бабочках?
— Я в детстве увлекалась коллекциями насекомых… А теперь… Ведь это таинственный, полный неожиданностей мир. Знаете ли вы, например, о том, что бабочка находит другую бабочку, не видя ее, на расстоянии километра?
— Да, знаю. Говорят, что у бабочек чрезвычайно тонко развито обоняние.
Ольга отрицательно покачала головой.
— Нет, дело не в обонянии. Как может помочь обоняние на цветочном поле, благоухающем самыми разными ароматами цветов с самой неистовой силой? Можно ли выделить среди этих гремящих аккордов запахов легчайший аромат? Здесь что-то другое. А потом я сегодня сделала такой опыт. Накрывала одну из бабочек стаканом, а вторую помещала так, чтобы она была со стороны ветра. Стакан, конечно, не пропускал запахов, а те, что могли просочиться сквозь щели, относило ветром.
— И вторая бабочка все-таки прилетела?
— Через несколько минут она уже вилась вокруг моего стакана.
— И чем же вы объясняете такую таинственную связь? Уж не телепатией ли?
— А что это такое?
— Передача мыслей на расстояние без слов — из мозга в мозг.
— Не знаю, может быть… Мыслей у бабочек, конечно, нет, но, может быть, они излучают какие-нибудь радиоволны. А по ним, как по лучу маяка, и находят друг друга…
— Меня вчера удивило, как согласованно бабочки сводили и раскрывали крылья, греясь на солнце, словно кто-то подавал им команду. Но, конечно, они просто видели друг друга. Никакой телепатии тут нет.
— А мы это сейчас проверим. — Ольга перевернула стекло, которым был накрыт ящик. На нем сидело несколько бабочек. Одна из них вспорхнула и улетела. Другие, пригревшись, начали, так же как вчера, одновременно шевелить крыльями. Казалось, невидимые нити связали их всех в единый механизм.
Ольга взяла лист картона и поставила его поперек, разделив сидящих на стекле бабочек на две группы. Синхронность движений между обеими группами не нарушалась.
— Вот видите, Сергей Андреевич, это не зрение, а что-то другое.
Завьялов наблюдал с явным интересом. Ему понравилось, как легко, просто и изящно Ольга поставила опыт. Действительно, это не зрение. Так что же, телепатия? Радиация каких-либо колебаний, не уловимых приборами, а может быть, просто не регистрированных никем? И потом специфическая ли это особенность здешних бабочек или их общее свойство?
Всеми этими вопросами стоило бы заняться. Может быть, здесь природой применен какой-нибудь новый принцип, который могла бы позаимствовать и техника. Разве не интересно в самом общем случае иметь прибор весом в десятые доли грамма (столько весит бабочка), позволяющий поддерживать сообщение на расстоянии в километр. Сколько минимально может весить обычный приемопередатчик для такой связи? Вряд ли меньше нескольких десятков граммов…
IV
Завьялов снова лежал на том же карнизе над водопадом. Он опять был один. За минувшие два дня догадка превратилась в уверенность, но все доводы слишком косвенны, чтобы их можно было считать доказательными. И в решающую экспедицию он отправился один.
Ярко светило солнце, и прямо перед Завьяловым сияла четким полукругом радуга. Низвергающиеся вниз струи водопада сверкали серебряной рябью. Брызги, падавшие на нагретую поверхность гранита, вскоре высыхали; над ними клубился легкий, быстро таявший пар. Завьялов подобрался и встал на самой верхней точке уступа лицом к скале. Левой рукой он схватился за выступ скалы у самого водопада. Медленно, сантиметр за сантиметром, передвигался он туда, и вот его лицо уже почувствовало холодок ветра, подхваченного стремительно падающими струями. Это не был главный поток, это было его ответвление, прикрывавшее, так сказать, правый фланг. На незначительную толщину его водяной ленты и рассчитывал Завьялов.
Он не испытывал страха, как в первый раз. Наоборот, во всем теле он чувствовал радостную легкость, ловкость, он был уверен в победе. Укрепившись на углу, перебирая пальцами по трещине в скале, он протянул сквозь поток левую руку. На нее обрушилась огромная тяжесть разогнавшейся в падении воды, струи и брызги полетели в разные стороны. Но этот напор можно было переносить. Вслед за рукой он продвинул сквозь поток и левую ногу, неожиданно быстро отыскавшую для себя опору. Рывок, и он, приняв холодный душ, оказался за полупрозрачной зелено-голубой пеленой бешеной воды.
Здесь царил зыбкий полумрак, к которому, однако, глаза привыкли довольно быстро. Завьялов увидел, что сможет легко вскарабкаться к пещере.
Правда, скала, камни, карниз были мокрыми и скользкими, по ним сбегали струйки воды. И вдруг Завьялов вздрогнул от удивления: в скалу как раз напротив его лица был вбит железный крюк. Он весь заржавел и превратился в труху, но еще держался… Так вот какие горные духи помогали Гамаюну попадать в его пещеру. Дальше все было значительно проще. Путь был пройден не раз, значит, его мог пройти и Завьялов. Он подтянулся по скале и очутился у входа в пещеру.
Перед ней была небольшая, незаметная снизу площадка, стоя на которой деспотичный отец выбивал изображения, чтобы погубить дочь вместе с ее возлюбленным. Сердце Завьялова трепетало от радости. Нет, эти изображения сделал не Гамаюн. Часть фигур полустерлась, другие полуразрушены трещинами и обвалами выветрившегося камня. И им не два-три века, а двадцать-тридцать тысячелетий. Опытный глаз геолога позволил Завьялову легко сделать эту ориентировочную оценку.
Но если легенда о Гамаюне вымысел от начала до конца, тогда рушится целый ряд косвенных доводов. Но нет, не может быть. Это Гамаюн, убийца своей дочери и сам невольный самоубийца, вбил крюк в гранит стены, готовя себе тайное смертельное убежище…
Конечно, эти фигурки на стене Завьялов сфотографирует, а если фотоаппарат откажется работать, он их тщательно перерисует в свой блокнот. Во всяком случае в «Вопросах археологии» они будут опубликованы не позже весны будущего года. Им, ждавшим столетия, ничего не значит подождать еще несколько месяцев.
Завьялов устремился к входу в пещеру. Яркое солнце светило прямо в ее открытое отверстие. Несколько шагов он сделал словно по мягкому войлоку — это были бесчисленные коконы бесчисленных поколений бабочек. Затем грунт стал твердым. Здесь царил полумрак, и исследователь на минуту остановился — дать привыкнуть глазам. И вдруг что-то случилось, Завьялов оказался в непроницаемом мраке. Сзади мягко ударило, пол пещеры качнулся, со сводов посыпались мелкие камни. Завьялов похолодел: обвал! Погребен навсегда в этой каменной ловушке, каждый час пребывания в которой смертелен… Ведь это именно пещера отняла красоту и силу у Дин и, по всей вероятности, жизнь у ее отца…
Завьялов зажег фонарь-«лягушку». Обвал был сравнительно небольшой, обрушилась, видимо, лишь одна гранитная глыба. Но она почти наглухо заложила вход. В оставшееся отверстие проходила рука Завьялова. Расширить отверстие? Нет, это безнадежное дело. Это займет суток трое, четверо, а их у него нет. Он не может ждать даже до завтра, когда его начнут искать товарищи. Конечно, они догадаются сразу, что он пошел исследовать эту пещеру. Но поймут ли они, где он? Нет, они решат, что он сорвался в поток, и внизу по течению станут искать его тело. Сколько бы он ни кричал, даже если Николай поднимется до того карниза, его не услышат сквозь рев водопада.
Нужно обдумать все спокойно и хладнокровно. Смерть? Он много раз видел ее совсем близко: полеты над городами, ощетинившимися лучами прожекторов и трассами зенитных снарядов, похожими на гигантских огненных ежей, совсем не напоминали увеселительные прогулки. Но если он умрет здесь, тайна Гамаюновой пещеры может остаться нераскрытой еще многие, многие годы.
Впрочем, ведь и он сам еще не успел убедиться, что эта тайна существует.
Освещая себе путь «лягушкой», Завьялов пошел в глубь пещеры. Она постепенно расширялась, особенно быстро уходил верхний свод. Пещера оказалась узкой щелью в граните. И вдруг по спине Завьялова пробежали мурашки: перед ним, освещенный неверным светом его фонаря, стоял человек. Глаза его сверкали, рот был раскрыт в зловещей улыбке, а на ярко сиявших зубах полыхало голубоватое пламя. Именно таким рисовались средневековому воображению люди — выходцы с того света или прямые слуги дьявола.
Преодолев страх, Завьялов сделал еще два шага вперед и направил луч фонаря прямо в лицо привидения. Это была мертвая маска мумии, полусидевшей в нише задней стены пещеры.
Видимо, человек, превратившийся в мумию, был редким гигантом. И в полусогнутом состоянии туловища голова его была на уровне головы Завьялова. «Еще бы, — подумал геолог, — должно же было хватить у него силы по такой дороге пройти с тяжелой ношей — спящей дочерью. Да, конечно, это был Гамаюн. Одет он был в холщовую рубашку, подпоясанную ремнем, и такие же штаны…»
Гамаюнова пещера открыла свою последнюю тайну. Да, ее стены, своды, потолок состояли из минералов, содержащих в невиданных на земле, поистине фантастических концентрациях радиоактивные элементы — уран, торий. Далеко ли простирались драгоценные руды — это еще надо было узнать, но высокое качество их было бесспорным.
Завьялов снова вернулся к выходу из пещеры. Что же делать? Написать записку! При слабом свете, проникавшем сквозь оставшееся отверстие во входе, он коротко написал на листке блокнота о своем открытии и, свернув из листа голубя, выбросил в отверстие. Так он сделал девять раз — по числу чистых страниц, оставшихся в блокноте.
Когда с этим было покончено, он задумался. Что еще можно сделать? Дин отсюда послала к возлюбленному цветок. Может быт, она написала что-нибудь на цветке и бросила его вниз? Нет, не похоже. Зачем писать на цветке, если можно было воспользоваться листиком растения, клочком собственного платья…
А ребята в лагере еще ни о чем не догадываются. Папаша готовит обед, Николай систематизирует найденные образцы. А Оля?… Оля, наверное, исследует таинственные механизмы связи у своих бабочек…
«Летающий цветок»… Не на пушистых ли крыльях бабочки написала Дин свое предсмертное письмо возлюбленному?… А что если попытаться… Да нет, ерунда… Впрочем, чем черт не шутит… А вдруг получится?…
В голове Завьялова возникла идея, от которой он сначала просто отмахнулся, как от досадной глупости, потом вернулся к ней, потом… В конце концов он, по существу приговоренный к смерти, уже ничем не рисковал. Выиграть же он мог целую жизнь…
V
— Ты думаешь, он слышал наш утренний разговор? Это может пахнуть для меня незачетом практики. И черт же дернул меня высказать о нем свое мнение…
— До чего же ты противен мне, Николай!
— Что ты сердишься? Разве я плохо делаю то дело, которое обязан делать? И всегда, всю жизнь все то, что я буду обязан делать, буду исполнять только отлично. А эти мелкие неприятности — они выбивают из седла, нервируют… Ну чего ты, например, ко мне привязалась?
— Человеком быть надо, Николай. Человеком, а не исполняющим обязанности человека…
Николай не возражал. Несколько минут каждый занимался своим делом.
— Николай, смотри сюда! — вдруг воскликнула Ольга. — Что это?
— Бабочки, — невозмутимо ответил подошедший Николай.
— Нет, ты видишь, как они шевелят крыльями?
— Обыкновенно. Все вместе. Ты уже восхищалась этим вместе со своим любимым Сергеем Андреевичем.
— Смотри, — не обращая внимания на его слова говорила Ольга, — раньше они двигали крыльями через ровные промежутки, а сейчас как-то непонятно. То длинные паузы, то короткие.
— Похоже на передачу азбукой Морзе.
— Ну, это ерунда… Хотя… дай карандаш. На клочке бумаги, отмечая продолжительное раскрытие крыльев знаком тире, а короткое — точкой, она торопливо начала наносить знаки. И вот уже целые строчки возникли под ее карандашом.
— Попробую расшифровать, — сказала Ольга.
— А ты знаешь азбуку Морзе?
— Знаю.
— Откуда?
— В радиокружке в школе занималась.
— А зачем это тебе было надо? Или делать нечего?
— Понадобилось именно для сегодняшнего случая. Для одного раза в жизни. Читай. Вот что здесь написано:
«Я в пещере. На помощь. Завьялов…»
VI
Вечером, как всегда, собрались у костра.
— Видите ли, общее геологическое строение района говорило о том, что здесь должен быть уран. Вы знаете об этом, повторять не надо. А вот найти, где он, было нелегко. Его могло и вовсе не быть, а возможно, что он рассредоточен в граните в неуловимо малых дозах. Первое, что меня натолкнуло на мысль о наличии открытых залежей, — бабочки. Биологи установили, что радиация вызывает у насекомых появление мутаций. Я нигде не видел такого количества мутаций, как здесь, у слияния двух источников. Не случайно Оля не узнала эту обычную бабочку.
Мне удалось определить границу района распространения мутаций — она проходила у водопада. Выше по ущелью бабочки с мутациями почти не встречаются. Ниже по ущелью такие бабочки есть — их сносит ветром, всегда дующим здесь. И я начал внимательно исследовать водопад.
В его гальке и воде радиоактивность была чуть-чуть повышенная; значит, если где-нибудь и могли быть залежи урановых руд, они не вступали в непосредственное соприкосновение с потоком, были отделены от него слоем гранита. Между тем куколки бабочек неизбежно должны были испытывать довольно сильное облучение. Значит, в скале имелись глубокие трещины, где происходило вызревание куколок.
Тогда-то я и обратил внимание на Гамаюнову пещеру.
Ее удивительные свойства, видимо, были известны еще людям каменного века. Вероятно, и самая пещера, и скала перед ней были священными, служили для волхования, колдовства. С этой целью и выбиты заинтересовавшие нас фигуры людей и животных.
Но все это лишь косвенные доводы, и я не осмелился поделиться ими. Я попытался добраться до пещеры и в первый раз потерпел неудачу. Путь туда был слишком рискованным. Я погубил бинокль и решил ограничиться фотографированием скалы при помощи телеобъектива.
Однако легенда, рассказанная папашей, дала новый толчок моим подозрениям. Пещера, побывав в которой девушка теряла силу и красоту, могла быть только радиоактивной пещерой. Она же могла убить в короткий срок и Гамаюна. Но и это только предположение. В легенде истина всегда перепутана с фантастикой. Так и здесь, Гамаюну, например, были приписаны изображения, существовавшие десятки тысячелетий до него. Могло быть выдумано и все остальное. И хотя я был почти убежден, все-таки не решился сказать вам о своих догадках и снова отправился один.
Это чуть-чуть не стоило мне жизни.
Окончательным доказательством того, что пещера полна радиоактивными породами, была мумия Гамаюна. У нее фосфоресцированы в результате облучения белки глаз, зубы и ногти. Она не разложилась — радиоактивное излучение уничтожило всех микробов. Но все это я узнал, уже будучи узником пещеры и присматривая себе место рядом с Гамаюном.
Я написал вам записки, выбросил их в надежде, что кто-нибудь их увидит, и приготовился умереть… Но тут мне пришла идея… Вы помните, в легенде рассказывается о летающем цветке. Ведь бабочка — это и есть летающий цветок. Где-то в персидском эпосе, припоминается мне, я даже встречал эту метафору.
Нас с вами поразила согласованность движений их крыльев, когда они, пригревшись, сидят на солнце, и мы задали вопрос, кто подает им команду. Я не утверждаю сейчас ничего, это просто предположение, может быть, именно при движении крыльев и излучается тот импульс, который служит для связи бабочек и воспринимается ими. И командуют они взаимно друг другом. Так нельзя ли вмешаться мне в это и скомандовать им?
Я знал, что Оля в это время возится с бабочками. И лежа у узкого отверстия в мир, я поймал одну из роскошнейших бабочек, вылетавших из пещеры. Все остальное я делал при помощи двух иголок. Я очень обрадовался, увидев, что сидящая снаружи другая бабочка поднимает и опускает крылья в такт той, крыльями которой занимался я. Видимо, в это время многие бабочки в этом районе занимались физкультурой по азбуке Морзе…
Не знаю, как воспримут это энтомологи — специалисты по насекомым. Они могут сказать, что такого не было и быть не может. Возможно, и опыты, которые они поставят, подтвердят их правоту. Но ведь мы здесь имели дело с совершенно особенными мутациями, причем мутациями во многих поколениях. И, может быть, эти свойства взаимной связанности, которые наблюдаются и у обыкновенных капустниц, здесь проявились, на мое счастье, чрезвычайно резко…
Замученную бабочку я потом выпустил, заменив ее другой. Там, в пещере, миллионы коконов, они истинный рассадник этих насекомых. А часа через два я почувствовал, что кто-то дергает за конец бечевки, выброшенной мной из отверстия. Это был Николай. Я потянул бечевку и на конце ее обнаружил динамитный патрон. Дальнейшее просто…
Мне хочется высказать на правах старшего еще одну мысль. Геология не узкая наука… Геологу важно знать тысячи вещей, казалось бы не имеющих к его делу никакого отношения. Да это справедливо не только по отношению к геологам. Новое чаще всего открывается сейчас на стыке двух или даже нескольких наук, как заметил когда-то академик Зелинский. Без знаний, совершенно не обязательных для меня как для геолога, мы не открыли бы урановых залежей, а я вряд ли остался бы жив…
И еще — для человека науки важнее всего знания, возможность пополнять эти знания, учиться. А занимаемое положение, звание, авторский гонорар — это не главное. Поверьте мне!..
В этот вечер у костра дольше всех задержались Завьялов и Ольга. Геолог записывал результаты дневных работ, практикантка, охватив руками колени, долго смотрела на рассыпающиеся красные угли догоревшего костра.
— Сергей Андреевич, а можете вы мне ответить на один вопрос личного характера?
— Какой вопрос?… Пожалуйста…
— Почему вы не женаты?…
Завьялов мог ждать всего чего угодно, но не этого. Он не понимал, что женщина догадывается о любви мужчины к ней по еще более мелким признакам, чем он узнал о залежах урана. Скрывая смущение, но глядя ей прямо в глаза, он тихо сказал:
— Если вы захотите, я расскажу вам об этом. Только вам одной… Но не здесь, а после окончания вашей практики, в Москве…
VII
Завьялов набрал номер телефона. Тот номер, который он всегда помнил наизусть, но позволял себе набирать не чаще одного раза в год. Да и то из пяти раз он лишь единожды услышал ее голос. Выслушав длинную серию: «алло», «нажмите кнопку», «позвоните из другого телефона» и ничего не ответив, он повесил трубку. Это было два года назад. Но сейчас он ответил сразу.
— Рита, это Сергей. Ты меня не совсем забыла?… Я тебя хочу видеть. Может быть, на одну минуту, может быть, на час. Но одну и немедленно…
И через десять минут в открывшейся двери он увидел ее. Она изменилась. Стала красивее, полнее. Но он почувствовал, что она уже не имеет над ним никакой власти…
Можно было уходить. Он и пришел сюда лишь затем, чтобы убедиться в этом.
А Рита искала тему для разговора. О погоде — пошло… Ну, как ты живешь — слишком общо. Ей казалось, она знает, чего хочет от нее этот человек. А он молчал, и вдруг она заметила:
— У тебя два новых ордена? — изумленно и завистливо сказала женщина, глядя на его грудь голубыми невинными глазами, чистоту которых он когда-то так любил. — А у моего растяпы ни одного. И, наверное, никогда не будет. Не умеет он устраиваться… Куда же ты, Сережа? — и она призывно протянула к нему полные белые красивые руки…
Не сказав ни слова, Завьялов повернулся и вышел.
Вечером он все рассказал другой.
Игорь Забелин ДОЛИНА ЧЕТЫРЕХ КРЕСТОВ
ГЛАВА ПЕРВАЯ, в которой рассказывается, как все началось, почему мы взялись за расследование загадочной истории, а также, что такое хроноскоп и что такое хроноскопия
История, которую я собираюсь рассказать, началась, подобно десяткам, если не сотням других историй, со старых бумаг, найденных на чердаке старого дома. Правда, нам не пришлось подниматься за ними со свечой в руках по ветхой лестнице на ветхий захламленный чердак: мне позвонили из геологогеографического отделения Академии наук и попросили зайти вместе с моим товарищем Березкиным. Во дворе Президиума Академии, слева от главного здания, стоит двухэтажный флигелек, окрашенный в желтый цвет. Мы вошли в него и поднялись на второй этаж. Нас принял сотрудник отделения Данилевскийй, уже немолодой человек, чуть располневший, с седеющими висками. Мы не знали, зачем нас вызвали, и не пытались угадать: у нас с Березкиным давно вошло в привычку правило не мучить себя домыслами, если через некоторое время нам все равно откроют истину.
Данилевский извлек из ящика письменного стола две тонкие, сильно потрепанные с ржавыми подтеками на обложках тетради и положил их перед нами.
— Вот, — сказал он и легонько пододвинул тетради к нам. — Из-за них мы вас и пригласили. Эти тетради полтора месяца назад переслали в адрес Президиума из Краснодарского краеведческого музея. В сопроводительном письме директор музея сообщил, что тетради были обнаружены на чердаке какого-то полуразрушенного дома на окраине Краснодара. Бумагам все-таки повезло: они пережили и гражданскую войну, и фашистскую оккупацию…
— Вы полагаете, что они такие старые? — спросил я.
— В этом нет никакого сомнения. Краснодарцы определили, что первая запись относится к дореволюционным годам, а последняя сделана в 1919 году. Разобрать, что там написано, очень трудно. Но в тетрадях содержатся сведения о полярной экспедиции Андрея Жильцова…
— Жильцова? — удивился я. — Но эта экспедиция бесследно исчезла!
— Вот именно. Впрочем, можете прочитать сопроводительное письмо…
Из письма мы не узнали ничего нового, кроме фамилии автора записок: по предположению работников краеведческого музея тетради эти принадлежали непосредственному участнику экспедиции Зальцману. Но сопроводительное письмо уже не интересовало нас. Мы с нескрываемым любопытством посматривали на тетради, не решаясь взять их в руки.
— Кажется, вас заинтересовало это дело, — сказал наблюдавший за нами Данилевский. — Не согласитесь ли вы взяться за его расследование?
— Вы хотите сказать — расшифровку записей?
— Не знаю. Может быть, и не только за расшифровку… По крайней мере Президиум Академии готов помочь вам.
— Но почему вы обратились именно к нам?
— Для этого более чем достаточно оснований, товарищ Вербинин. Насколько нам известно, вы уже несколько лет занимаетесь историей освоения Севера и недавно опубликовали книгу… Кроме того, вы писатель, а это такая загадочная история… Наконец, ваше с товарищем Березкиным изобретение — хроноскоп…
«Да, в этом-то все дело, — тотчас подумал я. — Хроноскоп! Верно, что я занимаюсь историей Севера и сам много путешествовал, верно, что я писатель, но мало ли людей, занимающихся исследованием полярных стран, мало ли писателей, близких к географии! Дело прежде всего в хроноскопе, в изобретении Березкина!»
— Будем точны, — сказал я Данилевскому. — Хроноскоп изобрел Березкин. Лишь идея хроноскопа родилась у нас одновременно. Услышав это, мой молчаливый друг заерзал в кресле, но я не обратил на него внимания. — А кто изобрел — в данном случае неважно. Беда в том, что хроноскоп еще не прошел необходимых испытаний, — тут я взглянул на Березкина, ожидая с его стороны поддержки. — Нет никакой гарантии, что он полностью оправдает надежды…
— Нет гарантии, — повторил за мной Березкин; невысокий, широкоплечий, коренастый, с крупной головой, с развитыми надбровными дугами и тяжелой нижней челюстью, он производил впечатление неповоротливого тяжелодума, неспособного к быстрой и точной умственной работе; взглянув на него, никто не подумал бы, что перед ним талантливейший математик и изобретатель…
— Собственно говоря, — сказал Данилевский, — нас сейчас интересует не столько хроноскоп, сколько пропавшая экспедиция. Решайте сами, можете вы взяться за расследование или нет.
Я ответил, что мы должны подумать, и Березкин, соглашаясь со мной, слегка кивнул. Данилевский не возражал, но предложил нам взять с собой тетради и ознакомиться с ними.
Бережно завернув тетради и спрятав их в полевую сумку, мы вернулись домой…
Но тут, пожалуй, следует прервать последовательное описание событий и рассказать, что такое хроноскоп и что такое хроноскоппя. Предложение расследовать историю исчезнувшей экспедиции совпало с окончанием предварительных работ над хроноскопом. Мы готовились подвергнуть аппарат всестороннему испытанию, чтобы потом сделать заявку в патентное бюро. В душе каждый из нас полагал, что хроноскоп — подлинное совершенство, но когда Данилевский предложил нам прямо использовать его, мы немножко испугались и поспешили отступить… О хроноскопе уже давно ходили различные слухи, а кое-какие сведения даже проникли в газеты. Но почти все относились к нашему изобретению с явным недоверием. Это и понятно. Ведь на всем белом свете существует лишь два хроноскописта — Березкин да я, — и успехи хроноскопии еще совершенно ничтожны…
Строго говоря, история, которую я рассказываю, началась не в тот день, когда мы впервые увидели старые потрепанные тетради, и даже не в тот день, когда их нашли на чердаке полуразрушенного дома… История эта началась значительно раньше, темной звездной ночью, в глухой тайге, началась в тот час, когда родилась идея хроноскопа…
Наша небольшая географическая экспедиция работала в Восточном Саяне. Весь день, с утра до вечера, шли мы по вьючной тропе и вели маршрутные наблюдения: описывали рельеф, растительность, изменения в характере долины реки Иркут. На третий день пути, покинув долину Иркута, мы стали подниматься на перевал Нуху-дабан (в переводе с бурятского это означает «перевал с дыркой»). Все мы давно уже слышали и читали об этом странном перевале, и теперь каждому хотелось поскорее увидеть его. Подъем был очень крут и труден, и, хотя через перевал шла торная, по местным понятиям, тропа, своеобразный жертвенник у выхода на перевал убедил нас, что и привычные к горным условиям скотоводы и охотники относятся к перевалу с некоторой опаской. Я осмотрел этот жертвенник, расположенный под крутой скалой: жертвоприношения состояли в основном из цветных ленточек, привязанных к веткам лиственицы, а также монеток, ниточек стеклянных бус и даже рублей, свернутых в тугие трубочки… Едва ли люди, принесшие эти жертвы, всерьез надеялись, что они помогут им преодолеть перевал, но такова была традиция, так поступали из века в век, и обычай этот сохранился до наших дней. Мы тоже, хоть и не верили ни в какие потусторонние силы, оставили у жертвенника монетки и, настроившись на торжественный лад, продолжали нелегкий подъем… Наконец, мы увидели Нуху-дабан: справа от тропы возвышалась известняковая скала со сквозным отверстием; лишь несколько маленьких листвениц цеплялось за ее острые зубчатые края. Я поднялся к скале и на одном из ее выступов обнаружил боевой металлический шлем. Не знаю, кто, для чего и когда поставил его там. Но и трудный, овеянный легендами перевал, и жертвенник, и, наконец, старинный шлем — все это настраивало на романтический лад; потом, когда мы спустились в долину реки Оки и остановились на ночлег, долго еще продолжались разговоры о прошлом края, об истории вообще…
Шлем я унес с собой. При свете костра мы с Березкиным внимательно осмотрели его. Был он непомерно велик, словно некогда принадлежал гиганту: ни одному из нас он не подходил по размеру даже приблизительно. Сделан он был из восьми склепанных стальных пластин, снизу скрепленных металлическим ободом; спереди имелся небольшой козырек, а наверху кружок со вставленной в него трубочкой (видимо, в нее втыкались украшения — пучки конских волос или еще что-нибудь).
Тихая ночь, река, журчащая меж камней, холодные волны ветра, катившиеся с перевала, снопы багряных искр, летевшие в темноту, ущербная луна над горами — все это подхлестывало нашу фантазию, давало дополнительную пищу воображению, и уж всем нетрудно было представить, как много лет назад проезжал по перевалу Нуху-дабан могучий монгольский витязь в полном боевом облачении, как пал он, пораженный меткой стрелой… И кто-то из нас — потом мы никогда не могли вспомнить, кто именно, — высказал сожаление, что нельзя воочию увидеть события, происходившие за десять, сто, триста лет до наших дней, что нельзя приблизить их, как приближают при помощи телескопа предметы, удаленные от нас на многие тысячи, а то и миллионы километров…
Вот тогда и родилось это слово — «хроноскоп». Оно было сказано в шутку, по аналогии с телескопом. Телескоп приближает предметы, удаленные от нас в пространстве, а хроноскоп… хроноскоп мог бы приблизить предметы, удаленные во времени, сделать зримыми события, оставившие лишь смутный след.
Мое собственное воображение сделало для меня бывшего обладателя шлема настолько реальным, что я совершенно серьезно сказал:
— Такой прибор давным-давно существует. Все с удивлением посмотрели на меня.
— Это мозг, — пояснил я. — Человеческий мозг. Разве он не способен проникать сквозь толщу веков и воскрешать события далекого прошлого? Разве мы не воссоздаем по сохранившимся предметам обихода быт наших предков, по их вооружению — способы ведения войны? Разве мы не верим историческим романам или картинам, в которых повествуется о делах давно минувших дней?
— Ты не про то говоришь, — возразил мне один из наших товарищей. — Человек может представить себе, допустим, что находится на Марсе. Но это же не заменит телескопа…
— Так же, как ни один телескоп не заменит человеческого мозга, — не сдавался я. — Если речь идет о том, чтобы дополнительно вооружить мозг…
— Не только вооружить, — вмешался в разговор молчавший до этого Березкин; в те годы он был еще студентом-математиком Московского университета и из любви к странствиям устроился к нам в экспедицию рабочим. — Не только вооружить, — повторил он. — Конечно, ни телескоп, ни самый хитрый хроноскоп никогда не смогут мыслить, но разве не усилится способность человека к мышлению, если в его распоряжение поступят новые неожиданные факты?… Осмыслить прошлое сможет только мозг, но помочь ему в этом, воскресить ускользнувшие от человеческого разума и глаза факты мог бы хроноскоп… Верно, у каждого из нас в мозгу проносятся разные фантастические картины, мы можем населить Марс марсианами, объявить тектонические трещины системой орошения, но только телескоп открывает нам подлинную природу Марса… В истолкование исторических событий тоже всегда вносится много домысла, много субъективного, а если бы хроноскоп смог приблизить их к нам в неискаженном историками виде…
— Это привело бы к перевороту и в истории, и в археологии, — вырвалось у меня. — Возможности человеческого познания беспредельно расширились. Я убежден, что хроноскоп оказал бы огромное влияние на все общество, заставив людей строже относиться к своим поступкам!
— Хроноскоп, хроноскоп! — саркастически заметил кто-то. — И не надоело вам болтать?… Все равно нельзя создать такой прибор.
— Можно, — возразил Березкин. — Не в виде трубы с системой увеличительных стекол, но все же…
— Что же это будет? — спросил я, почувствовав, что Березкин говорит серьезно, что идея, пришедшая нам в голову, имеет хоть и непонятную мне, но реальную основу.
— Обыкновенная электронная машина. — Он подумал и поправился: — Ну, не совсем обыкновенная, но сделанная по типу вычислительных машин, машин-переводчиков и тому подобных. Они способны решать сложнейшие математические задачи, переводить с иностранного языка тексты, «запоминать» множество самых разнообразных вещей… Достижения кибернетики уже настолько велики, что можно представить себе и такую электронную машину — хроноскоп… Допустим, на шлеме имеется пробоина. Мы помещаем шлем в хроноскоп и формулируем требование — объяснить происхождение пробоины. С колоссальной быстротой, в течение нескольких секунд, машина перебирает сотни, тысячи, а если нужно и десятки тысяч вариантов и останавливается на одном из них, самом вероятном… При помощи фотоэлементов этот вариант переснимается, а затем проектируется на экран. И тогда…
— И тогда на экране ожило бы прошлое! — прервал я размечтавшегося Березкина. — Мы увидели бы монгольского богатыря, медленно поднимающегося на перевал Нуху-дабан, увидели бы, как, притаившись среди скал, поджидает его враг, как мгновенным рывком выгибает он лук и метко посланная каленая стрела поражает беззаботного богатыря!..
Все сидевшие у костра засмеялись, и даже мы с Березкиным не выдержали — так фантастично все это прозвучало…
Немало лет прошло с того вечера, и вот хроноскоп готов. Едва ли стоит сейчас подробно рассказывать, каким долгим и трудным путем шли мы к своему изобретению, сколько пришлось пережить неудач и разочарований, сколько раз одолевали нас сомнения… Теперь все это в прошлом, и, как это обычно бывает после благополучного завершения долгих трудов, все пережитое кажется нам окрашенным в розовые тона… Нами двигала большая идея, мы хотели создать прибор, способный служить окном и в далекое, и в близкое прошлое, прибор, при помощи которого по мельчайшим вещественным доказательствам можно быстро и точно восстановить картину человеческого подвига или преступления, восстановить честь оклеветанного и разоблачить клеветника; мы еще не знаем всех возможностей нашего детища; может быть, со временем он позволит палеонтологам воочию увидеть давно вымерших обитателей нашей планеты; может быть, с его помощью археологи сумеют изучить трудовые навыки первобытных людей, а историки — восстановить эпизоды Бородинского сражения или «битвы народов» под Лейпцигом…
Короче говоря, мы верили, верим и будем верить, что хроноскопии — искусству видеть прошлое — принадлежит великое будущее!
Однако до того момента, как на нашем столе появились старые тетради из Краснодара, похвастаться достижениями хроноскопа мы еще не могли, хоть и восторженно относились к своему изобретению. Конечно, это радостно, что хроноскопу удалось восстановить по старому письму моей жены, обстановку, в которой она его писала…
Но для официального признания хроноскопа прибор необходимо было подвергнуть серьезной всесторонней проверке…
Теперь вы понимаете, как своевременно попали к нам тетради Зальцмана…
Сейчас, когда я пишу эти строки, работа наша уже закончена, картины прошлого восстановлены и запечатлены в нестареющей «памяти» хроноскопа. Их можно в любой момент вновь увидеть на экране. Разумеется, я прекрасно помню, как шла наша работа, как мы с Березкиным настойчиво распутывали сложно переплетенный узел человеческих судеб… И вот теперь, когда обо всем этом можно уже написать, передо мной встает вопрос; о чем писать?… Не удивляйтесь. Ведь можно написать о том, как мы испытывали хроноскоп. А можно написать о людях, судьбы которых воскресли перед нами на экране, да и не только на экране… Мы очень любим с Березкиным наше детище — хроноскоп, но еще дороже нам люди, их горе и их радости… Чем дальше продвигалось наше расследование, тем меньше мы думали об испытании хроноскопа и тем настойчивее стремились до конца раскрыть тайну исчезнувшей экспедиции.
Вот об этом, пожалуй, я и буду рассказывать — о том, что мы узнали. А хроноскоп… но дело в конце концов не в хроноскопе…
ГЛАВА ВТОРАЯ, в которой сообщается об экспедиции. Жильцова все, что было известно ном до начала расследования, а также проводится первое деловое испытание хроноскопа и рассказывается о его результатах
Вернувшись из Президиума Академии наук ко мне домой, мы с Березкиным решили все трезво взвесить, прежде чем принять окончательное решение: ведь неудача с расследованием могла бросить тень и на самую идею хроноскопа.
— Вот что, Вербинин, — сказал мне Березкин, устраиваясь на своем любимом месте у края письменного стола. — Риск, конечно, благородное дело. Но сначала расскажи, что тебе известно об этой экспедиции. Ты сам знаешь, я не очень силен в истории географических открытий, а браться за дело, о котором не имеешь представления…
Он не договорил, но я прекрасно понимал его. Рисковать репутацией хроноскопа мы могли лишь в том случае, если дело того стоило. Но на этот счет у меня не было сомнений. Если речь действительно шла об экспедиции Жильцова, то заняться расследованием, безусловно, следовало…
Не отвечая Березкину, я встал и прошелся по комнате. Уже вечерело, за день мы оба устали, и я попросил жену заварить нам крепкого чая. Пока она возилась на кухне, я достал с полки несколько книг и сложил их стопочкой на письменном столе.
— Видишь ли, — сказал я Березкину, — об этой экспедиции достоверно известно лишь то, что она была организована, ушла на Север и бесследно исчезла…
— Немного, — усмехнулся Березкин. — Но все-таки, почему экспедицию организовали, кто такой Жильцов — неужели этого нельзя узнать?
— Можно, — ответил я. — Андрей Жильцов — наш крупный гидрограф-полярник, участник знаменитой экспедиции Толля на «Заре»…
— Рассказывай все по порядку, — перебил меня Березкин. — О Толле я слышал, знаю, что он погиб, но подробностями не интересовался… А сейчас как раз нужны подробности, без них ничего не поймешь.
— Да, без подробностей не обойтись, и об одном любопытном обстоятельстве я вспомнил. Но сначала об экспедиции на шхуне «Заря». Ее организовала Академия наук для исследования Новосибирских островов и поисков «Земли Санникова». Теперь ты спросишь, что такое «Земля Санникова»?
— Не спрошу, — Березкин чуточку обиделся. — Сто раз писалось, что в начале прошлого века эту землю будто бы увидел с острова Котельного промышленник Санников… Потом ее искали, искали, но так и не нашли…
— Верно, не нашли. Но землю эту видел не только Санников. Ее несколько раз видел эвенк Джергели, да и сам Толль. В 1886 году он вместе с полярным исследователем Бунге изучал Новосибирские острова и, так же как Санников, заметил землю к северу от острова Котельного… Толль был настолько уверен в существовании «Земли Санникова», что даже сделал попытку по форме гор предсказать ее геологическое строение. Открытие этой земли стало для Толля главной целью в жизни. Вот почему экспедиция на «Заре» в 1900 году отправилась к Новосибирским островам. А через два года Толль погиб вместе с астрономом Зебергом и двумя промышленниками — эвенком Дьяконовым и якутом Гороховым. Он работал на острове Беннета в архипелаге Де-Лонга, и туда за ним и его спутниками должна была зайти «Заря». Но шхуна, сделав две попытки пробиться к острову, вернулась к устью Лены. Ледовые условия в тот год были тяжелыми, но все-таки известно, что гидрограф Жильцов требовал продолжать попытки пробиться к острову Беннета, а командир «Зари» Матисен не рискнул пойти еще на один штурм… Кто из них был прав — теперь трудно судить. Но отступление «Зари» стоило жизни Толлю и его товарищам… Жильцов позднее писал, что гибель Толля произвела на него очень тяжелое впечатление и он твердо решил завершить дело, начатое трагически погибшим исследователем… Вот причина организации экспедиции Жильцова. Ей поручалось найти и описать «Землю Санникова», а затем выйти через Берингов пролив в Тихий океан… Экспедиция началась в канун первой мировой войны, она вышла из Якутска…
— И бесследно исчезла, — закончил Березкин.
— Да, бесследно исчезла. До сих пор самым вероятным считалось предположение, что экспедиция в полном составе погибла либо во льдах Северного Ледовитого океана, либо на пустынном побережье. Подобных случаев известно немало. Так пропала экспедиция Брусилова на «Святой Анне», экспедиция Русанова на «Геркулесе», одна из партий экспедиции Де-Лонга после гибели «Жаннетты»… Но если Зальцман спасся и в девятнадцатом году жил в Краснодаре… Один он спастись не мог, это почти исключается.
Жена налила нам крепкого, почти черного чая и, чтобы не мешать, устроилась в сторонке, на тахте. Мы выпили по стакану и продолжали разговор.
— По твоему тону я догадываюсь, что ты склонен взяться за расследование, — сказал мне Березкин. — Точнее, уже начал расследовать.
Прозорливость Березкина меня не удивила: мы достаточно хорошо знали друг друга и умели угадывать многое из того, что не говорилось вслух.
— Мне понятны твои сомнения, — ответил я Березкину. — Хроноскоп должен служить высоким человеческим целям. Но, повторяю, это именно тот случай, когда стоит рискнуть…
— У меня уже не осталось сомнений.
— И очень хорошо. Не думаю, чтобы этой экспедиции удалось совершить крупные открытия, но что мы имеем дело с актом высокого мужества — это бесспорно. Если эти люди пали в неравной борьбе с природой — а может быть, и не только с природой, — наш с тобой долг рассказать об их подвиге!
— А не проще ли взяться за тетради? Вдруг ваш хроноскоп не потребуется? — не без иронии спросила моя жена; после истории с ее письмом она относилась к хроноскопу с некоторым предубеждением или, точнее, с опаской; в самом деле, если ты на собственном опыте убедился, что почти каждый день, прожитый тобой, может быть просвечен и изображен на экране, то невольно начинаешь задумываться над своими поступками, даже если ты в общем честный человек…
Мы последовали мудрому совету и бережно, страничку за страничкой перелистали обе тетради. Попорчены они были действительно очень сильно, и не случайно работникам Краснодарского краеведческого музея удалось узнать из них так немного. Мы могли поступить двояко: или, прибегнув к помощи криминалистов, заняться кропотливой расшифровкой и восстановить в тетрадях все, что поддается восстановлению, или довериться хроноскопу… Совсем отказываться от первого пути мы не собирались, во все-таки больше устраивал нас второй, позволяющий и сэкономить время, и проверить аппарат. Начать хроноскопию тетрадей мы решили с последних страниц второй тетрадки. Эти почти не пострадавшие страницы были исписаны крайне неразборчиво рукой слабеющего, быть может умирающего, человека. Строки часто прерывались, потом Зальцман, словно собравшись с силами, возвращался к ним опять… У нас создалось впечатление, что на последних страницах Зальцман, теряя остатки сил, стремился записать нечто очень важное, такое, что он ни в коем случае не имел права унести с собой в могилу. Мы не сомневались, что расшифровка этих страниц позволит узнать главное: что случилось с экспедицией и сохранились ли результаты ее исследований…
Уже собираясь уходить в институт к Березкину, я вспомнил, что в одной из тетрадей имеется список участников экспедиции Жильцова.
Я быстро нашел его и прочитал:
1) Жильцов, начальник экспедиции, гидрограф,
2) Черкешин, командир корабля, лейтенант,
3) Мазурин, научный сотрудник, астроном,
4) Коноплев, научный сотрудник, этнограф и зоолог,
5) Десницкий, врач,
6) Говоров, помощник командира корабля.
— Забавно, — только и смог сказать Березкин. — Зальцмана нет и в помине!
Березкин смотрел на меня, очевидно полагая, что я должен немедленно все объяснить ему, но я сам ничего не понимал.
— Вот что, не будем зря ломать голову, — предложил я. — Хроноскоп чем-нибудь да поможет нам. Пошли в институт.
Хроноскоп стоял в отдельном помещении, в рабочем кабинете Березкина. Настроить его было делом нескольких минут. Я устроился в удобном кресле напротив экрана (по молчаливому уговору хроноскопом распоряжался Березкин) и приготовился смотреть. Я немножко нервничал, мне хотелось, чтобы как можно быстрее было дано задание хроноскопу, но Березкин как назло медлил; он тоже волновался и в десятый раз проверял самого себя. Наконец, он тяжело опустился на стул и сказал:
— Посидим, — он улыбнулся чуть смущенной улыбкой и добавил: — Как перед дальней дорогой.
Потом он выключил свет. Несколько мгновений, показавшихся нам бесконечно долгими, экран оставался совершенно темным; затем он просветлел, но изображение получилось не сразу, а когда получилось — мы увидели человека, валявшегося на соломе; человек, прикрытый серой шинелью, метался в жару, и губы его шевелились — видимо, он бредил; в руке человек держал тетрадь — ту самую, страницы из которой попали в хроноскоп и позволили восстановить картину времен гражданской войны. «Тиф», — подумал я и хотел сказать это вслух, но внезапно раздался глухой голос. Он прозвучал так неожиданно, что я невольно вздрогнул; у меня создалась полная иллюзия, что говорит больной, но говорил, конечно, не он: хроноскоп произносил расшифрованные строчки… «Нельзя предать забвению… Мучения… Совесть… Все должны знать… Обрекли на гибель… Спаситель… — равнодушно выговаривал металлический голос хроноскопа, и снова: — Совесть… Совесть… Правы или нет?… Кто скажет?… Так нельзя больше жить… Правы или нет?… Спас, он же всех спас…» Когда хроноскоп старательно выговаривал последние слова, за которыми, в этом не приходилось сомневаться, скрывалась какая-то трагедия, не высказанная ранее боль, измучившая душу, человек на экране раскрыл тетрадь и неповинующейся рукой сделал какую-то запись; потом он с трудом спрятал тетрадь у себя на груди под шинелью и больше уже не шевелился: все проблемы мироздания, даже последняя, самая жгучая, перестали для него существовать. А хроноскоп еще раз повторил: «Правы или нет?» И вдруг, после короткого перерыва, произнес имя: «Черкешин». Изображение на экране исчезло. Звукоусилительная установка выключилась. Хроноскоп сделал все, что мог.
Некоторое время мы с Березкиным продолжали сидеть в темноте. У меня перед глазами по-прежнему стояло тонкое лицо исхудавшего, измученного болезнью и сомнениями человека, его растрепанная седеющая бородка, спутанные, некогда черные волосы… Я знал, что мы видели Зальцмана. Быть может, в его изображении не было точного портретного сходства с оригиналом, но хроноскоп, который в задании получил имя человека, а по почерку и тексту смог «составить» о нем кое-какие дополнительные впечатления, перебрав тысячи вариантов, остановился на таком, что мы «узнали» Зальцмана…
— Умер он или впал в забытье? — спросил Березкин, зажигая свет.
— Сыпняк, наверное, — ответил я. — Штука серьезная…
Каждый из нас в этот момент думал не о самом Зальцмане, не о первом удачном испытании хроноскопа — нас волновала тайна, которую стремился передать людям тяжело больной человек; но мы были сломлены колоссальным нервным напряжением, понимали, что так, сразу, не сможем разгадать тайну, и разговор наш скользил по поверхности, не затрагивая самого главного…
— Все-таки выживали, — не согласился со мной Березкин. — Кто был в девятнадцатом году в Краснодаре? Деникин? Что там мог делать Зальцман?
— Все что угодно, — я пожал плечами. — И жить, и воевать, и скрываться…
— Да мы же ничего не знаем о нем… А вдруг он жив? Ведь тетради могли пропасть!
— Зальцман умер. К сожалению, это бесспорно. Иначе он рассказал бы про экспедицию.
Березкин согласился со мной. Мы ушли из института и по тихим ночным улицам Москвы побрели домой.
— А хроноскоп здорово сработал! — с гордостью сказал Березкин.
— Здорово, — подтвердил я.
Когда мы прощались, Березкин спросил:
— Почему он вспомнил одного Черкешина? Уж не из-за него ли весь сыр-бор затеялся?
— Постараемся выяснить это завтра, — ответил я. — Видимо, история исчезнувшей экспедиции сложнее, чем это представлялось мне с самого начала. По крайней мере последние страницы дневника Зальцмана ровным счетом ничего не прояснили…
— Запутали даже.
— Придется нам завтра же взяться за расшифровку записей в первой тетрадке. Мы с тобой немножко погорячились. Нужно идти по цепи последовательно, не пропуская ни одного звена.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ, в которой рассказывается, что удалось нам узнать из тетрадей Зальцмана, какие новые разочарования поджидали нас, а также приводятся некоторые сведения исторического характера, главным образом об участии, политических ссыльных в исследовании Сибири
Дней через пять, когда значительная часть записей Зальцмана была уже прочитана нами, в моем кабинете раздался телефонный звонок:
— Товарищ Вербинин? — спросил незнакомый голос. — Данилевский вас беспокоит…
Данилевского интересовало, беремся ли мы за расследование, и я ответил, что да, беремся и сделаем все от нас зависящее, чтобы выяснить судьбу экспедиции. Я сказал это бодрым тоном, но оснований для оптимизма пока у нас было очень мало.
Расшифровка тетрадей Зальцмана подвигалась сравнительно успешно, непрерывно возрастало количество карточек с прочитанными и перепечатанными строками, но но и меня и Березкина не покидало странное чувство неудовлетворенности — словно мы читали не то, что надеялись прочитать. Это было тем более необъяснимо, что наши сведения об экспедиции постепенно пополнялись, мы уже знали, как попал в экспедицию Зальцман, что стало с доктором Десницким, что делала экспедиция в Якутске, кто такой Розанов, и все-таки…
— Как-то неконкретно он пишет, — сказал мне Березкин. — Будто с чужих слов… Может быть, прихвастнул он? Услышал от кого-нибудь и записал?
Березкин сам тут же отказался от этого предположения: оно было слишком неправдоподобно.
— Вот что, — не выдержал я. — Пусть хроноскоп проиллюстрирует нам записи. Зрительное восприятие, знаешь ли… И потом, раз уж аппарат существует…
Березкина не пришлось уговаривать. Мы опять заперлись у него в кабинете, и хроноскоп получил задание. В ожидании новых волнующих сцен мы пристально вглядывались в экран, но… хроноскоп отказался иллюстрировать записи, «окно в прошлое» упорно не открывалось. Впрочем, я не совсем точно выразился: «окно в прошлое» приоткрылось, но не так, как мы рассчитывали. Записи, которые должен был оживить хроноскоп, трактовали о разных событиях, а на экране сидел и писал худой человек с острыми лопатками… Березкин вновь и вновь повторял задание хроноскопу, подкладывал ему новые страницы, десятки раз производил настройку, но результат получался один и тот же. Мы промучились до вечера, и в конце концов Березкин сдался.
— Чертова машина, — устало сказал он и опустился в свое кресло. — Никуда она еще не годится. Ее надо совершенствовать и совершенствовать, а мы за расследование взялись.
— Мне почему-то кажется, что дело тут не в хроноскопе, — возразил я, чтобы немножко успокоить и поддержать Березкина.
— Думаешь, в тетрадях?
— И это не исключено.
— На зеркало пеняем…
— Возникло же у нас с тобой при чтении чувство неудовлетворенности. Тут вероятна взаимосвязь…
Березкин быстро взглянул на меня и бросил папиросу в пепельницу.
— Все-таки мы работаем не с первоисточником, — сказал он.
— Я бы сформулировал это иначе. В том, что перед нами подлинные записи Зальцмана, а Зальцман участник экспедиции, я не сомневаюсь. Но это не экспедиционные заметки. Видимо, уже в Краснодаре Зальцман по памяти восстанавливал события прошлых лет.
Березкин облегченно вздохнул.
— Не могли сразу такого пустяка сообразить! — он любовно погладил корпус хроноскопа. — Стыд! А машинка ничего, работает. Вот тебе, мигом отличит подделку от подлинника!
— Мы еще не научились как следует понимать хроноскоп, — поддержал я Березкина. — А когда научимся!..
Мы снова верили в неограниченные возможности нашего хроноскопа и покинули институт в прекрасном расположении духа.
Вскоре мы закончили расшифровку записей Зальцмана и прочитали все, что поддавалось прочтению. К сожалению, многие страницы выпали из тетрадей и пропали, другие так сильно пострадали, что даже с помощью криминалистов удалось восстановить лишь отдельные слова; немалое количество страниц, к нашему огорчению, было заполнено рассуждениями Зальцмана, не имевшими прямого отношения к экспедиции; быть может, не лишенные сами по себе интереса, они, однако, ничем не помогали нам в расследовании; разве что мы полнее сумели представить себе характер их автора; судя по всему, Зальцман был типичным представителем старой либерально настроенной интеллигенции, со склонностью к самоанализу и рефлексиям, с обостренными представлениями о долге, совести, о благе отечества; он умудрялся переводить в плоскость моральных проблем почти все, чего касался в записках; к этому его, видимо, побуждала конечная цель: он хотел рассказать о чем-то таинственном, ужасном, по его представлениям, и подготавливал к этому своих вероятных читателей. Зальцману не удалось довести своих записей даже до середины: они обрывались на рассказе о прибытии экспедиции в устье Лены. Затем следовала запись, сделанная во время болезни и разобранная с помощью хроноскопа. Кроме того, в первую тетрадь был вшит лист, по качеству бумаги, по смыслу и стилю написанного резко отличавшийся от всего остального; только почерк был один и тот же — почерк Зальцмана…
Отложив тетради, мы решили подвести итоги. Итак, вот что теперь мы знали.
Жильцов и все другие участники экспедиции прибыли в Якутск уже после начала первой мировой войны, осенью 1914 года. Конечно, в далеком Якутске о войне знали лишь понаслышке, но все-таки экспедиция Жильцова показалась местным властям явно несвоевременной, относились они к ней с прохладцей и если не чинили препятствий, то и не помогали. Жильцову и Черкешину пришлось приложить немало усилий, чтобы выстроить небольшую шхуну и получить необходимое снаряжение и провиант. Они добились своего, причем, если верить Зальцману, особенно энергично и успешно действовал Черкешин. Сам по себе этот вопрос нас с Березкиным не очень занимал, но для себя мы решили особенно Зальцману не верить: Черкешин интересовал его с какой-то особой точки зрения, и он все время выдвигал командира шхуны на первый план. Немалую помощь Жильцову и Черкешину в подготовке экспедиции оказали политические ссыльные, которых в то время немало жило в Якутске. Они, узнав о задачах экспедиции, добровольно являлись на верфь работать, а двое из них — Розанов и сам Зальцман — позднее даже приняли участие в экспедиции.
В своих записках Зальцман отвел немало места и себе и Розанову. Мы узнали, что Зальцман, студент-медик, за участие в студенческих волнениях был выслан в Якутск на поселение и прожил там несколько лет. У нас сложилось впечатление, что никаких определенных политических взглядов у него не было; будучи честным человеком, Зальцман негодовал по поводу порядков, существовавших в царской России, мечтал о свободе, о равенстве и верил в прекрасное будущее. Иное дело Сергей Сергеевич Розанов. По свидетельству Зальцмана, он был членом Российской Социал-Демократической Рабочей Партии, профессиональным революционером-большевиком, человеком с четкими и ясными взглядами на жизнь. В своих записках Зальцман нигде прямо не полемизировал с Розановым, но упорно подчеркивал его непреклонность и твердость. Сначала мы не могли понять, для чего он это делает, но потом у нас сложилось впечатление, что из всех участников экспедиции Зальцмана больше всего интересовали Черкешин и Розанов, что он противопоставляет их и сравнивает. Впрочем, мы могли и ошибиться, потому что записи Зальцмана оборвались слишком рано. Розанов, находившийся под строгим надзором полиции, работал вместе с другими на верфи, когда там строилась шхуна, названная в честь судна Толля «Заря-2». Как Розанов попал в экспедицию — Зальцман почему-то не написал. Его самого Жильцов пригласил на место тяжело заболевшего Десницкого, и он охотно согласился.
Экспедиция покинула Якутск весной 1915 года, сразу после ледохода. Неподалеку от устья Лены на борт были взяты ездовые собаки и якуты-промышленники, не раз уже бывавшие на Новосибирских островах… Затем «Заря-2» вышла по Быковскому протоку в море Лаптевых…
Вот и все, что удалось нам узнать. Как видите — до обидного мало. Самого главного Зальцман рассказать не успел. Разочарованные, огорченные сидели мы у обманувших наши надежды тетрадей.
— Как это Жильцову разрешили взять с собой ссыльных? — спросил Березкин.
Я ответил, что в этом нет ничего необыкновенного. Политические ссыльные нередко занимались научными исследованиями в Сибири. Например, немало сделали для изучения Сибири поляки, сосланные после восстания 1863 года, — Черский, Чекановский, Дыбовский…
— Но Жильцов, конечно, помнил, что и в экспедиции Толля работали политические ссыльные, — добавил я. — Когда весной 1902 года умер врач Вальтер, его заменил политический ссыльный из Якутска Катин-Ярцев, а во вспомогательной партии, возглавлявшейся Воллосовичем, участвовали двое ссыльных: инженер-технолог Бруснев и студент Ционглинский. Вероятно, они зарекомендовали себя с самой лучшей стороны, и Жильцов тоже охотно пополнил свою экспедицию умными и честными людьми.
— Так и было, наверное, — согласился Березкин; он смотрел на тетради, как бы соображая, нельзя ли из них еще чего-нибудь выжать. — Понять Жильцова нетрудно. И политических ссыльных тоже можно понять. Все-таки экспедиция дело живое, интересное. Но мы сегодня так же далеки от раскрытия тайны экспедиции, как и в тот день, когда впервые увидели тетради…
Мог ли я что-нибудь возразить своему другу?
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ, в которой обсуждается план дальнейших действий, хроноскоп превосходит все наши ожидания, а мы становимся свидетелями волнующих событий, заставивших лас действовать быстро и решительно; вместе с нами читатель впервые услышит о Долине Четырех Крестов
Дня два мы занимались посторонними делами, не имеющими никакого отношения к судьбе экспедиции Андрея Жильцова — нам хотелось немножко отдохнуть и отвлечься. Не знаю, как Березкину, а мне отвлечься не удалось. Судя по тому, что на третий день рано утром мрачно настроенный Березкин явился ко мне домой, у него тоже судьба экспедиции не выходила из головы.
— Что будем делать? — спросил он. — Нельзя же сидеть сложа руки!
— Нельзя, — это я понимал ничуть не хуже своего друга. — А вот что делать… Не запросить ли нам архивы?
— Я тоже думал об этом. Вдруг сохранился еще какой-нибудь документик?
Увы, мы отлично знали, что на это нет почти никакой надежды, что мы цепляемся за соломинку и успокаиваем друг друга.
— Все-таки попробуем, — сказал я, отгоняя сомнения. — Мы ничего не теряем…
— Кроме времени, — возразил Березкин.
— Постараемся и время не потерять, — бодро сказал я. — Будем действовать!
— Действовать? Что же мы предпримем? Так мы вернулись к тому, с чего начали.
— По-моему, у нас есть хроноскоп, — не без иронии напомнил я.
— Как же! Мы можем вдоволь насмотреться на тощую спину Зальцмана, — в том же тоне ответил Березкин.
Мы послали от имени Президиума Академии запрос во все архивы, а сами все-таки вернулись к хроноскопу. Березкин, правда, предлагал вылететь в Якутск, но я отговорил его: разумнее было сначала получить ответы из архивов. Пока же, совершенно не рассчитывая на успех, мы решили подвергнуть хроноскопии все остальные листы тетрадей: и расшифрованные, и те, которые нам не удалось расшифровать. Просматривая первую тетрадь, мы вновь обратили внимание на вшитый лист, отличавшийся и качеством бумаги, и характером записи от всех остальных. Ранее мы пытались прочитать его, но разобрали только цифры, похожие на координаты: 67°23′,03 и 177°13′,17. Если эти цифры действительно были координатами, то отмеченное ими место находилось на Чукотке, где-то в верховьях реки Белой, впадающей в Анадырь… Зальцман мог попасть туда, если «Заря-2» погибла у берегов Чукотки… Но для чего ему потребовалось отмечать именно эту долину? И что могла означать вот такая запись: «Длн. чтрх. кр. (далее шли координаты), сп. н., птрсн. слч., д-к спртн: пврн, сз, 140, р-ка, лвд., пвлн. тпл., крн.!!!» Видимо, Зальцман зашифровал нечто важное для себя, но что — мы не могли понять, а на хроноскоп не надеялись: мы думали, что опять увидим лишь пишущего Зальцмана. Мы ошиблись, и ошибку нашу извиняет только неопытность нас как хроноскопистов. Именно потому, что вшитый лист отличался от остальных, его и следовало подвергнуть анализу в первую очередь.
Теперь Березкин предложил начать с него. Сперва мы дали хроноскопу задание выяснить, как была вырвана страница. Портрет Зальцмана хранился в «памяти» хроноскопа, и поэтому он тотчас возник на экране. Но с ответом хроноскоп, к нашему удивлению, медлил дольше, чем обычно. Потом на экране появились руки — худые, с обгрызенными ногтями, перепачканные землей; руки раскрыли тетрадь, секунду помедлили, а затем торопливо вырвали лист, уже испещренный непонятными значками, сложили его и спрятали: мы видели, как Зальцман запихивал его в боковой карман. Экран погас.
— Три любопытные детали, — сказал я Березкину. — Изгрызенные ногти, перепачканные землей руки, торопливые движения. Зальцман зарывал какую-то вещь и боялся, что его могут заметить. Изгрызенные ногти, если только это не старая привычка, свидетельствуют о душевном смятении…
— Это не привычка, — возразил Березкин. — И вот доказательство.
Он переключил хроноскоп, и на экране вновь появился умирающий Зальцман. Руки его — худые, но чистые и с ровными ногтями — сжимали заветную тетрадь…
— Дадим новое задание хроноскопу, — предложил Березкин. — Может быть, он сумеет расшифровать запись.
И хроноскоп получил новое задание. Ответ пришел немедленно. Мы увидели на экране человека — широкоплечего, плотного; подтянутого, совершенно не похожего на Зальцмана; портрет был лишен запоминающихся индивидуальных черточек, но все-таки у нас сложилось впечатление, что человек этот требовательный, жесткий, скорее даже жестокий; он сидел и писал, и мы видели, что тетрадь у него такая же, как та, которую прятал Зальцман. В полной тишине зазвучали странные слова: «Цель оправдывает средства. Решение принято окончательно, осталось только осуществить его. И оно будет осуществлено, хотя я и предвижу, что не все пойдут за мною…»
Березкин протянул руку и выключил хроноскоп.
— Недоразумение, — сказал он. — Придется повторить задание. Он повторил задание, и вновь на экране возник широкоплечий, плотный, подтянутый человек с жестоким выражением лица. «Решение принято окончательно…» — услышали мы металлический голос хроноскопа.
— Что за чертовщина! — изумился Березкин. — Ничего не понимаю…
Он снова хотел выключить хроноскоп, но я удержал его.
— Мы ж условились верить прибору. Давай послушаем…
Металлический голос продолжал: «…не все пойдут за мною. Придется не церемониться…»
И вдруг изображение смешалось, а голос забормотал нечто совершенно непонятное.
Березкин выключил хроноскоп.
— Что-то неладно, — сказал он. — Определенно, что-то неладно… Никто же не трогал прибор! Он должен работать исправно!
Березкин нервничал, он хотел еще раз повторить задание, но я попросил его вынуть лист из хроноскопа.
— Для чего он тебе нужен? — не скрывая раздражения, спросил Березкин. — Мы его вдоль и поперек изучили!
Я все-таки настоял на своем, хотя и не знал еще, что буду делать со страницей. Я долго рассматривал ее, а Березкин стоял рядом и торопил. Он, почти убедил меня вернуть ему лист, когда мне пришла на ум неожиданная мысль.
— Послушай, — сказал я, — ведь хроноскоп исследует страницу с верхней кромки до нижней, не так ли?
— Так.
— Теперь обрати внимание: строки, написанные рукой Зальцмана, расположены почти посередине страницы…
— Но выше ничего нет!
— Есть. Мы с тобой этого не видим, а хроноскоп заметил…
— Тайнопись, что ли?
— Не знаю, но что-то есть. Постарайся уточнить задание. Можно сформулировать его так, чтобы хроноскоп пока не анализировал строчки Зальцмана и сосредоточил внимание только на невидимом тексте?
— Сформулировать можно, но что получится?
— Попробуй.
— Ты думаешь, изображение и звук смешались из-за того, что одно нашло на другое?
— По крайней мере эта мысль пришла мне в голову.
— Гм, — сказал Березкин. — Рискнем.
Он довольно долго колдовал около хроноскопа, а я с волнением следил за его сложными манипуляциями: мы приблизились к раскрытию какой-то тайны, и если хроноскоп не подведет…
Березкин сел рядом со мной, и в третий раз на экране появился плотный подтянутый человек с жестоким лицом, и в третий раз зазвучали одни и те же слова. Когда металлический голос произнес: «Придется не церемониться…» — я невольно взял Березкина за руку, но голос, не изменяясь, продолжал: «Кто будет против, тот сам обречет себя на гибель вместе с чернью. Замечаю, что кое-кто забыл, кому все они обязаны спасением. Придется напомнить. Только бы справиться с этим… Никогда не прощу Жильцову, что он взял его…»
Голос умолк, изображение исчезло.
Мы с Верезкиным удовлетворенно переглянулись: хроноскоп выдержал еще одно сложное испытание.
— Все это мило, Вербинин, но я ничего не понимаю, — возвращаясь к делам экспедиции, сказал Березкин. — Откуда взялся этот тип? Впрочем, не будем пока гадать. Пусть хроноскоп сначала проиллюстрирует и расшифрует строчки Зальцмана.
То, что мы увидели через несколько минут, повергло нас в еще большее удивление. Металлический голос четко и бесстрастно произнес: «Долина Четырех Крестов». Мы надеялись увидеть на экране долину, но хроноскопу это оказалось не под силу: неясное изображение быстро исчезло, и на экране возник Зальцман. Он сделал какую-то запись в тетрадке, и мы тотчас узнали какую: «Спасения нет, потрясен случившимся, дневник спрятан…» Потом Зальцман начал вышагивать, придерживаясь все время одного направления, но откуда он шел и куда — мы никак не могли понять. Хроноскоп молчал, а по экрану проходили странные зеленоватые волны, и у нас сложилось впечатление, что электронный «мозг» хроноскопа столкнулся с задачей, которую не может разрешить. Наконец, металлический голос медленно, словно нехотя, выговорил: «Поварня».
— Ну, конечно! — воскликнул я. — Так называют избушки на севере!
Но хроноскоп, видимо, этого «не знал» — изображение избушки не появилось на экране.
Березкин выключил хроноскоп и разъяснил в задании, что такое «поварня». После этого на экране возникла небольшая плосковерхая избушка, и Зальцман начал свой путь от нее. «Северо-запад, — выговорил хроноскоп, — сто сорок». А Зальцман все шагал и шагал, и мы поняли, что 140 — это количество шагов. Затем прозвучали слова: «Река, левада». Зальцман в этот момент остановился и сделал в открытой тетрадке запись. Очевидно, он записал цифру и эти слова. На экране появилось смутное изображение реки, а потом и леса. После некоторой паузы металлический голос сказал: «Поваленный тополь, корни», и мы увидели огромный тополь, вывернутый бурей вместе с корнями.
— Бред, — категорически заявил Березкин. — Действие происходит севернее полярного круга, в тундре, а тут — украинские левады, гигантские тополя! Придется повторить задание.
— Нет, задание повторять не придется, — возразил я. — Хроноскоп с удивительной точностью восстановил картину. Зальцман спрятал дневник в ста сорока шагах к северо-западу от поварни, в леваде, у корней поваленного бурей тополя!
— Да нет же там никаких левад и тополей! На Чукотке-то!
— Есть, и это известно всем географам: в долине реки Анадырь и некоторых ее притоков сохранились так называемые островные леса. И к югу и к северу от бассейна Анадыря — тундра, а в долинах рек растут настоящие леса из тополя, ивы-кореянки, лиственицы, березы… Это как раз и служит доказательством, что хроноскоп точно расшифровал запись и правильно проиллюстрировал ее!
— Все это похоже на чудеса, — задумчиво произнес Березкин. — Знаешь, когда я закрываю глаза, мне порой кажется, что никакого хроноскопа не существует, что все это мы где-нибудь прочитали или услышали, или сами нафантазировали… Настала пора действовать энергично. Данилевский обещал нам помощь. Затребуем самолет и вылетим на Чукотку. Согласен?
— Конечно.
Но, прежде чем вылететь на Чукотку, мы передали подвергнутую хроноскопии страничку на исследование специалистам. После тщательного анализа они подтвердили, что, помимо хорошо видимого текста, на ней имеются очень слабые следы другой записи, вдавленные в бумагу: кто-то писал на предыдущей странице, и текст отпечатался на той, которая попала к нам. Мы не обратили бы вниманий на эти следы, но электронные «глаза» хроноскопа разглядели их и расшифровали. Специалисты частично восстановили для нас запись, и мы убедились, что она сделана почерком очень твердым, жестким, совершенно не похожим на почерк Зальцмана… Более того, страничку подвергли дактилоскопическому анализу, и было установлено, что наряду с нашими отпечатками пальцев сохранились отпечатки пальцев еще двух людей.
ГЛАВА ПЯТАЯ, в которой рассказывается, какие сведения сообщили нам из Иркутска, как была организована первая, экспедиция хроноскопистов и что удалось нам узнать в Иркутске о судьбе Розанова
О первых результатах расследования мы сообщили Данилевскому, а он доложил о них на Президиуме Академии наук. Мы присутствовали на заседании и высказали свои соображения о дальнейших планах. Наши предложения были приняты, и через некоторое время в распоряжение хроноскопической экспедиции предоставили самолет. Мы могли вылететь на Чукотку немедленно, но из-за хроноскопа задержались почти на месяц. Кажется, я не говорил, что хроноскоп, несмотря на сложность и почти невероятную чувствительность, по размерам совсем невелик?… Проектируя его, Березкин сразу поставил целью сделать хроноскоп, если так можно выразиться, портативным. Конечно, носить его с собой в буквальном смысле слова никто из нас не мог, но перевезти на самолете или автомашине можно было без особого труда. Однако за стенами Института вычислительных машин хроноскоп нуждался в помощи некоторой дополнительной аппаратуры. Монтаж ее и задержал нас в Москве.
Жалеть о задержке нам не пришлось. Во-первых, наступило лето. А во-вторых… Во-вторых, мы получили неожиданные известия из Иркутска. Один из сотрудников краеведческого музея, прекрасный знаток Сибири, которому показали запрос Академии в городской архив, в частном письме сообщил нам, что об экспедиции Жильцова он ничего не знает, но зато ему хорошо известно имя Розанова — большевика и красногвардейца, сражавшегося за советскую власть, против Колчака. Если это тот самый Розанов, который принимал участие в экспедиции Жильцова, писал наш добровольный помощник, то о нем мы сможем получить в Иркутске точные сведения.
Вот почему наш экспедиционный самолет, на борту которого был установлен хроноскоп, совершил специальную посадку в Иркутске.
Энтузиаст-краевед встретил нас на аэродроме. Горисполком предоставил нам машину (почему-то полуторку, видимо товарищи решили, что мы немедленно перегрузим на нее хроноскоп), и наш помощник предложил поехать к Розанову. Он сказал это так, как будто Розанов был жив.
— Нет, к сожалению, — ответил краевед, когда я переспросил его. — Жив он только в памяти сибиряков.
Было еще очень рано, около шести часов утра; машина прошла по тихим зеленым улицам Иркутска — и город остался позади. Дорога, описав дугу, прижалась к Ангаре и больше не отходила от нее. Небо было затянуто неплотным, но сплошным слоем облаков, а над темной быстрой Ангарой клубился белый туман, и казалось, что река дышит, и дыхание ее — холодное, влажное — долетает до нас. Я сидел в кузове между Березкиным и краеведом. Разговаривать никому не хотелось. Машина проносилась мимо березовых с примесью сосны лесков, мимо вытянувшихся вдоль реки селений, и я вспоминал, что скоро на их месте раскинется новое водохранилище. Туман над рекой постепенно рассеивался, и сквозь пелену проступали очертания темных рыбачьих лодок. Машина попадала то в теплые струи воздуха, то в холодные, но становилось все теплее, проглядывало солнце. Теперь мы хорошо видели лесистые сопки по левому берегу Ангары, узкую полоску железнодорожного полотна, прижатую к самой воде… Неожиданно река, а следом за ней и шоссе сделали крутой поворот, и между двумя мысами показалась широкая светлая полоска воды — Байкал.
Мы остановились в селе Лиственничном, и краевед повел нас на заросший сосной и кедром склон сопки. Торная тропа круто поднималась вверх, и мы еще издали заметили высокий белый обелиск, поставленный над братской могилой… Среди многих имен, высеченных на мраморной доске, мы нашли знакомое нам имя: С. С. Розанов…
— Он был членом Иркутского комитета РКП(б), — сказал краевед, — и одним из руководителей восстания против колчаковцев. Погиб в январе 1920 года под Лиственничным на берегу Байкала…
…Мы стоим, сняв шапки. Утренний бриз чуть колышет волосы. Байкал затянут полупрозрачной голубой дымкой, он спокоен, величествен и прост. От пирса уходит в голубую даль небольшой буксирный пароход… А у самого берега лежит большое село с крепкими, надолго срубленными домами, и по длинной улице движутся к школе маленькие фигурки детей…
ГЛАВА ШЕСТАЯ, в которой экспедиция хроноскопистов благополучно прибывает на Чукотку, убеждается, что на севере есть немало названий со словом «кресты», но о Долине Четырех Крестов никто никогда не слышал, и все-таки находит эту затерянную долину
В Иркутском городском архиве документально подтвердили все, что мы узнали со слов краеведа о Розанове. Но полученные нами сведения относились к последнему, вероятно самому славному, короткому периоду в жизни одного из наших героев — к борьбе за советскую власть в Восточной Сибири. Сведения эти подтверждали достоверность записок Зальцмана. Да, Розанов, вольный или невольный участник полярной экспедиции Жильцова, был профессиональным революционером, настоящим коммунистом и до конца жизни сохранил верность своим идеалам. Он прожил трудную героическую жизнь и пал смертью храбрых в бою с колчаковцами… Образ этого человека до конца прояснился, он стал близок и дорог нам, но от решения основной задачи (узнать судьбу экспедиции) мы были по-прежнему далеки.
Правда, появление Зальцмана в Краснодаре уже не удивляло нас, он спасся не один, Розанов тоже добрался до крупных городов. Но что стало с остальными? О какой таинственной истории пытался рассказать умирающий Зальцман? Сохранились ли документы? Ни на один из этих вопросов мы по-прежнему не могли ответить. Все наши помыслы сосредоточились на Долине Четырех Крестов…
За три дня по сложной трассе мы долетели до Чукотки и приземлились на аэродроме в селе Марково. Экспедицией нашей сразу же заинтересовались все местные жители — и новоселы, и старожилы, но о Долине Четырех Крестов никто никогда не слышал.
— Залив Креста знаем, — сказал нам начальник аэропорта. — Крестовый перевал тоже. Но Долина Четырех Крестов… понятия не имею.
— На Колыме еще всякие «кресты» есть, — поделился своим опытом марковский агроном. — Нижние Кресты, Кресты Колымские…
— Все не то, — ответили мы. — Наша долина находится в верховьях реки Белой. Там должна стоять поварня…
— Это еще не примета, — возразили нам. — Мало ли поварен на севере!
— Много, — согласились мы. — Но по реке Белой их же не сотня… И потом, нам известны координаты, мы знаем, где искать.
И мы начали поиски. На второй день самолет полярной авиации поднялся с аэродрома и взял курс на север (мы не могли рисковать хроноскопом, и поэтому наш самолет остался в Маркове, в аэропорту). Сначала мы летели над болотистой Анадырской низменностью, испещренной цепочками небольших тундровых озер, соединенных между собой протоками-висками, потом местность стала выше, и самолет пересек неширокую холмистую гряду; сверху холмы казались серыми, безжизненными, лишь кое-где на них зеленели пятна стелющейся черной ольхи. Совершенно иная картина открылась нам, когда холмистая гряда осталась позади. Теперь самолет шел над долиной реки Белой; сильно извиваясь, то и дело меняя направление, река неспешно текла между низкими берегами, заросшими лесами; они жались к реке, эти леса, и узкая полоска их с внешней стороны оконтуривалась кустарниками; а дальше расстилалась тундра — серая, заболоченная, с редкими пятнами снежников, летующих в затененных местах.
Чем севернее забирался самолет, тем выше становились холмы вокруг Белой, прямее долина реки, уже полоски прибрежных лесов; вскоре пилоту пришлось набрать высоту: теперь под нами лежали горы, тоже серые и тоже с редкими зелеными пятнами ольхи; пятен этих становилось все меньше, и, наконец, они исчезли совсем; зато все чаще попадались белые летующие снежники; они лежали в долинках, и из-под них вытекали ручьи; деревья встречались лишь небольшими группами и с каждой минутой полета все реже и реже. За все время я лишь однажды заметил кочевье оленеводов — несколько островерхих яранг и загон для оленей — и один раз одинокое зимовье, как мне показалось — пустое (дымок над ним не вился).
Штурман предупредил, что скоро мы выйдем в заданную точку.
— Смотрите в оба, товарищ Вербинин, — сказал он мне. — Не так-то легко заметить с воздуха ваши кресты. — Он подумал и добавил:
— Если они вообще существуют.
Долина Белой становилась все уже. На севере отчетливо виднелись вознесенные в поднебесье вершины Анадырского хребта. Больше всего меня смущало то, что совсем исчезли галерейные леса; ведь в шифровке Зальцмана упоминались левада и поваленный тополь; и хроноскоп так убедительно изобразил нам все это… Я почувствовал на себе внимательный взгляд Березкина и оглянулся; он выразительно приподнял брови и кивнул в сторону окна. Очевидно, расстилавшаяся под нами картина смущала его не меньше, чем меня…
Я еще раз посмотрел вниз и понял, что в указанной точке мы не найдем Долину Четырех Крестов. Я пришел к такому заключению не потому, что вдруг усомнился в точности астрономического определения — мы давно подозревали, что оно лишь приблизительно указывает местоположение долины; привел меня к нему физико-географический анализ местности. Северные ветры могли беспрепятственно разгуливать по долине реки Белой, которая становилась все выше и выше; тополя здесь выжить уже не могли. И я пришел к выводу, что где-то поблизости должна находиться замкнутая почти со всех сторон, хорошо защищенная от северных ветров горным хребтом небольшая долинка одного из второстепенных притоков Белой, в которой и сохранился островок леса — быть может, самый северный на Чукотке… Древесную растительность на севере губит не холод, не жестокие морозы, как это обычно думают. В районах Верхоянска и Оймякона, в пределах «полюса холода» северного полушария, где температура опускается почти до семидесяти градусов мороза, растет тайга и деревья чувствуют себя вполне нормально. Главная причина безлесья тундры в низких летних температурах и в иссушении растений. Да, на севере растения нередко гибнут от засухи, стоя «по колено» в воде. Очень опасны для деревьев весенние ветры: деревья начинают пробуждаться от зимнего оцепенения, влага испаряется, а новая не поступает, потому что почва еще не оттаяла и скована мерзлотой… Но даже когда почва оттает — деревья могут погибнуть от засухи, так как очень холодная вода корнями не усваивается; это называется «физиологической сухостью».
— Прибыли, — сказал штурман.
Под нами расстилалась арктическая пустыня, и никаких признаков жизни невозможно было заметить сверху. Я высказал штурману свои соображения и попросил взять немного восточнее: насколько я мог судить. Анадырский хребет там лучше защищал прилегающие к нему долины.
Самолет лег на новый курс и стал набирать высоту: зеленый оазис леса все равно не ускользнул бы от нашего внимания.
Мой прогноз подтвердился: минут через двенадцать с большой высоты мы разглядели темнеющее посреди серых гор пятно оазиса. Постепенно снижаясь, самолет пошел к нему и начал кружить над маленькой, прижатой к массивному склону хребта долинкой; к неширокой речке примыкал там крохотный клочок леса, виднелась прямоугольная поварня, а по соседству белел снежник. Сверху нам долго не удавалось разглядеть крестов, но при последнем заходе и Березкин и я все-таки заметили один из них — наверное, самый высокий.
Никто не сомневался, что найдена Долина Четырех Крестов. Штурман определил ее местоположение, нанес долину на карту, и мы полетели обратно.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ, в которой экспедиция хроноскопистов запрашивает и получает вертолет, переносит на него хроноскоп и, после вынужденной задержки перебазируется в район Долины Четырех Крестов, где и проводит первое рекогносцировочное обследование, сразу приводящее к интересным находкам
Во время полета к Долине Четырех Крестов пилот и штурман, как выяснилось, внимательно изучали местность и установили, что нигде поблизости нет посадочной площадки, на которую смог бы приземлиться наш самолет с хроноскопом. Это сразу же усложнило задачу. Первой нашей мыслью было выброситься на парашютах без хроноскопа, произвести рекогносцировку в Долине Четырех Крестов, а затем в походном порядке выйти к ближайшему населенному пункту. Но летчики, вместе с нами обсуждавшие этот вариант, категорически запротестовали и предложили запросить у руководства вертолет. Не очень надеясь на успех, мы послали радиограмму в Анадырь и почти тотчас получили ответ: один из вертолетов был выслан в наше распоряжение.
Несколько дней ушло у нас на монтаж хроноскопа и вспомогательной аппаратуры в вертолете. Электронные машины — приборы, как известно, тонкие, и мы с Березкиным натерпелись немало страха, прежде чем убедились, что монтаж завершен благополучно и хроноскоп работает.
Мы уже готовились вылететь, как вдруг зарядили дожди. Рыхлые серые облака спустились почти к самой земле, перекрыли все «небесные дороги», и начальник аэропорта упорно не давал нам «добро». Что это было за мучение сидеть в нескольких часах полета от заветной цели, тосковать, проклинать все на свете и смотреть, смотреть, смотреть, как беспрерывно сочатся из облаков тонкие дождевые струи, как набухают тундровые болота, а ручьи становятся все полноводнее и полноводнее. На Анадыре стояли белые ночи, и круглые сутки все было серо и уныло. Даже большущие мохнатые комары подохли с тоски — по крайней мере они не появлялись.
Наконец, погода прояснилась. Мы вылетели рано утром и вскоре увидели темный оазис леса посреди арктической пустыни.
Вертолет опустился в стороне от поварни, за снежником. Когда выключили мотор и несущий винт, сделав последний оборот, неподвижно застыл в воздухе, ничем не нарушаемая, безжизненная, как выразились мы, тишина обступила нас. Испытывая легкое волнение, мы выбрались из вертолета и огляделись. За нашей спиной, защищая долинку от ветров с Северного Ледовитого океана, монолитной стеной возвышался Анадырский хребет; небо лежало прямо на его спокойных округлых вершинах и, как козырьком, прикрывало и нас, и маленькую долинку с снежником и левадой. Серые потоки щебня распадались у наших ног на мелкие застывшие ручейки, и тут же рядом серебрились припавшие к земле пушистые ивы, каждую из которых можно было накрыть двумя ладонями, цвела куропаточья трава, тянулись к хмурому небу тонкие в зеленых чешуйках стебельки шикши, белели причудливые, как кораллы, кустики ягеля — оленьего моха, а среди камней виднелись проволочные мотки черного жесткого лишайника алектория.
По пути к поварне мы пересекли снежник; у меня было такое ощущение, что снежник этот — часть внезапно застывшего озера; дул ветер, ходили по озеру волны, а потом, как по мановению волшебной палочки, оно застыло, и волны замерли с вознесенными вверх гребешками… Напуганные вертолетом суслики-евражки вылезли из норок и тревожно свистели, глядя на нас.
Безыменный приток Белой, начинавшийся где-то на склонах Анадырского хребта, был не очень глубокой, но зато широкой рекой. Над водой выступали гладкие темные спины многочисленных валунов. Поварня стояла на левом берегу реки, а небольшая тополиная рощица ютилась на правом.
Неподалеку от поварни мы и увидели четыре креста: три высоких и один небольшой, похожий на обычный могильный крест. Два крайних, стоявших особняком, сразу же показались нам очень старыми; еще издали заметили мы, что черное потрескавшееся дерево иссечено ветрами, а внизу поземка «подгрызла» кресты, и они вот-вот могли упасть. Никаких надписей на этих крестах не сохранилось, а может быть их никогда и не было. Они возвышались посреди арктической тундры, как безмолвные памятники всем, кто жил, боролся и погиб на Севере. Наверное, их водрузили здесь еще во времена землепроходчества над могилами павших товарищи по скитаниям, водрузили — и ушли дальше, затерялись где-то в просторах Арктики, канули в небытие, а кресты над безыменными могилами все стояли, широко раскинув черные перекладины. А потом рядом с ними появилось два новых креста. На одном из них, высоком, мы прочитали еще хорошо сохранившуюся надпись:
Жильцов Андрей Павлович. Русская полярная экспедиция. 1914–1916
Мы расследовали историю экспедиции, исчезнувшей сорок лет назад, и, конечно, никого из ее участников не надеялись застать в живых. И все-таки, когда на маленьком кресте мы с трудом разобрали имя астронома Мазурина, всех нас охватила глубокая тоска, и руки сами потянулись к шапкам.
Низенькая старая поварня казалась глубоко вросшей в землю. Прежде чем войти в нее, нам пришлось срыть грунт перед порогом; видимо, поварня уже очень давно никем не посещалась…
Мне трудно передать сейчас свое первое впечатление от всего, что мы увидели внутри поварни, а увидели мы странную картину: пол был завален порванными и порезанными листами из тетрадей и путевых журналов, а посреди этого хаоса лежали останки человека… Мы радостно вздохнули, когда снова вышли наружу, почувствовали прикосновение холодного ветерка, услышали шум реки и шелест листвы в леваде; мир показался нам особенно чистым, сквозным, просторным, и уже с совершенно иным чувством смотрели мы и на неяркие цветы куропаточьей травы, и на чешуйчатые стебельки шикши, и на ватные головки пушицы, качавшиеся над болотцем…
Долго молчавший Березкин сказал:
— Отсюда Зальцман начал отсчитывать шаги, — и махнул рукой в сторону левады.
Это замечание вернуло всех нас к действительности. Мы возвратились в поварню, обходя скелет с остатками одежды, тщательно собрали все бумаги, а пилот нашел у стены сильно поржавевший охотничий нож и тоже захватил его с собой. Со всем этим багажом мы отправились к вертолету, чтобы там привести в порядок найденные бумаги к вообще разобраться в своих впечатлениях.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ, в которой высказывается первое суждение о найденных бумагах, мы с Березкиным уступаем просьбе пилота и штурмана показать им хроноскоп в работе, а хроноскоп, вновь демонстрируя свои превосходные качества, позволяет нам воочию увидеть некоторые события, происшедшие сорок лет назад
Пилот признался, что посадил вертолет так далеко от поварни, боясь повредить какие-нибудь «вещественные доказательства», как он выразился. Теперь же, произведя первое обследование, мы решили перебазироваться и разбить лагерь у тополиной рощи. Поставив палатку и наскоро перекусив, мы при живейшем участии пилота и штурмана занялись разбором бумаг. Все они были перепутаны, многие выцвели, стали ломкими, но все-таки успех нашего предприятия теперь зависел от этих листочков, исписанных неразборчивыми незнакомыми почерками. Как и все современные люди, с раннего детства приученные читать и писать, мы подсознательно больше всего и охотнее всего верили письменным документам, слову. И даже сейчас, обладая первым в мире хроноскопом, прибором, способным объективнее и точнее воспроизводить картины прошлого, чем любое письменное свидетельство, неизбежно отражающее симпатии и антипатии автора, мы все же засели за бумаги, и не подумав прибегнуть к помощи своего чудесного аппарата… Пренебрежительное отношение к хроноскопу и заставило нас потратить некоторое количество времени на совершенно нелепые домыслы.
Пилот и штурман, довольные, что им тоже позволили разбирать бумаги, и чувствовавшие себя по меньшей мере Шерлок Холмсами, на чем свет стоит бранили «негодяя» (выражение принадлежит штурману), изрезавшего и расшвырявшего в непонятном приступе ярости дневники участников экспедиции.
— Занесло лешего! — сказал пилот. — Надо же такому случиться! Уж кажется в такой глуши стоит поварня! Даже оленей чукчи не пасут поблизости.
— А по-моему, его не занесло, — возразил Березкин. — По-моему, все произошло в шестнадцатом году, и именно об этой трагической истории хотел сообщить умирающий Зальцман. Видимо, один из участников экспедиции сошел с ума и его пришлось…
Березкин не договорил, но мы поняли его. Хаос, царивший в поварне, не оставлял сомнений, что там побывал буйно помешанный.
— После всего пережитого, — сказал штурман, — всякое, конечно, могло случиться…
Больше он не бранил «негодяя».
Разбор старых, выцветших, ломающихся в руках бумаг все-таки требует определенных навыков. В этом деле я обладал несравнимо большим опытом, чем Березкин и наши помощники — пилот и штурман. Поэтому постепенно я их оттеснил на второй план, им пришлось почти все время сидеть сложа руки, а сидеть сложа руки, как известно, занятие очень скучное. Вероятно, поэтому мысли пилота и штурмана возвратились к вертолету и находящемуся там хроноскопу; нам вежливо напомнили, что мы обещали в первый же день показать, как работает хроноскоп.
— Вот, — сказал штурман, осторожно приподнимая с пола заржавленный нож, принесенный из поварни пилотом. — Провентилировали бы вы эту штучку.
Симпатии Березкина при всем его уважении к письменным документам тоже принадлежали хроноскопу; от дела я его отстранил, и он решил, очевидно не без тайного умысла, поразить пилота и штурмана совершенством хроноскопа, уступить их просьбе.
— Дай какой-нибудь документик, — попросил он у меня. — Познакомлю ребят с хроноскопией.
Просьба мне не понравилась: пока бумаги не разобраны и не систематизированы — лучше их не трогать. Я замялся и пробормотал, что сейчас мне может понадобиться любая из этих страничек.
Штурман, выручая меня и испугавшись, что им не покажут хроноскоп в работе, снова помахал перед нами ножом.
— Можно же эту штучку…
Теперь загорелись глаза у Березкина. До сих пор мы ограничивались хроноскопией письменных документов, а тут представлялась возможность испытать хроноскоп на совершенно ином материале.
— Пошли, — сказал он штурману и пилоту. — Пусть Вербинин тут один командует.
Меня больше всего интересовали дневники начальника экспедиции Жильцова. Сопоставив разные тексты и почерки, я, наконец, обнаружил записи самого Жильцова. Они пострадали сильно, в душе я тоже проклинал безумца, порезавшего и порвавшего дневники, но все-таки работа успешно продвигалась вперед, и я надеялся дня за два закончить предварительную разборку материалов.
По времени давно уже наступила ночь, я трудился, радуясь, что на Чукотке сейчас стоит полярный день и короткие сумерки сгущаются лишь в полночь. Я был настолько поглощен своими делами, что, услышав крик Березкина, не обратил на него внимания, он просто не дошел до моего сознания.
Березкин, а следом за ним и пилот ворвались в палатку.
— Ты что, заснул? — нетерпеливо спросил Березкин. — Кричим тебя, кричим! Быстрее, быстрее! Совершенно неожиданный результат!
Он потащил меня за собой, но я сначала тщательно прикрыл документы и лишь потом вышел из палатки.
— Что случилось?
Березкин и пилот, не отвечая, волокли меня к вертолету, но более непосредственный штурман, выскочивший из вертолета нам навстречу, крикнул:
— Нож заржавел от крови! — он глотнул воздух и тихо добавил:-Самоубийство. — Потом уже совершенно другим тоном, не скрывая восхищения, сказал, имея в виду хроноскоп: — Ну и аппаратик! Чудо просто!
— Серьезно… самоубийство? — останавливаясь, спросил я.
— Увы! Трижды повторял задание, по-разному формулировал его, — ответил Березкин, — а результат один и тот же.
— На кого похож человек?
— Портрет, к сожалению, очень неопределенен. Ни на Зальцмана, ни на того с жестоким лицом не похож…
— Зальцман! Зальцман умер в Краснодаре…
Березкин поморщился.
— Как будто об этом можно забыть! Просто на экране возник этакий обобщенный образ человека…
— И он… — я сделал выразительное движение большим пальцем в сторону собственного сердца.
— Вот именно, — вздохнул Березкин.
— Кажется, у Зальцмана действительно были основания мучиться и спрашивать — «правы или нет?»
— Не знаю. Что-то совсем непонятное, — честно признался Березкин. — И неясно, когда это произошло.
Эпизод этот, уже запечатленный в «памяти» хроноскопа и вновь продемонстрированный, произвел на меня очень тяжелое и неприятное впечатление, мне даже не хочется описывать, как все выглядело на экране. Отмечу лишь, что, если верить хроноскопу, покончивший с собой находился в состоянии буйной ярости. Всем нам подумалось, что он и порезал документы. Я согласился подвергнуть хроноскопии некоторые особенно сильно пострадавшие страницы, и хроноскоп подтвердил наше предположение: мы увидели на экране разъяренного человека, бессмысленно режущего, рвущего и разбрасывающего дневники. Человек орудовал охотничьим ножом — тем самым, которым покончил с собой.
Однако мы не могли понять, что вызвало приступ ярости, как отнеслись ко всему другие люди, а если безумный был один, то куда делись все остальные; наконец, мы не знали, чем объяснить, что именно экспедиционные документы привлекли внимание человека. Наблюдая за мечущейся по экрану фигурой мужчины, останки которого лежали в поварне, я думал, что ярость его — странная ярость, что она не от бешенства сильного, идущего напролом человека, а скорее от отчаяния, от безысходности и безвыходности… Впрочем, все это могло мне просто показаться.
По просьбе пилота и штурмана мы продемонстрировали им все, что хранилось в «памяти» хроноскопа и имело отношение к экспедиции, а потом подвели итоги, расположив все известные нам факты по порядку. Итак, вот что мы знали:
1) в Якутске к экспедиции Жильцова присоединились политические ссыльные Розанов и Зальцман;
2) экспедиция вышла в океан, и через два года некоторые из ее участников оказались в поварне в Долине Четырех Крестов, где двое из них, Жильцов и Мазурин, погибли;
3) в Долине Четырех Крестов в поварне полярные исследователи почему-то оставили документы и ушли, причем какой-то человек, скорее всего один из участников экспедиции, попытался уничтожить документы, а потом покончил жизнь самоубийством;
4) Зальцман добрался до Краснодара и умер там от тифа; перед смертью его жестоко мучили угрызения совести, он пытался ответить самому себе, правильно ли они поступили или неправильно, а в записках явно противопоставлял политссыльного Розанова командиру шхуны Черкешину;
5) Розанов погиб в боях с Колчаком, борясь за советскую власть в Восточной Сибири, и прах его покоится в братской могиле на берегу Байкала…
Сначала я подумал, что в поварне лежат останки Черкешина, хотя сейчас я не берусь объяснить, почему именно так подумал. Но Березкин стал доказывать мне, что, судя по запискам Зальцмана, Черкешин сильный человек, наделенный несгибаемой волей, безусловно мужественный, и предположение, что он покончил с собою, — просто абсурдно.
— Если хочешь знать, — говорил Березкин, — так мог поступить человек с характером Зальцмана, но никак не с характером Черкешина…
— Но Зальцман… — начал я.
— Да, Зальцман выдержал испытание, и я склонен думать, что это был кто-то другой…
Мы решили оставить вопрос открытым и зря не ломать себе голову: ведь документы должны были многое прояснить нам.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ, в которой по восстановленным дневникам Жильцова дается описание первого этапа работы, экспедиции, принимаются к сведению гонкие и обстоятельные характеристики участников плавания, а также содержатся некоторые рассуждения о том, что история повторяется
Все сохранившиеся страницы дневника Жильцова мы прочитали без особого труда, лишь изредка прибегая к помощи хроноскопа. Жильцов писал обстоятельно, четко, очень доброжелательно по отношению ко всем участникам экспедиции и почти не упоминая самого себя — то есть так, как писало большинство отечественных путешественников. Этим он сразу расположил нас к себе, и мы, читая его дневники, верили каждому его слову. Записки других участников экспедиции, прочитанные позднее, позволили нам составить полное представление о Жильцове. Он принадлежал к прекрасной школе русских военных моряков — высокообразованных, гуманных, преданных науке, к числу людей с широким кругозором, ясным умом и твердой волей. Такими были Крузенштерн и Лисянский, Лазарев и Беллинсгаузен, Коцебу и Нахимов, Литке и Седов. В дневнике Жильцова почти отсутствовали отвлеченные рассуждения, но весь строй его мыслей, проскальзывающие в записках симпатии и антипатии позволили нам заключить, что он хоть и не был революционно мыслящим человеком, но, безусловно, был прогрессивно настроенный ученый. В этом убеждали нас и факты — в частности, отношение Жильцова к Розанову и Черкешину. Судьбы этих трех людей с разными убеждениями и разными характерами завязались в сложный узелок сразу же, как только экспедиция покинула Якутск.
В дневнике Жильцова содержалась подробная, заметно выделяющаяся по стилю запись. Мы назвали ее «оправдательной», хотя в прямом смысле слова Жильцов не оправдывался. Просто вскоре после выхода из Якутска, когда «Заря-2» уже шла вниз по Лене, он написал в своем дневнике, что экипаж шхуны недоукомплектован и что где-нибудь по пути придется нанять еще одного матроса; Жильцов подробно аргументировал это, а через страничку мы обнаружили короткую, из двух строчек справку о том, что на борт шхуны взят в качестве матроса С. С. Розанов. Нам показалось странным, что Жильцов сам нанял матроса — экипаж обычно комплектует капитан или командир корабля. И Жильцов далее добросовестно отметил, что лейтенант Черкешин решительно протестовал против взятия на борт еще одного политического ссыльного. Однако Жильцов настоял на своем.
Эпизод этот сразу прояснил многое. Во-первых, мы помнили, что Розанов работал вместе с Зальцманом на верфи в Якутске и, следовательно, мог наняться в экспедицию там. Видимо, что-то помешало этому. Мы все склонились к мысли, что за Розановым в отличие от Зальцмана был более строгий надзор и местные власти отказали ему в разрешении уехать с экспедицией: как-никак, экспедиция намеревалась выйти к берегам Америки. Но Розанов стремился попасть в экспедицию, и Жильцов, который не мог не знать о мнении властей, сочувствовал ему и помог: Розанов присоединился к экспедиции уже в пути, несмотря на протест лейтенанта Черкешина…
Выйдя из устья Лены в море Лаптевых, «Заря-2» взяла курс прямо на Новосибирские острова. Море уже очистилось ото льдов, и шхуне попадались лишь редкие, изъеденные морем льдины, легко крошившиеся под форштевнем. Через несколько дней «Заря-2» подошла к острову Васильевскому, что расположен на пути к Новосибирским островам. Этот остров открыл еще в 1815 году якут Максим Ляхов, который шел по льду из устья Лены на остров Котельный, но сбился с пути. Вероятно, Жильцов этого не знал, но к острову Васильевскому в 1912 году подходили суда Русской гидрографической экспедиции «Таймыр» и «Вайгач» и подробно описали его. В дневнике Жильцова тоже имеется характеристика острова, отмечено, что он невелик размером и невысок, сложен песчано-глинистыми породами и льдом, и волны энергично разрушают его берега… Не задерживаясь у этого острова, «Заря-2» пошла дальше, к острову Котельному, и, воспользовавшись благоприятными ледовыми условиями, сделала попытку обойти Новосибирские острова с севера. Это ей удалось, и «Заря-2» прошла на север дальше, чем все другие суда до нее. Но однажды Жильцов заметил на облаках характерный отблеск льдов, и на следующий день тяжелые паковые льды преградили шхуне дорогу. Некоторое время «Заря-2» лавировала у кромки льда, надеясь дождаться разводьев, но потом вынуждена была отступить и взять курс на остров Беннета, еще в прошлом веке открытый Де-Лонгом и ставший последним пристанищем Толля и его спутников…
«Заря-2» побывала в тех местах, где предполагалась «Земля Санникова», и… не обнаружила ее. Жильцов посвятил этому несколько страниц своего дневника — очень любопытных страниц. Он приводил факты, доказывающие, что «Земля Санникова» не существует, но… он верил людям, видевшим эту землю, и поэтому считал, что вопрос по-прежнему остается открытым. Нам было приятно читать запись в его дневнике, в которой он утверждал, что нет ни малейших оснований сомневаться ни в честности Санникова, менее всего помышлявшего о том, чтобы приписывать себе не сделанные открытия, ни в научной добросовестности Толля. Они, как и многие другие исследователи Арктики, писали то, что наблюдали, и не писали того, чего не наблюдали, — так почти дословно сказано в дневнике Жильцова.
И меня и Березкина очень заинтересовали характеристики участников экспедиции, сделанные Жильцовым; мягкие, доброжелательные, а потому, безусловно, достоверные, они помогли нам понять взаимоотношения между участниками экспедиции, а позднее уяснить и причину трагических событий в Долине Четырех Крестов…
Черкешин — командир корабля, лейтенант… Опытный моряк, отличный навигатор, уже принимавший участие в нескольких арктических плаваниях; но особенно, с некоторой тревогой подчеркивал Жильцов следующие его свойства: умен, смел, настойчив и заносчив, требователен до жестокости, сторонник крутых мер, неприязненно относится к младшим чинам и якутам.
Мазурин — научный сотрудник, астроном… Человек мягкий, доброжелательный, легко подпадающий под чужое влияние, но прекрасный знаток своего дела; в полярной экспедиции участвует впервые.
Коноплев — научный сотрудник, этнограф, зоолог… Величайший энтузиаст своего дела, человек ясного ума и большого сердца, склонный во всех людях видеть своих братьев; Жильцов сделал небольшую дополнительную приписку: часто бывает излишне резок в разговорах с командиром корабля.
Характеристика Зальцмана вполне совпала с мнением, сложившимся у нас после ознакомления с дневниками; чуть шутливо Жильцов называл его «совестью» экспедиции.
Говоров — помощник командира корабля… Молод, горяч, честен, ревностно относится к службе, но большого опыта не имеет.
Ни боцмана, ни матросов Жильцов в своем дневнике, к сожалению, не охарактеризовал; ни слова не было сказано специально и о Розанове; имя его всплыло неожиданно на других страницах дневника.
Вскоре после выхода в океан командир шхуны лейтенант Черкешин приступил к осуществлению далеко идущего плана. Сначала все выглядело естественно: командир требовал строгого соблюдения дисциплины, жестоко взыскивал за малейшие явные или кажущиеся провинности. Матросы, да и все участники экспедиции работали на совесть, но Черкешина это мало интересовало; он ввел на шхуне режим военной казармы, добивался, чтобы люди работали как автоматы, слепо выполняя его распоряжения, глушил всякую инициативу, идущую не от него; презрительное отношение к нижним чинам делало обстановку особенно гнетущей, тяжелой… Неизвестно, как развивались бы события, не будь на шхуне политического ссыльного Розанова, человека, посвятившего свою жизнь борьбе с угнетателями всех мастей. Он быстро сплотил вокруг себя команду, и когда Черкешин попробовал ввести на шхуне телесные наказания, матросы во главе с Розановым выступили против него.
Первоначально Розанов один явился к Жильцову и от имени всех матросов высказал ему свои требования. Жильцов не удивился и не возмутился — оказалось, что он давно уже разгадал планы Черкешина и готов пойти на обострение конфликта, чтобы пресечь их. Причина конфликта четко сформулирована самим Жильцовым: в море за судно отвечает командир корабля, или капитан, и Черкешин, ловко используя это, решил оттеснить начальника экспедиции на второй план и захватить всю власть в свои руки; умный человек, Черкешин понимал, что осуществить это он сможет лишь при безропотной покорности всей команды, поэтому он и стремился забить, запугать людей. Но попытка совершить экспедиционный переворот не могла застать врасплох и обескуражить Жильцова. И не только потому, что он был достаточно наблюдателен, чтобы вовремя заметить опасность, и достаточно решителен, чтобы не растеряться в трудный момент, но и потому, что однажды такие события уже происходили на глазах у Жильцова…
Увы, история повторяется. В экспедиции Толля в 1902 году командир «Зари» лейтенант Коломейцев попытался сделать то же, что и лейтенант Черкешин. «Заря» стояла тогда у берегов Таймыра, и Толль, проявив достаточную энергию и решительность, сместил сторонника телесных наказаний и властолюбца Коломейцева, отправил его с почтой в Енисейский залив, а на его место назначил Матисена…
Вот почему Розанов и Жильцов стали союзниками в борьбе против Черкешина. Ждать им пришлось недолго: как все авантюристы, Черкешин быстро зарвался, и тогда против него выступили все: и начальник экспедиции, и матросы, и научные сотрудники. Переворот не удался. К сожалению, Жильцов не имел возможности избавиться от Черкешина: судно находилось в открытом море. Но Черкешин признал, что поступал неправильно; новых попыток захватить власть или ввести палочный режим он не делал. Жильцов с искренней радостью записал в дневнике, что Черкешин глубоко осознал свои ошибки и, конечно, больше не повторит их…
Эпизод этот прояснил нам причину разногласий между Жильцовым и Черкешиным из-за Розанова; Жильцов, предвидевший осложнения с Черкешиным, нуждался в Розанове, как в человеке, способном противостоять командиру шхуны; а Черкешин, замышляя переворот, понимал, что Розанов может помешать ему… И Жильцов, и Черкешин были умными людьми и не ошиблись в своих предположениях.
Вскоре после этих событий с борта «Зари-2» заметили на севере «водяное небо» — на облаках лежал мутно-серый отсвет чистой воды. Черкешин предложил пробиться к полынье. Жильцов дал согласие, и шхуна начала трудный путь среди льдов. Внезапно переменившийся ветер увеличил разводья, «Заря-2» забиралась все дальше и дальше, как вдруг ветер снова изменился — и ледяные поля стали сдвигаться… Жильцов сделал в дневнике лаконичную запись:
«Герой нынешнего дня-Черкешин; лишь его искусство избавило экспедицию от больших неприятностей».
К концу арктического лета шхуна «Заря-2» подошла к острову Беннета — самому крупному в архипелаге Де-Лонга, гористому, необитаемому… За тринадцать лет до этого с острова Беннета по непрочному ноябрьскому льду ушел в последний поход полярный исследователь Толль, так и не дождавшийся своей шхуны «Зари»… «Заря» догнивала на берегу бухты Тикси, а у скал острова Беннета стояла другая шхуна — «Заря-2», экипаж которой продолжал дело, начатое Толлем…
Несколько участников экспедиции переправились в шлюпке на остров и, разделившись на две партии, занялись его исследованием. Коноплев, Зальцман и Мазурин пошли в одну сторону, а Жильцов с якутами Ляпуновым и Михайловым и матросом-гребцом Розановым отправился искать хижину, построенную Толлем.
Небо помутнело незаметно, и лишь когда внезапный порыв ветра хлестнул Жильцова по лицу, он понял, что надвигается буря и необходимо срочно вернуться на шхуну. Жильцов, Розанов, якуты Ляпунов и Михайлов поспешно двинулись обратно, к месту высадки. Жильцов шел первым. Они переходили небольшой, круто спадающий к морю ледник, когда сильнейший порыв ветра сбил Жильцова с ног. Начальник экспедиции покатился к обрыву, и лишь трещина спасла его от гибели. И Розанов, и якуты кричали сверху, но Жильцов не отзывался и лежал неподвижно… Буря все усиливалась, шквальный ветер не давал подняться, людей вот-вот могло сбросить в море. Но никому и в голову не пришло покинуть Жильцова в беде. Розанов и Ляпунов остались наверху страховать, а маленький ловкий Михайлов спустился на веревке к Жильцову. Он был жив, но сам идти не мог. Ежесекундно рискуя жизнью, выбиваясь из сил, якуты и Розанов вытащили начальника экспедиции и на руках понесли его туда, где надеялись еще застать шлюпку… Шлюпку они застали, и всех остальных высадившихся на берег-тоже, но «Заря-2» исчезла: она не могла оставаться в бурю у скалистых берегов острова…
Уже через несколько часов на море появились льды. Ветер продолжал бушевать, но волны утихли. Никого ото не обрадовало. Льды ползли с севера и неодолимой преградой вставали на пути между островом и шхуной, штормовавшей где-то в открытом море… И тяжело пострадавший Жильцов, и все другие участники экспедиции, оставшиеся на острове, понимали, что их ждет неминуемая гибель, если «Заря-2» не пробьется сквозь льды за ними. Толль, оказавшийся в таком же положении, имел теплую одежду, питание, все его спутники были здоровы… И все-таки они бесследно исчезли среди льдов… А у людей, сидевших в маленькой палатке вокруг Жильцова, где не было ни запасов еды, ни теплой зимней одежды… И конечно же, каждый из них в эти дни думал: пробьется Черкешин или отступит, как отступил Матисен?…
Прошел первый день, второй, третий. Вокруг острова лежали льды, и даже на горизонте не было видно «водяного неба»… Здоровье Жильцова не улучшалось. Мысленно он готовился к смерти, хотя Зальцман уверял его, что ушибы не опасны. Но Жильцов думал о другом; он думал, что ему придется самому уйти из жизни, чтобы не отнимать у товарищей последней надежды на спасение-Неизвестно, чем кончилось бы двухнедельное пребывание на острове, если бы не удачная охота якутов на оленей… А потом на горизонте появился едва заметный дымок: это «Заря-2» пробивалась к острову. Черкешин не подвел… К самому острову шхуна подойти не смогла, и пострадавшие по льду пошли к ней. На полпути их встретили товарищи, и вскоре экспедиция в полном составе собралась на борту шхуны… Осунувшийся, измученный бессонными ночами Черкешин сдал вахту помощнику и, не слушая благодарностей, ушел к себе в каюту спать.
«Заря-2» продолжала плавание…
«Мы все, и я в особенности, обязаны жизнью Черкешину», — записал в дневнике выздоравливающий Жильцов.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ, в которой содержатся некоторые рассуждения о «Земле Санникова», извлекается из земли тетрадь, спрятанная Зальцманом, а также рассказывается о дальнейшей судьбе экспедиции Жильцова
…Погода портится. Сухая снежная крупа стучит по туго натянутому тенту палатки. Не слышно свиста евражек — они попрятались в норы. Низкие, но неплотные облака проносятся над нами на юг. Откуда-то прилетела крупная полярная чайка; она кружит над Долиной Четырех Крестов и жалобно кричит — обижается, что нет поблизости моря или озера; потом она круто взмывает вверх и уносится на юго-восток. Мы тоже могли бы взмыть вверх и улететь на юго-восток, в Марково. Но и мне, и Березкину кажется, что хроноскоп еще может пригодиться нам здесь, в долине, и что вообще мы используем его мало и неумело…
— Между прочим, еще не доказано, что хроноскоп правильно раскрыл историю с этим человеком, — говорит Березкин, имея в виду погибшего в поварне, и смотрит то на штурмана, то на пилота.
Штурман и пилот протестуют, а Березкина охватывает приступ самобичевания: упрямо склонив крупную тяжелую голову, он нудно перечисляет и действительные, и выдуманные недостатки хроноскопа. Меня это раздражает, но потом я начинаю понимать, что Березкин устал. Я тоже устал. Уже несколько месяцев мы идем по следам экспедиции, ищем, сопоставляем, думаем. Мысли об экспедиции не покидают нас ни днем, ни ночью. И вот теперь, когда мы близки к цели, наступила вызванная утомлением реакция. Надо бы отвлечься, поговорить о чем-нибудь постороннем или побродить с ружьем по горам, но говорить о постороннем не хочется, а бродить по горам — значит бродить там, где за сорок лет до нас прошла экспедиция Жильцова…
Я вышел из палатки. Ветер усиливался, снежная крупа секла лицо. Тополя натужно гудели, вершины их упруго клонились к земле, а каждый листик рвался вверх, стремился улететь, но улететь удавалось лишь немногим, и те падали неподалеку — либо в реку, либо на сухие россыпи щебня, где уже скапливались белые линзы снежной крупы… Заблудший лемминг, маленький, бурый, с тоненьким писком шмыгнул у меня между ног и юркнул в норку. А мне вдруг захотелось найти место, где Зальцман спрятал какую-то тетрадь. Находки в поварне на некоторое время отвлекли нас от Зальцмана, но теперь мои мысли вновь и вновь возвращались к нему. Почему он так странно вел себя? Ведь часть экспедиционных материалов была сознательно оставлена в поварне. Почему же он прятал свою тетрадь?… Я перебрался через реку к поварне, встал лицом на северо-запад и, отсчитывая шаги, упрямо пошел навстречу ветру; за рекой углубился в леваду и, когда количество шагов приблизилось к ста сорока, подошел к старому поваленному дереву. Ствол могучего тополя еще сохранился — на севере деревья гниют медленно, — и я остановился как раз там, где Зальцман прятал тетрадь… Потом отправился за лопатой.
В палатке шел разговор о «Земле Санникова». Пока меня не было, штурман, еще молодой и недавно работающий на севере парень, высказал предположение, что экспедиции Жильцова все-таки удалось найти «Землю Санникова». Штурману очень хотелось, чтобы так было, и поэтому казалось, что так могло быть. Березкин и пилот смеялись над ним, но штурман не сдавался.
— Эх вы! — не без презрения говорил он, когда я подошел к палатке. — Жильцов почти полвека назад жил, и то верил в людей, в их честность верил, а вы… — штурман махнул рукой и отвернулся.
— Спроси у Вербинина, если нам не веришь, — сказал слегка задетый Березкин. — Если б «Земля Санникова» существовала, ее бы давно нашли. Весь тот район и ледоколы избороздили, и самолеты облетали… Ее ж специально разыскивали.
— Значит, врали и Санников, и все другие?
— Ошиблись люди, — сказал пилот. — С кем этого не случается. Особенно в Арктике.
Штурман с надеждой посмотрел на меня.
— Я тоже верю всем, кто видел «Землю Санникова», — сказал я. — И самому Санникову, и эвенку Джергели, и Толлю. Жильцов глубоко прав — то были люди, которые писали, что наблюдали, а чего не наблюдали — не писали. Подумайте сами, с какой целью Санников мог врать? В надежде получить царскую милость?… Нет, он не рассчитывал на нее, он и не подумал сообщить в Петербург о своих открытиях, как сделал, например, купец Иван Ляхов; ведь сама Екатерина Вторая дала его имя двум островам — Большому и Малому Ляховским — и предоставила предприимчивому купцу монопольное право на добычу мамонтовой кости!.. Или возьмите эвенка Джергели. Его желание побывать на «Земле Санникова» было очень велико, и однажды он сказал Толлю, что готов отдать жизнь за право хоть один раз ступить на эту землю!.. Нет, такие люди не могли кривить душой!
— Патетично, но неубедительно, — возразил Березкин. — Нельзя же увидеть то, чего нет…
— Мираж, — сказал пилот.
— Нет, не мираж, — возразил я. — «Земля Санникова» существовала, а если и не существовала, то все-таки… все-таки ее могли видеть…
Пилот фыркнул, и даже штурман, мой союзник, улыбнулся.
— Короче говоря, существуют две гипотезы, объясняющие загадочную историю с «Землей Санникова». Помните, в дневниках Жильцова упоминается остров Васильевский?
— Помним, — сказал пилот.
— Верите вы, что Жильцов видел этот остров?
— Конечно!
— А между тем, нет такого острова на белом свете — Васильевского…
— То есть как?
— Очень просто. Нет, и все. Проверьте по картам, если хотите.
— Не мог же Жильцов соврать!
— А Санников мог? — вставил торжествующий штурман.
— Остров Васильевский видели и якут Михаил Ляхов, и участники Русской гидрографической экспедиции на «Таймыре» и «Вайгаче», и Жильцов со своими спутниками… Но в 1936 году советское судно «Хронометр», получившее задание еще раз обследовать остров, не нашло его… Остров растаял. На его месте оказалась банка глубиной всего в два с половиной метра. А совсем недавно, уже в сороковых годах, точно так же исчез остров Семеновский…
— Растаял, — недоверчиво повторил пилот.
— А вы забыли, что он был сложен ископаемым льдом и глинисто-песчаными отложениями?… Арктика сейчас охвачена потеплением, ископаемые льды тают и… острова исчезают. Первая гипотеза и утверждает, что «Земля Санникова» существовала, но растаяла. И анализ морских грунтов к северу от Новосибирских островов будто бы подтверждает это.
— А вторая гипотеза? — спросил штурман.
— Вторая гипотеза объясняет все иначе. Более десяти лет назад в Северном Ледовитом океане были открыты дрейфующие ледяные горы — гигантские айсберги. Они дрейфуют по эллипсам и время от времени заходят в район Новосибирских островов.
— Какая же из них правильна?
— Вероятнее всего, по-своему обе правильны. Не исключено, что к северу от Новосибирских островов раньше существовали небольшие островки, которые потом растаяли. Но все, кто видел «Землю Санникова», утверждают, что она гориста. И поэтому мне кажется, что за землю были приняты именно айсберги… Их видели, когда они приплывали, и не могли найти, когда они уплывали.
— Значит, Жильцов так и не открыл «Землю Санникова», — вздохнул штурман; мой рассказ его разочаровал.
— Увы…
Я взял лопату и двинулся к выходу.
— Ты куда? — спросил Березкин.
— За тетрадью Зальцмана. Надо ее выкопать.
Все отправились следом за мной, а у полусгнившего тополя пилот и штурман быстро оттеснили нас с Березкиным, и наше участие в раскопках свелось к руководящим указаниям. Пока пилот осторожно снимал слои грунта, а штурман торопил его, требуя лопату, я пытался угадать, сохранилась ли тетрадь и если сохранилась, то в каком состоянии. У меня были серьезные основания для опасений. Весь север Сибири, как известно, охвачен вечной мерзлотой: местами на несколько сот метров в глубину грунт скован холодом и никогда не оттаивает; за короткое полярное лето прогреваются лишь самые верхние горизонты, которые называют «деятельным слоем»; мощность этого деятельного слоя часто не превышает полуметра и лишь в долинах крупных рек увеличивается метров до двух. Этот деятельный слой действительно очень «деятелен»: летом он оттаивает, насыщается водой, а осенью начинает замерзать с поверхности; верхний слой льда давит на жидкий грунт, он вспучивается, прорывает ледяную корку, вырывается наружу… Зальцман наверняка спрятал тетрадь в пределах деятельного слоя; если даже он тщательно запаковал ее, все равно надежды найти ее в хорошем состоянии у нас почти не было.
К сожалению, я не ошибся. Пакет мы нашли, но в плачевном состоянии. Мы бережно перетащили его остатки к себе в палатку, но что делать с ними дальше — никто не знал. Мы решили хотя бы просушить их.
На следующий день я вновь засел за дневники Жильцова. Его экспедицию постигла участь многих других экспедиций. В Восточно-Сибирском море «Заря-2» вошла в тяжелые льды, которые внезапно за несколько часов смерзлись… Шхуна попала в ледовый плен, вырваться из которого не удалось. Начался медленный дрейф в восточном направлении… Вскоре наступила полярная ночь… Судя по дневникам Жильцова, продовольствием экспедиция была снабжена хорошо. Однако к середине зимы у многих появились признаки цинги… Это не удивительно, потому что в то время о витаминах еще почти ничего не знали.
Сильнее других страдал от цинги Жильцов, не успевший оправиться после сильных ушибов. Он крепился, старался как можно больше находиться на свежем воздухе, двигаться, принимал участие в малоудачной охоте на тюленей. К цинге прибавился еще какой-то недуг, но какой — никто не знал… Последняя запись, сделанная уже под диктовку Жильцова, содержала обращение в Академию наук и несколько теплых слов к родным, которые так и не дошли до них… Жильцов понимал, что умирает, сознание его до последней минуты оставалось ясным, а воля твердой… Все участники экспедиции, дневники которых мы прочитали позднее, свидетельствовали это. Все они преклонялись перед умирающим начальником и все с тревогой думали о будущем: без Жильцова, который сумел всех сплотить вокруг себя, оно рисовалось смутным, тревожным… За день до смерти Жильцов созвал у себя в каюте всех научных сотрудников экспедиции и пригласил командира судна. Прощаясь с ними, он сказал, что передает свои права лейтенанту Черкешину.
— Он самый опытный среди вас, — пояснил Жильцов. — Он доведет экспедицию до конца.
Жильцов слабо шевельнул рукой, и Черкешин, правильно поняв его, взял руку умирающего и тихонько пожал.
— Экспедиция выполнит свою задачу, — коротко сказал Черкешин. — Я обещаю вам это…
Жильцова похоронили среди торосов, неподалеку от шхуны. Значит, мы ошибались, думая, что его могила находится в Долине Четырех Крестов…
Через месяц умер боцман. На этом скорбном событии все найденные нами дневники обрывались. Далее с перерывом в неделю-полторы следовали лишь лаконичные записи, извещавшие о гибели шхуны: льды раздавили ее неподалеку от берегов Чукотки…
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ, в которой человеческий мозг выполняет работу, непосильную ни одной электронной машине, хроноскоп оказывает нам последнюю услугу, а мы подводим некоторые итоги, и возвращаемся в Марково
Разумеется, мы заранее знали, что шхуна погибла — иначе люди едва ли покинули бы ее. Знали мы также, что все участники экспедиции, оставшиеся в живых, двинулись на юг, благополучно достигли материка, перевалили через Анадырский хребет и пришли в Долину Четырех Крестов… Но все это было лишь внешней стороной событий, все это не объясняло нам, почему в Долине Четырех Крестов разыгралась трагедия, почему всю жизнь стоял перед Зальцманом вопрос, правильно они поступили или нет… Хроноскоп не мог оказать нам никакой помощи, а дневники молчали — измученным людям было не до анализа взаимоотношений, они боролись за свое спасение…
— На тебя, Вербинин, вся надежда, — сказал мне Березкин.
— На меня?
— Да, на тебя. Однажды ты рассказывал мне, чем отличается работа писателя от работы следователя. Помнится, ты выразился так: «следователь идет от событий к характерам, а писатель от характеров к событиям».
Мы действительно как-то беседовали на подобную тему с Верезкиным. Не помню, почему об этом зашел разговор, но я сказал ему, что творческий процесс делится на два этапа. Писатель — хозяин положения, пока он выбирает своим героям характеры и предлагает им определенные обстоятельства. Но как только характеры сложились и автор столкнул их в конкретной обстановке — писатель как бы превращается из творца в наблюдателя; герои его начинают действовать самостоятельно, в соответствии со своими внутренними свойствами, в воображении писателя они подобны живым людям, над которыми никто не имеет власти. Я давно уже пришел к выводу, что вымышленные герои действуют в воображении писателя точно так же, как и живые люди с такими же характерами и в такой же обстановке. Конечно, я имею в виду лишь логику поведения, но ведь это самое главное.
— К чему ты клонишь? — спросил я у Березкина, уже догадываясь, на что он намекает…
— Займись-ка творчеством, — сказал он. — Нам известны характеры людей и обстановка, в которую они попали. Ты должен догадаться, как они повели себя… Это тот самый случай, когда ни одна электронная машина не может заменить человеческого мозга… Помнишь, в Саянах ты заявил, что мозг и есть самый настоящий хроноскоп?
Я все помнил, но художественное творчество, — а именно к этому призывал меня Березкин, — требует особой внутренней подготовки, особой душевной настроенности.
— Что ж, настройся, — с улыбкой, но категорически потребовал Березкин.
Проанализировав все известное нам, я понял, что задача не так уж трудна, как показалось в первый момент. И характеристики, оставленные Жильцовым, и описание первого конфликта, и отрывочная последняя запись умирающего Зальцмана, поставившего слово «спаситель» и фамилию «Черкешин» почти рядом, позволяли разобраться в событиях, которые произошли после гибели шхуны «Заря-2» и привели к изгнанию лейтенанта Черкешина из экспедиции… Да, изгнанию. Об этом очень коротко, но все-таки с указанием причин сообщалось в записке, найденной нами среди бумаг в поварне…
Вот как рисуются мне события последних месяцев.
…Искрошенная льдами шхуна полярной экспедиции Жильцова исчезла в пучине океана. Потрясенные случившимся, растерявшиеся люди видели, как сомкнулись над черной полыньей торосы. Все понимали, что произошло нечто непоправимое, ужасное и надеяться на помощь не приходится. Я не оговорился, сказав, что люди растерялись. Ни астроном Мазурин, ни этнограф Коноплев, ни врач Зальцман, ни матрос Розанов никогда раньше не участвовали в арктических экспедициях, не имели опыта перехода по полярным льдам… Лишь самый опытный из всех лейтенант Черкешин сохранил хладнокровие; он чувствовал себя главным действующим лицом, человеком, от которого зависит спасение всех остальных, и это при его гордом и властолюбивом характере питало его собственное мужество. Я не сомневаюсь, что именно Черкешин сумел ободрить и поддержать людей, вернуть им надежду на спасение и способность бороться… И он повел потерпевших кораблекрушение к далеким пустынным берегам Чукотки…
Люди шли за ним, и Черкешин все более проникался сознанием своей власти и своей значительности, постепенно он переставал понимать, что сознательная дисциплина и рабская покорность — это не одно и то же, он словно забыл, что лишь совместная борьба может обеспечить спасение, и мысленно приписывал себе все, что делалось его спутниками и товарищами по несчастью, а поэтому относился к ним все с большим презрением… Однако вскоре в поведении его появились новые черточки: он стал мягче держаться с научными сотрудниками экспедиции, со своим помощником Говоровым, но начал придираться к матросам и якутам, грубить им, дошел до зуботычин. И, конечно же, против этого восстал Розанов. Но на этот раз он не встретил общей поддержки. Роковой принцип «разделяй и властвуй» дал свои результаты и здесь. Обласканные Черкешиным люди (и среди них астроном Мазурин, врач Зальцман) молчали, а привыкшие к помыканию, сломленные непривычной обстановкой матросы и якуты утратили способность сопротивляться… Черкешин не замедлил воспользоваться этим, и на следующем переходе вся самая тяжелая работа легла на плечи якутов и матросов…
Розанов разгадал далеко идущий замысел Черкешина: тот решил спасти одних за счет других; точнее, он решил прежде всего спастись сам; но Черкешин знал, что одному не спастись; поэтому он мысленно обрек на гибель матросов и якутов, а остальным сберегал силы… Особенно нетерпимо относился он к якутам, и это позволило Розанову обрести первого надежного союзника — этнографа Коноплева. Ни большевик-революционер Розанов, ни честный ученый-этнограф не могли смириться с проявлением расизма. И когда однажды Черкешин пустил в ход кулаки, погоняя измученных якутов, Розанов и Коноплев заступились за них… Зальцман и Мазурин сочувствовали якутам, но у них не хватило смелости восстать вместе с Розановым и Коноплевым против Черкешина, уже однажды спасшего им жизнь, а Говоров, помощник командира погибшей шхуны, постарался сгладить конфликт…
Но сгладить его было невозможно. Маленькую группу людей, затерянную среди льдов океана, по-своему раздирали те же противоречия, что и всю страну, в которой уже назревала революция. И здесь одни пытались угнетать других, используя и классовые, и националистические предрассудки. И здесь зрел протест. Неравенство, насаждавшееся Черкешиным, становилось слишком ощутимым. Особенно распоясался он, когда вывел людей на материк…
Измученные, голодающие люди в труднейших зимних условиях перевалили через Анадырский хребет и вышли в небольшую долину, где обнаружили пустую поварню и два высоких креста, поставленных задолго до них… Вероятно, кресты эти многих навели на невеселые размышления: уходили силы, кончались съестные припасы, почти не было надежды спастись, и самые впечатлительные уже представляли себя погибшими среди снегов…
В поварне Черкешин решил сделать короткий отдых. Первые же дни омрачились смертью Мазурина. Он не казался слабее других, но, заснув с вечера, утром не проснулся… Могилу ему вырыли неподалеку от двух старых крестов, и тогда же Розанов вырубил крест в память трагически закончившейся полярной экспедиции Андрея Жильцова.
Смерть Мазурина словно подхлестнула Черкешина. Через два дня разыгрались события, приведшие к роковым последствиям: Черкешин обвинил якутов Ляпунова и Михайлова и матроса Розанова в похищении продуктов и потребовал изгнать их без всяких припасов из экспедиции. Это означало обречь людей на верную смерть, но таким способом Черкешин рассчитывал спастись сам… И тогда случилось то, чего Черкешин не мог предвидеть из-за ненависти и презрения к людям: все снова выступили против него. Без особого труда удалось обнаружить, что продукты спрятал сам Черкешин. Бывший командир шхуны схватился за оружие, но его связали, прежде чем он пустил револьвер в ход… В тот же день над Черкешиным состоялся товарищеский суд. Розанов предложил снабдить Черкешина продовольствием на равных правах со всеми, а затем изгнать из экспедиции. Против выступил один Зальцман. Он говорил о заслугах Черкешина, напоминал, как пробился он на шхуне к берегам острова Беннета, как вел всех по льдам к материку, но и Розанов, и Коноплев, а вместе с ними и все другие остались непреклонными.
В присутствии Черкешина все продовольствие поделили на равные части и одну из них отдали ему… Зальцман снова взывал к справедливости, и тогда Розанов предложил ему идти вместе с Черкешиным. Зальцман испугался и перестал спорить. На следующий день Черкешин покинул Долину Четырех Крестов.
Надежды на спасение были очень слабы и у всех остальных. Поэтому Розанов предложил часть дневников оставить в поварне: кто-нибудь посетит поварню, найдет дневники и перешлет их в Петербург. Так и было сделано, а потом все ушли дальше, но что случилось с ними — нам узнать не удалось. Лишь судьбу Розанова и Зальцмана мы проследили до конца.
А Черкешин… Черкешин вернулся в поварню. Труднее всего сохранять мужество наедине с самим собой, и этого испытания Черкешин не выдержал. Вероятно, он пришел с повинной — сломленный, неспособный бороться даже за свою жизнь, — никого не застал в поварне, в бессильной ярости изрезал и расшвырял дневники, а потом… Впрочем, что случилось потом, мы уже видели на экране хроноскопа.
Так представились мне события, происшедшие после гибели шхуны. Быть может, не все рассказанное абсолютно точно в деталях, но и Березкин, и пилот, и штурман согласились, что главное подмечено верно, они поверили мне.
Готовясь к отлету в Марково, мы, не надеясь на успех, решили все-таки подвергнуть хроноскопии подсохший пакет, некогда спрятанный Зальцманом. Хроноскоп долго отказывался отвечать на задания, и Березкин повторял их вновь и вновь, по-разному формулируя.
Наконец, на экране мелькнула расплывчатая фигура.
Мы тотчас вспомнили плотного человека с жестоким выражением лица — однажды он уже возникал на экране.
— Неужели он? — спросил Березкин.
— По-моему, он, — ответил я.
Березкин еще раз уточнил задание, изображение стало немножко яснее.
— Черкешин, — сказал Березкин. — Уверен, что это он. Зальцман прятал не свою тетрадь. Помнишь слова: «придется не церемониться», «цель оправдывает средства» и тому подобное?… Это писал Черкешин, задумавший свою авантюру. А когда она провалилась, он из каких-то соображений оставил тетрадь Зальцману, единственному, кто сочувствовал ему. Видимо, он считал, что у того больше надежды спастись. Но Зальцман предпочел спрятать тетрадь.
Предположение это показалось мне убедительным, я согласился с Березкиным. А потом Зальцмана, который так и не узнал, что случилось с изгнанным Черкешиным, до конца дней мучили угрызения совести, он не мог решить, правильно они поступили с Черкешиным или неправильно. Дневники свои он потерял, добираясь уже после революции до Краснодара, но решил по памяти восстановить события прошлого, чтобы всем рассказать о случившемся.
…В тот же день под вечер наш вертолет поднялся над Долиной Четырех Крестов, последний раз мелькнул под нами крохотный лесной оазис, затерянный среди арктической пустыни, и вертолет взял курс на Нырково.
Мы сделали все, что могли, мы выяснили судьбу исчезнувшей полярной экспедиции. А хроноскоп… Хроноскоп прошел первое испытание. Он немало помог нам с Березкиным, и мы надеялись, что в дальнейшем он будет помогать еще лучше.
Георгий Гуревич ЧЁРНЫЙ ЛЁД
В ясные дни из окна видны были горы. Подножие их скрывала толща плотного равнинного воздуха, и морщинистые вершины, оторвавшись от земли, плыли по небу с развернутыми парусами ледников. В предрассветной мгле льды были нежно-розовыми, как лепестки, как румянец ребенка, но когда солнце подымалось на небо, они блекли, голубели и в конце концов таяли в синеве, как сахар в теплой воде.
Эти далекие горы были так прозрачны, так непрочны, что не верилось в их существование. Они казались складками на кисейном пологе неба. И вдвойне было странно, когда их очертания проступали на небесной эмали в разгаре среднеазиатского дня, наполненного зноем, известковой пылью, ревом ишаков и автомобилей, скрежетом трамваев и арб, криком, звоном, бранью, песнями и гудками…
На рассвете, сидя в кресле у окна, министр смотрел на горы. Он был очень болен, смертельно болен, и знал это. Комната его пропахла лекарствами, мебель была по-больничному белой, даже жена приходила сюда в косынке и белом халате. Ночи министра водного хозяйства республики были ужасны: душные южные ночи с парным воздухом, которым противно дышать, потными простынями, саднящей болью в боку. Всю ночь он ворочался и думал, а когда начинали светлеть щели в соломенных занавесках, садился в кресло у окна и продолжал думать…
О воде.
Всю жизнь он думал о воде. Этой весной уровень в реке ниже многолетнего. В низовьях необходимы насосы, вода опять не достанет до рисовых полей. А в верховья надо послать контролера: люди наливают слишком много воды и портят почву. В Намангане строится завод дождевальных машин, плотина водохранилища требует ремонта, в Голодной степи засолили почву, просят воды для промывки.
Воды!.. Воды!.. Воды!.. — вечный припев Средней Азии.
«Где кончается вода, там кончается земля!» — гласит восточная пословица. Там, где есть вода — зеленые рисовые поля, белая пена хлопчатника, бахчи с полосатыми арбузами, бархатистые персики, виноградники, рощи, сады. Где нет воды — сухая потрескавшаяся равнина, бурые пучки обгоревшей травы, саксаул, горькая полынь, песчаные волны барханов.
Египет называют даром Нила. Средняя Азия — дар лопаты. Сотни поколений, рабов и крестьян перелопачивали жирную землю, давая путь воде. Жизнь приходила с водой. Рождались деревни, города, государства.
История Средней Азии — это история борьбы за воду. В периоды расцвета строили много новых каналов, в периоды упадка — забрасывали старые. Приходили знаменитые завоеватели, разрушали города, уничтожали плотины, но едва только оседала пыль, поднятая копытами их коней, вновь трудолюбивый крестьянин брался за лопату, чтобы наполнить водой арыки — артерии страны.
Но сколько бы он ни копался, вода была чужая. Она принадлежала персидскому шаху, согдийскому афшину, арабскому калифу, монгольскому хану, хану бухарскому, хивинскому, кокандскому, русскому царю, своим собственным баям. Земля была рядом, земли было сколько угодно, но без воды она не стоила ничего.
Сколько лет было министру (тогда еще не министру, а просто безземельному батраку Митрофану Рудакову), когда он взял в руки винтовку, чтобы драться за землю и воду?
И после он отдал ей всю свою жизнь. Он дрался за воду с басмачами, баями, кулаками, с вредителями, маловерами, бюрократами, консерваторами, лодырями, болтунами. Он дрался в окопах и на съездах, в кабинетах, лабораториях и проектных мастерских, но больше всего на стройках, где звенят кетменями смуглые землекопы с цветными платками на поясе, а экскаваторы вытягивают шеи и лязгают жадными железными челюстями.
Вся его жизнь — борьба за воду… но жизнь подходила к концу, таяла, как дымка далеких гор в знойной синеве полуденного неба.
В 10 часов, начиная рабочий день, в дверь стучит секретарь Исламбеков, плотный коренастый мужчина с черными усами. Голос у него густой, солидный, уверенный. Исламбеков деловит, безукоризненно точен, исполнителен. Рудаков очень ценит его, но немножко недолюбливает и за его усы, и за его голос, и даже за деловитость. Вероятно, дома у себя Исламбеков рассказывает своей жене, что он заправляет всем министерством; возможно, он надеется со временем стать министром.
Рудаков подписывает бумаги, потом принимает посетителей. Большей частью это председатели колхозов и гидротехники. Колхозники просят воды, инженеры достают ее. И Рудаков слушает, спорит, запрашивает, распоряжается, разносит, обещает, приказывает, пишет, диктует, возмущается, волнуется…
Из-за воды, о воде.
Дел по горло, а сил в обрез. Уже к полудню на щеках у него красные пятна, под глазами мешки, пухнут пальцы, колет в боку. И, чувствуя, что силы иссякают, он торопливо обрывает посетителей, сердится на терпеливого секретаря.
Затем приходит жена — чернобровая, с усиками на верхней губе, такая пышная, что, кажется, платье вот-вот лопнет на ней. Жена ставит на стол тарелочку с манкой кашей и сердито кричит на секретаря:
— Довольно! Уберите бумажки! Митрофан Ильич устал…
— Но позвольте, уважаемая Раиса Романовна… — возражает секретарь.
Они громко спорят у изголовья больного — оба здоровые, цветущие, полные сил — и вежливо вырывают друг у друга папку с делами. Министр следит за ними усталыми глазами и переводит дыхание. Наконец, секретарь уступает. Он пятится к двери, прижимая к груди обеими руками дело, и говорит тоном человека, умывающего руки:
— Профессор Богоявленский вернулся из Москвы. Ждет внизу. Передать, чтобы приехал завтра?
— Ну, конечно, завтра, — решает жена.
Но больной уже набрался сил, чтобы приподняться на локте.
— Зовите профессора, товарищ Исламбеков. Я приму его сейчас…
Профессор Богоявленский руководил научной работой в министерстве. В юности он был плечистым богатырем, а сейчас стал сутуловатым сухим стариком с выпуклым лбом и загорелой лысиной. Годами профессор был старше министра, даже преподавал ему гидравлику лет двадцать назад и до сих пор в разговоре с бывшим учеником то и дело сбивался на лекцию.
Сегодня профессор привез хорошие известия. Москва утвердила проект Аму-Дарьинского канала. Из водных запасов великой реки республика сможет брать пять кубических километров в год. Богоявленский настаивал, чтобы дали по крайней мере девять кубических километров, но в Москве урезали проект. «Впрочем, — утешал себя профессор, — для начала нам хватит».
Он разложил карту на зеленом мохнатом одеяле больного. Вот здесь, недалеко от афганской границы, будет водозаборная плотина. Отсюда речная вода пойдет налево в Туркмению и направо в Узбекистан. Трасса пройдет здесь и здесь: тут пересечет пустыню, здесь обойдет предгорья. Старик Зеравшан, выпитый до последней капли полями и садами, получит помощь от Аму-Дарьи. Посевные площади вокруг Бухары и Самарканда будут увеличены вдвое. Если стройка начнется в будущем году, вероятно, лет за шесть можно будет закончить и плотину и канал.
Кивая головой, Рудаков смотрел поверх карты в окно. Сегодня опять среди белого дня проступили очертания гор. Подножие их было скрыто толщей равнинного воздуха, и морщинистые вершины, оторвавшись от земли, плыли по небосводу с развернутыми парусами ледников.
— А что делают в наших институтах? — спросил он.
Профессор с неудовольствием сложил карту. Ему хотелось без конца говорить о проекте, смаковать все подробности. Двадцать пять лет твердил он на всех перекрестках, что Зеравшану нужна вода из Аму-Дарьи. И вот, наконец, строительство разрешили…
— Что в институтах? — сказал он, пожимая плечами, — Алиев занят дождевальными установками, обещает экономить восемь процентов воды на каждом гектаре, Кравчук бурит колодцы, Львов опресняет солоноватые воды, Нигматулин ищет овощи с длинным корнем. Уважаемый Митрофан Ильич, через шесть лет, когда мы получим аму-дарьинскую воду, все наши проблемы будут решены разом.
Министр не ответил. Он все еще смотрел в окно. В ликующей синеве далекие горы таяли, как сахар в теплой воде.
— Отсюда видны горы, — сказал он неожиданно.
Глаза профессора раскрылись от недоумения, и на его лице появилась виноватая улыбка.
«Неловкий я человек, — подумал он, — говорю о том, что будет через шесть лет, а Митрофан Ильич и шести месяцев не протянет. Конечно, ему неприятно слушать».
Но Богоявленский недооценивал Рудакова и поэтому не угадал его мыслей.
«Профессор большой специалист, — думал министр, — в этом его сила и в этом его слабость. Он гидротехник и верит в каналы, а в дождевальные машины, в опреснение, в новые виды растений он не верит. Он слишком любит свой проект и не умеет признавать чужие. На его месте нужен человек с более широким кругозором. Но кто? Таких Богоявленских можно по пальцам пересчитать. В конце концов можно работать и с ним, только нужно держать его за руку и говорить: „Обрати внимание!“ Иначе он пройдет мимо и не заметит, как сам Рудаков не замечал гор, пока не заболел».
— Вот, например, горы, — сказал он вслух, — у нас тридцать семь градусов в тени, а там льды. Вы, гидротехники, занимаетесь ледниками?
Профессор улыбнулся. Вопрос показался ему наивным.
— Само собой разумеется, — ответил он. — В Академии наук есть специальная ледниковая секция. Мы измеряем ледники, изучаем их движение и таяние, у нас есть каталоги. В Средней Азии более тысячи крупных ледников, среди них такие гиганты, как ледник Федченко или Иныльчек. В одном только Зеравшанском леднике 8 кубических километров льда, он дает Зеравшану 200 миллионов кубометров воды ежегодно. Один только этот ледник орошает 20 тысяч гектаров земли. Ледники — необходимое звено в круговороте воды. Солнце испаряет морскую воду, ветер гонит водяные пары, в горах они оседают в виде снега, который лежит годами и превращается в лед, лед сползает вниз по склонам гор и тает, образуя ручьи и реки, несущие свои воды в моря. Без ледников вообще не было бы Средней Азии. Нарын, Чу, Аму-Дарья, Зеравшан — все наши реки рождаются в ледниках. Но мы знаем, что большинство ледников у нас убывает, они укорачиваются, тают, используя старые запасы льда, накопленные в прошлых веках.
Рудаков терпеливо выслушал. У него была привычка всегда выслушивать до конца.
— Об этом я и говорю, — сказал он. — Этот прошлогодний снег — золотые запасы воды. Вы не думали, как привести эту воду в колхозы?
Профессор оторопело посмотрел на него.
— Что же вы хотите — пилить ледники и возить лед на поля?
Министр усмехнулся.
— Стыдитесь, профессор! Такое решение недостойно ученого. Это я, простой батрак, мог бы предложить пилить и возить (Рудаков кончил два факультета, всю жизнь учился, но все еще любил бравировать своей мнимой необразованностью). У науки должны быть более удобные способы. Вы бы еще предложили мне сплавлять лед по реке — возить воду по воде.
Самолюбивый профессор вспыхнул и закусил губу.
— В сущности, — сказал он немного погодя, — вопрос транспорта отпадает. Природа сама возит воду. Нужно, чтобы снега растаяли, и тогда ручьи сами потекут в реки и существующие каналы. Вопрос в том, как растопить. Не знаю… когда-нибудь, возможно, применят для этого атомные бомбы. Если заложить их в толщу льда…
— Атомные бомбы отпадают, — резко заметил министр. — Если поливать огороды шампанским, это обойдется дешевле вашей атомной воды. Нет, я серьезно вас спрашиваю.
Профессор задумчиво ерошил брови.
— Н-ну… н-не знаю, — тянул он, — сразу не скажешь. Может быть, ставить зеркала, направлять солнечные лучи… Но, конечно, это тоже фантастика. Надо подумать… А, вот что! Можно посыпать снег солью. Смесь снега с солью тает при температуре ниже нуля. Таким образом, это же самое солнце растопит гораздо больше снега. Вас удовлетворяет такое решение?
— А сколько понадобится соли? — деловито спросил Рудаков.
— Это нужно подсчитать. Вообще говоря, чем больше, тем лучше. Морская вода, например, содержащая около четырех процентов солей, замерзает при двух градусах холода, а двадцатипроцентный раствор соли — при тринадцати градусах.
— Отставить, — сказал Рудаков. — Вода нужна для орошения. Хлопок и рис не поливают морской водой.
— Ну, тогда не знаю. — Богоявленский махнул рукой; и голос его зазвучал веселее, как будто ему стало легче после того, как он признался в своем бессилии.
Митрофан Ильич заложил руки за голову и потянулся, глядя на потолок.
— А, помнится, в детстве, — сказал он, — мы на Клязьме посыпали лед золой, чтобы протаять проруби. Какие, собственно, соли в золе?
— Правильно, — отозвался Богоявленский, — я забыл. Есть такой способ. Но дело здесь не в солях, а в цвете. Черная зола впитывает все солнечные лучи, а белый снег отражает их, как зеркало. Именно поэтому в белой одежде прохладно, а в черной жарко. И если бы снег был черным, он таял бы в три раза быстрее.
Рудаков cтремительно выпрямился.
— Как? — воскликнул он, — это значит, что в наших реках будет в три раза больше воды только оттого, что мы снег посыплем золой?
— Ну, не в три раза, скажем для осторожности — в полтора. Но, безусловно, цвет имеет большое значение. Ледники тают заметно быстрее, если они покрыты пылью. А когда на льду лежат темные камешки, под ними образуются ямки с водой, так называемые ледяные стаканы.
— И теперь я вспоминаю, — продолжал профессор, — что в 1948 году мы рассматривали проект некоего Файзлутдинова. Он был альпинистом и два года спустя провалился в трещину на хребте Академии Наук. Так этот Файзлутдинов предлагал посыпать вечные снега сажей. Он даже представил расчеты. У него получалось на гектар снега кубометр сажи. И с каждого зачерненного гектара льда он орошал гектар полей.
— Ну и почему же вы отказались?
— Ну, что вы, — профессор усмехнулся, — это просто идея, нечто в общем и целом. И тогда это было совершенно не нужно. В наших реках имелись еще огромные запасы воды. Сначала надо было отрегулировать их, чтобы не пропадали зря воды паводка, построить для половодья водохранилища.
— Хорошо. А сейчас, когда водохранилища давно построены и использованы?
— Но ведь это титанический труд! Нужно целые горы посыпать золой.
И тогда министр неожиданно закричал громко и сердито. Казалось, он долго сдерживался, чтобы разом огорошить профессора.
— Как? — кричал он, — трудно горы посыпать золой? А строить канал легче? 500 километров по пустыне, 500 миллионов кубических метров земли, 11 миллионов кубометров бетона, плотина поперек Аму-Дарьи! И все-таки мы беремся строить. Потому что нам нужна вода. Почему вы уткнулись в свой проект и ничего не хотите замечать вокруг? Вам предлагают за тонну сажи получить гектар хлопка. Даже, если за пять тонн… Почему вы не проверяете, не исследуете, не ищете?
Он остановился, чтобы перевести дух, и продолжительно позвонил. В дверях показалась румяная и усатая физиономия секретаря.
— Товарищ Исламбеков, — сказал Рудаков совершенно спокойно, как будто все его раздражение израсходовалось на звонок, — будьте добры, достаньте в шкафчике лед для компрессов. И сходите на кухню, принесите нам золы… Да, да, печной золы и побольше. Не надо поручать поварихе, принесите сами. И не бойтесь испачкать руки, потом вымоете.
— А вы, — продолжал он, когда возмущенный секретарь скрылся, — пишите: профессору Богоявленскому в недельный срок составить план научно-исследовательских работ. Общие соображения поручите написать, например, Батурину… Проектное задание — оросить в долине Зеравшана 40 тысяч гектаров новых земель. Пожалуй, больше 40 тысяч гектаров мы не освоим за год. Затем свяжитесь с…
Четверть часа спустя Раиса Романовна — жена Рудакова заглянула в комнату и остановилась на пороге пораженная: в углу на корточках с сосредоточенным видом сидели два старика, один в белом полотняном костюме, другой — в полосатой пижаме; профессор держал на коленях тазик со льдом, а министр сыпал на лед золу и равнял ее чайной ложечкой.
Гор не было видно. Ночь затягивала небо черным бархатом. На нем, словно бриллианты, лучились звезды. Рудаков, вконец измученный бессонницей, сидел у окна и думал…
О воде.
Болезнь его прогрессировала, и он знал это. Знал это потому, что гости были подчеркнуто терпеливы и уступчивы, потому, что жена все дольше шушукалась с врачами за дверью, а Исламбеков все небрежнее подавал бумаги на подпись. И Рахимов — председатель Совета министров республики вежливо намекнул о годичном отпуске по болезни.
Жизнь уходила, богатая жизнь, насыщенная трудом, надеждами и победами, жизнь, посвященная борьбе за воду. За последние двадцать лет не было ни одной крупной гидростройки в Средней Азии, где бы не участвовал инженер и министр Рудаков. Он строил Большой Ферганский, Большой Чуйский и Южный Голодностепский каналы, Кзыл-Ординскую плотину в низовьях Сыр-Дарьи и Фархадскую в среднем течении, он строил водохранилища для сбора паводка — Катта-Курганское на Зеравшане, Орто-Токойское на Чу…
Но это было в прошлом. А министр думал о будущих стройках — о тех, которые начинались при нем и должны были кончиться без него: о Красноводском и Аму-Дарьинском каналах и еще более отдаленной стройке — соединении сибирских рек с Аральским морем, но больше всего о том насущном и близком, чему он сам положил начало — окраске ледников в черный цвет.
Почти ежедневно к нему поступали рапорты о ходе работ. Краску для льда искали в Химико-технологическом институте. Из всех красок черные — самые дешевые. Как правило, их получают из сажи — печной, ламповой, газовой, ацетиленовой. Но, как часто бывает в технике, трудности возникли из-за масштаба. Если нужно вырыть яму в саду, ты берешь лопату — и яма готова через час, но рытье котлована для фундамента плотины (то есть такой же ямы) — это сложная техническая задача, требующая расчетов и проектирования. Горсть сажи для опыта можно было наскрести в собственном дымоходе, но едва ли можно было наскрести сажи хотя бы на один ледник из всех печей Средней Азии. Когда понадобилось заготовить 50 тысяч тонн сажи, истратив на это 1 миллион кубометров древесины, инженеры стали в тупик. Вопрос о сырье едва не сорвал все дело — пришлось резко сокращать планы. Министр с трудом добился разрешения на постройку завода черной пыли из молотого каменного угля в Кизыл-Кия. Завод уже заложили, но вдруг оказалось, что он не нужен. Нурмухамедов, простой землекоп на стройке, внес предложение вместо молотого угля взять отходы производства обогатительной фабрики. Когда на этой фабрике обрабатывали руду, оставались ненужные отходы в виде черного порошка. За несколько лет работы позади корпусов выросли громадные черные холмы. Химики проверили отходы — они были несколько светлее сажи, но для ледников годились.
Пока химики искали краску, инженеры конструировали «кисточку». Но этот вопрос не вызвал затруднений. «Маляры» должны были летать на самолетах и обрызгивать лед сверху. И можно было применить для этого обычную самолетную установку для борьбы с малярийными личинками или садовыми вредителями, слегка видоизменив ее.
Где красить? В верховья Зеравшана была направлена специальная экспедиция для уточнения устаревших карт и определения снеговой линии (ниже снеговой линии снег стаивает за лето, и незачем помогать ему черной краской).
Неожиданную оппозицию идея окраски льда встретила в ученых кругах. Глава среднеазиатских климатологов профессор Гусев, мировой авторитет по ледниковедению, выступил в печати со статьей, доказывая, что уничтожение вечных снегов ухудшит климат Средней Азии. Профессор Богоявленский, все еще скептически относившийся к окраске льда, поддержал Гусева; Батурин — его собственный помощник — выступил против. Он говорил, что почти вся вода, идущая на орошение, впоследствии испаряется, и водяные пары возвращаются назад в горы. В Академии развернулась жаркая дискуссия о том, что было бы, если бы в Средней Азии совсем не было ледников. Пришел даже запрос из Москвы, и Рудаков сам написал лаконичное письмо:
«Мы взяли для опыта один процент ледников. Они растают лет за сорок, не раньше. Опыт покажет…»
А сколько хлопот было с санитарной инспекцией, утверждавшей, что черная краска отравит питьевую воду. Тот же Батурин специально пил две недели мутную воду под наблюдением врачей. Краска оказалась безвредной, но министр дал специальное указание построить в каждой деревне отстойники и фильтры.
А новые оросительные каналы! А постройка домов для колхозников! Вербовка переселенцев! А школы, дороги, больницы… Освоить 40 тысяч гектаров не шутка — для этого нужно 40 тысяч человек.
Однажды (уже летом) на прием к министру пришел необычный посетитель. Это был рослый парень, широколицый и курносый, из-под форменной фуражки его падал на лоб залихватский клок русых кудрей. На пороге гость козырнул и отрапортовал:
— Сорокин. Командир эскадрильи сельхозавиации.
И сразу он наполнил унылую комнату скрипом сапог, сиянием пуговиц, раскатами молодого голоса.
— Ш-ш, — зашипела на него Раиса Романовна, убиравшая с тумбочки ненавистную Митрофану Ильичу манную кашу, — тише, он себя плохо чувствует.
Смутившись, летчик на цыпочках проследовал к стулу, но сапоги его заскрипели еще сильнее.
— Митя, ты не задерживай товарища, тебе отдохнуть нужно. И вы, товарищ, покороче! — сказала жена и выплыла из комнаты, такая полная и цветущая.
Рудаков неодобрительно посмотрел на нее. Они не очень хорошо прожили жизнь. Жена была гораздо моложе его и никогда не интересовалась его делами, а он не мог простить ей этого. «Теперь она ухаживает за мной с увлечением, как будто чувствует свою значительность, и тешится ролью сиделки, белым халатом, косынкой», — думал он.
Но тут Митрофан Ильич упрекнул себя за несправедливость: «Брюзжишь, старик; жена у тебя чудесная, а если не интересуется твоими делами, сам виноват — не умеешь рассказать».
Летчик встал. Ему казалось неприличным сидя разговаривать с начальством.
— Разрешите доложить, товарищ министр. Завтра в 5.00 сводная эскадрилья под моим командованием вылетает на Зеравшанский ледник. Цель полета: провести окраску в квадратах…
Глаза Рудакова заблестели.
— А ну рассказывайте, рассказывайте!
Летчик вытащил планшетку. Горячась, видимо сам увлеченный небывалой задачей, он говорил все громче, так громко, что ложечка звенела в стакане, и тут же спохватившись, краснел и шепотом переводил свою мысль на официальный язык.
«Хороший парень! — думал Митрофан Ильич, глядя на него. — Молодой, горячий, честный. И краснеть еще не разучился. Я тоже таким был. Нет, пожалуй, не был…»
Память нарисовала молодого Рудакова — долговязого, худого, с острыми скулами и большими ладонями, несгибающимися от мозолей.
«Нет, наша молодость труднее была, — подумал он, — для них старались. А что ему? Летает, песни поет, вихор отрастил, девушек смущает. Был бы я сейчас молодым, тоже пошел бы в летчики. Интересно, хочется ли ему быть министром? Вероятно, нет. А Исламбекову хочется. Так пускай бы он и лежал в моей постели, а я полетел бы на ледник».
И он сказал неожиданно:
— Товарищ Сорокин, в вашей эскадрильи есть вертолеты связи?
— А как же! — воскликнул Сорокин и тут же поправился. — Так точно, есть.
— Так слушайте. Прикажите пилоту связи сегодня в три часа ночи посадить вертолет в моем саду.
На открытом лице летчика можно было прочесть недоумение.
— Но ведь вы нездоровы. Без разрешения врача…
— Я имею право приказывать, — напомнил министр и, немного подумав, добавил: — Вы хорошо помните Фауста?
И замялся. Он хотел сослаться на пример старика Фауста, который поставил творчество выше жизни, но как-то неловко было говорить о сокровенных чувствах перед этим юнцом. Поймет ли он, что величайшее счастье для человека — увидеть результаты своего труда, что довести дело до конца важнее, чем прожить лишнюю неделю.
— Понимаю, — произнес летчик задумчиво и, сразу загоревшись, воскликнул: — Разрешите мне лично вести вертолет, вам удобнее будет передавать через меня указания.
— Хорошо! — Рудаков был очень доволен, что летчик понял его с полуслова. Парень оказался гораздо глубже, чем показалось сначала. — Хорошо! На обратном пути осмотрите сад. Там есть поляна в абрикосах. Машину сажайте тихо, чтобы… чтобы жена не проснулась. Потом подойдете к окошку, окликнете меня или свистнете… или нет, свист не годится… Мяукать вы еще не разучились? Ну вот, значит, подойдете к окошку и будете мяукать.
Ему стало весело от своего собственного мальчишества. А летчик вскочил в восторге.
— Есть, мяукать, товарищ министр.
Мяуканье раздалось ровно в 3.00.
Голова немного кружилась не то от свежего воздуха, не то от волнения. Колени сгибались неуверенно: Рудаков отвык ходить. И он с трудом поспевал за летчиком, который увлекал его в тень.
Ночь была прохладная. На черном небе сияла полная луна, ослепительно сверкающий, начищенный до блеска медный таз. На луну было больно смотреть сегодня — она гасила звезды и заливала весь сад жемчужно-серым светом. Дорожки были полосатыми, поперек них тянулись прямые угольно-черные тени тополей, а ветвистые абрикосы оттеняли оборины кружевным узором.
На крокетной площадке стоял новенький вертолет. Министр впервые видел такие. Аппарат со своим щупленьким фюзеляжем, широко расставленными колесами, огромным четырехлопастным винтом показался ему каким-то разухабистым, несерьезным, и он с некоторой опаской взобрался на сиденье, чувствуя, что сам он совершает что-то несерьезное.
— Товарищ министр, наденьте, пожалуйста. Разрешите, я застегну. Вот шарф, я принес его для вас: наверху холодно, — хлопотал летчик.
Потом над головой застрекотал винт подъема, и, когда лопасти его слились в мерцающий круг, Рудаков увидел вровень с собой макушки деревьев. Вертолет поднимался плавно, еле ощутимо и совершенно отвесно. Земля бесшумно проваливалась вниз. Вот поравнялись с кабиной монументальные тополя, мелькнула крыша дома и освещенное окно в его спальне, затем все растворилось во тьме. Остались небо, звезды, тьма и думы…
О воде, конечно, как всегда, о воде.
Отсюда сверху земля казалась огромной гидрографической картой. Суша тонула во мраке, видна была только вода — поблескивали, как стеклянные осколки, затопленные поля, сверкали тонкие проволочки арыков, а широкие реки с плавными очертаниями были сплошь залиты лунным серебром, на их сияющем фоне виднелись даже купы деревьев и строения.
…Здесь он работал десятником, здесь — инженером, здесь — секретарем райкома. Тут он вел воду по акведуку, тут взорвал на выброс 20 тысяч кубометров земли…
Под ними была страна, которую называли когда-то Мирзачуль — Голодная степь. Рудаков помнил ее. Это была потрескавшаяся равнина, так трескаются губы у человека, погибающего от жажды. О Голодной степи рассказывали легенду. Говорили, будто некогда красавица Ширин-Кыз обещала свою руку тому, кто оросит Мирзачуль. Богатырь Фархад взялся за работу… Но изнеженный царевич Хосрой перехитрил его. Он выстелил степь циновками, и при лунном свете солома заблестела как вода. Ширин вышла замуж за Хосроя. А когда взошло солнце и обман открылся, она покончила с собой. Убил себя и Фархад, а степь на долгие века осталась мертвой.
Но сейчас она вся сверкала в лучах луны, и это были не циновки, а настоящая вода. У скал Фархада большевики создали плотину. Три канала тянулись от нее, унося воду Сыр-Дарьи. Голодная степь кормила досыта полмиллиона человек.
Вероятно, не было здесь арыка, план которого не обсуждал бы министр. Потом руками трудящихся план был воплощен на местности. Сегодня он видел свои проекты в натуре и, может быть, в последний раз-Позади была долгая жизнь, до предела заполненная трудом, а впереди…
Горы!
Это летчик прислал ему записку. На ней было одно слово: «Горы!»
Разве это горы? По светлеющему небу плыли алые вихри. Да, действительно — горы, те самые вечные льды, которые будут штурмоваться сегодня…
Небо светлело с каждой минутой — из темно-лилового стало темно-синим, сиреневым, серым. Золотой ободок обвел контуры хребта, и вдруг из-за перевала выкатился гигантский малиновый шар.
Солнце!
Теперь горы были близко, они придвинулись, нависли над головой. Что можно представить себе больше неба? Горы заслонили полнеба. Вертолет, как мотылек, порхал вдоль крутых склонов, огибая скалы, посыпанные снежной мукой.
Но вот снега, залитые багрянцем и золотом, остались внизу. Впереди поднялся новый хребет, еще более высокий, хмурый, заснеженный, с еще более острыми вершинами, А внизу между хребтами в глубокой расщелине змеился Зеравшан, и ущелье казалось таким тесным, таким крутым, что непонятно было, как могут здесь жить люди и где здесь нашлось место для целого района.
Вертолет повернул на восток, вверх по реке. Самой реки еще не было видно: ущелье тонуло в матово-синей тени, туман, как ватное одеяло, прикрывал русло, и глубокий сумрак сонной долины как бы подчеркивал сверкающее великолепие горных вершин.
Рудаков чувствовал себя прекрасно. Суровый и мощный пейзаж бодрил его. Это было так не похоже на город, в котором он жил, где природа была загнана в скверики, за решетку, как редкий зверь; так не похоже на очерченные арыками орошенные поля, где земля кротко зеленела с разрешения человека. Здесь, в горах, природа была хозяином, а человек — гостем. Скалы громоздились где попало и как попало, а тропинки, протоптанные людьми, вежливо обходили их. На крошечных площадках над пропастями робко лепились серые домики, тесные поля, крохотные садики… Здесь было полным-полно работы. И глядя в лицо спесивым горам, старик смеялся, потирая руки…
— Ну что же, поборемся… поборемся!
Вскоре туман рассеялся, и каменистая долина верхнего Зеравшана выглянула на свет во всей своей неприглядности. Выше кишлака Духаус появилась первая морена (гряда камней, принесенных ледником). Когда-то давным-давно Зеравшанский ледник был много длиннее и доходил почти до кишлака. Впрочем, ученые все еще спорят об этой гряде: некоторые из них считают, что на самом деле это не морена, а просто остатки древней плотины. Науке нелегко быть точной, когда речь идет о прошлом.
Бурная извилистая река блуждает по долине. Всюду камни, камни, камни… Островерхие хребты с крутыми склонами сходятся все ближе, вот-вот сомкнутся. Впереди поперек долины — желто-серая плотина.
Это и был ледник. Когда вертолет подлетел ближе, Рудаков увидел толщу грязного полосатого льда и темную пасть грота, откуда вытекала река, зародившаяся на леднике. Зеравшан вырывался на дневной свет многоводным мутным потоком, почти черным от глины и, клокоча, с ревом нес камни, осколки льда и главное — воду, драгоценную влагу на поля.
Летчик опять прислал записку. «А где же лед?» — спрашивал он.
Под ними текла каменистая река, заполнявшая долину от края до края — бесконечное множество острых и окатанных глыб. Камни покрывали ледник толстым слоем, лед даже не просвечивал сквозь них.
Обычно на ледниках середина чистая: осколки камней, скатившихся с горных склонов, движутся по бортам, образуя так называемую боковую морену. Справа и слева ледник принимает множество ледников-притоков, каждый из них выносит в общее русло свои боковые морены, и все они, перепутавшись и сбившись в кучу, сплошь устилают нижнюю треть ледника каменным ковром. Когда в 1881 году здесь проходил Мушкетов — знаменитый геолог и исследователь Средней Азии, первый человек, поднявшийся по Зеравшанскому леднику до перевала, — он не мог найти воды на леднике для своей экспедиции, страдавшей от жажды.
Вертолет миновал несколько ледников-притоков. Правые текли в глубоких темных ущельях, левые спускались по склонам, образуя ледопады и ледяные пороги. Поверхность главного ледника постепенно очищалась от морен, и вскоре полосы ослепительно сверкающего зернистого снега заняли всю долину.
Не долетая перевала Матча, на высоте около четырех тысяч метров, вертолет совершил посадку. Кругом расстилалось блестящее море снега, и в нем, как обломанные зубы, торчали черные остроконечные скалы. Справа вздымалась гора Игла, и острая тень ее ложилась на снежный цирк. Зеравшанский ледник могучим белым потоком уходил на запад, а на восток круто падал другой ледник — изломанный, разбитый, беспокойный. За ним виднелась горная страна, где чудовищные скалы со странными очертаниями громоздились одна на другую, а дальше в голубой дымке тонула Фергана — жемчужина Средней Азии, древняя страна семидесяти городов.
Ни звука, ни ветерка. Торжественное безмолвие подавляло, Можно было подумать, что путники забрели на поле битвы, где яростно сражались между собой целые хребты, и, изрубив друг друга в куски, горы навеки остались здесь, их каменные тела занесло белым снегом.
Рудаков пробил каблуком заледеневшую корочку и набрал в горсть сыроватый слипающийся снег.
— Вот, — сказал он, — урожай 2000 года. Мы с вами стоим на чистом хлопке. Каждый комок снега — это хлопковая коробочка. Но мы возьмем его сейчас. Через полгода мы превратим его в пряжу, а через год — в сарафаны и костюмы.
Летчик шумно рассмеялся. Ему, молодому, общительному, было не по себе в этом торжественном безмолвии.
— А где мы возьмем сарафаны для 2000 года? — спросил он.
Министр взглянул на него одобрительно. Этот парень нравился ему все больше и больше.
— Вы задали хороший вопрос, — сказал он. — Конечно, одним черным льдом мы не обойдемся. Нельзя все болезни лечить одним лекарством или в вашем деле, например, все грузы возить на самолетах. Самолеты сами по себе, барки сами по себе. Так и у нас. Мы навалимся на пустыню разными способами, разной водой — и черным льдом, и каналами, и опреснением. И в конце концов мы добьем пустыню.
Раскатистый пушечный выстрел раздался за спиной. Что это? Неужели сказочные великаны все еще сражаются? Нет, это просто снежная лавина.
И вдруг солнце померкло, все вокруг потемнело. Рудаков протер глаза, пальцы были черные. И рукава, и пальто, и шлем, и лопасти винта вертолета, и снег под ногами — все матово-черное. А Сорокин, превратившийся в негра, махал руками и кричал восторженно:
— Это же наши, Митрофан Ильич! Наши летят! Белки его сверкали на чумазом лице, с волос сыпалась смолистая пыль.
Вслед за первым самолетом показался второй, третий, четвертый. Они проносились на бреющем полете над ледником, волоча дымчатые хвосты распыленной краски, и на ослепительно сверкающий снег ложились черные полосы, похожие на расщелины. Появились другие звенья над соседним склоном. На белой ленте ледника они чертили иероглифы. Казалось, самолеты хотят записать на вечном льде рассказ о новой победе человека над природой.
— Товарищ министр, садитесь, мы поднимемся в воздух.
— Не надо (Рудаков задыхался от волнения). — Включите микрофон. Передайте им: «Прекратить беспорядок. Пусть кладут на ледниках поперечные полосы от края до края. Красить надо только южные склоны, незачем тратить краску на северные. Пусть действуют с умом: они же пилоты, а не маляры».
— Пилоты, а не маляры, — кричал Сорокин в микрофон. Минут через десять, исчерпав запасы краски, самолеты ушли на северо-запад. Сорокин выбрался из кабины. Его щеки, лоб, льняные волосы были заляпаны черной грязью, но на лице сияла счастливая улыбка. И снова они вдвоем, первобытная тишина окружала их. Только вместо ослепительно сияющего снега теперь лежала вокруг мрачная черная равнина.
— И небо стало темным, — заметил летчик.
— Да, да, — отозвался Рудаков, — так и должно быть. Это замечено в Арктике давным-давно. Над ледяными полями небо светлее, чем над открытой водой.
Он замолк. Не хотелось тревожить тишину словами. Неожиданно явственный звук нарушил молчание — Клик-кляк! Это было похоже, как будто капля упала на камень. Под ногами что-то шелохнулось. Митрофан Ильич отступил в сторону — в следах было мокро.
Черный снег был тепловатым на ощупь, становился ноздреватым, набухал водой. И вот, звеня льдинками, запел первый ручеек.
Ледник начал таять.
Теперь очередь была за солнцем, и оно делало свое дело: солнце превращало фирновый снег в мокрую кашу, солнце гнало бесчисленные ручейки, и все они, звеня, стуча камешками, крутясь в рытвинах, бежали вниз, то смывая краску, то окрашивая белый снег. Ручьи падали в трещины, бурлили, вытачивая ледяные колодцы и спиральные лестницы, пробивали ходы в толще ледника, просачивались к подошве, выбивались сбоку; они несли тепло, а тепло рождало новые ручьи.
Солнце принялось за дело. Там и сям на поверхности ледника сверкали озерца, наполненные чернильной водой. Солнце вытачивало ледниковые столы под большими плоскими камнями и, полюбовавшись на свое искусство, обрушивало их тонкие ножки. Солнце разрушало ледник, лепило ледяные фигурки и ломало их, как ребенок, забавляющийся с кусочком пластилина. Но что бы оно ни творило, все превращалось в воду, и нарастающий черный поток с ревом вырывался из грота в самом низу ледника.
Окраска продолжалась больше месяца. Тонким слоем черной пыли была покрыта свободная от морены верхняя часть Зеравшанского ледника, его притоки — ледники Скачкова, Толстого, Ахун и другие, ледник Рама, полоса вечных снегов от горы Обрыв до перевала Матапан и снежные поля в долине Ягноб-Дарьи.
Река прибывала. Уже на девятый день после окраски гидрологи на станции в кишлаке Духаус отметили небывалый подъем воды. На двенадцатый день по верхнему течению реки начали возводить плотины на случай наводнения. Толпы людей собирались на лугах и с волнением глядели, как бурлили холодные волны, клокотали в фарватере, переворачивали валуны и набегали на берег, оставляя черную грязь.
Начальник Катта-Курганского водохранилища (так называемого Узбекского моря) сообщил в Министерство, что котловина не может вместить непредвиденных четырехсот миллионов кубометров воды (он так и сказал: «У меня море не резиновое!»). Поэтому обком принял меры, чтобы досрочно закончить оросительную сеть в новом районе.
Новый район принимал воду 10 августа в 12.00.
Небо было по-южному густо-синим, и в горячей синеве стояли горы, такие прозрачные, такие непрочные, что не верилось в их существование. Они казались морщинами на небесной эмали. Но белые паруса ледников были спущены сегодня, и там, где они находились прежде, в темно-синих пятнах можно было угадать полосы крашеного льда.
К полудню жара стала нестерпимой, и тени совсем съежились, залезли под подошвы. Но люди ждали; ждали узбеки — владельцы этой земли, их ближайшие соседи — туркмены и таджики, и казахи, и русские, и украинцы, и татары, и дунгане — как всегда, на новых землях селились все национальности.
Но вот прогремел пушечный выстрел, сверкнули на солнце ножницы, упала, извиваясь, белая ленточка и дрогнули тяжелые ворота шлюза. Черная и сердитая, вся в белой пене, вода заклокотала на бетонном дне канала, а там пошла и пошла, набирая скорость, наполняя русло, прямым ходом в пустыню.
И тотчас же на обоих берегах вскипели клубы пыли. Обгоняя воду, мчались всадники с радостной вестью. Мчались, сверкая клинками, соскакивая и взлетая на коня на ходу, крича неустанно:
— Вода-а-а-а!
Впрочем, скакали они по традиции, главным образом для собственного удовольствия. Кони сделали только первый скачок, а о воде уже знали, воду увидели и в новых колхозах, и в далеких кишлаках, и в Самарканде, и в Ташкенте… на мерцающих экранах телевизоров.
И в новеньком домике, который вырос на скале над лаково-черным ледником, тоже клокотала и ревела черная вода… и за окном и на экране.
— Признаю… — сказал профессор Богоявленский. — Вынужден признаться. Мы, специалисты, упустили. Ничего не скажешь, вы оказались кругом правы, Митрофан Ильич!
Худой, с ввалившимися глазами, Рудаков сидел рядом в кресле, сидел… не лежал в постели.
— Жалко, что мы не с народом, — вздохнул он. — Но не рискую, знаете ли. После того полета в горы я прямо ожил. А потом опять жара, духота, нечем дышать. Вижу, одно спасение для меня — горный воздух. Поживу здесь, а годика через полтора попробую спуститься. Конечно, телефон, телевизор, вертолет, работать можно и тут. Но главное сражение — там, внизу. Все-таки добьем мы пустыню. Как полагаете, добьем?
Профессор начал охотно пересчитывать ресурсы: «Ледник Федченко мы покрасим в будущем году, он пополнит Вахш. Язгулемские и прочие ледники Памира пойдут прямо в Аму-Дарью, возьмем их для Кара-Кумского канала. А группу Хан-Тенгри трогать не будем: она для дружественного Китая. Из Пекина уже приезжали мелиораторы, просят помочь им оросить долины Яркенд-Дарьи…»
— А я вот что думаю, — прервал министр. — Ведь и у нас в России полезно подумать о черном снеге. Белый снег отражает до 80 процентов падающих лучей. Если подкрасить его, то он растает на месяц раньше. Весна придет не в апреле, а в марте. На месяц раньше трава… и всходы…
— Но эта титани… — начал было Богоявленский и осекся. — Я подсчитаю, я подсчитаю и доложу вам, Митрофан Ильич. Теперь я ничего не отвергаю без расчетов.
«Этот человек загадывает на десятки лет, — подумал он про себя, — как будто у него две жизни».
И словно отвечая на мысли профессора, Митрофан Ильич сказал:
— Мы, советские люди, живем дольше всех, потому что часть души у нас в Будущем. Больше волнений, больше хлопот, зато и радости больше. А Будущее приходит, когда его зовешь. Приходит и становится Настоящим.
Александр Казанцев В ДЖУНГЛЯХ ФАНТАСТИКИ
(Обзор американской научно-фантастической литературы)
Вооружись терпением, читатель, надень болотные сапоги неверия и москитную сетку иронии. Мы отправляемся в смелое путешествие по джунглям американской научной фантастики, которая сама себя называет «псевдонаучной». Они враждебны нам эти джунгли непроходимого пессимизма, населенные кровожадными хищниками или тупыми обезьянами… Можно отвернуться, отойти, не заглянуть в глухие заросли уродливых и невозможных растений, чтобы не дышать смрадными испарениями мистики и патологии, не слышать завываний шаманов будущего. Но будем исследователями, проникнем в заросли, где среди душащих ум и сердце лиан, кровососных орхидей, ядовитых колючек, среди сумеречного мрака вечной тени и засасывающей топи болот можно найти интереснейшие соцветия игры ума, а порой и хинное дерево горечи сердца, В эти джунгли стоит углубиться, чтобы лучше понять американцев, ищущих своей фантазией выход из дремучей чащи современной им жизни. Однако редкие наши находки — а на своем пути мы увидим не только их — не могут изменить нашего представления о мрачных джунглях фантазии, рожденной ненавистью, безысходностью вымысла, который никогда не поднимается до уровня мечты.
Итак, раздвинем завесу ярких и крикливых обложек… Автоматическая аппаратура, совершенная, безотказная и безызносная, при полном отсутствии видимости точно посадила огромный самолет на бетонную, изъеденную временем дорожку. Прыгая на ухабах, подъехали бензозаправщики с нацеленными на самолет фотоэлектрическими фарами и через присоединившиеся шланги заполнили бак горючим. Бензин, без помощи людей полученный на нефтеперегонном заводе, был подан по трубам на аэродром. Нефть на завод текла по нефтепроводу с неиссякающих промыслов, где остроумные машины сами бурили скважины в нужных местах.
Вслед за бензозаправщиками к самолету подъехали бомбовозы и подвесили к фюзеляжу атомные бомбы, изготовленные на управляемых кибернетическими устройствами заводах, получающих сырье с автоматически разрабатываемых урановых рудников.
Самолет снова поднялся в воздух. Автопилот повел его по давным-давно заданному маршруту. Точно в нужном месте радиолокаторы в несчетный раз обнаружили один и тот же объект поражения и дали сигнал приборам бомбометания. Ядерные бомбы несравнимой ни с чем силы были сброшены на… на место, где двести лет назад существовал шумный и веселый прекрасный город с дворцами и мостами, с парками и музеями, с величественной историей и светлыми надеждами…
Бомбы, сотрясая планету, взорвались среди серых бугров и черных кратеров, вздымая над пустыней щебня тучу смертоносной пыли, которая расплылась уродливым грибом над безжизненной, давно уже необитаемой радиоактивной Землей…
Самолет развернулся и по программе, заданной истлевшими мертвецами, полетел обратно на свой старый, но все еще функционирующий без людей аэродром, где тупые машины снова заправили его горючим и упрямо снабдили страшными орудиями уничтожения, которым давно уже некого было уничтожать.
Закроем мрачную страницу, обратимся к другой…
…Взрываются атомные бомбы, взвиваются в небо зловещие столбы черного дыма, расплываются там смертоносными грибами… Рухнули здания, сметены сады и леса, испарились реки, почернела земля… В ужасе бегут в пустыни уцелевшие люди, пораженные неизлечимой болезнью. У них рождаются уродливые дети. Забыты причины войны, погубившей культуру, забыты и основы самой культуры. К грозящим смертью развалинам нельзя подойти… Суеверный ужас порождает религию диких. Грубо утверждается право сильного. Одетый в шкуры, бредет пещерный человек будущего. Перед ним скрытые травой заржавленные полосы металла, протянутые от горизонта к горизонту. Назначение их не понять новым питекантропам, сутулым, длинноруким, снова заросшим шерстью и переставшим мыслить…
С содроганием перелистывает читатель эти мрачные страницы, созданные, может быть, совсем не для того, чтобы вызвать у него протест против атомных войн. Но ради чего бы ни создавали американские писатели романы о конце цивилизации и одичании человечества — ради ли привычного устрашения, игры на нервах в годы военного психоза или ради затаенного, тлеющего среди американцев возмущения безумной гонкой атомного вооружения — все равно эти книги невольно воспринимаются как предупреждение о близкой пропасти небытия, как призыв остановиться.
Первый роман об атомной войне и ее последствиях «Последние и первые люди» принадлежит Аллафу Стеббельдогу. Не только упирались в облака огненные фонтаны на страницах романа, не только разверзалась от взрывов земля и сходили с ума от ужаса люди, обреченные на одичание, — в романе подробно и точно рассказывалось о цепной реакции атомного распада и притом точно так, как в знаменитом секретном Манхеттенпроекте. Взбешенные этим безграмотные маккартисты начали после окончания второй мировой войны преследование писателя, беспримерное расследование, предпринятое американским федеральным бюро… Писателя спасло от электрического стула лишь то, что его роман был опубликован в Лондоне в 1930 году… раньше, чем были сделаны физиками открытия, легшие в основу атомной бомбы.
Оказывается, угадывая направление развития физики, можно было понять и связанную с этим опасность для человечества в условиях возможных конфликтов на Земле.
В Америке еще недавно издавалось свыше тридцати толстых научно-фантастических журналов и, помимо того, около семидесяти стеклографических изданий, которыми обменивались между собой особо страстные любители научной фантастики.
Но в последний год на американском научно-фантастическом фронте произошел кризис. Закрылось около двадцати журналов.
В чем же дело? Иссякла американская фантазия? Нет, ее у американцев хоть отбавляй. Пожалуй, ответ на этот вопрос можно найти в анализе типичных произведений американской фантастики.
Своим родоначальником американские фантасты считают Гуго Гернсбека, опубликовавшего в 1911 году роман «Ральф 124 С = 41+» — таково было имя главного героя.
Американских фантастов, как и других, привлекает, например, назойливая мысль о множественности сосуществующих рядом миров, одновременно и непостижимо далеких и предельно близких. В романе Хэлла Клеменса «Миссия тяготения» рассказывается об исследовании тяжелой планеты-солнца Лебедь-61, которую можно увидеть лишь в сильнейший телескоп и до которой в то же время рукой подать, если понять принцип полоски Мёбиуса (кольцо из полоски тонкой бумаги, края ее перед склеиванием вывернули один относительно другого). Если по ней поползет муха, то она побывает и на той и на другой стороне полоски, Пройдя половину всего пути, муха окажется как раз под тем местом, откуда начала движение. Вот фантасты и воображают, что Вселенная свернута подобной полоской, очень тонкой. Стоит только каким-нибудь образом пройти сквозь воображаемую ее толщину, и вы окажетесь в другом конце Галактики.
Американские фантасты охотно отзываются на научные гипотезы, иной раз гиперболизируя их, доводя до абсурда, охотно принимают на вооружение термины, рожденные самыми новыми открытиями, но мало интересуются самими открытиями. Прогресс науки и техники, питающей их литературу, порой пугает некоторых из них. Так, Форстер в романе «Машина остановилась» (1928) показывает мрачный мир одичавших в технической цивилизации людей, живущих отдельно, каждый сам по себе, обслуживаемых во всем некоей машиной и не способных ни к труду, ни к мысли. И когда машина остановилась… Вот об этом и рассказывает писатель, боящийся, что технический прогресс заведет человека в тупик. Прочь от машины, к первобытности, натуральности!..
Своеобразно, но ту же мысль проводит и современный писатель Меррей Лейнстер в рассказе «Исследовательский отряд». Дикие, непроходимые джунгли неведомых и хищных растений, летающие вампиры, похожие на голых обезьян, страшные чудовища сфиксы, сухопутные пресмыкающиеся, быстрые, ловкие, кровожадные, не прощающие смерти никого из собратьев, — все это делает одну из вновь открытых планет непригодной для заселения. И не выдерживает, погибает созданная там колония совершенных роботов, исполнительных, точных, неутомимых, но не мыслящих и поэтому неспособных быстро ориентироваться в новых условиях. Зато выживает бесстрашный авантюрист, нелегально поселившийся здесь и покоряющий природу новой планеты не с помощью машин, а с помощью… прирученного орла-разведчика, носящего на груди телевизионную камеру, да дрессированных медведей, могучих, умных и преданных. Друзья человека — животные, а не машины, говорит между строками пресыщенный достижениями цивилизации автор.
Роботы, человекоподобные мыслящие механизмы, порождение века электронных машин и автоматики, века неизживаемого страха угнетателей перед живым разумом угнетенных, пугающего преддверия неизбежного кризиса, который разрушит всю капиталистическую систему, — эти роботы заполняют собой целую ветвь американской научно-фантастической литературы.
На суде выступает не прокурор или адвокат, не истец или свидетель, не обвиняемый или ответчик, даже не человек с его страстями, настроением, ужасом или надеждой — на суде выступает машина, вздумавшая с убийственно холодной, математической логикой оспаривать право собственности на нее у фирмы, ее изготовившей. Уложив в своей электронной памяти все своды законов, пользуясь ими лучше целого сонма пламенных барристеров в париках и черных мантиях, деловитых атторнеев и солиситоров, крючковатых законников и высокочтимых их лордств судей, эта кибернетическая машина, способная производить самые сложные логические действия, с непостижимой для человеческого ума алмазной логикой последовательности доказала, что, поскольку сами ее доводы свидетельствуют о ее способности мыслить, на нее следует распространить закон о запрете рабовладения, так как раб есть мыслящая собственность.
Представители фирмы были в восторге от проявившихся способностей их изделий, но в отчаянии от тупика, в который оно их логически загнало.
Конечно, это лишь милая шутка, но… Перевернем страницу.
Современные ученые считают возможным создание электронно-вычислительных машин, способных не только управлять станками, изготавливающими, скажем, телевизоры, но и проектировать эти телевизоры, даже совершенствовать их, решая математические и логические задачи.
Американские фантасты продолжают мысль ученых: значит, можно представить кибернетические машины, которые будут производить себе подобные кибернетические машины. Значит, машины будут размножаться!
И вот мы читаем о бунте машин против людей. Это уже не милая шутка. Она перерастает в мрачную картину неверия в Человека, и его будущее. Машины, размножаясь и совершенствуясь, не обладая человеческими слабостями вроде гуманности и милосердия, исповедуя одну лишь рациональность, тупо беспощадные, бесстрашные и всесильные, должны смести с Земли слабую человеческую расу, их породившую.
Горький взгляд на человечество!
Профессор биохимии Принстонского университета Асимов — автор многих романов о роботах: «Я-робот», «Стальные пещеры», «Течение пространства» — совершал детективные экскурсы в психологию человекообразных машин. Читателю с его чувствами и переживаниями на страницах романа противостоят нелюди с психикой, лишенной эмоций, некий недосягаемый стандарт для «слабых» представителей человечества…
Есть романы, в которых даже руководство человеческими нациями (притом через ООН!) передается роботам, более беспристрастным, холодным, точным, а главное, самым послушным слугам своих хозяев.
Мрачная ирония безысходности! Поистине завеса мрака перед взглядом, обращенным вперед!
Но перевернем страницу.
Межпланетные корабли бороздят космическое пространство. На спутнике Юпитера бойко торгует салун с рулеткой, в городах Венеры царит разнузданный разврат, еще на какой-то планете люди режут друг друга, чтобы завладеть сокровищами недр. Слабые, забитые, вымирающие туземцы протягивают трехпалые ручки, клянча подаяние у наглых и энергичных, сильных и жестоких землян. Гангстеры завладевают межпланетными ракетами и спасаются в глубинах Космоса от преследования полицейских ракет. Звездная девчонка щеголяет своей беспутностью, известной по всей Солнечной системе. Обо всем этом пишут король фантастов Гамильтон и все, кто походит на него.
Доктор философии Эдвард Смит написал, как говорят англичане, «Космическую оперу» — многотомную серию романов «Лендсмен»: «Трехпланетное», «Галактический патруль», «Лендсмен», «Дети Лендсмена» и так далее, как в «Тарзане»…
Столкнулись две галактики, столкнулись, обнаружив друг друга, две антагонистические культуры. Одна — па планете Аризии, добродетельная и высокая, позволившая путешествовать в Космосе не как-нибудь, а при помощи одного лишь напряжения мысли, другая — на планете Эддар, столь же высокая, но мрачная носительница злого начала, некое космическое темное царство межзвездного Вельзевула. Эти две культуры, два начала — добра и зла — сталкиваются всюду, в том числе и у нас на Земле, когда-то на Атлантиде, потом в древнем Риме… На арене идет бой гладиаторов аризианцев… А Нерон был не кем иным, как эддарианцем! А потом во время первой мировой войны представителем Аризии был на Земле доблестно сражавшийся против германцев капитан Кайтон. Но действие уходит в будущее после второй и третьей мировых войн… Однако война необходима автору, не мыслящему без нее знакомого ему капиталистического общества. И он переносит ее на галактики… Вместо Антанты или НАТО со здается союз Трипланетания — Земля, Венера, Марс… Наконец, в войну втягивается цивилизация земноводных неведомого мира, и государство эддарианцев на искусственном планетоиде разгромлено. Вот оно, безыскусственное зеркало фантазии. Все земные конфликты, империалистические союзы, блоки НАТО и СЕАТО — все это по принципу геометрической пропорции переносится на космические масштабы, неизменное, застывшее…
В романе «Темная Андромеда» Мерак рассказывает о борьбе человечества с союзом ни много ни мало, а целых ста солнц в туманности Андромеды, о шпионаже на Андромеде, о разоблачении засланной туда девушки с Земли. Организовав столкновение интересов противников, землянам удается разбить союз ста солнц, затем следует традиционный «хэпи энд» («счастливый конец»).
Это довольно распространенный вид космического шпионажа и детектива, И все в Космосе — да и в будущем, — как сейчас на Земле: и мотивы действия, и сами действия, и герои-супермены, и даже атомное, но ружье, какой-то немыслимый, но пистолет… А в романе «Звездные короли» в непомерно далекое будущее, куда герой попадает в порядке обмена душ, перенесены нравы и обычаи монархического средневековья с баронами созвездий, империями галактик и полицией современной Америки… и, конечно, с неизбежной, истребительной войной, перенесенной на галактические масштабы с физическим уничтожением уже самого пространства…
И какое неожиданное для американских трафаретов решение находит космическая тема в романе «Ветры времени», написанном доктором антропологии Техасского университета Чадом Сливером!
Молодой американский врач, отдыхая, ловил в горной речке форелей. Гроза загнала его в пещеру. Странный человек, высокий, тонкий, чем-то неуловимо отличающийся от обычных людей, схватил врача, парализовал неведомым аппаратом и унес в глубь пещеры, где сидело еще пять или шесть таких же странных людей…
Много, много лет назад быстрее света (?) летел в Космосе корабль. Путешественники посетили множество планет, пытаясь найти собратьев. Повсюду человечество либо не достигало еще высокой культуры, либо планеты были уже мертвыми и ветры развеивали по их поверхности радиоактивную пыль — но ведь именно это хотели предотвратить космические путешественники, взявшие на себя благородную миссию. Отчаяние овладело ими. Всюду человечество проходит вершину своего развития и потом гибнет от чрезмерных знаний.
Только на родной планете путешественников культура избежала гибели, находясь на скрещивании космических путей, испытав на себе благотворное, предостерегающее влияние иных цивилизаций.
Корабль терпит аварию, — путники оказываются на Земле, где есть люди, знающие лишь каменные топоры, каменные наконечники для стрел, шкуры да первобытный костер… И тогда путники, принося себя в жертву великой цели, решаются ждать, заснуть в анабиозе на 15 тысяч лет. Когда они проснулись, один из них и схватил удившего форель американца, чтобы узнать от него все о Земле. Врачу, переставшему быть пленником, приходятся по сердцу космические гости. Разочарованный в капиталистической Америке, он убеждает своих новых друзей, что человечество еще не дожило до встречи с ними, еще нет космических кораблей, он сделает сыворотку, которая позволит всем, и ему в том числе, снова заснуть. Сыворотка погружает их в сон… Они просыпаются, выходят из пещеры… и, к ужасу своему, видят: ничто не изменилось. Но в небе вдруг сверкает молния — след космического корабля. Они проснулись вовремя! Человечество созрело.
Так американский ученый, взявшийся за перо фантаста, пытается убедить, что настало время понять многое, чтобы избежать увядания и гибели цивилизации. Конечно, он не убедит своих читателей, что нужно ждать предупреждения из Космоса; хочет он того или не хочет, он объективно напоминает о существовании на Земле культуры, которая прилагает все усилия, чтобы не допустить превращения всего созданного людьми в руины, покрытые слоем радиоактивной пыли. Фантазия отражает действительность.
Есть еще одна космическая новелла, где герои, попав на неведомую планету, находят гигантские сооружения, которые могли быть под силу лишь титанам, но не видят нигде следов жизни. Так и не разгадав тайны, они вылетают в обратный рейс и обнаруживают в пути, что корабль их заражен микросуществами, пожирающими металл… Это они воздвигли в процессе своей жизнедеятельности неведомые сооружения, стены, башни, подобные встречающимся на Земле колониям кораллов, это они представляли жизнь на планете казавшейся мертвой. В присутствии металлической питательной среды микросущества размножаются с потрясающей быстротой. Они погубят одного за другим всех путешественников, погубят корабль… Есть возможность долететь до Земли, спастись, но… принести на родную планету чудовищную заразу, обречь человечество, быть может, на гибель или беспримерную борьбу за жизнь… И самоотверженные астронавты решают сделать путешествие долгим… Они направляют корабль не к Земле, а от нее, уносясь в бездну Космоса, чтобы никогда не вернуться. Новелла «Путешествие будет долгим» написана американцем, верящим в подвиг, в самоотверженность, в лучшие черты характера людей. Еще раз перевернем страницу космических новелл. Перед нами снова холодная жестокость беспредельного Космоса. На этот раз она использована не ради утверждения героического благородства жертвующих собой астронавтов — неумолимая и беззлобная жестокость создает здесь садистскую ситуацию неизбежной гибели прелестного создания, семнадцатилетней девушки, легкомысленно пробравшейся в ракету экстренной помощи, рассчитанную лишь на одного человека. Новеллист Том Годвин написал психологическую новеллу любования ужасом обреченной — «Неумолимое уравнение». В математическом уравнении вес лишнего человека, оказавшегося в ракете, вытесняет его жизнь с математической неумолимостью. Это лишний вес и лишняя жизнь, они должны оказаться за бортом. Автору не приходит в голову показать в этой острейшей ситуации подлинный героизм, светлое чувство, готовность к тому, чтобы пожертвовать собой. Нет! Холодный и жестокий пилот, истратив несколько сочувственных слов, объяснив, что по законам космических путешествий каждый обнаруженный лишний пассажир подлежит уничтожению, дав обреченной поговорить по радио с потрясенным братом и написать письмо родителям, этот механический исполнитель долга и представитель неумолимой бесчеловечности твердо нажимает рукой красный рычаг, выбрасывающий растерянную девушку с голубыми глазами в маленьких туфельках с блестящими бусинками в Космос… Насколько человечнее было бы то же неумолимое уравнение, если бы за скобками в Космосе оказался другой его член, подлинно мужественный человек-герой, оставивший в ракете одну девушку и включивший автоматическую аппаратуру спуска! Но американский новеллист был заинтересован лишь в показе ужаса, а не в показе силы и благородства характера.
Необычна для американской космической темы и новелла Бима Пайпера «Универсальный язык», которая интересует нас независимо от прежнего творчества писателя, не гнушавшегося и антисоветскими романами. Но даже он не смог обойтись без достижений русской науки. Он рисует полузасыпанный песком город на Марсе, где последний марсианин умер 50 тысяч лет назад. Мрачная, пессимистическая, привычная для американской литературы картина, но…
С самых верхних этажей проникают земные археологи в засыпанное красным песком двадцатиэтажное здание, оказавшееся марсианским университетом. Кто-то старательно запирал помещения, стараясь уберечь ценности от одичавших обитателей умиравшей планеты. Загадочны надписи на стенах, непонятны книги… Как прочесть неизвестный мертвый язык? Ведь не найти надписей, где бы марсианская письменность сопоставлялась с известной. И все же нашелся ключ, нашлась такая надпись. Она оказалась таблицей элементов Менделеева. Какой бы цивилизация ни была, каким бы языком и письменностью ни обладала, но если она познала вещество, то таблица элементов будет точно такой же, как у нас на Земле или на неведомой планете далекого Лебедя-61, она будет общей для всех культур Вселенной. Таблица элементов оказалась тем «универсальным языком», на котором смогли бы общаться обитатели любой планеты, любой галактики. И эта таблица помогла разгадать загадку мертвого языка давно исчезнувших марсиан. Какие тайны их жизни откроют теперь прочитанные марсианские книги…
Космическая тема не прошла мимо попов и ханжей. Некий мистер Люис написал трилогию: «Вне молчаливой планеты», «Перельяндра» и «Это странная мощь». Доктор Ренсон попадает на Марс, счастливую планету, населенную полупризраками, полулюдьми. Все там чудесно, потому что не было, оказывается, грехопадения, которое проклятием легло на Землю… И на Венере, как выясняется, грехопадения тоже еще не было. Дьявол запоздал соблазнить венерианскую Еву, видимо, слишком занятый на Земле… Во втором томе доктор Ренсон послан высшими силами на Венеру, где он встречает прекрасную нагую женщину Перельяндру, тамошнюю Еву. Другой герой романа — черт сидел в его теле — искушает венерианскую Еву. Доктор Ренсон спасает ее от грехопадения. Ну, а вернувшись на Землю в третьем томе, доктор Ренсон, умудренный на Марсе и Венере, борется с темными силами и с самим дьяволом на Земле.
Следующий шаг американских фантастов привел их к телепатии, черной магии и прочей чертовщине, которая питает фантазию немалого числа писателей Америки.
Фантазия в Америке верно служит реакции. Помимо пустых, мрачных или мракобесных произведений, в США выходит немало воинствующих антисоветских романов о войне и шпионаже, запугивающих, оглушающих американских читателей. Такие произведения не заслуживают того, чтобы их разбирать; породившая их бесчестная фантазия способна лишь одурманивать и отравлять.
А между тем фантазия — качество величайшей ценности. Без фантазии нельзя было бы изобрести дифференциального и интегрального исчисления. Об этом говорил Владимир Ильич Ленин. Фантазия — это способность представить себе то, чего нет. Она лежит в основе всякого творчества, которое возвышает человека над всем живым миром. Фантазией обладает ученый, выдвигающий научную гипотезу, фантазией обладает конструктор, мысленно видящий никогда не существовавшую машину, фантазией обладает поэт, но фантазией обладал также и тот человеческий ум, который выдумал сверхъестественную силу, ад, привидения, мистику, кто видит мрак впереди…
Фантазия становится светлой в мечте. Но далеко не всякая фантазия поднимается до уровня мечты. Мечта — это фантазия, направленная желанием. Однако любая фантазия, поднялась ли она до мечты или просто переносит в мир, отличный от действительности, все равно отталкивается от действительности, отражает ее, становясь своеобразным зеркалом этой действительности.
Свойство фантазии отражать действительность, подчер кивая те или иные ее стороны, неоценимо для литературы, призванной протестовать против существующего порядка, гневно обнажая мрачные стороны современного ей общества.
Свойством фантазии остраннять обычное, чтобы с бичующей яркостью показать его, пользовались многие выдающиеся писатели. Свифт сталкивал рядового человека с лилипутами и великанами, позволяя ему видеть в них преувеличенные черты знакомого общества, или с разумными лошадьми, перед которыми так гнусно выглядели человеческие пороки, или, наконец, переносил его на фантастический, висящий в воздухе остров Лапутию, где так смешили уродливо преувеличенные, но столь знакомые читателю особенности современного ему человека.
Именно такую фантастику привлекал для своих социально-критических романов Герберт Уэллс. Он отнюдь не мечтал о нашествии бездушных, безжалостных, питающихся кровью марсиан, но, перенеся их на Землю, показал в условиях потрясения современную ему гнилую в своей основе капиталистическую Англию. Он вовсе не мечтал всерьез о невидимости человеческого тела, но, создав «Невидимку», он смог показать всю обреченность гениального одиночки-ученого в условиях капиталистического общества.
Тем более не мечтал Уэллс о грядущем биологическом разделении человека на ушедших под землю морлоков, продолжающих, как их предки-рабочие, производить материальные ценности, и на беспомощных, нежных, но скотоподобных элоев, потомков тех, кто жил за чужой счет, и годных теперь только для поставки морлокам нежного мяса… Уэллс не мечтал об этом, но он отразил в своем зеркале фантазии разделение современного ему капиталистического общества на эксплуататоров и угнетенных и, доведя ото разделение до предела, произнес тем приговор капитализму, отвергая его как систему, способную привести лишь к вырождению.
Обличающая фантазия Карела Чапека населила мир мыслящими саламандрами, сначала безобидными, смешными, милыми, а потом страшными, равнодушно бесчеловечными, захватывающими весь мир и холодно уничтожающими населенные материки, понадобившиеся для создания удобных им отмелей… В этом подавлении человечества в интересах новой человекообразной, но звериной в своей сущности расы узнаются знакомые, античеловеческие стремления современного Карелу Чапеку фашизма, который он с ненавистью обличал в романе «Война с саламандрами», предостерегая человечество от возможной гибели лучшей его части под фашистским «саламандровым» сапогом…
Как мы уже видели, американская научная фантастика опирается не на мечту, не на направленную светлым желанием фантазию, а на фантазию, переносящую читателя в мир, не похожий на действительность, или вводящую в знакомый мир преувеличенные достижения техники, вызывающие необыкновенные положения. Наука, ее задачи, терминология, гиперболизированные достижения техники привлекаются лишь для завязки умопомрачительных сюжетов и внушения читателю безысходности, обреченности человеческого мира…
Однако неверно по одним только пустым или пугающим книгам судить обо всей американской научно-фантастической литературе, как одно время у нас делалось.
Интересный американский писатель Бредбери в своей книге «451° по Фаренгейту» показал, что в Америке есть научно-фантастическая литература уэллсовского направления. Это не литература светлой мечты, но литература вольного или невольного отрицания капиталистической действительности. Мы знаем и воинствующую литературу американцев, не желающих мириться ни с террористическим мракобесием Маккарти, ни с авантюристической политикой скачки по краю пропасти войны.
Фантазия Рея Бредбери сделала его книгу «лупой совести» честного американца. «Смотрите, куда мы придем!» — показывает он. Великая техника достигнет умопомрачительных высот и скоростей, телевидение окружит нас абстрактным изображением со всех сторон, отгородит от реального мира и забот, покрытые огнеупорным слоем, наши дома не смогут гореть, но… пожарные останутся… останутся для того, чтобы по первому доносу мчаться на воющих саламандрах к месту происшествия, судорожно разматывать там пожарные рукава, стоять, держа в руках вырывающиеся медные брандспойты, и направлять в огонь струю… керосина! А сжигаемые пожарной командой незаконно сохраненные книги — все равно, Шекспир это или библия, — сжимаясь и корчась, будут разлетаться чернеющими страницами, пламенея красными и желтыми перьями… И пепел грязным снегом посыплет все вокруг, и сажа трауром покроет потные лица молодчиков, у которых в современной Америке найдутся достойные предшественники, не так давно сжигавшие перед кадиллаками хозяев книги Маркса, Горького, Твена…
Бредбери, наблюдая действительность, показывает своеобразные ножницы между возможностями развития техники и культуры, уже сейчас ощущаемые в США. Техника еще более разовьется, поднимется, а культура человека, оглушенного, ослепленного телевидением и радио, оставшегося без книг, постыдно упадет, увянет. И читатель восклицает: «Так дальше продолжаться не может!»
С язвящей сатирой в своих фантастических произведениях выступают такие писатели, как Джон Дж. Макгир, Фредерик Поль и К. М. Корнблат.
В книге «Без азбуки» едко показана Америка 2140 года, В школах того времени обойдутся без забытой письменности, а обучать в них будут таких разнузданных молодчиков, с которыми учитель сможет справиться только при наличии двух головорезов с заряженными автоматами.
Но американские фантасты не ограничиваются показом уродства капиталистической Америки. Пол. Андерсон в романе «Сэм Холл» не только бичует современный ему маккартизм, но и мечтает о том, что американцы с оружием в руках изгонят маккартистов из страны. Быть может, именно здесь американская фантастика становится пророческой.
Перевернем страницу. Перед нами научно-фантастическая новелла Джозефа Шеллита «Чудо-ребенок». Уэллсовская «Пища богов» на американский лад.
Дети уэллсовской «Пищи богов» не только ростом много выше обыкновенных людей, которые кажутся рядом с ними пигмеями, они также и гиганты духа, мечтающие о том, чтобы расти, расти… переделывать мир, сделать то, что не под силу ничтожным пигмеям. Стремясь в иное, светлое будущее, они символически противостоят мелкому миру пигмеев, пугающихся всего смелого, огромного, цепляющихся за маленькое, старое, убогое… Острый ум писателя угадывает неизбежность столкновения сил, олицетворяющих в себе новое, гигантское с злобно упрямым пигмейством, тянущим историю вспять, писатель предрекает грядущие социальные потрясения.
Американская «пища богов» — электрический «матуратор», некий паукообразный аппарат вроде рентгеновского, с помощью которого якобы можно воздействовать на нервную систему, ускоряя и направляя развитие человека, более того — формируя этого человека по заранее намеченному плану. Но чудо-ребенок, созданный с помощью электрифицированной «пищи богов», — отнюдь не уэллсовский гигант тела и духа, мечтающий о светлом будущем. Новый человек «по-американски» должен стать концентратом способностей, прославляемых в капиталистическом обществе, приносящих удачу, силу, богатство. Словом, герой новеллы задумал создать «гиганта капитализма». Чудо-ребенок проектируется как воплощение звериной сущности человека, который всем другим людям волк. И на страницах новеллы появляется человеческое чудовище, символ пропасти, к которой ведет дорога безжалостной борьбы за существование в мире частной инициативы, исступленного соревнования и исступленной конкуренции. В этом мире победить может лишь некий сверхволк, перегрызающий горло всем остальным волкам и в первую очередь — по канонам фрейдизма — своим собственным, мешающим ему родителям…
Можно отвернуться, содрогаясь, от выдуманного чудо-ребенка, но… не содрогнешься ли еще больше, увидев черты человеческого чудовища именно в тех, кто добился успеха в условиях прославленного американского образа жизни, кто исповедует для этого философию супермена, сверхволка, фашизма.
Новелла Джозефа Шеллита «Чудо-ребенок» — американское саморазоблачение системы «свободной конкуренции», уродующей душу человека, приближающей его к зверю, непроизвольный протест против будущего, уготованного человеку капитализмом.
Будущее… оно тревожно, полно пугающих опасностей и «неизбежных катастроф». Сегодняшний день Америки — это день исступленного запугивания по радио, телевидению, в кино, газетных статьях и с помощью пробных атомных тревог с эвакуацией городов.
Некоторые западные ученые, опровергая старые гипотезы о гаснущем Солнце, подсчитали, что Солнце, переходя от одной ядерной реакции к другой, сокращаясь в диаметре, не гаснет, а разгорается, став из красной звезды прошлого желтой, и что через десять миллиардов лет так раскалится, что температура на Земле поднимется до 300 °C.
Американский писатель Джон Т. Мак-Интош в своей новелле «Из трехсот один» доводит гипотезу о разгорании Солнца до зловещего предсказания скорого и мгновенного повышения температуры на Земле до 300 °C. Спастись может только один из каждых трехсот, улетев в одной из лихорадочно изготавливаемых ракет на Марс. Пассажиров отберут по своему произволу лейтенанты, командиры ракет. В зтих гиперболических условиях писатель заставляет действовать обыкновенных, знакомых ему плохих и хороших американцев, сильных и слабых, нервы которых уже до предела взвинчены сегодня военной истерией. Американская жизнь отражается в зеркале фантазии Мак-Интоша отчаянием и безразличием, верой и подозрительностью, благородством и низостью… Все венчается типичной для Америки неуверенностью. Не обманут ли правители в решительную минуту ради интересов кучки имущих, которым только и обеспечат жизнь после катастрофы?
Чем это не современность? Зеркало такой фантазии увеличивает, но не искажает!
В ультракапиталистическом обществе современной Америки властвуют интересы монополий, стремящихся сделать сговорчивым рабочий класс. Высокий уровень жизни работающей части населения искусственно поддерживается выкачиванием богатств из колониальных или полуколониальных стран, изнурительным трудом живущих там в нищете людей.
Эта система отражается в зеркале фантазии американского писателя Роберта Хайнлайна. Зеркало его фантазии интересует нас как саморазоблачение капиталистического Запада…
Роберт Хайнлайн, дитя капитализма, грешивший и антисоветскими романами, не мыслит себе будущего в иной социальной организации, он допускает, что капитализм будет существовать и в пору, когда человек овладеет космическим пространством, когда планета Венера будет для новых видов транспорта не дальше от США, чем теперь леса Амазонки или тихоокеанские острова.
И он решает показать в рассказе «Логика Империи» капиталистическую колонию будущего… он призывает свою фантазию, но она отражает действительность. Перед нами колония на Венере — мир чудовищной эксплуатации и рабского труда законтрактованных людей, завербованных обманом или насилием, отчаянием или посулами. Вместо трюма корабля корсаров, наполненного живым товаром. — тесные помещения межпланетной ракеты, которую ведут талантливые инженеры будущего и в которой хозяйничают звероподобные надсмотрщики прошлого…
И вот… на завоеванной гением человека планете происходит аукцион, где с молотка продаются контракты завербованных. Патроны-покупатели, местные капиталисты, выходцы с Земли, смахивающие на фермеров из Южных штатов, ощупывают не контракты, а мускулы тех, кто стоит за каждым из этих контрактов, кого в действительности приобретает за доллары хозяин.
И белые невольники с Земли, которым ханжески предоставлялось «право» расторгнуть контракт в любое время, предупредив лишь за две недели, эти невольники, обреченные, став свободными, погибнуть в болотах Венеры, не имея возможности возместить расходы компании и вернуться на Землю на ее корабле, покорно влачат кандалы рабства, залезая во все большие долги, закабаляясь, продаваясь на все больший срок.
Жутко осязаемы фантастические пейзажи Венеры. Можно поклясться, что на Венере действительно существует описанный Хайнлайном амфибиеобразный лопочущий народец, безобидный, слабый, притесняемый колонизаторами, которые по правилам всех колоний скрывают от туземцев распри среди представителей высшей земной расы.
В глухих недоступных болотах живет община беглых невольников Венеры, живет неким вольным казачьим станом, дружа с амфибиеобразным народцем, пользуясь его помощью, закладывая на Венере новый, отличный от капиталистического строя уклад.
Со всех сторон через туман болот стремятся к Запорожской Сече Венеры беглые люди. Им помогают найти братьев по судьбе туземцы, провожающие захваченный беглецами болотный плавающе-ползающий экипаж-«крокодил». «Вынырнувшая туземка приняла протянутую ей руку и грациозно взвилась на борт. Она уселась на перила вблизи сиденья механика… Как долго вел их маленький лоцман с нечеловеческой, но все же странно приятной фигуркой, Уингейт не знал… Наконец, сама отмерив себе порцию табака, она скользнула за борт. Они увидели, как туземка поплыла, держа пакет высоко над водой».
Читая о колонии на Венере, вспоминаешь о тропических болотах Амазонки и невольническом, по существу говоря, труде в нынешних колониях.
Перевернем страницу.
Появление советских искусственных спутников Земли и космических ракет, достижение ракетами Луны потрясло капиталистический мир, развенчало великоре-кламную американскую технику, перепугало военных руководителей НАТО, не на шутку встревожило финансовых воротил. Простые люди и ученые всего мира увидели в советских спутниках победу науки, призванной расширить знания человека, проложить ему путь в Космос. Люди же, мыслящие лишь военными категориями атомных бомб, разрушений и баз, с которых удобно произвести эти разрушения, увидели в маленькой советской луне военную угрозу. Не мудрено! Именно Форрестол, недавний американский министр обороны, генерал, помешавшийся на грядущем военном поражении, предлагал создать атомно-бомбардировочную базу на… искусственном спутнике. Жадные руки авантюристов не дотянулись еще и до трассы спутника, а некоторые недалекие генералы с дальним прицелом болтают уже об американской атомной базе на… Луне!
Луна, Луна! Друг влюбленных и живописцев, мечта астронавтов и рок лунатиков! Пока тебя достигли не американские, а советские ракеты. Но что, если капиталистический мир действительно создаст на тебе атомную бомбардировочную базу?
Уже сейчас над Европой летают американские самолеты с подвешенными к ним атомными и водородными бомбами. Безумие или преступление летчика, авантюризм или ошибка радиста — и страшный взрыв не только разрушит один город, но станет началом истребления жизни на Земле. Уже сейчас есть на Земле атомные базы, которые не хуже, чем лунную, можно использовать для преступлений против человечества.
Предполагаемой атомной базой на Луне руководили бы люди, среди которых нашлись бы и негодяи, властолюбцы, достойные бесноватого фюрера. Будущее самой Америки стало бы зависеть от прихоти командования такой бомбардировочной базой на Луне. В любую минуту эту базу можно было бы использовать в преступных личных целях ради чудовищного шантажа Земли.
Такой случай атомного шантажа и описывает тот же Роберт Хайнлайн в своей новелле «Долгая вахта». Но он уже не повторяет былых антисоветских выпадов, ему уже хочется верить в человека, в то, что преступление может быть предотвращено, пусть ценой жизни героя.
«Девять кораблей взметнулись с лунной поверхности. Вскоре восемь из них образовали круг, в центре которого был девятый — самый маленький. Этот строй они сохранили на своем пути до Земли.
На маленьком корабле виднелась эмблема адмирала, однако на нем не было ни одного живого существа. Это был даже не пассажирский корабль, а радиоуправляемая ракета, предназначенная для радиоактивного груза. В этом рейсе она имела на борту один лишь свинцовый гроб и гейгеровский счетчик, который ни на минуту не утихал».
Читатель верит, что герой предотвратит гнусное атомное преступление, и в этом отражается вера народа, простого американского народа, который, как и герой новеллы, присягал перед своей совестью сохранить мир и не допустить атомного преступления против человечества, подготовляемого современной политикой главных капиталистических стран, не допустить, хотя бы для этого пришлось встать на долгую и трудную вахту — вахту мира.
* * *
Мы выходим из джунглей американской научной фантастики: мы увидели жуткие космические драмы, содрогались от нарисованных страхом или чувством безысходности картин, содрогались потому, что они воскрешали в нашей памяти подлинные картины разрушенных атомной бомбой японских городов: иной раз интерес к незнакомому, странному мешал увидеть враждебную нам сущность произведений, прикрытую внешней занимательностью. Мы не заглянули в самые мрачные уголки ненависти к нам, мракобесия, упадка, мы едва коснулись тех мест, в которых чувствовалась отрава, преподносимая американскому народу в облатке сногсшибательной занимательности. Можно сделать общий вывод, что американская научная фантастика — прежде всего в основном классовая литература, верно служит гибнущему капитализму, перенимая от него пессимизм и обреченность. Она покончила ныне с традиционным когда-то американским «хэпиэндом». Эта литература паразитирует на науке, пользуясь ее достижениями и терминологией для целей, ничего общего не имеющих с мечтой, с самими этими достижениями. И, наконец, — что отнюдь немаловажно для понимания американского народа, к которому советский народ относится с симпатией, с верой в его будущее, — в американской научно-фантастической литературе есть крепнущая ветвь критического отношения к капиталистической действительности, ветвь светлого отношения к человеку. А часть этой литературы, хотят того или не хотят авторы пессимистических, мрачных произведений, подсказанных, быть может, общим чувством безысходности, объективно работает на ненависть к войне и к уничтожению городов, стран, народов, которая не может не проснуться у читателя.
Советские люди много думают об американцах. Им хочется больше и лучше узнать их стремления, мечты, тревоги. Фантазия — отражение действительности, ее волшебное зеркало. Через фантазию американцев можно увидеть и понять их действительность, почувствовать тупик американского образа жизни, в котором бьется, как в клетке, мечта. Американская научная фантастика помогает заглянуть в думы и жизнь американцев.
Генри Бим Пайпер УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК
Марта Дейн остановилась и посмотрела на медно-красное небо. Пока она была внутри здания, ветер переменился и песчаный ураган, который раньше дул с пустынных нагорий на восток, теперь бушевал над Сиртисом. Солнце, увеличенное туманным ореолом, казалось великолепным красным шаром. Оно было почти такой же величины, как и солнце Земли.
Сегодня к вечеру тучи пыли осядут из атмосферы, добавив еще слой песка к той массе, под которой был погребен город вот уже пятьдесят тысяч лет.
Все вокруг было покрыто красным лёссом — улицы, площади, открытые участки парка. Слой красного песка совершенно скрывал небольшие постройки, которые под его тяжестью обвалились и оплыли. Камни, оторвавшиеся от высоких зданий уже после того, как рухнула крыша и развалились стены, тоже были покрыты красным лёссом. В том месте, где стояла Марта, улицы древнего города были на сто — сто пятьдесят футов ниже уровня современной поверхности, и проход, пробитый в стене дома, вел прямо на шестой этаж. Отсюда ей хорошо был виден лагерь, сооруженный на поросшей кустарником равнине, где некогда на берегу океана располагался морской порт. Теперь на месте океана простиралась впадина Сиртис. Сверкающий металл лагерных построек уже покрылся тонким слоем красной пыли. Она снова подумала о том, каким станет этот город, когда, затратив много времени и труда и переправив через пятьдесят миллионов миль космического пространства людей, оборудование и продовольствие, археологи завершат его раскопки. Они используют технику. Иначе ничего здесь не сделаешь. Нужны бульдозеры, экскаваторы, землечерпалки. Машины ускорят работу, но они не заменят человеческих рук. Она вспомнила раскопки Хараппы и Мохенджо-Даро[2] в долине Инда и старательных, терпеливых местных рабочих, простых и неторопливых, как и цивилизация, которую они открывали. Она могла бы перечесть по пальцам случаи, когда кто-либо из ее рабочих повредил в земле ценную находку. И если бы не эти низкооплачиваемые и безропотные люди, археологи не сдвинулись бы с места со времен Винкельмана. Но на Марсе не было таких рабочих. Последний марсианин умер пятьсот столетий назад.
В четырехстах ярдах слева от нее вдруг затрещал, как пулемет, пневматический молоток. Тони Латтимер, должно быть, выбрал здание и приступил к его обследованию.
Марта ослабила ремни кислородной коробки, перекинула через плечо аппарат, подобрала с земли чертежные инструменты, доску и зарисовки и двинулась вниз по дороге. Она обошла нагромождение камней и мимо развалин стены, торчащей из-под лёсса, и остовов уже пробитых зданий вышла к заросшей кустарником равнине, на которой стоял лагерь.
Когда Марта вошла в большую рабочую комнату здания № 1, там было человек десять. Она первым делом освободилась от своей кислородной ноши и закурила сигарету, первую с утра. Затем она оглядела всех присутствующих. Старый Селим фон Олмхорст (наполовину турок, наполовину немец), один из ее двух коллег-археологов, сидел в конце длинного стола, напротив стены, и курил большую изогнутую трубку. Он внимательно изучал какую-то записную книжку, в которой явно не хватало страниц. Девушка — офицер Технической службы Сахико Коремитцу низко склонилась над чем-то, освещенным ярким светом двух ламп. Полковник Хаберт Пенроуз, начальник отдела технического снабжения Космической службы, и капитан разведки Фильд слушали отчет одного из пилотов, возвратившегося из разведывательного полета. Две девушки из Службы сигнализации просматривали текст вечерней телепередачи, которая должна быть передана на «Сирано», лежащий на орбите, удаленной на пять тысяч миль от планеты, а оттуда уже через Луну на Землю. С ними сидел Сид Чемберлен, транспланетный корреспондент «Ныос сервис». Он был штатским, как Марта и Селим, о чем свидетельствовали белая рубашка и синяя безрукавка.
Майор Линдеманн из инженерных войск с одним из своих помощников обсуждал какие-то проекты на чертежной доске. Марта с надеждой подумала, зачерпнув кружкой теплую воду, чтобы умыться, что они обдумывали план постройки будущего водопровода. Затем, захватив свои записки и зарисовки, она двинулась к концу стола, где сидел Селим. По дороге, как обычно, она остановилась около Сахико. Девушка японка занималась реставрацией того, что пятьсот столетий назад было книгой. Толстая бинокулярная лупа прикрывала ее глаза. Черный ремешок почти не выделялся на фоне гладких блестящих волос. Она осторожно по кусочкам собирала поврежденную страницу при помощи тончайшей иголочки, вставленной в медную оправу. Выпустив на секунду крошечную, как снежинка, частичку, Сахико подхватывала ее пинцетом и опускала на лист прозрачного пластиката, на котором восстанавливала страницу. Затем она обрызгивала ее закрепителем из маленького пульверизатора. Следить за ее работой было истинным наслаждением. Движения были точными и изящными, как взмах дирижерской палочки.
— Привет, Марта. Что, уже время коктейля? — спросила Сахико, не поднимая головы. Она боялась, что даже легкое дыхание может сдуть лежащую перед ней пушистую массу.
— Нет. Еще только пятнадцать тридцать. Я там все закончила. Не знаю, обрадует ли вас эта новость, но книг я больше не нашла.
Сахико сняла лупу и, прикрыв ладонями глаза, откинулась в кресле.
— Да нет. Мне нравится эта работа. Я ее называю микроголоволомкой. Но вот эта книга — просто мучение. Селим нашел ее в раскрытом виде. На ней была навалена какая-то тяжесть. Страницы почти совсем уничтожены. — Затем, после некоторого колебания, она сказала: — Но если бы можно было потом что-нибудь прочитать, после того как я закончу… — В голосе прозвучал легкий упрек.
И отвечая ей, Марта почувствовала, что невольно защищается.
— Когда-нибудь сможем. Вспомните, сколько времени понадобилось, чтобы прочитать египетские иероглифы уже после того, как нашли Розеттский камень.[3]
Сахико улыбнулась.
— Да, я знаю. Но был Розеттский камень. А на Марсе такого камня нет. Последнее поколение марсиан вымирало в то время, когда первый кроманьонский пещерный художник рисовал оленей и бизонов. И не было моста, который связывал бы две цивилизации, разделенные пятьюдесятью тысячами лет и пятьюдесятью миллионами миль космического пространства.
— Но мы найдем его. Ведь должно же быть что-нибудь, что даст нам значение нескольких слов, а с их помощью мы докопаемся до смысла других. Вполне вероятно, что мы не сумеем разгадать этот язык, но мы хотя бы сделаем первые шаги, а в будущем кто-нибудь продолжит нашу работу.
Сахико отняла руки от глаз. Она старалась не смотреть на яркий свет. Затем снова улыбнулась широкой дружеской улыбкой.
— Я верю, что так и будет. Я очень надеюсь. И будет просто замечательно, если вы первая сделаете это открытие, Марта, и мы получим возможность читать то, что писали эти люди. Тогда этот мертвый город вновь оживет, — улыбка медленно исчезала. — Но пока, кажется, нет никакой надежды.
— Вы не нашли больше картинок?
Сахико отрицательно покачала головой. Если бы она и нашла их, вряд ли это имело бы большое значение. Они нашли уже сотни картинок с надписями, но так и не могли установить связи между изображением и напечатанным текстом. Никто больше не сказал ни слова. Сахико опустила на глаза лупу и склонилась над книгой.
Селим фон Олмхорст оторвался от своих записей и вынул трубку изо рта.
— Все там закончили? — спросил он, выпуская дым.
— Все, как было намечено. — Она положила свои дневники и зарисовки на стол.
— Капитан Джиквел уже начал продувать здание сжатым воздухом с пятого этажа вниз. Вход там на шестом этаже. Как только он кончит продувание, будут включены кислородные генераторы. Я очистил ему место для работы.
Фон Олмхорст кивнул головой.
— Там было совсем немного дела, — сказал он. — А вы не знаете, Марта, какое следующее здание выбрал Тони Латтимер?
— Кажется, то высокое, с конической верхушкой. Я слышала, как он там просверливал канал для взрывателя.
— Ну что ж. Надеюсь, что хоть здесь нам повезет и мы хоть что-нибудь найдем.
Марсианские строения, которые они обследовали до сих пор, были нежилыми, и все содержимое их было начисто вывезено. Вещи, очевидно, постепенно растаскивали пока здание не было полностью опустошено. В течение столетий, по мере того как город умирал, шел процесс самоуничтожения. Она сказала об этом Селиму.
— Да. И мы всегда с этим сталкиваемся, за исключением, может быть, таких мест, как Помпеи. А вы видели хоть один римский город в Италии? К примеру возьмем хотя бы Минтурно.[4] Сначала жители разобрали одну часть города, чтобы привести в порядок другую, а после того как они покинули город, пришел новый народ и разрушил до основания то, что еще сохранилось от их предшественников. Даже камни обычно растаскивали для починки дорог. И этот процесс продолжался до тех пор, пока ничего не осталось от города, кроме следов фундамента. На сей раз нам повезло. Это одно из мест гибели населения Марса, а кроме того, здесь не было варваров, которые пришли бы позже и уничтожили все, что оставалось. — Он не спеша докуривал трубку. — В ближайшие дни, Марта, я собираюсь взломать одно из зданий и посмотреть, что там было, когда умер последний из них. Вот тогда мы узнаем историю гибели этой цивилизации.
— Да, но если мы сможем читать их книги, то мы узнаем всю историю, а не только некролог. — Она молчала, не решаясь высказать вслух свои мысли. — Мы непременно в один прекрасный день узнаем это, — сказала она, наконец, и посмотрела на часы. — Я хочу до обеда еще немножко поработать над списками.
На мгновение на лице старого археолога промелькнуло недовольство. Он хотел что-то сказать, затем передумал и снова сунул трубку в рот. По выражению его лица Марта поняла, что разговор окончен. Старый археолог думал. Он считал, что она напрасно тратит время и силы — время и силы, принадлежащие экспедиции. Со своей точки зрения, он был прав, она это понимала. Но ведь в конце концов должны же быть какие-то пути к дешифровке. Марта молча повернулась и пошла к своему месту, устроенному в центре стола из упаковочных ящиков.
Фотокопии восстановленных книжных страниц и транскрипций надписей пачками лежали на столе вперемежку с тетрадями, в которые были выписаны слова. Марта села, закурила новую сигарету и взяла верхний листок из пачки еще не изученного материала. Это была фотокопия страницы, напоминающей титульный лист какого-то периодического журнала. Марта вспомнила. Она сама нашла эту страницу дня два тому назад в стенном шкафу в подвале здания, которое только что кончила обследовать. Она внимательно рассматривала снимок. Ей удалось установить, правда еще очень гипотетично, марсианскую систему произношения. Длинные вертикальные значки были гласными. Их было всего десять. Не очень много, принимая во внимание то, что существовали, по всей вероятности, отдельные буквы для обозначения долгих и кратких звуков. Двадцать начерченных горизонтально букв были согласными. Такие двойные звуки, как НГ, ТШ обозначались одной буквой. Было мало вероятно, что разработанная ею система произношения точно соответствовала марсианской. Однако она выписала несколько тысяч марсианских слов и могла все их произнести.
На этом все кончалось. Она могла произносить около трех тысяч слов, но их значение оставалось для нее тайной.
Селим фон Олмхорст считал, что она этого так никогда и не узнает. Так думал и Тони Латтимер и, не стесняясь, говорил об этом. Она была уверена, что и Сахико Коремитцу была того же мнения. Временами ей казалось, что они правы.
Буквы на странице, лежащей перед ней, начали вдруг съеживаться и танцевать — тоненькие изящные гласные с толстыми маленькими согласными. Они это проделывали теперь каждую ночь во сне. Были и другие сны, когда она читала по-марсиански так же свободно, как и на своем родном языке. Утром она лихорадочно пыталась вспомнить сон, но напрасно. Она зажмурилась и отвела глаза от страницы. Когда она снова взглянула на фотографию, буквы успокоились и встали на свои места.
Строчка наверху страницы состояла из трех слов. Они были подчеркнуты снизу и сверху. Было похоже, что так марсиане выделяли заглавие.
Мастхарнорвод Тадавас Сорнхульва — Марта прочитала про себя.
Она начала листать записную книжку, чтобы проверить, встречала ли она раньше эти слова, а если встречала, то в каком контексте. Все три слова она нашла в списках. Кроме того, там было отмечено, что мастхар и норвод были полнозначными словами, в то время как давас и вод играли служебную роль. Слово давас, очевидно, было каким-то значимым префиксом, а вод — суффиксом. Сорн и хульва тоже были значимыми корнями. Марсиане, по всей вероятности, широко пользовались словосложением для образования новых слов. Они наверняка издавали журналы, и один из этих журналов назывался Мастхарнорвод Тадавас Сорнхульва.
Она старалась представить себе, как мог выглядеть журнал. Может быть, он напоминал «Археологический ежегодник», а может быть, был чем-то вроде «Мира приключений».
Под заголовком на второй строчке стояли дата и номер выпуска. Они не раз находили разные предметы, пронумерованные по порядку, и поэтому Марта смогла установить цифры и определить, что марсиане пользовались десятичной системой счисления. Это был тысяча семьсот пятьдесят четвертый выпуск. Дома 14 837: дома, должно быть, было названием одного из марсианских месяцев. Слово это встречалось ей уже несколько раз.
Она беспрестанно курила и сосредоточенно листала свои записи. Сахико с кем-то разговаривала, затем скрипнул стул в конце стола. Марта подняла голову и увидела огромного человека с красным лицом. На нем была зеленая форма майора Космической службы. Он сел рядом с Сахико. Это был Айвн Фитцджеральд, врач экспедиции. Он поднял пресс с книги, очень похожей на ту, которую реставрировала Сахико.
— Совсем не было времени, — сказал он в ответ на вопрос Сахико.
— Эта девушка Финчли все еще лежит, а диагноза я так и не могу поставить. Я проверял культуру бактерий, а все свободное время ушло на препарирование образцов для Билла Чандлера. Он, наконец, нашел млекопитающее. Похоже на нашу ящерицу. Всего в четыре дюйма длиной, но все же это самое настоящее теплокровное живородящее млекопитающее. Роет нору и питается здешними так называемыми насекомыми.
— Неужели здесь достаточно кислорода для таких животных? — спросила Сахико.
— Очевидно, достаточно у самой земли. — Фитцджеральд укрепил ремешок своей лупы и надвинул ее на глаза. — Он нашел этого зверька внизу, в лощине, на дне моря. Ха! Да эта страница совсем целая. — Он продолжал что-то бормотать вполголоса. Время от времени он приподнимал страницу и подкладывал под нее прозрачный пластикат. Работал он с необычайной четкостью. В его движениях не было изящества маленьких рук японки, которые двигались, как кошачьи лапки, умывающие мордочку. Здесь была точность ударов парового молота, раскалывающего орех. Полевая археология тоже требует четкости и осторожности движения. Но на работу этой пары Марта всегда смотрела с нескрываемым восхищением. Затем она снова вернулась к своим спискам.
Следующая страница, видимо, представляла собой начало статьи. Почти все слова были незнакомыми. У Марты создавалось впечатление, что перед ней страница научного, может быть технического журнала. Она была уверена, что это не беллетристика. Параграфы имели слишком внушительный и ученый вид!
Вдруг раздался торжествующий возглас Фитцджеральда:
— Ха! Наконец!
Марта подняла голову и посмотрела на него. Он отделил страницу книги и осторожно наложил сверху лист пластиката.
— Картинки? — спросила она.
— На этой стороне нет. Подождите минуту, — он перевернул лист. — И на этой ничего…
Он приклеил еще один лист пластиката с другой стороны, затем взял со стола трубку и закурил.
— Мне это дело доставляет удовольствие, а кроме того, это хорошая практика для рук. Так что я не жалуюсь. Но, Марта, вы серьезно думаете, что из всего этого можно будет хоть что-нибудь извлечь?
Сахико подняла пинцетом кусочек кремниевого пластиката, который заменял марсианам бумагу. Он был величиной в квадратный дюйм.
— Смотрите! На этом кусочке целых три слова, — проворковала она. — Айвн, вам повезло, у вас еще легкая книга!
Но Фитцджеральда не так легко было отвлечь.
— Ведь эта чепуха совершенно лишена смысла, — продолжал он. — Это имело смысл пятьсот столетий назад, а сейчас все это ничего не значит.
Марта покачала головой.
— Смысл — не то, что испаряется со временем, — возразила она.
— И смысла в этой книге сейчас ничуть не меньше, чем когда-либо, но мы пока не знаем, как его расшифровать.
— Мне тоже кажется, что вся эта работа впустую, — вмешался в разговор Селим. — Сейчас не существует способов дешифровки.
— Но мы найдем их, — Марта говорила, как ей казалось, чтобы убедить себя.
— Каким образом? При помощи картинок и надписей? Да, но мы ведь уже нашли много картинок с надписями, а что они нам дали? Надпись делается для того, чтобы разъяснить картинку, а не наоборот. Представьте себе, что кто-нибудь, незнакомый с нашей культурой, нашел бы портрет человека с седой бородой и усами, распиливающего бревно. Он подумал бы, что надпись означает «Человек, распиливающий бревно». И откуда ему знать, что на самом деле это «Вильгельм II в изгнании в Дорне?»
Сахико сняла лупу и зажгла сигарету.
— Я могу еще представить себе картинки, сделанные для разъяснения надписей, — сказала она, — такие, как в учебниках иностранных языков. Изображения в строчку и под ними слово или фраза.
— Ну, конечно, если мы найдем что-нибудь подобное… — начал Селим.
— Михаил Вентрис нашел что-то похожее в пятидесятых годах, — раздался вдруг голос полковника Пенроуза.
Марта обернулась. Полковник стоял у стола археологов. Капитан Фильд и пилот уже ушли.
— Он нашел множество греческих инвентарных описей военных складов, — продолжал Пенроуз. — Они были сделаны критским линейным письмом и сверху на каждом листке был маленький рисунок меча, шлема, треножника или колеса боевой колесницы. И эти изображения дали ему ключ к надписи.
— Полковник скоро превратится в археолога, — заметил Фитцджеральд. — Мы все здесь в экспедиции освоим разные специальности.
— Я слышал об этом еще задолго до того, как была задумана экспедиция. — Пенроуз постучал папиросой о свой золотой портсигар. — Я слышал об этом еще до Тридцатидневной войны в школе разведчиков. Речь шла об этом в связи с анализом шифра, а не с археологическими открытиями.
— Анализ шифра, — проворчал фон Олмхорст. — Чтение незнакомого вида шифра на знакомом языке. Списки Вентриса были на известном языке, на греческом. Ни он и никто другой никогда не прочитали бы ни слова по-критски, если бы не была найдена в 1963 году греко-критская двуязычная надпись. Ведь незнакомый древний текст может быть прочитан только при помощи двуязычной надписи, причем один язык должен быть известным. А у нас что? Разве у нас есть хоть что-нибудь подобное. Вот, Марта, вы бьетесь над этими марсианскими текстами с тех пор, как мы высадились, то есть уже целых шесть месяцев. И скажите мне, вы нашли хоть одно слово, смысл которого был бы вам ясен?
— Мне кажется, что одно я нашла. — Она старалась говорить спокойно. — Дома — это название одного из месяцев марсианского календаря.
— Где вы нашли это? — спросил фон Олмхорст. — И как вы это установили?
— Смотрите! — она взяла фотокопию и протянула ему через стол. — Мне кажется, что это титульный лист журнала.
Некоторое время он молча рассматривал снимок.
— Да, — наконец, произнес он, — мне тоже так кажется. У вас есть еще страницы этого журнала?
— Я как раз сижу над первой страницей первой статьи. Вот здесь выписаны слова. Я сейчас посмотрю. Да, вот все, что я нашла. Я собрала все листы и тут же отдала Джерри и Розите снять копию, но внимательно я проработала только первый лист.
Старик поднялся, отряхнул пепел с куртки и подошел к столу, за которым сидела Марта. Она положила титульный лист и стала просматривать остальные.
— Вот и вторая статья на восьмой странице, а вот еще одна, — она дошла до последней страницы.
— Не хватает в конце двух страниц последней статьи. Удивительно, что такая вещь, как журнал, может так долго сохраняться.
— Это кремниевое вещество, на котором писали марсиане, видимо, необычайно прочное, — сказал Хаберт Пенроуз.
— По-видимому, в его составе с самого начала не было жидкости, которая могла бы со временем испариться.
— Меня не удивляет, что материал пережил века. Мы ведь нашли уже огромное количество книг и документов в отличной сохранности. Только люди очень жизнеспособной и высокой культуры могли издавать такие журналы. Подумать только… Эта цивилизация умирала в течение сотен лет, прежде чем наступил конец. Очень может быть, что книгопечатание прекратилось уже за тысячелетие до окончательной гибели культуры.
— Знаете, где я нашла журнал? В стенном шкафу в подвале. Должно быть, его забросили туда, забыли или не заметили, когда все выносили из здания. Такие вещи часто случаются.
Пенроуз взял со стола заглавный лист и стал внимательно его изучать.
— Сомневаться в том, что это журнал, нет оснований. — Он снова поглядел на заглавие. Губы его беззвучно шевелились: — Мастхарнорвод Тадавас Сорнхульва. Очень интересно, что же все-таки это означает. Но вы правы относительно даты. Дома, кажется, действительно похоже на название месяца. Да, у вас есть уже целое, доктор Дейн!
Сид Чемберлен, заметив, что происходит что-то необычное, поднялся со своего места и подошел к столу.
Осмотрев листы «журнала», он начал шептать что-то в стенофон, который снял с пояса.
— Не пытайтесь раздувать это, Сид, — предупредила Марта. — Ведь название месяца — это все, что мы имеем, и бог знает, сколько времени понадобится для того, чтобы узнать хотя бы, что это за месяц.
— Да, но ведь это начало. Разве не так? — сказал Пенроуз. — Гротефенд[5] знал только одно слово «царь», когда начал читать древнеперсидскую клинопись.
— Но у меня ведь нет слова «месяц». Только название одного месяца. Всем были известны имена персидских царей задолго до Гротефенда.
— Это неважно, — сказал Чемберлен. — Людей там, на Земле, больше всего будет интересовать сам факт, что марсиане издавали журналы такие, как у нас. Всегда волнует то, что знакомо, близко. Это все делает марсиан реальнее, человечнее.
В комнату вошли трое. Они сразу же сняли маски, шлемы, кислородные коробки и начали освобождаться от своих стеганых комбинезонов. Двое из них были лейтенантами Космической службы, третий оказался моложавого вида штатским с коротко остриженными светлыми волосами, в клетчатой шерстяной рубашке. Это Тони Латтимер со своими помощниками.
— Уж не хотите ли вы мне сказать, что Марта, наконец, что-нибудь извлекла из всей этой ерунды? — спросил он, подходя к столу.
— Да, название одного из марсианских месяцев, — сказал Пенроуз и протянул ему фотокопию.
Тони едва взглянул на нее и бросил на стол.
— По звучанию вполне вероятно, но все же это не больше, чем гипотеза. Это слово может быть названием месяца с таким же успехом, как оно может означать «изданный» «авторизованный перевод» или еще что-нибудь в таком же роде. Сама мысль о том, что это периодический журнал, кажется мне дикой. — Тони всем своим видом показывал, что не хочет продолжать этот разговор. Затем он обратился к Пенроузу. — Я, наконец, выбрал здание, то высокое, с конусом наверху. Мне кажется, что оно внутри должно быть в хорошем состоянии.
Коническая верхушка не дает просачиваться пыли, а снаружи не видно никаких следов повреждения. Уровень поверхности там выше, чем в других местах: примерно на высоте седьмого этажа. Завтра мы пробьем там брешь, и, если вы сможете дать мне людей, мы сразу же приступим к обследованию.
— Какие могут быть сомнения, доктор Латтимер! — воскликнул полковник. — Я могу вам выделить около дюжины рабочих, кроме того, думаю, найдутся и еще желающие. А что вам нужно из оборудования?
— Около шести пакетов взрывчатки. Они все должны взорваться одновременно. Я нашел удобное место и просверлил отверстие для взрывателя. И, как обычно, фонари, кирки, лопаты и альпинистское снаряжение, если вдруг встретятся ненадежные лестницы. Мы разделимся на две группы. Никуда нельзя входить без опытного археолога. Следует даже создать три группы, если Марта сможет оторваться от составления систематического каталога своей ерунды, которым она уже давно занимается вместо настоящей работы.
Марта почувствовала, как что-то сдавило ей грудь. Она крепко сжала губы, готовясь дать волю вспышке накопившегося гнева, но Хаберт Пенроуз опередил ее.
— Доктор Дейн делает не меньшую и не менее важную работу, чем вы. Даже более важную, я бы сказал.
Фон Олмхорст был явно огорчен. Он бросил беглый взгляд на Сида Чемберлена и тут же отвел глаза. Он боялся, как бы разногласия среди археологов не получили широкой огласки.
— Разработка системы произношения, при помощи которой можно транслитерировать марсианские надписи, — огромный и важный вклад в дело науки, — сказал он. — И Марта эту работу сделала почти без посторонней помощи.
— И уж во всяком случае без помощи доктора Латтимера, — добавил полковник. — Кое-что сделали капитан Филд и лейтенант Коремитцу, я помогал немного, но все же девять десятых работы она сделала сама.
— Но все ее доказательства ни на чем не основаны, — пренебрежительно ответил Латтимер. — Мы ведь даже не знаем, могли ли марсиане произносить те же звуки, что и мы.
— Нет, это мы знаем, — раздался уверенный голос Айвна Фитцджеральда. — Я, правда, не видел черепов марсиан. Эти люди, кажется, очень заботились о том, как бы получше припрятать своих покойников. Но, насколько я могу судить по тем статуям, бюстам и изображениям, которые я видел, органы речи у них ничем не отличаются от наших.
— Ну хорошо, допустим, что все будет очень эффектно, когда имена славных марсиан, чьи статуи мы находим, прогремят на весь мир, а географические названия, если только нам удастся их прочитать, будут звучать изящнее, чем та латынь коновалов, которую древние астрономы разбросали по всей карте Марса, — сказал Латтимер. — Я возражаю против бессмысленной траты времени на эту ерунду, из которой никто, никогда не прочтет ни слова, даже если Марта провозится с этими списками до тех пор, пока новый стометровый слой лёсса не покроет город, в то время как у нас так много настоящей работы и не хватает рабочих рук.
Впервые Тони высказался так многословно. Марта была рада, что это все сказал Латтимер, а не Селим фон Олмхорст.
— Вы просто считаете, что моя работа не настолько сенсационна, как, например, открытие статуй? — отпарировала Марта.
Она сразу же увидела, что удар попал в цель. Быстро взглянув на Сида Чемберлена, Тони ответил:
— Я считаю, что вы пытаетесь открыть то, чего, как хорошо известно любому археологу, да и вам в частности, не существует. Я не возражаю против того, что вы рискуете своей профессиональной репутацией и выставляете себя на посмешище, но я не хочу, чтобы ошибки одного археолога дискредитировали всю нашу науку в глазах общественного мнения.
Именно это и волновало больше всего Латтимера. Марта готовилась ему возразить, когда раздался свисток и резкий механический голос в рупоре выкрикнул:
— Время коктейля. Час до обеда. Коктейли в библиотеке, здание номер четыре.
Библиотека, служившая одновременно местом всех собраний, была переполнена. Большинство людей разместилось за длинным столом, накрытым листами прозрачного, похожего на стекло пластиката, который сняли со стен в одном из полуразрушенных зданий.
Марта налила себе стакан здешнего мартини и подошла к Селиму, сидящему в одиночестве в конце стола. Они заговорили о здании, которое только что закончили обследовать, а затем, как всегда, вернулись к воспоминаниям о раскопках на Земле. Селим копал в Малой Азии царство хеттов,[6] а Марта в Пакистане — хараппскую культуру.
Они допили до конца мартини — смесь спирта и ароматических веществ, получаемых из марсианских овощей, — и Селим взял стаканы, чтобы наполнить их снова.
— Знаете, Марта, — сказал он, когда вернулся. — Тони в одном был прав. Вы ставите на карту свою научную репутацию и положение. Думать, что язык, который так давно мертв, может быть дешифрован, противоречит всем археологическим правилам. Между всеми древними языками было какое-то связующее звено. Зная греческий, Шампольон[7] мог прочесть египетские надписи, а при помощи египетских иероглифов изучен хеттский язык. Ни вы, ни ваши коллеги так и не смогли расшифровать иероглифы из Хараппы именно потому, что там не было преемственности. И если вы будете настаивать на том, что этот мертвый язык может быть изучен, это явно нанесет ущерб вашей репутации.
— Я слышала, как однажды полковник Пенроуз сказал, что офицер, который боится рисковать своей репутацией, вряд ли сохранит ее. Это вполне применимо и к нам. Если мы действительно хотим до чего-нибудь докопаться, приходится не бояться. Меня же гораздо больше интересует суть открытия, чем собственная репутация.
Она посмотрела туда, где рядом с Глорией Стэндиш сидел Тони Латтимер, что-то с жаром ей объяснявший. Глория медленно потягивала из стакана густую жидкость и внимательно его слушала. Она была основным претендентом на звание «Мисс Марс» 1996 года, если в моде будут пышногрудые, крупные блондинки. Что касается Тони, то его внимание к ней не ослабело бы, будь она даже похожей на злую колдунью из детской сказки. Причина заключалась в том, что Глория была комментатором федеральной Телевизионной системы при экспедиции.
— Да, я знаю, что это так, — сказал Селим, — и именно поэтому, когда меня просили назвать кандидатуру второго археолога, я назвал вас.
Кандидатура Тони Латтимера выдвинута университетом, в котором он работал. Очевидно, для этого было много всяких причин. Марта хотела бы знать всю историю дела. Она сама всегда стремилась быть в стороне от университетов с их путаной, сложной политикой. Ее раскопки финансировались обычно неакадемическими учреждениями, чаще всего музеями изобразительных искусств.
— У вас прекрасное положение, Марта, гораздо лучше, чем было у меня в ваши годы. Вы многого добились. И поэтому я всегда волнуюсь, когда вижу, как вы ставите все на карту из-за упорства, с которым пытаетесь доказать, что марсианские надписи можно прочесть. Но я не вижу, каким образом вы собираетесь это сделать.
Марта пожала плечами, допила остатки коктейля и закурила. Она вдруг почувствовала, что ей смертельно надоели разговоры о том, что она лишь смутно ощущала.
— Пока не знаю, как, но я сделаю это. Может быть, мне удастся найти что-нибудь вроде книжки с картинками, о которой говорила Сахико, детский учебник. Наверняка у них было что-то в этом роде. Ну, а если не книжку, то что-нибудь другое. Мы ведь здесь только шесть месяцев. Я могу ждать весь остаток жизни, если понадобиться, но когда-нибудь я все же найду разгадку.
— А я не могу так долго ждать, — сказал Селим. — Остаток моей жизни исчисляется всего несколькими годами, и когда «Скиапарелли» ляжет на орбиту, я вернусь на борту «Сирано» на Землю.
— Мне бы не хотелось, чтобы вы уезжали. Ведь перед нами целый неизведанный археологический мир. На самом деле, Селим.
— Да, все это так, — он допил коктейль к посмотрел на свою трубку, как бы раздумывая, стоит ли курить до обеда, затем положил ее в карман. — Да, целый неизведанный мир. Но я стар, и он уже не для меня. Я истратил жизнь на изучение хеттов. Я могу разговаривать на языке хеттов, хотя и не вполне уверен, что хеттский царь Нуватталис одобрил бы мое современное турецкое произношение. Но здесь мне нужно заново изучать химию, физику, технику, научиться проверять прочность стальных балок и разбираться в берилло-серебряных сплавах, пластических массах, кремниевых соединениях. Я куда увереннее чувствую себя в изучении культур, при которых ездили в колесницах, бились мечами и только начинали осваивать обработку железа. Марс — для молодых. А я лишь старый кавалерийский генерал, который уже не способен командовать танками и авиацией. У вас достаточно времени, чтобы как следует изучить Марс. А у меня его уже нет.
Марта подумала, что его репутация как главы хеттологической школы была вполне прочной и устойчивой. Но она тут же устыдилась своих мыслей. Ведь нельзя же ставить Селима на одну доску с Тони Латтимером.
— Я приехал сюда начать работы, — продолжал Селим. — Федеральное правительство считало, что это должно быть сделано опытной рукой. Теперь работы начаты, а уж продолжать их будете вы и Тони и те, кто прибудет на «Скиапарелли». Вы сами сказали, что это целый неизведанный мир. А ведь это лишь один город марсианской цивилизации. Не забывайте, что есть еще поздняя культура Нагорий и Строителей каналов. А сколько было еще рас, цивилизаций, империй вплоть до марсианского каменного века! — После некоторого колебания он добавил: — Вы даже не представляете, сколько вам предстоит узнать. И именно поэтому сейчас не время узкой специализации.
Все вышли из грузовика, разминая затекшие ноги. Перед ними было высокое здание, увенчанное странным конусом. Четыре фигурки, копошившиеся у стены, подошли к стоящему на дороге недалеко от здания джипу и сели в него. Машина медленно двинулась назад по дороге. Самая маленькая из четырех, Сахико, разматывала электрический кабель. Когда джип поравнялся с грузовиком, они вышли из машины. Сахико прикрепила свободный конец кабеля к электроатомной батарее. И тотчас же фонтан серого грязного дыма, смешанного с оранжевым песком, вырвался из стены здания. Через минуту последовал многоголосый гул взрыва. Марта, Тони Латтимер и майор Линдеманн взобрались на грузовик, который двинулся к зданию, оставив джип на дороге. Когда они подъехали ближе, то увидели, что в стене образовался довольно широкий пролом. Латтимер расположил взрывчатку в простенке между окнами. Оба окна были выбиты вместе со стеной и лежали в полной сохранности на земле.
Марта хорошо помнила, как они входили в самое первое здание. Один из офицеров Космической службы поднял с земли камень и бросил в окно, уверенный, что этого будет достаточно. Но камень отскочил обратно. Тогда он вытащил пистолет и выстрелил четыре раза подряд. Пули со свистом отскакивали, оставляя царапины. Кто-то пустил в ход скорострельное ружье. Здесь на Марсе все носили оружие, считая, что неизвестность полна опасностей. Однако и на этот раз пуля ударилась о стекловидную массу, не пробив ее. Пришлось прибегнуть к помощи кислородно-ацетиленового резака, и только через час стекло поддалось.
Тони пошел впереди, освещая дорогу фонарем. Они с трудом различали его измененный микрофоном голос.
— Я думал, мы пробили проход в коридор, а это комната. Осторожно. Пол почти на два фута понижается к двери. Здесь куча щебня от взрыва, — и он исчез в проломе. Остальные начали снимать с грузовика оборудование: лопаты, кирки, слеги, портативные фонари, аппараты, бумагу, альбомы для зарисовок, складную лестницу и даже альпинистские веревки, топоры и кошки. Хаберт Пенроуз нес на плече какой-то предмет, похожий на пулемет, который оказался электроатомным отбойным молотком. Марта выбрала для себя остроконечный альпинистский ледоруб, он мог одновременно служить и киркой, и лопатой, и палкой.
Стекла, в которые въелась тысячелетняя пыль, едва пропускали дневной свет. Луч, проникший через пробитую брешь, падал на пол светлым пятном. Кто-то из присутствующих поднял фонарь и осветил потолок. Огромная комната была совершенно пуста. Пыль толстым слоем лежала на полу и окрашивала в красный цвет некогда белые стены. Должно быть, здесь находилось большое учреждение, но не было никаких следов, указывающих на его назначение.
— Все начисто вывезено, до самого седьмого этажа, — воскликнул Латтимер.
— Ручаюсь, этажи на уровне улицы тоже полностью очищены.
— Их можно будет использовать под жилье и мастерские, сказал Линдеманн. — Плюс к тому, что у нас есть. Мы разместим здесь всех со «Скиапарелли».
— Вдоль этой стены, кажется, размещалась электрическая или электронная аппаратура, — заметил один из офицеров Космической службы. — Здесь десять, нет, даже двенадцать отверстий. — Он провел перчаткой по пыльной стене, затем потер подошвой пол, где были следы проводки.
Двустворчатая гладко отполированная дверь была наглухо закрыта. Селим Фон Олмхорст толкнул ее, но дверь не поддалась. Металлические части замка плотно сомкнулись с тех пор, как дверь закрыли в последний раз. Хаберт Пенроуз поставил наконечник молотка на стык между двумя половинками двери, прижал его коленом и повернул выключатель. Молоток затрещал, как пулемет. Створки слегка раздвинулись, затем дверь снова захлопнулась. Целое облако пыли вырвалось им навстречу.
История повторялась. Почти каждый раз им приходилось взламывать двери, и поэтому у них был некоторый опыт. Щель оказалась достаточно широкой. Они протащили фонари и инструменты и прошли из комнаты в коридор. Около половины дверей, выходивших в него, были распахнуты.
Над каждой дверью стоял номер и одно слово Дарнхульва.
Женщина-профессор естественной экологии из Государственного пенсильванского университета, которая добровольно вызвалась присоединиться к группе, осмотрев помещение, сказала:
— Знаете, я чувствую себя совсем как дома. У меня такое впечатление, что зто учебное заведение, какой-то колледж, а это аудитория. Смотрите! Слово над дверью, очевидно, означает предмет, который здесь изучался, или название факультета. А эти электронные приборы устроены так, чтобы слушатели могли их видеть. Это, должно быть, наглядные пособия.
— Университет в двадцать пять этажей?! — усмехнулся Тони Латтимер. — Ведь такое здание могло бы вместить около тридцати тысяч студентов.
— А может быть, и было столько. Ведь в дни расцвета это был большой город, — сказала Марта, движимая желанием возразить Латтимеру.
— Да, но представьте себе, что творилось в коридорах, когда студенты переходили из одной аудитории в другую. Не меньше получаса нужно, чтобы попасть с одного этажа на другой, — он повернулся в Селиму фон Олмхорсту.
— Я хочу посмотреть верхние этажи. Здесь все пусто. Есть надежда, что, может быть, мы что-нибудь найдем наверху.
— Я пока останусь здесь, — ответил Селим. — Здесь будут ходить и носить вещи, и поэтому мы должны прежде хорошенько все обследовать и описать. А потом уже ваши ребята, майор Линдеманн, могут там портить.
— Ну хорошо, если никто не возражает, я возьму нижние этажи, — сказала Марта:
— Я иду с вами, — тут же откликнулся Хаберт Пенроуз. — И если нижние этажи не представляют археологической ценности, я использую их под жилые помещения. Мне нравится это здание. Здесь всем хватит места. Можно будет, наконец, не болтаться под ногами друг у друга.
Он посмотрел вниз. Здесь где-то в центре должен быть эскалатор. На стенах и на полу в коридоре тоже лежал толстый слой пыли. Большая часть комнат была пустой. Только в четырех нашли мебель, в том числе и маленькие столики со скамьями, напоминающие наши парты. Все это подтверждало предположение, что они находились в Марсианском университете. Эскалаторы для подъема и спуска были обнаружены с двух сторон большого вестибюля, затем они нашли еще один в правом ответвлении коридора.
— Вот так они переправляли студентов с этажа на этаж, — сказала Марта. — И держу пари, что мы найдем еще не одну такую лестницу.
Коридор кончился. Перед ними был большой квадратный зал. Слева и справа помещались лифты и четыре эскалатора, которыми еще можно было пользоваться как лестницей. Но не эскалаторы заставили всех присутствующих застыть от изумления. Все стены зала снизу доверху были покрыты росписью. Рисунки, потемневшие от пыли и времени, были не очень отчетливы. Марта попыталась представить себе, как они выглядели первоначально. Требовалась большая работа, чтобы очистить все стены. Но все же можно было разобрать слово Дарнхульва, написанное золотыми буквами на каждой из четырех стен.
Марта не сразу даже осознала, что перед ней целое полнозначное марсианское слово. Вдоль стен по ходу часовой стрелки развертывалась грандиозная историческая панорама.
Несколько одетых в шкуры первобытных людей сидели на корточках вокруг костра; охотники, вооруженные луками и стрелами, тащили тушу какого-то похожего на свинью животного. Кочевники мчались верхом на стройных скакунах, напоминающих безрогих оленей. А дальше — крестьяне, сеющие и убирающие урожай, деревни с глинобитными домиками, изображения битв, сначала во времена мечей и стрел, а затем уже пушек и мушкетов; галеры и парусные суда, а затем корабли без видимых средств управления, авиация. Смена костюмов, орудий и архитектурных стилей. Богатые, плодородные земли, постепенно переходящие в голые, мертвые пустыни, и заросли кустарника, время Великой засухи, охватившей всю планету. Строители каналов при помощи орудий, в которых легко узнать паровую лопату и подъемный ворот, трудятся в каменоломнях, копают и осушают равнины, перерезанные акведуками. Большая часть городов — порты на берегах постепенно отступающих и мелеющих океанов: изображение какого-то покинутого города с четырьмя крошечными человекообразными фигурками и чем-то вроде военного орудия посреди заросшей кустарником площади. И люди и машина казались совсем маленькими на фоне огромных безжизненных зданий. У Марты не было ни малейших сомнений. Слово «Дарнхульва» означало «История».
— Удивительно! — повторял фон Олмхорст. — Вся история человечества. И если художник изобразил правильно костюмы, оружие и орудия каждого из периодов и правильно дал архитектуру, то мы можем разбить историю этой планеты на эры, периоды и цивилизации.
— Даже можно считать, что такое деление соответствует нашему. Во всяком случае название факультета этого университета — Дарнхульва — точно соответствует названию «историческое отделение», — сказала Марта.
— Да, «Дарнхульва» — история. А ваш журнал был журналом Сорнхулъва! — воскликнул Пенроуз. — У вас есть слово. Марта!
Марта не сразу осознала, что он впервые назвал ее по имени, а не «доктор Дейн».
— Мне кажется, что взятое отдельно слово хульва означает что-то вроде «наука», «знание», или «предмет», а в сочетании с другими словами оно эквивалентно нашему «логия». «Дарн» обозначает, очевидно, «прошлое», «старые времена», «события», «хроника».
— Это дает вам три слова, Марта, — поздравила ее Сахико. — И это ваше достижение.
— Но давайте не будем так далеко заходить, — сказал Латтимер, на сей раз без насмешки. — Я еще могу согласиться с тем, что «Дарнхульва» марсианское слово, обозначающее историю как предмет изучения. Я допускаю, что слово «хульва» — носитель общего значения, а первый элемент определяет его и дает ему конкретное содержание. Но связывать это слово со специфическим понятием, которое мы вкладываем в слово «история», нельзя, так как мы даже не знаем, существовало ли у марсиан научное мышление. — Он замолк, ослепленный голубовато-белыми вспышками «Клигетта» Сида Чемберлена. Когда прекратился треск аппарата, они услышали голос Чемберлена.
— Однако это грандиозно! Вся история Марса от каменного века и до самого конца — на четырех стенах! Я пока хочу заснять отдельные кадры, а затем мы все это покажем в телепередаче в замедленном темпе. И вы. Тони, будете комментировать по ходу действия, дадите истолкование сцен. Вы не возражаете?
Не возражает! Марта подумала, что если бы у него был хвост, то он бы завилял им при одной мысли об этом.
— Хорошо, друзья, но на других этажах еще, наверное, есть фрески, — сказала она. — Кто хочет пойти с нами вниз?
Первыми вызвались Сахико и Айвн Фитцджеральд. Сид решил пойти наверх с Тони Латтимером. Глория тоже выбрала верхний этаж. Было решено, что большинство останется на седьмом этаже, чтобы помочь Селиму фон Олмхорсту закончить работу.
Марта медленно начала спускаться вниз по эскалатору, предварительно проверяя прочность каждой ступеньки своим топориком.
На шестом этаже тоже была Дарнхульва — история военного дела и техники, судя по рисункам. Они осмотрели центральный зал и спустились на пятый этаж. Он ничем не отличался от шестого, только большой четырехугольный зал был весь заставлен пыльной мебелью и какими-то ящиками. Айвн Фитцджеральд неожиданно поднял фонарь. Росписи здесь изображали марсиан. По виду они почти ничем не отличались от жителей Земли. Каждый марсианин держал что-нибудь в руке — книгу, пробирку или деталь научной аппаратуры. Все они были изображены на фоне лабораторий и фабрик, столба пламени или вспышки молнии. Над рисунками стояло уже знакомое Марте слово Сорнхулъва.
— Марта, посмотрите на это слово! — воскликнул Айвн Фитцджеральд. — То же, что и в заглавии вашего журнала. — Он посмотрел на стену и добавил: — Химия или физика.
— Или и то и другое вместе, — предположил Хаберт Пенроуз. — Не думаю, чтобы марсиане так строго делили эти предметы. Смотрите! Этот старик с длинными усами, должно быть, изобретатель спектроскопа. Он его держит в руках, а над головой у него радуга. А женщина в голубом рядом с ним, наверное, что-то сделала в области органической химии. Видите над ней схемы молекулярных цепей? Какое слово передает одновременно идею химии и физики как единой дисциплины?
— Может быть, сорнхульва, — сказала Сахико. Если «хульва» значит «наука», то слово «сорн» должно означать «предмет», «вещество» или «физическое тело». Вы были правы. Марта. Цивилизованное общество непременно должно оставить после себя хоть что-нибудь, свидетельствующее о его научных достижениях.
— Да, это должно стереть презрительную усмешку с лица Тони Латтимера, — сказал Фитцджеральд, когда они спускались по неподвижному эскалатору на следующий этаж.
— Тони хочет стать крупной фигурой. А когда рассчитываешь на это, трудно примириться с мыслью, что кто-то может быть крупнее. Ученый, который первым начнет читать марсианские надписи, будет, без сомнения, самой крупной величиной в археологии нашего времени.
Фитцджеральд был прав. Марта сама не раз думала об этом, но последнее время она гнала от себя подобные мысли. Ей хотелось только одного — иметь возможность читать то, что писали марсиане, и узнать о них как можно больше.
Они спустились еще по двум эскалаторам и вышли в галерею, которая шла вокруг большого зала, расположенного на уровне улицы. В сорока футах под ними был пол. Они освещали внизу предмет за предметом — огромные скульптурные фигуры в центре, нечто вроде вагонетки с моторчиком, перевернутой, очевидно, для ремонта; какие-то предметы, напоминающие пулеметы и самострельные пушки; длинные столы, доверху заваленные пыльными деталями машин; коробки, клети для упаковки, ящики.
Они спустились и, с трудом пробираясь среди завала вещей, отыскали эскалатор, ведущий в подвальные помещения. Подвалов было три, один под другим. Наконец, они стояли у подножия последнего эскалатора на твердом полу, освещая портативными фонарями груды ящиков, стеклянных бочек, круглых металлических коробок, густо обсыпанных слоем порошкообразной пыли.
Ящики были из какой-то пластмассы. За все время работ экспедиции в городе им ни разу не попадались деревянные предметы. Бочки и большие круглые коробки были либо из металла, либо из стекла, вернее, из какой-то особой стекловидной массы. В этом же подвале они обнаружили несколько холодильников. При помощи топорика Марты и похожего на пистолет вибратора (его Сахико всегда носила на поясе) им удалось вскрыть дверь одной из комнат. Они нашли там гору окаменелостей, которые когда-то были овощами. Тут же на полках лежали превратившиеся в кожу куски мяса. По этим остаткам, переданным ракетой в лабораторию на корабль, ученые легко смогут определить радиокарбонным способом, сколько лет назад прекратилась жизнь этого здания.
Холодильная установка, совершенно отличная от всех холодильников, которые когда-либо производила наша культура, работала на электрической энергии. Сахико и Пенроуз обнаружили, что аппарат включен. Он перестал действовать только после того, как был поврежден источник энергии.
Центральным подвальным помещением, видимо, тоже пользовались как хранилищем. Оно было разделено пополам перегородкой с дверью в середине. Они полчаса возились с этой дверью, пытаясь открыть ее, и готовы были уже послать наверх за специальными инструментами, как дверь неожиданно приоткрылась. Они протиснулись внутрь помещения.
Фитцджеральд, шедший впереди с фонарем, вдруг остановился, оглядел комнату и издал какое-то восклицание. Они с трудом разобрали слова, неясно доносившиеся через микрофон.
— Нет! Не может быть!
— Что случилось, Айвн? — спросила обеспокоенная Сахико, входя за ним. Он отодвинулся, пропуская ее.
— Смотрите, что здесь, Сахико! Мы должны все это реставрировать!
Марта протиснулась в комнату вслед за подругой, посмотрела вокруг и застыла на месте. Голова кружилась от волнения. Книги. Шкафы с книгами. Они тянулись вдоль всех стен до самого потолка на высоту до пятнадцати футов. Фитцджеральд и Пенроуз вдруг сразу громко заговорили. Марта слышала их возбужденные голоса, но не понимала ни слова. Они, должно быть, попали в главное хранилище университетской библиотеки. Здесь собрана вся литература исчезнувших обитателей Марса. В центре между шкафами Марта заметила квадратный стол библиотекаря и рядом лестницу, ведущую наверх.
Марта вдруг поняла, что она движется вслед за всеми к этой лестнице. Сахико сказала:
— Я самая легкая. Пустите меня вперед. — Должно быть, она говорила о металлической винтовой лестнице.
— Я убежден, что она абсолютно надежна, — сказал Пенроуз. — То, что мы так долго возились с дверью — лучшее доказательство прочности металла.
В конце концов Сахико настояла на своем, и ее пустили вперед. Она осторожно, совсем по-кошачьи, поднималась по ступенькам, которые, несмотря на их кажущуюся хрупкость, оказались очень прочными. Все по очереди последовали за ней. Комната наверху была точной копией той, которую они только что осмотрели, и вмещала не меньшее количество книг. Они решили не взламывать дверь, чтобы не тратить зря времени, вернулись обратно и по эскалатору поднялись в первый этаж.
Здесь были кухни, судя по электрическим плитам, на которых еще стояли горшки и кастрюли. Рядом с кухонными помещениями располагался огромный зал, где, по всей вероятности, находилась студенческая столовая, впоследствии переделанная под мастерскую. Как они и ожидали, читальный зал был на уровне улицы, прямо над книгохранилищем. Он тоже превращен в жилую комнату последними обитателями здания. В соседних, примыкающих к залу аудиториях они нашли множество баков, колб и дистилляционных аппаратов. Здесь, очевидно, была химическая лаборатория или мастерская; металлическая перегонная труба проходила через отверстие, пробитое в потолке на высоте семидесяти футов. Повсюду стояла пластмассовая мебель, такая, какую они прежде находили в других зданиях. Часть ее поломана и приспособлена для каких-то новых целей. В остальных комнатах первого этажа тоже находились ремонтные и производственные мастерские. По всей вероятности, промышленное производство продолжало существовать еще долгое время после того, как университет перестал функционировать.
На втором этаже размещался музей. Выставленные экспонаты едва различались за запыленными мутными витринами. Здесь же, видимо, находились административные учреждения. Двери большинства комнат были закрыты. Они не пытались их открыть. Комнаты, которые были открыты, тоже переоборудованы под жилье. Сделав необходимые зарисовки и набросав предварительные планы, чтобы в будущем приступить к более детальному обследованию, они двинулись в обратный путь.
Был уже полдень, когда они добрались до седьмого этажа.
Селима фон Олмхорста они нашли в большой комнате в северной части здания, где он занимался зарисовкой и фиксацией расположения отдельных вещей перед их упаковкой. Он велел мелом разделить пол на квадраты и пронумеровать их.
— Мы все уже сфотографировали на этом этаже, — сказал он. — У меня три группы, по количеству фонарей. Они делают обмеры и зарисовки. Мы надеемся все закончить к четырем часам, но, конечно, без завтрака.
— Вы быстро управились. Очевидно, сказывается руководство опытного археолога, — заметил Пенроуз.
— Это же ребячество! — почти с раздражением ответил старый ученый. — Ваши офицеры не такие уж неучи. Все они были в школах разведчиков или в училище по Уголовным расследованиям. Самые дотошные из археологов-любителей, которых мне когда-либо доводилось знать, были в прошлом либо военными, либо полицейскими. Но здесь не так уж много работы. Большинство комнат пустые или вот как эта: здесь немного мебели, битая посуда, обрывки бумаги. А вы нашли что-нибудь на нижних этажах?
— О да, — сказал Пенроуз, — загадочно улыбаясь.
— А как по-вашему. Марта?
Она начала рассказывать Селиму об их открытии. Остальные, будучи не в состоянии сдержать свое возбуждение, то и дело прерывали ее рассказ, фон Олмхорст слушал ее в немом изумлении.
— Но ведь этот этаж был почти полностью разграблен, как и здания, которые мы видели раньше, — произнес он, наконец.
— Те, кто разграбил это здание, здесь и жили, — ответил Пенроуз. — Они до самого конца пользовались электроэнергией. Мы нашли рефрижераторы, набитые едой, и плиты с обедом. Они, видимо, на лифтах спускали все необходимое с верхних этажей. Весь первый этаж превращен ими в мастерские и лаборатории. Мне кажется, что здесь было что-то вроде монастыря, как в средние века в Европе, вернее, такими могли бы быть монастыри, если бы те, что известны нам по средневековью, появились в результате гибели высокоразвитой в научном отношении культуры. Мы нашли большое количество пулеметов и легких самострельных пушек на первом этаже. Все двери там забаррикадированы. Люди, которые здесь жили, очевидно, пытались сохранить цивилизацию уже после того, как остальная часть планеты впала в состояние дикости. Я думаю, что время от времени им приходилось отражать набеги варваров.
— Вы, надеюсь, не собираетесь превратить это здание в квартиры для экспедиции, полковник? — обеспокоенно спросил Селим фон Олмхорст.
— Нет, что вы. Это здание — настоящая археологическая сокровищница. И более. Судя по тому, что я видел, здесь много нового и интересного для наших ученых-техников. Но вы постарайтесь поскорее все здесь закончить. Тогда я велю продуть сжатым воздухом нижние помещения, начиная с седьмого этажа. Мы поставим кислородные генераторы и электроустановки и пустим пару лифтов. Верхние этажи мы будем продувать постепенно, этаж за этажом, при помощи портативных установок и когда создадим нужную атмосферу, все проветрим и прожжем, вы, Марта и Тони Латтимер сможете приступить к систематической работе уже в спокойной обстановке. Я вам буду помогать все свободное время. Ведь это, пожалуй, самое важное событие в жизни нашей экспедиции.
Вскоре на седьмом этаже появился и Тони Латтимер со своей группой.
— Мне не все здесь ясно, — сказал он, подойдя. — Это здание было опустошено каким-то особым образом, не так, как другие. Ведь казалось бы, что вещи всегда начинают выносить с первого этажа, а потом уже принимаются за верхние. А здесь все наоборот. Они начали с верхних этажей. Оттуда все вывезено, но самый верх не тронут. Кстати, теперь я выяснил, для чего наверху конус. Это ветряная турбина, а под ней электрогенератор. Здание питалось собственной электроэнергией.
— А в каком состоянии генераторы? — спросил Пенроуз.
— Как обычно, всюду полно пыли, которая, конечно, набилась и под турбину, но мне кажется, что сама турбина в исправности. У них была энергия, и они могли пользоваться лифтом для переброски людей и вещей вниз. Я уверен, что так все и было, но некоторые этажи они не тронули. Тони замолчал и, казалось, усмехнулся под своей кислородной маской.
— Не знаю, должен ли я говорить об этом в присутствии Марты, но двумя этажами ниже мы наткнулись на комнату, где, по-видимому, находился справочный отдел библиотеки одного из факультетов. Там около пятисот книг. — В ответ раздался звук, напоминающий крик попугая. Это смеялся под шлемом своего скафандра Айвн Фитцджеральд.
Завтракали наскоро в библиотеке. За столом все время слышались возбужденные голоса. Хаберт Пенроуз и несколько офицеров, быстро покончив с едой, занялись обсуждением плана дальнейших работ. Около пятидесяти участников экспедиции были временно освобождены от работы на своих участках и направлены в университет. К вечеру обследование седьмого этажа было закончено; сделаны все необходимые обмеры, снимки и зарисовки. Росписи в центральном зале были покрыты специальным защитным брезентом. После этого группа Лорента Джиквелла принялась за работу. Решили герметически закупорить центральный зал. Инженер, молодой француз из Канады, весь вечер только тем и занимался, что разыскивал и заделывал вентиляционные отверстия. Было обнаружено, что клеть лифта в северной части здания шла до двадцать пятого этажа. Второй лифт центрального зала вел вниз. Таким образом соединились все этажи. Никто не решался испробовать древний лифт. Только к вечеру на следующий день специально спущенная ракета доставила лифтовую кабину и все необходимое оборудование, изготовленное в мастерских на корабле. К этому времени закончили продувание комнат сжатым воздухом. Были установлены электроатомные трансформаторы и включены кислородные генераторы.
Как-то утром, двумя днями позже, Марта работала в нижнем подвале, когда дверь кабины лифта открылась и из нее вышли два офицера Космической службы, они принесли дополнительные фонари. Марта не сразу поняла, что на пришедших не было кислородных масок и один из них даже курил. Она сняла шлем и маску, отстегнула коробку и осторожно вздохнула. Воздух был прохладным; пахло чем-то заплесневелым. Запах древности — первый запах Марса, который она почувствовала. Она зажгла сигарету. Легкое пламя горело спокойно, но табак попал в горло и сильно жег его.
В этот вечер пришло много народу: археологи, штатские научные сотрудники экспедиции, несколько офицеров, Сид Чемберлен и Глория Стэндиш.
Они уселись в пустых комнатах на складных стульях, которые принесли с собой. Офицеры установили электрические плитки и холодильник в старом читальном зале и оборудовали стойку и столы для завтрака. В течение нескольких дней в древнем здании было людно и шумно, но постепенно офицеры Космической службы, а вскоре и все остальные вернулись к своей прерванной работе. Нужно было продуть сжатым воздухом те из обследованных раньше зданий, в которых можно разместить пятьсот членов новой экспедиции. Прибытие ее ожидалось через полтора года. Еще не были закончены работы по расширению посадочной площадки для ракетных кораблей и сооружению резервуаров для технического топлива. Решили очистить древние городские водохранилища до того, как новое весеннее таяние снегов принесет воды в подземные акведуки, которые неправильно на Земле называли каналами.
Древние строители каналов, должно быть, предвидели, что наступит время, когда их потомки уже не будут в состоянии вести работы по очистке наземных каналов, и заранее позаботились об этом. Университет был почти полностью обитаемым, когда Марта, Селим и Тони с помощью нескольких офицеров Космической службы — большей частью девушек — и четырех штатских закончили основные работы.
Они начали с нижних этажей. Разделив весь пол на квадраты, целыми днями делали записи, зарисовки, снимки. Все образцы органических пород отправлялись в лабораторию на корабль для радиокарбонного анализа и датировки. Они открывали банки, кувшины и бутылки и всегда сталкивались с одним и тем же явлением: содержащаяся в них жидкость испарялась сквозь пористые стенки сосудов, если не было других отверстий. Повсюду, куда бы они ни заглядывали, встречали следы сознательной деятельности, неожиданно оборвавшейся и уже никогда не возобновившейся: тиски с зажатым в них куском железа, наполовину перерезанным; горшки и сковородки с окаменелыми остатками пищи; тонкий лист железа на столе, а рядом, под руками — ножи, предметы туалета и умывальники, незастеленные кровати, на которых лежало постельное белье, рассыпавшееся от прикосновения, но все еще сохранявшее очертания тела спящего; бумага и письменные принадлежности на столах создавали впечатление, что писавший вот-вот войдет и продолжит работу, прерванную на пятьдесят тысяч лет.
Все эти вещи как-то странно действовали на Марту. Ей казалось, что марсиане никогда не умирали, что они ходят вокруг и незаметно следят за каждым ее шагом, с неодобрением смотрят на то, как она трогает оставленные ими вещи. Они являлись к ней во сне вместо своих загадочных надписей. Сначала все работающие в здании университета заняли по отдельной комнате. Все были рады избавиться от излишнего шума, всегда царившего в лагере. Но Марта была рада, когда к ней через несколько дней вечером заглянула Глория Стэндиш, которая, извинившись, сказала, что ей очень тоскливо оттого, что не с кем даже перекинуться словом перед сном. На следующий вечер к ним присоединилась Сахико Коремитцу, а затем зашла девушка-офицер, чтобы почистить и смазать перед сном свой пистолет.
Остальные тоже почувствовали одиночество. У Селима фон Олмхорста появилась манера быстро и неожиданно оборачиваться, как будто он хотел увидеть кого-то, стоящего сзади. Как-то раз Тони Латтимер взял стакан со стойки, в которую превратили конторку библиотекаря в читальном зале, залпом выпил его и выругался.
— Знаете, как называется этот пункт? — спросил он. — Это археологическая «Мария Целеста».[8] Это здание было обитаемо до самого конца, но какой был конец? Что с ними произошло? Куда они делись, черт возьми?!
— Я надеюсь, вы не ожидали, что они выстроятся на красном ковре и со знаменем в руках будут приветствовать нас криками: «Добро пожаловать, люди Земли»? — спросила Глория Стэндиш.
— Нет, конечно. Они умерли пятьдесят тысяч лет назад. Но если они были последними марсианами, почему мы не находим их тел? Кто похоронил их? — Он посмотрел на свой стакан из тонкого пористого стекла, взятый среди сотни таких же в шкафу наверху. Затем протянул руку к бутылке с коктейлем. — И все двери на уровне древней поверхности либо заколочены, либо забаррикадированы изнутри. Как же они выходили? И почему они ушли?
На следующий день за завтраком Сахико неожиданно нашла ответ на второй вопрос. Пять инженеров-электриков спустились с корабля на ракете, и Сахико провела с ними утро в верхнем этаже здания.
— Тони, я слышала, как вы утверждали, что генераторы были целыми, — начала она, бросив взгляд на Латтимера. — Вы ошиблись. Они в ужасном состоянии. И вот что произошло: подпорки ветряного двигателя подкосились, он рухнул и все там разрушил.
— Все могло случиться за пятьдесят тысяч лет, — ответил Латтимер. — Когда археолог говорит, что что-то в хорошей сохранности, это не обязательно означает, что остается только нажать кнопку — и все начнет действовать.
— Но вы не заметили, что катастрофа произошла, когда было включено электричество? — спросил один из инженеров, задетый высокомерным тоном Латтимера. — Там все сожжено, смещено и разорвано. Жаль, что мы не всегда находим вещи в хорошем состоянии даже с археологической точки зрения. Я видел на Марсе очень много интересных вещей, вещей, которые для нас дело будущего. Но все же понадобится не меньше двух лет, чтобы разобраться и восстановить в первоначальном виде все там, наверху.
— А не кажется ли вам, что кто-то уже пытался навести там порядок? — спросила Марта. Сахико покачала головой.
— Достаточно только взглянуть на турбину, чтобы отказаться от этой попытки. Я не верю, что там возможно хоть что-нибудь восстановить.
— Но теперь понятно, почему они ушли. Им нужно было электричество для освещения и отопления. Ведь все их производство работало на электричестве. Они могли жить здесь только при наличии энергии. Без нее это здание, конечно, не могло быть обитаемым.
— Да, но для чего они забаррикадировали двери изнутри? И как они выходили? — снова спросил Латтимер.
— Для того, чтобы кто-то не ворвался и не разграбил весь дом. А тот, очевидно, запер последнюю дверь и по веревке спустился вниз, — предположил Селим фон Олмхорст.
— Эта загадка меня как-то не очень волнует. Мы непременно что-нибудь обнаружим, что даст нам ответ на этот вопрос.
— Как раз тогда, когда Марта начнет читать по-марсиански, — усмехнулся Тони.
— Да, вот тогда мы и сможем все узнать, — серьезно ответил фон Олмхорст. — И я не удивлюсь, если окажется, что они оставили записи, когда покидали здание.
— Вы серьезно начинаете думать о ее бесплодных мечтах как о реальной возможности, Селим? — спросил Тони. — Я понимаю, что это чудесная вещь, но ведь чудеса не случаются только потому, что мы ждем их. Разрешите мне процитировать слова знаменитого хеттолога Иоганна Фридриха: «Ничто не может быть переведено из ничего» или не менее знаменитого, но жившего позже Селима фон Олмхорста: «Где вы собираетесь достать двуязычную надпись?».
— Да, но Фридрих дожил до того времени, когда был прочитан и дешифрован хеттский, — напомнил ему фон Олмхорст.
— И лишь после того, как была найдена хетто-ассирийская двуязычная надпись. — Латтимер всыпал в чашку кофе и добавил кипятку. — Марта, вы должны знать лучше, чем кто-нибудь другой, как мало у вас шансов. Вы несколько лет работали в долине Инда. А сколько слов из хараппы вы смогли прочесть?
— Но ни в Хараппе, ни в Мохенджо-Даро мы не находили университета с полумиллионной библиотекой.
— И в первый же день, когда мы вошли в здание, мы установили значение нескольких слов, — добавил Селим.
— Но с тех пор вы больше не нашли ни одного слова. Вы с уверенностью можете сказать, что знаете общее значение отдельных слов, но ведь у вас несколько различных интерпретаций для каждого элемента слова.
— Но это только начало, — не сдавался фон Олмхорст. — У нас есть первое слово, как слово «царь» у Гротефенда. Я собираюсь прочитать хотя бы часть этих книг, если даже мне придется посвятить этому весь остаток своей жизни. И скорее всего так оно и будет.
— Как я понимаю, вы отказались от мысли уехать на «Сирано»? — спросила Марта. — Вы остаетесь здесь?
Старик кивнул головой.
— Я не могу уехать. Впереди слишком много открытий. Старому псу придется выучить много новых хитрых вещей, но отныне моя работа здесь.
Латтимер был изумлен.
— Как, такой знаток, такой специалист, как вы! — воскликнул он. — Неужели вы хотите зачеркнуть все, чего достигли в хеттологии, и начать все снова здесь, на Марсе? Марта, если вы подбили его на это безумное решение, то вы просто преступница!
— Никто меня ни на что не подбивал, — резко сказал фон Олмхорст. — Не знаю, какого черта вы здесь говорите об отказе от всех достижений в хеттологии. Все, что я знаю об империи хеттов, было опубликовано и доступно каждому. Хеттологию постигла та же участь, что и египтологию: она перестала быть исследовательской, превратившись в кабинетную науку и чистую историю, а не археологию. Я же не кабинетный ученый и не историк. Я раскопщпк, полевой исследователь, высококвалифицированный и искусный гробокопатель. А на этой планете столько раскопочной работы, что не хватит и сотни жизней. Глупо было бы думать, что я могу повернуться спиной ко всему этому и продолжать царапать примечания к книгам о хеттских царях.
— Но как хеттолог, вы могли бы на Земле получить все, что вы хотите. Ведь десятки университетов скорее согласились бы иметь вас, чем прославленную победоносную футбольную команду. Но нет! Вам этого мало, вы должны быть главным действующим лицом и в марсологии тоже, вы, конечно, не можете упустить такую возможность! — Латтимер с грохотом отодвинул стул, резко поднялся и почти выбежал из-за стола.
Марта сидела, не смея поднять глаз на товарищей. У нее было такое чувство, что на них вылили ушат грязи. Тони Латтимер, конечно, мечтал, чтобы Селим уехал на «Сирано». Марсология новая наука. И если Селим войдет в нее с самого начала, он принесет с собой славу знаменитого ученого. Главная роль, которую Латтимер уготовил себе, механически перейдет Олмхорсту. Слова Айвна Фитцджеральда звучали в ушах Марты: «Тони хочет стать крупной фигурой, а когда ты рассчитываешь на это, трудно примириться с мыслью, что кто-то может быть крупнее». Теперь ей стало понятно презрительное отношение Латтимера к ее работе. Он не был убежден, что она никогда не сможет прочитать марсианской письменности. Напротив, он боялся, что она прочтет их в один прекрасный день.
Айвну Фитцджеральду, наконец, удалось выявить бактерию, которая вызвала заболевание девушки по имени Финчли. Он легко смог поставить диагноз. После тяжелой лихорадки больная начала медленно поправляться. Никто больше не заболел. Но Фитцджеральд так и не мог понять, откуда взялась бактерия.
В университете нашли глобус, сделанный, по-видимому, в то время, когда город был морским портом. Они установили, что город назывался Кукан или как-то иначе — словом, с тем же соотношением гласных и согласных.
Сразу же после этого открытия Сид Чемберлен и Глория Стэндиш начали давать телепередачи из Кукана, а Хаберт Пенроуз включил это название в свои официальные отчеты. Они нашли, кроме того, марсианский календарь. Год делился на более или менее равные месяцы, и один из них назывался Дома. Еще один месяц назывался Нор. Это слово входило в заглавие найденного Мартой научного журнала.
Зоолог Билл Чандлер все глубже и глубже забирался на морское дно Сиртиса. В четырехстах милях от Кукана и на пятнадцать тысяч футов ниже его уровня он подстрелил птицу, вернее, нечто, напоминающее нашу птицу. Она была с крыльями, но почти совсем без перьев. Это существо было скорее ползающим, чем летающим, если судить по общепринятой классификации. Билл с Фитцджеральдом очистили ее от редких перьев, сняли кожу, а затем расчленили туловище, отделяя мышцу за мышцей. Около трех четвертей тела занимали легкие. «Птица», несомненно, дышала воздухом, содержащим по крайней мере половину количества кислорода, необходимого для поддержания человеческой жизни, и раз в пять больше, чем его было в атмосфере вокруг Кукана.
Это открытие несколько ослабило интерес к археологии, но вызвало новый взрыв энтузиазма. Вся наличная авиация, состоящая из четырех геликоптеров и трех бескрылых разведывательных истребителей, была брошена на тщательное обследование бывшего глубокого морского дна.
«Биологическая» молодежь находилась все время в состоянии крайнего возбуждения и делала все новые и новые открытия во время каждого полета.
Университет был предоставлен археологам — Селиму, Марте и Тони. Последний совсем замкнулся и работал один. Научные сотрудники и военные из Космической службы, которые вначале помогали им, теперь совершали полеты на дно Сиртиса, чтобы выяснить, сколько там скопилось кислорода и какая жизнь там могла сохраниться.
Иногда заглядывала Сахико. Большую часть времени она помогала Фитцджеральду препарировать образцы. У них уже было пять или шесть экземпляров птиц и несколько рептилий. Еще раньше на дне Сиртиса Билл Чандлер нашел плотоядное млекопитающее с птичьими когтями размером с кошку. Самыми крупными образцами оказались животные, очень похожие на «кабана» со стенных росписей в большой Дарнхульве, и олень с рогом посреди лба, по виду близкий к газели.
Сенсацию вызвала находка одним из отрядов в морской впадине, лежащей на тридцать тысяч футов ниже Кукана, вполне пригодного для жизни человека воздуха. Все сняли маски. У одного из участников появились признаки легкой одышки, и его на руках с криками «ура» отнесли к врачу. Остальные же чувствовали себя превосходно. Теперь все заговорили о планете как о возможном месте обитания человечества. Но вскоре Тони Латтимер неожиданно вновь возродил интерес к прошлому Марса как среди членов экспедиции, так и у населения Земли.
Марта и Селим работали в музее на втором этаже, они стирали въевшуюся пыль со стеклянных ящиков, витрин, экспонатов и рельефных надписей. Тони обследовал так называемые административные помещения в другом крыле здания. Вдруг из мезонина ворвался в комнату молодой лейтенант и, почти задыхаясь от возбуждения, крикнул:
— Марта! Доктор Олмхорст! Где вы? Тони нашел марсиан.
Селим уронил в ведро тряпку, которую держал в руке. Марта опустила клещи на стеклянную витрину.
— Где? — спросили они разом.
— Там, в северной части. — Лейтенант уже пришел в себя и говорил спокойнее. — В маленькой комнате за «конференц-залом» дверь была заперта изнутри. Пришлось открывать ее резаком. Там и нашли. Восемнадцать человек. Все сидят вокруг круглого стола.
Глория Стэндиш, заглянувшая к ним во время второго завтрака, узнав новость, тотчас отправилась в галерею, где находился радиофон, и вскоре они услышали ее голос.
— …восемнадцать человек! Конечно, мертвые. Что за вопрос! Скелеты, обтянутые кожей. Нет. Я не знаю, отчего они умерли. Меня теперь совершенно не волнует, нашел ли Билл гиппопотама о трех головах. Сид? Как, вы еще не знаете? Мы нашли марсиан!
Она повесила трубку и бросилась вперед, Селим и Марта последовали за ней.
Марта хорошо помнила запертую дверь. При первоначальном осмотре здания они даже не сделали попытки открыть ее. Теперь дверь, обугленная с обеих сторон, лежала на полу в большом зале, фонарь стоял в задней комнате, освещая фигуры Латтимера и офицера Космической службы, стоящего у входа. Большую часть комнаты занимал стол, вокруг которого в креслах разместились восемнадцать мужчин и женщин — бессменных обитателей этой комнаты в течение пятидесяти тысячелетий. На столе стояли бутылки и стаканы. Если бы не яркий свет. Марта решила бы, что они просто задремали над своими бокалами. Один закинул ногу за ручку кресла и заснул вечным сном.
— Ну что вы на это скажете? — торжествующе воскликнул Токи Латтимер. — Налицо массовое самоубийство. Заметили, что там в углах?
Тони осветил фонарем жаровни, сделанные из двух металлических коробок с отверстиями. Белая стена над ними совсем почернела от дыма.
— Это уголь, Я видел его следы и раньше вокруг горна в мастерской на первом этаже. Они закрылись изнутри, поэтому мы с таким трудом взломали дверь. — Он прошелся по комнате и заглянул в вентилятор.
— Забит тряпками, как и следовало ожидать. Должно быть, это все люди, которые здесь оставались. У них не было сил бороться. Они чувствовали себя старыми и усталыми. Привычный мир вокруг них умирал. И они собрались здесь, зажгли жаровню и пили до тех пор, пока не заснули навсегда. Теперь мы хоть знаем, что с ними произошло.
Сид и Глория постарались сделать все для создания шумихи. Население Земли жаждало новостей о марсианах. Находка комнаты, наполненной древними покойниками, примирила их с отсутствием живых марсиан. В этом даже было преимущество, так как у всех на Земле еще жила в памяти паника, которую вызвало нашествие Орсона Веллиса шестьдесят лет назад.
Герой дня Тони Латтимер пожинал плоды своей предусмотрительной дружбы с Глорией. Он без конца выступал по телевидению, принимая передачи с Земли. За один день он стал самым знаменитым археологом в истории.
— Это мне нужно не для себя лично, — повторял он. — Это величайшее открытие для марсианской археологии. Нужно привлечь к нашему открытию интерес широкой общественности. Подать все в ярком свете. Селим, вы помните, в каком году лорд Кэрнарвон и Говард Картер нашли гробницу Тутанхамона?[9]
— Кажется, в двадцать третьем. Мне тогда было два года, — усмехнулся Селим. — Я как-то до сих пор не могу понять, что дало человечеству познание египтологии. Музей расщедрились и отвели больше места для выставки египетских вещей, а Музейное управление выделило несколько дополнительных витрин. Очевидно, некоторое время было легче и с финансированием раскопок. Но не знаю, принесет ли в конечном итоге пользу весь этот ажиотаж.
— Я все же думаю, что один из нас должен вернуться на Землю, когда «Скиапарелли» выйдет на орбиту, — сказал Латтимер. — Я надеялся, что это будете вы. К вашему голосу прислушиваются. Одному из нас просто необходимо вернуться, чтобы рассказать о нашей работе общественности, университетам, федеральному правительству. Их нужно ознакомить с нашими достижениями и дальнейшими планами. Нам предстоит огромная работа, и мы не можем допустить, чтобы другие отрасли науки и так называемые практические интересы лишили нас поддержки в общественных и научных кругах. Я считаю, что мне нужно хотя бы на некоторое время поехать и посмотреть, что я смогу предпринять.
Лекции, организация общества марсианской археологии во главе с Антони Латтимером, доктором философии, единственным кандидатом на пост президента, ученые степени, поклонение широкой публики, высокое положение с внушительными титулами и жалованьем. Словом, все удовольствия, которые приносит слава.
Марта потушила сигарету и поднялась с места.
— Я еще должна сверить последние списки вещей, найденных в Хальвнхульве, на биологическом факультете. Завтра я принимаюсь за Сорнхулъву, а до этого хочу привести в порядок все материалы, чтобы можно было заняться ими уже более детально.
Именно от этого и хотел уйти Тони Латтимер — от тщательной, кропотливой работы. Пусть пехота пробирается по грязи, а награды достанутся командованию.
Неделю спустя Марта, почти закончив работу на пятом этаже, завтракала в читальном зале. К ней подошел полковпик Пенроуз и спросил, чем она занимается.
— Я как раз думаю о том, сможете ли вы дать мне двух человек на часок, — ответила она. — Мне нужно открыть две двери в центральном зале. Там, судя по плану нижнего зтажа, находятся лекторий и библиотека.
— Могу предложить свои услуги. Я стал квалифицированным взломщиком, — он оглядел присутствующих. — Здесь Джеф Майлз. По-моему, он сейчас ничем особенно не занят. Для разнообразия не мешает потрудиться и Сиду Чемберлену. Надеюсь, вчетвером мы справимся с вашей дверью.
Он окликнул Чемберлена, который нес поднос к судомойке.
— Послушайте, Сид. Вы чем-нибудь заняты в ближайший час?
— Я собирался подняться на четвертый этаж и посмотреть, что там делает Тони.
— Бросьте! Тони выполнил свою норму по марсианам. Пойдемте лучше поможем Марте открыть пару дверей. Вполне вероятно, что мы найдем там целое марсианское кладбище.
Чемберлен пожал плечами.
— Ну что ж. Все равно у Тони ничего нового нет, а за этой заколоченной дверью кое-что может обнаружиться.
К ним подошел Джеф Майлз, капитан Космической службы в сопровождении лаборанта, который накануне спустился на ракете с корабля.
— Вам это должно быть интересно, Монт, — сказал он своему спутнику. — Химический и физический факультеты. Пойдемте с нами.
Лаборант Монт Грантер охотно согласился. Он специально спустился с корабля, чтобы своими глазами увидеть находки.
Марта допила кофе, докурила сигарету и вышла вместе со всеми в зал. Захватив необходимые инструменты, они сошли на пятый этаж.
Дверь, ведущая в лекторий, была у самого лифта. С нее они и начали. При помощи специальных инструментов через десять минут им удалось приоткрыть дверь и войти внутрь. Комната оказалась совсем пустой, и, как в большинстве помещений за закрытой дверью, в нее набилось сравнительно мало пыли. Студенты, очевидно, сидели спиной к двери, лицом к низкому помосту. Ни столов, ни кафедры преподавателя в комнате не было. Две стены были испещрены рисунками и надписями. На правой стороне были изображены какие-то концентрические круги. Марта сразу же узнала в них схемы строения атомов. На левой стенке они увидели сложную таблицу цифр и слов, расположенных в две колонки.
— Это же атом бора! — сказал Грантер, указывая на правую схему. — Впрочем, не совсем. Они знали об электронном заряде, но изображали ядро в виде однородной массы. Никаких указаний на протоны и нейтроны нет. Держу пари, Марта, что, когда вы будете переводить их научные труды, вы обнаружите, что они считали атом неделимой частицей. Вот где кроется объяснение того, что вы до сих пор не находили следов использования атомной энергии.
— Это атом урана, — заметил капитан Майлз. Сид Чемберлен так и подпрыгнул.
— Вы в этом уверены? — спросил он. — Они были знакомы с атомной энергией! Ведь тот факт, что мы не находили картинок с изображением взрывов водородной бомбы в виде грибов, еще ничего не доказывает!..
Марта внимательно рассматривала стены. Эта мгновенная реакция Сида на все события раздражала ее. Услышав слово «уран», он тут же решил, что здесь не обошлось без атомной энергии.
Пока Марта пыталась разобраться в расположении цифр и слов, она слышала, как Грантер сказал: «О да, Сид, вы крупный специалист. Но мы узнали о существовании урана задолго до того, как обнаружили его радиоактивные свойства. Уран был открыт на Земле в 1789 году Клапротом».
Таблица на левой стене показалась Марте знакомой. Она пыталась вызвать в памяти обрывки знаний по физике, вынесенных из школы. Вторая колонка была продолжением первой. В каждой было по сорок шесть пунктов. Следовательно, каждый пункт…
— Может быть, они нарисовали уран, потому что у него самый большой в природе атом, — сказал Пенроуз. — Судя по этой картинке, можно твердо сказать, что они не изобрели Transuranics.[10] Студент подходил к этой таблице и мог указать внешний электрон любого из девяноста двух элементов.
— Девяносто два! Так вот что это такое. В таблице на левой стене было девяносто два пункта. Водород стоял под номером один. Теперь она знала, что он назывался Сарфальдсорн. Гелий шел вторым. Это был Тирфальдсорн. Она не помнила, какой элемент по таблице был третьим. Но по-марсиански это был Сарфальдавас. Слово «сорн» могло означать «вещество», «материя», но… «давас». Она думала о том, что же может означать это слово. Вдруг она быстро обернулась и схватила за руку Хаберта Пенроуза.
— Посмотрите сюда, — сказала она взволнованно, — и скажите, что вы об этом думаете? Может это быть таблицей элементов Менделеева?
Все обернулись и посмотрели на стену. Через минуту Монт Грантер заявил:
— Да, но если бы я хоть что-нибудь мог понять в этих каракулях!
Он был прав. Ведь он все это время был на корабле.
— Если бы вы могли читать цифры, вам бы это помогло? — спросила его Марта и начала записывать в блокноте арабские цифры и их марсианские эквиваленты. — Это десятичная система, такая же, как у нас, — сказала она.
— Конечно, если это периодическая таблица элементов, то мне только нужны цифры. Большое спасибо, — добавил он, когда Марта вырвала листок и протянула ему.
Пенроуз знал цифры, и поэтому ему было легче разобраться в таблице.
— Девяносто два пункта. Первый номер, очевидно, порядковый, за ним стоит слово — название элемента, а затем атомный вес. Марта начала читать названия элементов. Я знаю водород и гелий, а что такое третий? Тирфалъдавас?
— Литий, — сказал Грантер.
— Водород — один с плюсом, если этот двойной крючок плюс. Гелий — четыре с плюсом. Это верно. А литий — семь, это не совсем точно. Его атомный вес шесть целых девяносто четыре сотых. А может быть, эта вот штучка марсианский значок для минуса?
— Вы правы. Смотрите! Плюс — крючок, чтобы вместе повесить предметы, а минус в виде ножа, чтобы что-то отрезать. Это, конечно, стилизация, но все же это минус. Четвертый элемент кирадавас. Что это?
— Берилий. Атомный вес — девятка и крючок. На самом деле это девять целых и две сотых.
Сид Чемберлен, который был явно разочарован тем, что ничего не получается из истории о применении марсианами атомной энергии, не сразу понял новое открытие, но, наконец, оно дошло до него.
— Как, вы читаете! — воскликнул он. — Вы читате по-марсиански!..
— Вы правы. Читаем прямо с листа, — сказал Пенроуз. — Я не могу разобрать двух слов после атомного веса. Они похожи на наши названия месяцев марсианского календаря. Что бы это могло означать, Монт?
Грантер задумался.
— После атомного веса должен стоять периодический номер, а затем номер группы. Но здесь ведь слова.
— А какие цифры для первого номера водорода?
— Период первый, группа первая. Один положительный заряд и один электрон внешней орбиты. Для гелия период первый. Он относится к группе нейтральных элементов.
— Трав, Трав, Трав — первый месяц года. Гелий — Трав и Иенф. А Иенф — восьмой месяц.
— Группа инертных элементов, очевидно, восьмая, третий элемент — литий. Это период первый, группа первая. Подходит?
— Вполне. Какой первый элемент в третьем периоде?
— Садий, номер одиннадцать.
— Правильно, это будет Крав, Крав. Ясно, что названия месяцев — порядковые числительные от одного до десяти, написанные словами. — Дома. — пятый месяц. Это ваше первое марсианское слово. Марта, — сказал ей Пенроуз, — что значит «пять». Если слово «давас» означает «металл», а «Сорнхульва» — «химия» и «физика», то держу пари, что Тадавас Сорнхульва буквально переводится «знание о металле», «металловедение», говоря другими словами. Я все думаю, что значит «Мастнарнорвод».
Марту удивило, что после стольких событий он так подробно помнит о ее работе.
— Что-нибудь вроде «журнал» или «обозрение», а может быть, «Ежегодник».
— Мы дойдем и до этого тоже, — сказала уверенно Марта. После сегодняшнего открытия ей казалось, что ничего нет невозможного. — Может быть, мы сможем найти. — Она остановилась. — Вы сказали: «Ежегодник». Я думала, что скорее это «Ежемесячник». Он ведь помечен определенным месяцем — пятым, и если «нор» — десять, то «Мастнарнорвод» может означать «Год-десятый». Я почти уверена, что Мастнар окажется словом «год». — Она снова посмотрела на таблицу на стене. — Ну хорошо. Теперь я могу записать эти слова и там, где можно, с переводом.
— Давайте устроим небольшой перерыв, — предложил Пенроуз, доставая сигареты, — и сделаем это как можно комфортабельнее. Джеф, сходите в соседнюю комнату и посмотрите, нет ли чего-нибудь вроде кафедры и скамеек.
Сид Чемберлен, пытаясь сдержать свои чувства, извивался, как будто на него напали муравьи. Наконец, он разразился довольно бессвязной речью.
— Вот это да! Это вам не резервуар и не животные. Это даже почище статуй и мертвых марсиан. Представляю, какую гримасу состроит Тони, когда увидит это. Вся Земля сойдет с ума после телепередачи. — Он повернулся к капитану Майлзу: — Джеф, будьте любезны, посмотрите, что там в комнате, а я пока скажу Селиму, Тони и Глории. Подождите, пусть они посмотрят.
— Не волнуйтесь, Сид, — предупредила его Марта. — Вы бы лучше дали нам просмотреть ваши записи, перед тем, как передавать их по телевидению на Землю. Ведь это только начало, и пройдут годы, прежде чем мы сможем читать книги.
— Это будет гораздо быстрее, чем вы думаете, Марта, — сказал ей Хаберт Пенроуз. — Мы все будем работать над этим. А телекопии материалов пошлем на Землю. Пускай ученые там потрудятся. Мы передадим им все, что сможем, все, что у нас есть: копии книг и ваши списки слов. Я убежден, что мы найдем еще таблицы по астрономии, физике, механике, в которых и слова будут эквивалентны нашим.
Марта была убеждена, что в библиотечных фондах, наверное, много таких вещей. Все их сейчас можно будет транслитерировать латинским шрифтом и арабскими цифрами. Первым делом надо поискать в библиотеке учебники по химии. По текстам, в которых встречаются названия элементов, можно будет установить значение новых слов. Ей самой придется заняться химией и физикой.
Сахико заглянула в комнату и остановилась в дверях.
— Могу я чем-нибудь помочь? — Заметив взволнованные лица, она спросила: — Что случилось? Что-нибудь интересное?
— Интересное! — взорвался Сид Чемберлен. — Посмотрите сюда, Саки! Мы читаем надписи. Марта открыла способ чтения марсианской письменности. — Он схватил капитана Майлза за руку. — Пошли, Джеф, я хочу позвать всех остальных. — Слышно было, как он не переставая трещал, когда они шли по коридору. Сахико поглядела на надпись.
— Это правда? — спросила она, и вдруг, прежде чем Марта успела открыть рот, бросилась к ней и крепко ее обняла. — Это правда! Я вижу, что правда! Вы читаете! Я так рада!
Марте пришлось объяснить все сначала, когда пришел Селим фон Олмхорст.
— Но, Марта, вы абсолютно уверены в этом? Вы хорошо знаете, что открытие способа дешифровки надписей для меня не менее важно, чем для вас. Но все же, где у вас уверенность, что эти слова означают водород, гелий, кислород? И откуда вы знаете, что их таблица элементов была такая же, как наша?
Грантер, Пенроуз и Сахико посмотрели на него с удивлением.
— Это не только марсианская таблица элементов. Никакой другой быть не может, — почти возмущенно ответил Монт Грантер. — Смотрите! У атома водорода один протон и один электрон. И если бы было больше, то это был бы не водород, а какой-то другой элемент. А водород на Марсе ничем не отличается от водорода Земли, альфы Центавра или даже другой Галактики.
— Только поставьте цифры в правильном порядке, и любой студент-первокурсник сможет сказать, какие элементы они обозначают, — сказал Пенроуз.
— Во всяком случае, он должен это знать, чтобы сдать зачет.
Старик покачал головой и улыбнулся.
— Я бы не сдал зачет. Я этого не знал или во всяком случае не сразу понял. Первое, что я сделаю: это попрошу прислать мне со «Скиапарелли» набор учебников по химии и физике, предназначенных для способного десятилетнего ребенка. Как оказалось, марсиологи должны знать множество вещей, о которых ни хеттологи, ни ассириологи никогда даже не слыхали.
Тони Латтимер пришел к концу рассказа Марты. Он поглядел на стены и, узнав, что произошло, подошел к Марте и пожал ей руку.
— Вы действительно добились своего, Марта. Вы нашли, наконец, свою двуязычную надпись. Я не верил, что это возможно. Разрешите мне вас поздравить.
Очевидно, он решил таким образом загладить все их прошлые расхождения. Он собирался домой, на Землю, где его ждала слава. Может быть, и это заставило его переменить свою тактику. Во всяком случае дружба Тони для Марты значила так же мало, как и его насмешки.
— Да, такую вещь мы можем показать миру, и это оправдает все затраты и времени и денег на археологические работы на Марсе. Когда я вернусь на Землю, я сделаю все от меня зависящее, чтобы этому достижению было отдано должное.
— Я думаю, нам не нужно так долго ждать, — сухо сказал Хаберт Пенроуз. — Завтра я посылаю официальный отчет, и уж можете быть уверены, что сполна будет отдана дань достижениям доктора Дейн, и не только этому открытию, но и всей ее прежней работе, которая сделала его возможным.
— И вы можете добавить, — сказал Селим фон Олмхорст, — что работа была сделана, невзирая на сомнения и даже неодобрительное отношение со стороны ее коллег, к которым, должен признаться к моему глубокому стыду, принадлежал и я.
— Вы говорили, что мы должны найти двуязычную надпись. В этом вы были правы.
— Но это лучше, чем двуязычная надпись, — вмешался в разговор Хаберт Пенроуз. — Археология до сих пор имела дело только с донаучными культурами, а физика — универсальный язык для всех мыслящих существ.
Перевод с англ. А. СтавискойМюррей Лейнстер ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТРЯД
I
Близкая луна прошла над головой. Она имела зазубренные края и неправильную форму. Очевидно, это был заселенный астероид. Хайдженс не раз его видел и поэтому даже не вышел посмотреть, как он пронесся по небу со скоростью воздушного экспресса, затемняя звезды на своем пути. Хайдженс корпел над какими-то бумагами. Для него это занятие не совсем обычное, так юридически он был преступником, и, следовательно, вся его работа на Лорене Втором тоже была преступлением. Странно как-то писать в комнате со стальными шторами в обществе огромного плешивого орла, дремавшего на трехдюймовом насесте, вделанном в стену. Единственного помощника Хайдженса после схватки с «ночным бродягой» корабль Кодиус Компани увез туда, откуда тайком приходили все эти корабли. И теперь он должен был работать за двоих. Хайдженс понимал, что он сейчас единственный человек в этой солнечной системе.
Внизу в загоне спали медведи. Ситка Пит тяжело поднялся и побрел к своей миске с водой. Он с жадностью стал глотать охлажденную воду, а затем вдруг громко чихнул. Проснулся Сурду Чарли и недовольно заворчал. Откуда-то снизу донеслись рычание и возня.
Хайдженс крикнул: «Потише там!» и снова углубился в работу. Он закончил отчет о климате и включил электронную машину. Пока она «считала», он просмотрел свои записи и определил количество оставшихся запасов. Затем снова принялся за отчет.
«Ситка Пит, — писал он, — по всей вероятности, разрешил проблему борьбы с отдельными экземплярами сфиксов, Он понял, что не имеет смысла душить их, так как когти не могут пробить даже верхний слой их шкуры. Сегодня Семпер оповестил нас, что стая сфиксов пронюхала дорогу на станцию. Ситка, спрятавшись с подветренной стороны, ожидал их прихода. Затем он сзади напал на сфикса и обрушил на его голову два страшных удара, сила которых была, вероятно, равна силе двух двадцатидюймовых снарядов, выпущенных одновременно с разных сторон. Такой удар расплющил череп сфикса, как яйцо, и он свалился замертво. Затем Ситка такими же мощными шлепками убил еще двух сфиксов. Сурду Чарли с ворчанием наблюдал за схваткой, но когда сфиксы набросились сзади на Ситку, он поспешил ему на выручку. Я не мог стрелять, так как боялся попасть в него, и ему бы пришлось совсем плохо, если бы из медвежьего загона на помощь не подоспела Фаро Нелл. Ее появление отвлекло внимание сфиксов и дало возможность Ситке еще раз применить свою новую технику. Поднявшись на задние лапы, он наносил свои ужасные удары. Битва закончилась быстро. Семпер все время кричал и летал над дерущимися, но, как обычно, к ним не присоединялся.
Примечание: Наджет, медвежонок, пытался ввязаться в драку, но мать пинками отогнала его. Сурду и Ситка, как всегда, не обращали на него никакого внимания. Я прихожу к выводу, что гены у медведей Кодиака очень устойчивы».
Снаружи доносились ночные звуки. Среди них можно было ясно различить голоса поющих ящериц, похожие на звуки органа, хихиканье «ночных бродяг», звуки, напоминающие удары молотка, вбивающего гвозди, и скрип дверей. Со всех сторон слышалось икание в разных тональностях. Его производили совсем крошечные существа, которые на Лорене Втором заменяли наших насекомых.
Хайдженс продолжал писать: «Ситка еще хорохорился после окончания битвы. Он хотел показать Сурду Чарли свой новый способ. Он поднимал головы раненых и мертвых сфиксов и с двух сторон лапами наносил удары. Медведи страшно рычали, когда тащили трупы к мусоросжигательной печи. И мне показалось, что…»
Вдруг раздался звонок прибытия. Хайдженс поднял голову и посмотрел на шкалу. Семпер приоткрыл ледяной глаз, взглянул на хозяина и снова закрыл его. Хайдженс прислушался. Снизу доносился спокойный глубокий храп. Кто-то пронзительно закричал в чаще. Икание, стук молотка и звуки органа…
Звонок зазвенел снова. Это означало, что какой-то корабль уловил сигнальный луч, о существовании которого могли знать только корабли Кодиус Компани, и теперь сообщал о том, что он приземляется. Но Хайдженс знал, что сейчас не должно быть никаких кораблей в этой солнечной системе.
Лорен Второй был единственной обитаемой планетой. Официально и эта планета считалась необитаемой из-за населявшей ее вредоносной фауны (имелись в виду, конечно, сфиксы). И поэтому колонизация запрещалась, а Кодиус Компани нарушила закон. Едва ли существовало более тяжкое преступление, чем самовольный захват новой планеты.
Звонок прозвенел в третий раз. Хайдженс громко выругался. Он протянул руку, чтобы выключить световой сигнал, но тут же подумал, что это бесполезно. Радиолокатор уже зафиксировал его расположение на карте. Корабль все равно сможет отыскать это место и спуститься днем.
— Дьявол! — выругался Хайдженс. Он не двигался и ждал, пока звонок не прозвонил еще раз. Корабль Кодиус Компани должен был дать двойной сигнал. Но вот уже много месяцев в этой части космоса не было ни одного корабля Кодиус Компани.
Звонок прозвучал один раз.
Мембрана космофона слабо осветилась, и вдруг голос, искаженный расстоянием, отчетливо произнес:
— Вызываю землю! Вызываю землю! Корабль Крит Лайна «Одиссей» вызывает землю на Лорене Втором. Спускается один пассажир в ракетной лодке. Включите полевые огни.
Хайдженс застыл от изумления. Он был бы рад приветствовать корабль Кодиус Компани. Корабль Колониальной Службы отнюдь не был бы для него желанным гостем. Люди с него наверняка уничтожили бы и колонию, и Ситку, и Сурду, и даже маленького Наджета, а Хайдженса привлекли бы к суду за незаконную колонизацию планеты. Но появление здесь на нелегально существующей станции корабля торговой компании просто ничем нельзя было объяснить.
Хайдженс включил огни на посадочной площадке. Он видел, как ярко осветилось поле. Затем он поднялся. Необходимо было принять все меры безопасности в связи с раскрытием его убежища. Он вложил свои записи в специальный сейф, затем достал документы и бумаги, свидетельствующие о том, что Кодиус Компани поддерживала станцию на Лорене Втором. Он захлопнул дверцу. Оставалось нажать кнопку, прикосновение к которой должно было превратить в пепел все содержимое сейфа, но он не решался это сделать. Если бы он твердо знал, что корабль принадлежал Колониальной Службе, то без колебания нажал бы кнопку и обрек себя на долгие годы тюремного заключения. Но корабль Крит Лайна, если космофон сказал правду, не был опасен для Хайдженса. Его появление в этой системе было просто невероятным. Он покачал головой, затем натянул на себя комбинезон, взял ружье, спустился вниз, где находился медвежий загон, и повернул выключатель. Звери, разбуженные ярким светом, удивленно смотрели на него. Ситка Пит сел и смешно замигал. Сурду Чарли лежал на спине, задрав кверху лапы, находя, что так спать значительно прохладней. Он с шумом перекувырнулся и засопел в знак дружеского расположения к Хайдженсу.
Фаро Нелл проковыляла к дверям своей отдельной клетушки, сделанной специально для того, чтобы Наджет не толкался под ногами и не раздражал взрослых медведей.
Хайдженс, единственный человек на этой планете, осматривал своих четвероногих земляков, свою основную рабочую и боевую силу. Все они были видоизмененными потомками Чемпиона Кодиака, в честь которого называлась компания. Ситка Пит, самый большой самец, весил двадцать две сотни фунтов, а Сурду Чарли почти столько же, Фаро Нелл, в которой удивительно сочетались страшная свирепость с материнской добротой, достигала восемнадцати сотен фунтов, а в маленьком резвом медвежонке Наджете, высунувшем любопытную морду из-за шерстистого бока матери, было уже не менее шестисот фунтов. Звери выжидающе смотрели на Хайдженса. Они хорошо знали, что означало, когда на плече у хозяина сидел Семпер.
— Пошли! Уже темно. Кто-то приземляется. Боюсь, как бы дело не обернулось худо.
Он снял запоры с наружной двери загона. Ситка Пит неуклюже проковылял через нее. Сурду вперевалочку последовал за ним. Все было спокойно. Ситка встал на задние лапы и потянул носом воздух. Сурду, переваливаясь с боку на бок, подошел к нему и тоже стал нюхать воздух. Последней появилась Фаро Нелл. Она зарычала на Наджета, вертевшегося около нее. Хайдженс стоял в дверях, держа наготове ночное ружье. Он чувствовал себя неловко из-за того, что отправил вперед медведей. Им нужно было пройти через две чащи, а уже наступила ночь. Звери прекрасно чуяли опасность, но человек не обладал их обонянием и зоркостью.
Фонари, зажженные на широкой тропинке, ведущей к посадочному полю, освещали каким-то таинственным светом все вокруг — огромные сплетенные арки гигантских папоротников, стройные колонны деревьев над ними, причудливые стрельчатые кусты. Осветительные лампы, установленные на уровне земли, подсвечивали лес снизу. Листва четко выделялась на фоне черного неба. Повсюду были поразительные контрасты света и тени.
— Вперед! — скомандовал Хайдженс, махнув рукой. — Хоп!
Он с силой захлопнул дверь загона, и процессия двинулась к посадочному полю через полосу освещенного леса. Два гигантских Кодиака ковыляли впереди. Ситка опустился на четвереньки и крадучись шел по дорожке. За ним следом, переваливаясь из стороны в сторону, брел Сурду Чарли. Хайдженс шел за ними, настороженно вслушиваясь в темноту, Фаро Нелл с Наджетом замыкали шествие.
Они составляли великолепный боевой отряд, хорошо приспособленный для передвижения по этой полной опасности дикой чаще. Ситка и Чарли всегда были в авангарде. Фаро Нелл защищала тыл. Наджет шел за ней. О нем нужно все время заботиться и охранять от возможного нападения сзади, и поэтому мать была всегда начеку. Хайдженс был главной ударной силой. Взрывные пули могли поражать даже сфиксов, а светящийся конус фонаря на его ружье, который включался, как только он дотрагивался до спускового крючка, хорошо освещал цель. Ружье его совсем не похоже на обычное охотничье оружие. Но обитатели Лорена Второго тоже ничем не напоминали обыкновенных зверей. «Ночные бродяги» боялись света. Они могли напасть только в состоянии истерии, которое вызывалось у них слишком ярким освещением.
Хайдженс быстро шел к посадочной площадке. Он был разъярен. Станция Кодиус Компани на Лорене Втором существовала совершенно секретно. Имелись серьезные причины, побудившие компанию создать ее, но сделано все было тайно. По металлическому голосу в космофоне нельзя было определить реакцию пассажира корабля на нелегальное положение станции. Во всяком случае, если корабль приземлится, Хайдженс успеет вернуться и уничтожить сейф, чтобы спасти тех, кто прислал его сюда.
Пробираясь сквозь фантастически освещенную чащу, Хайдженс слышал отдаленный грубый рев посадочной ракетной лодки. Ясно было, что это не рокот моторов корабля. По мере того как они приближались к ракетодрому, рев становился громче. Два огромных Кодиака, тщательно нюхая воздух, двигались впереди.
Отряд подошел к краю посадочного поля. Оно было все залито слепящим светом. Мощные лучи косо направлены вверх, так, чтобы приборы корабля могли легко установить место посадки. Такие посадочные площадки были когда-то стандартом. Теперь же на всех освоенных планетах их сменили посадочные решетки, мощные сооружения, которые с необычайной легкостью и осторожностью поднимали и спускали звездолеты.
Площадки еще можно было встретить либо на планетах, где велись исследовательские работы, чаще всего по бактериологии или экологии, либо в заново основанных колониях, еще не успевших построить типовой ракетодром.
Когда Хайдженс дошел до края поля, ночные обитатели уже успели слететься на свет, как мошкара на Земле. Воздух был затемнен бешено крутящимися существами. Их было бесчисленное множество всевозможного типа и размера; от белых маленьких ночных мошек и многокрылых летающих червей до непрерывно вращающихся, довольно больших голых тварей, которые могли бы сойти за ощипанных летающих обезьян. Все они жужжали, плясали и описывали в воздухе сумасшедшие круги, издавали какие-то особенные свистящие звуки. Их было так много, что они почти образовали потолок над расчищенной площадкой и затемняли небо. Взглянув наверх, Хайдженс сквозь завесу из крыльев и тел сразу увидел голубовато-белое пламя ракетобота.
Пламя росло на глазах. Один раз оно отклонилось в сторону. Пилот, должно быть, отрегулировал направление, а затем ракета вновь вернулась в нормальное положение. Светящаяся точка сначала увеличилась до размеров большой звезды, затем очень яркой луны и, наконец, превратилась в безжалостно слепящий шар. Хайдженс отвернулся. Тяжелый неуклюжий Ситка Пит благоразумно последовал примеру хозяина и стал смотреть на темную чащу. Сурду, казалось, не замечал все усиливающегося глухого рева ракеты. Он все время осторожно нюхал воздух. Фаро Нелл, прижав голову Наджета огромной лапой, старательно вылизывала его перед приходом гостей. Наджет дергался, как капризный ребенок. Рев перешел в чудовищные громовые раскаты. С посадочной площадки потянуло горячим ветром. Ракетная лодка метнулась вниз, и ее пламя спалило стену летающих существ. Затем все покрылось облаком пыли. Середина поля ярко вспыхнула, и что-то быстро скользнуло в огонь, примяло его и осело в нем. Пламя сразу исчезло, и Хайдженс увидел ракетобот. Он покоился на хвосте, устремив нос к звездам, с которых спустился.
После бури вдруг наступила мертвая тишина. И постепенно стали появляться ночные звуки — пение органа и робкое, похожее на икоту всхлипывание. Звуки становились все отчетливее, и вдруг Хайдженс стал слышать нормально. Боковая дверца в корпусе лодки с лязгом открылась, и оттуда выбросили какой-то предмет. Он стал быстро разворачиваться. Это был металлический трап, который перекинули через выжженную пламенем площадку, где стояла лодка.
Из дверцы вышел человек. Он повернулся лицом к кабине и обменялся с кем-то рукопожатием. Спустившись по лесенке к металлическому трапу, человек прошел над дымящимся; полем, В руках его был небольшой саквояж. Дойдя до конца дорожки, он ловко спрыгнул на землю и быстро направился к краю расчищенной посадочной площадки, затем махнул рукой кому-то в лодке. Металлическая дорожка тут же поднялась и исчезла в корпусе ракетобота. Из-под хвостового оперения вырвалось пламя и за ним столбы удушливой пыли. Вскоре снова яркая вспышка. Ее сопровождал невыносимый шум. Пламя стало быстро подниматься сквозь дымовую завесу. Когда, наконец, к Хай-дженсу вернулся слух, он только услышал приглушенное бормотание. Маленькая светящаяся точка в небе уходила все дальше и дальше на восток, где ее ждал корабль.
Из чащи снова донеслись ночные звуки. Жизнь на Лорене Втором протекала независимо от дел людей. Над дымящейся площадкой ярко освещенного поля стоял маленький подвижный человек с саквояжем в руках и удивленно оглядывал все вокруг. Как только огонь стал затихать, Хайдженс направился к нему. Сурду и Ситка шли впереди. Фаро Нелл как преданный пес плелась за хозяином, не спуская заботливого материнского ока со своего детища.
Человек на площадке испуганно смотрел на этот парад. Не очень было приятно спуститься ночью на незнакомую планету и, утратив последнюю связь с остальным космосом после отлета корабля, очутиться лицом к лицу с семейством гигантских медведей. Одинокая фигура человека в такой компании казалась нереальной.
Прибывший растерянно смотрел на приближающийся отряд. Когда большие медведи подошли к нему, он испуганно отшатнулся.
— Привет! Не бойтесь медведей. Это друзья, — крикнул Хайдженс.
Ситка подошел к приезжему и осторожно обнюхал его, Запах был вполне удовлетворительный, запах человека. Затем он грузно опустился прямо в грязь, не спуская дружелюбного взгляда с незнакомца. Сурду усиленно обнюхивал край площадки. Подошел Хайдженс. Он сразу заметил, что на прибывшем форма офицера Колониальной Службы. По знакам отличия было видно, что он в высоких чинах. Все это не предвещало ничего хорошего.
— Да, — произнес незнакомец, — а где же ваши роботы? Какого черта они там делают? И почему вы перенесли станцию? Меня зовут Рон. Я Прибыл сюда, чтобы составить отчет о вашей колонии.
Хайдженс удивленно спросил:
— О какой колонии?
Рон начал раздражаться.
— Робот-Пункт на Лорене Втором. И не пытайтесь доказывать, что идиот водитель высадил меня не на той планете. Это ведь Лорен Второй? А это посадочное поле? Но где же ваши роботы? Вы должны были уже начать возведение решетки. Что здесь произошло и на кой дьявол здесь эти звери?
Хайдженс усмехнулся.
— Здесь, — сказал он вежливо, — нелегальное, незаконное поселение и, следовательно, я преступник, а эти звери мои сообщники. Если вы не хотите, то можете не иметь дел с преступниками, но я не ручаюсь, что вы доживете до утра, если не воспользуетесь моим гостеприимством. А я тем временем обдумаю, что мне делать с вами дальше. Честно говоря, у меня есть все основания убить вас.
Фаро Нелл стала на задние лапы рядом с Хайдженсом. Наджет заметил нового человека. Он был еще ребенок и поэтому был настроен весьма дружески. Мелкими шажками он стал приближаться к гостю, застенчиво ворча, и вдруг чихнул от смущения. Мать одним прыжком очутилась рядом и шлепнула его. Наджет отчаянно завизжал. Визг маленького Кодиака весом в шестьсот фунтов звучал внушительно. Рон переступил через низкую ограду площадки.
— Я думаю, — сказал он нерешительно, — что лучше всего было бы переговорить нам обо всем. Но если это нелегальная колония, то вы арестованы, и все, что бы вы ни говорили, обернется против вас.
Хайдженс снова ухмыльнулся.
— Вы правы, — сказал он. — Но теперь вы должны держаться близко от меня, и только так мы сможем вернуться на станцию. Я было поручил Сурду тащить ваш чемодан. Он любит таскать вещи, но боюсь, что ему могут понадобиться зубы. Нам идти почти милю.
Он повернулся к медведям:
— Ну пошли. На станцию! Хоп! Ситка Пит ворча поднялся и занял свое обычное место впереди. За ним нехотя последовал Сурду.
Хайдженс и Рон шли рядом перед Фаро Нелл и Наджетом. Только так можно было на Лорене Втором свободно пробираться по лесу в полумиле от укрепленного жилища. На пути они столкнулись с «ночным бродягой», которого яркий свет привел в состояние истерии. Он с безумным сме-хом стремительно несся через чащу. Ударом лапы Сурду свалил его на землю в десяти ярдах от Хайдженса. Наджет ощерился при виде мертвого зверя. Он даже сделал вид, что собирается напасть, но мать отогнала его.
II
Снизу раздалось умиротворенное ворчание. Звери долго возились и, наконец, успокоились. Свет на посадочном поле погас. Исчезла сразу же яркая освещенная полоса. Хайдженс ввел гостя с ракетной лодки в жилую комнату. Послышался шелест крыльев. Орел поднял голову из-под крыла и холодно посмотрел на людей.
— Это Семпер, — сказал Хайдженс. — Семпер Тираннис. Он тоже житель Земли. Но он не ночная птица и поэтому не вылетел вас приветствовать.
Рон испуганно смотрел на огромную птицу, сидящую на вделанном в стену насесте.
— Орел? — спросил он. — То медведи, видоизмененные, если вам верить, но все же медведи, а теперь орел. Да, ваши медведи неплохой боевой отряд.
— Они еще и вьючные животные, — сказал Хайдженс. — Они могут тащить на себе до сотни фунтов и при этом не терять своих боевых качеств. И их питание не проблема. Они кормятся в чаще. Не сфиксами, конечно. Сфикса есть невозможно.
Он достал бутылку и стаканы и пригласил Рона к столу. Рон поставил на пол свой саквояж и взял стакан.
— Интересно, — спросил он, — почему Семпер Тираннис? Я еще могу понять такие имена, как Ситка Пит или Сурду Чарли. Очевидно, они названы в честь родных мест их предков. Но откуда Семпер?
— Его обучали для соколиной охоты, — ответил Хайдженс. — Ведь науськивают же на что-то собак, так и науськивают Семпера Тираннис. Он слишком велик для того, чтобы ездить на руке, а плечи моего комбинезона вполне ее заменяют. Он летающий разведчик. Я научил его извещать нас о приближении сфиксов. Во время полета он несет крошечный телевизионный аппарат. Пользы от него много, но все же ему далеко до медведей.
Рон сел и отпил из стакана.
— Любопытно… очень любопытно. Значит, это нелегальное поселение. А я инспектор Колониальной Службы. Мое дело составить отчет о ходе работ согласно плану, но тем не менее я должен вас арестовать. Вы, кажется, говорили о том, что собираетесь застрелить меня?
Хайдженс сказал упрямо:
— Я пытаюсь найти какой-нибудь выход. Я попал в скверную историю, если учесть еще наказание, угрожающее мне за незаконную колонизацию. Самое логичное было бы убить вас.
— Понимаю, — проговорил медленно Рон. — Но если уж речь идет об этом, то дуло моего взрывателя направлено из кармана прямо на вас.
Хайдженс пожал плечами.
— Вполне вероятно, что мои сообщники вернутся сюда до ваших друзей. И боюсь, что вы окажетесь в незавидном положении, если они придут и застанут вас сидящим верхом на моем трупе.
Рон кивнул головой.
— Это тоже правда. Очень может быть, что ваши земляки не обрадуются мне. А вы, как я вижу, не из тех, кто теряется, даже когда на вас направлен взрыватель. Но с другой стороны, вы легко могли меня убить, когда ушел ракетобот. Я тогда ни о чем не подозревал. Но мне кажется, что это не входит в ваши намерения.
Хайдженс снова пожал плечами.
— Знаете, — сказал Рон, — часто секрет хороших отношений между людьми кроется в том, что откладываются ссоры. Давайте отложим обсуждение вопроса кто кого убьет. Говорю вам честно, я собираюсь при первой же возможности отправить вас в тюрьму. Незаконная колонизация дело плохое. Но вы, как я понимаю, тоже собираетесь что-то предпринять в отношении меня. На вашем месте я, очевидно, поступил бы так же. А сейчас я предлагаю заключить перемирие.
Хайдженс молчал.
— Тогда беру это на себя, — сказал раздраженно Рон. — Итак… — Он вытащил руку из кармана и положил на стол карманный взрыватель. Затем с вызовом посмотрел на Хайдженса.
— Держите его при себе, — сказал Хайдженс. — Лорен Второй не место, где вы можете жить без оружия. — Он повернулся к шкафу и спросил.
— Хотите есть?
— Я бы съел что-нибудь.
Хайдженс вынул из стенного шкафа два пакета и вложил их в электроплиту. Затем достал тарелки.
— Но все-таки, что же произошло с законной колонией? — спросил Рон. — Разрешение на колонизацию было дано восемнадцать месяцев назад. Здесь высадили колонистов со всем необходимым оборудованием и запасами продовольствия. С тех пор на Лорене было четыре корабля. Здесь должно быть несколько тысяч управляемых людьми роботов к прилету основной части колонистов. Они должны были очистить и занять сотни квадратных миль и построить посадочную решетку, а я не видел даже сигнального маяка, указывающего место посадки. С высоты не видно вырубленных участков. Корабль Крит Лайна находился на орбите целых три дня в поисках места, куда бы спустить меня. Представляете, в каком бешенстве был пилот! Ваш сигнальный луч — единственный на этой планете, и то мы совершенно случайно его заметили. Что же произошло?
Хайдженс молча готовил ужин. Он сухо ответил:
— На этой планете могут быть сотни колоний и ничего не знать о существовании друг друга. Можно только догадываться о том, что случилось с роботами. Подозреваю, что они столкнулись со сфиксами.
Рон застыл с вилкой в руках.
— Я много читал об этой планете, когда готовился к докладу. Сфиксы — это представители местной фауны, очень свирепые, холоднокровные плотоядные с особыми генами, не такими, как у нашей ящерицы. Охотятся стаями, Вес взрослого экземпляра от семи до восьми сотен фунтов. Очень многочисленны и смертельно опасны. И именно поэтому людям ни разу не было дано разрешение на заселение этой планеты. Здесь могут жить только роботы, так как они машины. А какое животное станет нападать на машину?
Хайдженс спросил его:
— А какие машины могут напасть на животных? Сфиксы, разумеется, не станут беспокоить роботов, но разве роботы могут побеспокоить сфиксов?
Рон прожевал и проглотил кусок.
— Я согласен с вами, что нельзя сделать охотящегося робота. Машина может различать, но решать она не может. Вот поэтому нам никогда не угрожает опасность, что роботы могут взбунтоваться. Они не способны на действия без предварительных указаний. Но эта колония была запланирована с полным учетом возможностей роботов. Когда участок очистили, его обнесли электрическим забором, который зажарил бы любого сфикса, если бы тот попытался перелезть через него.
Хайдженс молча резал мясо. После небольшой паузы он сказал:
— Высадка колонистов происходила зимой. Думаю, это было именно так, судя по тому, что колония некоторое время еще продержалась. И ручаюсь, что последний корабль был здесь до весеннего таяния снегов. Год здесь длится восемнадцать месяцев, вы это знаете.
Рон ответил:
— Да. Высадка была зимой. А последний звездолет опустился до наступления весны. Идея состояла в том, чтобы пустить рудники, очистить поля и обнести все электрической изгородью до возвращения сфиксов из тропиков. Как я понимаю, они там зимуют?
— А вы видели когда-нибудь сфиксов? — спросил Хайдженс, но тут же добавил: — Нет вы, конечно, не могли их видеть. Если взять ядовитую кобру, скрестить ее с дикой кошкой, выкрасить в рыжий и синий цвета и еще наделить ее водобоязнью и маниакальной жаждой убийства, то вы получите сфикса, но сфикса как индивида. Гораздо более страшная вещь стая сфиксов. Кстати, они прекрасно лазают по деревьям, никакой забор их не остановит.
— А электрическая изгородь! — возразил Рон. — Через нее никто не может перелезть.
— Ни одно животное. Но сфиксы это особая категория. Запах мертвого сфикса заставляет целое стадо бегать с налитыми кровью глазами в поисках его убийцы.
Оставьте труп сфикса на шесть часов, и вокруг него соберутся десятки его сородичей. А если вы оставите его на два дня, то их будут сотни. Они начнут выть над трупом, а потом будут рыскать вокруг.
Хайдженс некоторое время молча ел, а затем продолжал:
— И поэтому можно себе представить, что произошло с колонией. За зиму роботы очистили участок для лагеря и сделали электрический забор. Затем настала весна и вернулись сфиксы. Вдобавок ко всем своим качествам они чертовски любопытны. Сомнительно, чтобы сфикс мог пройти мимо забора и не влезть на него для того, чтобы поглядеть, что за ним делается. Его убило током. Запах трупа привлек других сфиксов, разъяренных смертью собрата. Некоторые из них, конечно, попытались влезть на изгородь и погибли. И снова на запах мертвечины сбежались новые сфиксы, и в конце концов забор рухнул под тяжестью висящих на нем тел, а может быть, из трупов получилось нечто вроде моста, по которому орда обезумевших чудовищ обрушилась на лагерь и с визгом кинулась на поиски жертв. Очевидно, их было немало.
Рон перестал есть. Он был очень бледен.
— Там, в материалах, которые я когда-то читал, были изображения сфиксов. Думаю, что они все могут объяснить…
Он взял вилку, но снова положил ее.
— Не могу есть, — сказал он отрывисто.
Хайдженс ничего не ответил. Он молча окончил ужин. Затем поднялся и вложил тарелки в посудомойный шкаф.
Послышалось жужжание, и через минуту он снизу вынул чистые тарелки и убрал их.
— Вы дадите мне посмотреть материалы? — спросил он угрюмо. — Мне интересно, какого типа поселение у этих роботов.
После некоторого колебания Рон открыл свой саквояж и достал микропроектор и несколько катушек пленки. На одной из катушек была этикетка с надписью: «Инструкция по строительным работам. Колониальная Служба». Это были подробно разработанные планы и описание необходимого оборудования для колонии роботов, начиная от строительного материала и сырья и до организации управленческого аппарата колоний. Но Хайдженс искал какую-то другую пленку. Он нашел ее, вложил в микропроектор и начал медленно поворачивать регулятор, задерживаясь только для того, чтобы прочитать надписи.
Наконец, он нашел то, что искал, и стал с интересом читать текст.
— Роботы, роботы, — проворчал он. — Почему вы не держите их там, где они на месте, в больших городах для грязных работ? Их еще можно использовать на безатмосферных планетах, где ничего неожиданного произойти не может. Роботы не годятся для освоения новых планет. Подумать только! Защита колонистов целиком зависела от этих машин! Да, если человек поживет подольше в обществе роботов, мир покажется ему таким же ограниченным, как эти автоматы. Вот подробный план по устройству управляемой защиты, — он выругался. — Самодовольные, привязанные к доске безмозглые идиоты!
— Роботы не так уж плохи, — сказал Рон. — Мы не могли бы без них создать цивилизацию.
— Но вряд ли вы сможете освоить пустыню с помощью роботов, — оборвал его Хайдженс. — Вы высадили дюжину людей и пятьдесят роботов, которые должны были начать строительство. В следующей партии их было уже не менее пятнадцати тысяч. И держу пари, что потом корабли привезли еще.
— Так все и было, — сказал Рон.
— Я презираю их, — взорвался Хайдженс. — У меня к ним чувство, испытываемое древними греками и римлянами к рабам. Они делали работу, которую для себя может сделать каждый человек, но не станет делать за плату за другого. Унизительная работа!
— Взгляды вполне аристократичные, — сказал Рон насмешливо. — Насколько я понимаю, роботы чистят медвежий зал.
— Нет, — отрезал Хайдженс. — Это делаю я сам. Медведи мои друзья. Они дерутся за меня, но они часто не понимают, что нужно делать. Ни один робот не вычистит хорошо их помещение.
Он снова нахмурился. За стеной не прекращался ночной концерт — звуки органа, икание, стук молота и скрип дверей. Иногда в это многоголосие врывался визг ржавого насоса.
— Я ищу, — сказал Хайдженс, передвигая регулятор, — записи об их рудных разработках. Если у них были открыты шахты, то не о чем и говорить. Но если они вырыли туннель и там были люди, которые наблюдали за роботами, когда гибла колония, то есть надежда, что люди могли уцелеть.
Рон вдруг пристально на него посмотрел.
— И тогда… — продолжал Хайдженс. Рон резко прервал его:
— К черту! Теперь мне понятно… Если даже они могли уцелеть, то…
Он поднял брови.
— Я инспектор Колониальной Службы. Я уже вам говорил, что отправлю вас в тюрьму при первом удобном случае. Вы рисковали жизнью миллионов людей, поддерживая бескарантинный контакт с незаконно заселенной планетой. И если бы вы спасли кого-нибудь из колонии роботов, то могли бы оказаться весьма нежелательные свидетели вашего пребывания здесь. Вам это не приходило в голову?
Хайдженс продолжал сосредоточенно крутить регулятор, Вдруг он остановился и пробормотал:
— Они проложили туннель. — Затем он сказал громко; — А о свидетелях я буду думать, когда это понадобится.
Он открыл другую дверцу шкафа и достал ящик, наполненный всякими мелочами. Там был целый набор проволоки, болтов, шурупов, разных винтиков, вещей, необходимых в хозяйстве человека, который считает себя единственным жителем солнечной системы.
— Ну и что вы думаете делать дальше? — резко спросил Рон.
— Попытаюсь узнать, остался ли кто-нибудь в живых. Я сделал бы это раньше, если бы знал о существовании колонии. Я не могу доказать, что они погибли, но я могу доказать, что там кто-то жив. До них полторы недели пути. Странно, что две колонии выбрали место так близко друг от друга.
Он отобрал нужные ему инструменты.
Рон спросил:
— Как вы можете узнать, остался ли кто-нибудь в живых на расстоянии в сотни миль отсюда, когда вы полчаса назад еще не знали о том, что существует колония?
Хайджене нажал кнопку и опустил часть деревянной обшивки стены, за ней оказалась электронная аппаратура с монтажом. Он отверткой начал что-то вывинчивать.
— Вы когда-нибудь думали о том, что такое поиски потерпевших аварию? — спросил он, не поворачивая головы.
— Есть планеты, площадь которых составляет миллионы квадратных миль. Вам известно, что где-то приземлился корабль, но вы не представляете даже, где он. Вы считаете, что у тех, кто уцелел, есть запас горючего, так как без горючего не может долго существовать ни один цивилизованный человек с тех пор, как он научился обрабатывать металл. Для светового сигнала нужны очень точные вычисления и инструменты. Смастерить самим их невозможно. И как по-вашему, что будет делать потерпевший аварию цивилизованный человек, чтобы спасательный корабль отыскал его на клочке земли в одну квадратную милю?
Рона явно раздражал этот разговор.
— Человек начнет с того, что вернется к первобытному состоянию, — продолжал Хайдженс, — он будет жарить мясо на костре, как и его далекие предки. Он наладит очень примитивную сигнализацию. Без микрометров и специальных приборов больше ничего сделать нельзя. Потерпевший аварию должен наполнить эфир сигналами, которые не смогут не услышать люди, отправившиеся на его поиски. Вы согласны со мной, Рон? Он сделает искровой передатчик и настроит его выход на самые короткие волны, какие только ему удастся получить, примерно от пяти до пятидесяти метров. Но они будут хорошо слышны. Он получит самые примитивные сигналы и начнет их передавать. Некоторые волны обойдут вокруг всей планеты под ионосферой, и любой корабль, проходящий ниже ионосферы, примет их, зафиксирует место, откуда они исходят, и направит путь прямо туда, где потерпевший аварию в самодельном гамаке посасывает влагу, которую ему удалось извлечь из местных растений. Мой космофон принимает только микроволны. Я могу поменять несколько элементов, чтобы настроить его на более длинные волны. И если в эфире есть сигналы о бедствии, то мы их услышим. Но не думаю, что они есть.
Он продолжал работать. Рон молча наблюдал за ним. Внизу раздавался равномерный храп Сурду Чарли. Медведь лежал на спине, подняв лапы. Он считал, что так спать значительно прохладней. Ситка заворчал во сне. Ему, очевидно, что-то снилось. В жилой комнате Семпер приоткрыл глаза, сунул голову под гигантское крыло и снова заснул. Звуки из чащи проникали даже сквозь стальные шторы. Низкая луна, которая прошла незадолго до того как зазвонил звонок, снова появилась над восточным горизонтом. Эта каменная неровная глыба была хорошо видна и пронеслась по небу со скоростью воздушного экспресса.
Рон сердито сказал:
— Послушайте, Хайдженс! У вас есть все основания меня убить. Но, очевидно, вы не намерены этого делать. Вам было бы выгоднее оставить в покое эту колонию роботов, а вместо этого вы собираетесь помочь людям, если они там остались в живых и нуждаются в помощи. Но все же вы преступник. Я в этом уверен, так как именно с таких планет, как Лорен Второй, были завезены ужасные бактерии, и это стоило многих жизней. И вы продолжаете рисковать. Для чего вы это делаете? Для чего вы совершаете поступки, которые могут стать причиной гибели других людей?
Хайдженс усмехнулся.
— Вы напрасно считаете, что не было принято никаких санитарных и карантинных мер предосторожности. Вы ошибаетесь. Все было сделано по всем правилам. Что же касается остального, то вы все равно не поймете.
— Я не понимаю, — ответил Рон. — Но это еще не доказывает, что я не могу понять, И все-таки, почему вы считаете себя преступником?
Хайдженс с трудом всунул отвертку в деревянную обшивку. Затем он осторожно вынул маленький электронный блок и начал ввинчивать новый, значительно большей мощности.
— Я преступник потому, что меня эта роль вполне устраивает, каждый ведет себя согласно своим представлениям о себе. Вот вы порядочный гражданин и честный служащий и считаете себя разумным мыслящим животным. А ведете себя совсем не так, как надлежало бы. Вот вы напоминаете мне о необходимости вас убить или сделать что-нибудь подобное, в то время как просто разумное животное сделало бы все, чтобы заставить меня забыть о моем намерении. К несчастью, Рон, вы человек, как и я. Но я это понимаю и поэтому сознательно совершаю поступки, на которые бы не решилось ни одно просто разумное животное, потому что таково мое представление о том, как должен поступать человек, стоящий гораздо выше разумного животного.
Он тщательно укрепил один за другим все винты.
— Это целая религия, — сказал все еще раздраженный Рон.
— Самоуважение, — поправил Хайдженс. — Я не люблю роботов. Они слишком похожи на разумных животных. Робот будет делать все, что он может, если этого потребует от него человек. А просто разумное животное сделает то, что потребуют обстоятельства. Я уважал бы робота, если бы он плюнул мне в глаза, когда я заставлю делать его то, что он не хочет. Вот возьмите медведей внизу. Это вам не роботы, а вполне достойные и заслуживающие уважения звери. Они бы разорвали меня в клочья, если бы я попытался заставить их что-нибудь сделать, что им не по нраву. Фаро Нелл вступила бы в единоборство со мной, да и со всем человечеством, попытайся я обидеть Наджета. С ее стороны это было бы неразумно, бессмысленно и нелогично. Она бы, конечно, проиграла и погибла. Но я именно за это ее люблю. И я тоже бы вступил в единоборство с вами и со всем человечеством, если бы вы попытались заставить меня сделать что-то против моей природы. И я тоже вел бы себя глупо, неразумно и нелогично. — Затем добавил, не поворачивая головы; — И вы тоже. Только вы не сознаетесь в этом.
Он закрепил регулятор.
— А что вас заставляли делать? — спросил Рон, который никак не мог успокоиться. — Почему вы стали преступником? Против чего вы взбунтовались?
Хайдженс нажал кнопку и начал поворачивать регулятор своего перестроенного приемника.
— Как что? — ответил он насмешливо. — Когда я был молод, все люди вокруг пытались сделать из меня сознательного гражданина и порядочного служащего. Они хотели превратить меня в высокоинтеллектуальное разумное животное и ни во что больше. Разница между нами, Рон, в том, что я это понял вовремя, и естественно, что я взбун…
Он не закончил фразу. Слабое потрескивание вдруг донеслось из рупора космофона, приспособленного для приема волн, которые когда-то называли короткими.
Хайдженс вскинул голову, напряженно слушал и медленно поворачивал регулятор. Рон поднял палец, чтобы обратить внимание Хайдженса на какие-то звуки, прорывающиеся сквозь треск. Хайдженс, продолжая настраивать приемник, молча кивнул головой, звук усилился. На фоне треска и свиста стало вырисовываться какое-то бормотание. Когда Хайдженс изменил настройку, бормотание стало явственнее, и, наконец, они услышали ряд последовательных звуков, какое-то нестройное жужжание. Три отрывистых жужжащих звука. Затем пауза в две секунды, три долгих звука, снова пауза и три коротких сигнала. Потом молчание, длящееся пять секунд, — и все сигналы повторились сначала.
— Дьявол, — выругался Хайдженс, — это сигнал, несомненно полученный механическим путем. Это обычный сигнал о бедствии. Он когда-то назывался СОС, хотя я понятия не имею, что это значит. Кто-то там, должно быть, в свое время начитался старинных романов, раз он знает о нем. Значит, в вашей законной, но ныне не существующей колонии роботов есть люди. И они просят о помощи. Думаю, что они в ней здорово нуждаются. — Он посмотрел на Рона.
— Самым разумным было бы сидеть и ждать, когда появится корабль с вашими или моими друзьями. Корабль может помочь пострадавшим лучше, чем это сделаем мы. Кораблю проще отыскать их. Но, может быть, каждая минута дорога этим чертям. И поэтому я собираюсь взять медведей и попытаюсь добраться до них. Вы можете нас здесь ждать, если хотите. Что говорить, путешествие на Лорене Втором не увеселительная прогулка. Нам придется отвоевывать каждый фут. Ух, слишком много здесь «вредоносной фауны»!
— Не дурите. Конечно, я иду. За кого вы меня принимаете? И вдвоем у нас в четыре раза больше шансов, — сказал сердито Рон.
Хайдженс усмехнулся.
— Не совсем так. Вы забываете Ситку, Сурду Чарли и Фаро Нелл. Если вы пойдете, нас будет пятеро, вместо четырех. И Наджета, конечно, нужно взять. Помощи от него немного, но зато у нас есть Семпер. Вы не учетверите наших возможностей, Рон, но коли вам так хочется быть глупым, неразумным и нелогичным, я буду рад, если вы пойдете с нами.
III
Огромный острый каменный уступ навис над речной долиной. Внизу широкий ручей стремительно бежал на запад, к морю. В двадцати милях к востоку прямо на фоне неба поднималась гряда гор. Их вершины, расположенные на одном уровне, сливались вместе, образуя сплошную стену. И повсюду, насколько мог видеть глаз, простиралась вздыбленная земля.
Точка в небе быстро приближалась. Захлопали огромные крылья. Стальные глаза обозревали окрестность. Семпер, наконец, приземлился и, резко повернув голову, стал смотреть немигающим взглядом на скалы. Маленький аппарат был прикреплен ремешками у него на груди. Он прошел по гладкому камню к вершине утеса и застыл там гордой и одинокой фигурой на фоне пустыни.
Послышались треск, рычание, а затем сопение. Ситка Пит вперевалочку вышел из-за поворота. На спине он нес поклажу. Сбруя была сложной конструкции, так как она должна удерживать на спине тюк и во время сражений, когда медведю приходилось пускать в ход передние лапы. Медведь прошел по открытой площадке к утесу и посмотрел вниз. Он явно кого-то высматривал, а когда вплотную приблизился к Семперу, орел раскрыл свой огромный изогнутый клюв и издал звук негодования. Ситка даже не обратил на это внимания. Затем зверь с удовлетворением вздохнул и сел. Его задние лапы смешно разъехались.
С шумом и сопением появился Сурду Чарли. За ним шел Рон с Наджетом, Сурду тоже тащил тяжелый тюк. Над-жет, подгоняемый шлепком матери, с отчаянным визгом бросился вперед. К сбруе Фаро Нелл была привязана туша какого-то животного, похожего на оленя.
— Я выбрал это место по стереофото, — сказал Хайд-женс, — чтобы определить направление. Я хочу сделать отметку. Он сбросил на землю свой заплечный мешок, достал самодельный приемник и установил его на земле. Натянув воздушную антенну, он закопал большой кусок гибкой проволоки и размотал маленькую направленную антенну. Рон тоже снял с плеч мешок и внимательно наблюдал за движениями Хайдженса, который надел наушники.
— Следите за медведями, Рон, — сказал он. — Ветер дует в нашем направлении. Медведи по запаху чувствуют, если кто-то идет по следу. Они дадут нам знать.
Он извлек из мешка инструменты и снова занялся приемником. Из аппарата отчетливо донеслись свистящие потрескивающие звуки, которые были не чем иным, как сигналами. Он натянул маленькую антенну. Треск усилился. Самодельный портативный приемник, настроенный на короткие волны, оказался более эффективным, чем космофон. Хайдженс ясно услышал три коротких сигнала, затем три длинных и опять три коротких. Три точки. Три тире. Три точки. Снова и снова СОС, СОС, СОС…
Хайдженс сделал отметку и передвинул направленную антенну на тщательно отмеренное расстояние. Затем снова отметил место и записав показания приемника. Закончив, он проверил направление сигналов не только по громкости, но и по силе с максимальной точностью, возможной для его портативной аппаратуры.
Сурду тихо заворчал. Ситка Пит понюхал воздух и поднялся на ноги. Фаро Нелл опять дала шлепок Наджету, и он, скуля, отправился в самый дальний конец площадки. Мать стояла ощерившись и смотрела на тропинку, по которой они поднялись.
— Проклятие! — сказал Хайдженс.
Он встал с земли и махнул рукой Семперу, который, услышав шум, повернул голову. Орел пронзительно, совсем не по-орлиному закричал, нырнул со скалы и через мгновение был на земле. Пока Хайдженс доставал оружие, Семпер отлетел на сотню футов и стал описывать в воздухе причудливые фигуры. Когда он снизился, Хайдженс посмотрел на лежащую у него на ладони маленькую пластинку. В ней отражалось все, что фиксировал телевизионный аппарат на груди Семпера, — кусок качающейся земли с какими-то движущимися между деревьями точками.
— Сфиксы, — мрачно сказал Хайдженс. — Восемь штук. И не ищите их на дороге, Рон. Они бегут параллельно с нами, по обеим сторонам тропинки. Они всегда пытаются неожиданно напасть с флангов. Слушайте, Рон! Медведи прекрасно справятся сами со сфиксами, которые нападут на них. Наша задача помочь им и подстрелить остальных. Цельтесь в туловище. Пули разрываются у них внутри. — Он сдвинул предохранитель своего ружья. Фаро Нелл с громовым рычанием встала между Ситкой и Сурду. Ситка посмотрел на нее и презрительно засопел, как бы насмехаясь над ее страшными криками, от которых кровь застывала в жилах. Он и Сурду отодвинулись подальше от Нелл.
Вокруг все было спокойно. Мертвую тишину нарушали лишь крики лоренских «птиц» и рычание Фаро Нелл. Щелкнул предохранитель ружья Рона.
Семпер снова закричал и, захлопав крыльями, полетел низко над деревьями, следуя за пестро раскрашенными чудовищами. Восемь сине-рыжих дьяволов рысцой выбежали из-за кустов. Торчащие рога и острые шипы создавали впечатление, что они только что выскочили из ада. Разбрызгивая слюну, сфиксы бросились на медведей с визгом, похожим на крики дерущихся котов. Хайдженс поднял ружье. Пуля громко стукнулась о шкуру сфикса, и он свалился на землю. Фаро Нелл, грозное воплощение ярости, бросилась в бой. Рон выстрелил. Пуля взорвалась, ударившись о дерево. Ситка Пит, стоя на задних лапах, наносил во все стороны мощные удары. Рон выстрелил еще раз. Сурду Чарли угрожающе зарычал, всей тяжестью навалился на двухцветное чудовище и покатился с ним по земле, царапая его лапами. Кожа на брюхе была чувствительнее, чем остальная шкура. Рыча от боли, сфикс отполз в сторону. Одна из тварей, воспользовавшись суматохой, приготовилась прыгнуть на Ситку сзади, но Хайдженс одним выстрелом уложил ее. Два сфикса атаковали Фаро Нелл. Одного убил Рон, другого почти пополам разорвала в ярости медведица. Ситка вдруг выпрямился. На нем повисло несколько чудовищ. Сурду кинулся к нему, стащил одного из них и задушил его. Так же он разделался и с остальными. Одновременно щелкали ружья. Неожиданно Хайдженс и Рон увидели, что сражаться больше не с кем.
Звери бродили между трупами. Ситка с ворчанием поднял безжизненную голову сфикса.
Раздался удар, затем другой. Так он расправился со сфиксами и успокоился только тогда, когда увидел, что все они лежат неподвижно. Семпер, хлопая крыльями, слетел вниз. Во время битвы он кричал и летал над головами. Хайдженс по очереди подходил к медведям и заговаривал с ними, стараясь их успокоить. Труднее всего было утихомирить Фаро Нелл. Она со свирепой страстностью вылизывала Наджета и не переставая рычала.
— За работу! — сказал Хайдженс.
Он видел, что Ситка собирается снова сесть.
— Сбросьте трупы со скалы! Ситка! Сурду! Хоп!
Он смотрел, как огромные медведи подняли мертвых сфиксов и потащили их к утесу. Кувыркаясь в воздухе, пестрые чудовища полетели вниз, в долину.
— Теперь, — заметил Хайдженс, — их ближайшие приятели соберутся вокруг и устроят плач, если не нападут на наш след. Если бы мы были у реки, я бы отправил трупы вниз по течению, и тогда пусть бы их родственники искали место для оплакивания. Я всегда сжигаю трупы около станции.
Он развязал мешок, который нес Сурду, и вытащил вату и несколько галлонов антисептической жидкости. Он промыл все раны и царапины у медведей и пропитал их шерсть жидкостью в тех местах, где могли быть следы ядовитой крови сфиксов.
— Это средство хорошо тем, что уничтожает запах, — сказал он, — не то все сфиксы побегут по нашим следам. Когда мы двинемся, я смажу лапы медведям.
Рон молчал. Он злился на себя за свой неудачный выстрел. Он сразу не мог освоить новое для него оружие. В конце битвы он стрелял без промаха, но тем не менее чувство досады не проходило. Он сказал с горечью Хайдженсу:
— Если вы инструктируете меня, как действовать в случае вашей гибели, то, по-моему, не стоит стараться. Все равно не поможет.
Хайдженс порылся в мешке и достал пачку увеличенных стереоснимков той части планеты, по которой они шли. Он сориентировал карту по местности. Затем аккуратно провел линию через все фото.
— Сигнал СОС доходит из какого-то места недалеко от колонии роботов, — сказал он. — Мне кажется, южнее колонии. Может быть, из шахты, которую они вырыли на окраине плато. Видите, на карте две отметки. Одна от станции и вторая отсюда. Я нарочно отклонился от пути, чтобы зафиксировать сигналы и тем самым получить две линии направления к передатчику. Если раньше можно было предполагать, что сигналы идут с другого конца планеты, то теперь я твердо знаю, что это не так.
— Нелепо думать, что сигналы могут исходить не из колонии роботов, — сказал Рон.
— Но почему же, — возразил Хайдженс. — Ведь в колонию роботов приходили корабли. Один из них мог потерпеть катастрофу. И у меня тоже есть друзья…
Он упаковал всю аппаратуру и сделал знак медведям. Отведя их за поле битвы, Хайдженс тщательно смазал им антисептической жидкостью лапы, на которых оставались следы крови сфиксов. Затем поманил рукой Семпера, летающего над скалами.
— Двинулись, — сказал он Кодиакам. — Вперед! Хоп!
Отряд спустился с горы и вошел в лес. Теперь настала очередь Сурду идти первым. Ситка ковылял за ним. Фаро-Нелл с Наджетом шла за людьми. Она не спускала глаз с медвежонка, еще совсем маленького, несмотря на свои шестьсот фунтов.
Над головой хлопал крыльями Семпер, выделывая гигантские круги и спирали. Он никогда далеко не отлетал. Хайдженс время от времени проверял на пластинке изображения, которые фиксировал аппарат, прикрепленный на груди у Семпера. Изображения смещались, двигались и переворачивались. Но тем не менее это был лучший способ воздушной разведки.
Хайдженс вдруг сказал:
— Мы отклонились вправо. Но прямо идти опасно. Похоже, что стая сфиксов кого-то поймала и теперь пожирает добычу.
— Скопление такого количества плотоядных, — сказал Рон, — противоречит веем правилам науки. Ведь на каждое плотоядное обычно приходится довольно большое количество других животных. Если их разведется очень много, они уничтожат всю дичь и сами погибнут от голода.
— Они уходят на всю зиму, — ответил Хайдженс. — А зима здесь не очень суровая, как могло бы казаться. Многие животные здесь размножаются, когда сфиксы уходят на юг. И в хорошую погоду они не всегда здесь торчат. У них есть какое-то время «пик», а потом целыми неделями вы можете не встретить ни одного сфикса. И вот вдруг снова все леса кишат ими. Сейчас они движутся на юг. Очевидно, звери переселяются — непонятно, почему именно в этом направлении.
— Но на этой планете почти не было натуралистов. Ведь здесь вредоносная фауна, — добавил он язвительно.
Рон явно сердился. Он был старшим офицером Колониальной Службы, и ему не раз приходилось высаживаться на незнакомых планетах для обследования колоний, которые создавались на новых территориях согласно предусмотренному плану. Но впервые он попал в такую враждебную обстановку. Жизнь его зависела от прихотей незаконного колониста. Теперь офицер оказался втянутым в какое-то темное предприятие только потому, что механическая искровая сигнализация продолжала все еще действовать после того, как те, кто создал ее, погибли. Все его привычные представления о вещах сместились. Сам он остался в живых только благодаря трем гигантским медведям и плешивому орлу, И даже если им удастся добраться до колонии роботов, вряд ли они сумеют справиться с ордой разъяренных сфиксов.
Да, все понятия Рона о возможностях цивилизованного человека перевернулись. Роботы были великолепным изобретением для выполнения заранее намеченного плана точного подчинения инструкциям, но у них были недостатки. И самый главный заключался в том, что они совершенно не были подготовлены к встрече со случайностями, если же они сталкивались с чем-нибудь заранее не предусмотренным, то оказывались беспомощными перед лицом необычных обстоятельств. Цивилизация, создаваемая роботами, могла существовать только в среде, где вся жизнь протекала по намеченному плану, там, где от роботов не могли потребовать ничего нового. Рон был испуган. Он тоже никогда не сталкивался ни с чем не предусмотренным.
Он обнаружил, что рядом с ним все время бежит Наджет. Медвежонок прижал уши и заскулил, когда Рон посмотрел на него. Рон подумал о том, что Наджет получает с воспитательной целью не меньше ударов, чем он сам.
— Я тебя понимаю, друг, — сказал он грустно.
Наджет обрадовался. Шерсть у него поднялась, и он посмотрел на Рона с надеждой, что человек поиграет с ним. Даже на четвереньках он достигал четырех футов.
Рон протянул руку и погладил медвежонка по голове. Впервые в жизни он приласкал животное. Сзади послышалось рычание. Мурашки поползли у него по спине. Он отпрянул от Наджета. В десяти шагах от него стояла Фаро Нелл и смотрела ему прямо в глаза. Рон почувствовал, как холодный пот выступил у него на лбу. Но глаза медведицы были странно спокойными, и она рычала совсем не так, как тогда на утесе, когда почуяла, что Наджету грозит опасность. Постояв, она равнодушно отвернулась и стала рассматривать какой-то привлекший ее внимание предмет на скале.
Отряд продолжал свой путь. Наджет теперь не отходил от Рона. Время от времени он тыкался мордой ему в ноги и смотрел на него преданным, полным обожания взглядом, в котором отражалась вся сила внезапно вспыхнувшего чувства, свойственного ранней молодости. Рон устало тащился за медведями. Иногда он останавливался, чтобы приласкать Наджета. Фаро Нелл теперь могла спокойно отходить от медвежонка. Она, казалось, была довольна тем, что так надежно его пристроила и он больше не раздражал ее.
Рон крикнул Хайдженсу:
— Смотрите! Меня Фаро Нелл приставила нянькой к Наджету.
Хайдженс оглянулся.
— Да шлепните его несколько раз, и он вернется к матери, — сказал он.
— А на кой черт это нужно? — рассердился Рон. — Мне это нравится.
Они продолжали двигаться вперед. Когда наступила ночь, они устроили привал. Из страха, что ночные обитатели Лорена могут слететься на огонь, они не разжигали костра. Но и в темноте было небезопасно, так как «ночные бродяги» с вечера выходили на охоту.
Хайдженс устроил заграждение из затемненных ламп. Туша оленеподобного животного составила им ужин. Они приготовили постели и легли спать, но спали только люди. Медведи чутко дремали, просыпались и снова начинали храпеть, Семпер сидел неподвижно на сухой ветке, спрятав голову под крыло. Как-то неожиданно наступила чудесная, полная утренней прохлады тишина, и мир вокруг расцвел под утренними лучами солнца, пробивающегося сквозь чащу. Они быстро поднялись и тронулись в путь. Днем они вынуждены были остановиться на два часа, чтобы сбить с толку сфиксов, напавших на след медведей. Хайдженс заговорил о том, что необходимо иметь средство, уничтожающее запах, и смазывать им обувь людей и лапы медведей, чтобы сфиксы не могли пронюхать следы.
Рон предложил изобрести какую-нибудь жидкость с запахом, который отвратил бы этих чудовищ от людей.
— Если будет такое средство, то люди смогут безбоязненно передвигаться по всей планете, — сказал он.
— Как средство от клопов, — рассмеялся Хайдженс. — Великолепная мысль, Рон! Можете гордиться.
Ночью они снова сделали привал и только на третий день добрались до подножия плато, которое издали напоминало горную гряду. Оно оказалось пустынным плоскогорьем. Их удивило, что пустыня лежала так высоко над уровнем моря, в то время как низкая впадина обильно смачивалась дождями. Но на четвертый день им стала ясна причина этого явления. Далеко впереди на краю огромного плато они увидели каменную глыбу. Она была похожа на нос большого корабля. Хайдженс сразу обратил внимание на то, что гора лежала на пути ветров и разрезала их, как нос корабля режет воду. Несущие влагу воздушные потоки с двух сторон обмывали плато, и поэтому середину его палящие лучи солнца превратили в выжженную пустыню. Целый день ушел на то, чтобы подняться до середины склона. Семпер дважды во время подъема летал над большим скоплением — сфиксов, которые бежали параллельно дороге, то с одной, то с другой стороны.
Их было великое множество, от пятидесяти до ста чудовищ в одной стае. Хайдженс прежде никогда не видел таких больших скопищ сфиксов. Обычно в стае их было не больше дюжины. Хайдженс все время смотрел на маленький экран, отражающий то, что видел Семпер на расстоянии от четырех до пяти миль. Сфиксы длинной вереницей двигались вверх по направлению к Плато. Пятьдесят, шестьдесят, семьдесят лазурно-рыжих обитателей ада.
— Я с ужасом думаю о том, что эта свора может напасть на нас, — сказал Хайдженс, — и боюсь, что тогда мы окажемся в незавидном положении.
— Вот здесь бы нам пригодился бронетанк, управляемый роботами, — ответил Рон.
— Да, что-нибудь бронированное, — согласился Хайдженс. — Даже один человек может уцелеть на такой станции, как моя. Но если он убьет сфикса — все пропало. Он будет осажден, и ему придется долго просидеть в своей норе, вдыхая запах дохлого сфикса, пока аромат не улетучится. И ни в коем случае нельзя больше убить ни одного зверя, так как иначе придется сидеть в крепости до самой зимы.
Они взбирались по склону, круто поднимавшемуся вверх под углом примерно в пятьдесят градусов; медведи шли очень легко, Хайдженс почти не спускал глаз с пластинки.
— Ну, и дьявольский подъем, — сказал он отдуваясь, когда они остановились передохнуть. Медведи терпеливо их ждали.
— А медведи у вас здорово вышколены, Хайдженс. Я вполне понимаю Семпера, у которого не хватает терпения.
— Не я их вышколил, — ответил Хайдженс, внимательно рассматривая изображение на пластинке. — Это ведь видоизмененная порода, и все их качества передаются по наследству. Люди на моей родной планете разумно учли психологический фактор, когда выводили новую породу. Им нужны были животные, которые могли бы драться, как дьяволы, жить вдали от родных мест, таскать тяжести и быть преданными человеку, как собака. Люди с давних времен делали попытку добиться необходимой степени физического развития у животных, обладающих высокой духовной организацией. В результате этого способа должна была получиться гигантская собака. На моей планете лет сто тому назад такой опыт решили проделать с медведями. Он оказался удачным. Первый медведь, названный Чемпионом Кодиака, обладал уже всеми качествами, которые вы можете наблюдать у его потомков.
— Но вид у них вполне нормальных медведей, — сказал Рон.
— Они абсолютно нормальные. — В голосе Хайдженса появились теплые нотки. — Они ничем не хуже обычного честного пса. Их не нужно обучать, как Семпера. Они сами всему учатся.
Он снова посмотрел на лежащую у него на ладони пластинку, на которой отражалась верхняя часть склона.
— Семпер ученая, но безмозглая птица, хорошо тренированный разведчик и только. А медведи стараются дружить с людьми. Они зависят от нас в эмоциональном отношении, как и собаки. Если Семпер слуга, то они помощники и друзья. Служить человеку его вынудили обстоятельства, а медведи нас любят. Семпер, не задумываясь, оставил бы меня, если бы он понял, что может прожить один. Но он уверен, что может есть только то, что ему дают люди. А медведи не ушли бы от меня. И я к ним очень привязан. Может быть, за то, что они меня так любят.
— И кто вас дергал за язык, Хайдженс? — сказал Рон. — Ведь я офицер Колониальной Службы. Все равно рано или поздно я должен буду вас арестовать. А вы рассказали мне все вещи, по которым я легко смогу установить, кто вас сюда прислал. Мне теперь нетрудно навести справку о том, на какой планете выращивали видоизмененных медведей и где остались потомки медведя по имени Чемпион Кодиака. Теперь я могу узнать, откуда вы прибыли, Хайдженс.
Хайдженс поднял глаза от пластинки, на ней покачивалось крошечное телевизионное изображение.
— Ничего страшного не произошло, — сказал он добродушно. — Там меня тоже считают преступником. Официально записано, что я похитил этих медведей и скрылся с ними. А на моей родине это самое страшное преступление, которое только может совершить человек. Это даже хуже, чем было конокрадство на Земле в старые времена. Родственники моих медведей очень высоко ценятся. Так что и дома я преступник.
Рон внимательно на него посмотрел. — Вы их украли? — спросил он.
— Если говорить откровенно, — ответил Хайдженс, — я их не крал. Но подите докажите это, — он подмигнул Рону и добавил: — взгляните на пластинку. Хотите знать, что видит Семпер на краю плато?
Рон взглянул наверх, где кружил Семпер. Он уже по опыту знал, что Семпер всегда кричит при виде приближающейся опасности. Вдруг орел метнулся к границе плато. Рон посмотрел на пластинку. Она была размером четыре на шесть дюймов, совершенно гладкая и блестящая. Изображение на пластинке двигалось и поворачивалось, так как аппарат, который нес орел, тоже все время двигался. На мгновение на экране мелькнули крутой горный склон и на нем черные точки. Это были люди и медведи. Затем появилась вершина плато, и на ней они увидели сфиксов. Около двухсот чудовищ рысцой бежали по направлению к пустынному ложу плато. Аппарат передвинулся — и Рон увидел новую партию сфиксов. Птица поднялась выше. По краю плато двигались все новые и новые орды.
Они выходили из маленькой, образовавшейся от выветривания ложбины. Плато кишело дьявольскими отродьями. Трудно было представить, где они находили достаточное количество пищи. Издали они напоминали стада, рассыпавшиеся по пастбищу.
— Они переселяются, — сказал Хайдженс. — И идут в какое-то определенное место. Я не уверен, что сейчас нам будет удобно пересекать плато, когда там такое скопление сфиксов.
Рон выругался. Настроение у него резко переменилось.
— Но сигналы все еще доходят, — сказал он. — Кто-то жив в колонии роботов. Можем мы ждать до тех пор, пока кончится переселение?
— Мы ведь ничего не знаем, — сказал Хайдженс, — какие у них условия и смогут ли они еще продержаться, — он показал на пластинку. — Ясно одно; им очень нужна помощь. И мы во что бы то ни стало должны до них добраться. Но в то же время… — Он посмотрел на Сурду Чарли и Ситку, терпеливо стоявших на склоне, пока люди отдыхали и разговаривали, Ситка ухитрился даже найти место и сесть, уцепившись тяжелой лапой за склон.
Хайдженс махнул рукой, указывая новое направление.
— Пошли! — заторопил он медведей. — В путь! Вперед! Хоп!
IV
Они шли по склонам, не поднимаясь до верхнего уровня плато, по которому двигались сфиксы, что значительно замедляло продвижение отряда. Людям казалось, что они забыли, как ходят по ровной земле. Семпер днем парил над головой, не отлетая далеко от них. Когда наступала ночь, он спускался за едой, которую Хайдженс доставал из тюка.
— У медведей осталось совсем мало еды, — сказал однажды Хайдженс. — Для них этого недостаточно. Но они проявляют благородство по отношению к нам. Вот у Семпера его нет. Он слишком для этого туп. Но его приучили думать, что он может есть только из рук человека. Медведи все лучше понимают, но тем не менее они бескорыстно нас любят. За это они мне и нравятся.
Как-то они расположились на отдых на вершине, высоко торчащей над гористой каменной стеной. На камне едва хватало места для всех. Фаро Нелл заволновалась и стала толкать Наджета в самый безопасный уголок около горного склона. Она готова была столкнуть людей с камня, чтобы устроить медвежонка. Но вдруг Наджет заскулил и стал проситься к Рону. И когда Рон подошел к нему, чтобы его успокоить, медведица, довольная, отодвинулась и зарычала на Ситку и Сурду. Они потеснились и пропустили ее к самому краю скалы.
Это был невеселый привал. Все были голодны. Иногда они находили маленькие ручейки, текущие вниз по склону. Медведи напивались, а люди наполняли фляги. Но уже третью ночь не было никакой дичи, и Хайдженс ничего не предпринимал, чтобы достать еду для себя и Рона. Рон молчал. Он тоже начал ощущать то особое духовное родство между медведями и людьми, которое делало медведей не рабами, а чем-то иным. В этом было какое-то новое, двойственное чувство.
— Мне кажется, — сказал он мрачно, — что если сфиксы не охотятся по пути наверх, то где-то должна быть и дичь. По-моему, они ни на что не обращают внимания, когда идут шеренгой.
Хайдженс задумался. Рон был прав. Обычно во время боя сфиксы выстраиваются цепью, чтобы в любую минуту окружить жертву, которая делала попытки к бегству. Если противник сопротивлялся, они нападали с флангов. На сей раз они поднимались в гору, выстроившись цепочкой, один за другим, очевидно уверенно следуя по привычному пути. Ветер дул со склонов, и запах медведей доходил до сфиксов. Но они не сворачивали с намеченного пути. Длинная процессия сине-рыжих дьяволов упорно лезла вверх. О них трудно было думать как о виде плотоядных, делящихся на самцов и самок и откладывающих яйца, как обыкновенные рептилии на других планетах.
— По этой дороге прошли тысячи сфиксов. Мне кажется, что они идут уже несколько дней или даже недель.
На пластинке мы видели не менее десятка тысяч. Пересчитать их невозможно. Первые партии, очевидно, сожрали все, что нашли, а остальные… Рон запротестовал.
— Не может быть в одном месте такого количества плотоядных. Я знаю и вижу, сколько их здесь, но тем не менее быть этого не может.
— Ведь они холоднокровные, — сказал Хайдженс. — И им не нужны калории для поддержания температуры тела. Кроме того, многие животные могут долгое время обходиться без еды. Даже медведи погружаются в зимнюю спячку.
Он в темноте начал устанавливать приемник. Рон не понимал, для чего он это делает. Передатчик был на другой стороне плато, которое кишело самыми свирепыми и опасными зверями из всех обитателей Лорена Второго. Всякая попытка пересечь плато равнялась бы самоубийству.
Хайдженс настроил приемник. Тут же послышался царапающий резкий треск. Затем сигнал. Три точки, три тире, три точки. Три точки, три тире, три точки. Снова и снова. И так без конца. Хайдженс выключил приемник.
— Почему вы не ответили на их сигнал перед тем, как ушли со станции, чтобы подбодрить их? — спросил Рон.
— Не сомневаюсь, что у них нет приемника. Они не ждут, что им ответят в течение многих месяцев. Едва ли они слушают беспрерывно, если живут в туннеле шахты. Они, наверное, иногда делают попытки выскочить, чтобы достать какую-нибудь пищу. И не думаю, что у них есть время и силы для того, чтобы делать сложные приемники и реле.
Рон молча его слушал и затем сказал:
— Мы должны достать еду для медведей. Наджет ведь только бросил сосать. Он голодный.
— Да, нужно попытаться, — согласился Хайдженс. — Может быть, и я ошибаюсь, но мне кажется, что сфиксов становится меньше, чем вчера или позавчера. Когда мы будем за пределами их обычных маршрутов, то снова поищем что-нибудь вроде «ночного бродяги». Боюсь, что они уничтожили все живое на пути.
Однако оказалось, что он был не совсем прав. Ночью Хайдженса насторожило рычание медведей. В темноте раздавались звуки шлепков. Легкий, как перышко, порыв ветра ударил его по лицу. Он тряхнул фонарь, висящий у него на поясе. Все вокруг было окутано беловатой дымкой, которая вдруг растаяла. Что-то темное метнулось в сторону. Затем Хайдженс увидел звезды и пустоту. Вскоре они расположились лагерем. Несколько больших летающих белых существ бросилось к нему. Ситка Пит зарычал во всю мощь своей огромной глотки. Потом раздался бас Фаро Нелл. Она вдруг высоко подпрыгнула и что-то схватила. Свет погас, прежде чем Хайдженс понял, что произошло. Он сказал только:
— Не стреляйте, Рон.
Они прислушались. В темноте слышался хруст работающих челюстей. Потом стало тихо.
— Смотрите! — прошептал Хайдженс.
Рон снова зажег фонарь. Какое-то существо странной формы, бледное, как человеческая кожа, покачиваясь приближалось к нему. За ним еще. Четыре, пять, десять. Огромная мохнатая лапа появилась в освещенном круге и выхватила из него летающее «привидение». Затем вторая огромная лапа. Хайдженс поднял фонарь. Три огромных Кодиака, стоя на задних лапах, смотрели на странных ночных гостей, которые дрожали, будучи не в силах преодолеть притяжения лампы. Они вращались с бешеной скоростью, и поэтому было невозможно подробней их рассмотреть. Это прилетели те самые отвратительные ночные животные, чем-то напоминающие ощипанных обезьян.
Медведи не рычали. Они спокойно, с удивительным знанием дела доставали «обезьян» и отправляли их в пасть. У ног каждого уже образовались маленькие холмики из останков. Вдруг все исчезло, Хайдженс потушил фонарь. Медведи деловито жевали в темноте.
— Эти существа плотоядные кровопийцы, — спокойно сказал Хайдженс, — они высасывают кровь у жертвы, как вампиры, причем ухитряются не будить ее, и когда жертва уже мертва, вся братия съедает труп. Но у медведей густая шерсть, и они просыпаются от малейшего прикосновения. Кроме того, они всеядны и едят все, за исключением сфиксов. Я уверен, что эти ночные гости пришли позавтракать. Но обратно они уже не уйдут. Сами они оказались лакомым блюдом для медведей.
Рон вскрикнул. Он включил маленький фонарь и увидел, что вся рука у него в крови. Хайдженс вынул из кармана перевязочный пакет, смазал и забинтовал ранку. Рон только сейчас заметил, что Наджет что-то жует. Когда зажгли яркий свет, медвежонок уже делал конвульсивные глотательные движения. Он, очевидно, поймал и съел «вампира», присосавшегося к Рону. К счастью, ранка оказалась пустяковой. Утром они снова двинулись вдоль крутого откоса плато. Рон все не мог успокоиться и несколько раз говорил:
— Роботы не справились бы с этими «вампирами».
— Да, но можно было бы сконструировать специально робота, который бы следил за ними. Есть же этих кровопийц вам пришлось бы самому. Что касается меня, то я предпочитаю полагаться на медведей, — отвечал Хайдженс. Он шел впереди. Здесь не нужно сохранять строй, необходимый для путешествия по лесу. Звери легко брали крутые подъемы, так как толстые подушки на лапах помогали им удерживаться на скользких скалах. Хайдженс и Рон с трудом волочили ноги. Дважды Хайдженс останавливался и в бинокль осматривал местность у подножия гор. Высокий пик, торчащий, как нос корабля, на краю плато, заметно приблизился. В полдень они увидели его над горизонтом в пятнадцати милях от места стоянки отряда. Это был их последний привал.
— Проход свободен. Внизу нет больше сфиксов, — сказал весело Хайдженс. — И даже не видно больше цепочек на склонах. Теперь нам нужно воспользоваться тем, что одна партия прошла, а вторая еще не появилась. Мне кажется, что мы обошли их дорогу. Посмотрим, что там у Семпера. — Он поманил рукой орла, который тотчас же поднялся в воздух…
Хайдженс стал смотреть на пластинку. Изображение на экране все время переворачивалось. Через несколько минут Семпер летел над краем плато. Там уже была растительность. Затем земля на пластинке быстро завертелась, и они увидели пятна кустарника. Семпер поднялся еще выше. На экране появилась пустыня, лежащая в середине плато. Нигде не было сфиксов. Только один раз, когда орел резко накренился и аппарат запечатлел плато во всю длину, Хайдженс увидел сине-рыжие точки. Мелькнули какие-то темные пятна, похожие на сгрудившееся стадо. Ясно было, что это не сфиксы, так как они никогда не собирались в такие стада.
— Лезем прямо наверх, — сказал Хайдженс. — Он был чем-то очень доволен. — Мы здесь пересечем плато. Думаю, что по дороге к вашей колонии мы узнаем нечто интересное.
Он сделал знак медведям, и они послушно стали карабкаться выше.
Через несколько часов, незадолго до захода солнца, люди достигли вершины. И здесь они увидели дичь. Не очень много, но все же это была настоящая дичь на зеленой, покрытой травой и кустарником окраине пустыни. Хайдженс подстрелил косматое жвачное, которое никак не могло быть коренным жителем пустыни. К ночи стало холодно. Температура здесь была значительно ниже, чем на склонах. Воздух очень разрежен. Рон вдруг догадался. В «носовой» части горы воздух стоял совершенно неподвижно. Там не было ни единого облачка. Тепло, исходящее от земли, попадало в пустое пространство. Ночью, по-видимому, там было страшно холодно. Он сказал об этом Хайдженсу.
— Да, и очень жарко днем, — ответил Хайдженс, — Солнце палит со страшной силой там, где воздух разрежен, а на горах всегда ветер. Днем здесь земля накаляется, как поверхность безатмосферной планеты. На солнце должно быть не меньше ста сорока — ста пятидесяти градусов, а ночью очень холодно. Они вскоре убедились в этом. Еще до наступления ночи Хайдженс разжег костер. Температура упала ниже нуля, и можно было спокойно спать, не опасаясь ночных гостей.
К утру люди совершенно закоченели, но медведи спокойно храпели и бодро двигались, когда Хайдженс поднял их. Казалось, они наслаждались утренней прохладой. Ситка и Сурду развеселились и начали бороться, награждая друг друга тумаками, могущими сразу размозжить череп.
Наджет внимательно следил за ними и даже чихнул от возбуждения. Фаро Нелл смотрела на медведей, и в ее взгляде было чисто женское осуждение.
Они двинулись дальше. Семпер стал каким-то вялым. После каждого полета он отдыхал на тюке, который нес Ситка. Он сидел на самом верху и оттуда обозревал все время менявшийся ландшафт. Зеленые заросли перешли в унылую пустыню. Семпер сидел с важным видом и упорно не желал летать. Парящие птицы не любят летать, когда нет ветра, облегчающего движение.
Хайдженс показал Рону на увеличенном стереофото дорогу, по которой они шли, и место, откуда доходили сигналы о бедствии.
— Вы все это мне объясняете на случай, если с вами что-нибудь произойдет? — спросил Рон. — Может быть, это и имеет смысл, но чем я смогу помочь этим оставшимся в живых людям, даже если доберусь до них без вас?
— Вам смогут пригодиться ваши познания о сфиксах, — ответил Хайдженс. — И медведи будут хорошими помощниками. Я оставил записку на станции. Всякий, кто приземлится на посадочном поле, ведь сигнальные огни включены, найдет указания, как добраться до нас.
Рон брел рядом с Хайдженсом, с трудом поспевая за ним. Узкая зеленая полоса границы плато осталась позади, и они шагали по порошкообразному песку.
— Послушайте! — сказал Рон. — Меня интересует одна вещь. Вы сказали, что вас считают похитителем медведей на вашей родной планете, но вы сами сознались, что это ложь, придуманная для того, чтобы спасти ваших друзей от преследования Колониальной Службы. А теперь вы каждую минуту рискуете жизнью. Большой риск оставить меня в живых. Теперь вы рискуете еще больше, отправившись на поиски людей, которые смогут подтвердить, что вы преступник. Для чего вы все это делаете? Хайдженс усмехнулся.
— Потому что я не люблю роботов. Мне противно думать о том, что они командуют людьми, заставляют людей подчиняться себе.
— Ну и что из этого следует? — нетерпеливо спросил Рон. — Не понимаю, почему ваша антипатия к роботам могла толкнуть вас на преступление. Тем более что это неправда. Люди не подчиняются роботам.
— Нет, подчиняются, — упрямо повторил Хайдженс. — Я, конечно, человек с причудами, но я счастлив, что могу жить на этой планете по-человечески, ходить куда мне хочется и делать все что хочу. Медведи мои друзья и помощники. Скажите честно, Рон, если бы попытка создать здесь колонию роботов не потерпела неудачи, разве люди могли бы жить здесь так, как им хочется? Едва ли. Они строили бы свою жизнь под диктовку роботов. Они вынуждены были бы вечно находиться за заборами, построенными роботами; они всегда ели бы только ту пищу, которую им выращивают роботы. Человек не может даже подвинуть кровать поближе к окну, потому что роботы, занимающиеся домашней работой, перестали бы действовать. Роботы хорошо обслуживают людей, так, как им и положено это делать, но для этого люди должны только тем и заниматься, чтобы служить роботам.
Рон покачал головой.
— Ну что ж! Это плата за удобства. Пока люди пользуются услугами роботов, они должны довольствоваться тем, что роботы могут им дать. А если вы отказываетесь от этих услуг…
— Я хочу иметь возможность решать самому, а не быть ограниченным в выборе того, что мне предлагают, — возразил Хайдженс. — На моей родной планете когда-то почти добились с помощью оружия и собак права принимать решения самостоятельно. Потом начали приручать медведей, которые частично избавили нас от услуг роботов. Но позже, когда настала угроза перенаселения и места для медведей и собак, да и для людей, явно не хватает, человек все больше и больше попадает во власть роботов и вынужден пользоваться тем, что ему может предложить цивилизация роботов. Чем больше мы зависим от них, тем ограниченней наш выбор, И мы не хотим, чтобы наши дети зависели от этих машин и страдали из-за того, что роботы не могут обеспечить их всем необходимым. Мы хотим, чтобы они выросли полноценными мужчинами и женщинами, а не проклятыми автоматами, у которых одна цель в жизни — нажимать кнопки управления роботов, без чего они не могут существовать. И вы считаете, что все это не есть подчинение роботам?
— Но ведь ваши доводы чисто субъективны, — не соглашался Рон. — Не все же чувствуют так, как вы.
— А я чувствую именно так, — сказал Хайдженс. — И не только я. Наша галактика большая и в ней много неожиданного. Можно с уверенностью сказать, что роботы и человек, который зависит от них, совершенно не подготовлены к столкновению с непредвиденными обстоятельствами и им не под силу будет справиться с ними. Недалек час, когда нам понадобятся люди, способные преодолеть любые препятствия. На моей планете многие просили разрешить им колонизацию Лорена Второго. Нам было отказано. Считается, что это слишком опасно. Но люди, если они настоящие люди, могут освоить любую планету. Я поселился здесь для того, чтобы изучить условия местной жизни. Особенно меня интересуют сфиксы. Со временем мы собирались вторично просить разрешения, уже после того как у нас будут доказательства, что возможно жить на этой планете и справиться даже с этими чудовищами. Я уже добился кое-каких успехов. Колониальная Служба дала разрешение на создание колонии роботов, но где же она?
Рон не сдавался.
— Вы выбрали неверный путь, Хайдженс, построив нелегальную станцию. Ваш исследовательский пыл, конечно, не может не вызывать восхищения, но, к сожалению, он направлен был не туда, куда нужно. Я хорошо понимаю, что именно такие пионеры, как вы, впервые покинули планету и отправились к звездам, но…
Сурду вдруг встал на задние лапы и понюхал воздух. Хайдженс придвинул к себе ружье, а Рон даже снял предохранитель, но тревога оказалсь ложной. Все было тихо.
— Собственно говоря, — продолжал Рон раздраженно, — вы говорите о свободе и равенстве, вещах, которые многие считают областью политики. Вы даже утверждаете, что это больше, чем политика. Принципиально я с вами согласен, но у вас все это звучит как какой-то религиозный выверт.
— Самоуважение, — сказал Хайдженс.
— Может быть, вы…
Фаро Нелл зарычала и стала носом подталкивать Наджета поближе к Рону. Она фыркнула на него и рысцой пустилась бежать туда, где уже выстроились Ситка и Сурду лицом к широкой части плато, на которой скопились сфиксы.
Хайдженс, приставив ладонь к глазам, стал вглядываться в том направлении, куда смотрели медведи.
— Они что-то учуяли! — сказал он тихо. — Но, к счастью, нет ветра. Впереди какой-то холм. Пошли-туда, Рон.
Он побежал вперед. Рон с Наджетом последовали за ним. Они быстро взобрались на невысокий, поросший кривыми кактусообразными кустами холмик, торчавший на высоту шести футов из окружающего песка. Хайдженс в бинокль оглядел местность.
— Один сфикс, — сказал он. — Всего один. Это не менее странно, чем огромные стаи от сотни до тысячи голов, которые мы видели. Он послюнил палец, поднял его и сказал: — Ни малейшего ветерка. — Потом снова приложил к глазам бинокль.
— Сфикс не знает о том, что мы здесь, он удаляется. И больше ни одного не видно. — Хайдженс стоял в нерешительности, покусывая губы.
— Послушайте, Рон, — сказал он, наконец. — Мне бы хотелось убить этого одинокого сфикса и выяснить одну вещь. И половина шансов за то, что удастся сделать очень важное открытие. Я хочу попробовать, но придется бежать туда. Если окажется, что я прав, — он взглянул на часы… — но нельзя терять ни минуты. Все должно быть сделано очень быстро, поэтому я хочу добраться туда верхом на Фаро Нелл. Ситка и Сурду без меня здесь не останутся. Но Наджет не может так быстро бегать, вы не побудете с ним, Рон?
У Рона перехватило дыхание. Но он спокойно сказал:
— Вы ведь всегда хорошо знаете, что вам следует делать, Хайдженс.
— Смотрите в оба. Если что-нибудь увидите вдалеке, стреляйте, и мы моментально вернемся. Не ждите, пока опасность будет близко, стреляйте сразу.
Рон кивнул головой. Ему было трудно разговаривать. Хайдженс подошел к приготовившимся к бою животным, взобрался на спину Фаро Нелл и крепко ухватился руками за густую шерсть.
— Ну пошли! — крикнул он. — Хоп!
Три Кодиака понеслись с бешеной скоростью. Хайдженс трясся и подпрыгивал на спине у Фаро Нелл. Неожиданный поход поднял Семпера с места. Он изо всей силы захлопал крыльями и взлетел вверх, а затем неохотно последовал за медведями, летя над самой головой Хайдженса.
Дальнейшие события разворачивались очень быстро. Кодиак, когда это необходимо, может бегать со скоростью лошади. Медведи мгновенно одолели полукилометровое расстояние, отделявшее их от сине-рыжего гада. Сфикс встретил их рычанием, Хайдженс выстрелил, не слезая со спины Фаро Нелл. Выстрел и взрыв пули слились в один звук. Огромное рогатое чудовище подпрыгнуло и испустило дух.
Хайдженс соскочил с медведицы и стал что-то делать на земле, где лежал мертвый сфикс, Семпер, перевернувшись в воздухе, накренился и стал снижаться. Склонив набок голову, он наблюдал за Хайдженсом.
Рон не отрываясь следил за движениями Хайдженса. Ситка и Сурду безучастно бродили вокруг, в то время как Фаро Нелл с любопытством смотрела на хозяина, который производил какую-то непонятную операцию над трупом сфикса. На холме тихо скулил Наджет. Рон потрепал его по голове. Наджет заскулил еще громче. Рон видел, как Хайдженс выпрямился и шагнул к Фаро Нелл. Затем он влез на нее. Ситка повернул голову и стал смотреть в ту сторону, где стоял Рон. Казалось, что он почуял что-то подозрительное. Затем отряд двинулся обратно к холму. Семпер бешено хлопал крыльями и кричал, хотя воздух был совершенно неподвижен. Перевернувшись несколько раз, он опустился на плечо Хайдженса и вцепился в него когтями, Наджет вдруг истерически завыл и прижался к Рону, как щенок, который в минуту опасности старается прижаться к матери. Рон упал и увлек за собой медвежонка. Он только видел, как мелькнула чешуйчатая шкура, и воздух огласился редкими, пронзительными визгами сфикса, сделавшего гигантский прыжок по направлению к Рону. Но зверь не рассчитал и прыгнул слишком далеко. Рон и Наджет мгновенно вскочили на ноги.
Рон еще не успел осознать, что произошло и что означает дьявольский визит, как Ситка и Сурду уже летели обратно со скоростью ракеты, Фаро Нелл громко завыла, и мохнатый медвежонок, спотыкаясь, со всех ног бросился к матери. Рон поднялся на ноги и схватился за ружье. Сфикс был совсем близко. Пригнувшись, он пристально наблюдал за удирающим медвежонком, готовясь его преследовать. Рон стал размахивать ружьем перед носом сфикса, а затем яростно ударил его. Сфикс завертелся и сбил Рона с ног. Трудно удержаться на ногах, когда адское чудовище весом в сотни фунтов с яростью и злобой дикой кошки со всей силой ударяется в грудь.
Но в эту минуту появился Ситка Пит. Животное встало на задние лапы и с громовым рычанием, как древний герой, вызывающий врага на битву, двинулось на сфикса. Подоспел Хайдженс. Он не мог стрелять, пока Рон был так близко от чудовища. Фаро Нелл мотала головой и рычала, раздираемая, с одной стороны, желанием успокоить Наджета, а с другой — разорвать обидчика, осмелившегося напасть на ее чадо.
Сидя на спине у Фаро Нелл с Семпером, идиотски цепляющимся за его плечо, Хайдженс беспомощно смотрел, как сфикс бросался и плевал на Ситку. Хищнику стоило только протянуть лапу и от Рона ничего бы не осталось.
V
Они поспешили уйти от этого места, хотя Ситку нелегко было оторвать от его жертвы. Он крепко зажал ее в зубах и пытался со всего размаху ударить о землю. Он, казалось, был вдвойне разъярен из-за того, что сфикс осмелился обидеть человека, с которым все медведи Кодиака состояли в духовном родстве. Но Рон получил только легкие царапины. Он смешно подпрыгивал и не переставая ругался. Хайджекс подсадил его на спину Сурду и велел крепко держаться. Но Рон сердито запротестовал.
— Черт возьми, Хайдженс. У Ситки глубокие раны. Эти ужасные когти могут быть ядовитыми. — Но Хайдженс в ответ только прикрикнул на медведей, и они продолжали свой путь.
Прошли не более двух миль, как Наджет отчаянно завизжал от усталости, Фаро Нелл решительно остановилась и стала его облизывать.
— Мы можем передохнуть, — сказал Хайдженс, — учитывая, что сейчас нет ветра и основная масса этих тварей на плато. Может быть, они чем-нибудь очень заняты и даже ослабили бдительность. Однако… — он соскользнул на землю и вытащил антисептический пакет и банку с мазью.
— Сначала Ситку, — сказал Рон. — Я могу потерпеть.
Хайдженс промыл раны огромного медведя. Они оказались пустяковыми. Ситка был испытанным бойцом. Затем он смазал все царапины на груди Рона. Мазь пахла озоном и жгла так сильно, что у Рона захватило дух, но он мужественно все терпел и только сказал:
— Я сам виноват, Хайдженс. Я следил за вами, вместо того чтобы смотреть по сторонам. Я не мог понять, что вы делали.
— Я сделал быстрое вскрытие, — ответил Хайдженс. — К счастью, первый сфикс оказался самкой, как я и думал. Она собиралась откладывать яйца. Теперь я, наконец, знаю, куда они двигаются и почему они здесь не охотятся. — Он наложил пластырь на грудь Рона, и вскоре они снова двинулись на Восток, оставив позади мертвых сфиксов. Семпер летал над головой и хлопаньем крыльев выражал свое возмущение тем, что ему не разрешили ехать на спине у Ситки.
— Я уже вскрывал их и раньше, — сказал Хайдженс. — О них почти ничего не известно. А ведь необходимо получить целый ряд сведений, чтобы люди когда-нибудь смогли здесь жить.
— С медведями? — спросил насмешливо Рон.
— Да, конечно, — ответил Хайдженс. — Дело в том, что сфиксы приходят сюда в пустыню размножаться. Они здесь спариваются и откладывают на солнце яйца. Это их заветное место. Ведь тюлени всегда возвращаются в одно и то же место для спаривания. Их самки в это время неделями не едят. Кета для размножения возвращается в родные реки. Рыбы тоже голодают и в конце концов после нереста погибают, а угри, я привожу примеры из жизни на Земле, Рон, проплывают не одну сотню миль до Саргассова моря, чтобы вывести потомство и погибнуть. К несчастью, сфиксы не умирают, но совершенно очевидно, что у них тоже есть унаследованное еще от их предков место размножения, и они приходят сюда на плато класть яйца.
Рон продолжал идти. Он был зол на себя за то, что забыл об элементарной предосторожности. Он чувствовал себя и здесь, в чужом мире, слишком спокойно, так как привык к таким условиям жизни, которые окружают людей цивилизации, создаваемой роботами. Он не реагировал, когда даже медвежонок почувствовал опасность.
— А теперь, — сказал Хайдженс, — мне не мешало бы иметь оборудование, которое было у ваших роботов. При помощи техники, я уверен, мы сделаем первые шаги к освоению этой планеты и созданию нормальных условий жизни на ней.
— С помощью чего? — переспросил Рон.
— Техники, — сказал нетерпеливо Хайдженс. — Мы найдем много машин в колонии роботов. Роботы оказались беспомощными, потому что они не могли активно бороться со сфиксами. Они и впредь будут вести себя не лучше. Но если убрать роботов, машины вполне пригодны. Они ведь не чувствительны к смене температуры.
Рон шел молча.
— Вот уж не думал, что вам понадобятся машины, сделанные руками роботов, — наконец сказал он.
Хайдженс обернулся.
— Ну а что в этом ужасного? — спросил он. — Я не против того, чтобы люди заставляли машины выполнять свои желания. И роботы, когда они используются по назначению, не так уж плохи. 'Но есть вещи, с которыми роботам не справиться. Только человек может управлять огнеметными орудиями и стерилизаторами почвы, чтобы как следует выжечь все вокруг и уничтожить семена ядовитых растений. Мы сюда еще вернемся, Рон, и уничтожим посев этих дьявольских отродий. И если каждый год мы будем стерилизовать почву, то со временем совсем сотрем сфиксов с лица планеты. Я уверен; что у них есть другие места для откладывания яиц. Мы все их отыщем и превратим Лорен в планету, где люди смогут жить по-человечески.
Рон язвительно заметил.
— Если вы уничтожите сфиксов, то тем самым обезвредите планету для роботов.
Хайдженс рассмеялся.
— Вы видели только одного «ночного бродягу», — сказал он. — А вы забыли об обитателях горных склонов. Они вполне в состоянии выпустить из вас кровь, а потом устроить пиршество над вашим трупом. Сознайтесь, Рон, могли бы вы отправиться в путешествие с роботом в качестве телохранителя? Сомневаюсь. Люди не смогут жить на этой планете, если защита их будет зависеть от роботов. Вы еще вспомните мои слова.
Только через десять дней люди нашли колонию. За это время им пришлось выдержать не одну схватку со сфиксами. Они убили несколько оленеподобных животных и каких-то незнакомых косматых жвачных.
В колонии они прежде всего отправились на поиски оставшихся в живых людей. Их было трое, заросших и израненных. Когда упал электрический забор, двое из них находились под землей в туннеле, где устанавливали новый пульт управления роботами, которые должны была работать в шахтах. Третий надзирал за рудными разработками. Обеспокоенные тем, что прервана связь с колонией, они направились в бронированной машине к лагерю, чтобы выяснить, что произошло. У них не было с собой оружия, и только это спасло им жизнь. На территории колонии они нашли невероятное количество беснующихся сфиксов. Звери сквозь броню почуяли людей, но пробить ее не могли. Колонисты прекратили всю добычу руды и решили использовать для борьбы со сфиксами управляемых на расстоянии роботов. Но роботы не могли справиться с незнакомым заданием. Несчастные смастерили маленькие ручные гранаты и наполнили их ракетным топливом. Несколько обожженных сфиксов с визгом убежало прочь. Но гранаты эти не могли убить ни одного сфикса. Хуже всего оказалось то, что на их изготовление ушел почти весь запас горючего. В конце концов колонисты забаррикадировались в туннеле. Остатки топлива они хранили для устройства сигнализации на случай, если их будет разыскивать корабль. Люди были заключены в шахте, как в тюрьме. Строго распределив оставшиеся запасы пищи, они терпеливо ждали спасения, почти утратив всякую надежду, и с ненавистью созерцали неподвижные фигуры металлических роботов, которые из-за отсутствия топлива не могли выполнять даже ту единственную работу, на какую они были способны.
Увидев Хайдженса и Рона, колонисты заплакали. Роботы и все с ними связанное вызывали у них едва ли не большее отвращение, чем сфиксы. Хайдженс дал им оружие, которое достал из мешка, и они двинулись к мертвой колонии. По дороге они убили шестнадцать сфиксов, а на расчищенной роботами площадке, уже начинающей зарастать травой, они обнаружили еще четырех. В самых разных местах лежали останки несчастных колонистов. В бараках и на складах они нашли небольшие запасы пищи. Сфиксы уничтожили почти все пластикатовые пакеты со стерилизованными продуктами, но не тронули металлических ящиков.
Топливо, к счастью, было цело. Повсюду стояли и лежали сверкающие металлом роботы, казавшиеся готовыми в любую минуту приступить к работе. Но они были неподвижны, и вокруг них уже поднималась молодая поросль. Люди даже не посмотрели на роботов. Переоборудовав огнеметательные машины так, чтобы ими можно было управлять без помощи роботов, они наполнили их доверху горючим, затем отыскали и привели в порядок гигантский стерилизатор, специально сконструированный для уничтожения растений, которые роботы не могли выполоть. Закончив все, они направились к плато.
За несколько дней колонисты совсем избаловали Наджета. Они с радостью приветствовали все, что, хотя бы в будущем, могло обратиться против сфиксов, и поэтому все время кормили и ласкали его.
По следам сфиксов они добрались до вершины плато. Семпер помогал выслеживать чудовищ. Сфиксы всякий раз с визгом и воем нападали на отряд. Медведи ловко отражали их атаки, в то время как Хайдженс и Рон пускали в ход новые орудия. Стерилизатор оказался пригодным и для уничтожения яиц сфиксов. Его диатермические лучи безошибочно попадали в цель. В руках человека машина превратилась в боевое орудие. Ни один робот не сообразил бы, когда и против какой мишени можно его использовать.
Груды опаленных трупов привлекали сфиксов со всего плато, даже когда не было ветра. Они приходили повыть над мертвыми сородичами. Уцелевшие колонисты расположили орудия вокруг скопища мертвых исчадий ада и потоками огня встречали вновь пришедших. По расчетам Хайдженса, они уничтожили большинство сфиксов в этой части пустыни. Немало их, очевидно, оставалось еще в других местах, но на очищенной территории можно было спокойно жить, не опасаясь новых нашествий, так как лучи стерилизатора проникали через толстый слой песка и навсегда обезвреживали смертоносные яйца. К тому времени как были закончены работы, Хайдженс и Рон устроили на краю плато лагерь к поселились там с медведями, предоставив колонистам возможность отомстить за убитых товарищей.
Однажды вечером Хайдженс прикрикнул на Наджета, который обнюхивал мясо, жарящееся на вертеле над костром. Наджет жалобно заскулил и отправился искать защиты у Рона.
— Хайдженс, — с усилием начал Рон. — Пора поговорить нам о наших делах. Я инспектор Колониальной Службы, а вы нелегальный колонист. Мой долг арестовать вас.
Хайдженс посмотрел на него с любопытством.
— Вы предложите мне отступное, если я выдам своих сообщников? — спросил он тихо. — Или мне нужно будет доказывать, что я не обязан давать показания против своей совести?
— Оставьте этот тон, Хайдженс, — сказал раздраженно Рон. — Всю жизнь я был честным человеком, но больше я не верю, что роботы пригодны во всех условиях. Здесь не место для них. Все было с самого начала неверно. Сфиксы уничтожили колонию, потому что роботы не смогли с ними справиться.
Здесь должны жить только люди и медведи. В противном случае людям придется проводить всю жизнь за сфиксонепроницаемыми заборами и довольствоваться тем, что будут производить роботы. А здесь очень много интересного, и люди будут лишены всего этого. Мне кажется, что жить на таких планетах, как Лорен Второй, в полной зависимости от роботов, значит проявлять неуважение к себе.
— Надеюсь, вы не становитесь религиозным? — сухо спросил Хайдженс. — Вы прежде пользовались этим термином для определения самоуважения.
Семпер вскрикнул, так как Ситка подошел к огню и чуть не наступил на него. Медведь стал втягивать в себя ароматный запах мяса, Хайдженс грубо закричал на него, и он снова уселся, не сводя глаз с куска мяса и все время облизываясь.
–. Вы так и не дали мне закончить, — сердито сказал Рон. — Я инспектор Колониальной Службы, и в мои обязанности входит проверка того, что сделано на планете до высадки основной партии колонистов. Первым делом я должен составить подробный отчет о колонии роботов, для обследования которой я сюда прибыл, а колония фактически уничтожена. И, как я теперь понимаю, это не случайность. Все было запланировано неверно. Колония не могла удержаться здесь.
Хайдженс усмехнулся. Надвигалась ночь. Он перевернул вертел.
— В случае необходимости колонисты имеют право обратиться за помощью к любому проходящему мимо кораблю. Естественно, что… Я всегда был честным человеком, Хайдженс, и я напишу в отчете, что колония, созданная согласно намеченному плану, оказалась нежизнеспособной и была уничтожена. Все погибли, за исключением трех человек, которые спрятались и подавали сигналы о бедствии. Ведь все именно так и было. Вы сами это знаете.
— Продолжайте, — насмешливо сказал Хайдженс.
Рон снова начинал сердиться.
— И совершенно случайно, случайно, заметьте это, корабль, на борту которого находились вы, Ситка, Сурду, Фаро Нелл и, конечно, Наджет и Семпер, уловил сигналы о бедствии. Вы приземлились, чтобы помочь колонистам. Так все и было. И ваше пребывание здесь вполне законно. Ведь незаконным во всем этом деле было только то, что вы оказались здесь в тот момент, когда понадобилась ваша помощь. Но мы сделаем вид, что вас здесь не было.
Хайдженс повернул голову и стал всматриваться в сгущающийся мрак. Затем он спокойно произнес:
— Я бы не поверил этой истории, если бы мне ее рассказали. А вы думаете, что в Колониальной Службе поверят?
— Они не дураки, — резко ответил Рон, — и, конечно, они не поверят. Но когда они прочтут в моем отчете, что в результате самых невероятных событий представляется реальная возможность заселения этой планеты, то они посмотрят на это дело иначе. Я им докажу, что колония роботов без людей на Лорене Втором чистейшая ерунда и что только люди с помощью медведей могут сделать планету пригодной для высадки колонистов по нескольку сот в год. И когда это станет реальным…
Тень Хайдженса как-то странно затряслась. Сидящий недалеко от костра Сурду с надеждой нюхал воздух. На яркий свет уже слетались бесшерстные порхающие существа, которых медведи легко сбивали лапами на землю и потом с аппетитом съедали.
— В моем отчете, — продолжал Рон, — будет слишком много заманчивых предложений, и он будет иметь вес. Организаторы колонии роботов вынуждены будут со всем согласиться, так как иначе они погорят. А ваши друзья их поддержат.
Хайдженс трясся от смеха.
— Вы низкий лжец, Рон, — наконец, сказал он. — Ведь очень неразумно и непредусмотрительно с вашей стороны ставить пятна на свою безупречную репутацию только для того, чтобы выручить меня из беды. Вы ведете себя не как разумное животное, Рон. Но я знал, что из вас не выйдет разумного животного, когда наступит трудный момент.
Рон смутился.
— Но это единственный выход из создавшегося положения, и, по-моему, он вполне приемлем.
— Я принимаю его, — сказал улыбаясь Хайдженс, — с благодарностью, так как это даст возможность нескольким поколениям людей жить по-человечески на этой планете. Я принимаю его еще и потому, если хотите знать правду, что это спасет Сурду, Ситку, Нелл и Наджета, которых я незаконно привез сюда.
Что-то мягкое ткнулось в колени Рона. Медвежонок толкал его, чтобы поближе придвинуться к лакомому куску. Наконец, ему удалось протиснуться к огню. Рон покатился по земле, но Наджет ничего не замечал. Он упоенно вдыхал запах мяса.
— Шлепните его как следует, — посоветовал Хайдженс. — Он сразу отодвинется.
— Ни за что, — возмутился Рон, не двигаясь с места, — ни за что. Он мой друг.
Перевод с англ. А. СтавискойПримечания
1
Мутация — внезапное изменение в свойствах или признаках животных и растительных организмов под влиянием различных факторов, в том числе и радиоактивного излучения. — Прим. ред.
(обратно)2
Хараппа — деревня в Западном Пенджабе (Пакистан), вблизи которой находятся развалины крупнейшего из городов бронзового века в Индии, свидетельствующие о существовании в долине Инда в третьем-втором тысячелетиях до н. э. богатой и самобытной цивилизации.
Мохенджо-Даро — группа холмов в провинции Синд (Пакистан), содержащих развалины городского поселения третьего-второго тысячелетий до н. э., относятся к археологической культуре Хараппа. Мохенджо-Даро и Хараппа характеризуют собой одно из древнейших ранне-рабовладельческих госудаоств в мире и представляют древнейшую основу культуры Индии. — Прим. ред.
(обратно)3
Розеттский камень — плита из черного базальта с надписью иероглифами на древнеегипетском языке, египетском разговорном и греческом языках, найденная в 1799 году во время похода Наполеона близ г. Розетта (Египет). Эти надписи помогли выдающемуся французскому ученому-египтологу Жану Франсуа Шампольону в 1822 году расшифровать первые египетские иероглифы, что положило начало изучению древнеегипетской иероглифической письменности. — Прим. ред.
(обратно)4
Минтурно — небольшой итальянский город, расположенный северо-западнее Неаполя вблизи от побережья залива Гаэта. — Прим. ред.
(обратно)5
Гротефенд Г. Ф. (1775–1853) — немецкий филолог, специалист по древнеиталийским языкам, достиг больших успехов в расшифровке древнеперсидских клинописных текстов. — Прим. ред.
(обратно)6
Царство хеттов — существовало во втором — начале первого тысячелетия до н. э. в Малой Азии. Хеттское царство являлось типичным ранним рабовладельческим государством. Раскопки на месте древнего города Хаттушапг (в дер. Богазкей) начаты немецким ученым Г. Винк-лером в 1906–1907 годах. — Прим. ред.
(обратно)7
Шампольон Ж. Ф. Младший (1790–1832) — крупнейший французский египтолог, впервые расшифровавший египетские иероглифы (см. примечание 3). — Прим. ред.
(обратно)8
«Мария Целеста» — небольшая деревянная бригантина, построенная на верфях Новой Шотландии (Канада) в 1861 году. 7 ноября 1872 года вышла из Нью-Йорка с грузом спирта в Геную. 4 декабря того же года корабль был обнаружен без команды близ Азорских островов. Обстоятельства, при которых команда покинула судно и погибла, не выяснены до сих пор. Тайна гибели экипажа «Марии Целесты» долгое время волновала умы людей и послужила сюжетом для написания различных художественных произведений. — Прим. ред.
(обратно)9
Лорд Кэрнарвон Джордж Эдуард (1866–1923) — известный английский египтолог. В 1906 году начал раскопки в Фивах (Египет) совместно с Говардом Картером. Кэрнарвон открыл гробницы фараонов XII и XVIII династий и в том числе в 1923 году знаменитую гробницу Тутанхамона.
Картер Говард (1873) — английский египтолог. Участвовал в нескольких археологических экспедициях на раскопках в Египте в 90-х годах XIX века и в начале нашего века. Открыл гробницы фараонов Ментухетепа, Тутмоса, Тутанхамона и некоторых других.
Тутанхамон — египетский фараон XVIII династии, правивший в первой половине XIV века до н. э. — Прим. ред.
(обратно)10
Transuranics — трансураны, радиоактивные элементы: нептуний, плутоний, америций, менделевий и др., располагающиеся за ураном, последним химическим элементом таблицы Менделеева. Трансураны получены искусственным путем в результате ядерных реакций. — Прим. ред.
(обратно)
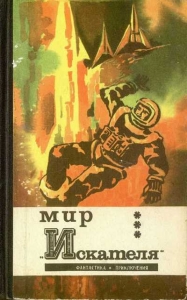
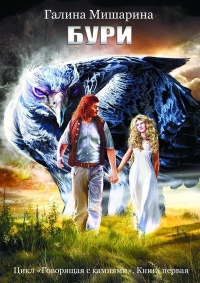


Комментарии к книге «На суше и на море - 60. Фантастика», Мюррей Лейнстер
Всего 0 комментариев