Александр Рубан СОН ВОЙНЫ (сборник)
СОН ВОЙНЫ Штатская утопия
Маме
Мы мирные люди и хотим заниматься своим ремеслом.
Из петиции чартистов английскому парламентуА вы не прбовали, сын мой, отделиться от государства
Из анекдота про попа и генерала1
Наконец он проснулся.
— Снятый, — сиплым фальцетом представился он после паузы. — Серафим Светозарович. Разнорабочий… — Откашлялся, харкнул куда-то рядом и продолжил в басах: — Можно просто Сима.
Я отвернулся от окна (за которым были все тот же столб номер двести какой-то на перегоне Березино-Бирюково, все та же никлая серая нива до горизонта и все та же цепочка странно неподвижных одинаковых человеческих фигурок на расстоянии двух-трех сотен метров от насыпи) и посмотрел на попутчика. «Просто Сима» лежал ничком на верхней полке напротив — там, куда мы с Олегом положили его вчера, и с любопытством глядел на меня, свесив квадратную, в опухлостях и складках, физиономию.
— Доброе утро, Сима, — сказал я ровным голосом и опять повернулся к окну.
Танечка с Олегом куда-то вышли из купе, а разговаривать с этим типом после вчерашнего мне не хотелось. Но было надо.
— А я тебя помню, старик! — радостно заявил Сима и заворочался наверху, не то усаживаясь, не то собираясь спуститься. — Я же тебя угощал!
«И черт меня дернул принять твое угощение», — подумал я, а вслух сказал, глядя на тот же столб:
— Вы угощали всех, кто был в вагоне-ресторане. Как потом выяснилось, за мой счет.
Ворочанье наверху прекратилось.
— Это как? — помолчав, озадаченно произнес Сима.
«По-хамски!» — чуть было не отрезал я. Однако сдержался и объяснил подробнее:
— При вас было всего две тысячи, и вы не вязали лыка. Я тоже был «подшофе», хотя и не до такой степени. А поскольку мы сидели за одним столом и беседовали вполне дружески, официанты увели меня на кухню и там заставили оплатить счет. Ваш.
Я взял со столика заранее приготовленную бумажку и, не глядя, сунул ему наверх.
— Сколько там? — хмуро осведомился попутчик и опять заворочался. Счет он принимать не спешил.
— Двадцать одна, — сказал я. — Минус две, которые нашли у вас. Минус полторы за мой обед вместе с вашим угощением. Итого — семнадцать тысяч пятьсот.
— Вот сволочи! — выругал Сима непонятно кого. — И ты заплатил?
Я пожал плечами и кивнул, все так же глядя в окно.
Он снова харкнул, пошелестел бумажкой и уронил ее вниз. Она влажно шлепнулась на столик передо мной.
Хам!..
Я скрипнул зубами и промолчал.
Сима грузно спрыгнул на пол и, охнув, схватился руками за голову. Квадратное лицо его перекосилось, деформируясь в криволинейный параллелограмм.
— Слушай, старик… — просипел он наконец. — Почему стоим, не знаешь?
— Не знаю. Еще ночью встали. Вы мне деньги вернете или нет?
— А почему солдаты? — Он навалился на столик и стал дышать рядом, вынудив меня вжаться в угол. — Ведь это солдаты?
— Не знаю, — сказал я сквозь зубы, хотя и сам давно уже понял, что это солдаты. — Я вас о деньгах спрашиваю.
— Мамочка-родина! — воскликнул он почти трезвым голосом, игнорируя мой вопрос и щурясь в окно. — «Шилка»! И вон еще… А там что за дура?.. Гадом буду, «град»! Чего им тут надо?
— На битву пригнали, — объяснил я, не без яда в голосе. — За урожай. Вы же видите: конец октября, а хлеба не убрали!
Сима недовольно зыркнул на меня и выпрямился.
— Все шутишь, интеллигенция, — буркнул он запустив руку за ворот свитера и скребясь там. — Гляди, дошутишься… Нет бы узнать, что и как, а он шуточки. Ты хоть узнал, когда мы дальше поедем? Или мне, больному, идти самому узнавать?
— Серафим Светозарович! — сказал я. (Мне очень хотелось назвать его как-нибудь по-другому, но я решил, что так будет ядовитее…) — Ответьте мне честно: могу ли я рассчитывать на то, что получу обратно мои семнадцать тысяч пятьсот рублей?
— Люблю настырных! — одобрительно сказал Сима и уселся, даже не отогнув матрас, прямо на Танечкину постель.
— Да верну я тебе твои «бабки», верну, не дрейфь!.. — Сима выпростал наконец руку из-под свитера, задрал его и поскреб живот, розово прущий наружу из-под рубахи. — Но не сейчас.
Он опустил свитер, резко поднялся и снова охнул. Постоял, закатив глаза и держась за голову, потом поднял руки и стал осторожно стаскивать с багажной полки свой туго набитый рюкзак.
Деньги у него были: толстая пачка потертых соток и, кажется, даже несколько тысячных, и я облегченно вздохнул. Однако Сима, не пересчитывая, согнул пачку пополам и сунул ее в карман штанов. Потом он извлек из рюкзака две бутылки водки. Одну из них кинул на Танечкину постель, а вторую со стуком поставил передо мной на столик.
— На! — сказал он мне щедрым голосом. — Владей!
— Спасибо, — язвительно поблагодарил я. — И это все?
— По старой цене! — сообщил Сима, завязывая рюкзак. — Так что, считай, задаром. Остальное потом, если живы будем.
Он выпрямился и ногой задвинул рюкзак под столик. Взял со столика оплеванный ресторанный счет, взял свою бутылку, обтер ее и бросил счет на пол.
— Я бы вернул тебе твои «бабки», Петрович, — продолжал он. — Прямо сейчас вернул бы — но нельзя, понимаешь? Они сегодня еще нужны будут, жопой чувствую!
— Это ваше самое чувствительное место? — осведомился я.
— А вот завтра они уже никому будут не нужны, — поучающе продолжал Сима. — У тебя еще «бабки» остались?
— Не ваше дело!
Я отвернулся к окну. Фигурки солдат на сером поле были все так же до странности неподвижны, и обе «шилки» все так же стояли как вкопанные, задрав к небу все свои черные спички стволов. И лишь возле «града» (если это был «град») происходила некая зловещая, потому что беззвучная, суета… Странно: как я сумел прозевать появление этой техники? И непонятно, откуда она появилась — разве что упала с неба или выросла из-под земли. Ведь было видно, что поникшая серая нива поникла сама по себе, нигде не была истерзана этим тяжелым, грохочущим, рвущим землю железом, предназначенным убивать. Да и сейчас не было слышно никаких звуков, не только снаружи, но и внутри вагона. То есть, вообще никаких, кроме Симиного сопения рядом.
Он снова сел на Танечкину постель и стал шарить ногами по полу, ища свои ботинки.
— Я пока обуюсь, — сообщил он, — а ты пока сумку поищи. У Танюхи где-то пустая сумка была — большая такая, болоньевая. С «Аэрофлотом»…
Я демонстративно улегся на спину, заложил руки за голову.
— Идите куда собрались, Сима, — сказал я. — Я устал от вас. Если что узнаете о причинах задержки, будьте добры, расскажите.
— Фиг тебе, Петрович! Вместе пойдем.
От прямого насилия меня спасло появление Танечки и Олега: при них Сима почему-то робел… Может быть, потому, что Олег был его на полголовы выше и в три раза уже в бедрах при равной ширине плеч, а свои любовно взращенные мускулы носил не только для декорации.
Олег был очень правильным молодым человеком: не пил, не курил, избегал жаргонных словечек, занимался четырьмя видами спорта и учился на брокера. И если он не пропустил даму вперед, значит, у него на это были веские причины.
— Извините, Танечка, — сказал он, едва откатив дверь купе, — вам придется подождать, пока не выветрится.
Войдя, он сочувственно улыбнулся мне, движением руки устранил с дороги Симу, скатал Танечкину постель и забросил ее на багажную полку.
— Сядь вон туда, — сказал Олег, еще одним движением руки передвигая Симу в угол у двери, — и постарайся не дышать.
Сима хмыкнул.
— Ты лучше расскажи, чего узнал? Из-за какого мы тут…
Он не договорил, потому что Олег зажал его губы ладонью.
— Действительно, Олег, — поддержал я Симу. — Вы бы с нами поделились информацией, а то мы тут сидим, ничего не знаем.
— Конечно, поделимся. — Олег улыбнулся мне, споро наводя порядок на столике. — Всем, что имеем… Танечка! — позвал он, выглянув в коридор. — По-моему, уже терпимо… Давайте сумку.
— Танюха! — оживился Сима. — Молодой меня заразой обзывает! Ты его за это к телу не подпускай, а то обижусь.
— Дурак! — сказала Танечка, входя и садясь рядом со мной, напротив Симы.
Я поспешно отвел глаза, потому что средняя пуговка на ее блузке расстегнулась. Бюстгальтеры Танечка, видимо, никогда не носила — не было, знаете ли, нужды.
Олег между тем раскрыл Танину болоньевую сумку с эмблемой Аэрофлота и стал выкладывать ее содержимое на столик. Содержимого было немного, и оно было странным. Четыре кусочка хлеба (тоненьких, явно ресторанной нарезки), четыре баночки аджики и десятка два плоских стеклянных баночек с черной икрой (из них Олег выстроил четыре одинаковые стопки, и одна баночка при этом оказалась лишней).
— Все, — сказал он, сев напротив меня и аккуратно складывая сумку. — На это ушли все наши наличные деньги. Танечкины и мои.
Сима молча протянул свою лапу, взял лишнюю баночку, повертел ее перед глазами и положил обратно.
— Видал, на что «бабки» тратят, ослики? — сказал он мне. — Я же говорю: мусор!
— А у вас, как я понимаю, денег уже не осталось? — спросил Олег.
— Рублей триста, — сказал я и посмотрел на Симу.
Сима сидел, сунув руки в карманы, и смотрел в потолок.
— Да, это не деньги, — согласился Олег. — Разве что покушать, если успеете: там пока еще кормят. А на вынос — только вот это… И воды никакой. Было сухое вино и пиво, но их уже разобрали, нам не досталось.
— А в титанах? — подал голос Сима.
— Титаны пусты. Утренний чай был последним: по расписанию мы в шесть вечера должны быть на месте.
— Но почему… — Мне пришлось сглотнуть подступивший комок, чтобы продолжить. — Разве это надолго? Что случилось?
— Посмотрите в окно, — Олег пожал плечами, — и вы узнаете все, что знают другие.
— Война?
(Не знаю, кто задал этот вопрос — я, или Сима. Кажется все-таки, я.)
— Сомневаюсь, — ответил Олег. — Хотя есть и такая версия.
— Версия… — повторил я. — Почему версия? У вас что, нет никакой информации? А проводники что говорят? А радио?
— Проводники заперлись в бригадирском вагоне и уже четвертый час заседают. Поездное радио передает баллады Алексея Толстого вперемешку с русскими плясовыми. Поэтому информации нет, одни слухи. Если хотите, могу изложить.
— Валяй, старик, — сказал Сима. — Время терпит.
— Хорошо. Версий множество, я перечисляю основные…
Основные версии Олега сводились к: а) Авария. Впереди столкнулись два состава. Если бы это было так, мы бы давно двинулись обратно в Березино и перешли на запасный путь. («И ворон не видать, — заметил Сима. — Со всех сторон летели бы».) б) Березино отделилось от Бирюкове — а наш состав оказался на спорной территории. Пока две мэрии не договорятся, где ставить таможню, нас не пустят ни туда, ни обратно. Вполне похоже на правду — особенно если вспомнить, что Березино находится в Тунгусии, а Бирюково в Корякии. (Так решил Сима, но, по-моему, напутал: Корякия где-то не здесь…) в) Военные проводили некие жутко секретные испытания. У них взорвалось не там, где надо, а нам не повезло: попали под воздействие. Теперь нас объявили подопытным материалом и будут изучать последствия. г) Изучать нас действительно будут, но никакие не военные, а гончепсяне — гуманоиды из созвездия Гончих Псов. Светящийся дискоид со щупальцами, который ночью видели две женщины и один мальчик из девятого вагона, был на самом деле побочным эффектом пространственной свертки — так что теперь мы от всего отделены. Солдаты никакие не солдаты, и «шилки» никакие не «шилки». То и другое — муляжи, наскоро сооруженные гончепсянами для правдоподобия. Заметили, что скоро полдень, а солнца не видно? То-то! (Эту версию Сима никак не прокомментировал. Выслушал молча, приоткрыв от внимания рот, и даже не чесался.) д) Все это выдумки — а на самом деле китайцы тридцать лет готовились и вот наконец напали. Ничего не слышно, потому что фронт пока еще далеко, но вся прифронтовая стокилометровой ширины полоса взята в режим. е) Это все жиды! («И кацапы с чурками».) ж) Не жиды, а жидов, потому что давно пора. Россия для русских!.. з) И это еще далеко не все, потому что версия о гончепсянах имеет бессчетное множество вариаций, более или менее трансцендентных: все различные сдвиги во времени, параллельные пространства, раскрепощение сатанинских или божественных сил и даже — неуклюжесть одряхлевшего тибетского далай-ламы, задевшего локтем тот самый заварочный чайник (сработанный из сардониксовой скорлупы яйца Дунги-Гонгма), в котором содержится наша Вселенная…
— Про гончих псов ты клево загнул, — заявил Сима. — А только вертухаи — настоящие, гадом буду. Глянь, как стоят!
Мы глянули. Картина за окном вагона была все та же, только цепочка солдат вроде бы стала погуще. И беззвучная суета возле «града» (если это был «град») прекратилась — теперь его стволы смотрели не прямо на нас, а в сторону, туда, где была голова состава.
— Надо как-то добраться до проводников, — сказал я.
— Что ж, попытайтесь, — согласился Олег. — Мы пытались.
— Они в каком сидят? — спросил Сима.
— В пятом, — ответил Олег. — Через один после ресторана. Но тамбур закрыт. Еще хорошо, что ресторан с нашей стороны.
— Точно, — сказал Сима. — Жрать захотят — откроют. Идешь, Петрович? Я пошел!
Я наконец нашарил свои туфли (они оказались под Симиным рюкзаком) и молча стал обуваться. Этого типа, видимо, придется терпеть. И, может быть, долго.
— Танюха, мы твою сумку возьмем, — сообщил Сима. — Ты застегнись, не смущай Петровича.
Ну, хам и хам!
Уже выпустив меня из купе и выходя сам, Серафим Святый вдруг сделал широкий жест.
— Там, — сказал он, полуобернувшись в дверях и тыча рукой на свой рюкзак под столиком, — шмат сала, яблоки, печенье и два пузыря сухача из падалок. Это мое, дозволяю присовокупить. И еще мак в торбочке, три кило, но это родичам передали… Пошли, Петрович!
«Все равно хам…» — подумал я не очень уверенно. И, как бы специально для того, чтобы не оставить у меня ни малейших сомнений в его нутряной сути, Сима, еще не до конца задвинув дверь, сунулся губами к щели и проговорил:
— Танюха! Молодого к телу не подпускай! Обижусь.
— В следующий раз дам по морде, — спокойно сказал Олег, и Сима, гоготнув, захлопнул дверь.
2
И у нас, в одиннадцатом вагоне, и в следующем, десятом, было пусто и тихо. Двери почти всех купе были закрыты, изредка до нас доносились чье-то покашливание, чей-то возбужденный шепот, дважды — невнятная приглушенная ругань. Никто не стоял и не курил в тамбуре, никто не слонялся по коридору, и только пятеро или шестеро пассажиров — хмурые, разобиженные, с пустыми пластиковыми пакетами — прошли нам навстречу. Один из них держал руку в кармане, а двое прижимали к груди по баночке черной икры.
А в первом тамбуре девятого вагона мы обнаружили заставу. Очень даже богатырскую. О причинах и сроках задержки застава не знала и, по-моему, знать не хотела. Все четверо богатырей и богатырша-общественница были при деле, горели рвением и пеклись о всеобщем благе. Желающих выйти они запускали в тамбур по трое и шмонали безжалостно. После шмона каждому выдавали справку о размере изъятых излишков и отпускали, записав номер вагона и фамилию в разграфленную общую тетрадку.
Сима слегка задержался (и задержал меня), чтобы понаблюдать процедуру досмотра; выяснил, что аджику почти не несут, что хлеб пока не реквизируют, но его и не возьмешь много — официанты не дадут, а спирт никому не нужен — хоть ящик бери…
Девятый и восьмой вагоны были плацкартными, и сутолока в них усугублялась очередями. Сначала мы протиснулись сквозь очереди в туалет и на досмотр, а в середине девятого вагона начиналась очередь в ресторан, которая, как выяснилось, была двойной: отдельно стояли просто покушать и отдельно в буфет. Я было пристроился в хвост «просто покушать», но Сима ухватил меня за рукав и поволок за собой.
«Целесообразность — высшая степень хамства!..» — эту сомнительную сентенцию я мысленно изрек уже в ресторане, обнаружив себя сидящим за столиком напротив Симы. И, пока он искал что-то глазами у меня за спиной, я пытался вспомнить: как же мы сюда прорвались и какие аргументы он приводил, чтобы нас пропустили? И были ли еще заставы, кроме той, первой? Кажется, не было…
— Саня!.. — заорал Сима, привставая и маша лапой. — Топай к нам!.. Щас отоваримся, — сообщил он мне, снова сев и скребя ключицу под свитером.
Я оглянулся. Саня был один из тех двоих официантов, которые вчера держали меня за локти, пока третий обыскивал. На меня он только глянул и сразу отвел глаза, а Симе сказал:
— Бесплатно не обслуживаем.
— Обижаешь, старик!.. — Сима изогнулся, вытащил деньги и шлепнул их на столик. — Считай!
Саня покосился на деньги, успокоенно кивнул и сообщил:
— Селянка, ветчина с вермишелью, чай с патокой… Спиртное заказывать будете?
— «Рояль» почем, я забыл? — перебил Сима.
— Семьдесят рублей рюмка.
— А пузырь?
— Бутылка, соответственно, тысяча четыреста. Литровая.
— Вчера было девятьсот! — возмутился я.
— Разве? — вежливо удивился официант Саня. — По-моему, вы что-то путаете.
— Сохни, Петрович, — сказал Сима. — Они теперь монополисты, не повякаешь. Специально с гончими псами столкнулись: пока нас до нитки не оберут, никуда не поедем! Верно, Санек?
Теперь хохотнул официант — с такими же интонациями. Эти двое говорили на одном и том же языке, до непостижимости упрощенном.
— Считай, — Сима подвинул ему купюры. — На все.
— Как вчера? — осведомился Саня, начиная пересчитывать. — Угощаете всех?
— Я те угощу. Сюда сложишь. — Сима вынул из другого кармана Танечкину сумку и стал расстегивать.
— Разобьются — в такой-то толчее, — предупредил Саня, не прекращая профессионально быстро листать пачку денег.
— Переложи чем помягче на сдачу. Найдется чем?
— Поищем. — Саня понимающе кивнул, а моя соседка справа насторожилась.
— Э, нет! — возразил Сима. — Никаких колбас, там шмонают.
— Какие колбасы? — удивился Саня. — Откуда?.. Я переложу салфетками.
Соседка потеряла интерес, отставила свой так и не допитый чай и потребовала у Сани счет.
— И мне тоже, пожалуйста, — попросил Симин сосед, подцепляя вилкой последнюю вермишелинку.
Саня рассеянно кивнул им, положил перед Симой три сотенных бумажки, а остальную пачку прикрыл ладонью.
— Здесь четырнадцать бутылок, — сказал он. Взял еще две сотни и присоединил к пачке. — Салфетки… Кушать будете?
— Будешь? — Сима посмотрел на меня.
— Селянку, — сказал я. — Вермишель — но, если можно, без ветчины. И чай.
— Гарнир отдельно не подаем… — Саня изобразил на лице сожаление.
— Мне двойную ветчину, а ему — как сказал, — распорядился Сима. — Суп мы не будем… Не наглей, Петрович, суп кончается! А чая по два стакана.
— Значит, еще сорок два рубля… — Саня подвинул к себе оставшуюся сотню.
Сима посмотрел на меня, и я полез за бумажником. Сорок два рубля за лапшу и чай! А, ладно… Я отсчитал запрошенную сумму (тройками из почти целой пачки в банковской бандероли; вчера мне ее почему-то оставили) и положил на стол.
— Может быть, все-таки сначала нас рассчитаете? — возмутилась соседка.
— Это не мой столик, — сказал ей Саня. — Я позову.
Сгреб Симины деньги с моими сорока двумя рублями, взял Танечкину сумку и ушел, чтобы через минуту появиться.
— Везде блат! — негодующе объяснила соседка соседу и отвернулась к окну.
— И, что интересно, всегда! — развил тему сосед, аккуратно отхлебывая чай. — То есть, при любых обстоятельствах…
Я сидел, стиснув от стыда зубы, ненавидя Серафима и презирая самого себя. Я даже зажмурился на секунду, потому что устал смотреть на эту наглую, три дня не бритую, опухшую от пьянства, но почему-то полнокровную и жизнерадостную физиономию. Я даже взмолился о чуде: вот сейчас разжмурюсь — а его нет напротив! Приснился!
Когда я открыл глаза, Серафим жевал — не суетно, вдумчиво, молча, взором темной души обратясь во внутрь могутного тела. Прожевав и глотнув, опять подносил к бороде краюху, откусывал и, уронив руку с хлебом на колено, опять жевал. Хлеб он держал в левой руке и ел его, не снявши шелома, а десница Серафима сторожко, хотя и расслабленно, охватывала длинную рукоять кладенца, воткнутого в лиственничные плахи пола. По голубой стали меча змеились бурые потеки подсыхающей басурманьей крови.
«Волк… — подумал я, отводя взор и глядя поверх частокола на бесноватые тьмы татар, обложивших Березань-крепостцу и не впервой топчущих нивы. — Истинно, волк! Зачем такой Богу и крещенному князю? Накличет беду… А ведь и уже накликал».
Княжьи гридники, сидевшие от нас чуть наодаль, уже прятали свой недоеденный хлеб за пазушки и, окрестясь непривычной рукой, нахлобучивали шеломы. Косясь на Серафима-Язычника, переговаривались вполголоса, вяло взбадривали себя перед боем воспоминаниями о третьеводнешнем набеге на стан Бирюк-хана. Цмокали, крутили головами, извивали персты, не чая выразить словом прелести полоненной тогда же татарской княжны.
Серафим тоже глянул на них, прислушался, хохотнул коротко и сунул в рот последний кусок. Жуя, задрал на животе кольчугу и полез шуйцей под гнидник — чесаться… Как надел он эту кольчугу в запрошлую седмицу, так до се не снимал. В ней рубился, в ней спал, в ней хлеб ел и брагу пил. В ней перед князем ответ держал за то, что полоненную Бирюк-ханову дщерь отворить успел (в ней же)… Вот ведь грешно, а любо, что познаша басурманская плоть славянскую силушку! Воистину стальными оказались объятия Серафима-Язычника.
Крещенный князь Ладобор Ярич, хотя и звал Серафима братом (кровью братался — яко и сам нехристем быв, и в лукавой тайне: так, чтобы вся гридня знала, а сказать не могла), но пользовать пленницу после кольчужника не княжеского роду побрезговал. Братом звал, а за брата не знал — с того и гневался. Да и не всяку прореху залатать можно… Поярился князь, подергал щекой, посверлил кровника водяным взором. Отмашкой перстов отдал ханское отродье, аки порченный хабар, гридникам. На словах же велел: вывесть ее из Березань-крепостцы и отпустить с миром.
И вывели, и отпустили — под утро уже.
Опосля же сидели два дни в Березань-крепостце, из лиственницы да кедра рубленой, и ни баб на поле не выпускали, ни ребятишек малых. Тех, что постарше — осьми годочков и более, хлопотно силой держать, — их к делу приставили. Хлебы пекли, брагу варили, мясо коптили, мечи да секиры вострили и ждали незнамо чего. Князь — туча тучей, из терема носа не кажет, а выйдет — слова не скажет. Очи прозрачны, как и не зрячи: глянет прямо, а смотрит мимо. На поклон не кивнет, на привет не ответит, красна девица мимо пройдет — не заметит. Грызет забота, и рассказать охота, а некому: княжья дума — лишь князю по разуму!
Сказывают — надеялся Ладобор Ярич, что потеряет голову Бирюк-хан от горя и срама за дщерь поруганную, воскипит его поганая кровь, кинется он на приступ сам-сорок с уцелевшими воями — тут и станет, с Божьей помощью, одним ворогом мене у крещеной Руси.
А не потерял голову Бирюк-хан — холодна оказалась поганая кровь. Сорок воев своих разослал он по сорока басурманским становищам, и лишь семерых гонцов успели перехватить Ладоборовы дружники. На третий же день, до света, обложили татаровья Березань-крепостцу, кою давно почитали занозой в заяицких землях, но до поры терпели. Дважды ходили они сей день на приступ, дважды откатывались. Третий, по всему, и последний будет.
— Сложим головы, братья, — рек нам крещеный князь Ладобор Ярич после второго приступа, — и каждую нашу — поверх десяти басурманских! Первые мы русичи в этой земле, да, я чай, не последние. Могущество России прирастать будет Сибирью!
Темны показались нам княжьи слова. Ну, да князю виднее, где и почем наши головы класть. Сложим.
Снова запели короткие татарские стрелы, пролетая понад заостренными кольями, стали хряско встукиваться в еще не успевшие почернеть от времени тесовые крыши изб и высокие стены княжья терема, а то и со звоном отскакивать от наших кованых щитов и шеломов, заверещали в тысячи глоток татаровья, возжигая визгом поганую злобу в поганой крови, перекатились через дальний и ближний рвы, полезли друг на дружку одолевать частокол — началась работа.
…Возблагодарил я Князева кузнеца (а про Бога забыл), когда, сыпанув искрами, ширкнула скользь по шелому и вмялась мне в правый наплечник татарская сабля. На ползамахе перехватил я секиру из онемевшей десницы в левую руку, да и обрушил плашмя на дурную голову. Четвертая. Прости меня, князь, — десяти не выйдет.
— Эх! — досадливо крякнул в пяти шагах от меня Серафим-Язычник и пошел ко мне скрозь татаровья, вкруговую маша кладенцом, как лебяжьим перышком, осыпая за частокол о под ноги бритые головы. — А ну-тко, — велел он, дойдя, — стань леворучь, Фома-сын Петров! Сдвоим силы…
— Што князь? — вопросил я, запутав секирой и рвя из настырной руки сабельку. — Живой ли?
— А, хотя и живой — до нас ли ему? — отвечал князев кровник, мимоходом вминая левый кулак в башку моего супостата. — Вот и нам — не до князя!
Подивился я этим словам — да так, что мало не допустил каленое вострие до яремной жилы. Успел пригнуться, на шелом принял, снизу секирой ткнул, инда вражий кадык надвое развалился. Пятая… Правое плечо отходить стало, мураши побежали до локтя и дале. Я уже и рукой пошевеливал, но чуял — секиру она еще не удержит. Ну, да под боком у Серафима и левой сподручно: авось, и второй пяток наберу, ако князь наказал.
— Отошла? — вопросил Серафим-Язычник межд двумя опашными замахами — двумя смертями татарскими.
— Нет пока, — выкрикнул я, таща свою сталь из чужой ключицы. — Отойде-от…
Свистнули две стрелы — над шишаком и за ухом. Третья в кольчуге застряла, ниже ребра царапнув.
— Пустеет окрест, — озабоченно сказал Серафим. — Пойдем, где татар гуще — там стрел помене. Борони спину.
А их уж — везде густо было, хотя и не поровну. Облепила татаровня Березань-крепостцу, как смолистую щепочку, в муравейник ткнутую. Занималась та щепочка ясным пламенем, дымным вогнищем. Голосили бабы с девками над телами малых детушек, басурманами заколотых, — да и сами тут же падали… Вот и пожили мы в землях новыих! И взрастили нивы тучный! Посадили княжить — Ярича!..
Яко теперь лишь, пятясь вослед Серафиму, в един миг прозрел я и слышать стал. Слышать — не токмо его слова да хрипы врагов, что поблизости. Видеть — не токмо вражью сталь, моей плоти грозящую. От того, что услышал — захолонуло сердце, и дрогнула шуйца, секиру сжимавшая. От того, что увидел — мутная пелена застлала очи, и по щекам поползло горячее, ярое — горячее, чем боль в боку, где царапалось жало каленой татарской стрелы.
— Не гляди! — рычал Серафим, высекая шаг за шагом тропу скрозь татар к воротам (я же едва поспевал пятиться, впустую и слепо маша секирой). — Не гляди, Фома: скиснешь… Рубись! Борони спину!
От тех ли Серафимовых слов, оттого ли, что секира, хотя и сослепу, а хряснула куда след («Осьмая», — счел я про себя; не терял счета), а только истаяла пелена, высохли щеки, затвердела рука, сердце опять стало биться ровно и быстро. И не слепо, не яро, а холодно, дерзко и с умыслом рубил я поганые головы, незнамо зачем продолжая им счет, который давно уже перевалил за дюжину. Двадесят первого я зарубил на скаку — и пригнулся к шее быстроногой татарской лошадки, и вцепился ей в гриву, и шептал: «уноси, уноси — от каленой стрелы, от поганой погони, от земли, где посеешь — и вытопчут кони… где под крышей уснешь, а проснешься на гари… где хороший татарин — это мертвый татарин! Хороший татарин — мертвый татарин. Хороший татарин — …». А впереди, чуть левее, маячила широкая спина Серафима верхом на такой же быстроногой лошадке, и уже не свистели стрелы, отстала погоня, мы ехали шагом, уклоняясь от низких ветвей, а я все твердил неизвестно откуда взявшиеся слова, давным-давно потерявшие всякий смысл, но мне казалось, что смысл есть, и я твердил их с убежденностью гневного, только что пережившего страшные мгновения человека, и тогда Серафим развернулся и наотмашь ударил меня по лицу тыльной стороной ладони.
Я упал, ударившись головой о двери тамбура, и очнулся — вместо того, чтобы потерять сознание.
— Ну, ты, блин, и дурной! — сказал Серафим, неподвижно возвышаясь над копошащимся мной. — Знал бы — не связывался.
Я потрогал щеку — она была липкой. Посмотрел на пальцы. Сима в кровь разбил мне губу. Из носа тоже текло горячее…
Я стал подниматься, цепляясь за стенки тамбура и пачкая их кровью. Сима не помогал мне и не мешал. Ждал.
Наконец поднявшись, я стал машинально отряхивать пиджак — и согнулся от резкой боли в правом боку, под ребрами, там, где торчала стрела.
— Вилкой саданули, — сочувственно объяснил Сима, придержав меня за плечо. — Такой же дурной, как и ты… Я еще подумал: а зачем ему вилка? Ну и не успел. Болит?
— Каша какая-то… — пробормотал я, пряча глаза, и стал осторожно ощупывать бок. Если там и в самом деле была вилка, то почему-то сломанная. Это ведь с какой силой надо садануть (и, разумеется, не о мой бок, а о что-нибудь потверже), чтобы сломать вилку!
— Каши там не было, — возразил Сима. — Лапша была. Только ты ее жрать не стал. Ты, Петрович, эту лапшу на Санину голову хряпнул… И с чего ты взял, что он татарин? Хохол, как и я, только евреистый…
Сима еще что-то говорил — что-то про дурдом на колесах, про чуть не уплывший спирт, про жидов, которые, оказывается, будь здоров как махаться могут, про Танюхину сумку… До меня все это очень смутно доходило, потому что я наконец нащупал то, что торчало у меня в боку, и понял, что оно никак не могло быть вилкой — не бывает таких вилок. И еще я вспомнил, как, обрезав секирой стремя (в нем застряла нога разваленного от плеча до пояса татарина) и ощутив, что правая рука мне наконец-то повинуется, я, прежде чем самому забраться в седло, обломил мешавшую мне стрелу в двух пальцах от наконечника и выбросил вон обломок.
В этой последней картине битвы была какая-то неправильность — крохотное, как соринка в глазу, несоответствие чего-то чему-то. Но в том, что все происходившее — происходило, а не пригрезилось, я был абсолютно уверен. В этом меня убеждали и все еще болевшее плечо, и сбитый на жестком татарском седле копчик, и подкатившая вдруг тошнота, когда я вспомнил человечьи потроха, волочившиеся по мокрой от крови земле.
Но самой что ни на есть неоспоримой реальностью был обломок стрелы — я уже без удивления ощупывал его под пиджаком и неуверенно, то и дело морщась от боли, пошевелил, а потом привычно стиснул зубы и дернул.
Это была стрела, и древко ее было обломано в двух пальцах от наконечника… Это была наша стрела, кованая в той же кузне, теми же руками, что и мои наплечники. Такими стрелами (целыми связками по сто штук в каждой) Ладобор Ярич одаривал дружественных туземных князей — дабы не топтали нивы. Но они их все равно топтали.
— А ну дай сюда! — сказал Сима. — Зачем выдернул?
Я с недоумением воззрился на него — снизу вверх, потому что все еще стоял, перекосившись, — зажал наконечник в кулаке и отвел руку за спину.
— Дура! — сказал Сима. — Бок зажми — капает!
Тем же кулаком, не выпуская наконечника, я прижал полу пиджака к ране. Боль, на мгновение полыхнув, постепенно утишилась, и я смог выпрямиться. Рубашка была тяжелой и липкой, трусы сбоку тоже набрякли, горячее ползло вниз по бедру. Мне было плохо, очень плохо.
— Идти можешь? — спросил Сима.
Я кивнул.
— Пошли. Полвагона осталось.
Он распахнул дверь и двинул меня перед собой в коридор.
— Да отпустите же… — проговорил я. — Господи…
Люди смотрели из-за чуть приоткрытых дверей, осторожно высунув головы.
Дойдя до нашего купе, я попытался откатить дверь. Она была заперта. Сима, оттеснив меня в сторону, подергал ручку.
За дверью послышалось некое шевеление, шелест и неразборчивые голоса. Кажется, Танечкин голос произнес что-то вроде «давай» или «вставай», а потом — «не надо»…
— Танюха! — снова заорал Сима, перехватил сумку с бутылками спирта в левую руку и дважды грохнул по двери кулаком. — Я же тебя просил: молодого к телу не подпус…
Договорить он не успел, потому что в это самое мгновение дверь с треском откатилась, и в проеме воздвигся обнаженный Олег, завершая классическое движение своего правого кулака на Симиной челюсти.
Кажется, это называется «апперкот». В кино после такого удара «плохие парни» отлетают метров на восемь, ломая на лету мебель и беспорядочно размахивая руками… Серафиму отлетать было некуда, а в левой руке у него была тяжелая сумка с четырнадцатью литровыми бутылками спирта. Девять из них, как потом выяснилось, уцелели.
— Извини, но ты сам напросился, — сказал Олег и облизнул костяшки пальцев. — Я обещал, что дам тебе по морде. Обещал?
У меня все еще сильно болело в боку. Поэтому, опасаясь, что их разговор не закончен, я счел за благо отойти на пару шагов по коридору. Тем более, что голый джентльмен, защитник дамской чести, все равно загораживал вход в купе и, кажется, был невменяем. Танечка (одетая), неразборчиво причитая, рвалась не то затащить Олега обратно в купе, не то протиснуться мимо него к пострадавшему Симе, но голый Олег ее не пускал.
Впрочем, отойдя, я заметил, что он был не совсем голый. Он был в трикотажных плавках. Снова и снова задавая свой мужественный вопрос, Олег возвышался над Симой, как Геракл над поверженным Ахелоем, и мускулы, красиво бугрясь, перекатывались под ровным загаром. Левая кисть у Олега была забинтована, и сквозь повязку проступала свежая кровь. Под левой ключицей был налеплен большой кусок пластыря — тоже окровавленного. Третья, пока еще не обработанная, колотая рана была на правом бедре, и там, сквозь темно-бурые сгустки свернувшейся было крови, толчками сочилась алая…
— Везде дурдом! — резюмировал наконец Сима и, уперевшись ладонями в пол, стал подбирать под себя ноги. — Танюха, — прокряхтел он уже без былого энтузиазма. — Принимай еще двух пациентов.
3
— Стремена, — сказал Олег. — В Европе они были уже в шестом веке, а у нас появились только в двенадцатом — ну, может быть, в конце одиннадцатого. У татаро-монгол их и в двенадцатом не было, это точно… А ваша галлюцинация относится к началу одиннадцатого века — вскоре после крещения Руси. Есть и другие несоответствия, гораздо более разительные.
— Галлюцинация? — переспросил я и дотронулся до наконечника стрелы, уже отмытого, тускло блестевшего, который лежал на столике рядом с обломком шпаги.
— Да! Пока не найдем другого термина, придется называть это коллективной галлюцинацией.
— Коллективным дурдомом! — объявил Сима и заворочался на своей полке. — Давайте спать, старики. Или давайте хряпнем по маленькой. Танюха, скажи им!
— Правда, ребята, давайте потише, — предложила Танечка. — Пусть поспит.
Мы стали говорить тише.
— Ладно, пускай будет галлюцинация, — сказал я вполголоса. — Но — не коллективная! Потому что у каждого было свое: я дрался с татарами, вы — с неграми…
— С маврами, — поправил Олег. — Это был Четвертый Мавританский корпус Наполеона… Осенью 1817 года он совершал карательный рейд по югу Западной Сибири — а я возглавлял отряд национального спасения в Березино. Императорский наместник в своих донесениях называл нас бандитами.
— И Березино сожгли? — спросил я.
— Дотла.
— А вы? Бежали?
— Нет. Хотя… В общем, бежал, но недалеко. Татьяна Зиязовна прятала меня у себя в подвале, перевязывала раны. Дом над нами горел…
— Да нет же! — сказала Танечка. — Дом горел, это верно, и вас я прятала, но при чем тут Наполеон?
— Точно, Танюха! — прогудел с верхней полки Сима. — Наполеона в двенадцатом из Москвы завернули. Про это любого пионера спроси, и скажет. Зимой завернули — они по снегу шли и чем попало обматывались…
— Осенью, — уточнил Олег. — Мы это знаем, Серафим. И что русская экспансия в Сибирь началась в шестнадцатом веке, а не в одиннадцатом — тоже знаем. Не об этом речь… Продолжайте, Танечка. Что было у вас?
— Был погром, — сказала Танечка. — Они называли его «пролетарским террористическим актом» — убивали дворян и евреев. А ваш отец был камер-юнкером.
— Придворный чин? — удивился я. — В Березино?
— Да. Только оно уже называлось Плеханове. Я там жила в большом деревянном доме, а бараки ссыльных поселенцев стояли к нему почти вплотную. И еврейский квартал тоже был рядом. Я вот теперь думаю, что бараки, наверное, не случайно поставили именно там. Это был погром — самый настоящий погром! Я же видела. Я даже заранее догадывалась, что он будет — то есть, что будет какая-то большая беда. Ее приближение многие чувствовали и готовились к ней — каждый по-своему. Это неправда, что приближение беды сплачивает людей. Наоборот: все ненавидели всех, каждый боялся каждого. И беда пришла. Погромом… Олег, вы на меня как-то странно смотрите. Вы мне не верите?
Олег, действительно, смотрел на нее, только что не открыв рот. Будто впервые видел и не то восхищался, не то решал заведомо неразрешимую задачу.
— Извините, Татьяна Зия… Танечка, — сказал он. — Просто я подумал, что вы… Что на вас все это повлияло сильнее, чем на меня или вот на Фому Петровича. Еще раз извините, но раньше вы разговаривали совсем не так.
— Да, я знаю, — Танечка покраснела и поплотнее запахнула на груди пеструю тонкую шаль с обгоревшими уголками. — Раньше я говорила, как Эллочка Щукина: мне почему-то было стыдно показать, что я знаю больше тридцати слов. Но после всего, что я пережила и помню… еще до погрома, задолго до… Ведь там я, представьте, училась в классической гимназии, в губернском городе, и до переворота успела окончить целых шесть классов! Стипендиаткой была…
— Ну и что, а у меня десять классов! — сказал сверху Сима. — А толку? Оператор БСЛ — Большой Совковой Лопаты.
— Это были совсем другие классы… — тихо сказала Танечка. — Мы вам не мешаем, Сима?
— Трави дальше, Танюха. Даже интересно.
«Черт бы его побрал, этого Симу! — подумал я. — Не спит и не спит!»
— Ну, а медицинские навыки? — спросил Олег. — Их вы тоже в гимназии получили?
— Нет, это у меня от природы. Там, в Березино, я бы сказала: «От Бога», но в той жизни у меня не было дара. А здесь я дипломированный знахарь. Уже пятый день, как дипломированный. Правда, всего лишь знахарь-косметолог, но простые раны, ушибы, кровоподтеки я и раньше могла заговаривать, без диплома… Я ведь как раз за ним и ездила в Казань — в заочный университет народной медицины. Вот, везу бумажку маму порадовать. Она там, в Красноярске, уже и шампанское приготовила, и подруг своих позвала — дочкой похвастаться, а мы… а нас тут… Извините!
Нет, не могу я смотреть, как плачет красивая женщина.
— Брось, Танюха, — прогудел сверху Сима. — Приедем, никуда не денемся. Ну, опоздаем чуток, все равно приедем. И шампанское от тебя не убежит, а пока сухача дерни: то же самое, только без газа… Слышь, молодой? Плесни Танюхе.
— Я лучше яблоко, — сказала она. — Если можно…
Олег молча подал ей яблоко. Симины яблоки мы, не сговариваясь, решили оставить Танечке — когда узнали, что воды нет даже в умывальниках. Она об этом нашем молчаливом уговоре, конечно же, догадалась, но все равно каждый раз спрашивала.
Все еще всхлипывая, Танечка стала есть яблоко. А я стал смотреть в окно.
По времени должно было темнеть — но, может быть, я ошибаюсь, и в этих местах темнеет позже… За окном было все то же самое. Отчетливо были видны обе «шилки», исправно державшие на прицеле нечто невидимое в зените. Стволы «града» (если это был «град») смотрели в сторону последнего, шестнадцатого вагона. Или, может быть, даже еще правее. Нива была уже во многих местах примята и вытоптана, и как раз сейчас опять производилась смена оцепления.
Нарядная, блестящая, ярко-зеленая бортовая машина медленно двигалась слева направо по уже наезженной колее вдоль цепочки солдат. Новые часовые выпрыгивали из кузова и сменяли отстоявших — а те, передав сменщику автомат и с наслаждением потягиваясь, почему-то не садились в машину, а разбредались кто куда. Некоторые брели в нашу сторону, но, приблизившись к составу на расстояние метров пятидесяти, падали на живот и дальше продвигались ползком… Скоро опять начнутся беспорядочные стуки и позвякиванья по колесам и по днищу вагона.
Когда это случилось впервые, в поезде возникла паника. Кажется, даже Олег растерялся и не сразу смог успокоить Танечку, а Сима, зачем-то прихватив бутылку спирта, побежал в туалет. Я же просто лежал на своей полке и старался сосредоточиться на ране в боку, которую Танечка еще не вполне успела заговорить. Лежал — и все. Зато не вопил, не метался и не молился, как остальные в других купе. Не потому, что я очень храбрый, а потому, что все равно ничего нельзя было сделать и оставалось ждать, чем все это кончится.
Кончилось — ничем: постучали, позвякали, даже, кажется, попересмеивались под днищем вагона, да и уползли восвояси. А минут через пять после того, как уползли, вернулся Сима. Уже без бутылки, но почему-то трезвый.
Короче говоря, теперь мы знали, что все эти позвякиванья для нас неопасны. Автоматы остались у тех, кто стоит в оцеплении — так что пускай себе звякают. Ну, по скольку им лет? Восемнадцать — двадцать. Дети. Играют. Им интересно пугать, и начальство сквозь пальцы смотрит. И нас они не боятся — а зверем человек становится только от страха. Или же по приказу, но это, впрочем, одно и то же.
И все же, когда опять раздалось позвякиванье, мне стало не по себе. Потому что: а вдруг уже отдали приказ? Глупость, конечно. Кто и зачем будет отдавать такие приказы?..
Нет, все-таки, вряд ли это война. Маневры какие-нибудь — а мы мешаем. Встряли из-за отставания… А в пришельцев я не верю: сам же их рисовал на компьютере, во всех видах. Даже Мара пугалась, а Тимку было не оторвать. Веселый был заказ, и богатый — два месяца на него жили, даже торты пекли…
А «галлюцинации»? Они с маневрами как-то не стыкуются. Хотя, мало ли от чего могут быть галлюцинации? Какое-нибудь радарное излучение — от «шилок», например… И тут меня осенило: «град»! Так называемый «град», потому что Олег тоже не был уверен, что это именно он. До начала «галлюцинаций» стволы «града» смотрели влево — на голову состава, а сейчас… Я сунулся к стеклу и посмотрел. Так и есть: вправо — туда, где хвост! Можно было и не смотреть, я это и так помнил.
— Нет, Фома Петрович, — сказал Олег. — Я тоже об этом думал. Не получается.
Я молча уселся обратно. Да, не получается. Мог бы и сам сообразить. Вот он, передо мной на столике — обломок французской шпаги, и вот он, передо мною же — наконечник татарской стрелы. И никакой психотроникой этого не объяснишь. Остаются «параллельные пространства», но их я тоже рисовал. И зовут меня — Фома Неверов.
Сима был Серафим-Язычник — «там». Правда, в моем «там».
А я Неверов — здесь. «Там» у меня фамилии не было.
Это, разумеется, тоже ничего не объяснило и даже отдавало неконструктивной мистикой, но я все-таки спросил:
— Олег, у вас какая фамилия?
— Корж, — ответил он, слегка удивившись. — Корж Олег Сергеевич… А что?
— Есть одна безумная идея. Вряд ли достаточно безумная, но — чем черт не шутит… Скажите, а «там» ваша фамилия тоже была Корж?
Олег сразу понял, где это — «там».
— Там я был Коржавиным, — сказал он и улыбнулся неприятной, жесткой улыбкой. — Я это отлично помню, потому что много раз видел свою фамилию в проскрипционных списках наместника. Причем, последние два года — в первых строках. Коржавин Олег Сергеев (меня даже заочно лишили дворянства), сначала ослушник законной власти, потом бунтовщик и, наконец, бандит. Карьера!.. А что за идея?
— Бредовая, — отмахнулся я. — Просто подумалось: а нет ли какой-нибудь связи между фамилией и содержанием галлюцинации? Даже не столько содержанием, сколько… ну, скажем, самим фактом ее возникновения.
— Моя фамилия — Гафарова, — сказала Танечка. — И здесь, и «там». Не подходит?
— Не знаю, — честно ответил я. — Да и вряд ли она возможна, такая связь. Не берите в голову.
— А ваша фамилия подошла? — спросила Танечка.
— Ах, да, извините! Неверов, — представился, наконец, и я, спохватившись. — Здесь Неверов. А «там» — просто Фома по прозвищу Секирник. Но это не фамилия, а, скорее, профессия. Я лучше всех в дружине владел боевой секирой, вот и прозвали.
— А вы, Сима? — спросила Танечка.
— А что я? Я Серафим Светозарович Снятый, разнорабочий. Сокращенно — эС-эС-эС-эР! И точка. После каждой буквы.
— Ужели у вас и правда ничего не было?
— Наверное, было, — заметил Олег, — но такое, что стыдно рассказывать. Или нет?
— Пить надо меньше, старики!.. — вздохнул Сима. Поерзал, покряхтел, опять перевернулся на спину и вдруг буркнул: — А, может, наоборот, больше. Может, я потому и не спятил, как вы, что под газом был?
— А что, это тоже идея, — усмехнулся Олег. — Как вы полагаете, Фома Петрович?
— Не исключено, — улыбнулся и я.
— Я давно намекаю: пора хряпнуть! — обрадовался Сима.
Непьющий Олег возражать не стал и даже сказал одобрительно:
— Практический ты человек, Серафим.
Обломок шпаги Сима небрежно отодвинул к окну, а наконечником татарской стрелы стал резать украинское сало («Острый финкарь! — похвалил он. — Только ручка короткая»). Олег открыл две баночки черной икры и баночку аджики, а Танечка, распечатав пачку печенья, стала делать из этого бутерброды.
С посудой получилась небольшая заминка, но Сима привычно разрешил возникшее затруднение: себе взял бутылку, а мне плеснул в Олегов стаканчик для бритья («Уже стерильно, Петрович!»). Танечке достался единственный стеклянный стакан, а Олегу крышечка от ее термоса, чай из которого ушел на промывку ран. Им обоим Сима налил вина, причем доверху, и скомандовал:
— Сдвинули!
И мы сдвинули.
Танечка даже для виду не стала отнекиваться, храбро пригубила подозрительный Симин «сухач из падалок», а потом с видимым удовольствием выпила до дна. Я тоже не стал отнекиваться и правильно сделал: сразу стало уютно и наплевать на то, что под вагоном непонятная возня, а за окном все еще необъяснимо светло. Я с некоторой остраненностью понаблюдал, как теплая волна распространяется из желудка по телу, и сообщил, что это очень приятное ощущение.
— Пошла по животу, как сплетня по селу, — образно прокомментировал Сима и поторопился разлить по второй; по-моему, зря: куда спешить?
Непьющий Олег был со мной солидарен и, в отличие от меня, на этот раз только пригубил.
— Приятное вино, Серафим, — сообщил он. — И совсем не похоже на шампанское. Это первосортнейший сидр, вот что это такое! Наместнику такие вина доставляли из Франции. Представляете? По Средиземному и Черному морям, через донские и волжские степи, по Тургайской ложбине… Наместник обожал сухие вина из метрополии — и в них мы его и утопили, как герцога Кларенса. Я прочел об этом в трофейном томике Шекспира. И вот что интересно: Шекспира я читал на французском! Никогда не знал этого языка, а теперь знаю. Если это, конечно, французский. Фома Петрович, вы знаете французский?
— Откуда?.. — Я усмехнулся и покачал головой (уже слегка шумевшей).
— А вы, Танечка? Изучали в гимназии?
— Только-только начала в октябре шестнадцатого. А в январе учителя арестовали: не то за прокламации, не то за порнографию, так мы и не узнали, за что. Латынь и древнегреческий учила. Псалтырь на старославянском могу читать, но только Псалтырь и только читать. А французский… Так, несколько расхожих фраз.
— Ну, хотя бы расхожие…
— Вам, Танечка, повезло, — перебил я. — Даже исключительно повезло — я имею в виду гимназию. Меня в моей новой жизни (или, напротив, старой?) только и учили, что землю пахать, да секирой махать, да свово князя пуще татар бояться…
— Нескладно врешь, Петрович! — объявил Сима. — Как же ты их мочил, татар, если боялся?
— От страха, — ответил я. — Убивают всегда от страха.
— А князя пуще татар боялся? Надо было его замочить!
— Бывает страх, не отличимый от любви…
— Знакомая песня, — хмыкнул Сима. — Только про Сталина не агитируй — надоело. Такие, как ты, чуть хватанут и сразу про Сталина. Или лапшой…
— Перестаньте, Сима, — попросила Танечка. — Лучше налейте мне еще.
— Вот это дело! — Сима откупорил вторую бутыль.
— А ты сталинист, Серафим? — спросил Олег. — Вот ух никак не подумал бы.
— Я Сима Снятый! Других названий у меня нет. Сдвинули?
Мы сдвинули…
— А убивают не только от страха… — сказал Олег и опять улыбнулся мне жесткой, неприятной улыбкой. — Теперь вот страшно сказать, но французов я убивал с наслаждением. Всех, без разбора: и бонапартистов, и сочувствующих нам, и даже прямых перебежчиков. Ни одного «шерамижника» в моем отряде не было. Они все были чужие и лишние на Руси и, к счастью, напали первыми. — Он поежился. — Если и доводилось кого бояться, так это своих же, русских: Коллаборационистов. Но их мы не убивали — вешали за ноги и пороли… Страшный опыт.
— Опыт? — переспросил я.
— Именно опыт — жизненный опыт. Я не могу воспринимать его отстранение. Я знаю, что Бонапарт не прошел дальше Москвы, что никакие мавры никогда не жгли Березино, и что сам я родился в 1965 году, а не в 1790-м. Что все это — чья-то хитроумная выдумка, эксперимент, о целях которого мы можем только строить предположения. И тем не менее, все это было. Со мной. За каких-нибудь полчаса я прожил иную жизнь.
Я покивал, потому что сам чувствовал то же самое.
— А вернувшись, — продолжал Олег, — я понял, что узнал о себе массу неприятных вещей. Например, что могу убивать с наслаждением… Лучше бы я делал это от страха, как вы.
— Тоже, знаете ли, мало приятного.
— Здесь. А «там»?
— «Там» я об этом не задумывался. Убивал, и все.
— А здесь задумывались? Раньше?
— Специально — нет. Повода не было.
— Так, может быть, это и есть цель?
— Чья? — усмехнулся я. — И неужто вы всерьез полагаете, что все в этом поезде задумались о причинах убийств?
— Чем мы лучше других?.. — грустно сказала Танечка, не то поддержав меня, не то, наоборот, возразив.
— Тихо! — рявкнул вдруг Сима, который все это время был непривычно молчалив, и поднял руку.
Оказывается, он прислушивался к стукам, доносящимся снизу: солдатики все еще не угомонились.
— Да Бог с ними, — сказал я. — Все равно мы ничего…
— Сохни, Петрович!
Я пожал плечами и тоже прислушался. Ну стучат и стучат. Ритмично. «Там, там. Та-та-та. Там». Пауза. И снова…
— Это за мной! — Сима ринулся к двери. — Щас!
Дверь захлопнулась, и он с грохотом поскакал в сторону туалета.
— Вот человек! — сказал я с нарочитым восхищением. — Все, как с гуся вода!
— Сомневаюсь… — Олег покачал головой. — Не так уж он и толстокож, как хочет казаться. Просто он умеет прятать переживания.
— И ничего он не прячет! — возразила Танечка. — Разве не видите: у него на языке раньше, чем на уме.
— По-моему, это и называется хамство: когда говорят, не думая, — заметил я.
— А по-моему, хамство, — сердито сказала Танечка, — это когда в глаза только думают, а потом за глаза говорят… Извините, Фома Петрович. Кажется, я выпила лишнего и стала хамкой.
— Ну что вы, Танечка, — пробормотал я. — Наоборот…
— То есть, раньше была? — уточнил Олег.
Есть люди, на которых невозможно обижаться, — например, красивые молодые женщины, которые, к тому же, только что заговорили вам рану. И мы захохотали. Втроем. С большим облегчением, хотя и немножко нервно, потому что сознавали, насколько дико должен звучать этот наш смех для других пассажиров за тонкими перегородками купе — напуганных, как и мы, и, как мы, прячущих страх от самих себя.
Короче говоря, нам было очень весело — до тех пор, пока опять не раздался стук. Точно такой же, но гораздо более настойчивый:
«Так, так! Та-та-та! Так!»
И не по днищу вагона, а в стекло.
4
Вне всякого сомнения, это был офицер. В нем все было очень кадровое и командное: и лицо, и форма (знаков различия не было видно под плащ-накидкой), и жесты. И голос, как потом выяснилось, тоже. Беззвучно пошевелив губами, он командным жестом показал нам, что следует опустить стекло, и терпеливо ждал, пока мы выполним требование. Лицо у него было изможденное, строгое и без возраста.
— Прошу извинить за беспокойство, — сказал офицер и козырнул (как-то странно козырнул и вроде бы не совсем правильно, но очень четко). — Кто из вас пассажир Сима Святый?
И обвел глазами всех нас по очереди (Танечку тоже).
Мы переглянулись.
— Он только что… — начал я, но Олег меня перебил.
— Допустим, это я, — сказал он. — В чем дело?
Пару секунд офицер смотрел на Олега без всякого выражения, а потом дрогнул уголками губ и произнес:
— Давайте допустим. — Снова козырнул (левой рукой! — догадался я, наконец, в чем странность) и представился: — Генерал-сержант Хлява.
Мы с Олегом снова переглянулись.
— Слушаю вас, генерал, — сказал Олег.
— Имею сообщить пассажиру Симе Святому, что его знакомый, зауряд-ефрейтор Лозговитый, около часа тому назад был препровожден в арест-кильдым в состоянии острого алкогольного отравления. — Генерал внушительно помолчал. — Имею также донести до сведения пассажира Симы Святого, что впредь подобные просьбы надлежит адресовать лично мне, генерал-сержанту Хляве.
— А что за про… — начал я, но Олег меня опять перебил.
— Виноват, генерал-сержант, — сказал он. — Право же, я не знал. И ради Бога, передайте мои соболезнования зауряд-ефрейтору… э-э… Лозговитому.
— Храни вас Бог, передам. — Генерал-сержант снова дрогнул уголками губ и коротко кивнул. — И опасаюсь, что не далее как сегодня. Теперь касательно воды…
Генерал-сержант Хлява нагнулся и через пару секунд выпрямился, с натугой поднимая над полуопущенной рамой окна внушительных размеров канистру. Рядом уже оказался Олег, мы с ним подхватили канистру, пронесли ее над столиком и осторожно опустили на пол. В ней было литров тридцать, не меньше.
— Это аккумуляторный дистиллят, — сообщил Хлява. — Химически чистый аш-два-о. Можно употреблять внутрь.
— Спасибо, генерал-сержант! — сказал Олег. — То есть, храни вас Бог!
— Чего уж там! — весело сказал Хлява. — Не впервой! А благодарить вам надлежит зауряд-ефрейтора Лозговитого — это от него для пассажира Симы Святого лично. Флягу можете оставить себе. И последнее на сегодня. Через пару часов мои добры молодцы будут готовы наполнить водой те емкости, по которым вы постучите вот так. — Он изобразил тот самый стук. — Но, извиняюсь, не дистиллятом, штука дорогая, а обычной проточной водой из армейской речки. Кипятить обязательно: супостат не дремлет, сами понимаете… Вопросы есть, господа?
Вопросы у меня были. Еще бы у меня их не было!
— Почему светло? — задал я давно изводивший меня вопрос, потому что самые главные еще не сформулировал. — Ведь по времени ночь?
— А как же иначе? — спросил Хлява озадаченным голосом. — В темноте воевать прикажете? Если мешает — зашторьтесь, да и спите себе. Поумнее вопросов нет, господа штатские? Тогда всего доброго.
Хлява откозырял и пробормотал неодобрительно «Шпаки есть шпаки», и провалился вниз.
— Ну вот, Танечка, теперь мы с водой, — сказал Олег, садясь рядом с ней. — Надо будет пройтись по всем вагонам, постучать по титанам… Интересно, как они это сделают? Мысленно снимаю шляпу перед достижениями военной техники и вытираю штатский пот с изумленного лба!
— А что, военная техника всегда была самой передовой! — поддержал я игру.
Сима вернулся крайне раздосадованный, а наличие в купе фляги с водой принял как должное. Пнул ее, как шоферы пинают баллон, уселся рядом со мной и объявил, что до сего дня он был гораздо лучшего мнения о крепости армейских голов (он называл их «макитрами»), чем они того заслуживают. Оказалось, что арестован не только зауряд-ефрейтор Лозговитый. Вместе с ним «острому алкогольному отравлению» подвергся чуть ли не полувзвод, которым Лозговитый командовал, — дюжина зауряд-воев.
— С пяти поллитр! — сокрушенно восклицал Сима. — Там даже на полстакана меньше! И так нажраться!
Насокрушавшись, он ухватил флягу и поволок ее в коридор, буркнув, что сейчас будет чай.
Пока Симы не было, я предложил зашторить окна: все-таки, уже одиннадцатый час, и как-то непривычно… Олег щелкнул выключателем ночника — свет был. Верхний свет, правда, не загорался, но мы включили все четыре ночника — и, Когда опустили штору, стало очень уютно.
Делать нам уже было нечего, а разговаривать мы ни о чем не могли. Потому что единственный вопрос, достойный обсуждения, поднимать не стоило. Где мы? Вернемся ли? Что с нами будет? Ничего, кроме версий, у нас не было и быть не могло, а версия — не ответ. Вот вернется Хлява — Хлява нам расскажет… Что?
Что может рассказать непонятливым шпакам сей доблестный доброжелательный вой в странном чине генерал-сержанта?
Сима пришел минут через пятнадцать. С пустой флягой, но пока еще без кипятка. Зато — с четырьмя новыми стаканами, позаимствованными в купе проводников.
Пока титан закипал, мы дважды «сдвинули», съели еще две баночки икры и вяло поговорили на отвлеченные темы, как можно более далекие от обстоятельств.
Я откинулся на стенку купе и закрыл глаза. Спать не хотелось. Хотелось домой и, может быть, водки. Нет, водки мне тоже не хотелось. Только домой.
— А ведь мы не в России, старик, — услышал я Симин голос. — А если в России, то хрен знает в какой.
Я, не открывая глаз, кивнул.
— Гончие псы… — выговорил Сима, как выругался. — Бредятина! — Встал и побулькал водкой, наливая. — Будешь?
— Нет, Сима, спасибо. Нам ведь еще ходить по вагонам, воду настукивать.
— Нам не придется, — возразил Олег. — Я объяснил, как это делать. Через… — он посмотрел на часы, — пятнадцать минут… даже через десять — проверим на нашем титане, а потом группа добровольцев пройдет по всему составу. Так что, если кто хочет спать…
— Проверить мы и на фляге можем, — сказал Сима. — Хоть сейчас. Стукнем?
— Можно, я? — попросила Танечка.
— А не собьешься?
Танечка отстучала: «тап-тап, па-па-па, тап», — по свернутому в головах матрасу и посмотрела на Симу:
— Правильно?
— Валяй, Танюха! — Сима выставил флягу на середину купе. — Только без торопливости, с расстановкой!
Честно говоря, я не верил, что что-то получится. Делал вид, что верю, и вместе со всеми напряженно ждал, когда затихло последнее «дум-м-м» по металлическому боку фляги.
Тем не менее, секунд через десять изнутри раздался несомненный звук льющейся воды. Танечка захлопала в ладоши, а Сима поспешно отвинтил крышку. Из фляги фукнуло сжатым воздухом, звук усилился. Через какую-нибудь минуту или полторы она была полной, и даже немного пролилось на пол.
— Мелкий объем, — пояснил Сима. — Крупные легче рассчитывать, так что по мелочам просили не отвлекать.
— Учтем, — кивнул Олег. — Объем должен быть большим и закрытым…
— Литров с пяти — точно будет, — уточнил Сима.
— Учтем, — повторил Олег. — Процедура довольно простая.
Уснул я под удаляющиеся в обе стороны состава стуки по емкостям и под Симино поскребывание наверху.
…Мне снилось, как я в первый раз отшлепал Тимку. Мы с Марой жили тогда в малосемейке (крохотная комната без балкона, кухня полтора на полтора и «удобства»: умывальник, душ и унитаз в узком отсеке), Тимке не было еще и года, а наш медовый месяц, лишь однажды прерванный на время родов, тянулся третий год. Ежевечерне, с трудом дождавшись, когда Тимка насосется и уснет, Мара укладывала его в кроватку, а я был уже готов и отбрасывал одеяло… И вот однажды, сыто отвалившись друг от дружки, мы увидели, что Тимка не спит. Лежит себе на животике, повернув к нам хитро-понимающую мордашку, и, в подражание папе, весело дрыгает попкой. И явно ждет, чтобы его похвалили за сообразительность. А папа осатанел — вместо того, чтобы посмеяться или продолжить игру… Мара тоже осатанела. Она молча отшвырнула меня от кроватки, ухватила Тимку в охапку и стала целовать отшлепанные мною нежные ягодички. Когда Тимка наревелся и уснул у нее на плече, она стала вышагивать с ним на руках по комнате и выговаривать мне (злым, впервые за три года не родным, шепотом), обзывая меня извергом, обалдуем и сексуально невежественным уродом… Я сидел, упрятав голову в колени, и понимал, что это последний вечер нашего медового месяца. И это, действительно, был последний вечер нашего медового месяца, потому что спрятаться от Тимки было некуда, мы были очень осторожны и прислушивались, а чаще просто поворачивались спиной друг к дружке и засыпали. Потом, через несколько лет, когда мы получили квартиру, прятаться было уже не нужно — но и того нетерпения уже не было, а привычка прислушиваться осталась. И — Господи! — сколько раз я видел во сне этот последний вечер медового месяца, и во сне пытался что-то изменить, но однажды сделанная глупость, увы, непоправима.
Вот и теперь: я опять не успел удержать свою осатанелую карающую длань — обидно, больно, с оттяжкой шлепнул по Тимкиным ягодичкам, и Мара, вышагивая с Тимкой на руках по тесному купе, стала выговаривать мне Симиным басом, срывающимся на Танечкин шепот…
Собственно говоря, сон был в руку: Серафим заливисто, в голос, храпел у себя на верхней полке, а Танечка что-то быстро и прерывисто шептала, но шепот был адресован не мне… Я полежал с открытыми глазами, стараясь не сбиться с ровного глубокого дыхания, присущего спящему человеку, полюбовался, как, то и дело попадая в полоску света от неплотно прилегающей шторы, качаются под самой Симиной полкой Танечкины белые точеные икры, поубеждал себя в том, что нисколько не завидую Олегу, и снова закрыл глаза.
5
— Што, Фома, жалко девок? — вопросил Серафим-Язычник.
— Жалко, Серафим… — отвечал я, не чая отвести взора от побоища на испоганенной ниве, от лютой доли тех, кого смерть в бою не постигла, кто живьем не сгорел, кого басурмановы кони пощадили, не затоптали: — И девок жалко, и ребятишек, и прочих людей Князевых. — И добавил, подумав: — А князя всех жальче.
— Што тебе князь? — рек Серафим (не в голос, а в полуголос рек, яко своим же словам дивясь) да и хлобыснул по шелому дланью. — Мне вот девок жальче, а тебе — князя. Пошто?
— Да уж так-то они его… — Поежился я, вспоминая, отпустил пихтовую лапу, окрестился, слезу смахнул. — Ты — язычник, волк, и боги твои — воля да степь, да лес густой. А я — княжий человек, князю крест целовал.
— Ну иди… — сказал Серафим. Снял с колена шелом, оглядел, щурясь. — Иди, сложи голову, ако князь наказал. Клялся! Целовал! А сам в кустах сидишь.
— Так ведь и ты сидишь, Серафим, а ты ему кровник…
— Я уже столь татар положил, сколь за двух кровников не кладут, а свою голову класть не сулился… Я и тестюшку свово. Бирюк-хана, достал, пока ты стрелу обламывал. Был бы живой Лабодор, и еще бы рубился. Да он ухе на колу сидел, егда мы еще на коней не сели… Ай, буде убиваться, Фома! Каждому своя доля. Веди меня в Новагород, дорогу знаешь, вместе другому князю послужим. Такого секирника, как ты, поискать — да не скоро найти. Пошли, Фома, тут поблиз ведунья живет, бок твой залечим. Хорошая ведунья, в три дни одюжишь. И поведешь меня в Новагород.
…Знал я, про каку ведунью Серафим говорит. Ее и татаре боялись, и мы тот лесок стороной обходили, а нужда заставляла — заглядывали. Лечила она то срамно, то страшно, зато всегда споро и наверно. А из чего зелья варила — про то христианской душе лучше и вовсе не знать: греха мене. Там и выпий помет, и жабья блевотина, и паучья слюна липкая, все в дело шло. Тьфу!
— Неохота мне к ней идти, Серафим. Само зарастет, с молитвою. Я полежу, Серафим, а ты иди. Иди, куда хочешь.
— И пойду. Вот Ярило на пепелище накатится, да краснеть зачнет, и сразу пойду. С тобой, без тебя ли… А до той поры полежи, Фома. Поспи. Я на коней гляну, поблиз буду — кликни, ежели что…
Сказал и ушел Серафим — а боль моя со мной осталась. Не боль в распоротом стрелою боку (к ней-то я притерпелся), а сердечная боль за князя со гридники, люто казненных осатанелою татарвой. Князь быстро помер. Но Бирюк-хан, разваленный надвое Серафимовым кладенцом, помер еще быстрее и не мучался вовсе. И было сие не по-людски — да и не по-Божески тоже.
«Возлюбите врагов своих», — сказывал нам Сын Божий.
Ай, не могу, Господи! Ни возлюбить не могу, ни простить. Ибо еще до Христа заповедал Ты нам устами пророка Твово Моисея: «Око за око, и зуб за зуб!» А Сын Твой, Господи, либо сам напутал, либо не понят был.
Иди, Серафим, в Новагород, послужи другому князю, коли дойдешь. А Фома-Секирник Яричу не дослужил. Один в поле воин буду, один судья и один палач. Один буду — язык Твой, Господи, вразумляющий, и десница Твоя, мстящая. Один буду… Один да Бог.
Лежал я на спине, зажимал перстами кровящий бок и думал так, в небо глядючи. В голубое, как очи князя мово, Ладобора Ярича, и прозрачное, как они же. И верил я в то, что думал — ой, свято верил! В помыслах казнил я лютой смертью ханов со прислужники, резал ханские семьи, палил огнем вонючие татарские шатры, а табуны в болота загонял. И ни девок татарских, ни татарчат не щадил, как не щадят волчий помет, егда волки, расплодясь и скотом не довольствуясь, человеков резать починают. И в помыслах моих боялись меня татаре окрестные, звали Фомою-Дыбником и ордами на меня, как на дикого зверя, охотились, да я ускользнул — и всегда с добычею.
Улыбался мне князь мой Ладобор Ярич, одесную Христа сидючи, — а Христос не улыбался и отворачивался.
И сказал я Христу: «Ей, Сыне Божий! Слабит Тебя доброта Твоя, потому и правда Твоя не сильна. Правому — сила нужна и жестокое сердце. Не князь одесную Тебя сидит, Иисусе Христе, а ты ошую Князя сидишь! Князь мне бог»…
Промолчал Иисус, нечего было ему ответить. Встал и ушел тихонько. А Князь остался.
«Брось в меня камень тот кто ни разу не гневался!..» — крикнул я в спину Христу. Споткнулся Христос, постоял — да и пошел себе дальше. Не нагнулся за камнем: вспомнил торговцев во храме.
И смеялись мы с Князем вослед ему.
— Не сразу, милок, не сразу…
— А когда?
— Дни три, не мене. Эк ему в боку-то расковыряло. Огнем изнутри горит. Чего ждал? Пошто сразу не вез?
— Боялся он: то ли тебя, то ли своего бога. Не силой же мне его было скручивать? Навредил бы… Не поздно ли привез, а, ведьма?
— Отойди-ка, не засть.
— Плясать будешь?
— Могуч ты, Серафим, да не зело умен. Пляской не хворь, а дурь выгоняют, вроде твоей икотки… Возьми светец. Повыше свети, вот сюда, мне зелье найти надо.
— Ты мне его, ведьма, вылечи, а я тебе за это што хошь. Это ж такой секирник!
— Вылечу. Помашет он еще секирой, доставит мне работушки. Кому лечить, кому калечить — так и живем.
— Слушаю тебя, ведьма, и диву даюсь: говоришь, как старуха. А ведь годочков тебе никак не более…
— Молчи… Держи своего секирника, до покрепче. Я ему плоть отворять буду, гниль выскребать и нутряной огонь зельем душить. Ай нехорошая рана, ай грязная да глубокая… Держишь?
— Держу.
…И не взвидел я света от боли — а когда перестал кричать и открыл наконец глаза, то обнаружил рядом Серафима, напряженно сопящего перегаром. Ухватив за плечи, он прижимал меня к подушке. Танечка, перегнувшись через столик, то и дело убирала падавшие на глаза волосы и беззвучно шевелила губами. Где-то вдали, возле самой двери купе, томясь бесполезностью, встревоженно маячил невыспавшийся Олег.
А в ногах у меня, за спиной Серафима, сидел Ангел небесный. Был он весь в белом, и даже лица его не было видно под эмалево-белым сиянием — только красный крестик во лбу. Сидел и наматывал на левую руку длинную (и тоже белую) кишку, которая щекотно выползала из моего онемевшего, охваченного ласковой прохладой бока.
— Ну-с, и как мы теперь себя чувствуем? — спросил ангел, укладывая свернутую белую кишку в раскрытый на столике чемоданчик. У Ангела был голос пожилого и очень усталого человека, который хочет умереть, а ему опять не дали выспаться…
«Доктор, — догадался я. — Военврач… Надоело».
— Все? — спросил Сима и оглянулся на доктора.
— Да, — сказал доктор, защелкивая свой чемоданчик. — Храни вас Бог. — Встал (пыхтя и не сразу — в два или три приема) и церемонно полупоклонился Танечке. — И вас храни Бог, коллега! Вы мне помогли.
Сима наконец отпустил мои плечи и тоже встал.
— Простите, — сказал я, обнаружив, что раздет, и натянул на себя простыню. — Снилось… всякое.
Сима хмыкнул.
Танечка вздохнула.
Олег покашлял, криво усмехнулся и стал смотреть в окно.
Они что-то знали. А я нет. Как всегда.
— Перитонит, — покивал доктор, — он и во сне перитонит. И уж коль скоро вы оказались в районе боевых действий, вам надлежало немедленно проснуться. И потребовать медицинской помощи, а не сидеть взаперти, не заниматься самолечением. Ведь вы же, господа штатские, не только своим здоровьем рисковали! Сам генерал дивизии Грабужинский чуть себе пулю в лоб не пустил, когда Хлява доложил о том, что здесь происходит! Да-с…
Доктор заметно разволновался, но чувствовалось, что это волнение доставляет ему приятность: выполнив долг, поучить.
— Извините, господин воензнахарь, — сухо сказал Олег. Он смотрел не на доктора, а поверх его головы в окно. — А откуда нам было знать? Мы даже из вагона не могли выйти: ни проводников, ни ключей…
— Ни локомотива, — подхватил доктор. — Ни каких бы то ни было опознавательных знаков на вагонах. А все вагоны — ярко-зеленого, армейского цвета. И прибыли без объявления за несколько часов до начала баталии. Плюс ко всему — почти полное отсутствие ожидаемой штатской реакции на психопробу. И что оставалось думать нашим славным штабистам? Разумеется, все эти подозрительные вагоны были немедленно заминированы, как весьма вероятный источник диверсии со стороны супостата. А внезапное алкогольное отравление почти полувзвода воев, производивших минирование, лишь усугубило панику. Если бы не Хлява, который во всей этой неразберихе сумел сохранить ясную голову…
— Да, ладно, папаша, — примирительно сказал Сима. — Понято и усвоено. Нам бы еще пожрать чего посущественней.
— Я узнаю, — буркнул доктор, охотно умиротворяясь. — Вас, кажется, должны поставить на довольствие по офицерским нормам — или, как минимум, разбить палатки-ресторации… Всенепременно выясню этот вопрос, но сначала закончу обход. Желаю здравствовать, господа.
— И вам того же, — сухо сказал Олег, прижимаясь к полкам, чтобы освободить проход.
Доктор подергал ручку. Потом потолкал дверь. Потом спохватился, о чем-то вспомнив, и повернулся к Танечке.
— А вы, сударыня, — нравоучительно сказал он ей, — все же подумайте о моем предложении. К вашим бы способностям да наш арсенал… а опыт — дело наживное!
— Я вам уже говорила: это бессмысленно, — Танечка дернула плечиком и отвернулась.
— Зря. Я вам еще не все выгоды перечислил. В Междуармейском Знахарском корпусе вы будете вольны сохранить за собой штатскую гарантию безопасности — а жалованье между тем…
— А вот это уже не только бессмысленно, но и бесчестно! Простите, господин воензнахарь, но это не для меня.
— Жаль… — сказал господин воензнахарь. — Ей-Богу, жаль. Ни одна штатская клиника не даст вам такую богатую практику. Во всех смыслах этого слова богатую.
— И слава Богу, — отрезала Танечка. — И не надо… Я хочу лечить. Людей! А не ремонтировать боевые машины. Одни лечат, другие калечат. На стол, в окоп, на стол, в окоп, на стол, в могилу… Я-не-хо-чу!
— Тогда я не понимаю, зачем вы сюда приехали. — Доктор дернул за ручку, и дверь откатилась. — Где вы их откопали? Пульманы с эфирным локомотивом — черт знает что!..
Он вышел из купе и отнюдь не по-строевому зашаркал направо по коридору, на ходу бормоча себе под нос уже известную нам присказку о том, что «шпаки есть шпаки».
Олег задвинул дверь и сел рядом с Танечкой, а Сима уселся у меня в ногах.
Трусы с меня были не сняты, а только приспущены, и, когда Танечка отвернулась, я натянул их под простыней. Все остальное оказалось под Симиным задом — кроме носков, которые я сам вечером положил под матрас. Сима привстал, отдавая мою одежду, и снова сел. Я стал одеваться.
Шрам на животе побаливал от прикосновений, но внутри никаких болезненных ощущений уже не осталось. Даже мой застарелый гастрит пропал, как и не был. Надо полагать, у господина воензнахаря действительно был замечательный арсенал… «Эфирный локомотив», подумал я, осторожно заправляя рубашку и не менее осторожно застегивая брюки. «Эфирные шланги»… Бредятина.
Наконец я надел пиджак, снял с крючка плащ и сел, положив его на колени. Надо посидеть на дорожку. И надо как-то попрощаться с попутчиками. Дипломат я решил оставить: ничего особо ценного там не было, а в пути — обуза.
— Так значит, двери уже открыты? — спросил я, чтобы как-то начать.
Олег кивнул, а Сима посмотрел на меня с интересом.
— Куда собрался, Петрович?
Я вздохнул и встал.
— В Бирюкове. Или в Березино. По шпалам… Все веселее, чем тут сидеть. А вы остаетесь?
— Не ты первый, Петрович, — лениво сообщил Сима. — Ходили уже — аж за три километра от шестого вагона. И вернулись.
— Почему от шестого? — спросил я. — Наверное, ИЗ шестого?
— Из нашего тоже, — возразил Сима. — А от шестого, потому что первых пяти нету. Эфирнулись куда-то вместе с паровозом.
— С тепловозом, — поправил Олег.
Он сидел рядом с Танечкой и гладил ее волосы. Она лежала молча, не принимая и не отвергая ласку. (Было у них что-нибудь ночью, или это мне тоже приснилось?.. Не знаю. Да и не мое это дело.)
— И что там, в трех километрах? — спросил я.
— Рассказывай ты, молодой, у тебя лучше получится. А то Петрович еще не знает.
— Все то же самое, — Олег пожал плечами. — Дорога, хлеба, перелески…
— Овсы, — поправил Сима.
— Овсы… — согласился Олег. — Все то же самое. И все не наше.
— То есть? — не понял я.
— Как вам сказать… Рельсы вроде бы те же, а вот шпалы уже в нескольких сотнях метров от нас — пластиковые. Или, может быть, из стекловолокна, потому что прозрачные… И столбы там другие, и нумерация не совпадает. В перелесках — окопы. Окопы, блиндажи, ходы сообщения. Все ухоженное, чистенькое, но видно, что используется. Гильзы аккуратными кучками. И по деревьям заметно, что стреляли не холостыми. Вдоль всей дороги — могилы. Братские. На некоторых еще трава не выросла. Не меньше ста фамилий на каждом камне. Со всего света — русские, латинские, китайские… даже, кажется, африканские. А славянских меньше половины. Ну, и так далее.
— Вы сами все это видели? — спросил я.
— Нет, я выспрашивал. Это еще вечером, когда мы чай пили, несколько человек выбрались через переходник и пошли. Заполночь вернулись — как раз когда мы воду настукивали. Взяли штурмом вагон-ресторан и отпраздновали свое поражение…
— Про вертухаев забыл, — сказал Сима.
— Вертухаи… Вдоль всей дороги, по обе стороны — оцепление. Далеко, насколько хватает глаз. Поближе к дороге — могилы, а подальше — оцепление. В стороны никого не пускают. Оружие не применяют, но и пройти не дают…
— А вдоль дороги можно? — спросил я. — Внутри оцепления?
— Выходит, что можно. Пойдете?
— Уже не знаю, — сказал я сквозь зубы. И, обнаружив, что все еще стою, сел. Напрягая колени — чтобы не стучали друг о дружку… Следующую фразу я тщательно обдумал, решил, что ее тоже можно произнести, не разжимая зубов, и произнес: — Я не знаю, куда здесь можно прийти по шпалам.
— Никуда, — отозвалась Танечка.
Я хотел спросить: «Почему?» — но сумел только втянуть в себя воздух.
— Той ночью была гроза, — сказала Танечка. В стенку сказала, не оборачиваясь. — Некоторые не спали. Они говорят, что мы остановились во время грозы. А когда она кончилась — было уже светло, как днем. Ночью. Как днем.
— Сейчас наговорят, — хмыкнул Сима, — а ты слушай. И про гончих псов наговорят, и про грозу, и про дисковод со щупальцами…
— Дискоид, — поправил Олег.
— А не однохерственно?.. Извини, Танюха.
— Ничего, Сима, — сказала Танечка в стенку. — Я эти слова знаю.
Я повесил плащ обратно и стал расстегивать пиджак.
— Давайте хряпнем, — предложил Сима без особенной надежды на согласие. — Под икорку. А то когда еще эти палатки поставят. И «бабок» нет.
— А если бы и были? — сказал Олег. — Здесь, наверное, совсем другие деньги.
— Петрович, ты доперестроечными трешками рассчитывался. Остались? Вдруг подойдут.
— Попробуйте. — Я достал деньги и отдал их Симе.
— Сколько тут? — спросил он.
— Рублей двести, может, чуть больше.
— Годится. Хлява семьдесят в месяц получает, и каждый год в Австралию летает. На море. Билеты казенные, но в кабаках-то сам платит.
— Не обольщайся, Серафим, — сказал Олег. — Здесь это просто бумага. Вот увидишь.
— Попытка — не пытка. — Сима сунул трешки в карман и нагнулся под столик. — Ну что, будем? — спросил он, выпрямившись и свинчивая крышечку с бутылки.
— Нет, — сказал Олег.
— Будем, — возразила Танечка и, оттолкнув Олега, села. — Наливайте, Сима! Ему побольше. — Она ткнула пальцем в Олега.
Олег пожал плечами и стал открывать икру.
«Сидра» уже не осталось, а от спирта (мы разбавляли его кипяченой водой из термоса) Танечка быстро захмелела и стала вести себя вольно. Ей было на все наплевать. Олегу тоже. Они по очереди кормили друг друга икрой с ложечки, а когда начали целоваться, Сима сунул мне в руку полный стакан и выволок в коридор. Коридор был очень большой и одновременно тесный. Вагон качался, потому что мы плыли в Австралию — расплачиваться в тамошних кабаках доперестроечными трешками. При такой качке было совершенно невозможно держать в руке полный стакан и не расплескать — поэтому я отпил половину и сообщил Симе, что в Австралии очень много русских: наши трешки наверняка будут иметь там хождение. А Олег, вообще-то, хам. Разве можно целоваться у всех на виду с такой женщиной? Ее надо носить на руках. Он ничего не понимает. И она, между прочим, тоже. Подумаешь, четыре вида спорта! А душа? Вот когда мы с Марой… Палубу опять качнуло, но я устоял. Однако, попытавшись допить, обнаружил, что стакан пуст. Чертова качка.
Лучше всего было бы прыгнуть за борт и поплавать — но я был еще не настолько пьян. Поэтому я просто пошел спать.
6
Почему-то всегда получается так: все про все знают, а я в стороне. Как на другой планете, ей-Богу!
Оказывается, нас поставили на довольствие. По офицерским нормам.
Вдоль вагонов были накрыты столы под ярко-зелеными тентами. Пятнистые солдатики в белых передниках разносили пищу. Большими черпаками из больших двуручных котлов наливали в тарелки кашу, расставляли миски с салатом и мисочки с маслом, дымящиеся жаровни, пузатые широконосые чайники, кружки, солонки, перечницы и привлекательные графинчики, наполненные чем-то прозрачным, янтарно-солнечным…
А на десерт солдатики приволокли необхватные деревянные блюда с золотистыми дынями, нарезанными толстыми ломтями.
Если обед будет таким же, как и завтрак, то жить можно.
Пикник, уготованный нам генералом дивизии Грабужинским, продолжался. Культурной программой.
Между столами и вагонами был сооружен обширный квадратный помост, на котором солдатики демонстрировали воинские искусства. Что-то вроде восточных единоборств, приправленных английским боксом и молодецкими славянскими замахами. Как раз когда я протолкался поближе, широкоплечий и брюхастый илюша муромец обхватил тощего ниндзю поперек туловища и через головы зрителей кинул в овсы. Так его! Знай наших! Я зааплодировал вместе со всеми.
Окруженный секундантами ниндзя ворочался в овсах, а брюхастый илюша муромец, оглаживая воображаемую бороду, упруго косолапил по помосту, покачивал могутными плечами и зычно выкрикивал оскорбления возможным соперникам:
— А вот, кому еще своей головы не жалко? Кто на Русь, мать нашу?..
На помост выбрался еще один ниндзя. С двумя автоматами, очень похожими на наши «калашники». Илюша было изготовился — но драться они не стали. Перекинулись двумя-тремя неслышными фразами, после чего илюша закинул один автомат на плечо, легко (слишком легко для своей комплекции!) спрыгнул следом за ниндзей с помоста, и оба побежали прочь от состава сквозь отхлынувшую толпу. Только что поверженный ниндзя и все его секунданты бежали туда же, мимоходом перепрыгивая через столы и скамьи. И солдатики в белых передниках — тоже, побросав чашки-ложки и на бегу срывая с себя передники. Почти у каждого был автомат с примкнутым штыком…
А через пару секунд ожили обе «шилки».
Толпа, давя сама себя, посунулась к вагонам. Меня и еще нескольких человек, угодивших в некое аномальное завихрение, вынесло на помост. Не везет, так ух по-крупному — мы же тут, как на ладони…
Оцепление как стояло в трехстах метрах от насыпи, так и продолжало стоять, не двигаясь. Им, чуть не на головы, сыпались парашютисты. У них (и у нас) над головами с леденящим конечности гулом пронесся сбитый «шилками» самолет и врезался в землю где-то у горизонта. Сквозь них бежали их вооруженные коллеги и, едва пробежав, немедленно вступали в рукопашную с едва успевшими приземлиться парашютистами… А оцепление продолжало стоять.
— Это показательный бой, — сказал у меня под ухом дрожащий голос. — Ненастоящий, понимаете?
Я оглянулся. Тип в очках. Очки были разбиты. Одной рукой прижимая к бедру бутуза, он другой рукой вытирал обильный пот с лысины… Ему очень хотелось, чтобы я поверил его словам — тогда он, может быть, и сам поверит им.
Но я покачал головой и указал на горизонт, где полыхали в овсах останки сбитого самолета.
— Пустой… — умоляюще сказал папаша. — Радиоуправляемый, понимаете? Для эффекта!
— А могилы? — спросил я, с трудом разлепив губы.
— Могилы? — испугался он.
— Там… — Я махнул рукой влево, в сторону головы состава. — Братские могилы. Свежие.
— Вы их видели?
Я отрицательно покачал головой, будучи не в силах оторвать взгляд от побоища в трех сотнях метров от нас. И никто, кроме этого бедняги с разбитыми очками и обузой-чадом, не мог оторвать взгляд.
— Театр! — восклицал он, почти уверенно. — Представление, понимаете? Спектакль на открытом воздухе… Так сказать, на пленэре! У них здесь такое гостеприимство: сначала — хлеб, а теперь вот и зрелище…
На него зашикали, но он уже не мог остановиться. Его понесло. Спектакль? Скорее уж — гладиаторский бой. Массовый.
— Папа, почему они не стреляют? — спросил бутуз.
— Чтобы не попасть в людей, Борик. Не смотри, не надо.
Он был еще и непоследователен, лысый недоверчивый папаша. «Спектакль», и вдруг: «Не смотри»!.. Но он, по-видимому, правильно ответил на вопрос наблюдательного Борика: не стреляют, чтобы не попасть в людей.
Люди — это мы…
Все парашютисты были чернокожие, рослые (каждый на голову выше наших солдатиков), крепкие, в ладно облегающих ярко-зеленых комбинезонах. Но у наших солдатиков была изумительно простая тактика: во что бы то ни стало — боднуть! Выстрелов не было. Автоматы использовались только в качестве дубинки и пики. Были кружения, выпады, прыжки, удары руками и ногами. И головой. Вернее, гладким и твердым на вид ярко-зеленым яйцом, которое появилось у них на месте головы. Каждый удар этим яйцом был смертельным. Парашютисты падали с глубоко выжженными грудными клетками и животами, с отхваченной в беззвучной оранжевой вспышке стопой или локтем, кто-то неосторожно зажал голову нашего солдатика под мышкой — и упал без плеча, истекая кровью… С нашей стороны потери были очень незначительны, но тоже были. Кто-то из наших, пригвожденный к земле штыком, корчился, выжигая головой овес. Двух других чернокожий гигант-парашютист ухватил за шиворот, приподнял и, стукнув лбами, отбросил в стороны обезглавленные тела. Непобедимым оказался еще один гигант, обративший против наших солдат их же оружие (или защиту): он поймал одного из наших за ноги и, вращая им, как всесокрушающей булавой, успешно отмахивался от целого взвода яйцеголовых и сеял смерть. Пытаясь использовать живую булаву как можно эффективнее и дольше, гигант вращал ее на уровне грудей и животов. Его ошибка заключалась в том, что он использовал именно живого, а не убитого противника: «булава» ухватилась руками за ворот и самоотверженно отключила защиту. Уже в следующий момент гигант упал, протараненный с трех сторон.
Он был последним.
Последним сражавшимся — потому что двоих чернокожих гигантов наши, кажется, взяли в плен. Одному, навалившись толпой и стараясь не касаться его головами, заломили руку назад и вверх, и повели, полусогнутого, куда-то направо вдоль оцепления. А второй сам поднял руки, сцепив пальцы на затылке, и побрел туда же.
Обоих втолкнули в налетевший откуда-то вертолет.
Ярко-зеленый хищник, заглотив добычу и схлопнув челюсти люка, бесшумно взмыл… Все-таки, облачность тут ненормально низкая и плотная. Не бывает такой облачности. Вертолет канул в нее, как в грязную воду, и растворился каплей зеленых чернил. Я все же успел углядеть аляповатый опознавательный знак на борту: белый восьмиконечный крест на разделенном диагональю малиново-синем квадрате. Цвета российские — но крест какой-то странный…
Победители подбирали убитых и стаскивали их в одно место, как раз напротив нашего помоста, по эту сторону оцепления. Оцепление продолжало стоять. Трупы (и своих, и чужих, без разбора) укладывали в аккуратный длинный ряд. Ногами к нам, головами к югу — если там все еще был юг. В этом чудилось что-то языческое. И одновременно шекспировское.
Вся санитарно-похоронная суета заняла очень мало времени (я не смотрел на часы, но вряд ли больше двадцати минут). Потом было что-то вроде краткого торжественного построения, и трижды прозвучал залп. Одиночными. В небо. Это были первые выстрелы после начала битвы («шилки» стреляли до). Солдатики, побросав автоматы в кучу к ногам оцепления, потянулись обратно к столам, на ходу подбирая свои передники.
Трупы остались лежать.
Все почему-то уже были возле нашего, одиннадцатого, вагона, который теперь, после того как исчезли первые пять, оказался центральным. Они там все галдели и толкались, наседая на кого-то в центре, а тот, на кого наседали, громогласно (в мегафон, что ли?) обещал соблюсти закон, ответить на все вопросы и разрешить возникшие затруднения — но для начала просил помолчать и послушать речь какого-то полковника.
Я заметался.
Мне очень захотелось узнать ответы на все вопросы и чтобы кто-нибудь разрешил мои затруднения. Но сквозь галдящую толпу было не протолкаться. И тут в первых рядах толпившихся я увидел Симу, а Сима увидел меня.
— Петрович! — заорал он. — Давай сюда! Старики, пропустите Петровича! Ты где пропадал? Щас Умориньш говорить будет.
— Кто такой Умориньш? — спросил я, когда «старики», расступившись, пропустили меня к Симе. Похоже, Сима был у них в авторитете.
— Щас увидишь, — пообещал Сима, заботливо отводя от меня чей-то локоть. — Потише, старик, у Петровича бок раненый.
— У меня самого легкое пробито, — огрызнулся тот. — Ассегаем. Я почти сутки кровью харкал…
— Вот ты и не толкайся, старик, побереги легкое, — посоветовал Сима. — Тебе видно, Петрович?
Мне было видно. Прямо перед нами, стиснутая толпой пассажиров, стояла ярко-зеленая с желтыми пятнами бронированная машина непривычных очертаний. Вместо кузова у нее была обширная, ничем не огражденная низкая платформа, и на ней стояли четверо. Один яйцеголовый, в длинной, до пят, пятнистой плащ-накидке с золоченными эполетами и такими же витыми аксельбантами поверх нее, — и трое с нормальными лицами. Из этих троих один был рослый, крепкий, чернокожий, в ярко-зеленом облегающем комбинезоне и с непокрытой головой. Двое других (европеец и не то японец, не то китаец) были одеты в серо-голубые штатские костюмы. Голубые каски с белыми буквами OUN у них на головах отнюдь не казались лишними… Мегафон был в руках у европейца, и европеец что-то не по-русски говорил, а из толпы его очень по-русски перебивали.
— Которые в касках — наблюдатели, — пояснил Сима. — Чтобы закон не нарушался. Умориньш самый блискучий, без головы. Щас он нам скажет. С броневичка, как Борис Николаевич…
Действительно, европеец уже перестал говорить и протянул мегафон яйцеголовому, в аксельбантах. Приказ-полковник коротко, от бедра, отрицательно махнул растопыренной ладонью и по-кошачьи мягко выступил на несколько шагов вперед. Остановившись у самого края платформы, он заложил руки за спину и стал качаться с пятки на носок.
Гомон в толпе понемногу стихал — все ждали, что скажет приказ-полковник Умориньш.
Перестав качаться, он резким движением откинул в стороны полы своей пятнистой плащ-накидки, правую руку положил на пятнистую кобуру, а пальцы левой сунул под ремень. Из яйца на его плечах раздался голос (и сразу стало ясно, почему он отказался от мегафона):
— Солдатами не становятся, господа! Ими — рождаются!
Наверное, в этом месте ему всегда возражали, потому что он привычно замолчал. Но мы возражать не стали, и приказ-полковник, дернув эполетом, продолжил.
(В дальнейшем он обходился без ораторских пауз, делая лишь короткие передышки после долгих периодов. Все его фразы были круглы, обкатаны и не однажды произнесены.)
— Я глубоко убежден в том, — говорил нам приказ-полковник Умориньш, — что здесь, среди вас, тоже нашлось бы немало прирожденных солдат! Но общий уклад штатской жизни, увы, не способствует ни проявлению, ни воспитанию в современном человеке высоких воинских качеств. Даже напротив тому: боевой дух, генетически присущий прирожденному воину, педагоги именуют «естественной детской агрессивностью» — и, противореча собственной формулировке, всеми доступными им средствами давят в человеке естество! А повседневная безопасность вкупе с безопасной повседневностью штатской жизни успешно довершают начатое в детстве подавление воина в мужчине.
Иногда я удивляюсь тому, что армии все еще существуют. Я с ужасом вглядываюсь в грядущее и меня прошибает холодный пот, когда я пытаюсь представить себе мир без войны. Но логика и здравый смысл приходят мне на помощь, и я с облегчением стряхиваю с себя беспочвенные кошмары. Воин, солдат, ландскнехт, рейнджер спит или бодрствует в каждом из нас, господа! Он может уснуть надолго, порой — на целые поколения. Но спит он чутко, как подсменный часовой. Рано или поздно звучит побудка. Рано или поздно цивилизация начинает задыхаться в атмосфере, перенасыщенной безопасностью. Ведь мир без войны — это воздух без кислорода!.. И тогда старики вспоминают былые баталии, в которых некогда стяжали славу их прадеды, и, пряча глаза, шепелявят дежурные фразы о «бессмысленности массовых убийств» — а юноши, вежливо слушая их осторожные бредни, вдруг различают за привычной вонью обыденных заклинаний нечто живое и новое. И жадно глотают кислород геройства, воинской чести и доблести. Вскоре они неизбежно осознают, что сами же и являются источником этого кислорода! Тогда возникают и переполняются призывные пункты, растут ополчения, макаронные фабрики снова штампуют патроны, а на тягачи и бульдозеры, возвращаются орудийные башни. «Что такое мир? Чуткий сон войны!» — так сказал поэт. Я скажу больше: мир — это сплошной и огромный повод к войне. Мужчине с проснувшимся геном геройства и доблести всегда найдется достойное дело на этой земле!
Умориньш сунул руку за ворот и, щелкнув, постоял навытяжку — видимо, с кем-то проконсультировался.
— Не стану далеко ходить за примерами, — сообщил он нам, снова включившись, — но естественным образом перейду к причинам 121-й Междуармейской баталии, свидетелями которой вы пожелали стать.
Как вам, наверное, известно, экономисты юга Восточной Сибири указали предпринимателям на реальную опасность роста продовольственной экспансии из-за Урала. В частности, акционерам кулинарных и в особенности кондитерских фирм Благовещенска, Хэгана и Цицикара был обещан не менее чем пятипроцентный спад дивидендов в будущем году. Основным же источником предполагаемой экспансии были названы северные княжества Федеративной Республики Русь. Вняв предостережениям экономистов, Объединенная Негоциация Амурских Штатов закупила услуги двух гвардейских воздушно-десантных полков Независимого Царства Сомали и заявила право сильного на Мурманский целлюлозно-кондитерский комбинат. Купеческая Дума княжества Карелия, не захотев за здорово живешь отдать контрольный пакет акций своего самого прибыльного предприятия, усилила моторизованную пехотную дружину княжества дюжиной австралийских вертолетов прикрытия и Дважды Крестоносной Отдельной Королевской ротой ПВО Канады, после чего объявила о своей готовности к обороне. Баталию было решено провести здесь, на территории суперплаца Бербир, примерно равноудаленной и от Благовещенска, и от Мурманска.
Приказ-полковник высвободил руки из-под ремня, запахнул полы накидки и встал по стойке «смирно». Голос его зазвенел:
— Около двенадцати часов тому назад вы были свидетелями первого огневого контакта с супостатом: доблестная Королевская рота ПВО Канады уничтожила транспорт с крупным рекогносцировочным десантом из Сомали. Сегодня бои местного значения идут на всей территории суперплаца — и только что был закончен один из них. В настоящий момент взвод божедомов из полка обслуживания суперплаца Бербир приступил к отданию последних почестей ста семидесяти трем павшим сомалийским десантникам и пяти членам экипажа транспорта, сбитого вчера. Они! Стяжали! Славу!..
Приказ-полковник Умориньш умолк и склонил яйцо.
Кто-то позади меня шумно вздохнул.
— И здесь дурдом! — громко сказал Сима. На него шикнули.
Я уже ничему не удивлялся. Никто уже ничему не удивлялся. Все мы слушали и вряд ли даже пытались понять.
Я поискал глазами Олега и Танечку и обнаружил их совсем рядом с вагоном. Танечка мелко-мелко, по-старушечьи, крестилась, а Олег изображал приличествующую скорбь, но при этом о чем-то напряженно думал — и, кажется, был близок к принятию какого-то решения…
Минута молчания кончилась. Приказ-полковник Умориньш гордо вздернул яйцо и продолжил речь:
— Мне часто задают один и тот же вопрос, — вкрадчиво сообщил он. — А не разумнее ли, мол, сражаться там, на территории непосредственных интересов воюющих сторон?
Аудитория зашумела в том смысле, что да, вопрос, действительно, резонный.
— Ну что ж! — Приказ-полковник запахнул накидку и скрестил руки на груди. — Отвечу на ваш сугубо штатский вопрос.
Он вытянул левую руку и стал загибать пальцы.
— Во-первых, даже кратковременная эвакуация столь густо населенного города, как Мурманск, влетела бы Купеческой Думе в копеечку, превосходящую стоимость того самого контрольного пакета акций, с которым она не желает расстаться. Во-вторых, Объединенная Негоциация, даже овладев комбинатом, понесла бы неменьший урон от неизбежных в ходе военных действий разрушений. И в третьих: кто должен будет восстанавливать личное недвижимое имущество подданных князя Карелии? Имущество, которое не относится к предмету спора между нашими нанимателями, но столь же неизбежно пострадает в ходе баталии? Разумеется, победившая армия… Подчеркиваю: армия, а не сторона! Вряд ли таковое восстановление окупится гонораром: Стоит ли, наконец, упоминать о том, что самая тщательная эвакуация недисциплинированных штатских лиц с места предстоящей баталии не гарантирует их от более чем возможных несчастных случаев? Все вы знаете Международный закон о войне: пропажа без вести штатского лица в районе боевых действий чревата пожизненным заключением для десяти воинов; установленная гибель штатского лица в районе боевых действий — расстрелом стольких же.
Поэтому, господа, — тихо, но очень внушительно произнес он после паузы (на сей раз вполне ораторской), — я убедительно прошу вас не выходить из зоны безопасности — она ясно обозначена цепью воев суперплаца Бербир. Возможные действия воев по удержанию увлекшихся зрителей в границах означенной зоны я убедительно прошу не рассматривать как насилие с их стороны. Уверяю вас, господа: даже из окон ваших вагонов обзор в любое время суток будет не хуже, чем из сенатской ложи в Колизее. Желающие смогут арендовать или приобрести бинокли и подзорные трубы в интендантстве суперплаца Бербир…
В голосе приказ-полковника не было ни горечи, ни гнева, он говорил о биноклях, как о чем-то само собой разумеющемся. Видимо, поэтому жутковатый смысл сказанного не сразу проник в мое сознание. Первой, кажется, отреагировала Танечка:
— Господи, — тонко проговорила она, — да за кого нас принимают?.. — и, крикнув: — Олег! — она с неожиданной силой развернула его к себе, ухватила за плечи и стала трясти. А Олег не пытался ее успокоить — он думал о чем-то своем, глядя поверх голов на горизонт, где все еще дымилось.
— За шпаков они нас принимают, — сообщил Сима (мне, а не Танечке) и заворочал задом, протискиваясь обратно в тамбур. — Так мы и есть шпаки, Петрович, и останемся шпаками. Пошли на хрен отсюда!
Сима понял все. И гораздо больше, чем я.
Приказ-полковник Умориньш сказал не всю правду. Но сделал достаточно много тонких намеков, чтобы мы сами могли догадаться о том, что не сказано. Я не хотел догадываться. Мне это было вовсе ни к чему. Я сопротивлялся пониманию изо всех моих слабых сил.
Сима выдернул меня из переполненного тамбура, как полотенце из набитого комода, и ринулся вперед. Я кое-как дохромал следом за ним до купе и повалился на полку. Сима уже сидел напротив и откупоривал лекарство от всех скорбей.
Приказ-полковник Умориньш кричал, перекрывая поднявшийся ропот, голос его был слышен даже здесь.
— И в заключение! — кричал он. — Смею заверить! что авантюра амурских негоциантов! обречена на провал!.. Наши новейшие средства индивидуальной защиты!.. Боевой дух!.. Традиции воинской доблести… со времен Ладобора и Дыбника…
— Давай, Петрович! — рявкнул Сима, перекрывая голос полковника, и сунул мне стакан, держа наготове еще один. — Давай залпом — и сразу запей!
«Незнание не освобождает… — подумал я, садясь и принимая стакан. — Да. Но бывают такие знания, что лучше без них».
И я дал залпом и сразу запил, а голос приказ-полковника за окном сменился другим голосом — неожиданно певучим, завораживающим баритоном, что-то весело вещавшим не по-русски.
«Имею право «не знать… — думал я, чувствуя, что засыпаю, оглушенный спиртом. — Ну какой из меня секирник?.. — думал я. — Или дыбник? С чего они взяли?.. Это был только сон…»
7
…Не помню, сколько дней мы с Симой не просыхали, и не знаю, что в эти дни происходило снаружи. Видимо, кто-то действительно взялся разрешить возникшие у нас затруднения — и, видимо, преуспел. Потому что однажды, проснувшись в темном купе, я долго слушал перестук колес, Симин заливистый храп и Танечкины всхлипывания сквозь сон.
Мне казалось, что я знаю, почему она всхлипывает — надо только напрячься как следует, и я сразу вспомню… Вспоминалась почему-то братская могила, на которую Танечка за неимением живых цветов принесла бумажные, скрученные из салфеток, а мы с Симой — бутылку спирта и стаканы. Почти в самом конце списка на полупрозрачном желтоватом могильном камне мы отыскали строчку:
«Хлява О.С., ген. сержант».
Перед ним в списке был «Тунг-Томбо, гв. капрал», а после него — «Юрич А.В., инж. — поручик» и «Яа-Нгуги, гв. копейщик».
— Нас, Петрович, эта война не касается, — говорил Сима мне уже в купе, суя стакан.
— Никаким боком!.. — соглашался я и все отпихивал надоевший спирт.
Танечка была здесь же и почему-то тоже хотела, чтобы я выпил, но я больше не мог. А Олега не было, и некому было защитить меня от распоясавшегося алкаша.
— А вот Хлявы коснулась, — наставительно говорил Сима. И снова совал мне стакан. — Крепко коснулась. И вроде как из-за нас. Жалко Хляву, Петрович?
— Жалко, — кивал я и опять отпихивал.
— И мне жалко. Давай, Петрович. За Хляву. Надо, пойми!
И он почти силой влил в меня полстакана спирта.
— А теперь спи, Петрович! — приказал он, когда я, давясь Икотой, запил спирт стаканом чего-то сладкого, теплого, препротивного. — Крепко спи, — повторил он. — Надо, Петрович…
Но я еще долго не мог уснуть, икая и пытаясь вникнуть в смысл его беседы с Танечкой — что-то про дурдома, которые не лучше и не хуже один другого, а просто разные, но свой дурдом роднее… А Олега все не было и не предвиделось, и почему-то это было правильно. Танечка плакала и соглашалась: правильно, мол, — но все равно плакала. Так я и уснул под ее плач, а проснулся под всхлипывания.
Было темно, стучали колеса, храпел Сима. Танечка всхлипывала во сне. Я вытянул руку к окну и ощутил пальцами стекло. Значит, окно было не зашторено. За окном была наконец-то ночь, и мы наконец-то куда-то ехали…
В следующий раз я проснулся при свете дня. Поезд стоял. Через оконное стекло проникали высокое солнце и станционные шумы. Кое-как я встал и выглянул в окно… Мы стояли на втором или на третьем пути: какой-то состав загораживал от нас станцию. В просвете между вагонами мне была видна часть вокзального фронтона с буквами «ИРЮК» — Бирюково, надо полагать. Слава Богу. Я почти что дома. Скоро пересадка в Тайге, и еще три часа от Тайги… Надо привести себя в порядок — и побыстрее.
С треском откатилась дверь, и Сима, пыхтя, втащил в купе ящик… бренди, а Танечка внесла свою болоньевую сумку. Полную. Олега с ними не было.
Я сел.
— Проснулся, Петрович? — спросил Сима и осторожно поставил ящик под стол. Ящик был полон, поверх него лежали еще три бутылки. (С ума сойти. Откуда столько денег?)
Танечка опустила сумку на пол и села в свой угол. Глаза у нее были красные, лицо какое-то усталое, всему покорное, а блузка опять расстегнута. Перехватив мой взгляд, Танечка повела плечом, но застегивать блузку не стала.
Сима упал на полку рядом со мной, обтер потное лицо рукавом свитера, потянулся к ящику.
— Танюха, давай закусь!
— Может, не надо? — спросила Танечка. — Глупость какая-то.
— Танюха, я тебе уже объяснял: это единственный способ! Молодой меня не слушал — и где теперь молодой? Где лысый с пацаном?..
— Мальчик в поезде, — возразила Танечка. — В пятом купе, у Ядвиги Остаповны. Едет, хотя и не пьет…
— Он пацан, ему еще ни один дурдом не родной! Вот вырастет и определится — как папаня его определился… Ты на него, Петрович, не смотри, а наливай и пей. Тебе надо. Для поправки… Мы тоже сначала поправимся, а потом все вместе начнем квасить по-настоящему. До опупения.
— Поправиться надо… — проговорил я (сипло, как Сима давеча), — но квасить я не буду. Мне в Тайге выходить.
— В какой? — спросил Сима, садясь и дуя в стаканы.
— Станция так называется — Тайга, — пояснил я.
— Это я просек. На какой станции Тайге ты выходишь? Или тебе это похрен? Извини, Танюха.
— Он еще не знает, — сказала Танечка. — И не поверит, пока сам не увидит.
— Что я должен увидеть? — Мне опять стало нехорошо. — Чему поверить? И… где Олег?
Они молчали.
Я снова сунулся к окну. Буквы «ИРЮК» никуда не делись.
— Это Бирюкове, — сказал я не очень уверенно. — Или нет?
— Бирюкове, Бирюкове, — ответил Сима. — Давай закусь, Танюха. Поправимся, и пусть Петрович погуляет. Недолго.
— Гончие псы… — выговорил я, как выругался, и сел.
— Во-во, — согласился Сима и расплескал на два пальца по стаканам. — Начинаешь сечь, Петрович.
В Танечкиной сумке были вареные яйца и черствый хлеб. Я точно знал, что они в меня не полезут, но после бренди — полезли…
А потом я пошел гулять. Ненадолго.
Бирюкове было как Бирюкове, только памятник Ленину снова стоял на своем месте. И кумачовых лозунгов на фасадах не убавилось, а, наоборот, прибавилось. Тексты были обычные, хотя и забытые, но среди них такой: «Руки прочь от Советского Афганистана!». Гм.
Бренди продавался в киоске на перроне, и бутылка стоила семь рублей тридцать две копейки. Вареные яйца по тринадцать копеек и хлеб (больше ничего) были в другом киоске, рядом. К обоим киоскам толпились очереди. В обеих очередях было много знакомых лиц: все те, надо полагать, у кого нашлись доперестроечные трешки (пятерки, рубли, десятки — словом, мелочь).
Возле киоска «Союзпечати» я задержался подольше, всматриваясь в даты. Год, месяц, число — все совпадало… Правда, несколько дней мы проторчали у столба N_214, значит, сегодня должно быть не 21 октября, а, как минимум, 25. Но на вокзалах газеты случаются и недельной давности… Газеты, как и кумачовые лозунги, тоже были почти забытые. На самом виду лежали «Правда», «Советская Сибирь» и «Луч коммунизма» (последняя — орган Бирюковского ГК КПСС). Соответственно три копейки, две и одна. У меня копеек не было. Ни одной. Давно.
Журналы тоже были еще те — лишь один незнакомый: «Советский Афганистан», общественно-политическое и художественное издание ЦК КПАф. 30 копеек. Я пошарил по карманам. Ни единой трешки не завалялось, я все отдал Симе.
Тогда я пошел на хитрость и спросил киоскершу: можно ли сначала полистать журнал, а то вдруг скучный? Оказалось, что можно. Из осторожности я сначала попросил «Иностранную литературу». Она-таки была скучна, и ничего в ней не было, кроме двух романов с продолжением (один с сербского, другой с хинди) да какой-то казенной литературной ругани. Ругали Рушди и Лема (почему-то в одной статье) и между делом срывали покровы с леди Тетчер. Вернув «Иностранку», я осмелился попросить «Советский Афганистан» и в содержании сразу набрел на известное имя: Евг. Евтушенко. «Полтергейст». Поэма. Стр.47.
Я открыл сорок седьмую страницу.
Поэма была о том, как из Афганистана изгоняли «духов», но главным образом о трагической (потому что взаимной) любви советского солдата к сестре моджахеда. Помнится, кто-то уже писал что-то похожее… Правда, у Вильяма не было концовки с таким двойственным — если вчитаться — смыслом, но ведь и под асфальтовый каток Вильям не попадал, не было в средневековой Англии асфальтовых катков…
Сима прав, подумал я, закрывая журнал. Это не наш дурдом. У нас веселее.
Правда, цены!
Я вернул киоскерше «Советский Афганистан» и опять пошарил по карманам, даже разодрал слипшийся и ссохшийся правый. Тщета… Киоскерша понимающе усмехнулась. Я тоже усмехнулся, печально развел руками и пошел прочь.
К нам в купе, когда я вернулся, было не протолкнуться — там имело место представительское совещание всех эфирнувшихся черт знает куда, но не возжелавших в этом черт знает где оставаться.
— Всем ясно, старики? — говорил Сима. — Повторяю главное час «Ч» — двенадцать ноль-ноль по вокзальным. До того осматриваемся, гуляем и запасаем пузыри. В час «Ч» все, кто хочет вернуться, сидят по вагонам и начинают квасить. До опупения! Чтобы ни тяти, ни мамы! Кто не хочет — пускай забирает манатки и остается. За трезвость поборемся потом, в своем дурдоме, а пока что надо выбраться из этого… Так. Еще. Тут кто-то вякал за Академию Наук. Она в этом дурдоме, конечно, есть, потому что ни один дурдом без нее не обходится. Но и дурдомы в этом дурдоме тоже есть. И куда вы раньше попадете — в Академию, или в дурдом — я не знаю. Так что, решайте сами. Но в тринадцать ноль-ноль я пройду по вагонам — не один, конечно. И всем несознательным помогу собрать манатки… Тебя, Академия, это особенно касается. Я понимаю, что у тебя печень. Но ты же решай! Твоя печень — или пятьсот человек! Если печень дороже, оставайся и лечи здесь.
Удивительно, как они сумели разместиться в нашем купе. Их было десятка полтора, Симиных эмиссаров. И почти никого я не знал, хотя лица, конечно же, примелькались. Когда убрался последний (хватающийся за печень, но с победившим осознанием необходимости на остроносом, несмотря на опухлость, лице), я вошел в купе и сел на свою полку.
— А, Петрович! — сказал Сима, увидев меня. — Посмотрел?
— Посмотрел, — ответил я. — И послушал. Не понимаю, каким образом вы намерены…
Сима задвинул дверь:
— Все просто, Петрович, — сказал он. — Тут народ ушлый, догадался, кого надо выпихнуть, чтобы остальные доехали. Всех, у кого ранения — раз, кому закон о войне понравился — два, кто на инородцев косится — три! Молодой собой пожертвовал, чтобы Танюха доехала. Дурак… А вот лысого выпихнули. И тебя, Петрович, хотели выпихнуть, еле я отмахался. Я уже тогда стал просекать, что в этом, — он пощелкал ногтем по горлу, — что-то есть… Ну, и подтвердилось.
— Значит, все-таки параллельные пространства, — проговорил я. — Но — как? Что нас туда занесло? То есть, сюда…
— Этого я, Петрович, не знаю. Может, гончие псы, может, дисковод со щупальцами…
— Дискоид.
— Пускай дискоид, — согласился Сима. — Неважно… А только все мы, в душе, хотели бежать из нашего дурдома. Дискоид или, там, гроза, или гончие псы — это веревка. Нам ее бросили, чтобы через стену перелезть. Желание было, веревка была, перелезли. Но куда попадет человек, убежавший из дурдома? В дурдом! И хорошо, если обратно в свой… Сечешь?
— Аналогия предельно ясна… — Я усмехнулся. — Но при чем тут алкоголь?
— Не знаю, — честно ответил Сима. — Но это вроде как мертвым прикинуться: не дышать и в четверть глаза сечь. Пускай, мол, таскают по всем дурдомам: «Ваши трупы? Не ваши трупы?». Оживем — скрутят, у себя оставят, не оживем — дальше пошлют. Главное, свой дурдом не прозевать… Так что, будем квасить, Петрович.
— А кто будет «сечь»?
— Я.
Возразить было нечего. Но вдруг подумалось, что и в этом параллельном мире (дурдоме, как их называет Сима) есть, наверное, Мара, есть Тимка. Почти не отличимые от тех, в моем… параллельном мире. Можно позвонить. Можно просто сесть на какой-нибудь другой поезд, доехать зайцем… И что? Выяснять отношения с другим Фомой Петровичем Неверовым, не отличимым от меня, — кто из нас лишний? Бред. Фантастика… Будем квасить.
— Будем квасить, — сказал я и потянулся к бутылке.
— Не сразу, Петрович! — Сима опередил меня и убрал бутылку подальше. — Побереги силы до часа «Ч». Надо со всеми.
Действительно…
Мы замолчали.
За сорок минут до часа «Ч» к Симе начали поступать доклады от эмиссаров, и в течение следующих десяти минут в купе было ни продохнуть, ни протолкнуться. Доклады обнадеживали. Пассажирские массы восприняли Симин способ путешествия через параллельные миры не без юмора, но других способов просто не видели. Только считанные единицы решили остаться здесь и уже собрали манатки.
Наконец, Сима посмотрел на часы и расплескал «Слънчев Бряг» по стаканам. До краев.
— Сдвинули! — скомандовал он.
Прежде чем «сдвинуть», я посмотрел на Танечку. С полным стаканом в одной руке и с очищенным яичком в другой, Танечка была очень серьезна. Как жрица у алтаря.
— За тех, кого мы любим… — сказал я, глядя в Танечкины колдовские глаза (и подумал: «Мара… И Тимка»).
Она кивнула.
Сима тоже кивнул.
Мы сдвинули.
И сдвигали еще много раз, а сколько, не помню… Но однажды Сима потряс меня за плечо и сказал:
— Приехали, Петрович! Наш дурдом!
8
Давать им подписку о неразглашении я наотрез отказался.
Было так.
Около трех месяцев тому назад, в ночь с 19 на 20 октября, некий «дискоид со щупальцами» (или гончепсяне на летающей салатнице, или шаровая молния — никто никогда не узнает, что и кто именно) бесшумно, быстро и сноровисто, как будто только тем и занимался, отцепил от пассажирского состава «Казань — Красноярск» одиннадцать вагонов и, нагло мерцая, стал висеть рядом, пока вагоны, в конце концов, не остановились.
Проводники остались без своего бригадира и без радиоузла — и, может быть, немножко растерялись. Они тихонько (чтобы попусту не беспокоить нас) покинули вагоны, заперли их (с той же благою целью) и разошлись по шпалам в обе стороны. За помощью. Оглядываясь на дискоид.
Две помощи вышли навстречу друг дружке из двух пунктов «Б» (Березино и Бирюкове) и встретились на середине пустого отрезка пути. Рельсы там были как рельсы, а шпалы — какие-то полупрозрачные, и нумерация столбов не совпадала…
Полторы недели после этого МВД и Безопасность России, то вместе, а то поврозь, допрашивали наших проводников. Отметая напрочь мистику с фантастикой, они громоздили многоразличные однообразные версии о террористах и заложниках. В эти же дни весь вагонный парк Министерства Путей Сообщения трясло от небывало крутых ревизий, инвентаризаций и прочих проверок.
Через полторы недели, утром 31 октября, все одиннадцать вагонов прибыли на станцию Тайга своим ходом. МПС облегченно, а МВД и Безопасность, отпустив проводников, с каким-то непонятным остервенением взялись за нас… Хотя, чего уж тут непонятного, понять-то их как раз можно. Гораздо сложнее — простить им наши полтора месяца в следственных камерах и почти месяц в закрытом подмосковном НИИ Неведомо Чего.
Самое обидное то, что Мара не знала и, как ни пыталась, ничего не могла узнать обо мне до тех пор…
Словом, это оказался действительно «наш дурдом», и я не вижу никакого резона в том, чтобы его подробно описывать.
Эпилог
Вернувшись домой, я первым делом поцеловал Мару.
Потом я надрал уши Тимке. С наслаждением. Но не за то, что он доломал мой компьютер (он его доломал), и не за двойку по математике (я ведь и сам не ходил в отличниках), а за то, что позавчера у Тимки был день рожденья. О котором я чуть не забыл.
Он не протестовал, охотно подставлял уши и, повизгивая, считал до девяти.
Потом, когда Мара убежала на кухню плакать, и мы с Тимкой остались вдвоем, я подарил ему наконечник стрелы.
— Па! Откуда? — выдохнул Тимка.
Ну, что я мог ему ответить? Соврать?
Я промолчал, загадочно усмехаясь.
(Когда мне было столько же лет, сколько Тимке, или чуть меньше, я вырезал из газет изображения орденов, раскрашивал и наклеивал себе на рубашку конторским клеем. У меня все рубашки были желтые и хрупкие на груди. А наконечники для своих стрел я клепал из жести от консервных банок и оттачивал на каменной ступеньке крыльца…)
Тимка осторожно потрогал каленое вострие — и восхищенно слизнул с пальца капельку крови.
— Она же настоящая! — придушенно пискнул он (имея в виду стрелу) и посмотрел на меня счастливыми глазами. — Правда настоящая, па?
В нем заговорили солдатские гены.
Я вздохнул, поняв, что отмолчаться не получится. Потом задрал рубашку и показал ему, куда попала стрела. Шрам давно успел зарубцеваться, и короста отпала, но рубец еще немножко лоснился розовым.
Тимка все-таки не удержался и примерил наконечник стрелы к шраму — длина рубца соответствовала самой широкой части кованого плоского жала. Оно проникло в меня глубоко, и если бы не ведьма… То есть, если бы не Танечка…
Когда Тимка убедился, что я не буду врать и сочинять, я рассказал ему о пережитом. Не все.
Я не был уверен, что поступаю правильно, рассказывая. И я не был уверен, что поступаю правильно, рассказывая не все. Ведь я совсем не умею давить в человеке солдатские гены и до сих пор не знаю: стоит ли этим заниматься?
БЕЛЫЙ СЛОН Сказка о неизбежном
Господа! Если к правде святой
Мир дороги найти не умеет…
П. БеранжеГлавное для человека — это сон.
Н. ПетренкоНе оказалось там ни осклизлых ступеней, ни ржавых крючьев, ни снующих крыс. Оказался там длинный коридор казенного вида, тускло освещенный пыльными лампами под жестяными абажурами с отбитой эмалью. Пахло канцелярией…
А. Стругацкий, Б. СтругацкийГлава 1. Повестка
Цивильная жизнь, при всех ее приятностях, бывает утомительно однообразной. Особенно в промозглом октябре. Особенно в нашей столетней дыре на окраине Томска. Особенно спустя четыре года после Парамушира и спустя семь лет после Рио, и спустя добрый десяток лет после Ашгабата. Когда уже не вспоминаются ни ад, ни пот, ни кровь, ни трупы товарищей, а вспоминаются: последняя затяжка перед делом и первый глоток после, и блицкриги по экзотическим злачным местам в промежутках. Но самое главное вспоминается крепкая мужская дружба, которая здесь, на гражданке, сводится к редким и тоже утомительно однообразным попойкам, к воспоминаниям хором и к попрекам жены поутру, а по-настоящему возможна только там, где каждый твой день и каждый день твоего друга может оказаться последним…
Короче сказать, я поначалу даже несколько обрадовался, когда на исходе промозглой октябрьской ночи мне приключилась повестка из райштаба резерва. Поначалу…
Это была срочная мобилизация — иных толкований сновидение, увы, не допускало. Сны с четверга на пятницу (даже личные сны) однозначны и сбываются. А этот мой сон был личным лишь в самом конце.
Вечером, засыпая, мы с Никой настроились на гастрономическую трансляцию, и сначала я видел обычный диетический завтрак в нашей «молочке» — той, что на углу проспекта Светлых Снов и Рассветного тупика. Ника взяла манную кашу и цикорный напиток со сливками, а я — творожники, чай с молоком и кефир. Откупорить кефир оказалось непросто, потому что бутылка была заключена в темно-коричневую кожаную оплетку с двумя длинными ременными петлями. Одну надлежало перекинуть через плечо, а вторую (ту, которая с пряжкой) застегнуть на поясе, и лишь после этого откупоривать и наливать — под столом, как водку.
Застегивая пряжку, я ощутил некоторое беспокойство. Так и есть: в оплетке не оказалось никакого кефира, а оказался в ней РТБИ-32 — армейский тридцатидвухимпульсный разрядник точечного боя. На торце рукоятки, под знакомой еще с Парамушира царапиной, был выбит мой личный номер: 307126-Т. Я вложил «эртэшку» обратно в оплетку, успевшую стать кобурой, и виновато посмотрел на Нику.
— Привези мне оттуда слона! — попросила она очень веселым голосом. Белого! — И как-то ненатурально капнула слезой в манную кашу.
Я хмыкнул, скосил глаза на тарелку с творожниками и попытался убедить себя в том, что они позеленели от старости. Я даже подцепил один из них вилкой, чуть не сковырнув звездочку. Разумеется, это были уже погоны, а не творожники.
— Вот именно слона? — переспросил я, отложив вилку. — Белого? А белый медведь, допустим, тебя не устроит?
— И медведь устроит — ты только привези. Не обязательно целиком, можно хвостик. Шерсти клок. Снежинку.
— Тип…! — Я хотел сказать: «типун тебе на язык», потому что вспомнил совсем другие «снежинки» — парамуширские, о которых Ника не знала. Но потом понял. — Ах, снежинку… Нет, снежинку не довезу: растает в руках.
— Вот и хорошо… — проговорила Ника, не поднимая глаз и бесцельно ковыряя ложкой белую кашу. — Вези снежинку, и пусть она тает. Это значит руки будут теплые. Живые.
— Только не отпевай меня прямо сейчас, ладно? — Пожалуй. я сказал это слишком резко, потому что осерчал.
Суеверия.
Она вскинула на меня обиженные глаза — сухие. Во сне я чуть не забыл, что моя Вероника никогда не плачет. Почти никогда. И загадал: если, проснувшись, я увижу в ее глазах ну хотя бы слезинку — значит, все в порядке. Вернусь. А с белым слоном или без — неважно.
До Парамушира я ни во что такое не верил: ни в Бога, ни в черта, ни в ведьмин сглаз, ни в цыганкин сказ. После Парамушира я верю дурацким приметам, которые сам сочиняю. Кто не успел стать суеверным, остался там. Им уже ничего не снится. И никогда не будет.
— В конце концов, это могут быть просто сборы, — соврал я, переподготовка… Да мало ли! Может быть, нового райкомреза назначили, представлять будут. Соберет резервистов, поручкается с ветеранами — и по домам.
Ника отвернулась.
— Святые сновидцы! — воскликнул я. — Ну, сама подумай: на кой Миротворческим Силам России туда, где слоны? Белые! Что они там сами не разберутся?.. Недельные сборы, самое большее — месячные. Возле Томска погуляем, белых зайцев постреляем.
— Двухголовеньких, — сказала Ника и дрогнула уголком губ (но все-таки вверх дрогнула, а не вниз).
— Шестилапеньких! — бодро подхватил я. — Привезти?
— Себя привези.
— Есть привезти себя!
Я сунул погоны в нагрудный карман моей теплой безворотки, поднялся из-за стола, молодцевато отдал Нике честь и, повернувшись налево-кругом, пошел печатать строевым к выходу из «молочки».
— Я буду сниться! — крикнула Ника вдогонку. — Часто!
Ну-ну… Если так же часто, как на Парамушир, то лучше не надо. Прокрутят тридцать один сон в одном сеансе, и такая каша получится! Да еще с купюрами…
В гардеробе «молочки» мне, вместо несолидного шерстяного берета, легковесного пуховика и легкомысленно-полупрозрачного кейса выдали стальную каску, шинельную скатку и плоский солдатский ранец. Я, сдвинув брови, постучал пальцами по торчащему из нагрудного кармана гимнастерки погону с отчетливым желтым просветом — и гардеробщик, извинившись, заменил солдатскую экипировку надлежащей. Теперь это были: фуражка с обмятой тульей, плащ-палатка и офицерская сумка-планшетка. Другое дело.
— Два дробь четырнадцать, ваше благородие, — сообщил он почтительно. Тринадцать пятнадцать, тире, тринадцать сорок пять. Восемь.
Я кивнул. Эти же цифры были написаны малиновым стилом на плексигласовой крышке планшета. Под цифрами пламенел начальственный росчерк, а над цифрами была типографская строчка: «Капитану ТРДД-4 МС Тихомирову В.Г.» Я пригляделся к подписи и присвистнул: это было не факсимиле! Командир резерва полковник Включенной подписал повестку лично, своей рукой…
Я снова перечел цифровой код. Место явки: актовый, он же гипнотренажный зал штаба резерва. Время явки: сегодня в половине второго плюс-минус четверть часа. Готовность: восьмичасовая от момента сбора офицеров 4-го Томского резервного десантного дивизиона МС.
Круто. Это значит: пять часов инструктажного сна, час на ознакомление с личным составом моей полуроты, два часа на экипировку, и — ночной вылет… Куда? Где на текущий момент позарез нужны миротворцы? Не дай Бог, если там, где слоны…
Впрочем, тогда не фуражка бы снилась, а белый пробковый шлем. И белые тапочки.
И Вероника не шутила бы про слонов: такие шутки расслабляют, если и вправду туда. Не для военного сна такие шутки.
Как бы в ответ на невысказанный вопрос, под плексигласом немедленно возникла карта — не то Кольский полуостров, не то Чукотка. И немедленно же изменила очертания — надо полагать, из соображений секретности. Я и моргнуть не успел, а она уже стала картой-схемой автобусных маршрутов Томска (северо-восток). Остановка «Шарики» на проспекте Светлых Снов, ближайшая к штабу резерва, была отмечена ядовито-зеленым кружком. Малиновые цифры, обозначавшие время явки, пульсировали.
Дисциплина.
Все-таки, военный сон есть военный сон: четко, однозначно, без метафор, с минимальным зарядом лиричности. И пока — без патетики. Сны с патетикой будут потом, накануне деда.
Спасибо, хоть намекнули, где будет дело. Не там, где слоны. Слава Богу, не там, где слоны!
Гардеробщик ободряюще похлопал меня по плечу, улыбнулся и волнообразно шевельнул ушами. Уши были большие и плоские — как у слона… И по плечу он меня похлопал не рукой, а хоботом. Белым.
— Врешь! — я погрозил ему пальцем. — Я же видел карту!
Белый слон, не ответив, ткнулся хоботом в нагрудный карман моей безворотки, выдернул позеленевший творожник и отправил в розовую треугольную пасть. Вдумчиво пожевал, сплюнул на барьер четыре золотистые звездочки, задрал хобот и затрубил «Прощание славянки», гулко подхлопывая ушами. На фоне финиковых пальм и белых пагод маршевая мелодия звучала очень душещипательно, хотя и странно.
Разумеется, последние метаморфозы не имели никакого отношения к военной трансляции. Это был уже личный сон, по определению неподконтрольный и неподотчетный, ибо тайна личного сна охраняется государством.
Я пожал плечами и проснулся окончательно. Было без четверти восемь.
Ника спала — у нее сегодня «окно». А мне надо было спешить, потому что на все про все у меня ровно шесть часов. За это время надо побывать в конторе (получить расчет — переоформить акции — обозвать хозяина козлом покурить с ребятами), забежать в Клуб и погасить должок в баре (то-то Гога удивится), вернуться, пообедать, присниться маме (если успею), хотя бы наспех попрощаться с Никой и отговорить ее от провожания. Ничего этого мне не хотелось делать, в особенности наспех, а меньше всего хотелось будить Нику, заглядывать ей в глаза и лишний раз убеждаться в том, что она никогда не плачет. Или вдруг обнаружить, что — почти никогда. Ну, не мог я загадать что-нибудь поумнее?
Ей было удобно спать у меня на плече, улыбаться во сне, почмокивать и перекатывать языком фантастическую вкуснятину. Снилась ей, конечно, не наша «молочка», а нечто принципиально невообразимое. Для меня. Мне Бог не дал. Я могу видеть во сне только то, что транслируют, причем в самой примитивной интерпретации. Или белого слона, если ничего не транслируют, а производят выборочный контроль альфа-ритма спящих россиян. Отчетливость этого ритма в фазе парадоксального сна считается достаточным признаком лояльности гражданина. А вот «проснутики» (люди, не способные видеть сны) непредсказуемы, раздражительны до агрессивности и опасны для общества.
Мой альфа-ритм соответствует норме: я вижу сны. О том, что я способен видеть только белого слона, никто не знает. Даже Вероника.
Если бы не этот белый слон, числиться бы мне от семнадцати лет и по сию пору в неизлечимых проснутиках, отмечаться ежемесячно в ближайшей из районных инспекций Консилиума, получать на любой из немногих доступных работ одинаково мизерное жалованье в размере полутора продуктовых корзинок, завидовать полноценной жизни моих здоровых сограждан и разве что из газет узнавать о новых миротворческих акциях, производимых за пределами Российского Союза Демократий.
И не видать бы мне в жизни счастья — да психолог помог: сводил в зоопарк и накрепко впечатал в подкорку самое-самое, поразившее десятилетнего пацана, которому (вот ужас!) ничего никогда не снилось. В первую же ночь после сеанса гипнотерапии огромный белый слон с печальными глазами опять аккуратно взял у меня из рук надкушенный бисквитик и аккуратно съел, а потом осторожно обнял меня хоботом и, посадив себе на спину, сделал символический почетный круг внутри загородки — десять на десять метров. И во вторую ночь я угостил его бисквитом и покатался на его спине, и в третью, и в четвертую… А спустя неделю мы переступили загородку, и слон катал меня уже по всему зоопарку, постепенно удлиняя маршрут, пока наконец мы не выбрались в город, потом за город, в другие города, где я бывал и о которых слышал.
Белый слон листал мои конспекты, когда я засыпал над ними, и во сне пытался втолковывать мне премудрости сопромата. Крушил, топча своими тумбами, мой кульман, обнаружив ошибку в конструкции, не замеченную мною днем. Подключался к воскресной идеологической трансляции, представляясь языческим божеством во плоти и до икоты изумляя диспутантов — юных просветленных прозелитов единобожия и их оппонентов, придурковатых адептов животного атеизма, называемого «научным».
Белый слон вынудил меня познакомиться с Вероникой — по-видимому, из корыстных побуждений. Ему надоели мои бисквиты, а Ника была и осталась великой сластеной. Как я вскоре выяснил, моему слону всегда нравилось то, что нравилось ей.
Белый слон пронес меня через хаос и прах баррикад мятежного Ашгабата, откуда я вернулся поручиком резерва. Он был со мной в штате Рио де Жанейро, на совместных учениях армий великих держав. После русской «иглотерапии» двухмоментного замера скалярных полей агрессии с последующей блокадой дивергентных («горячих») точек — генералам Южно-Атлантических МС оставалось лишь сублимировать нерастраченную военную мощь в грандиозных парадах… Вместе с белым слоном мы обезвреживали выжженный термитными снарядами, загаженный квазибиотикой, трясучий от разбуженных вулканов, звенящий от радиации Парамушир — остров, который Корякское Ханство и Республика Саха пытались преступно использовать как полигон…
Спасибо, белый слон! Благодаря тебе я стал, как все. В семнадцать лет мой альфа-ритм был аттестован положительно, и я получил право тратить все, что заработаю. В двадцать три я нашел мою Веронику. К тридцати двум я трижды выполнил долг гражданина великой державы, все три раза вернувшись живым.
Но — черт тебя подери, белый слон! Из-за тебя я иногда ощущаю себя самозванцем, в принципе неизлечимым проснутиком, ловко подделавшим свой альфа-ритм, как в старину подделывали документы…
Ника перестала почмокивать, вздохнула и потерлась щекой о мое плечо. Щека была мокрая.
— Доброе утро, сластена, — сказал я.
Она открыла глаза, опять зажмурилась, промаргивая слезы, и снова вытерла их о мое плечо.
— Святые сновидцы! — проговорила она жалобно и немножко хрипло. — Было так вкусно, а теперь — в «молочку»… Давай не пойдем, а?
— Давай, — согласился я. Была уже почти половина девятого.
— Но ведь ты же есть хочешь?
— Нет, — сказал я. — Не есть.
— А чего тогда?
— Вот чего… — Я повернулся на бок, привлек ее к себе и стал собирать губами оставшиеся слезинки.
— Опоздаешь! — прошептала она. — У меня «окно», а ты опоздаешь…
Я не стал объяснять. Успею. В конце концов, возьму да и позвоню в контору из штаба резерва. И даже не лично позвоню, а попрошу полковника, чтобы он позвонил. Пускай хозяин сам выплатит Нике все, что мне причитается, и пускай сам переоформит наши акции на льготные (для семей офицеров действующей армии) дивиденды. А козлом я его обзову потом, когда вернусь.
Я вернусь.
Глава 2. Поднимается ветер
Райкомрез полковник Включенной не принимал — и это было странно. В день призыва командир резерва обязан принять любого ветерана Миротворческих Сил с любой просьбой. Выполнить или не выполнить просьбу — это уже другой вопрос. Но принять меня он обязан. Я — ветеран, сегодня — день моего призыва, и до времени явки осталось чуть меньше часа.
Но его высокоблагородие не принимал.
Я выразил свое неудовольствие адъютанту — щеголеватому, по-воробьиному шустрому и суетливому подпоручику, которого я невзлюбил с первого взгляда. И не зря: в конце беседы чижик-пыжик в аксельбантах присоветовал мне зайти в кабинет № 20.
Мразь!
Чтобы я, боевой офицер МС, пополз ТУДА с жалобой на моего командира?.. Я даже задохнулся, не находя, что ответить, вышел из приемной и (благо, что был в штатском) ахнул дверью так, что загудело на весь штаб.
Сволочь. Все адъютанты — сволочи.
Дойдя скорым шагом до лестницы, я несколько успокоился. Не принимаешь — не надо. Обойдусь. В контору я, в конце концов, могу написать. А вот зайти в ТОТ кабинет действительно стоит: пускай ОНИ поставят на письме свою отметку, и в таком вот виде я пошлю письмо хозяину. Тогда он никуда не денется — и выплатит, и переоформит, как миленький.
Может, чижик-пыжик именно это и имел в виду? Что ж, может быть, и так. Все равно гаденыш. Холуй.
Я медленно спустился на второй этаж, все еще размышляя: стоит ли? Чем реже ТУДА заходишь, тем совесть чище…
Особый отдел был в другом конце коридора, за поворотом, а перед поворотом усматривалось некоторое скопление резервистов. Как и я, никто из них не был экипирован, и все мы пока пребывали в одном и том же звании штатский. И каждому, похоже, зачем-то понадобилось ТУДА, поскольку скопление являло собой подобие очереди. Странно.
Слишком много странного сегодня в штабе. Пустой, аж гулкий первый этаж — не бывает такой пустоты на хозяйственном этаже в день призыва. Ни очередей, ни беготни с пакетами, ни командирского рыка из-за дверей на третьем, начальственном — словно никто и не транслировал повесток сегодня ночью. Ни одного автобуса на огороженной стоянке возле штаба, ни одного тягача с боевым довольствием, ни одного фургона с вещевым и сухпайками. Конечно, их надлежит подгонять за два-три часа до отправки — но обычно подгоняют загодя. И очередь ТУДА… Ладно, с этим разберемся. Наконец, почему-то запертый актовый зал — он же гипнотренажный.
Проходя мимо двери с табличкой «14», я еще раз подергал ручку. Дверь была заперта. И такая тишина внутри, что одно из двух: либо там ни души, пыль на пультах и дохлые тараканы в углах, либо наоборот — в битком набитом зале идет глубокий инструктаж. Самый глубокий, на грани комы — когда инструктируемый не то что не храпит, а почти и не дышит.
Я выпустил ручку двери с табличкой «14» и снова посмотрел в ТОТ конец коридора, где перед поворотом переминались с ноги на ногу мои сослуживцы в штатском. Узнал моего заместителя, поручика Самохвалова. Узнал командира первой полуроты, капитана Рогозина. Кажется, узнал штаб-майора Проценко и его адъютанта, прапорщика Станкового. И еще были знакомые фигуры из нашего дивизиона, в том числе — несколько рядовых. Последние старательно изображали непринужденность, поскольку тоже были в штатском.
Заметив толстый бритый затылок над круглыми, обтянутыми ватником плечами, я вздрогнул. Затылок явно принадлежал моему денщику, сержанту по фамилии Помазанник, который за глаза величал меня «нашим благородием», с глазу на глаз Витенькой, при подчиненных Виктором Георгиевичем и лишь в присутствии высокого начальства снисходил до уставных «господин капитан» и «капитан Тихомиров». Сержант был непривычно молчалив, подчеркнуто смиренен и демонстративно не вникал в беседу господ офицеров — держась, однако же, поближе к ним, а не к рядовой братии.
Впрочем, беседа господ офицеров состояла лишь из переглядываний и жестов. Переглядывания были осторожны, а жесты — скупы и маловразумительны. Не из-за Помазанника, разумеется, а из-за близости ТОГО кабинета.
Странно, что мой денщик оказался тут — и даже более чем странно. Ибо нечего ему тут делать, а надлежит ему пребывать в закрытом СОНАТОРИИ «Ключи», на принудлечении. Не далее как месяц тому назад сержант резерва МС гражданин Помазанник загремел туда по назначению Копыловской райинспекции Консилиума. Спустя две недели назначение было подтверждено инспекцией округа, и эта окончательная информация (вместе с фамилией моего нового денщика) была тогда же сообщена мне — как обычно, во сне, по военной трансляции.
И о Рогозине белый слон, помнится, говорил мне что-то печальное. Правда, в личном сне говорил, но все равно…
Короче говоря, я понял, что мне расхотелось присоединяться к очереди, явно обреченной на какие-то неприятности. До времени явки (я посмотрел на часы) добрых полчаса — тридцать четыре минуты, если быть точным. Буду-ка я лучше точным. Явлюсь-ка я лучше вовремя.
Нет, в самом деле: на кой мне ТУДА? Поставить отметку в письме? Так ведь оно, между прочим, еще не написано…
Обойдусь без отметки. Напишу в самолете. Или, еще лучше, не буду я ничего писать, а приснюсь хозяину оттуда, с места событий. Строго и сдержанно приснюсь — верхом на моем белом слоне, но без «козла» и прочих оскорблений, никак не совместимых с образом боевого офицера, ветерана двух миротворческих акций и уже участника третьей, а в мирной жизни — скромного и весьма одаренного (хотя хозяин этого не понимает) дизайнера-инструментальщика…
«Капитан Тихомиров! — сказал я себе, — никак ты трусишь?»
И ответил себе же: «Трушу, Виктор Георгиевич, трушу, Витенька. А кто же не трусит? Может быть, штаб-майор Проценко?»
ТАМ все трусят, ваше благородие, господин капитан, и вы это знаете.
Это вам, капитан Тихомиров, не Парамушир — квазибиотику истреблять. Это вам не Ашгабат — баррикады ракетами расстреливать. И это вам тем более не Рио де Жанейро — условно блокировать условные дивергентные точки в саванне, демонстрируя безусловные преимущества русской миротворческой тактики.
Это вам, сударь, обычный кабинет — бумажки подписывать. В правом нижнем углу, в конце типографской строки: «Содержание личного сна изложено верно». Или же, не приведи Господь, под другой, рукописной: «Факт отсутствия сновидений в период с такого-то по такое-то подтверждаю». И это еще не самая неприятная форма бланков, имеющихся ТАМ.
Обычный кабинет, обставленный обыденно и скупо. Обычный стол, с единственной бумагой и стилом. Обычный стул. Обычный человек напротив, одетый аккуратно и неброско, с усталыми и добрыми глазами на ничем не примечательном лице.
ТАМ все обычно. ТАМ ничто не удивляет и никто не удивляется. ТАМ знают все. Я не хочу ТУДА.
До поворота оставалось метров пятнадцать, когда поручик Самохвалов посмотрел в мою сторону и тоже узнал меня. Принужденно улыбаясь, я стал поднимать руку в приветственном жесте, но поручик повел себя странно: скользнул по мне нарочито равнодушным взглядом, вытянул губы дудкой и отвернулся.
«Поднимается ветер!» — после Парамушира мы с ним понимали друг друга с полукивка.
Не закончив приветственный жест, я свернул направо, распахнул дверь кабинета № 18 и вошел — так, будто именно сюда и направлялся. Слава Богу, дверь оказалась не запертой и отворилась бесшумно…
Поднимается ветер, и надо забиться в щель. Надо вжаться в камень, врасти в камень, окаменеть и пропустить над собой вихри звенящей тысячебэрной пыли, несущие неощутимую смерть. Надо лежать, пока зуммер твоего «гейгера» не захлебнется. Не надо паниковать, когда на тебя навалится обволакивающая ватная тишина. С твоими ушами все в порядке — это просто сработали предохранители в цепи сигнала, когда он перешел в ультразвук. Не шевелись и не пытайся сдернуть наушники — ведь ты же не хочешь заполучить смертельную дозу прямо туда, поближе к мозгу? Лежи. Каменей. Жди. А едва твой «гейгер» зазуммерит снова — оживай, выхватывай из кобуры «эртэшку» и, не целясь, потому что некогда, веером выпускай добрую половину разрядов навстречу ветру. После этого можно стрелять прицельно. Нужно стрелять прицельно. Нужно очень экономно расходовать импульсы: их у тебя осталось не более шестнадцати, а успеешь ли ты сменить обойму — Бог весть. В основной своей массе ОНО обтекает тебя стороной — ОНО боится тебя и правильно делает. Но отдельные особи, как водится, проявляют безумную храбрость. Безумство храбрых для тебя смертельно. Целься. Целься тщательно. Не торопись — но и не медли. Целься и жги. ОНО уже иссякает. Уже видно небо, видны сопки вулканов и дымы над сопками. Волокна нежити уже не сплетаются в копошащиеся колобки и в плотные полотнища, летящие по ветру вслед за фронтом радиоактивной пыли, но лишь изредка образуют ажурные, удивительной красоты «снежинки» от полутора до пяти метров в диаметре (не расслабляйся: тщательно прицелься и сожги), все чаще двигаются в одиночку и парами-тройками, то конвульсивно подпрыгивая, чтобы поймать ветер, то сплетая «обручи» и катясь. «Обручи» почти не опасны — но вот этот, последний, надо все-таки сжечь. Сжег? Огляди свою полуроту. Пересчитай. Все целы? Отдай команду живым. Любую. Быстро. Все выполнили? Врешь, не все. Тех, кто не выполнил или промедлил, сожги — если у тебя еще остались импульсы. Если не осталось — быстро смени обойму и все равно сожги. Это уже не люди…
Квазибиотика. «Якобы жизнь». Нежить. Там, на Парамушире, я потерял взвод. Весь второй взвод, в полном составе. Потому что вовремя не сжег двух рядовых и сержанта. Через несколько суток мы полночи отстреливались от флуоресцентных «волокон», «обручей», «захлестов», «снежинок», «злого тюля», «ведьминых шиньонов», «кащеевых авосек» и прочих скоплений нежити — вся она разом поперла наружу из двенадцатиместной палатки второго взвода. Слава Богу, ни «матрасовок», ни «парусины» там не было — не хватило биомассы. Но тактику нашего боя ОНО знало, маневры упреждало и заставило нас попотеть.
«Поднимается ветер…» — дал мне понять поручик Самохвалов, и я понял его с полукивка. Ветер поднимается ОТТУДА, из очень обычного кабинета. Надлежит забиться в щель, окаменеть и быть готовым.
И ведь был же мне знак, был! Ведь не просто так мой белый слон выплюнул на барьер золотистые звездочки, все четыре с моего погона. Сны с четверга на пятницу сбываются…
Я до щелчка притворил за собой дверь кабинета № 18 и очутился в полной темноте. Собственно, это был не кабинет, а всего лишь его предбанник. Входя, я успел увидеть (а, вытянув руку вперед, и нащупал) вторую дверь. Тем лучше. Постою минуты три, как будто ошибся и выясняю, где я, а потом выйду и — не оглядываясь, деловой рысью — назад, к лестнице. Вернусь через полчаса, как раз ко времени, означенному в повестке.
Если она была, эта повестка…
Была, была: все офицеры-парамуширцы тут. То есть, ТАМ.
Вот именно…
А в каких выражениях чижик-пыжик присоветовал мне зайти ТУДА? Не помню: был взбешен. «Раздражителен до агрессивности и тем самым опасен для общества». Фигу вам, господа ОТТУДА, — я вижу сны! Сегодня я видел аж две трансляции. И еще кусочек личного сна. Вчера я тоже видел сон. Нет, «изложить верно» я его не смогу — но это был очень здоровый, бодрящий эротический сон. Не ваше дело, с кем. Ее уже нет в живых, если хотите знать, она жила в прошлом веке. Да, в двадцатом… Какая разница, как ее звали? Ну, допустим, Софи. Не София, а Софи. Она итальянка.
Так. Три минуты, кажется, прошли.
Главное — спокойно. Деловой рысью. Не бегом.
Тот «бодрящий» сон, разумеется, снился не мне, а одному моему знакомому. И не про Софи, а про Бриджит. Но кому какое дело, и кто сумеет доказать? Я вижу сны. Мой альфа-ритм нормален.
Кажется, я не туда дергаю ручку. Надо вверх, а я вниз.
На самом деле мне снилась никакая не Софи, а снился мне мой белый слон с электрической лампочкой вместо пениса — она из него росла и светилась. Вы видели когда-нибудь что-нибудь подобное, господа ОТТУДА? Изложено верно.
А дверь, между прочим, не открывалась, сколько я ни дергал ручку — то вверх, то вниз, то на себя. В конце концов я ее толкнул. Рукой, потом коленом. Плечом не стал.
Дверь была заперта — я защелкнул замок и сам себя запер в предбаннике.
Таки придется побеспокоить хозяев кабинета № 18 — объяснить, что не туда попал, и попросить, чтобы меня отсюда выпустили. В полной темноте я нашарил вторую дверь и взялся за ручку, суеверно и подробно представляя самый худший вариант: эта дверь тоже заперта, а в кабинете ни души — и торчать мне тут до вечера или производить взлом в штабе резерва.
Суеверие сработало: дверь оказалась не заперта, а кабинет обитаем.
В следующий миг меня ослепил яркий солнечный свет (окна кабинета выходили на юго-восток) и оглушил двухголосый пронзительный визг. Женский.
Прямо против солнца, почему-то — на канцелярском столе, возвышалось что-то длинноногое в чем-то кружевном. В чем-то абсолютно не военном и для такого сквозного света решительно несерьезном. Визжали, однако, не сверху: фигура на столе была молчалива, почти неподвижна и до очевидности наслаждалась моментом. Двухголосый визг доносился откуда-то слева, где до самого конца длинного кабинета громоздились рыхлые стеллажи.
Я решил вести себя благопристойно — тактично зажмурился и не менее тактично отвернулся, пережидая панику. Прежде чем (и для того, чтобы) проявить еще больший такт, покинув помещение, мне сначала нужно было объясниться.
Глава 3. Девичьи секреты
У нее были зеленые глаза.
Она была ведьма.
То есть, не ведьма, а колдунья — но это я узнал потом и разницу уяснил не сразу.
Она была немножко не от мира сего. Она умела удивлять и удивляться вот что в ней было самое существенное. Это было не простодушие. Это была власть. Власть над миром, которая простиралась до удивления — и ограничивалась им.
Ее звали Хельга.
(Ольга. Но ей больше нравилось — Хельга).
Мы с нею сразу перешли на «ты». (Вы пробовали на «вы» с колдуньей? Попробуйте. Это невозможно. И бессмысленно.)
Хельга не имела почти никакого отношения к штабу резерва. В штабе резерва, в кабинете № 18, работали ее подружки. Хельга была здесь посторонней. Она зашла похвастаться обновкой и заодно примерить, а тут вломился я…
Две девицы в униформе прекратили визги и спешно убирали в сейф воздушные лоскутки, прячась от меня за спиной Хельги. А сама она делала вид, что прячется за своим платьем.
— Понравилась тебе моя обновка? — спросила Хельга. — Меня зовут Хельга. Мои подружки. — Она кивнула на девиц.
Это были ее первые слова, обращенные ко мне. Все разговоры Хельга начинала с середины, а предисловия считала неинтересной игрой — чем-то вроде покера с открытыми картами.
Я в ответ сообщил, что меня зовут Виктор и что я ничего не успел разглядеть.
«К сожалению?» — спросила Хельга глазами.
У нее были зеленые глаза. Чуть в синеву.
«Гм…» — ответил я, глазами же.
«Это поправимо», — сказала она (глазами) и почти уронила платье, которое держала перед собой.
У нее были длинные золотые волосы — темно-золотые, чуть в медь. Они горели на ее обнаженных плечах, спадая еще ниже, но закрывали не все.
«Я должен покраснеть?» — спросил я глазами.
«Если умеешь». — Она снова подняла платье.
Подружки наконец упрятали все, что мне не следовало видеть, и Хельга, пятясь, ушла за стеллажи. В тень.
Как погасла.
— Уфф!.. — дурашливо надула щеки некрасивая подружка в очках и в униформе из магазина готового платья, с единственной нашивкой на рукаве. И вечно у нас что-нибудь с замком — то не открывается, то не закрывается, и не угадаешь!
— У тебя, — поправила красивая подружка в униформе, шитой на заказ, укороченной до верхнего и нижнего пределов, с тремя сержантскими нашивками. — Бумаги спрятала?
— Ой, нет! — подружка в очках испуганно блеснула на меня своими диоптриями, метнулась к сейфу и, опять распахнув, начала как попало запихивать пухлые папки прямо поверх лоскутков. Папки грудой лежали на шатком столе без тумб и, по моему разумению, могли бы заполнить собой два таких сейфа.
Красивая уже сидела за канцелярским столом — тем самым, который только что был постаментом для Хельги, — и возвращала на свои законные места канцелярские принадлежности, небрежно отодвинутые на край.
Хельга шелестела одеждой за стеллажами.
— Вы подсмотрели не самый большой секрет, — пошутила красивая. В шутке прозвучало, как минимум, два намека — и ни один из них мне не понравился. Я вас слушаю. Вы не ОТТУДА?
— Извините, сержант, нет. — Я усмехнулся. — Капитан резерва Тихомиров. Я тут совершенно случайно: ошибся дверью, сам себя запер. Если кабинет секретный, прошу прощения. Я ничего не видел и мечтаю выбраться. Вы меня отпустите?
— Попытаемся, — красивая вздохнула с облегчением. — Это, увы, не так просто, как вам хотелось бы… Зина, мы отпустим капитана Тихомирова?
— А он замки умеет чинить? — спросила подружка в очках. — Понимаете, господин капитан, у нас такой чокнутый замок, что если сам закрылся, то не откроешь. И наоборот. Ффу-у… — последний возглас относился к сейфу, дверцу которого она-таки сумела захлопнуть. Вся груда папок уместилась в его утробе, и только чуть выгнулась наружу боковая стенка из четырехмиллиметровой стали. У этой очкастой Зины просто исключительные способности… — Будете пробовать? — спросила очкастая Зина.
— Часа два провозитесь, — пообещала красивая. — Или три.
— И вы всегда так? — посочувствовал я. — По два-три часа?
— А у нас удобства за стеллажами, — сообщила непосредственная Зина в очках.
— Болтушка, — укоризненно произнесла красивая. — Еще один секрет выдала! Теперь вся надежда на то, что господин капитан куда-нибудь спешит… Вы спешите куда-нибудь, господин капитан? — Она сделала мне красивые глаза.
— Не так, чтобы очень, — вежливо соврал я.
У нее действительно были красивые глаза. Но не зеленые чуть в синеву, а просто голубые. У моей Ники такие же, даже лучше… Я вдруг почувствовал угрызения совести — совершенно неосновательные. Ведь я не согрешил и не намеревался.
Логика. Она слишком часто бывает бессильной, особенно в отношениях с любимой женщиной.
— А замки умеете чинить? — опять настойчиво поинтересовалась Зина.
— Тоже не очень, — опять соврал я и огляделся, ища, куда бы сесть. Сесть было некуда. Разве что на подоконник.
— Тогда вам лучше подождать, пока сам откроется, — деловито посоветовала Зина. — Возьмите стул за стеллажами… Ой, нет, я сама принесу! — и убежала за стулом.
— Вы умеете ждать, капитан? — спросила красивая.
— Да, — решительно сказал я. И опять соврал.
Мне почему-то стало наплевать на все.
Хельга за стеллажами перестала шелестеть и чем-то зазвенела — в Ашгабате так звенели монетки на столах у менял. Но это было давно, десять лет тому назад. Теперь и туда, говорят, добралась российская кредитная система…
Появилась Зина со стулом.
— Думаю, что скучать не придется, — заявил я. — У вас тут полно секретов…
— Уже почти не осталось: все тут! — Зина пнула сейф.
— Зи-на! — раздельно проговорила красивая. — Забыла?
— Это она мне позавчерашнего проснутика поминает, — объяснила Зина. Садитесь, господин капитан. Вот сюда, у стеночки, а то развалится. Это же был проснутик! — сказала она красивой. — Да еще и парамуширец. Они же все чокнутые.
— Парамуширцы? — спросил я, садясь у стеночки.
— Да нет, проснутики!
— Зи-на!
— Представляете, господин капитан, приходим с обеда — а он уже три стеллажа перерыл и в четвертом роется! Мы ему еще утром сказали, что почти все их личные дела уже ТАМ, но ведь он же чокнутый!
— Личные дела проснутиков? — удивился я. — Разве они военнообязанные?
— Да нет, парамуширцев! Он совсем недавно заболел…
— Зина, прекрати!
— Ага, — сказал я. Становилось интересно.
— Ой, а вы не парамуширец? — спохватилась Зина.
— Парамуширец, — сознался я.
— Тогда ваше личное дело ТАМ. Или тут, — она снова пнула сейф. — Но вечером ТАМ будет. Это последние, начиная с «Т».
— Зина, я тебя уволю, — пообещала красивая.
— Ой, а вы не проснутик? — опять спохватилась Зина.
— Обижаете, Зина, — сказал я. — Разве похож?
Зина серьезно оглядела меня; сначала сквозь очки, потом поверх стекол.
— Вообще-то, нет, — резюмировала она. — Не похожи.
— Проснутики редко бывают похожими на проснутиков, — назидательно сказала красивая.
Назидание было адресовано Зине, но и я почувствовал себя как на иголках. Впрочем, я умею владеть лицом. У меня была неплохая школа.
— Значит, начиная с «Т», и далее — до конца алфавита? — спросил я.
— Последний был поручик Титов, — сказала Зина. — А вы Тихомиров? Значит, вы тут.
— Последним был полковник Тишина, — уточнила красивая. — Капитан, вы говорили, что попали сюда случайно?
— Почему Тишина? — возмутилась Зина. — Титов! Я же помню, что сверху лежал Титов!
— Сверху, — согласилась красивая. — В последней папке. А снизу в последней папке лежал Тишина. Ты уже все забыла, мы их перекладывали, когда сверяли список.
— Жалко, — сказала Зина. — Значит, вы уже ТАМ. А то бы мы поискали, время есть.
Меня научили не только владеть своим лицом, но и немного читать в чужих. Красивая лгала. И боялась. Ей не хотелось открывать сейф и рыться в папках, объявленных секретными… А может быть, ей просто не хотелось рыться и боялась она не секретности, а лишней работы.
(Тишину я в очереди не видел).
— Не бойтесь, — сказал я красивой. — Зачем мне мое личное дело? Я его и так знаю.
(А вот был ли там Титов?..)
— К тому же, вы тут совершенно случайно, — добавила она, с едва заметной вопросительной интонацией.
— Абсолютно, — согласился я.
(Не было там Титова).
— А куда направлялись? В шестнадцатый или в двадцатый?
— В шестнадцатый, — соврал я. (Двадцатым был ТОТ).
— Так вы сами по себе? — спросила Зина. — Не по вызову?
— Зи-на!..
— Ох, уволят вас, Зина, — усмехнулся я. — Опять вы что-то разгласили.
— Извините, капитан, — сказала красивая. — Такая работа.
— Была работа как работа… — Зина вздохнула, снова пнув многострадальный сейф. — И вечно ОНИ ТАМ что-нибудь выдумают!
«ТАМ… — подумал я, почему-то вспомнив Парамушир. — ОНИ. А также ОНО: «кащеевы авоськи», «бармалеевы торбы» и прочая нежить… И везде-то для нее хватает биомассы!»
— А что вам нужно в шестнадцатом? — спросила красивая.
— У меня тоже своя работа, сержант.
— В шестнадцатом побелку затевают, — сообщила Зина. — Вы, наверное, подрядиться хотели?
— Вроде того, — кивнул я, благодарно глянув на Зину.
Мы помолчали. За стеллажами тоже было тихо.
— Что-то Хельга долго возится, — сказала красивая.
— Чай заваривает, — объяснила мне Зина.
— Арестантский? — пошутил я.
— Почему? — не поняла Зина.
— Ну, мы же тут заперты. Как под арестом.
— Да нет, что вы, мы в любую…
— Зи-на!
— Послушайте, сержант! — сказал я. (Обилие секретов стало меня уже раздражать). — Замок действительно сломан? Или его, все-таки, можно открыть?
— Попробуйте, капитан. — Красивая демонстративно посмотрела на часы. Ведь, все-таки, вы, кажется, спешите?
Я встал, вышел в предбанник и попробовал.
Замок был не биотический, не магнитный и даже не электронный. Он был даже не кодовый. Он был черт-те какой давности, с подпружиненной задвижкой и барабанчиком. Он открывался ключом, но только снаружи. Изнутри надо было крутить барабанчик, который уже не просто проворачивался, а вращался наподобие щедро смазанного подшипника.
— У вас есть отвертка, сержант? — спросил я.
— Не держим, — ответила красивая.
— Колесико ногтем снимается, — подсказала Зина, — а чтобы дальше разобрать, надо дверь открыть.
— Каким же образом он открывается сам?
— Ну, не то, чтобы совсем сам. Просто: покрутишь, покрутишь подергаешь, покрутишь, покрутишь…
— Ясно, — сказал я. — И так — два-три часа… Это хорошо, что удобства есть.
— Отчаялись? — спросила красивая. — Или вам действительно не к спеху?
— Действительно, — буркнул я, осторожно садясь на стул у стеночки (который был не иначе как ровесником замк`а). А едва усевшись и выпрямившись, я увидел Хельгу.
Она вышла из-за стеллажей, уже одетая для улицы — в голубовато-пепельный плащ с широкой черной оторочкой и с таким же пояском. Волосы она убрала под черную шаль с единственной вышитой на ней алой розой. Она смотрела на меня с ожиданием, о чем-то явно спрашивая глазами, но я был раздражен и не понимал вопроса.
— Виктор, ты идешь? — спросила она словами.
— А чай? — вскинулась Зина.
— Извините, девочки. Я заварила, но попейте сами. А нам пора. Идешь, Виктор?
— Я бы с удовольствием, — проговорил я. — Но…
— Тогда пошли!
Хельга повернулась и шагнула обратно за стеллажи.
А я стоял и довольно глупо вертел головой, оглядываясь то на запертую дверь, то на стеллажи, то на обеих Хельгиных подружек. Они улыбались. Разными улыбками.
— Вы знаете, — сказала Зина, — у Хельги получается просто волшебный чай. А я бублики купила…
— Идите, капитан, идите, — сказала красивая. — Вы — Хельгина добыча, а не наша.
— Добыча? — переспросил я. — Там что — зал для трофеев?
— Там налево удобства, а направо — запасной выход. Есть и еще одна дверь, но туда не надо.
— Последний секрет? — усмехнулся я.
— Вы нас недооцениваете, капитан… Идите — Хельга ждет и проводит вас. А то вы снова ошибетесь дверью и попадете не туда.
— ТУДА, — поправила Зина.
— Да, — согласилась красивая. — Первый раз вы очень удачно ошиблись дверью. Не всем так везет.
Они уже не улыбались.
— Спасибо, девочки, — сказал я.
Мне было немножко стыдно.
Глава 4. На тропе дезертиров
Дверь ТУДА была обита листовым железом и совсем недавно окрашена суриком, в пыльной полутьме на ней флуоресцировали два могучих биотических запора, врезанных тоже недавно. А за фанерной, обшарпанной дверью направо обнаружилась захламленная винтовая лестница. В юго-западной, наружной стене лестничного колодца было два обычных окна, расположенных по вертикали. Стекла в них были частью замазаны мелом, а частью выбиты и заменены разбухшим от дождя картоном. С этого края рифленые железные ступени были насквозь изъедены ржавчиной и являли собой решетку в мелкую косую клеточку. Некоторые прогнулись, одна была порвана у самой стены.
Хельга предупредила, чтобы я наступал на них осторожно, поближе к центральной опоре.
— А то как бы не загреметь, — сказала она.
— В каком смысле? — уточнил я.
— Во всех трех.
Я не тугодум, но сразу уловил только два смысла. Третий дошел до меня спустя добрых полминуты, когда я вспомнил моего денщика — сержанта Помазанника, недавно «загремевшего» в «Ключи». А сегодня почему-то оказавшегося тут. ТАМ.
Повестка… Запертый кабинет № 14… Очередь ТУДА…
Неужели все это настолько серьезно?
Папки с «парамуширцами»…
— Нет-нет! — сказала Хельга. — Положи так, как было.
С похвальным послушанием я переставил обратно к центральной опоре пустой, рассыпающийся от ветхости ящик, который только что убрал с дороги.
— Видимо, я не первый, уходящий по этой лестнице в день призыва? спросил я.
— Потом, — сказала Хельга. — Смотри под ноги.
Очередное препятствие я не стал убирать. Вместо этого я ухватился за центральную опору и перенес тело через пять или шесть ступенек сразу. Утвердился на новом плацдарме и посмотрел вниз — осталось всего ничего. Посмотрел наверх и заявил непререкаемым тоном:
— А вот здесь я тебя перенесу.
— Конечно, — согласилась Хельга. — Я так не смогу.
Она присела и положила руки мне на плечи.
Святые сновидцы! — я так давно не носил на руках женщин! Ника не в счет, я имею ввиду незнакомых женщин. Оказалось, что это занятие требует постоянного навыка… Я, конечно же, справился — и с лестницей, и с Хельгой, и с самим собой, — но при этом я сам себе напомнил моего же бедного белого слона с электрической лампочкой кое-где. Слава Богу, я, кажется, не засветился. Во втором смысле…
Теперь нам осталось преодолеть последние пять ступенек. Три из них отсутствовали: похоже, они были давным-давно срезаны автогеном. Верхняя, разорванная посередине, скалила из-под ржавчины точки свежих разломов. А на нижней громоздилась пузатая металлическая фляга, заляпанная давно высохшей краской. Пол под лестницей был тоже захламлен — лишь в полуметре от последней ступеньки, за флягой, я углядел свободный пятачок пыльного кафеля.
Кажется, на нем были следы…
До фляги вполне можно было дотянуться ногой и встать на нее, а потом уже спрыгнуть на пятачок, но Хельга сказала:
— Нет. Давай так же.
Я сделал так же — снова ухватился за центральную опору, пронес тело над флягой, стараясь не задеть ее ногами, и опустился. Точнехонько на пятачок. Ну, разумеется, я не первый! Маршрут был явно кем-то подготовлен и отработан: под носом у НИХ, и такой, чтобы с первого взгляда казался неодолимым без шума. Сунешься — загремишь. Во всех смыслах.
Ай да девочки с секретами.
«Господин капитан, как вам нравится роль дезертира? Вживаетесь, ваше благородие?»
«Стараюсь, Витенька. Приходится…»
Я проследил взглядом остаток маршрута до фанерной двери сбоку от окна (точно такой же, как наверху, но чуть поновее) и повернулся к Хельге. Она снова присела и положила руки мне на плечи, а я покрепче ухватил ее за бедра, готовясь поднять и перенести.
«Нет!» — крикнула она глазами, до боли сжав пальцы у меня на ключицах.
«А как?» — спросил я глазами.
— Надо подождать, — шепнула она. — Замки боятся…
И в ту же секунду наверху, в тупичке за тонкой фанерной дверью, один за другим протяжно всхлипнули два биотических запора. Мы окаменели, став похожими на необдуманно усложненную скульптурную группу. Коварная фляга, почти касаясь мятым боком моего колена, искушала опереться на нее. Но я уже видел, что этого делать нельзя, и терпел.
Нервная профессия — дезертир. На Парамушире было проще.
— Эй! Ареста-анты-ы! — донесся сверху довольно приятный, низкий баритон. — Тащите ключ — вызволю!
Это был обычный голос обычного человека: весьма занятого, предельно уставшего и даже слегка одуревшего от скучной, однообразной писанины, но неизменно доброжелательного и умеющего радоваться жизни. И не было в этом голосе ну ничегошеньки от парамуширской нежити, а очень много было от сержанта Помазанника — Леонтия моего Николаича, шутками да прибаутками отвечавшего на мое уставное хамство, а после той страшной ночи, когда выжгли мы весь наш второй взвод — все то, во что он превратился, хлеставшего меня наотмашь по щекам и вливавшего в меня, через сжатые мои зубы, неразбавленный спирт…
Между тем наверху пробухали в тупичок до самой фанерной двери Зинины башмаки, а следом простучали каблучки красивой, и приятный баритон проговорил с чуть насмешливой укоризной:
— Вам бы его, девочки, снять вовсе и обычный крючок навесить, из гвоздя. Или хотя бы второй ключ заказать, пусть у нас висит.
Красивая неразборчиво пошутила, а Зина добавила что-то про чай с вопросительной интонацией.
— Запах аж к нам шибает, — одобрительно сказал баритон, — и сил нет, как хочется, но не могу. Зашиваемся. А вы как — хотя бы до «фэ» дошли? Сегодня к нам и на «у» и на «фэ» подвалить могут, не подведете?
— До «я» дошли! — отчетливо сказала красивая. — Мичман Ящиц из Отдельного Парусного — он сейчас мастер на «Кибероптике». Это последний, больше нет.
— Ну? — обрадовался баритон. — Вот молодчики! Так я минут через пять подошлю, ладно? Вызволю вас — и подошлю…
Один за другим чмокнули, врастая в косяк, запоры.
Простучали обратно Зинины башмаки и каблучки красивой.
И только теперь я обнаружил, что мое колено возле фляги перестало предательски подрагивать — Хельга, сидя на корточках и наклонившись вперед, упиралась мне руками в плечи, и мы стояли, образуя что-то вроде арки.
— Давай, — шепнула она. — У меня руки устали.
— Секунду.
Я снял левую руку с ее бедра и посмотрел на часы. Было тринадцать двадцать пять — без пяти минут время явки. Еще не поздно сдаться: плюс-минус пятнадцать минут…
— Теперь давай.
Спустя две минуты мы преодолели оставшиеся полтора метра до фанерной двери. За нею оказался такой же тупичок, но с единственной дверью напротив — пластиковой… Слева и справа тоже угадывались дверные проемы увы, заложенные кирпичом и заштукатуренные.
Мы протиснулись в тупичок (тоже захламленный, хотя и не так сильно), притворили фанерную дверь и полезли дальше. Неплотно прилегающая пластиковая пропускала свет, шумы и специфические запахи с преобладанием хлорки. Я выругался. Про себя, конечно, не вслух. Последней преградой оказались два помойных ведра и швабра, прислоненная к косяку. Ведра были влажные, тряпка на швабре тоже.
— Что там? — спросил я, бесшумно убирая швабру. Я уже знал, что там.
— Сортир, потом умывальник, потом коридор.
— Сортир, насколько я помню, мужской.
— Конечно.
— Значит, я первый: посмотрю, нет ли кого.
— Есть. И не скоро выйдет… — Хельга улыбнулась и стала развязывать шаль.
— И кабинки открытые… — сказал я.
— В умывальнике тоже, — сообщила Хельга. — Много. Человек десять-двадцать.
— Да, конечно. В штабе уже полно резервистов, почти все курящие… Глупо. Я-то думал: действительно черный ход. Куда ты меня завела?
Хельга наконец развязала шаль и, тряхнув головой, рассыпала волосы по плечам, а шаль, скомкав, протянула мне:
— Держи. Или сунь в карман.
— Может быть, не стоит? — спросил я, начиная понимать ее замысел. Зачем тебе?
— Без меня ты не пройдешь мимо вахты.
— Мимо вахты я уже и с тобой не пройду. Поздно.
— Посмотрим! — И она нетерпеливо затолкала шаль в нагрудный карман моей безворотки (пуховик я отдал в гардероб).
В кармане уместилась только половина шали. Другая половина — с единственной вышитой розой — торчала наружу. Потом Хельга деловито взлохматила на темени свое червонное золото, распустила поясок и расстегнула пуговицы плаща — все, кроме верхней.
— Вперед, капитан! — приказала она, беря меня под руку и подставляя губы для поцелуя.
Я толкнул дверь левой рукой — и мы, продолжая целоваться, синхронно шагнули через ведра, уронив одно. Слева громко икнули и сказали: «О-го!» Мы тотчас отпрянули друг от дружки и ускорили шаг.
Прокуренный умывальник встретил нас одобрительным гоготом и следом за нами высыпал в коридор. Мы быстро шли, почти бежали по длинному коридору к выходу, держась за руки. Сзади неслись восторженные комментарии (кажется, я покраснел). Хельга на бегу выдернула из моего кармана шаль и сунула ее мне в руку, а метров за семь до вахты споткнулась и чуть не упала. Я успел ее подхватить.
Она висела на мне, поджав ноги и обняв меня за шею. Так и я понес ее дальше, снова целуя (не без удовольствия, почти всерьез и даже увлекаясь), но перед вахтой непроизвольно замедлил шаги. Дежурный офицер с любопытством наблюдал за нами из своего окошечка, а потом встал и распахнул дверь дежурки. Просто для того, чтобы лучше видеть? Тогда зачем у него расстегнута кобура с «першем»? Ну вот, уже взялся за рукоятку и кашляет.
Да. С ним этот фокус не пройдет. Вот если бы я был один…
Я остановился. Я же не знал, что у Хельги был не единственный фокус в запасе! О таких вещах надо предупреждать.
Она вдруг оторвалась от меня, забилась, выгнулась, локтем уперлась мне в грудь, закатила пощечину и крикнула:
— Пусти!
Я подчинился. Мне стало ясно, что она передумала, и что ей стыдно.
Хельга стояла передо мной, торопливо завязывая поясок, лицо ее пылало ненавистью и презрением.
— Дурак! — сказала она громко. — И целоваться не умеешь!
Повернулась и побежала прочь, к выходу.
Дежурный офицер захохотал.
Я слепо оглянулся на него, пытаясь запомнить лицо. Сейчас-то он на службе, и кобура расстегнута, но если его скоро сменят, а я еще буду здесь…
Из дальнего конца коридора уже подвалили недокурившие и накурившиеся зрители первого акта: перебивая друг друга, они взахлеб излагали его содержание дежурному офицеру… Я молча мял в руке Хельгину шаль, выслушивал различные версии происшедшего и медленно свирепел.
— Ну чего стал-мандал? — крикнули сзади. — Она же там без платочка! Замерзнет!
Сжав кулаки, я стал поворачиваться. Этот-то не на службе…
— Лоп-пух… — выговорил дежурный офицер (он уже заикался от хохота). — Дыг… Догоняй!
Я снова слепо глянул на него — понял — благодарно ухмыльнулся деревянным лицом и бросился догонять.
— Десять минут! — крикнул мне вдогонку дежурный офицер. — На подписание мирного договора!
— И на миротворчество! — добавили сзади. (Кажется, я узнал голос чижика-пыжика…).
Глава 5. «Ты не услышишь»
— Ты умный, — сказала Хельга. — Ты умеешь целоваться. Обними меня!
Она ждала меня у старого трамвайного кольца. Плащ у нее был застегнут на все пуговицы, поясок аккуратно завязан, волосы были рассыпаны по плечам, а глаза смеялись.
Я молча протянул ей шаль. На бегу я успел немного подумать.
«Обиделся?» — спросила она глазами.
«Не на тебя», — ответил я, продолжая протягивать шаль.
Мы были здесь не одни. Было время обеда, час пик. Переполненные конки и автобусы проносились, не останавливаясь, и пешеходы, взалкавшие стать пассажирами, сновали от остановки до остановки челночными рейсами. Отчаявшиеся просто ждали, а самые отчаянные уходили пешком. Нас то и дело толкали.
Она подошла ко мне вплотную и погладила меня по щеке. Я вздохнул, набросил на нее шаль и свел концы под подбородком.
Она права: мы здесь наедине.
И у нее зеленые глаза.
Но я успел подумать.
— Спасибо, — сказал я. — И… ты извини, но все это было зря. Я должен вернуться.
«Зачем?» — спросила она глазами.
Ответ у меня уже был сформулирован, и я ответил:
— Я офицер. Я получил повестку. Наконец, я женат и люблю жену. А на нее будут показывать пальцем и говорить: вот идет жена дезертира!
«Неправда!» — сказала она глазами и повторила голосом:
— Неправда!
— Что именно? — уточнил я.
«Почти все» — глазами. И голосом: — Почти все.
Да, может быть, и так, подумал я, вспомнив белого слона и звездочки на барьере. Но я обязан считать себя офицером, и повестка была — со всеми вытекающими. Остальное неважно.
Я повернул руку и посмотрел на часы. Тринадцать тридцать восемь остается меньше семи минут. И еще добежать.
— Тебе что-то известно?.. — я продолжал держать концы ее шали. (Женщин с такими глазами надо сжигать на кострах.) — Ты что-то знаешь об этом деле?
Подъехала конка и, скрипя рессорами и тормозами, остановилась. Она была почти пуста. Это была частная конка, и садились в нее неохотно, потому что из двух лошадей, запряженных цугом, лишь одна была здоровая — вторым был «пегасик». Такая пара может понести.
— Знаешь или нет?
«Знаю. Все». — И голосом: — Все о тебе.
— Тогда расскажи. — Я снова посмотрел на часы.
Хозяин конки уговаривал толпу: «Смирнехоньки — из одной кормушки едят, садитеся, господа, не бойтеся, у меня баба на что трусиха, а что ни воскресный день — на базар катаю…»
— Ты не услышишь, — сказала Хельга. — Ты сейчас глухой.
Она мягко отстранилась от меня, стянула шаль на плечи и, подойдя к «пегасику», стала чесать ему за лопаткой, там, где росло рудиментарное крылышко. Уродец по-птичьи закинул голову на спину, зажмурился и звонко застонал.
— Хельга!.. — я снова посмотрел на часы. — Понимаешь, еще четыре минуты, и я дезертир. Скажи мне хоть что-нибудь. Хотя бы на прощанье.
— Беги… — сказала она, не оборачиваясь и продолжая почесывать. Расквась им физиономии — юношам, которые смеялись над тобой. Они тебе сочувствовали и завидовали, но ведь смеялись! Ты разгневан праведно, беги. Убей кого-нибудь. Служивого, отпустившего тебя попрощаться: он тоже смеялся. Отними у него оружие и убей. — Хельга взглянула на меня через плечо. Ее глаза говорили совсем другое — но я не мог разобрать, что именно. Вот зачем ты решил вернуться. Все остальные причины ты придумал потом.
— Нет, не придумал! Вспомнил!.. Ты почти заставила меня забыть, но я вспомнил!
«Ласковый, господа, — вещал возница, — гляньте, какой ласковый, с любой животиной душа в душу, барышня красивая и та не боится, а вы чего же…» — Конка постепенно заполнялась.
Хельга отошла от «пегасика» (он шумно вздохнул и свесил голову, кося на нее влажным голубым глазом) и снова подошла ко мне вплотную. Взяла меня за запястья и, оттянув их книзу, прижала к своим бедрам.
Глаза в глаза и губы в губы.
— Ты просил: на прощанье, — сказала она. (А глазами…) — Это было на прощанье. — (…глазами она говорила…) — Виктор, я не хочу с тобой прощаться! — (…то же самое!)
Мне стало трудно дышать.
— Зина предлагала тебе остаться на чай, — объявила Хельга. Предлагала?
«Да», — ответил я. (Глазами. Говорить я еще не мог.)
— А знаешь, зачем?
«М-м… нет. А что?» — Я повел плечом.
— Она хотела, чтобы ты отсиделся у них в «удобствах».
Я подумал.
«Возможно. Но, видишь ли, я…»
— Вижу: ты бы не стал этого делать. Ни за что. Для тебя естественнее бежать, чем прятаться, и естественнее драться, чем бежать.
— Ты мне льстишь, — сказал я (наконец-то словами).
— Нет — и ты это знаешь. Не перебивай… Для тебя самое естественное драка. Юношей много, а ты один. Служивый вооружен. Лучше смерть в глупой драке, чем дезертирство. Или чем ТУДА… Правильно? Ты — это задумал?
— Ты — ведьма! — Я дернулся, но Хельга крепко держала мои запястья.
— Колдунья. Это больше, чем ведьма, но бесполезней. Так значит, я права?
— Я тоже!
— Нет! — (И глазами: «Нет!») — Но это долго объяснять, а коротко ты не услышишь. — Хельга нервно мяла руками мои запястья и даже кривила губы от огорчения: так ей хотелось, чтобы я услышал, и так она была уверена, что не смогу…
— Ну а вдруг? — я заставил себя улыбнуться. — Попробуй. — Я снова хотел посмотреть на часы, но Хельга не отпустила мою руку, сжав ее еще крепче.
— Хорошо, я попробую… — (Глаза в глаза).
— Повестки не было, Виктор! — (Глазами то же самое).
Я подумал. Думать, собственно, было не о чем, но я честно подумал. Мы стояли все так же вплотную, мои руки у нее на бедрах. У нее были зеленые глаза, а в глазах — ожидание и надежда.
— Нет, — сказал я с сожалением. — Повестка была… Другое дело, что она, может быть…
— Вот видишь? Ты не услышал.
— Подожди, Хельга! Дай мне договорить. Я хотел сказать, что повестка могла быть инспирирована ИМИ — но это ничего не меняет. Повестку подписал мой командир. Лично, своей рукой. Я обязан явиться — и вовремя. Если я опоздаю хотя бы на полминуты, я буду дезертир.
Хельга резко подняла мое левое запястье к лицу и разжала пальцы:
— Ты дезертир.
А глазами: «Ты спасен!..» — и еще что-то, чего я уже не услышал. Было тринадцать сорок пять. С секундами.
Я оглянулся на штаб. Две минуты бегом. Ну полторы, если очень постараюсь… Поздно.
Ведьма! Так заговорить зубы.
И сам хорош: побежал за юбкой…
Я попытался что-нибудь быстро придумать. Вахта закрыта, военная дисциплина вступила в силу… А если мимо? Там, где лестница — картон вместо стекол. И на первом этаже, кажется, тоже. Засиделся в кабинке: понос, господа! Или запор. Но — в штабе, в штабе, а не в бегах… А объясняться надо в присутствии этого хама («стал-мандал»), он засмеется, и — в торец. И — понеслась… Нет, господин капитан, поздно: всех уже погнали в 14-й. Или ТУДА.
Поздно.
Ох, перестарался ты, Витенька, вживаясь в роль дезертира. До полного перевоплощения. До бесповоротного.
БЪдный бЪглый бЪлый слонъ…«техреду: «Ъ» — «ять»»
Конка уже ушла по направлению к центру города. Полнехонькая — но толпы на остановке почти не убавилось… Хельга о чем-то спрашивала глазами — я не слышал. Отстранил, прощально сжав ее плечики, отвернулся и побрел в ту же сторону, куда ушла конка. Вообще-то, мне нужно было обратно, но получилось естественнее — туда. Сжать ее плечики, отвернуться и уйти.
Дезертир. Беглец. Боевой офицер… «Вы Хельгина добыча, а не наша», сказала красивая. Что она имела в виду?
Я обхватил плечи руками — было промозгло, и октябрьское солнце уже не грело, а мой пуховик остался в штабе. Вернуться? Это никогда не поздно. Еще немножко поживу, померзну.
То есть, солнце-то грело, но не меня: я последнее время что-то стал мерзнуть. Все мы, кто после Парамушира, какие-то мерзляки стали Помазанник, вон, и в штабе ватник не снял.
Шагов через двадцать у меня в голове что-то забрезжило. Что-то вроде надежды. Я ведь нигде в штабе не отметился — ни в приемной, ни тем более, ТАМ, а на вахте еще никого не было. Надо предупредить Нику: если спросят, пускай говорит, что мы этой ночью не спали. Да нет, ее не будут спрашивать. Спросят меня. Что вы, господа ОТТУДА, я не видел никакой трансляции, даже личного сна не видел, потому что не спал. Ни я не спал, ни супруга моя не спала… Повестка? Святые сновидцы, кто же мог знать? Выходит, я прободрствовал повестку? Вот это ой… То есть, как: почему не спали? Экие вы, право, недогадливые, господа ОТТУДА! Чем занимаются ночью супруги, когда не спят? Вот и мы тем же… Словом, такая вот линия поведения на допросе. Дальше. Кто меня видел в штабе? Чижик-пыжик — но ему я даже не представился, настолько был взбешен. Самохвалов — он сам меня предупредил (о чем?), значит, не выдаст. Девочки… Девочкам я представился, но они скорее с Хельгой заодно, чем с НИМИ. Больше никто не видел, даже Помазанник. Это хорошо, что он меня не видел. Еще месяц назад я был бы уверен в нем, но этот месяц он провел в «Ключах». А там люди меняются. Для того и «Ключи», чтобы людей менять. Ну, а для дежурного офицера я — просто «лопух»-первосрочник. Ветераны пораньше приходят, чтобы воспользоваться льготой и покалякать с командиром о личных делах, и все ветераны ТАМ… Пуховик! Мой пуховик висит в гардеробе штаба… А почему он, собственно, мой? Жалко: хороший пуховик и почти новый. Но не мой. Я там нигде не отметился.
И все. Транслируйте повторную повестку, полковник Включенной: первую я прободрствовал. Белыми нитками шито — ан не порвешь!
Я бодро повернул обратно и столкнулся с Хельгой.
— Погоня будет? — спросила она без предисловий.
— А зачем? — я усмехнулся, снова обхватил плечи руками и стал приплясывать. — Куда я денусь?
— Дезертиров расстреливают?
— Не сразу. — Мне было весело. Тоже мне ведьма, ни черта не знает! Через неделю будет новая повестка: на тот случай если я не спал и не видел трансляцию первой. Вот ежели опять не явлюсь, тогда — да, очень даже возможно.
— Ты замерз. — (Без тени вопроса).
— Еще чего! Я просто перенервничал.
Приплясывать я перестал, а стоять было холодно. Хельга тронула меня за руку, и мы пошли дальше — прочь от моего дома. Не все ли равно, куда сейчас идти? Я шагал деревянно, но старался не ежиться. Хороший у меня был пуховик.
— А если явишься? — спросила Хельга. — По новой повестке?
Господи, ей-то что?
— Пошлют в дыру, какая попоганей… Однажды так было, и вместо Тифлиса я полетел на Парамушир. Но сначала трое суток заполнял бланки. ТАМ. Чуть в звании не понизили. Постращали, пожурили, пожалели, посоветовали меньше пить и спать ночами. Дали полуроту необстрелянных и послали обезвреживать Парамушир… Впрочем, для Парамушира все мы оказались необстрелянными. Там человеческий опыт ни черта не стоит, это все равно что натаскать на уличные бои, а забросить в джунгли, или наоборот…
Я осекся, потому что вдруг сообразил простую вещь: если повестка инспирирована ОТТУДА, то никакая новая дыра меня не ждет, даже самая поганая. А равно и сослуживцев моих, пришедших сегодня, не ждет никакое уютное местечко на нашем шарике. Ни Мадрас (где слоны), ни тем более, Рио, ни даже Ашгабат (в нем, говорят, опять неспокойно)… Нет ни одной машины на стоянке у штаба. Есть очередь ТУДА. Спустя неделю просто все повторится — будет повестка, и я сам приду к НИМ в лапы.
— Виктор, куда мы идем? — спросила Хельга.
— Я — куда глаза глядят. А ты?
— А я рядом. Может, возьмешь меня под руку?
Я взял ее под руку. Сразу стало теплее. А может, просто спокойнее. Равнодушнее к перспективам. Впереди неделя. Целая жизнь. На Парамушире я так далеко не загадывал…
Мои глаза глядели вдоль проспекта Светлых Снов, который как-то незаметно перешел в улицу Пушкина. Справа нас обгоняли конки. Слева от нас буксовали автобусы. Еще правее, за рельсами, тянулся высоченный забор из стеклобетона. Еще левее, за разбитой мостовой, бурлил овощной рынок. Потом рельсы повернули направо, в проулок между двумя заводскими территориями, а мы пошли себе дальше, к Белому озеру. Я там давно уже не бывал. Там, почти напротив озера — дом, в котором я родился. Деревянный. Там три деревянных дома, каждому по сто пятьдесят лет, а за домами высоченный забор из стеклобетона, а за забором — территория «Кибероптики», где работает мичман Ящиц из Отдельного Парусного. Повезет ли ему на днях ошибиться дверью?..
— Виктор! — Хельга подергала мою руку.
— Да?
— Повестки не было, Виктор!
— Спасибо, Хельга, я это уже слышал. Кстати, — не помню, говорил ли я тебе, что я женат?
— Если надо бежать или драться, ты соображаешь быстрее.
— Уж так натаскан… Лучше скажи мне, колдунья: что ОНИ затевают? Что ИМ нужно от нас, парамуширцев?
— Я не знаю.
— Странно. Помнится, кое-кто говорил, что знает все.
— Я знаю все — о тебе. А то я могу знать о НИХ?
— Жаль, лучше бы наоборот… А обо мне откуда?
— От тебя.
— Гм. И когда это я успел.
— Сразу. У тебя разве не было: посмотришь на человека — и знаешь о нем все.
— Я не колдун, Хельга.
— Это еще не колдовство. Это… такая неизбежность. Ну, как звезда падает — значит, так суждено. Падает и горит, изо всех сил светит… Это жизнь. Я ее вижу.
— Это смерть, если уж на то пошло. И если уж на то пошло, звезды не падают. Падают метеоры: песчинки, пылинки. Камешки.
— Да. Но становятся звездами.
«На миг, Хельга. На очень короткий миг!»
«Разве мало?»
У нее были зеленые глаза.
Глава 6. Сказка о неизбежном
Это жизнь…
А если камешек так не считает? А если ему хорошо и спокойно лететь в никуда, леденеть в ледяных просторах и просто существовать? Если он вопит на всю Галактику (но его не слышат): «За что? Я ведь просто летел по своей орбите, я никому не мешал, не надо! Уберите с моего пути эту голубую безобразную громадину!..»?
Он все равно сгорит — падая и светя изо всех своих сил. Это такая неизбежность.
Может быть, его даже никто не заметит…
Глава 7. Улыбка мичмана
Мичман Ящиц оказался заметной фигурой на «Кибероптике». Вахтер, во всяком случае сразу понял, кого мы ищем, и посоветовал подождать «морского волка» возле проходной — он должен был вот-вот подойти с обеда. В заводскую столовку Яша не ходит, всегда дома обедает. Не потому, что экономит, а скорее, наоборот, поскольку потребляет исключительно молочные продукты с рынка, овощи оттуда же и йодированную водку, приготовленную по особому рецепту. И уж Бог весть, как он умудряется их совмещать, молоко и водку. А все потому, что в свое время (было это года два тому назад в Охотском море) мичман вконец испортил себе печень радиоактивной рыбой, вот и пришлось ему перейти на молоко и водку. Причем от магазинного молока Яшу еще круче схватывает, а на рынке брать — какая уж тут экономия! По выходным человек работает на свою печень — все из-за той чертовой рыбки. И ведь знать-то они, конечно, знали, что рыбка «звенит». Не могли не знать: радиометры у них на борту обязательно были, но жрать-то все равно хотелось, а на голых макаронах, сами понимаете… Да вот он и сам идет, Яша Ящиц, наш «морской волк» — вон, видите, верста коломенская, рыжая. Рот до ушей и к бабам цепляется — значит, опять печень скрутило. Когда печень отпустит, ему не до баб — работать спешит. Над цехом пыль столбом, и сюда слышно, как он начальство на херах носит. А вас, Яков Тимурович, дожидаются! Посетители до вас, прям как до генерал-акционера: барышня вот и ваш сослуживец при ней говорят, что с Парамуширу, вы бы мне, Яков Тимурович, рецептик ваш записали, а? Мой-то на днях дембельнулся и вертается скоро, внучок-то мой оттуда же, где и вы были, вертается, и тоже с печенью — запишете рецептик, а? Сколько туда йоду, сколько чего, и как, чтобы молоко не свернулось, а, Яков Тимурович? Приснился мне Славик мой, оттуда приснился, поздравь меня, деда, с дембелем, говорит, вертаюсь, мол, — и улыбается, а самого крутит, уж так крутит…
— Запишу, Иван Васильич, ты мне вечерком напомни, как с работы пойду, сейчас некогда. Привет женихам, красавицы! Парамуширец?
Яков Ящиц был стремителен, улыбчив, резок. Он умудрялся разговаривать одновременно со всеми.
— Да, — сказал я.
— Мичман Ящиц, Отдельный Парусный. Был боцманом на «Тихой Сапе». — Он протянул мне руку, улыбаясь одновременно мне, вахтеру и «красавицам» и успев подмигнуть Хельге.
— Капитан Тихомиров, десант. Командовал полуротой на Парамушире. — Я не решился сразу назвать себя дезертиром, потому что мичман вряд ли отнесся бы к этому факту сочувственно, а предстоящий разговор был важен, в конце концов, не столько мне, сколько ему.
Яков Ящиц был совсем не похож на «морского волка» — был он огненно-рыж, конопат, высок и неимоверно тощ, но щеки его были неожиданно круглы, а рука оказалась неожиданно тверда и жилиста. И никаких там романтических признаков профессии: ни «боцманского» бобрика, ни вислых усов, ни «палубной» походки вразвалочку, ни полосатого треугольника из-под ворота. Даже непременного синего якорька на запястье, и того не было. Был синий штиль в улыбчивых глазах — затишье перед штормом. Была застарелая боль. Была привычка слышать всех и разговаривать одновременно со всеми. И был теплый (очень теплый) вязаный жилет под толстой курткой. Он тоже мерз мичман Ящиц, побывавший на Парамушире. И он очень старался этого не показывать: куртка, если не присматриваться, выглядела почти как летняя, с небольшим уклоном в демисезонность.
— Извините, господин капитан: сегодня мне действительно некогда. Сожалею, сударыня!.. Иван Васильич, не забудь напомнить. Давайте завтра в нашем Клубе. Во сколько вам удобно?
— Это срочно, мичман, — сказал я. — Очень срочно.
— Понял. Но вряд ли вы обратились по адресу, капитан: я мало что смогу вам рассказать. Впрочем, ладно. Сегодня после смены. Не беспокойся, Иван Васильич, успею — у себя напишу и принесу. Сударыня, я рад — мы не прощаемся! Наш Клуб моряков на втором этаже «У Макушина», а «Макушин» — вот он — рядом. В семь с минутами — устраивает, капитан?
— Нет, Яков, — сказала Хельга. — Только не в Клубе.
— Даже так?.. — мичман Ящиц перестал улыбаться, втянул в себя щеки и пожевал их изнутри. Сразу и явственно проступила боль, а безмятежно-синий штиль в глазах подернулся штормовой дымкой. У него болела не только печень. Болела память. Как у всех у нас, парамуширцев… — Но я действительно почти ничего не знаю, сударыня. Мы просто подобрали их в проливе и доставили на материк, вот и все. Даже не успели с ними познакомиться, даже накормили не досыта, потому что сами… Ладно. Диктуйте адрес.
Я хотел продиктовать свой, но Хельга меня перебила.
— Это рядом, Яков, — сказала она. — Видишь вон тот дом за озером? А за ним еще один, черный. Отсюда лишь угол виден… Нет, ты не туда смотришь, надо правее… Полуподвал, восьмая квартира. Она одна в полуподвале, не заблудишься.
— Уяснил. Буду в семь пятнадцать, ждите. Иван Васильич, ты раньше сменяешься? Тоже дождись. А вы, капитан, купите-ка водки — полагаю, что понадобится. Клуб десанта у нас далеко, в центре, но «У Макушина» после пяти вам продадут без карточки. Только сошлитесь на меня. До вечера!
Видимо, он почему-то решил, что я не томич, а приезжий. Я не успел (да и не счел пока что обязательным) вывести его из этого заблуждения.
Мичман опять озарился улыбкой, разогнал штормовую дымку в глазах, показал нам корму и устремился через проходную, на бегу кого-то окликая зычно, вполне по-боцмански… Актерство тоже разное бывает. Говорят, игра без атрибутов — высший театральный пилотаж. Яков Ящиц выполняет его безупречно. Вот только непонятно, зачем…
Спешить нам было некуда, вахтер Иван Васильич рассказывал нам что-то о каких-то пацанах, которых мичман Яша спасал где-то там в проливе и чуть не накормил той самой рыбкой, да слава Богу, что не успел. Хельга внимала, всплескивая руками и старательно делая большие глаза, а я слушал вполуха и размышлял об актерских данных Якова Ящица.
Подсадка?
Вряд ли: это было бы слишком тонко для НИХ. Тонко да и расточительно расходовать такой талант на капитана Тихомирова. К тому же, печень у него болит по-настоящему, и память тоже, и под своей лишь с виду демисезонной экипировкой он не потеет, а мерзнет. А играть начинает, когда надевает улыбку. Да, это вполне объяснимо… слишком очевидно объяснимо. Есть тут во всем какая-то чрезмерность — и в самом актерстве, и в очевидности его психологической подоплеки.
«Вы стали подозрительны, господин капитан…»
«А не соизволишь ли ты, Витенька, заткнуться? Я был таким всегда!»
«И чего достигли, ваше благородие?»
«Пока что не в «Ключах» и жив!»
«Выдающееся достижение, из ряду вон…»
— Пойдем, — сказал я Хельге. — Надо раздобыть водки. Хотя все это, по-моему, зря.
Вахтер, который говорил уже не о спасенных пацанах, а о своем Славике, вдруг обиделся за Яшу и начал мне доказывать, что ничего не зря, что если Яша обещал, придет обязательно и минута в минуту, и что водка ему действительно будет нужна — оглушить печень и побеседовать спокойно, без этой его улыбочки, от которой мороз по коже…
— Верю, Иван Васильич, — оборвал я его. — Только я совсем не о том. До свидания.
— Передавай привет Славику, дядя Ваня, — сказала Хельга.
— От кого? — удивился вахтер.
— От одной незнакомой рыжей колдуньи по имени Хельга, — сообщил я, уже привычно беря ее под руку. — Ну, мы идем?
— Разве я — рыжая? — осведомилась Хельга, едва мы отошли на несколько шагов от проходной.
— Нет, — усмехнулся я. — Это Ящиц рыжий, ты золотая.
— Ему очень больно, Якову, ты заметил?
— Не обязательно быть колдуньей, чтобы заметить… А он что — тоже падает и горит?
— Он уже упал, но пока что горячий и светится. И никого к себе не подпускает: боится обжечь. У него не только печень болит, у него…
— Знаю, — оборвал я. — Он — парамуширец… Ну вот: обед закончился, и автобуса уже не дождешься.
— Зачем автобус? Нам же к «Макушину».
— Сказано было: «У Макушина» после пяти… И карточка у меня есть, а вот денег нет, только транспортные жетоны. Кредитку я дома оставил, жене. Я же не дезертировать собирался, а воевать.
— Умиротворять, — уточнила Хельга.
— Это одно и то же.
— Вот ты и проговорился…
Я сдержался. Хотя вообще-то не терплю, когда баба лезет в мужские дела и начинает философствовать… Война — мужское дело. Сейчас его принято называть миротворческой акцией — но кто воевал, тот знает, как это на самом деле называется. Нам ни к чему лицемерить в своем кругу. А то, что я и Хельгу едва не причислил к своим и сказал «воевать», — ну, что ж, немного ошибся. Она хоть и колдунья, а все равно баба… Очень красивая баба.
— Подождем? — спросил я. — Или пойдем пешком? Время есть.
Хельга не ответила. Кажется, она на меня дулась: не захотел подискутировать о войне и мире, правых и виноватых.
На остановке против Соляного переулка не было ни души. Автобусов на подходе тоже не было. Лишь один, абсолютно пустой, проехал мимо. Причем не просто проехал мимо, а демонстративно газанул, обстреляв нас длинными мазутными выхлопами. Хельга взвизгнула, прячась за мою спину, и я мужественно принял почти весь невыгоревший мазут на свои почти новые брюки. Номер автобуса я, к сожалению, не разглядел.
Сволочь.
Хельга стала оттирать коленку, на которую попало (слава Богу, что не на плащик и что коленки голые, не в чулках), а я пересчитал в кармане жетоны и заглянул в Соляный переулок. Когда-то там частенько стояли свободные пролетки. Сейчас они там тоже стояли, но жетонов у меня, пожалуй, было маловато. Разве что в один конец, а обратно — пешком или на конке.
— У меня кредитка с собой, — сказала Хельга. (Как-то чересчур несмело). — На водку не хватит, но можно взять вина. И не обязательно в центре, здесь оно не намного дороже.
— В Клубе десанта мне дадут за так, под запись, — объяснил я. — И не вина, а водки. Я это уже проделывал, чтобы Ника не знала.
— Твою жену зовут Ника?
— Одна золотая колдунья, очень похожая на тебя, хвасталась, что знает обо мне все.
— Да, я знаю. Но ведь не словами!
— А-а…
— Виктор, я тебя обидела?
Это была новость. Я даже удивился, и вполне искренне. Но ее зеленые глазищи, как ни странно, задавали тот же самый вопрос.
— Святые сновидцы! Чем? Я думал: это ты обиделась.
— Я — нет. Просто он сидел, бедняга, за своим окошечком один-одинешенек. Сколько людей проходит мимо, и все бегом, и всем некогда. Кто-то остановится послушать про Славика — уже событие. Теперь он сидит и все себе заново пересказывает. Ты же все равно никуда не спешил: стоял и думал о Якове…
— Ты про вахтера что ли? — догадался я.
— Да. Мне показалось, ты из-за него обиделся.
— Нет, Хельга, — я немножко деланно хохотнул. — Я тебя не возревновал! Нет у меня такого права.
— И не надо! — она взяла меня под руку и повисла на локте. — Пошли пешком — я не люблю в пролетках. Лошадкам на этом спуске очень трудно. Особенно, если вниз. У них ноги дрожать начинают: мелко-мелко. А мы никого не везем, мы и пробежаться можем, правда?
…Однажды во сне мой белый слон сказал мне почти то же самое: пожаловался, что на этом спуске с Воскресенской Горки у него начинают дрожать ноги, а бежать он боится, потому что я сижу у него на спине и могу упасть…
— Побежали? — спросила Хельга, когда мы дошли до спуска.
Мы побежали.
Глава 8. Репутация заведения
Клуб десанта занимал почти три четверти старинного особняка на Миллионной. В его узких кривых коридорах с разновысокими полами, стенами метровой толщины и окнами, прорубленными в самых неожиданных местах, можно было заблудиться. Конечно, если ты не десантник, или попал сюда впервые, не имея навыков, необходимых уличному бойцу… Виноват — миротворцу, хотя «уличный миротворец» как-то не звучит.
Ника не любила здесь появляться. Однажды, на заре нашей совместной жизни, я ее сюда вытащил. Кажется, была годовщина Ашгабата. Ника вытерпела целых два часа — восемь или девять тостов — и запросилась домой, хотя было и вкусно, и весело. У нас — преотменные повара, мы — презабавные парни, и женщин было на той годовщине много, так что разговоры велись не только мужские. Но к десятому тосту общество обеднело на поручика Тихомирова с супругой: без меня Ника боялась заблудиться… Ну, не любила она этот дом, и все тут!
И не только Ника. Жены тут вообще появлялись исключительно редко. Дамы и вдовы — да. Но с женами приходить было не принято. Не то, чтобы запрещено, а просто они сами не хотели. Даже скандалить предпочитали где-нибудь в других местах. Ну, в крайнем случае, на крылечке: я, мол, видела, с кем он сюда вошел, ну-ка подать его мне, а не то я пойду к райкомрезу!..
Короче говоря, в Клубе десанта на Миллионной мы с Хельгой проделали примерно то же самое, что за два часа до этого проделали в штабе резерва. Только уже не под похабный гогот первосрочников, а под молчаливое понимание не замечающих нас ветеранов и под оживленную болтовню (о погоде) бармена Гоги, который двинул ко мне по стойке ключ от номера и шепотом заверил, что все будет тип-топ. Тут, в особняке на Миллионной, никакого капитана Тихомирова в настоящий момент нет. Капитан Тихомиров пребывает либо у себя в конторе, либо где-нибудь в командировке — Гога не знает, где. Касательно кредита я тоже могу не беспокоиться: Гога умеет ценить порывы души и знает, что такое чрезвычайные обстоятельства. Они, эти чрезвычайные обстоятельства, увеличивают обычную процентную ставку вдвое, так что на этот раз не десять, а двадцать.
Я с легким сердцем пообещал бы ему и тридцать, и сорок, но вовремя вспомнил, что платить придется не мне, а Нике.
Тем не менее, обед я заказал роскошный, с кулебяками из минтая, пирожными и шампанским. Нам надо было пустить пыль в глаза Гоге. Пусть думает, что я пускаю пыль в глаза Хельге.
Литровый пакет водки с надлежащим сухпайком я попросил завернуть отдельно. Гога пообещал. А мы с Хельгой двинули в номер, дабы отскучать отводимые на «порыв души» два-три часа и заодно пообедать.
Хельга мне замечательно подыгрывала, лучше, чем я ей в штабе. Она висла у меня на плече, потупляла глаза, прятала лицо в своем червонном золоте и премерзко хихикала неестественно хриплым голосом, изображая даму на час, которой крупно повезло. Только в номере, притворив толстую с мягкой обивкой дверь, я понял, чего ей это стоило.
Главным и почти единственным предметом меблировки в номере была кровать. Ветхая, помпейзнейших размеров, с балдахином из маскировочной ткани, долженствующим наводить на мысли о превратностях жизни десантника и скоротечности оной, призывая подарить ему как можно больше радости сейчас, немедленно, сию минуту, потому что завтра может оказаться поздно.
Хельгу этот балдахин добил. Захохотав, она бухнулась на кровать как была, в плащике и замазученных туфельках, и кровать немедленно отозвалась жутким треском давно рассохшегося дерева с разболтанными ржавыми винтами.
— Попрыгай, попрыгай, — сказал я. — Помн`и ее как следует. Твоя репутация уже все равно загублена, а вот репутацию сего заведения надлежит держать на должной высоте! Клуб десанта — это вам не фигли-мигли, тут ветераны душой отдыхают, а телом трудятся…
— Хва… хва… хватит! — простонала Хельга сквозь хохот.
Я расстегнул безворотку (в номере было очень тепло, даже душно), потом, подумав, снял ее совсем, бросил на кровать и остался в рубашке. Хельга поборола последние приступы хохота, сидела, обняв живот, и выравнивала дыхание.
— Разденься, — сказал я ей и нагнулся, чтобы расстегнуть ботинки. — То есть, я имею в виду: сними плащ. Обед к нам уже идет и скоро постучится.
— Нас должны застать в недвусмысленной позе?
Посмотрев на нее, я убедился, что она спрашивает серьезно. Похоже, она всегда так: либо спрашивает серьезно, желая услышать ответ, — либо не спрашивает вовсе.
— Не обязательно, — ответил я. — Дама, которую ты изображала, должна быть зверски голодна и не сразу уступчива. Нашу кулебяку нам придется съесть. Всю.
— С удовольствием! Я зверски голодна.
— Вот и славно… Нет-нет, тебе не следует швырять свой плащ как попало! Повесь аккуратно на спинку стула — ведь это твоя единственная верхняя одежда на все сезоны.
— Как ты об этом узнал? — удивилась Хельга.
— Извини… — Я сильно потер ладонью шею и, кажется, даже закряхтел от смущения. — Я этого не знал.
Я снова занялся ботинками — снял их и стал вытирать мазут изнанкой коврика, лежавшего под дверью.
Хельга сковырнула туфельки, босиком прошла к окну, выглянула, откинув занавесочку, и удивленно вскрикнула. Я усмехнулся. В Ашгабате таких интересных домов не осталось, их мы в первую очередь… Теперь там только строгая, предсказуемая архитектура.
А это окно, судя по расположению номера, выходило не на улицу и не во внутренний двор, а в самый интересный коридорчик. Интересный с точки зрения «уличных миротворцев». Он был извилист, бесконечен и одновременно очень короток. Он огибал по хитрой замкнутой кривой небольшой танцевальный зал и примыкавшие к нему подсобные клетушки для музыкантов…
— Это во всех клубах так? — спросила Хельга.
— У моряков я не бывал, не знаю… Вряд ли «У Макушина» есть что-то похожее: места не хватит. А вот у воздушников на Синем Утесе тоже очень интересно. У них, правда, своя специфика: огромные пространства, легкость конструкций, даже зыбкость какая-то, но при всем при том — уютно и основательно. Они сами строили. Воздушные части самые богатые. Извозчики куда мы без них? Да никуда!
— А куда вам бывает надо? — спросила Хельга.
— Туда, где стреляют, — отрезал я.
— А женщин ты часто сюда приводил?
— Ни разу… — С ботинками я покончил, отставил их и занялся Хельгиными туфельками, по-прежнему глядя в пол.
Я почти не солгал: здесь я действительно был впервые. В этом номере… Это был «дежурный» номер — далеко не лучший и вот именно для чрезвычайных обстоятельств. У меня таковых не бывает. Я не люблю отдавать Гоге аж двадцать процентов сверху, я предпочитаю все подготовить заранее, обойдясь обычными десятью. Да и не так уж часто мне приходилось это делать, а после Парамушира — только один раз. Потому что перестало помогать…
— А я все думала: зачем они нужны, эти Клубы? — проговорила Хельга с веселым изумлением. — Оказывается, вот зачем!
— Ну, знаешь ли!.. — я очень искренне возмутился. — Между прочим, сюда и с женами ходят! Поживи-ка в общаге, или в однокомнатной на две семьи… Да, многие из нас отдыхают душой в борделе — но далеко не все и не только в нем. И вообще, — я наконец-то нашел достойный аргумент, — это все равно, что заглянуть в туалет Патриотической Галереи или Дворца Сновидений и заявить: «вот для чего все это отгрохали»!
Я аккуратно поставил ее туфельки под кровать, расправил коврик у двери и выпрямился.
Хельга очень смирно сидела на кровати, сжав губы бантиком и поджав под себя босые ноги, смотрела на меня в упор и выжидательно молчала глазами. Мне пришлось продолжить — развить свой последний аргумент.
— Нет, правда, — начал я, — это не для красного словечка: про туалет во дворце! Например, у нас в Клубе, в этом самом, есть Историческое Общество. Оно собрало неплохую коллекцию и основало музей — три таких кабинета. Там уникальные экспозиции, начиная с десятого века, с миротворческих десантов Олега в Хазарию и Византию!.. Есть хоровой кружок. Вон там, за окном, балетная студия. Рок-симфо-банд. Студия батальной скульптуры. Модельеры. То есть, эти… моделисты. Да много чего есть! Тут отдыхают душой люди с больными душами. Люди, которые убивали людей… Но в музее, например, нет водки — никакой, даже очень древней. Водка — в этом крыле дома, где бар и бордель, а мы с тобой пришли сюда за водкой! И вообще — я же тебе предлагал: подожди на крылечке, сам поклянчу…
— А ты приводил сюда жену? — спросила Хельга.
— Да. Один раз. — Я отвернулся и стал смотреть на окно.
В Клуб я ее действительно приводил. Не в номер. В Клуб. В общем, я заврался, отстаивая репутацию заведения… А ведь ни единым словом не соврал! Все это у нас есть — музей, хор, моделисты. И модельеры — тоже. И вот эти самые номера есть — для тех, кто отдыхает душой именно в них. И бар… Последние три с половиной года я отдыхал душой в баре. Музей и прочее, включая номера, мне стали до лампочки (большой, как у белого слона, и электрической). Так что Гогу я сегодня удивил. Если он способен удивляться… Ну, во всяком случае, обрадовал.
Я смотрел на занавесочку на окне, чтобы не смотреть на Хельгу, и почему-то вспомнил Рио. Наверное, потому, что занавесочка была веселенькая, в красно-белую полосочку. В Рио, столице одноименного штата, нам было весело. Мы прибыли туда показать, на что мы способны, и показали, что мы способны на многое. После условной «иглотерапии» в саванне была проведена настоящая на севере Парагвая. И обошлась почти без крови, не как прежние широкомасштабные блицкриги Южно-Атлантических МС, от коих разило двадцатым веком, Хиросимами и Прагами. Не все мы были инструкторами в той, настоящей «иглотерапии», но Рио, столица Рио, наливала всем и плясала в обнимку с каждым и хотела отдаться любому в благодарность за неожиданно быстрый и небывало дешевый мир на западе… Нам было весело.
А однажды в Рио нас водили на экскурсию в Дом Скаутов — подростков от восьми до пятнадцати лет. Там, в этом их Доме, тоже было все — даже больше. В том числе специальные комнаты для девочек: привести себя в порядок, причесаться и не только. У девочек сложный организм, не то что у мальчиков… Вот только запашок в специальной комнате был примерно как здесь, и проблема ранней беременности у скаутов ничуть не менее остра, чем у других детей, не состоящих в этой организации. Не знаю, к чему это мне вдруг вспомнился Дом. Не к тому ли, что природа всегда и обязательно возьмет свое — не налогами, так рэкетом?.. А вот интересно: Гога сам придет обслуживать, или пришлет полового? Вообще-то, Гога не любопытен. Он профессионал и берет свои проценты за доверие.
— Виктор? — позвала Хельга.
— Да? — сказал я, не оборачиваясь.
— Ты запутался в значках.
— Не понял.
— Я не знаю, как объяснить. Посмотри на меня.
Я посмотрел на нее. Ее зеленые глаза не смеялись надо мной, не осуждали меня и даже не жалели. Они просто сообщали мне, что я запутался в… То, в чем я, по мнению Хельги, запутался, было похоже на парамуширские «снежинки». И на «злой тюль», тоже парамуширский. По крайней мере, именно их рисовали ее глаза. Глаза, которые ни «снежинок», ни «злого тюля» ни разу не видели. Не могли видеть…
— В чем я запутался? — переспросил я.
— Их очень много, — вздохнула Хельга. — Хотя на самом деле их нет. Их больше, чем комаров в июне. Но комары-то есть, они живые и голодные. А ты запутался в том, чего нет. В значках…
— В словах? — догадался я.
— Это не только слова. И слова — не всегда значки.
— В мыслях?
— И не только мысли… Когда ты меня первый раз поцеловал, это был значок. А потом, возле вахты — почти поцелуй.
— Живой и голодный, — пошутил я. — Как ты сейчас.
— Да. Когда ты увидел меня голую на столе, тоже произошло что-то живое. Но ты отвернулся, и значок его съел: живое стало значком. И когда я уронила платье, это уже был значок.
Надо полагать, что на лестнице, когда я взял ее на руки и чуть не «засветился», тоже случилось что-то живое, подумал я. Но говорить об этом не стал.
— Я понял, Хельга, что ты называешь «значками», — сказал я. — Может быть, их действительно нет, и может быть, они действительно едят живое. Но без них, согласись, было бы трудно прожить.
Улыбка мичмана… Без этого «значка» он бы давно загнулся — и водка не помогла бы. С йодом.
— Я не говорю, что они не нужны, — сказала Хельга. — Но в них бывает легко запутаться, и ты запутался. Этот ваш Клуб — очень большой и путаный значок. Целая туча значков, которые сплелись и копошатся! Он вам очень нужен, вы без него не можете прожить. Но в нем… Не вижу, как в музее, наверное, он далеко от этой комнаты — но здесь очень давно не было ничего живого. Только значки и люди в сетях значков.
Я вспомнил бар: Хельга хрипло хихикает и виснет у меня на плече, ветераны понимающе не замечают нас, а Гога, болтая со мной о погоде, двигает мне по стойке ключ от номера и шепчет два слова: «дежурный» и «двадцать»…
— А Гога живой? — спросил я. — Или он сам — значок?
— Живой. Но Георгий в них не путается. Их нужно любить или ненавидеть, чтобы запутаться в них… Сейчас постучит.
— Как? — не понял я.
— Георгий сейчас постучит в дверь. Обе руки заняты, идет и думает постучать ботинком, или положить на пол то, что в руке… Спина болит нагибаться — продуло вчера, а ты не обидишься, если ботинком…
Гога постучал ботинком.
— Делай «значок»! — скомандовал я Хельге, кивнув на кровать, а сам расстегнул рубашку до пояса и, не спеша, пошел открывать.
Выходит, Гога оказался любопытен…
Глава 9. Говорите молча
На левой руке Гога держал поднос, а в правой объемистый сверток. В номер он, как ни странно, заходить не стал: стоял сбоку от двери и скучно смотрел перед собой, вдоль коридора, отражая в стеклах пенсне и в лысине ровно светящийся розовым потолок.
Я взял у него поднос и осторожно поставил на колченогий столик в номере, возле кровати, а потом вернулся за свертком.
— Литр, — сообщил Гога, взвесив его на руке и глядя все так же вдоль коридора. — Не много?
— В самый раз! — я потянулся за свертком.
— Смотри… — Он не спешил мне его отдавать.
Я, мысленно чертыхнувшись, опустил руку. У меня с Гогой такого еще не бывало, но все когда-нибудь случается впервые. Вот и моя кредитоспособность поставлена под сомнение…
— Я передумал, — сообщил Гога.
— Вижу, — сухо ответил я. — Я полагал, что это не в твоих привычках.
Гога наконец посмотрел на меня в упор. Его глаза ну ничегошеньки не говорили, не то что Хельгины.
— Не надо двадцать, — сказал он. — Десять, как обычно. За это тоже. И протянул мне сверток. Я взял. — У тебя не просто чрезвычайные обстоятельства, капитан. — Гога опять смотрел не на меня, а вдоль коридора. — У тебя — нечто большее… Не налегай! — он постучал пальцем по свертку и удалился, вышагивая немного слишком прямо. В номер он даже не заглянул.
Ай да Гога. Профессионал…
Я вернулся в номер и запер дверь.
Хельга успела опять надеть платье и, откинув салфетку с подноса, вдыхала горячий пар, поднимающийся от кулебяки. Да, Хельга была действительно голодна и действительно зверски. А подрумяненная корочка выглядела очень аппетитно. И не только выглядела. У нас преотменные повара, и уж где-где, а на кухне Хельга не обнаружила бы никаких значков — только живое… Жаль, что Ника не любит наш Клуб. Впрочем, живое и ст`оит соответственно, не как значки в «мол`очке». Живое только во сне даром… Вот ведь безгрешен я перед женой, три с половиной года как безгрешен, ан виноват опять! В чем, спрашивается?
Логика. Значки-с.
Подав Хельге нож и кивнув на кулебяку, я занялся шампанским. Нам надлежало выпить полбутылки, никак не меньше, дабы изобразить значок, достойный заведения (надо же — въелись в меня эти значки!), и похоже на то, что вершить этот подвиг мне придется в одиночку. Вряд ли Хельга настолько сумеет войти в роль, чтобы существенно мне помочь. Я посмотрел на часы. Было шестнадцать десять. Три часа до встречи с мичманом, минус час на дорогу, если пешком. Успею. Хмель от шампанского проходит быстро, и я его засплю, а сверток в любом случае приберегу для встречи. Мичману нужнее.
Расковыряв сургуч, я выстрелил пробку так, чтобы обязательно пролилось на пол, и разлил по фужерам.
— Ты же знаешь, что я не буду, — сказала Хельга.
— Догадываюсь. Пусть останется так.
Кулебяку Хельга уже разрезала (и уже уплетала — приятно было смотреть!), положив мне только маленький кусочек. Ровно столько, сколько я смогу съесть, заставляя себя это сделать. Правда, она не учла шампанское…
Едва я успел это подумать, как на моей тарелке появился еще один кусок.
— Теперь так? — спросила Хельга.
Хорошо иметь дело с колдуньей. Хотя и не очень уютно: чувствуешь себя прозрачным. Я усмехнулся и поднял фужер.
— За все живое!
Шампанское было сухим. А дамы предпочитают сладкое. Или Гога слишком профессионал, или тоже колдун… Впрочем, какая разница? Проценты он берет за доверие — так что, пускай себе знает. Но убирать в номере будет не Гога, надо пить.
Я заставил себя съесть оба куска, допил шампанское, оставив меньше половины, буркнул Хельге: «Извини», — и растянулся на кровати. То, что со мной будет сейчас происходить, не имело к ней ни малейшего касательства. Да и ничего особенного со мной происходить не будет — внешне. Я не кричу во сне. Мой альфа-ритм нормален. А хмель надо заспать.
Мой белый слон от шампанского свирепеет. После водки он язва и хулиган, просто так — загадочен или зануден, а от шампанского свирепеет и начинает меня методично топтать…
Я закрыл глаза.
Ну, давай, белый слон! Давай — выдай мне под завязку. В поддых своими тумбами. Есть за что. Всегда есть за что… Но не надо, прошу тебя, вспоминать Парамушир! У меня достаточно грехов и кроме. Вспомни Ашгабат. Или вспомни тот веселенький домик в Рио. Или вспомни, как я надрался в Клубе, макал Гогу носом в яичницу и орал, что он нарочно подает офицерам-парамуширцам беличьи яйца, тем самым намекая на ущербность их, офицеров-парамуширцев хромосомного набора… Что-нибудь вот в этом духе, ладно, белый слон? Выдай — я вижу, что тебе уже не терпится.
И он мне выдал.
Он мне припомнил и Ашгабат, и Парамушир. Особенно Парамушир. Весь мой второй взвод, всех рядовых и каждого из трех сержантов. Поименно. И еще пятерых, помимо второго взвода. И тот квартал в Касивобаре, где люди пытались жить.
«Ты жег своих. Ты убивал своих».
— Так было надо. Я не мог иначе…
«Ты их убил. Своих».
— Они тоже сожгли бы меня — если бы так было надо. Леха Самохвалов, мой заместитель, сжег бы меня, не отдай я команду сам или промедли выполнить его. Там можно только так, нас с ним учили убивать своих…
«Ты оказался способным учеником».
— Слон, возьми пирожное! Где-то здесь, на столе, было пирожное, съешь его, белый слон, и перестань…
«А в той палатке вы обнаружили четыре обгоревших трупа. У них был иммунитет, и они остались людьми. Ты не захотел их опознать».
— Их опознал мой заместитель…
«А должен был ты: один из четырех мог оказаться братом Самохвалова».
— Но ведь не оказался! А Леха сам стрелял — и не исключено, что в брата…
«По палатке он не стрелял. Он надеялся».
— В палатке оказались другие. А вот «кащеева авоська», едва не сожравшая Леху, могла быть его братом. В конце концов, опознавать обязанность заместителя…
«К тому же, у командира — истерика, командира отпаивают спиртом и бьют по щекам, как пацана-первосрочника».
— А ты непоследователен, белый слон! За что ты меня топчешь? За то, что я плохой командир, или за то, что хороший?
«Зачем мне быть последовательным? Я не значок — я есть. Как те четыре трупа. Как тот квартал. Ты не избавишься ни от меня, ни от них… Я возьму пирожное?»
— Возьми…
«Спасибо. Я покатаю тебя в другой раз, ладно?»
— Пропади ты со своим катанием!
«Нет, я не пропаду. Я приду еще».
— Можешь не приходить…
«Не могу. Так надо».
— Святые сновидцы, кому?
«Тебе…»
Он уже выдал мне все, что хотел, и съел свое пирожное, но не спешил уходить. Протянув свой белый хобот, он взял мою вялую правую руку и долго мял ее — сначала всю ладонь, потом каждый палец в отдельности, пока я не проснулся. Он был чуть более милосердным, чем обычно, и не оставил меня одного…
Хельга сидела рядом со мной на кровати, держала меня за руку и внимательно разглядывала мою ладонь. Ну конечно: если колдунья, значит и гадалка тоже… Не шевелясь и не показывая, что проснулся, я скосил глаза на столик. Хельга подмела все — и кулебяку, и пирожные. Зря я заставил себя съесть оба куска, надо было ограничиться одним.
Я кашлянул, сообщая, что не сплю. Хельга кивнула в ответ. Ей была интересней моя ладонь, что-то она в ней видела. Она водила ногтем по ладони — но не читала линии судьбы на ней, а разговаривала с нею. И я услышал этот разговор, не понимая, как он происходит. Она колдунья — что ж тут понимать! Моя рука охотно называла все, что в себе когда-нибудь держала: приклад, нунчаку, рукоять ножа… Все помнила рука, все разболтала, и Хельга разузнала обо всем.
Вздохнув и отпустив мою десницу, коснулась Хельга левого запястья. Ладонь в своих ладонях развернула, погладила щекой и подбородком, и я услышал (это был вопрос, но не словами, а прикосновеньем):
Ты — левая, ты — что так близко к сердцу, ты — убивала? Ну скажи мне: «нет»!..
И левая рука сказала: «Да!» — она умела все не хуже правой: и выбить нож, и метко бросить нож, спустить курок и закрутить нунчаки, переломить ребром ладони кость, схватить за горло так, что хрустнет горло, легко, как штык, войти в чужую плоть… Она гордилась, что она убийца. Я не посмел ее опровергать.
А ты, плечо? Уж ты-то ни при чем? (Вопрос опять был задан бессловесно: щекой, губами, жилкой на виске…)
Плечо…
На нем лежал ракетомет, когда я под свинцовыми плевками старинных ружей выбежал на площадь и выпустил в упор все шесть ракет. Пять поразили цель, и я ослеп. Последняя прошла над баррикадой, проткнула желтое от зноя небо и где-то взорвалась. Не знаю, где. Быть может, в пригороде Ашгабата. (Все было сказано моим плечом — все выведала у него колдунья. Все я расслышал — и не возразил.)
А вы, глаза? (Горячими губами и языком без слов спросила Хельга…)
Глаза ловили цель прицельной рамкой.
Лоб? (До чего же губы горячи… тверда и вопросительна ключица… а грудь, как мама, требует: ответь!..)
Лоб — кулаком работал в рукопашной. Боднуть в лицо, или поддать в поддых бывало иногда результативно.
Язык? (Вопрос — солеными губами, щекой соленой, ямочкой на горле…)
Приказывал, допрашивал и лгал — «дезинформировал», на языке военных, тем самым подготавливал убийства.
Так я лежал, не говоря ни слова, а тело, цепенея каждой мышцей, рассказывало о себе само и отвечало на вопросы Хельги совсем не так, как я бы отвечал. Язык касаний — искренний язык. Немыслимо солгать прикосновеньем. А что слова простого языка? — лишь тени мыслей. Мысли тени действий. Словесный разговор — театр теней, где нет причин для очевидных следствий, где истина темна и светел фон. Ах, говорите молча! Бессловесно. Безмысленно. Всю правду о себе…
Да, Хельга. Пятки — те же кулаки. Железные, коли каблук подкован, но очень эффективные и так.
А пальцы ног?..
Мозоли на суставах потверже камня. Тот еще кастет! Проломит ребра даже без ботинка, в ботинке — не спасет бронежилет.
«Я очень совершенная машина! — кричало тело, отвечая Хельге. — Мое предназначенье — не любить, а убивать, не ладить, а ломать, и не творить, а разрушать творенья, что создавали Бог и человек. Могучий муж — солдат и без меча, как трактор — танк без орудийной башни. Они хотят и могут убивать. В железных траках трактора, как в генах, врисовано и ждет предназначенье: он ведает, зачем изобретен, терзает землю, рвет и ранит дерн…»
Колени?..
Лица разбивали в кровь. Нередко упирались меж лопаток, пока рука сворачивала шею до смертного кряхтенья позвонков.
Бедро?..
Через бедро швыряют оземь — чтобы потом коленом придавить.
Живот?..
Вполне годится для удара и был обучен этому искусству. Прижми к нему противника, и мышцы брюшного пресса резко напряги. Тот не вдохнет, а у тебя — секунды. Используй их и делай с ним, что хочешь.
— Вот то единственное, что не убивает… Единственное! — прошептала Хельга.
А прошептав словами — повторила касаниями пальцев, губ, грудей, опять губами и — горячим лоном, принявшим то единственное, что не убивало…
— Господи!
— Простил… И ты Ему прости, — шепнула Хельга, — Он Сам не ведал, что Он сотворит. Случилось так, что — нас…
Глава 10. Увядающий натюрморт
Когда мы опомнились (когда я опомнился), было уже 18.20.
Из Клуба мы вышли не через бар, а дорогой, известной не каждому. Добежали до Плехановской бани, потоптались на остановке, проводили глазами три переполненных конки, пешком дошли до Шведского Моста и там взяли пролетку. Я отдал все мои жетоны, зато мы с ветерком промчались до самого Белого озера и успели вовремя, даже с двадцатиминутным запасом.
За всю дорогу мы с Хельгой не проронили ни слова. Видимо, не только я был ошеломлен нашей внезапной близостью — и, видимо, не только я ломал голову над тем, что же у нас с нею было: «значок» или «живое»?.. Восьмая квартира оказалась комнатой в каменном полуподвале полуторасотлетнего деревянного дома. (Почти в таком же, но по ту сторону Белого озера, прошло мое детство. Только мы жили не в полуподвале, а на втором этаже.) Единственным признаком бытового прогресса в комнате был биотический обогреватель, он же плитка. Хельга сразу же оживила его и подсыпала щебенки в раструб. Я мерз, и Хельга это чувствовала. Обогреватель захрустел щебенкой, лихорадочно замурлыкал и довольно быстро накалил свой панцирь докрасна, после чего лишь изредка похрустывал и ровно, тихо урчал. Хельга поставила на него чайник, а я занялся свертком, то и дело поглядывая на часы.
В 19.13 у нас все было готово. Водку я перелил из пакета в глиняный кувшин с крышкой, ломтики брынзы (ай да Гога!) разложил на галеты, а для селедки Хельга нашла две луковицы и порезала их кольцами.
И все это молча, не глядя друг на друга.
Как дети, ей Богу, как нашкодившие дети…
А ведь всего-то и было, что природа взяла свое — обстановка располагала. Или, все-таки, было нечто большее?
В 19.15 мичман Ящиц не пришел. В 19.20 тоже.
В двадцать с минутами я вышел на двор, покурил и вернулся. Хельга снова поставила чайник, а наш натюрморт «Ветераны будут беседовать» уже несколько подувял.
— Он не придет, — сказал я, глядя в сторону и держась за дверь.
— Он собирался прийти, — возразила Хельга. — Яков даже не искал причины, чтобы не прийти. Наоборот, ему очень хотелось выговориться. Подожди еще немного.
Она говорила, не глядя на меня, и я вдруг понял, почему: потому что я сам не хочу, чтобы она на меня смотрела и видела меня насквозь. Она совсем не ощущала себя нашкодившей девочкой… Святые сновидцы, не бывает таких женщин! Не должно быть. Разве что для нее все это настолько обычно, что…
— Нет, — сказала Хельга, и я покраснел.
— Может быть, выпьешь? — предложила она.
— Я подожду так.
Выпить мне хотелось, но лучше было не делать этого. Ника и так почувствует неладное, а уж если еще и выпью… Правда, с мичманом я собирался пить — но то с мичманом. Ника всегда ощущала разницу: пил ли я в баре с ребятами — или не только… Впрочем, сегодня она меня не ждет, а наши «сборы» могут затянуться на неделю… Всякая чушь лезет в голову.
— Я, конечно, хочу, чтобы ты остался, — сказала Хельга. — Но не только поэтому. Яков действительно может прийти, а вам это действительно нужно. Обоим.
— Да, — сказал я. — Я еще подожду.
Я сел к столу, машинально поднял и сразу опустил крышку кувшина, сложил руки на коленях и огляделся. Впервые.
В обиталище колдуньи было темновато и даже сумрачно, но очень уютно. Это был бедный и одинокий уют — такой уют могли бы создать бумажные салфеточки на полках, или бумажные занавесочки на окне. У Хельги занавеска была не бумажная, но она была застирана до мелких дырочек… А темно было потому, что живая краска на потолке, уже местами облупившаяся, почти не давала света. Светился только карниз, державший занавесочку, да и то на последнем издыхании… Кроме плитки-обогревателя, стола и четырех табуреток были буфет и шкаф (оба с потрескавшейся полировкой), кровать под пестро-узорчатым ковриком на стене и зеркало на другой стене, напротив. Увидев зеркало, я вздрогнул: верхний правый угол его был обвязан черным траурным бантом. Только теперь я вспомнил ее черную шаль (с единственной вышитой розой) и черную же оторочку плащика.
— Давно? — спросил я, кивнув на зеркало.
— Уже пора снять. — Хельга подошла к зеркалу, сняла бант и какое-то время держала его в руках и мяла, словно не зная, что с ним дальше делать. Или размышляя, на что он может пригодиться, этот значок. А потом решительно шагнула к плитке и засунула его в раструб. — Вчера вечером исполнилось ровно три года, — объяснила она.
Я прикинул, что могло быть три года назад.
— Тифлис?
— Холодно… — Хельга покачала головой и улыбнулась.
— Вильно? Минск?
— Тоже холодно.
— Цицикар? — перекинулся я в другой конец материка.
— А где это?
— На восток от Маньчжурии, в тридцати километрах от Харбина.
— Теплее, но тоже холодно.
— Неужели Мадрас? Но туда мы пришли совсем недавно…
— Нет, опять холодно.
— Значит, Парамушир, — сказал я.
Хельга промолчала.
— Парамушир?
— Виктор, давай не будем об этом. Пожалуйста. Ты сейчас не услышишь, только разозлишься.
— Сволочь, — сказал я. — Скольких же она сожрала…
— Это не она.
— Она, оно — какая разница? Нежить.
— Там нет никакой нежити, Виктор. Там жизнь. Совсем-совсем другая, не похожая на нас, но все-таки жизнь.
— Ты ее не видела.
— Видела: во сне.
— О, да! Я тоже снился Нике оттуда, и тоже очень бодро. Как с пикника… Мы все снились так.
— Ты все еще глухой, — вздохнула Хельга.
Она подошла ко мне сзади и закрыла уши ладонями.
— Глухой, — продышала она мне в темя. — Тетеря.
Ее большие пальцы холодили мне виски, мой затылок лежал у нее на груди. Я хотел скрипнуть зубами, но это было уже не нужно: злость проходила. Прошла… Хельга правильно сделала, что скормила бант своему горячему зверю. Бант был здесь неуместен, как парамуширская «снежинка». Я закрыл глаза, чтобы не видеть зеркала.
До чего однозначно все это выглядит, — подумал я. Вдова. Честно терпела три года, вытерпела день в день — и бросилась на шею первому встречному. Первый встречный оказался женат, но ее это не остановило (и его, между прочим, тоже). Природа взяла свое в «гостиничном номере» Клуба, для того и предназначенном. Схема, Значок. И кулебяка с шампанским — чтобы еще пошлее, еще однозначнее…
Я знал, что это не так. Даже Гога догадался, что это не так. Но так выглядело.
— Не читай мои мысли, Хельга, ладно? — попросил я. — Сейчас в них так много значков и так мало живого.
— Живое я вижу, — сказала она. — А значки мне не мешают — их нет.
— Ты думаешь, он придет?
— Я не знаю. Он хотел прийти… Подожди, я только сниму чайник.
Сняв чайник, она вернулась и села передо мной на корточки, и взяла мои руки в свои. Ее зеленые глаза только что не светились, и это тоже выглядело однозначно. «Значки, значки, значки…»
— Ты меня околдовала? — спросил я.
Она не ответила, зная, что мне все равно.
— Сколько тебе лет? — спросил я.
— Пятьсот, — сказала она. (И зеленые глаза, смеясь, повторили: «Пятьсот».)
— Действительно, какая разница…
— Одиннадцать. — («Одиннадцать»).
— Я понял, Хельга, извини.
— Двадцать четыре.
— Я задал глупый вопрос — просто чтобы не молчать.
— А я ответила: два раза глупо и один раз точно. Потому что тебе трудно молчать.
А потом она оказалась у меня в объятьях, и я взял ее на руки и понес к кровати — запинаясь о табуретки и задевая мешавшийся на дороге стол. Я не боялся засветиться, потому что светился изо всех своих сил. Я падал и горел — и это была не смерть, а жизнь. «На миг!» — «Разве мало?»…
Потом она снова поставила чайник, и, пока мы одевались, он закипел в третий раз. Было без четверти десять. Мичман не пришел… Мы пили чай с галетами и ломтиками брынзы, которые уже не просто увяли, а свернулись в трубочки. Чай был действительно волшебным, хотя и не сладким. Сахар, наверное, съел бы его волшебство.
Голова у меня была изумительно ясной и небывало пустой. В ней не осталось ни одного значка. Лишь где-то очень далеко маячило заплаканное лицо Ники — и эти слезы что-то означали, но совсем не то, что, казалось бы, должны были означать… Я любил это милое далекое заплаканное лицо — и я любил эти зеленые сияющие глаза напротив, и все было живое, очень живое. Ничто не мешало друг другу, не путалось и не запутывало меня. Мир был бесконечен, изумительно ясен и непривычно чист. Его не нужно было умиротворять.
Глава 11. Мичман не улыбается
Мичман Ящиц пришел в 22.17. («Идет… злой-презлой!..» — шепнула Хельга, и я сразу посмотрел на часы).
В дверь постучали — я бы не сказал, что зло, скорее, решительно, — и я пошел открывать, а Хельга поспешно пересела в уголок кровати. Наверное, чтобы не мешать нам.
Мичман не улыбался — он был уже сильно на взводе, глаза его штормили, одной рукой он держался за косяк двери. Войдя, он оглядел комнату с каким-то недобрым интересом, покачнулся и щелкнул каблуками.
— Пр-рошу извинить за опоздание, господин капитан! — Хельгу он не заметил. — Р-разрешите сесть?
— Конечно, Яков Тимурович, — вздохнул я. — Садитесь.
Он прошелся «палубной» походочкой к столу, сел и сразу, по-хозяйски, ухватился за кувшин с водкой.
— Может быть, сначала… — начал я, тоже садясь напротив.
— Вопр-росы потом, господин капитан! Отвечу — на все!
Я понял, что он хочет казаться пьянее, чем есть, — то ли боится чего-то, то ли действительно зол-презол. Значки!
— Ладно. — Я усмехнулся и подвинул ему две кружки. — Вопросы потом, если возникнут. Начнем.
Я был настроен благодушно.
Мичман налил в свою кружку. Потом, подумав, налил в мою тоже. Достал из кармана пузырек (наверное, с йодом), скрутил пробку и капнул — себе. Судя по точности движений, он был не так уж и пьян. Пузырек он аккуратно поставил на стол, а водку перемешал, раскрутив, и выпил, как воду, не дожидаясь меня. Взял трубочку брынзы с галеты, подумал, подцепил колечко лука.
— На рыбу смотреть не могу, господин капитан. Извините.
— Закусывайте, мичман, закусывайте, — терпеливо сказал я и отставил свою кружку. Полную. — Закусывайте и выкладывайте. Все, с чем пришли. А потом я вам выложу, и мы сравним.
— Р-разумеется…
Закусив, он уперся локтями в стол, уставив на меня свои голубые шторма — баллов по восемь в каждом.
— Так вот, капитан. Я почему-то предполагал, что вы хотите спросить о ком-то из девятнадцати… Это неважно, что я там предполагал. Важно, что я решил связаться с капитан-лейтенантом Антухом. В том рейсе он был первым помощником капитана на «Тихой Сапе». И он мог бы рассказать вам больше, чем я. Вот я и решил с ним связаться.
Он явно ждал от меня какой-то реакции на свои слова.
— Продолжайте, мичман, — сказал я, уже догадываясь, что я сейчас услышу.
— Капитан-лейтенант Антух оказался в «Ключах», — сообщил мичман. — У капитан-лейтенанта Антуха пошатнулось здоровье, и его направили туда подлечиться.
— Так, — сказал я. — Давно?
— Месяц назад.
«Как моего Помазанника», — подумал я.
— В том рейсе, — продолжал мичман, — кроме Антуха и меня, было еще пятеро томичей. С ними я тоже попытался связаться — и оказалось, что все они либо в «Ключах»… — он замолчал.
— Либо? — спросил я.
— Либо сменили место работы. Скажем так.
— И где они теперь работают?
— Делопроизводителем в Консилиуме — один. Все остальные в «Ключах». Лечатся… — Мичман нехорошо усмехнулся и еще раз оглядел комнату, слишком явно не замечая Хельгу.
— Хорошо, что вы все это узнали, — сказал я. — Это сильно облегчает мою задачу — а то я, право, не знал, как начать…
— Начните издалека, — посоветовал мичман. — Справьтесь о моем здоровье. Спросите, не мучают ли меня кошмары, не выходят ли мои личные сны из-под моего контроля. Потом осторожно попытайтесь меня завербовать. Если я вас не пойму, предложите прямо. А когда наконец откажусь, направьте в «Ключи».
Я ошеломленно молчал.
— Ведь вы ОТТУДА, капитан? А это, — он опять оглядел комнату, — ВАША явочная квартира? О, привет, хозяюшка! — наконец «заметил» он Хельгу. — Вам платят — или вы за так, из чувства долга?
Я встал и ударил его по лицу.
— Виктор!.. — крикнула Хельга.
Мичман по частям подобрал себя с пола, постоял напротив меня (шатаясь, вытирая тыльной стороной ладони кровь с губ и глядя вниз) — и вдруг провел быстрый и неожиданно мощный для него свинг справа. Попытался провести… Я усадил его на табуретку и некоторое время подержал, помня про печень и делая больно не там, а в других точках.
Когда он перестал дергаться, я налил ему водки, капнул в кружку из его пузырька и сказал:
— Пейте и слушайте.
Сначала я выложил ему все, что узнал в кабинете № 18 от болтушки Зины, а потом рассказал (в общих чертах) о том, как я стал дезертиром.
— Теперь вам ясно? — спросил я.
— Извини, капитан… — он протянул мне руку, и я пожал. — И ты, девочка, извини, — сказал он Хельге.
Хельга вместо ответа улыбнулась (довольно жалко) и пересела к столу.
Взгляд мичмана был уже спокоен, без никаких штормов, но и улыбочки, от которой «мороз по коже», тоже не было.
— Дерешься хорошо, — сказал он мне.
— Обучен.
— А делать что будем?
Об этом я еще не думал, и этот вопрос застал меня врасплох. Не излагать же ему про камешек…
— Собственно, я сначала хотел предупредить, — сказал я, — хотя бы тех, о которых узнал.
— Предупредил. Дальше что? Разоружаем жандармский участок и — вперед, на «Ключи»? С «першами» против полевых РТ? А поливать из них нас будут сами же пациенты — ради спокойного сна сограждан. Не все, конечно, а только те, что в блоке выздоравливающих.
— Я не стратег, мичман, — сказал я, помолчав. — Я тактик. И такую задачу, если она будет передо мной поставлена, либо выполню, либо лягу.
— Ляжешь, — пообещал мичман.
Я не возражал — я знал, что такое полевой РТ. 512 импульсов, и можно разряжать все четыре барабана одновременно…
— Мне, капитан, «Ключей» никак не миновать, — сообщил мичман. — Либо «Ключи», либо… в общем, я надеялся не дожить.
— Сны? — спросил я.
Мичман кивнул.
— После Парамушира?
— Не только.
— Кстати, как вас туда занесло? Я что-то не припомню ни одной операции с участием Отдельного Парусного. Блокада?
— Совсем некстати нас туда занесло. И даже не заносило: мимо шли, имея предписание пройти мимо и ни во что не вмешиваться. Но люди за бортом — это люди за бортом…
— И они оказались не люди, — понимающе кивнул я.
— Дурак ты, капитан, — спокойно сказал мичман. — Дерешься хорошо, а дурак. Люди — всегда люди. Особенно за бортом.
Я не стал спорить: на Парамушире мичман все-таки не был.
— Расскажи, Яков, — попросила Хельга. — Ты ведь хотел нам рассказать. Расскажи, может быть, он услышит… И разденься, тут жарко.
— «Яков», — повторил мичман, снимая куртку и расстегивая жилет. Неплохо звучит. Обычно меня зовут Яшей, а если Яков, то почему-то обязательно с отчеством. На борту я был «Ящик». Или «Длинный Ящик», в просторечии — «Гроб»…
— Хельга, — сказала Хельга.
— Виктор, — представился я.
— Договорились, — резюмировал Яков, садясь и наливая себе. — Догонишь, Виктор, или начнем с нуля?
— С нуля. — Я поднял кружку. — Хельга не будет.
— Вижу, — кивнул Яков. Капнул, размешал, и мы наконец-то выпили.
…На Парамушире Яков не был. И в ситуации, видимо, так и не разобрался. Для него все девятнадцать мокрых пацанов до сих пор оставались людьми, и то, что произошло на берегу, он до сих пор воспринимал не как жестокую необходимость, а как бессмысленную жестокость. Он полагал себя причастным к преступлению. Он сравнивал это с «расстрелом за двойку по теологии, вместо обычных розог, которые, кстати, тоже запрещены». Он считал этих пацанов просто-напросто дезертирами — но все-таки людьми. Он не был на Парамушире.
А дело было ясное. Три года назад (через год после моего дембеля) томские и екатеринбуржские десанты сдали остров с рук на руки иркутянам и красноярцам. Северная половина острова была дезактивирована, очищена от нежити и подготовлена к планомерному заселению. Нежить была локализована на юге, в районе все еще действующих вулканов. Поперек острова был насыпан вал, а на всех ключевых высотках вдоль него стояли полевые РТ (они же ПРТ-512), которые время от времени поливали гребень вала, выжигая все, что лезло с юга. Жить было можно.
Тогда, три года назад, еще никому не приходило в голову связать активность квазибиотики с вулканической активностью. Когда нежить поперла через вал уже не отдельными «волокнами» и «обручами», а целыми эскадрами «парусов», иркутяне не придумали ничего умнее, кроме как забросить парочку «деток» южнее вала. Винить их не в чем: я на их месте тоже не придумал бы ничего умнее, я тоже попытался бы создать в тылу у нежити очаг радиоактивности, чтобы хоть на время отманить ее назад. Но эффект получился противоположный.
«Детки» растолкали два дремавших вулкана и расковыряли третий, до той поры считавшийся обычной сопкой, — и Парамушир опять стал адом. В течение полугода иркутяне планомерно отступали по почти очеловеченной земле, пока не уперлись в пригород Касивобары, откуда начинали мы. Здесь они были смяты и сожраны, и перестали быть. Красноярцы, составлявшие гарнизон города и порта, вообще не имели никакого опыта столкновений с нежитью. Почти все они, за исключением офицеров, были первосрочники, плохо вызубрившие устав и вряд ли добравшиеся до спецнаставлений. Офицеров прогоняют через четырнадцатые кабинеты, офицеры хоть какой-то навык, пусть не закрепленный в деле, имеют. Пацаны и этого не знали. Нежить у них на глазах пожирала людей, и пацаны не понимали, что происходит. Внешне не происходило ничего целую неделю, а то и больше, человек оставался вроде бы человеком, лишь незначительно замедлялись физиологические реакции, да на третьи сутки наступала полная глухота и менялось цветоощущение.
А спустя неделю пацаны перестреляли командиров (которые пытались делать то, что надо) и сыпанули из Касивобары, как тараканы из горящего дома. Причем, сыпанули все: и те, у кого был иммунитет, и те, кто был уже сожран, да пока что не знал этого…
И вот тут выплывает под свет юпитеров баркентина «Тихая Сапа» с боцманом Ящицем на борту. Марсовый на баркентине был зорок до чрезвычайности, капитан (вопреки предписанию) милосерден, а боцман энергичен и деятелен. Девятнадцать красноярцев-первосрочников были выловлены из воды, подняты на борт, обсушены и накормлены макаронами с маргарином (семеро из них наверняка не стали есть!), и спустя четыре часа доставлены в Кихчик — базовый порт десанта. Там, прямо на берегу произошло неизбежное — именно то, что боцман счел и продолжает считать «бессмысленной жестокостью»: людей отделили от не людей и не людей сожгли. А «Тихая Сапа» в течение пятнадцати суток стояла на якоре в трех кабельтовых от берега, под прицелом береговых РТ порта. Когда карантин был наконец-то снят, баркентина развернула паруса и, выполняя новое предписание, легла на курс запад-тень-юг. Спустя неполные сутки она усилила собой блокаду Катангли, который не то вознамерился отделиться от Сахалинской Демократии и объявил себя вольным городом, не то просто отказался платить какой-то налог…
Вот, собственно, и все, что связывало мичмана с Парамуширом. И этого оказалось достаточно, чтобы личное дело Ящица заинтересовало ИХ?.. Я не понимал, почему. И дал себе слово: попытаться найти поручика Титова и послушать его. Полковника Тишину искать было незачем — о нем я знал все. Ну, во всяком случае, достаточно, чтобы не желать его видеть.
Слушая мичмана, я, разумеется, дополнял его рассказ фактами, известными мне. Мысленно — ни в коем случае не вслух. Ему нужно было выговориться, и я дал ему возможность выговориться… У него до сих пор перед глазами закипает и светится красным гранит на том месте, где только что стояли семеро из девятнадцати. Он все еще помнит, как до самого вечера над этим местом дрожал и струился нагретый воздух… Да, помнить такое тяжело. В особенности, если не знаешь, в чем тут дело, а самого себя считаешь соучастником. Необходимо выговориться и выплеснуть вон эмоции, прежде чем обретешь способность мыслить логически и сумеешь увидеть картину пережитого во всей ее полноте. Очень странно, что Якову до сих пор никто ничего не объяснил. Неужели я — первый парамуширец, которому он все это рассказывает?
Едва я успел об этом подумать, как выяснилось, что нет, не первый. Яков знает, что такое нежить — со слов. Знает, но продолжает считать тех семерых людьми.
— У вас на борту во время карантина проводились медицинские тесты? спросил я. — Слух, зрение, скорость реакции… Нет? Значит, за вами просто наблюдали с берега — и сожгли бы немедленно, если б над палубой взвилось хоть одно «волокно»! Потому что только на материке нам не хватало этой заразы!
— И это — по-людски? — спросил Яков.
— А как по-людски?
— Высадить их обратно на остров, и пусть бы дожили. Три дня, ну два, ну день, сколько им там оставалось…
— А если бы через пару часов те семеро вошли в активную фазу? Не меньше двух третей экипажа были бы уже не люди!.. В десанте иммунитет — у двадцати девяти процентов личного состава, и заранее нельзя сказать: есть он у человека или нет.
— Ладно, Виктор… — Яков махнул рукой и налил. — Все это я слышал и знаю. А пацанов жаль.
— Ты не парамуширец, — вздохнул я и поднял кружку.
— Да, — сказал он, капая в свою. — Я не парамуширец.
Глава 12. Субботняя проверка
Яков ушел за полночь, пообещав утром заскочить в штаб и забрать мой пуховик, а я остался у Хельги. Пешком через весь проспект, да еще ночью холодно… И Ника меня все равно не ждет… А завтра до обеда надо поискать Титова. Если он еще не ТАМ, я найду его в баре. По субботам поручик Титов торчит в баре. Полковник Тишина по субботам торчит в музее — в баре он появился только однажды, еще подполковником, и вот уже четвертый год как перестал появляться. При мне.
До Парамушира майор Тишина работал у НИХ и, по всей вероятности, чем-то ТАМ провинился. На Парамушире же он моментально окопался в штабе соседнего с нами ДД-5, так как ни на что иное был не способен. А спустя две недели пятый дивизион остался без штаба. Тишину мы отрывали от полевого разрядника по частям, и все это время он продолжал давить гашетку, хотя барабаны ПРТ-512 были давно пусты. Штабные фургоны, все три, майор сжег настолько основательно, что даже не удалось выяснить, был ли у кого-нибудь из штабистов иммунитет (и было ли вообще нападение). У Тишины иммунитет был — и после обязательного 15-суточного карантина он отбыл на материк. Не исключено, что внеочередную звезду он получил как раз за этот подвиг, а по срокам быть бы ему разве что подполковником…
Где сейчас работает полковник Тишина, я не знаю и знать не хочу, а в Клубе он является одним из трех сопредседателей Исторического Общества. Вот уже год, как он давит на все инстанции, тщась отобрать у нас пару «гостиничных номеров» для двух новых экспозиций: «Миротворческие традиции Запорожской Сечи (рейды на запад)» и «Ермак Тимофеевич — первый русский миротворец в Сибири».
Предупреждать этого «историка» о чем бы то ни было глупо и небезопасно. В особенности, об опасности ОТТУДА. Потому что либо ОНИ ему ничего не сделают — либо ТУДА ему и дорога. Такие спят спокойно, личные сны у таких приятны и в меру волнительны.
А что сегодня приснится мне? В ночь с пятницы на субботу мне, как правило, снится всякая ерунда, стыдно рассказывать. Белый слон хулиганит. А тут еще водка…
Хельга уже спала (не у меня на плече, как любит Ника, а так же, как я, на спине) и держала меня за руку. Плитку она усыпила на ночь, но я не мерз, наверное, потому, что Хельга держала меня за руку… И карниз, державший занавесочку, тоже спал, но у краски на потолке уже началась старческая бессонница, она продолжала слабо светиться. Еще месяц-другой, и она наконец-то уснет навсегда… Уже засыпая и сам, я вдруг подумал, что, кажется, я знаю, что ИМ нужно от парамуширцев. Это была настолько дикая мысль, что я поспешно отнес ее появление на счет водки и постарался прогнать. Это был типичный значок — его не было. И, чтобы прогнать значок, я стал снова думать о поручике Титове: увижу ли я его завтра в Клубе?
Если бы у Хельги был транслятор — все было бы просто. Я приснился бы Титову, не называя себя, и попросил бы его зайти утром в бар. И если бы он не пришел, я бы точно знал, что он уже ТАМ. Но транслятора у Хельги нет, только приемник, да и тот одноканальный. Хельга всегда спит одна… И сниться ей вот уже три года, как некому, значит, транслятор она продала. А пенсия… Вдовы, живущие на пенсию, рано или поздно продают все и приходят в Клуб. В номера…
Я скрипнул зубами, и Хельга моментально проснулась.
— Ты злишься, — шепнула она. — Не надо.
— Я не злюсь. Я пытаюсь уснуть.
— Ты злишься на значки — и видишь только их. Хочешь, мы поспим вместе?
— Мы и так спим вместе.
— Нет, я имею в виду третье: спать и видеть один и тот же сон. Хочешь?
— Значит, у тебя есть транслятор?
— Он не нужен. Наоборот, он только мешает.
— Слишком много значков? — улыбнулся я.
— Ты уже все понимаешь. Еще чуть-чуть — и будешь совсем колдун. Тебя усыпить?
— Попытайся.
— Поспим вместе?
— Да.
— Спи, — шепнула Хельга, и я уснул…
Материк был громаден и еще никак не назывался. Название ему придумают потом, когда его не станет. Очень красивое название, оно звенит и светится через весь материк. Вот так:
Г О Н Д В А Н А
Только это будет уже не материк, а сплошной значок… А пока что он весь живой: двигается, дышит, стареет.
Я опустился на алмазный пляж северного побережья. Когда материк станет значком, этот пляж уйдет под Гималаи. Алмазов не станет. Они обнажатся в других местах, но перестанут быть просто песком и камнями. Песчинки и камни окажутся значками, из-за которых начнут убивать. Из-за значков всегда дерутся и убивают, и получается, что убивают сами значки. Которых нет. Которых больше, чем даже песчинок на этом пляже… Я посидел у воды, пересыпая песок из ладони в ладонь, а потом отряхнул ладони и побрел вглубь материка, прочь от пляжа. Хорошо, что он уйдет под Гималаи. А то ведь жутко подумать, какая свалка могла бы тут произойти спустя сотни миллионов лет.
Я продирался через густые заросли высоченных папоротников, протискивался между жесткими зелеными стеблями и увязал по щиколотки в жирной хлюпающей земле. Из-под ног, пищ`а, порскало что-то живое. Со всех сторон рычало, ворочалось, чавкало, предсмертно орало, ликующе и трубно возвещало о том, что сумело выжить и вот сейчас насытится.
Потом я брел, увязая по щиколотки в горячем песке. Что-то живое с сухим шелестом порскало из-под ног и, сухо шелестя, зарывалось по самые кончики дрожащих, звонких от сухости хвостиков. Кто-то огромный, натужно хрустя сухожилиями, полз вдалеке, равномерно вбивая в барханы чугунные тумбы ног, беспорядочно ныряя в песок маленькой головкой на длинной шее и влача бесконечный, как товарняк, чешуйчатый хвост. Трескучий рой диковинных насекомых, с мою ладонь каждое, снялся с гребня ближайшего бархана и завис надо мной, двигаясь одновременно и резко, как вертолеты на смотру, то влево, то вправо.
Вода в реке, которую я переплыл, была желтой, вязкой и тухлой, как недоваренный позавчерашний кисель. Потому что в ней тоже жили — по крайней мере, начинали жить.
Отряхнувшись, я вскарабкался по невыветренным базальтовым обнажениям, на цыпочках взбежал по обжигающему лавовому склону и заглянул в кипящий кратер. Гора жила. Я грудью чувствовал, как она ворочается и вздыхает.
Я отпрянул, подпрыгнул и стал подниматься, уклоняясь от свистящих перепончатых крыльев с когтями на концах и от лязгающих рядом крокодильих пастей. Воздух был насыщен жизнью.
Материк жил и собирался жить миллионы лет. Ему не нужно было как-то называться. Я оглядел его сверху, весь. Мне было одиноко. Ни один камешек не был просверлен насквозь, ни один прутик не был гладко обструган и заострен с конца — тоска. Я прищурился одним глазом, протянул руку и пальцем вывел через весь материк невидимое: «Гондвана».
Материк треснул и разломился на пять громадных кусков. Треугольник с алмазным пляжем, поворачиваясь, двинулся навстречу северному материку — они встретились в грохоте горообразования. Вздыбились Гималаи и погребли под собой несостоявшиеся значки.
Хельга сильно сжала мою руку, и я проснулся. Грохот горообразования повторился: в дверь беспорядочно стучали кулаками.
— Кто это может быть? — шепотом спросил я.
— Не знаю, — шепнула Хельга.
— Не Яков?
Она отрицательно помотала головой и прижалась ко мне.
— Сколько их?
— Я их не вижу! — отчаянно прошептала она.
— Лежи спокойно. — Я бесшумно встал и начал быстро и бесшумно одеваться.
— Есть кто живой? — заорали за дверью и опять грохнули.
— О, Господи, — с облегчением сказала Хельга, соскакивая с кровати. Сегодня же третья суббота — я совсем забыла!
— У вас по третьим? — спросил я.
Она кивнула, уже запахнув халатик, оживила карниз и пошла открывать. Я присел к столу. Субботняя проверка — всего-то навсего. Потерпим. У нас она по вторым субботам месяца, а в этом районе, оказывается, по третьим. Я посмотрел на часы. Было 03.42.
— Крепко спите! — сказали за дверью и шагнули через порог. Их было трое. Никого из них Хельга не «увидела». Хельга видит живое. Колдунья больше, чем ведьма, но бесполезней.
— Служба Консилиума, — представился один из троих, демонстрируя нам с Хельгой значок на отвороте кителя.
Значок… Я усмехнулся и сказал:
— Здравствуйте.
— Здравствуйте, сограждане. Напоминаю: все, что мы увидим и услышим здесь, является врачебной тайной.
Второй сразу же после этих слов подошел к приемнику над изголовьем кровати, сорвал пломбы, снял кожух и начал там копаться. Третий водрузил на стол ящик с аппаратурой, присел на табуретку и занялся настройкой.
— Хозяйка квартиры вы? — спросил первый, открывая блокнот.
Хельга кивнула.
— Парадонова Ольга Михайловна? — прочел он.
— Да.
— А вы, сударь? — он повернулся ко мне.
— В гостях, — сказал я. — Тихомиров Виктор Георгиевич.
Первый записал.
— Томич или приезжий?
— Томич.
— Хорошо-о… Профессия?
— Дизайнер-инструментальщик.
— Тво-орческая… — пробормотал он, записывая. — Военнообязанный?
Я кивнул.
— Звание?
— Капитан резерва, десант. ТРДД-4.
— Кома-андный… деса-ант… Четыре?
— Я живу не в этом районе. На северо-востоке.
— Понимаю. Тогда, если не возражаете, начнем с вас. Еще раз напоминаю: все, что вы мне скажете, является…
— Врачебной тайной, — закончил я. — Начинайте.
Третий протянул мне обруч, и я надел его на голову.
— Наблюдайте вон за той стрелкой, — сказал первый, — и вы сами увидите, насколько правдивы будут ваши ответы.
— Начинайте, — повторил я. — Быстрее начнем, быстрее закончим.
— Вы видите личные сны? — спросил он.
— Да, — сказал я. Стрелка не шелохнулась.
— Что вы видели в последний раз?
— В моем личном сне? — уточнил я. (И подумал: не в Хельгином, а в моем).
— Разумеется.
— Пирожное. — Стрелка чуть-чуть шевельнулась.
— Вкусное? — после паузы спросил первый.
— Не знаю. Наверное, сладкое.
— Вы не ощутили вкуса?
— Я его не ел. Я угощал моего друга.
— То есть, вы видели во сне друга… Он любит пирожные?
— Он большой сладкоежка, — сказал я, думая о своем белом слоне. Очень большой.
— Гм… — Первому что-то не нравилось в поведении стрелки. Мне тоже. Вам было приятно угостить друга?
— Я несказанно обрадовался, когда он попросил пирожное. Я сам ему предлагал, он долго отказывался, но потом наконец взял… — (Стрелка подрагивала, но едва заметно).
— Так-так… Он, этот ваш друг, живой?
— Живее, чем вы.
— Понимаю. Но я-то имею в виду: не во сне, а в действительности. Он не умер? То есть…
— То есть, не являются ли ко мне в снах души умерших? Я не знаю, жив ли мой друг, или уже умер. Последний раз мы виделись двадцать два года тому назад. В детстве. (Вот теперь я точно не соврал. Я не знаю, жив ли тот белый слон и сколько вообще живут слоны).
— Ностальги-ия… — бормотал первый, записывая. — Детская дру-ужба… доброжела-ательность. Что ж, замечательно! Для десантника у вас — на редкость здоровые личные сны. Теперь о трансляциях… Какой уровень восприятия идеологических трансляций вам доступен?
— Лекция. Иногда диспут.
— Участник диспута?
— Слушатель.
— При-мити-ивный… В этом нет ничего плохого, господин Тихомиров. Наоборот: чем проще, тем надежнее. Та-ак… Какую трансляцию вы видели в последний раз и когда?
— Гастрономическую. Вчера. — (Сон Хельги не был трансляцией: я видел его без транслятора. Стрелка не шелохнулась).
— В какой интерпретации?
— Завтрак в молочной столовой.
— Примити-ивная… Было вкусно?
— Сытно. — (Я не ел: я был сыт. Стрелка не шелохнулась).
— Благодарю вас, достаточно, — сказал первый. Я снял обруч. — У вас крепкая нервная система. Для десантника — преотменно крепкая. Уступите место хозяйке.
Я уступил.
Хельга поведала им, что видела много алмазов на берегу, но такого берега на самом деле, наверное, нет. Да, она очень хотела бы там побывать. Нет, алмазы ей не нужны — просто побродить, поглазеть. Попутешествовать. Нет, она нигде никогда не бывала, кроме Томска. Уровень восприятия трансляций у нее тоже оказался примитивным…
— Мечты-ы… — бормотал первый, записывая. — Тяга к перемене ме-ест… — Кажется, он был удовлетворен.
— В порядке? — спросил он у того, кто рылся в приемнике.
— Одноканальный, — ответил тот, надевая кожух, и щелкнул пломбиром. Настройка не сбита. Альфа-ритмы в норме.
— Не сбита… одноканальный… Следующую ночь вы проведете здесь, господин Тихомиров? Напоминаю: все, что вы…
— Является врачебной тайной — помню… Я не знаю, где я проведу следующую ночь.
— Поймите меня правильно: я вовсе не намерен вмешиваться в вашу личную жизнь. Но если вы будете спать здесь, необходимо установить еще один приемник. Или можно заменить этот на двухканальный, так будет дешевле. — Он покосился на кувшин и пошевелил носом. — Даже дешевле, чем водка.
— Я заплачу, — сказала Хельга. — Они ведь у вас с собой?
— Не надо, — возразил я. — Следующую ночь я проведу дома.
— Ну, а если все-таки здесь, — сказал первый, — то будьте добры, господин Тихомиров, зайдите днем в Консилиум и купите приемник. Или возьмите напрокат — это и вовсе гроши. Не следует подводить хозяйку…
— Не беспокойтесь, — заверил я. — Идеологических трансляций я не пропускаю. К тому же завтра будет интересная тема: подвиг Великомученика Степана. Я с детства преклоняюсь перед этой исторической личностью. Он был истинный миротворец!
(Обруча на мне не было.)
— С детства? Любопытно… — пробормотал первый. — А впрочем, раз вы стали офицером Миротворческих Сил, вам было виднее. Спокойных снов, сограждане!
Третий закрыл свой ящик, и они наконец-то ушли.
Глава 13. Быть живым
— Значит, ты — Парадонова? — спросил я, когда они ушли. — Одно время у нас были на вооружении РТБИ-16 с «затворами Парадонова».
— Да, я их помню, — сказала Хельга. — Такие живые штучки, которые не хотят работать в чужих руках — засыпают.
— Вот-вот — очень умные штучки. Но каждый все-таки старался раздобыть обычный затвор и таскал в кармане. На всякий случай… Так он был конструктор? Не десантник?
— Десантник тоже. Но главным образом артабиолог. Искусственные формы жизни.
— Наверное, не меньше полковника, при такой-то голове?
— Ефрейтор… — Хельга улыбнулась. — Для военных он больше ничего не придумал. Будем досыпать? Пятый час.
Я кивнул и стал раздеваться. Хельга усыпила карниз, мы снова легли, и она взяла меня за руку.
— Про Гондвану — это он тебе рассказывал? — спросил я.
— Мы с ним часто видели этот сон. Он любил все живое.
— А как он попал на Парамушир?
— Как все… Правда, он сам хотел туда попасть. Он следил за корякскими разработками и сильно недоумевал, когда их засекретили. Он не верил, что их возможно использовать в военных целях, для убийства… А потом случилась эта история с полигоном на Парамушире. Он очень обрадовался, когда получил повестку и узнал, что летит туда. Говорил: «Вот хорошо, разберусь на месте!..»
— Разобрался?
— Почти сразу… Это оказалась жизнь. Она действительно не убивает — в ней нет злобы. В любом человеке, даже в самом добром, больше злобы, чем в ней во всей.
— Ну-ну…
Хельга вздохнула.
— Я все еще глухой, да? — улыбнулся я.
Она вместо ответа прижалась ко мне и погладила по щеке.
— Ты утром уйдешь домой? — шепнула она. — К Нике?
— Я люблю ее, Хельга. Честно. Это не значок.
— Я вижу…
«Тебя тоже», — подумал я.
Она кивнула и легла мне на плечо. Как Ника.
— Давай спать, — шепнула она.
— Поспим вместе? — спросил я.
— Нет. Просто спать. Тебя усыпить?
— Да.
— Спи…
…Хельга разбудила меня в половине девятого — Яков подходил к дому, и она «увидела» его. Мой пуховик он принес на себе. Забрать его оказалось просто: никто меня в штабе вчера не хватился. Никого из первосрочников тоже не теряли — у них была пробная мобилизация. Построили на первом этаже, провели перекличку и отпустили. На радостях, что обошлось, они сразу брызнули по домам и пооставляли в гардеробе кто что. Сейчас прибредают поодиночке, все как один с похмела, и забирают.
Яков не стал дожидаться чая, он только спросил, есть ли еще водка. Водка, слава Богу, была. Он выпил, предварительно капнув из своего пузырька, зажевал колечком лука и ушел. Ему нужно было работать: печень, кажется, немного отпустила…
Хельга заварила чай, мы сели его пить и пили долго.
— Ты сразу домой? — спросила она, когда мы выпили весь, намолчались глазами, и я уже надевал свой пуховик.
— Сначала в Клуб. Надо предупредить еще одного.
— Виктор, повестки не было, — настойчиво сказала Хельга.
Я покивал.
— Вот увидишь: Яков не получит никакой повестки!
— Я понимаю, Хельга… — терпеливо сказал я. — Повестка — это значок. Но повестка всегда значок.
— Тебе показалось, что это повестка, а это был какой-то другой значок. Ты запутался в значках. Один ты не любишь, но принимаешь: ты его ждал. А от другого ты отталкиваешься всем живым, что в тебе есть. Рыба видит, что червяк на крючке — и все равно хватает его. Но иногда вместо червяка на крючок насаживают просто шерстинку…
— Военные сны однозначны, Хельга. Эти значки ни с какими другими не спутаешь.
— Виктор, пожалуйста, если тебе снова покажется, что ты получил повестку — не ходи туда!
— Я офицер, Хельга. И это может оказаться действительно повестка. Червяк, а не шерстинка.
— Сначала найди меня, ладно? Я тебе скажу: запутался ты или нет. Пожалуйста.
Я обнял ее и поцеловал ее зеленые глаза.
— Упрямый… — всхлипнула она, пряча лицо у меня на груди. — Глухой… Такой живой — и такой глухой… Ну тогда хотя бы не ищи того, который жег фургоны. Который хочет забрать у вас номера и сделать их совсем мертвыми не ищи его, ладно?
— Вот уж кого я совсем не намерен искать!
— Вообще не встречайся с ним!
— Он меня сам избегает — и правильно делает. Был у меня с ним один разговор… прикосновениями. Вот после этого разговора он меня избегает.
— И ты его избегай. Как его зовут?
— Полковник Тишина.
— Я запомню. Если вдруг с тобой что-то случится, я буду знать, что это он. И такие, как он.
— И что ты с ними сделаешь?
— Я стану ведьмой!
Я заглянул в ее зеленые глаза — и мне стало страшно. Не за полковника Тишину. За Хельгу.
— Оставайся колдуньей, — попросил я.
— А ты — живи. Живи, слышишь? Будь живым.
— Договорились. Буду.
— Иди! — Хельга высвободилась из моих объятий и, пятясь, пошла от меня, пока не уперлась в стол. — Иди в свой бордель. Потом иди к своей жене. — (Это были значки. Ее глаза говорили совсем другое — и я слышал, что именно…) — Уходи. Живи.
Она отвернулась, отпуская меня, и я ушел…
Этот район Томска я хорошо знал — он почти не изменился за двадцать лет. А может быть, и за столетие. Может быть, он был таким еще при Великомученике Степане. Разве что яйцекладущие белки тогда еще не вили гнезда под стрехами деревянных домов, да у лошадей еще не вырастали рудиментарные крылышки: это началось недавно, после 147-й аварии на Северском заводе.
«Живи…» — думал я, шагая и ежась на утреннем холодке. Я не мерз, потому что на мне был пуховик, а просто ежился по привычке. «Живи». Этот значок может означать слишком многое. Живет ли, например, полковник Тишина? Или Хельге нужно стать ведьмой, чтобы увидеть его? Живи… Я улыбнулся небу, грачам, яйцекладущей белке, которая сердито затрещала на меня из своего гнезда… Я буду жить. Еще чуть-чуть — и стану совсем колдун. Это так много и так бесполезно.
С Воскресенской Горки я решил спуститься не там, где мы с Хельгой бежали вчера, а более прямой дорогой: через Обруб, дворами, задами и переулками, и очень скоро вышел на площадь Святых Сновидцев. Отсюда было уже рукой подать до Клуба.
Посередине площади, на своем исконном месте, был недавно установлен памятник Сновидцу Владимиру, не то отреставрированный по древним фотографиям, не то отлитый заново по ним же. Просветленный взор Сновидца устремлялся в даль. Туда же простиралась его рука, указуя не то на Дворец Сновидений, не то на Окружной Консилиум. А может, ни на то, ни на другое, а на медный бюст Великомученика Степана между ними… Как гласит официальное предание, сто лет тому назад в одном из этих зданий (скорее всего, в Консилиуме, тогдашней мэрии) Степан принял муку. Толпа озверелых коммерсантов била его ногами. А он безропотно подставлял то правую, то левую ягодицу, приговаривал: «Бог вас простит!» — и толково, но тщетно проповедовал своим мучителям политику Первого Российского президента, умиротворявшего парламент. Думается, что легенда сильно приукрашена: я бы на месте этого великомученика… Ну, да историкам виднее.
Юные Миротворцы, построенные возле бюста в каре, давали свою Первую Присягу. Все они были в пластмассовых касках и с деревянными макетами разрядников через плечо… Двадцать лет назад этого бюста не было, а Великомученик Степан тогда считался предателем. Мы давали Первую Присягу в гимназии, возле стенда «Подвиги соколов Жириновского». Теперь в гимназиях не те, иные стенды — но похожие на те. Все течет, все меняется, все остается таким же, как было. Живое путается в значках. У лошадей вырастают крылья, но лошади не летают.
«Живи…»
Буду, Хельга. Буду, моя золотая колдунья. Наверное, это очень непросто — жить, но я постараюсь.
Только сначала — сегодня, сейчас — я должен предупредить Титова. Поручик Титов обязательно торчит в баре, если еще не ТАМ. Может быть, мы с ним вместе что-нибудь придумаем. Может быть, он еще не махнул на себя рукой, как мичман Ящиц. Может быть, он тоже захочет жить…
В Клубе было по-субботнему оживленно, не то что вчера.
Снизу гремел и аритмично взвизгивал рок-симфо-банд, сосланный в подвал, сверху дряхлое пиано в дуэте с дряхлым геликоном интеллигентно возражали благородным «шейком». Пятеро поддатых ребят в синих фартуках на голые торсы волокли куда-то ящики с гипсом и запинались о неожиданные ступеньки. Судя по царапинам и белым полосам на полу, один раз они здесь уже проходили. Из распахнутых дверей спортзала доносились топот, сопенье, глухие удары, женские взвизги и равнодушные громкие «брэк!». Когда я проходил мимо, в меня едва не влетел ногами вперед костлявый детина с резиновым ножом в зубах и выкаченными глазами — но я успел через него перепрыгнуть. Вчерашний первосрочник, а ныне уже ветеран, со стянутой шрамом щекой и ненормально раздутыми бицепсами, провел под локоток скорбную даму в черном, жадно жря глазами еще не вполне смелый вырез. Бережно пронесли куда-то восковую фигуру в стрелецком кафтане. Безголовую. Голову несли отдельно. Видимо, для новой экспозиции: «Умиротворение стрельцов Петром Великим». На кухне готовилось что-то восточное, пряное, очень живое и, по всей вероятности, из натурального мяса — значит, Гога сумел добыть баранину… Но вот, наконец, потянуло знакомым до боли: табачно-спиртным душком и слитным гулом рассудительных бесед вполголоса, яростных выдохов, проклятий сквозь зубы и приглушенных истерик, маскируемых под беззвучный хохот…
Перед самым баром, уже выходя из «хитрого» коридорчика, я встретил полковника Тишину. Он был при всех регалиях, влек за собой степенную группу дородных мужей в дорогих костюмах, выразительно жестикулировал и рассказывал, как тесно музею в трех кабинетах, как негде им там развернуть новые экспозиции и какие безобразия творятся порой вон за тем, например, окошком. Когда я проходил мимо, полковник усилил жестикуляцию и возвысил голос, но при этом (наверное, рефлекторно) втянул голову в плечи… Я стиснул зубы, заставляя себя пройти мимо этих значков.
Будем жить.
Глава 14. Белый слон
Главное для человека — это сон. Уточним: не просто сон, а спокойный, со сновидениями. «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой!». Прав был старик Беранже, хотя при жизни его мало кто понимал… Там у него еще две строки есть в этом же четверостишии, но они, наверное, просто для рифмы, потому что не запоминаются. «Золотой сон» — вот что главное. Честь тому, кто его навеет. Все остальное, включая безумца — поэтический гарнир и технология.
Увы, не любой человек в человечестве способен и воспринимать «золотые сны», и верить в них всей душой. Сны у людей бывают не спокойны, а очень даже наоборот. Кое-кто (их мало) и вовсе не видит снов. Такие всегда раздражительны, мечутся, вершат непредсказуемые поступки — короче говоря, они больны. Как правило, неизлечимо.
Такими занимается Консилиум — их выявляют, следят за их перемещениями, ограничивают как сферу их деятельности, так и доходы. То есть, давая больному человеку возможность скромно и в то же время достойно жить, лишают его возможности крупно вредить окружающим.
Теми из военнообязанных, кто сны видит — но сны не спокойные, не «золотые» — ими занимается Особый Отдел. У миротворца должен быть спокойный сон, а иначе какой он, к чертям, миротворец?
Несведущие люди выдумывают про Особый Отдел всякие ужасы… Ничего похожего! Обычный кабинет — стол, стулья, сейф, детектор лжи, бумага и стило — все!.. Никаких там «заплечных дел мастеров», никаких прижиганий окурками, иголок под ногти и прочей средневековой чепухи. Сидят два человека. Беседуют. Один из них болен, измотан, издерган — его замучили кошмары, и он боится. Другой спокоен и доброжелателен. Как врач.
Он и есть врач, даже если у него инженерное образование или вообще никакого образования. Тут главное — спокойствие и доброжелательность.
Особые отделы следят за психическим здоровьем резервистов. И тех, кто, увы, серьезно болен, направляют на лечение. В самом крайнем случае мы передаем личное дело инвалида МС в Консилиум — но такие случаи действительно, крайне редки. Чаще человека удается спасти, вернуть к полноценной жизни.
У нас очень много работы. Не продохнуть. Зашиваемся.
И каждый случай — особый. Ведь что есть любой человек? Не что иное, как особый случай. Формальный подход к человеку категорически неприменим.
Вот, например, сегодняшний «особый случай». Парамуширец. В этом контингенте удручающе много больных. Мы их просеивали на два раза, но боюсь, что выявили далеко не всех. Наш вызов парамуширцы либо не слышат вовсе, либо принимают его за черт знает что. Если подходить к этим людям формально, то каждому из них — прямая дорога в Консилиум. В проснутики.
Но ведь это же — люди! Особые случаи! К тому же, именно из них, из парамуширцев, получаются самые толковые работники (если их вылечить, разумеется). Толковых работников у нас не хватает. Мы зашиваемся.
Так вот, сегодняшний. Заходит, и с порога:
— Я по повестке, какого дьявола заперт четырнадцатый?
— Заходите, — говорю ему спокойно и вежливо. — Притворите дверь. Сильнее, пожалуйста, до щелчка. Садитесь, побеседуем.
Скрипнул зубами, сел. Кабинет не оглядывает (из гордости), перед собой в никуда смотрит. Хороший работник будет.
— А повестка, — спрашиваю, — не повторная ли была?
— Так точно, — бурчит. Сквозь зубы бурчит, но по форме.
Мы у себя в кабинетах без регалий сидим, в штатском. Он не знает, какое у меня звание, и обращается на всякий случай как к старшему. И правильно: звездочек у меня поменьше, зато просветов побольше. А что не знает, тоже хорошо. Пусть подумает о чем-нибудь постороннем, например, о том, какое у меня звание, пусть успокоится. Глядишь, и «Ключи» не нужны будут, диспансером обойдемся.
— Ежели повторная, — говорю, — значит, первая была тогда-то. Почему не явились?
— Прободрствовал! — отвечает, как рубит.
А я уже знаю, что это он мне заранее приготовленную дезу выдает. Но, чтоб не ошибиться (особый случай!), переспрашиваю:
— Значит, в ночь с такого-то на такое-то вы не спали?
— Никак нет, — говорит, — не спал.
Вот теперь я уже точно знаю: деза! И к нему шкалой приборчик поворачиваю. Повторите, мол. Наши приборчики не как в Консилиуме — и без обручей, и чувствительность не в пример.
Пациент, задумавшийся о трибунале, к беседе с нами почти готов. Но чтобы окончательно подготовить, надлежит выдать ему такую вот информацию (ни в коем случае не дезу):
— В ночь с такого-то на такое-то вам, дорогой согражданин, был транслирован служебный вызов Особого Отдела. За что вы нас не любите — это вопрос десятый, и мы его поднимать не будем. Но ежели вы настолько искаженно восприняли наш вызов, что сочли его повесткой штаба резерва, то как вы интерпретируете, например сказать, воскресные трансляции? В каком свете видите вы историю нашей с вами великой державы? Видите ли вы ее вообще?
Вот теперь можно беседовать…
Всю беседу излагать неинтересно. Любой человек — особый случай, это так. Но и что-то общее тоже есть… Главное — не терять спокойствия и доброжелательности. Все было: и зубами скрипел, и в молчанку играл, и похабщину нес, и даже с кулаками бросался. Десантник. Парамуширец… Но ведь и я сюда не из гимназии пришел, я тоже кое-чему обучен. И на Парамушире бывал. Так что и с кулаками обошлось без особенной грубости: подергался мой парамуширец и перестал.
Когда я наконец убедился, что не станет он ни голову об сейф разбивать, ни решетку в окне высаживать, ни вены стилом ковырять, оставил я его на полчаса наедине с бумажкой и приборчиком и покурить вышел. Ему, разумеется, тоже сигарет оставил, потому что не только меня беседа вымотала. Вот теперь он сам все подробно изложит — и не просто подробно, а поглядывая на приборчик, чтобы даже нечаянно не соврать. Он изложит, а я прочитаю и решу: Консилиум, «Ключи» или диспансер.
Лучше всего, конечно, диспансер. Для всех лучше — и для него (меньше мытарства), и для нас (очень ценный работник, с железной хваткой). Ну, Консилиум ему всяко не грозит: сны он видит, и в инвалиды его списывать рано. Тридцать четыре года, в самом соку мужик.
Я сюда в тридцать два пришел. Через «Ключи».
В «Ключах», между прочим, тоже ничего страшного нет. Ни пыточных камер, ни ледяных бараков, ни стоячих карцеров. Колючка по периметру есть, но за колючкой ничего, кроме глубокой гипнотерапии и вежливого персонала. Мы ведь, все-таки, не в двадцатом веке живем. В двадцать первом. На целую палочку больше…
Вышел я — покурить, а покурить не пришлось. Пришлось помочь Зиночке и Юлечке: у них стеллаж завалился. Пока я тот стеллаж поднимал да на место устанавливал, двадцать пять минут из тридцати прошли. Подумал я и решил накинуть моему парамуширцу еще десяток. Лишними не будут, а я чайку попью.
Волшебный чай у девочек! Они его не сами заваривают — к ним подруга приходит, вдова ефрейтора Парадонова. Изумительно красивая женщина. И, что интересно, ведьма.
Это не ругательство, она сама так себя называет. Между прочим, не без оснований, потому что все наши в нее втрескались. Все, как один!
Втрескались — и боятся. Потому что кого она к себе подпустит, с тем обязательно что-нибудь случится. Полковник Тишина, например, на арбузной корке поскользнулся. И об эфес Олегова меча головой. Эфес деревянный был, потому что макет, но Тишине хватило… Это-то можно понять: голова у покойного была не сказать, чтобы крепкая — дураковат он был да и трусоват. Но где он арбуз достал середь весны и посреди Сибири? То-то, наверное, радовался…
И еще случаи были. Тишина первым оказался, но далеко не последним… Ведьма, она ведьма и есть. Боятся ее наши — все как один боятся. А каждый про себя знает: помани она его пальчиком — на край света за ней побежит!
Из наших только я не боюсь: меня она в упор не видит, и слава Богу. Было — да прошло. Еще до «Ключей» было, и до сих пор со мной вроде бы ничего не случилось.
Живу.
А ведь было, было… Как пью чаек у девочек, так обязательно вспоминаю. Было, куда деваться? Мимолетно, суматошно, взбалмошно — целый роман был за одни сутки. Без продолжения. (Если не считать таковым безобразную драку, которую я учинил в Клубе десанта).
Еле отмылся потом перед законной супругой, полгода после «Ключей» по ресторанам водил — грех замаливал. Зато есть, что вспомнить, есть, что во сне увидеть…
Однако, чаек чайком, а работа — работой… Заждался мой парамуширец. Уже, наверное, нервничает, а это ни к чему. Надо мне его сновидения прочитать и с ним определиться. Дай-то Бог, конечно, чтобы не в «Ключи». На дому лечиться приятнее. И, если случай не запущенный, будет он лечиться на дому. Лишь бы вылечился. Лишь бы спал спокойно.
Как я. У меня — после «Ключей» — спокойные сны. Всегда. Сегодня, например, мне снился забавный белый слон с зелеными глазами, — наверное, урод. Он смешно топал ножками, размахивал хоботом и все порывался мне что-то сказать. Но я даже во сне знал, что слоны разговаривать не умеют.
РУССКИЙ МАРС Фантастическая повесть
Мир в своей законченности мне кажется недостаточным для той бесконечности, которую я чувствую внутри себя.
Альбер ЖакарТам русский дух… там Русью пахнет!
А.С.Пушкин…Куда ж несешься ты?..
Н.В.ГогольОТ АВТОРА (Предисловие)
Считаю своим долгом еще раз предупредить тех читателей, которые, быть может, не обратили внимания на жанровый подзаголовок: это — фантастическая повесть.
Все нижеизложенное якобы происходило 12 лет тому назад на Марсе, за считанные дни до известных событий. Рассказчику, Андрею Павловичу Рюрику, якобы отводилась в них определенная роль. Но события пошли не так, как было якобы намечено, а сикось-накось.
Сию прелюбопытную трактовку марсианской трагедии мне довелось услышать от Андрея Павловича лично, из уст в уши. При этом его уста были максимально приближены к моим ушам — то к правому, то к левому, в зависимости от того, какие зубы он мне лечил, доращивал и восстанавливал. «Заговаривал», как он сам это называет.
Рискну обобщить свои немногочисленные наблюдения, заметив, что все эти нетрадиционные дантисты и стоматологи имеют одну общую черту с парикмахерами. А именно: склонность к некоей «информационной тирании» по отношению к своим клиентам. Причем «террор» зубоврачевателей куда как более жесток, если не сказать жесток. Сидя с распахнутым ртом, с языком, в буквальном смысле слова парализованным волевым усилием вашего тирана, вы не можете считаться даже собеседником последнего. Ибо не имеете возможности ни возразить, ни переспросить, ни съехидничать, ни направить «беседу» в иное русло, любопытное не только ему, но и вам. Охотно, впрочем, допускаю, что уважаемые врачеватели отнюдь не считают свое поведение тираническим. Скорее всего, они предлагают нам эти свои «беседы» в качестве своеобразной дополнительной услуги, долженствующей компенсировать нам их гонорары несколько… гм… завышенные по сравнению с действительной стоимостью врачевания.
Разумеется, я не имею никаких претензий к Андрею Павловичу Рюрику лично. Во всех остальных отношениях, кроме вышеупомянутой профессиональной склонности, это очень милый, симпатичный, уравновешенный человек, и ко всему — один из лучших нетрадиционных стоматологов на Обероне. Если его гонорар и оказался несколько обременительным для меня, я все же отдаю себе отчет в том, что он (гонорар) вполне соответствует его (Андрея Павловича) заслуженной репутации.
Более того: «беседы» моего врачевателя, хотя и неизбежно насильственные, оказались небезынтересными. Ну, во всяком случае оригинальными.
Согласитесь, что не любой стоматолог станет излагать вам фантастические сюжеты собственного сочинения вместо того, чтобы «обсудить» с вами реальные животрепещущие темы, как-то: высокие цены, нелепую моду, вызывающее поведение нынешней молодежи, спортивные новости и неразумную политику местных властей. В Далекой Диаспоре, на самом краю Ойкумены список мало будет отличаться от такового же на Земле.
Несколько слов о том, что привело вашего покорного слугу на Оберон, один из четырех центральных миров Далекой Диаспоры (системы Урана и Нептуна). Оберон знаменит не столько своей индустриальной мощью (немалой) и природными богатствами (значительными), сколько уникальным архитектурным решением человеческих поселений и производственных комплексов. Каковое решение, наглухо запатентованное, является интеллектуальной собственностью этого и только этого мира. Его «города-колодцы» — их на планете насчитывается двадцать три, а в настоящее время сооружаются двадцать четвертый и двадцать пятый, — вот уже полстолетия привлекают к себе внимание самых разных людей и организаций: начиная от недавно возникших служб архитектурного шпионажа и кончая древними, как Земля, праздными зеваками… Впрочем, последние предпочитают называть себя туристами.
Не хочу и не могу отнести себя к этим крайним категориям. На Оберон и не только на Оберон — меня привел мой служебный долг. Точнее сказать, общественный. А если совсем точно: командировка от еженедельника «Голос Диаспоры» и настоятельная просьба его главного редактора.
Милейшего Славомира Захариевича, к моему немалому изумлению, чем-то привлек «исконно-русский» (его собственное выражение, и пусть оно будет на его совести) стиль моих первых беллетристических опытов, незадолго до того опубликованных в «Голосе». Не знаю, не знаю… И до крайности сомневаюсь, что какой бы то ни было стиль можно углядеть в тексте, изуродованном столь варварски — и если бы только ножницами!.. Хочется верить, что Славомир Захариевич действительно читал оригиналы моих опусов. И действительно после публикации. Что до обещанной взбучки редактору художественного отдела «Голоса», то, право же, Бог с ним. Все мы люди, все мы человеки, всех нас раздирают надвое служебный долг и собственное мнение — и все мы мечемся от одного к другому. И ох как мало кто из нас находит успокоение: в одинокой ли гордыне своей правоты, или в безоговорочном подчинении всего себя моральным установкам общества (в узком смысле — требованиям издательской и журналистской этики…).
Как бы то ни было, Славомир Захариевич лестно отозвался о моем стиле, я был польщен и дал свое согласие на эту поездку. «Голос Диаспоры» заказал мне серию очерков и просил провести некоторое социологическое обследование. И то, и другое касалось судеб переселенцев с Марса — как сложившихся, так и не сложившихся судеб. Выбор оставлялся на полное мое усмотрение. Почти полное.
Тема была интересной и действительно важной. Ведь это, как-никак, сотни тысяч семей, десятилетие тому назад потерявших родину и рассеянных по всей Далекой и Близкой Диаспоре. Один лишь Колодец-2 на Обероне в то время изъявил готовность принять до десяти тысяч беженцев — и принял почти пятнадцать… Тогда их называли беженцами. Переселенцами они стали потом, де-факто, поскольку надежда на скорое восстановление атмосферы в долине Маринер была утрачена.
Три с лишним года тому назад Европа (не земной материк, а спутник Юпитера) взяла строительство под свой протекторат, и оно наконец-то сдвинулось с мертвой точки. И возникла проблема. Намерены ли марсиане, все еще беженцы де-юре, возвращаться на родину? Сколько семей, за свой ли счет, и в какие сроки? Оплатят ли они — хотя бы частью — европейские траты и хлопоты? Наконец, не захотят ли они просто-напросто забрать себе свой мир, оставив перенаселенную Европу с носом?
«От этих русских можно ждать чего угодно!» — так заявил на специальном заседании по Марсу один из спикеров Комиссии ООМ по Правам Человека. За что и был с треском дисквалифицирован и со всех занимаемых должностей изгнан, как нарушивший негласное табу на национальные вопросы.
Процент русских на Марсе был, мягко говоря, незначителен — чего не скажешь об их влиянии на политику практически любого мира, где они есть… Таково, по крайней мере, мнение Славомира Захариевича. И, учтя неизбежную скованность профессиональных социологов Организации Объединенных Миров, проистекающую из негласного табу, он просил меня особое внимание в моем дилетантском обследовании, а равно и в очерках уделить именно русским переселенцам с Марса. «Художника нельзя дисквалифицировать, — объяснил он мне. — Художник всегда волен выражать озабоченность тем, что его действительно заботит…» Предполагалось, что я — художник. Я был еще раз польщен.
Я побывал на шести мирах, провел свое дилетантское обследование, вылечил зубы на Обероне, вернулся, написал и сдал заказанную серию очерков (они уже в наборе) — а фантастическая байка Андрея Павловича никак не давала мне покоя. Что-то в ней было тревожное и смешное одновременно, и смех этот был нехорош. Хотя, если подумать — чистейший вздор.
И вот, чтобы избавиться от этой иррациональной тревоги, от подступавшего то и дело нервического хихиканья, я решил записать все, что я услышал от Андрея Павловича Рюрика в течение долгих двенадцати сеансов врачевания.
К сожалению, он не довел свое повествование до логического конца. Многие линии незавершены, а кое-какие намечены пунктиром и производят впечатление лишних. Даже судьба главного (как я понимаю) героя, Мефодия Щагина осталась неясной.
Но что-то удержало меня от естественного порыва всякого литератора свести воедино оборванные концы, связать их общей идеей и вывести кругленькую мораль, безжалостно отсекая все то, что этой морали противоречит. Я лишь позволил себе дополнить байку несколькими газетными вырезками одиннадцати- и двенадцатилетней давности, каковые, на мой взгляд, удачно довершают некоторые из незавершенных линий романа.
Кстати, супруги Рюрик были одними из первых марсианских беженцев если не самыми первыми. Они пустились в вояж довольно необычным способом, без гроша в кармане, если не считать до смешного ничтожной суммы в одной из экзотических валют тогдашнего Марса. И, тем не менее, транзитная таможня космопорта на Каллисто умудрилась оштрафовать их… за контрабанду! Этому анекдотическому факту есть почти документальное свидетельство — газетная вырезка, которую я тоже полагаю более уместным привести не здесь, а в послесловии.
В самом тексте повести неоднократно упомянуты и частью процитированы два исключительно редких издания. Работу Грюндальфсона мне удалось найти, и я просто переписал примерно те куски, которые А.П.Рюрик мне пересказывал. А вот книгу Л.Саргассы я не обнаружил нигде и отрывок из нее привел по памяти. В остальном фантазия изложена так, как я ее слышал — и даже от первого лица. Хотя и не дословно, разумеется.
И последнее предуведомление: рассказчик, Андрей Павлович Рюрик, фигурирует в романе под фамилией Щагин — ибо это его настоящая. фамилия. Якобы настоящая.
1
Я знаю в лицо всех дальненовгородских таможенников.
Они меня тоже.
Стоит мне войти в зал ожидания космопорта Анисово и приблизиться к нейтралке хотя бы на двадцать шагов, как эти скучающие бездельники становятся необычайно деловитыми. Для всех, имеющих несчастье оказаться рядом со мной по эту сторону барьера, процедура досмотра сразу перестает быть пустой формальностью. Ну, а для меня она никогда не была таковой.
То есть, была когда-то — первый и последний раз в жизни и, увы, на Земле.
Сегодня я встал к барьеру Колюнчика — Николая Стахова, младшего исправника таможенной службы. Не потому, что он самый молодой и неопытный. И не потому, что мы с ним пили (он пил, а я его спаивал). И даже не потому, что за неделю после той пьянки мы с ним так и не объяснились. А просто очередь к его турникету показалась мне короче, чем к остальным.
Мне было все равно, куда становиться. Я их всех знал и со многими пил. Мне нигде не светила удача.
Едва я пересек невидимую границу и встал в очередь, как рядом с турникетом, по ту сторону барьера, нарисовался опричник. Оранжевый кивер с белым восьмиконечным крестом надвинут был ниже бровей, правая ладонь многозначительно покоилась на ручке дубинки, пальцы левой поспешно оправляли заломившийся ворот полукафтанья и застегивали верхний брандебур. Застегнулся — и окаменел со скучающим выражением на лице, стараясь не встречаться со мной глазами. В предусмотрительно раскрытой кобуре матово отсвечивала рубчатая рукоять парализатора. Да и лядунка, лудя по тому, как отвисла перевязь, отягощена была не дурманной жвачкой, а запасными обоймами.
С этим опричником я тоже знаком, и очень тесно. Зовут его Харитон Кузьмич, а фамилия у него Петин, и с дубинкой он управляется мастерски. Зато парализатор в момент нашего знакомства оказался не заряженным. Впрочем, теперь, наверное, заряжен и даже снят с предохранителя.
Колюнчик с удесятиренной бдительностью шмонал багаж, и очередь двигалась медленно. Но все-таки двигалась, неуклонно сближая нас и заставляя таможню нервничать. Последнему передо мной пассажиру отчаявшийся Колюнчик предъявил какое-то совсем уже дикое требование, и тот, недоуменно пожав сухонькими разновысокими плечами, указал ему на экран нутровизора. Колюнчик (потный, багровый, идущий белыми пятнами под съехавшей на оттопыренное ухо фуражкой) стоял на своем, ссылаясь на неисправность прибора. Врал, разумеется. Пассажир, еще раз пожав плечами, осторожно извлек из баула и осторожно положил на барьер объемистый, не по размеру легкий сверток. Без всякого нутровизора было ясно, что в нем может быть только марсианская устрица, никакими законами к вывозу из СМГ не запрещенная.
В ответ на повторное требование распаковать сверток пассажир окончательно рассвирепел.
— Нет уж, сударь, извольте распаковывать сами! — произнес он тонким срывающимся фальцетом и гордо поправил пенсне, что, видимо, соответствовало у него презрительному плевку.
Младший исправник Стахов судорожно вздохнул, вытер потные лапы о полы кафтана и стал распаковывать, то и дело поправляя падающую фуражку движением плеча. При каждом таком движении золоченый витой эполет стукался о козырек не по уставу развернувшегося головного убора.
Пассажир горестно отвернулся, дабы не видеть того, что неизбежно произойдет, и стал смотреть куда-то поверх моей головы и собственного пенсне. Он не знал, интеллигентный сухонький пассажир, что перед ним стоит истинный виновник его текущих неприятностей, и счел возможным сочувственно улыбнуться ему. Мои неприятности были куда крупнее.
— Нон професьональ!.. — сказал он вполголоса на непонятно каком языке. Скорее всего, на вымышленном. Зато и мнение выразил, и на судьбу посетовал, и беднягу Колюнчика не оскорбил.
Между тем Колюнчик, ловко орудуя лезвием табельного тесака, надрезал и отделил кружок наружного, жесткого слоя упаковки, положил его, перевернув, рядом со свертком и в эту чашу стал выкладывать комки просушенной гигроскопической пены, пока не показался под нею бесцветный и почти бесформенный завиток раковины. На этом, собственно, можно было и остановиться, ибо никому и никогда еще не удавалось упаковать не целую раковину, а ее часть. Но Колюнчик не остановился. Не то демонстрируя (кому?) профессионализм и выучку, не то просто чтобы оттянуть время, он осторожно и точно запустил пальцы между пеной и раковиной — так, чтобы не дай Бог не задеть последнюю. Я и хозяин свертка следили за ним, затаив дыхание, и даже Харитон Петин по ту сторону барьера вытянул шею — как-то по-петушиному, вбок… А Колюнчик все шарил и шарил, старательно убеждаясь, что кроме пены и раковины, в свертке ничего нет, и, убедившись, выволок наконец наружу свои, как выяснилось, довольно ловкие грабли.
Вот тут-то и произошло неизбежное — потому что Колюнчик совсем забыл о своей фуражке. Он уже собирался уложить обратно вытащенную из свертка пену, когда фуражка подмяла-таки его большое ухо, соскользнула, стукнулась об эполет и, отрикошетив, задела мокрым от пота околышем невзрачный бесформенный завиток.
Со звонким рассыпчатым шелестом своей последней песни марсианская устрица обратилась в прах, и этот прах, кружась, осыпался на мягкое дно упаковки крохотными металлокварцевыми чешуйками… Жалобный вздох пассажира был похож на последнюю песню его сокровища, Харитон с мужественным сожалением крякнул, а белые пятна на багровой физиономии Колюнчика полиловели.
Впрочем, пассажир, в отличие от Колюнчика, почти сразу взял себя в руки. Не дослушав бормотаний младшего исправника (о том, что он «сегодня же, сейчас же, вот только смена закончится, их тут много и совсем рядом, всего несколько верст по Пустоши…»), пассажир сухо заметил, что через два часа — посадка, а он еще не отбил радиограмму в Тихо Браге, чтобы знали, каким рейсом встречать. Колюнчик (с его лица еще не сошла багрово-лиловость) снова открыл было рот, но пассажир его снова прервал.
— Полноте, сударь, не с чего так убиваться, — сказал он неожиданно мягко. — Работаете вы отменно, и винить надлежит не вас, а ваше начальство, за то, что выдало вам амуницию на размер больше, чем следует. А я не в первый и не последний раз на Марсе и давно перестал коллекционировать сувениры из Диаспоры… Надеюсь, однако, что теперь я могу пройти?
Колюнчик оторопел от столь миролюбивой речи (выходит, специально рассчитывал на затяжной скандал?) и автоматическим жестом разблокировал турникет. Пассажир, предварительно подав ему фуражку, прошел на нейтралку. Харитон сразу же подобрался, выпустил дубинку и утвердил руку на кобуре: на тот случай, если я опять попытаюсь рвануть следом, как месяц тому назад. И стоял так, в напряженно-свободной позе, пока турникет не был опять заблокирован.
А я не стал пытаться. Я законопослушно дождался щелчка блокировки, шагнул к барьеру, снова ставшему сплошным, и выложил на него свою папку с документами: декларациями, справками, поручительствами, рекомендациями и прочим, и прочим… Включая, разумеется, мой бессрочный билет на любой из рейсовых, а равно и нерейсовых кораблей, который влетел мне в копеечку.
— Следующий, — буркнул наконец Колюнчик, надевая фуражку и старательно не глядя на меня.
Я протянул ему паспорт и раскрыл папку.
— Багаж на барьер, пожалуйста, — буркнул Колюнчик.
— Багажа нет, Николай Иванович, — сказал я и приветливо улыбнулся ему в козырек. — Здравствуйте.
Он вздохнул и поднял на меня свои зеленые, с марсианской желтинкой, глаза. В глазах были тоска, и страх, и чувство долга, не записанного ни в каких регламентах.
2
— Вам не улететь отсюда, господин Щагин, — заявил он мне вечером осьмого дня, когда я разлил по стопкам какую-то там по счету фляжку «Марсианской Анисовой».
— Зови меня Андрей, — предложил я и поднял свою стопку.
— Вы никогда не улетите отсюда, Андрей… — повторил он, глядя на меня с тоской и страхом своими честными по молодости глазами.
— И давай, наконец, на «ты», — сказал я. — Сколько можно?
Мы выпили и троекратно, накрест, поцеловались. Добрую половину своей стопки я незаметно вылил в грибной салат.
— Понимаешь, Андрюша… — проговорил он, давясь непросоленным груздем, глотнул наконец и помотал головой. — Ты навсегда останешься на Марсе, понимаешь? Навсегда!
— Плевать, — небрежно заявил я, потому что еще не настала пора откровений. — Давай-ка поищем тему повеселее, Колюнчик. Как насчет повторить?
— Нет, ты не понимаешь! — горестно констатировал он, утверждая оплывшие щеки в ладонях, а локти на скатерти. Я поспешно убрал из-под его локтя братину с остывшим сбитнем.
— Жизнь хороша, Колюнчик, — сказал я. (Он с тоскливым интересом смотрел на меня затуманенными глазами. Но еще не вполне затуманенными.)Жизнь везде хороша, где есть приятные собеседники, — продолжил я. По-моему ты из таких. Но ты зациклился на скучной теме, и нам необходимо повторить.
Я постучал ногтем по опустевшей фляжке.
Официант (мой однофамилец и почти что ровесник Мефодий Щагин, бывший со мною в сговоре) принес нам еще одну фляжку, а пустую забрал. Колпачок с нее он снял и оставил, присоединив к остальным, лежавшим на краю столика..
Разливая анисовку, я скосил глаза и пересчитал колпачки. Десять. Нет, девять: десятую мы сейчас начнем. Два литра на двоих, двадцать пять градусов… Не переборщить бы — скисает Колюнчик.
Николай Стахов был четвертым из таможенников, которых я пытался споить. Втереться. Подкупить. Дабы вырваться за пределы Дальней Руси, официально именуемой Суверенной Марсовой Губернией. Или хотя бы выпытать причины, по которым меня держат здесь.
Трижды я ничего не добился. Трижды я был бит плетьми и отсидел в общей сложности осьмнадцать суток за попытку подкупа должностных лиц. Все трое были старыми, тертыми, хитрыми и продажными — вот только продавали они, в конце концов, меня. Я ставил на продажность и проигрывал. А потом решил поставить на молодую честность и, кажется, не ошибся.
Позарез необходимая мне информация уже распирала его и была готова хлынуть наружу. Но чувство долга и незаглушенный страх могли остановить поток. В самый неподходящий момент.
Водка — лучшее средство от страха. И от чувства долга.
Я огляделся, ища подходящий предмет для тоста и для последующей беседы, но ничего, кроме дальнерусской экзотики, не обнаружил. Впрочем, какая разница?.. Мы выпили за Дальнюю Русь: Колюнчик — с воодушевлением, до дна, я — значительно меньше. Я спросил, почему это лучший ресторан Дальнего Новгорода именуется по-иноземному: «Вояжер»? Колюнчик возразил, что это раньше кабак назывался по-инородному «Космотуристом», а «Вояжер» — очень даже по-русски. Петр Великий не туристировал, а предпринимал вояжи! Я усомнился в том, что «вояж» является исконно русским словом, но согласился, что на слух оно русее «туризма». Хотя это еще вопрос: чем же более гордится Дальняя Русь — своей русскостью, или своей удаленностью от земной метрополии? Колюнчик возразил, что у Руси нет и не может быть никакой метрополии. Родина русских не Сибирь, Восточная там или Западная, не Поволжье со Приднепровьем и даже не Старая Атлантида, откуда все мы, как известно, вышли. Родина русских — весь Божий мир, вся Земля и Диаспора, то бишь Солнечная Система. Где есть русские, там и Русь. А где Русь, там независимость и традиции.
Я усмотрел в этом повод для нового тоста.
Выпили за традиционно независимую Русь, где бы она ни была. Потом за независимые русские традиции, обретшие исконно русскую независимость в Дальней Руси. Потом за былинных витязей, потому что на глаза нам попался один из них — в настоящей, хотя и облегченного образца, кольчуге и в накладной бороде до середины могучего брюха. Это был метрдотель, который здесь назывался как-то иначе… Слегка поспорили о том, как правильнее будет говорить: «витязь», или «богатырь»? Витязь — это вроде бы что-то кавказское. В тигровой шкуре. Да и с витингом (он же викинг) подозрительно схоже. А богатырь не по созвучию ли с басурманским батыром образовался?.. Сошлись на том, что не так уж и важно, была бы суть не утеряна.
— Крип-толин-гвистика, — выговорил Колюнчик с неожиданно вернувшейся тоской в голосе.
— Тайноязычие, — попытался я перевести на посконный.
— Ах, да я не о том! — отмахнулся он.
Фляжка (двенадцатая) оказалась пустой, и я незаметно пододвинул ему свою стопку. Колюнчик ее меланхолично выцедил, а я принялся развивать нестареющий тезис о языковой экспансии инородцев и о том, как успешно обарывает оную экспансию Великий и Могучий.
Колюнчик ожил, ненадолго отлучился в березовый колок, росший посреди зала (березки были силикопластовые), и вернулся с гуслями. Он хотел спеть мне былину о покорении Русского Марса, но позабыл слова и порвал две струны. Гусли у нас отобрали. За ними пришел, в сопровождении витязя-метрдотеля, один из гусляров: тощой, рыжекудрый (под сбившимся седым париком), белобородый, с горбатым носом и ореховыми, чуть навыкате, глазами. Мне пришлось раскошелиться на сорок целковых, чтобы замять скандал, и я решил, что, пожалуй, хватит. Пока я заминал и раскошеливался, Колюнчика не стало.
Я обнаружил его сидящим под березкой. Рядом отплясывали «камаринского» три карлика-скомороха и порхали в хороводе нарумяненные красны девицы в шитых блестками прозрачных сарафанах и без ничего под этой прозрачностью. Вот в ней, на мой непросвещенный взгляд, и содержится главный шарм тутошней русскости…
Колюнчик обвисал и упирался — но как-то неубедительно, без энтузиазма. Я тихо-мирно уволок его в свой двухкомнатный «люкс» в бельэтаже одноименной с кабаком гостиницы, прихватив на всякий случай еще пару фляжек и какую-то несолидную закусь.
Информация поперла из него еще в лифте, уже ничем не сдерживаемая. Но когда я наконец выгрузил его в кресло, запер дверь и включил на запись упрятанный в тумбочку «Кристаллоник», это оказалась не информация, а пьяный бред. В лифте он успел обмолвиться о некоей угрозе, нависшей над человечеством земли и Диаспоры, каковая угроза проистекала бы из моего возвращения на Землю, — но был, увы, не в состоянии внятно изложить суть. Вместо этого он понес ахинею о водорослях и разумных червях, то и дело пытаясь выговорить инородческое слово «криптолингвистика».
Я запаниковал: а не вернутся ли к нему и страх, и чувство долга, если употребить нашатырь? Не пропадут ли втуне мои труды и траты? Но выхода не было, и пришлось попробовать.
Ахинея стала более связной, оставаясь по-прежнему ахинеей. Водоросли оказались не водорослями, а фамилией инородца, которую Колюнчик наконец вспомнил: Саргасса. Лео Кристоф Саргасса. Криптолингвистика имела более прямое отношение к делу: криптолингвистом был некий скандинав с труднопроизносимой фамилией, которую Колюнчик так и не произнес. Этот скандинав раскрыл людям глаза на истинный и страшный смысл, упрятанный в романе убиенного Саргассы, — за что вскорости и сам поплатился жизнью. Скальные черви-оборотни не знают пощады, но до времени вынуждены таиться. А скандинав вычислил одного из них…
— Ну и где же он, этот разумный червяк? — спросил я. — В каком из фиордов?
Не следовало мне задавать этот вопрос — и таким тоном. Колюнчик смотрел на меня круглыми от страха глазами и не произносил больше ни слова. А когда я, хмыкнув, потянулся за фляжкой, чтобы расплескать по стаканам, он шарахнулся от меня вместе с креслом. Да так, что чуть не вышиб затылком роскошное, во всю наружную стену, окно. И вышиб бы, если бы это было обычное, а не гермостекло, предназначенное выдерживать прямые попадания метеоритов… Марсианская атмосфера не то чтобы смертельна для человека, но все-таки неприятна — особенно в районе Карбидной Пустоши. А двухкомнатный «люкс» и кислородная маска наготове — это как-то несовместно.
Беседовать мне стало не о чем и не с кем. Я сунул руку в тумбочку и остановил запись. «Информация». Даже на компромат не тянет… Стереть? Завтра… Неужели все-таки переборщил, допоил человека до розовых чертиков? Я произвел в уме перерасчет двух с половиной кило «марсиановки» на земную сорокаградусную и разделил на два. Слаб, слаб оказался Николай Иванович Стахов! Но кто же мог знать?
Контузия пошла ему на пользу: она вышибла из него всех розовых чертиков заодно с червями, и теперь он мирно сопел, разметав на поверженном кресле моднючие силикопластовые лапти и пуская пузыри в ковер. Частью в ковер, а частью на рукав своей малиновой косоворотки с набивной вышивкой. На затылке под светленькими кудряшками лиловела солидная гуля.
Вдвоем с коридорным, явившимся на мой звонок, мы уложили гостя на диван. Сочинять ничего не пришлось — коридорный удовлетворился одной из фляжек. Ему, надо полагать, не впервой…
Когда я проснулся, младшего исправника Стахова не было в моем номере, а на тумбочке лежали мятая двадцатка, серебряный трояк и горка никеля целковых на два. Выгреб все, что было, демонстрируя неподкупность. «Честь продается, коли ее нет».
Я хлопнул себя по лбу и сунулся в тумбочку.
Нет, дискета была на месте, и запись он тоже не стер.
Трезвое восприятие пьяного бреда нисколько не прояснило моей ситуации. Тем не менее, вечером, после обычного турне по собраниям, приказам и присутствиям Дальней Руси, я не поленился расшифровать запись и прочел глазами.
Бред остался бредом и на бумаге. Либо Николай свет-Иванович его заранее сочинил и в продолжение всей пьянки затверживал, либо… Подумав, я решил взять на заметку латиноамериканского сочинителя
Хотя, на кой мне черт их имена, если оба они мертвы?
3
Николай Иванович смотрел на меня из-под козырька по-молодому честными глазами, и в глазах его были тоска, и страх, и неистребимое чувство долга.
— Здравствуй, Андрей, — ответил он. — Может быть, не надо?
— Я принес тебе запись, — сказал я. И положил на барьер черную пуговичку дискеты. — Я записывал нашу беседу. Помнишь?
Он помнил.
— Это… копия? — спросил он.
— Зачем? — удивился я.
— Ну как зачем… Чтобы… ну…
— Чтобы тебя шантажировать? — догадался я.
Он не то кивнул, не то просто опустил голову (козырек фуражки упал ему на глаза), осторожно, как ядовитого карбидного клопа, взял дискету и повертел ее в пальцах.
— Тебя же бесполезно шантажировать, Колюнчик, — сказал я. — Поэтому я просто расшифровал запись.
— То есть, ты во всем разобрался? — он задрал голову и вопросительно посмотрел на меня из-под козырька. — И решил остаться? Сам?
— Ни в чем я не разобрался и оставаться я здесь не намерен. Я расшифровал запись. Ну, записал, понимаешь? Буковками. На бумаге. — Он наконец-то понял и сник. — Мне не нужен твой голос, — добавил я.
— Спасибо, — выдавил из себя Колюнчик, засовывая пуговичку-дискету в карман.
— А теперь, Николай Иванович, — сказал я официальным голосом, перейдем к делу… Мой паспорт у вас в левой руке, а вот мой билет бессрочный, гарантирующий мне место на любом из рейсовых и нерейсовых кораблей, вылетающих из космопорта Анисово. Я намерен вылететь ближайшим рейсом.
— Ваш пункт назначения? — спросил Николай Иванович официальным голосом.
— Купол Тихо Браге, Луна.
— Боюсь, вы не успеете на этот рейс, Андрей Павлович.
— Неважно. Меня устроит любое другое направление. Любой населенный пункт в любом из миров Диаспоры, кроме Дальнего Новгорода. Лишь бы поскорее и навсегда.
— Какова же цель вашего столь поспешного отлета из СМГ?
— Туризм. Эта цель отмечена в моей декларации, вот она. А вот моя туристическая путевка, согласно которой недельный срок моего пребывания в Дальнем Новгороде истек два с половиной месяца тому назад. Но путевка подтверждает, что я действительно турист.
Николай Иванович тщательно и уже не впервые изучил предъявленные бумаги.
— Располагаете ли вы, сударь, достаточными средствами для космического вояжа? — наконец задал он следующий вопрос (и опять-таки не впервые).
— Располагаю, хотя вас это и не касается, сударь.
— Касается, сударь, — возразил Николай Иванович. — Мы не можем позволить человеку — пусть даже иноземцу — умереть от голода лишь потому, что ему вздумалось лететь неизвестно куда… Какими средствами вы располагаете?
— Вот справка о моей доле в Казне Дальнего Новгорода, — вздохнул я. Заверена сегодняшним числом. Вот наличные: сто сорок восемь целковых. А вот моя кредитная карточка — в ней зашифрованы сведения о моем финансовом положении на Земле… Положение, смею вас заверить, прочное.
— Извините, сударь. — Николай Иванович ногтем отодвинул от себя карточку. — Эти штуки на территории Суверенной Марсовой Губернии недействительны.
— Они действительны на Земле. И почти во всех мирах Диаспоры.
— Может быть, не знаю. Я знаю, что у нас это не деньги.
Я покорно забрал карточку.
— Итак, сударь, ваше состояние исчисляется тысячею целковых?
— Тысяча сто сорок восемь, — поправил я.
— Все равно. Этого, может быть, и хватит, чтобы долететь до Тихо Браге, но в Тихо Браге у вас не останется ни гроша.
— У меня оплаченный билет. Без срока и без направления. В любой пункт Солнечной Системы.
— И без пересадки… В пассажирском лайнере класса» А», на место в котором вы претендуете, неизбежны дополнительные и очень крупные траты. В Тихо Браге вы окажетесь уже без билета и нищим.
— В Тихо Браге, да и на корабле, я по моей кредитной…
— Не знаю, не знаю.
— Я врач — нетрадиционный стоматолог. Я всегда могу заработать себе на хлеб, — терпеливо сказал я. — С маслом. С натуральным и даже земным сливочным маслом. Датским.
— Сначала заработайте, а потом отправляйтесь в вояж.
— Н-ну хорошо. До какого пункта назначения — за пределами СМГ, разумеется — достаточно этой суммы?
— Тысячи целковых?
— Тысячи ста сорока восьми.
— Обратитесь в справочное бюро, там вам подскажут. Следующий.
— Минутку! — я положил руку на барьер и на всякий случай ухватился за него. — Я уже обращался в справочную службу. Мне сказали, что этой суммы более чем достаточно для путешествия в Марсо-Фриско. Я намерен вылететь туда ближайшим рейсом. Он отправляется через три с половиной часа.
— Цель поездки? — осведомился Николай Иванович.
— Туризм. Отмечена в декларации. Кстати, и моя кредитная карточка в Марсо-Фриско будет действительна.
— Этого я не могу знать. Вашу визу, пожалуйста.
— Какую визу? Я предъявил вам туристическую путевку с Земли на Марс. Марсо-Фриско на Марсе, в сотне миль отсюда. Всего-то и нужно перепрыгнуть через Колдун-гору, даже не поднимаясь над краем Марьина Оврага! Который, кстати, никакой не Марьин Овраг, а долина Маринер!
— «На Русский Марс», сударь. В путевке написано дословно так… Значит, выездной визы у вас нет?
— Мне не дают визу, потому что я не гражданин СМГ. Меня не выпускают из СМГ, потому то у меня нет визы. Не кажется ли вам, сударь, что это какой-то порочный круг?
— Один из многих, Андрюша, — тихо сказал он и посмотрел на меня с тоской и страхом. И с чувством долга. — Тебе никогда не выбраться из Дальнего Новгорода. Так надо.
— Кому надо, Колюнчик?
— Всем. Мне. Ему… — он ткнул большим пальцем назад, на опричника Петина, замершего в напряженно-свободной позе. — Им… — он кивнул на очередь за моей спиной, уже начинавшую роптать, а может быть, и на весь зал ожидания. — Всем людям. Понимаешь Андрей?
— Чушь собачья. Всем людям нужно держать одного меня в вашей марсианской канаве?
— Ты скоро поймешь, — пообещал Колюнчик. — Наверное, ты уже понял, просто боишься признаться в этом самому себе. Но ты скоро перестанешь бояться, и…
— И перегрызу кому-нибудь из вас глотку! — продолжил я. — Быть может, тебе!
Я непроизвольно возвысил голос, и расслабившийся было Харитон опять возложил руку на кобуру.
— Это не исключено, — кивнул Колюнчик. — Хотя и маловероятно… — Он помолчал, глядя на меня все с той же смесью во взоре. Впрочем, теперь к этой смеси добавилось еще что-то — кажется, жалость. — Продолжим? спросил он. — Или на сегодня хватит?
— Ну уж нет, — сказал я. — Давайте продолжим, сударь. Как насчет Фобоса? Русского Фобоса, разумеется. Могу ли я, с моим бессрочным билетом и с моей тысячею целковых, предпринять столь мизерный по дальности вояж?
— Можете, сударь, — вздохнул Николай Иванович. — Только я обязан предупредить вас о том, что территория русского Фобоса Объявлена зоной повышенной радиационной опасности. Предъявите, пожалуйста, вашу медицинскую карту…
4
Спустя три или четыре часа я иссяк.
То есть, меня-то хватило бы еще на столько же, если не больше. Я был дьявольски терпелив. Как всегда. Как ежедневно в течение последнего месяца, с тех самых пор, как понял, что попал в бюрократический тупик. Дубинка Харитона Петина разъяснила мне это весьма доходчиво — и тогда же я зарядил себя терпением на добрую половину вечности.
Я бы мог и продолжать — но иссякли мои документы, опять оказавшиеся недостаточными. А на повторный круг Николай Иванович не изволил согласиться: «Мы с вами только что об этом говорили, сударь».
Завтра я скажу, что не помню. К другому барьеру я тоже смогу встать только завтра… А за неделю хождений по присутствиям я обновлю бумаги, подписи, даты, штампы. Поднакоплю новых справок и поручительств. И начну с нуля. Покорно, благонамеренно, законопослушно. Дьявольски терпеливо.
Рано или поздно они расслабятся. Рано или поздно Харитон со товарищи утратят бдительность, и никто из них не явится на свой пост. Или явится, но с незаряженным парализатором, и дубинка будет валяться где-нибудь на скамье в курилке. А на нейтралке в это время будут люди — и пока опричники решатся начать пальбу, я успею пробежать нейтралку и запрыгнуть на какой-нибудь трап. Любой… У Марсовой Губернии нет своих заатмосферных судов, и даже в Марсо-Фриско ходит графский микрокосмобус класса «Блоха». Любой трап окажется для меня спасительным: первая же его ступенька является территорией чужого государства.
А есть ли у меня выездная виза и почему ее нет — в этом мы будем разбираться там, в каюте капитана. Там я куплю себе любую визу. Если она там вообще понадобится…
Только я должен быть дьявольски терпеливым, чтобы этот мой план сработал. Весьма ненадежный, сомнительный, вряд ли осуществимый план. Но другого у меня нет.
Надеюсь, на моем лице нельзя было прочесть моих коварных замыслов. Хотя — кто его знает… Уже отойдя от барьера на свои двадцать шагов, я оглянулся и сделал ручкой Харитону Петину. Харитон усмехнулся почти дружелюбно, застегнул кобуру и тоже сделал мне ручкой. Экий, право же, лицемер!
Прижимая локтем папку с документами и другой рукой нашаривая в кармане ключи от машины, я направился к выходу из вокзального купола. Большая толпа туристов (только что прибыл рейсовый с Европы) выстроилась в очередь к зарядной стойке, разглядывая свои новенькие кислородные маски. Некоторые уже разобрались в несложной упряжи и объясняли другим: что куда и как удобнее. Кислород в космопорту был не бесплатен — это возмущало новоприбывших и одновременно убеждало их в необходимости раскошелиться.
— А нам говорили, что воздух в долине пригоден для жизни! — обиженно заявила немолодая дама с молодежной прической «коронный разряд», произведя свою первую трату дальнерусской купюрой и получая сдачу.
— Смотря для какой жизни сударыня, — резонно ответствовал ей служитель. — Мы-то уже привыкшие. Ну, и вы можете привыкать, если желаете…
Я вспомнил, что мой баллончик тоже пуст — но стоять в очереди не хотелось. Да и целкового жалко, а в гостинице мне зарядят за так.
Возле туристов толкалась, делая свою коммерцию, обремененная корзинами пацанва из усадьбы господина Волконогова — продавая редьку, хрен и сладкий горошек, по вкусу мало чем отличающийся от хрена. Я ухватил одного из них за ухо и заглянул в корзину. Вот именно такой стручок я и купил в первый свой день на Марсе — и не исключено, что как раз у этого пацана.
— Свежие овощи, сударь! Только что с грядки! — зачастил юный пройдоха. — Небывалые кондиции! Незабываемый вкус! Посетите усадьбу господина Волконогова — там вы увидите единственный в своем роде… Ой, да больно же, сударь!
— Заставить тебя его съесть, что ли? — задумчиво проговорил я, выбирая взглядом самый налитой и самый многозарядный из ядовито-розовых стручков «небывалой кондиции».
— С моим удовольствием, сударь, но кто будет платить?
— Турбокар водишь? — спросил я, отпуская ухо.
— Газовую тачку, сударь? Конечно!
— Мелочь есть?
— Вам разменять? — он сунул руку в отвисший карман армячка и погремел никелем. — Пять процентов!
— Не надо, — сказал я, доставая ключи. — Дуй на вторую платную стоянку. Синий «ханьян» с белым крестом на капоте, он там один такой. Подгонишь к самым дверям.
— За так, сударь?
— Гривенник тебя устроит?
— Два!
— Ну, два так два.
— Деньги вперед!
— Деньги за работу.
Он ухмыльнулся, выхватил ключи и умчался вместе со своим товаром лишь перед самым шлюзом притормозил, чтобы сделать глубокий вдох. Я не спеша двинулся следом, нащупывая в кармане полтинник и двугривенный сверху. Четыре часа, двенадцать копеек за час — полтинника должно хватить.
Ждать пришлось недолго — минуты три. Коммерсант от Волконогова остановил мой турбокар точнехонько напротив дверей, вытащил ключ, вышел, моментально захлопнул дверцу, забрал из багажника свою корзину и не переводя дыхания проскочил шлюз. От его живописной рвани (даром что синтетика) гнусно разило ацетиленом.
Я уронил монеты в загребущую лапку, и они мигом исчезли в кармане армячка, даже не звякнув.
— Ключи, — сказал я, видя, что он опять протянул мне пустую ладошку.
— Нащелкало семнадцать алтын, — сообщил коммерсант. — С вас еще копеечка.
— Грабитель. — Я пошарил в кармане и добавил гривенник. — Угостись на сдачу своим горохом.
— Спаси вас Бог за угощение, сударь! — он опять ухмыльнулся и вернул мне ключи. — Я продам его тем, кто еще не пробовал!
Он подмигнул мне, подхватил свою корзину и устремился к новым барышам — за счет тех, кто еще не пробовал.
Сделав несколько глубоких вдохов, я в считанные секунды миновал шлюз, открыл дверцу тачки, упал на сидение, захлопнул дверцу, со второго раза попал ключом в зажигание, повернул и сразу врубил продув салона. Выждав полминуты, выдохнул и осторожно вдохнул. Можно ехать. Было бы куда.
Спать рано, ходить по присутствиям поздно, гулять надоело и дорого. Глупое время… К поповне Аглае нагрянуть? Давно не нагрянывал. Мефодий говорит: встречал, обижается…
Я спохватился и посмотрел на часы. Почти полвосьмого — значит, без малого семь. Часы у меня были еще земные, и каждые сутки приходилось переводить их на сорок минут назад, но ориентироваться по ним я мог и не спешил обзаводиться местным измерителем времени.
Ехать мне, разумеется, было куда и было зачем: я должен был вернуть турбокар владельцу. Владелец (мой однофамилец и почти ровесник Мефодий Щагин, официант из «Вояжера») вот уже полчаса как дожидался меня на Карбидной пустоши. У него там тоже была своя коммерция. Промысел, говоря по-русски. Корыстный интерес, счастливо сочетающийся с интересом духовным..
Выруливая к развязке, я нарочно — и нарочито медленно — проехал мимо прямого, аварийного выхода на перрон. Опричник, сидевший в будке и наверняка предупрежденный коллегой Петиным, еще издалека всмотрелся в мое лицо, узнал, неспешно вышел, зажимая пальцами нос, и загородил дверь. Он тоже был при дубинке и с раскрытой кобурой напоказ. Челюсть его мерно двигалась.
Когда я с ним поравнялся, он сплюнул жвачку под ноги и что-то неслышно буркнул. Видимо, свое обычное: «Проезжайте, сударь, здесь не велено…»
Я приветливо улыбнулся ему и нажал на газ.
Ничего, когда-нибудь он выйдет просто так, без оружия. Или не выйдет вовсе. Вот уже и маску не надел…
5
Развязка перед космопортом была хитра. Видать, сооружалась инженерами-инородцами, читавшими не токмо «Домострой» и «Заговор мирового правительства», но и «Остров Крым». Идея была явно почерпнута из последнего произведения, противного истинно русской душе — где бы она, истинно русская душа, ни проживала. Всех устремляющихся в космопорт с обоих направлений (как из Нова-Кракова и Ханьяна, так и из Дальнего Новгорода) сия дорожная развязка принуждала незаметно и неуклонно снижать скорость, все более круто заворачивая спираль тоннеля. А выехавших из Анисово, напротив, разгоняла теми же спиралями до скоростей, достойных соответственной магистрали.
Я вылетел из тоннеля на соответственной скорости и сразу дал по тормозам, потому что ехать мне было недалече.
Вот он первый верстовой столб — и сразу от него, параллельно дороге и в каких-то двадцати саженях от нее, потянулся высокий и сплошной силикопластовый забор, ограждающий усадьбу господина Волконогова от посторонних взоров и хищных намерений. Поскольку ехал я почти шагом, пять-семь верст в час, мой загадочный знакомец опять успел прошкандыбать свои двадцать саженей по усыпанной желтым песочком дорожке — а я опять успел подробно его рассмотреть.
И опять не узнал. Вряд ли это был сам господин Волконогов: с чего бы это ему отираться у ворот собственной усадьбы? Да и облик до очевидности не господский: обмятая казачья фуражка, седые баки от самых глаз по обе стороны кислородной маски, беспросветные погоны и три эмалевых креста в рядок на тертом френчике. И лоснящиеся штаны цвета моей тачки, с когда-то алыми лампасами… Привратник. Цербер гороховый. Кому нужна твоя хренова редька?
Мы привычно кивнули друг другу (ну не помню я, где мы с ним познакомились, — хоть ты меня высеки!), и его кивок опять показался мне излишне любезным. Чуть ли не всем корпусом кивнул полукивнул-полупоклонился… Впрочем, у старости свои причуды. И свои болезни: радикулит, отложение солей в позвоночнике, недержание вежливости…
Проехав мимо, я оглянулся. Гороховый Цербер опять поспешно зашкандыбал к воротам. Значит, мне опять предстоит еще одна встреча с ним — у задней калитки, выходящей на Карбидную Пустошь.
Начинаясь у первого верстового столба, забор тянулся аж на две с половиной версты, а потом внезапно обрывался, круто заворачивая вправо и уходя прочь от дороги. Почти две версты по ровной, прямой, как стрела, магистрали Анисово — Дальний Новгород (единственной такой во всей Дальней Руси) я проехал все так же медленно, пристально всматриваясь в правую бровку — пока не увидел наконец то, что искал.
Здесь я огляделся. Машин ни впереди, ни позади не было. Опричников на турбоциклах и дорожной полиции тоже — в пределах видимости. Да и спрятаться им, вроде бы, негде
Я круто завернул баранку вправо, перевалил через невысокий бордюр и по специально отсыпанному нами рыхловатому пандусу съехал под самый забор. Саженей триста протрясся вдоль забора по неровностям до угла, повернул и, вдоль забора же, повторяя его причудливые изгибы, потрясся дальше.
Следов, а тем более колеи на этой, с позволения сказать, дороге, не было. Во всяком случае, не было видно. Вот в пяти саженях от забора они бы сразу же стали заметны и оставались бы такими долго; а под забором — то новой пыльцы наметет, то старую сдует… Словом, ездили тут не часто и ездили не многие, потому что ездить тут вообще нельзя. Ходить ходи сколько угодно — хоть бегай, хоть круглые сутки прогуливайся. Ездить же абсолютно запрещено.
Абсолютные запреты на что бы то ни было, как я уже успел заметить, весьма характерны для Дальней Руси; обоснования же их, как правило, темны и расплывчаты. Этот абсолютный запрет был исключением из правила: обоснованием ему являлась монопольная собственность государства. Опричнина, говоря по-русски.
Отдельным лицам на территории Дальней Руси могло принадлежать все (опричь) (то бишь, помимо) Карбидной Пустоши. Потому что это уникальное природное образование во время [/]оно оказалось основным (а попросту единственно доступным) источником энергии для Русского Марса. Мощный, до семи саженей в глубину слой чистого карбида кальция кое-где даже выходил на поверхность, и там были видны ослепительно белые пятна. В лучах закатного солнца они слегка отливали розовым, но на фоне бугристой буро-красной равнины были очень заметны.
Я направлялся к одному из них. Я злостным образом нарушал абсолютный запрет, обоснованный и логичный.
Считалось, да и на самом деле оказывалось, что пешочком и в рюкзаке (а хотя бы и на тележке) не очень-то много ухитишь из казенных залежей. Ибо изрядное количество кислорода придется тоже волочь на себе. Уж если в Дальнем Новгороде, в добрых сорока верстах от Карбидной Пустоши, не обойтись без кислородной маски, то здесь и подавно.
А мой однофамилец Мефодий Щагин, он же владелец синего с белым крестом турбокара, не любил таскать на себе тяжести. Хитить казенный энергоноситель в подсудных количествах Мефодий тоже не собирался — но абсолютный запрет есть абсолютный запрет. Он для того и абсолютный, чтобы его иногда нарушали. Хоть кто-нибудь…
Забор все тянулся, извиваясь точнехонько вдоль границы Карбидной Пустоши, деля поверхность Марса на опричное и частное владения, а я все трясся вдоль него со стороны опричнины с изнурительной скоростью. Но вот, наконец, и крутой, почти остроугольный выступ забора, обогнув который, я с облегчением вздохнул: теперь меня не увидят с дороги. Еще сотню саженей до задней калитки усадьбы, а там круто влево и по прямой. Подальше от магистрали, в самую глубь Карбидной Пустоши… На этой прямой, в центре четвертой по счету и самой обширной белой проплешины и будет стоять купол Мефодия, где он вершит свою никем не запрещенную коммерцию, нелепым образом граничащую с криминалом.
Недели две тому назад меня поймали вот на этом самом месте, в сотне саженей от калитки. И хорошо, что на обратном пути: не пришлось поворачивать.
— Так, — сказал пеший опричник, дождавшись, когда я продую салон, и сняв кислородную маску. (Его турбоцикл стоял на обочине, и я сразу увидел его, когда миновал выступ; но сам опричник залег под забором и стал передо мной как лист перед травой. Я не успел ничего сообразить и открыл ему дверцу). — С вас три червонца, сударь! — Он приложил два пальца к козырьку своего белокрестного кивера и приятно осклабился. — Объяснять ли, за что?
— Не стоит, сударь. — Я тоже приятно осклабился. — А если у меня их нет?
Я уже тогда пытался экономить.
— В таком случае, извините, пятнадцать плетей, — сказал опричник, и видно было, что он не шутил.
— Прямо сейчас? — осведомился я.
— Вы обо мне плохо думаете, сударь, — обиделся опричник. — Я выпишу вам повестку, в ней адресок и время. Не явитесь — удвоим. Еще раз не явитесь — доставим, утроим и опубличим. А справочку об исполнении советую не терять. Во избежание неясностей… Так вам повестку, или все же квитанцию?
К тому времени я успел уже дважды отпробовать плетей — причем за попытку подкупа должностного лица никакой денежной альтернативы мне не предлагали. Поэтому, подумав, я предпочел купить квитанцию, каковую покупку Мефодий мне наполовину возместил. По-моему, это было справедливое решение. Ведь это же он, а не я имел никем не запрещенный интерес на Карбидной Пустоши, нелепо граничащий с криминалом. А с другой стороны, это меня, а не его поймал опричник. И даже не заглянул в багажник, зная, что я не везу никакого карбида. Абсолютный запрет есть абсолютный запрет — он и сам по себе, опричь своих обоснований, является источником дохода для Казны.
Гороховый Цербер опять поджидал меня за калиткой и вышел наружу, как только я поравнялся с нею. Когда-то я опасался, что он стучит опричникам на всех, кого тут заметит. Видимо, зря опасался: та засада оказалась единственной за весь последний месяц, а значит, случайной.
Мы опять кивнули друг другу. На сей раз он почему-то не ограничился своим безмерно вежливым кивком. Он внезапно сорвал с лица кислородную маску и почти минуту стоял так, искательно улыбаясь и слезясь мочевино-желтыми глазками, пока я на него изумленно пялился. Это при его-то, наверняка учащенном старческом дыхании!
Нос у него оказался непомерной величины — бульба, а не нос! — и аж пошевеливался от необоримого желания вдохнуть. Губы же, наоборот, были тонкие и запавшие. А седые баки, оправдывая ожидание, соединялись не вполне: бородка получалась раздвоенной. Все это вместе показалось мне удивительно знакомым. Где-то мы с ним встречались, и не очень давно… Ну и рожа…
Я с трудом оторвался от созерцания рожи, развернул «ханьян» и погнал по прямой. Дорога слева была все еще видна, и я спешил укрыться за ближайшим бугром.
6
Закаты над Карбидной Пустошью, при всем их великолепии, внезапны и быстротечны. А включенные фары могли навлечь на меня любопытство опричников, случись те поблизости. Правда, Фобос, будучи на полпути к зениту, уже обозначился на западе неровным серпиком, изъявляя благое намерение заменить Солнце. Но водить свою тачку и при этом ориентироваться на Пустоши при свете даже полного Фобоса мог только сам Мефодий. Мне же оставалось полагаться на компас и твердость рук.
Поэтому я не стал любоваться закатом и гнал турбокар на запад-юго-запад, упрямо не обращая внимания на бесновато-переливчатые сполохи света справа по курсу. Только единожды я оглянулся назад, на трехглавую Колдун-Гору, пока самый высокий пик ее, Северный Шлем, не пропал во тьме.
Мне нравилось отстраненное (и действительно колдовское) сияние Колдуна на закате — полуметаллическое-полуледяное. Он как бы противостоял буро-багровым сполохам и, обессиленный, сам угасал лишь с последней зарницей. Устало уходил в ничто, в черноту, в ту самую тьму, что и весь окружающий мир, но уходил по своей, недоступной для смертного мира, дороге — не по красной, кипящей тропинке спектра, а по фиолетовой, ледяной. Там, в той черноте, где встречаются две бесконечности, Колдун соединялся с миром и вновь возникал на рассвете, Черной, очерченной алым трезубой громадой возвышался над небом Марьина Оврага. Не в небе, а над.
Марьин Овраг (долина Маринер) издавна был и остался единственной обитаемой областью Марса. Его полмиллиона квадратных верст с двумя душами (в среднем) на каждой вытянулись почти на четверть экватора. Колдун-Гора обосновалась в самой широкой части этой царапины, где от стенки до стенки было без малого двести верст, и своими отрогами, перегородившими Марьин Овраг, образовала естественную границу между графством Марсо-Фриско и СМГ.
Она была так высока, что двумя их трех своих пиков насквозь пронзала верхний, коллоидный слой атмосферы, а Северный Шлем был лишь на полверсты ниже края Оврага. С точки же зрения альпинизма, это была не гора, а торчащее недоразумение: пятитысячник, если считать от подошвы, и вершина с отрицательной высотой от среднего уровня поверхности планеты.
И в этом тоже была пренебрежительная Колдунова отстраненность: быть ниже среднего уровня, но возвышаться над миром, живым и смертным…
А может быть, Северный Шлем на закате просто напоминает мне Землю? Он голубой и высокий (но Земля — голубее и выше). Он недостижим для меня (но на Землю я все же вернусь!..). Он чем-то похож на мою планету — вот и все его колдовство. Правда, тогда непонятно, чем же он нравится коренным марсианам. Ведь во всем остальном наши вкусы не соприкасаются. Ни вкусы, ни взгляды, ни устремления.
Ну, какие могут быть воззрения и цели у живущих в канаве? Куда им стремиться, если не вон отсюда? И о чем тут мечтать, как не о том, что снаружи? Ан не тут-то было.
Человечий мир Марса, как странная плесень, расползся по дну гигантской четырехтысячеверстной канавы, не помышляя выдираться на поверхность. Он знает: там холодно, пусто и голо. Он лепится и льнет ко дну; к теплу, к рыхлым наносным грунтам. Он шумно дышит и возится под упругим самоштопающимся одеялом их коллоидных газов — реликтом зачаточной планетарной инженерии, когда-то на века сработанным забытыми поколениями первопроходцев. Человечий мир Марса брюзжит, но довольствуется своим убогим существованием, кляня объективные трудности и полагая свое долготерпение героическим. Он поддерживает это существование единственно за счет того, что позволяет глазеть на себя нескромным обитателям иных миров Диаспоры давным-давно обжитых, возделанных, плодоносящих…
Наверное, это звучит оскорбительно для марсиан. Пожалуй, не следует проводить подобные параллели вслух. Но иногда бывает трудно удержаться. Тем более трудно, что за такие параллели здесь не бьют плетьми, не штрафуют и даже не выказывают вам свое неудовольствие. Наоборот, их почему-то называют здесь «сермяжной правдой». Их сладострастно смакуют — как редкий, почти натуральный продукт, Как диковинный овощ отдаленно земного происхождения, сумевший произрасти на местной почве и приобретший неповторимую дальнерусскую горечь, ценимую лишь знатоками. «Сладкий горошек», вышибающий слезы из глаз. Дурманная жвачка из прессованных головок горчайшего мака, от которой лично меня пронесло через все отверстия.
А Петин жует, крепчая духом и телом. И Мефодий не сразу, но тоже привык. И поповна Аглая пожевывает не без удовольствия. И я уж не говорю про самого батюшку, отца Елизара, у которого вся борода в жеваном маке!
Может, и я когда-нибудь стану жевать? Месяц, ну два, ну год — и привыкну? Может, меня для того и держат здесь, чтобы я привыкал. Чтоб, осознав, согласился с возможностью (а там, глядишь, и с неизбежностью) существования в канаве. Вот осознаю, и сразу отпустят. Ведь отпускают они хоть кого-нибудь, не всех же держат. Взять сегодняшнего сухонького интеллигента с разновысокими плечами — он не первый и не последний раз на Марсе, сам говорил. Все ему тут уже примелькалось, ничто не странно: ни «сладкий горошек», ни поющие устрицы, ни даже битье плетьми с возможным опубличиванием оного… Привыкну, осознаю, соглашусь — и сразу меня отпустят. Силком выдворят. Лети, марсианин, птичкой, распространяй марсианскую жисть на Земле и в Диаспоре!..
Гос-споди, и до чего только не додумаешься во тьме.
А тьма была уже полная — абсолютная тьма обступила меня в турбокаре и мой турбокар. Даже белого креста не видать было на синем капоте, не говоря о бугорках, прыгавших мне по колеса. Но все-таки я уже трижды переставал трястись и катился по ровному. Значит, с курса не сбился, баранку держу как влитую, твердой рукой, и по четвертой проплешине, последней и самой обширной, не промахнусь. Да и в куполе у Мефодия наверняка что-нибудь светится. Не слишком ярко, чтобы не привлекать опричников, но достаточно заметно для неопытного туриста, заблудшего в чуждой ночи на чужом турбокаре.
Когда под колесами опять стало ровно, я, не меняя курса (рука тверда!), проехал еще сто сорок саженей по спидометру и остановился. Если бы я ни на сажень не отклонился от курса, я бы смял капотом купол Мефодия и выехал с другой стороны, так как радиус нашей идеально круглой проплешины ровно сто тридцать семь саженей. Но я, разумеется, отклонился, хотя и не более, чем на половину радиуса. Купол стоял либо слева, либо справа от меня и чуть позади.
Вырубив подсветку приборов, я стал всматриваться в черноту за боковыми стеклами салона. Ни за правым, ни за левым стеклом ничего не усматривалось; это меня слегка озадачило. Или Мефодий зачем-то сидит в темноте, или я все-таки промахнулся и попал не на ту проплешину. Очень сильно промахнулся, версты на две вправо и на три-четыре вперед. Сколько было на спидометре, когда я раскланивался с Гороховым Цербером?.. От калитки до купола почти точно одиннадцать верст, и если бы я тогда посмотрел на спидометр… но я не посмотрел.
Собственно, ничего непоправимого не произошло. Ну, немножко опоздал, ну, слегка заблудился, ну и что?.. Фобос мне, конечно, не помощник. Но минут через сорок ему навстречу, с востока, вынырнет полный Деймос, волоча за собою, как некий диковинный шлейф, зеркальный парус «Луары» — и все прояснится. Я включил подсветку и посмотрел на часы (не на свои земные, а на марсианские, вмонтированные в панель и снабженные астрономическим указателем). До восхода Деймоса оставалось тридцать восемь минут.
Видимо, на Мефодия нашел миросозерцательский стих — вот он и решил посидеть в темноте. С ним такое бывает, он вообще странный человек и с трудом вписывается в марсианскую канаву… Или сидел при свете, дожидаясь меня, уснул, а горелка погасла, потому что он не долил воды. Вот я сейчас давану на бибикалку, он услышит и сразу проснется. Но услышать может не только он, поэтому лучше и мне тихо посидеть в темноте тридцать восемь минут. Тридцать семь с половиной.
Я снова вырубил подсветку, заглушил турбины и устроился понеудобнее, чтобы не уснуть, как Мефодий… Тишина была еще более абсолютной, чем тьма. Мне даже казалось, будто я слышу, как почмокивают и потрескивают бесшумные биологические фильтры, поглощая вкусную углекислоту и сердито отплевываясь кислородом. Умненькая машина, ханьянская, пошлина вдвое больше цены. Не всякий далекоросс может себе позволить такую машину. Все-то в ней предусмотрено — кроме разве что отсутствия сортира в непосредственной близости. А ведь у меня была такая возможность в космопорту, зря я не воспользовался… И кислородную маску не зарядил. Зато теперь уж точно не усну.
7
Я проснулся, когда не стало никаких сил терпеть.
Мне даже приснилось, что я не вытерпел. Что, надев кислородную маску (во сне баллончик оказался заряженным), я выскочил из «ханьяна», отбежал на несколько шагов и стал мочиться прямо на карбид. Карбид возмущенно всчмокивал, трещал и плевался ацетиленом. Тогда я неосторожно подумал, что ацетилен может самопроизвольно возгореться, и он, разумеется, немедленно вспыхнул, а я проснулся.
Все было в порядке. Я вытерпел и продолжал терпеть.
Поерзав, я кое-как переключил мое восприятие с внутренних ощущений на окружающий мир. Ни тьмы, ни тишины не оказалось и в помине: Деймос на востоке пламенел останками кораблекрушения, почти полный Фобос перевалил зенит (выходит, я проспал больше часа!), а бесшумные фильтры плевались и трещали, как сумасшедшие.
Я их поспешно заблокировал и оживил запасную батарею, а потом стал оглядываться.
Справа не было ничего — то есть, была только ровная белая поверхность проплешины и смутно угадывался ее край. Зато слева и чуть позади я сразу обнаружил купол — и сердце у меня екнуло. Было до купола саженей тридцать-сорок, и выглядел он так, будто я действительно сквозь него проехал. Только не на легком «ханьяне», а на тяжелом краулере.
«Шутки Деймоса… — подумал я и усиленно поморгал. — Игра теней… Дурацкие шутки!» — Я знал, что это не так.
Я запустил турбины и стал разворачиваться. Я ничего не соображал, руки повиновались мне плохо, а турбокар еще хуже.
Наконец развернувшись, я врубил дальний свет и убедился, что это действительно были останки купола — точно такого же, как у Мефодия. Жутко и бессмысленно изувеченные останки.
Заблокированные фильтры, вместо того, чтобы задохнуться и пребывать в коме, шумно агонизировали. Я отыскал на панели нужную клавишу и утопил, дабы милосердно прикончить их электрошоком. Все равно они не дотянут до Дальнего Новгорода в таком состоянии… Но то ли что-то было не в порядке в сети, то ли сами фильтры оказались не в меру живучи — треск и чмоканье не прекратились. Ну и мучайтесь, дурни, шут с вами!
Я поймал себя на том, что думаю об испорченных фильтрах лишь для того, чтобы не думать о главном: об останках, лежащих в тридцати саженях от меня.
Что произошло с куполом? И когда это произошло — пока я спал. или раньше? И где Мефодий? Или это все же не наша проплешина и не его купол?
Мне захотелось притвориться, что это не наша проплешина, что я-таки промахнулся на две версты вправо и на три-четыре вперед. Но я запретил себе это делать. Я знал, что на той, не нашей проплешине все поющие и все безголовые устрицы были выбраны или разрушены четыре года тому назад, и никому нет никакого смысла ставить там купол.
Медленно, гораздо медленнее, чем следовало бы при таких обстоятельствах, я стронул турбокар с места и стал приближаться к перекрученному раздавленному каркасу с обрывками прозрачной пленки на ребрах. И только приблизившись почти вплотную, я понял, что зря умертвил совершенно исправные фильтры в машине моего друга.
Хлюпала, трещала, чавкала, плевалась ацетиленом Карбидная Пустошь. Торопливо, жадно, взахлеб, взрыкивая от жадности и торопливости, пила вино, водные растворы купороса, кислот и щелочей, хренную настойку, «анисовку» и просто воду из продавленных канистр и фляг, из разбитых склянок, пробирок и колб, из накренившегося бидона без крышки, из открытой металлической фляжки со скорпионом на выпуклом, боку, из мятого и опрокинутого ведра. Все это дребезжало и вздрагивало на размягченном, с лопающимися пузырями карбиде, а особенно сильно доставалось ведру: как заводная игрушка с неистощимой пружиной, оно каталось по кругу, подпрыгивая, гремя и махая полуоторванной дужкой.
А посреди этого разора лежал, обнимая левой рукой кислородный баллон, изувеченный человек с кровавой маской вместо лица, и Карбидная Пустошь пила из него кровь. Это был Мефодий Щагин, мой однофамилец и почти ровесник, странный человек среди марсиан, единственный человек на Марсе, которого я мог назвать своим другом. Это был, несомненно, он, потому что на нем был выцветший, видавший виды комбинезон «под звездолетчика» с эмблемой Матери-Земли на левом рукаве: светло-зеленым листиком клевера в коричневом круге. В Дальней Руси никто, кроме Мефодия, не носил таких комбинезонов, они вышли из моды лет пятнадцать тому назад.
Мефодий Щагин был очень странным человеком — и, по всей вероятности, уже мертвым…
У меня под ногами хрустело, плескалось и погромыхивало, и какие-то серые хлопья липли к ботинкам и гачам, когда я, увязая в мокром карбиде и то и дело теряя сознание, волок Мефодия к распахнутой дверце «ханьяна». А до этого мне пришлось отрывать его скрюченные пальцы от вентиля кислородного баллона. Я отрывал их целую вечность, и за эту вечность терял сознание как минимум дважды. Мне казалось, что мои черепные кости трещат и раздвигаются по швам от ацетиленового угара.
На полпути к распахнутой дверце (целых семь саженей была длина пути, а ближе я не рискнул подъехать, помня самовозгорание ацетилена во сне) я понял, зачем он сжимал этот чертов вентиль. «Перед смертью не надышишься!» — сказал я мертвому другу. И закашлялся так, что боль от кашля прожгла меня насквозь, от гортани до переполненного мочевого пузыря. Это было как наказание за черный юмор, но я не раскаялся, помня, что Мефодий при жизни любил черный юмор и решительно отделял его от юмора грязного и от «похабщины обыкновенной». Правда, не всегда можно было понять, какими критериями он руководствовался, решительно отделяя.
Я положил его кровавой маской к небу на полпути к тачке и налегке вернулся к баллону. Ползком, сжимая голову ладонями, потому что голова была тяжелая, как баллон, и череп уже раскрывался, как перезрелый бутон тюльпана. Баллон оказался почти полным, и я в три обжигающих вдоха прочистил легкие и сдвинул обратно лепестки моего черепа. Но вот шланг у баллона был короток — не стоило и пытаться дотянуть его до Мефодия. Да ему уже и не надо…
Сделав еще один глубокий вдох, я, уже не переводя дыхания, доволок Мефодия до тачки, уложил на заднее сиденье, врубил продув салона, вышел и, захлопнув дверцы, бегом вернулся к баллону. Он-таки был тяжел. На семи саженях пути я раз пятнадцать приложился к шлангу. Но и с баллоном я в конце концов справился, доволок и свалил его на пол машины, под сиденье с трупом. Забрался сам, захлопнул дверцы уже изнутри и стал дышать. Из шланга. Потому что и сам я, и мертвый Мефодий («Мертвый! Мертвый!» — я повторял это, как заклинание, и старался поверить: если поверю, случится наоборот…) — и мертвый Мефодий, и сиденья, и пол, и даже стекла салона были в мокром карбиде. Даже серые хлопья, налипшие на мои гачи, потрескивали, и от них несло.
Надо было вычистить и выбросить из машины всю эту мерзость. Потому что запасные, маломощные фильтры уже захлебывались от переедания, набрасываясь набрасываясь на вкуснятину, которую мы наволокли в салон; а основные фильтры я сам ни за что ни про что убил. И еще хлопья эти гадостные расползаются под пальцами и никак не хотят отделяться от штанов.
Я наконец понял, что это были за хлопья. Это была гигроскопическая пена, употребляемая Мефодием для упаковки марсианских устриц. Надо полагать, что все они, искусно и бережно извлеченные из сухого карбидного слоя, рассортированные по одному Мефодию ведомым признакам, упакованные для продажи, подготовленные для его непонятных опытов, приговоренные к последней песне в кругу ценителей — все поющие и все безголосые устрицы обратились в прах. Много бы я дал за то, чтобы услышать этот могучий и странный аккорд! Половину всего, что имею, отдал бы — пятьсот целковых. Пятьсот семьдесят четыре с мелочью…
Я опять поймал себя на том, что думаю не о главном, потому что о главном думать боюсь. Хватит заклинаний, сказал я себе, глядя на тело Мефодия. Хватит вранья и пряток от самого себя. Возьми себя в руки и убедись наконец в том, что он действительно мертв. Я взял запястье мертвого друга («Мертвого! Мертвого!») и честно попытался нащупать пульс.
Пульс был.
Я задохнулся (теперь уже не от вони) и на радостях решил махнуть рукой на свой мочевой пузырь — пусть делает свое дело. Фильтрам все равно каюк, и вони не прибавится. Но оказалось, что мой мочевой пузырь успел распорядиться сам. Это было жутко смешно. Это был юмор ситуации. Или черный юмор грязной ситуации.
Я хохотал до боли в гортани, желудке, почках и ниже, направляя струю кислорода в разбитую морду друга. Когда-нибудь потом я расскажу ему (у меня будет возможность ему рассказать!) об этой жутко смешной ситуации. А он с непритворно серьезным видом вынесет свой вердикт: был ли это благородный Черный Юмор, или «похабщина обыкновенная». У него будет возможность вынести свой вердикт!
Но сейчас у него нет такой возможности — и это хорошо. Господи, как это хорошо, что он без сознания, что он хотя бы сейчас не чувствует боли.
8
Я перебрался на водительское место и вырубил фары. Темнее не стало. Я удивился и посмотрел на небо.
Деймос уже оторвался от горизонта и выволок на себе то, что осталось от Последней Звездной. Но даже полный Деймос во всех его шутовских зеркальных лохмотьях не мог давать столько света… Я осторожно осмотрелся не поворачивая голову, а только скашивая глаза влево и вправо.
Это были прожекторы. Или фары. На турбоциклы опричников ставят очень мощные фары. Они зачем-то осветили меня с трех сторон, оставляя мне единственный путь: сквозь раздавленный купол.
Мне совсем не хотелось делать то, чего ждут от меня эти ребята… Интересно, видели они или нет, что я уволок оттуда баллон? Знают они, или не знают, что взрыва не будет — даже если ацетилен «самовозгорится»? Осветили, как в цирке…
Ладно, сейчас вам будет цирк.
Я взялся за ключ зажигания и плавненько повернул. В Ханьяне делают очень хорошие тачки. Легкие, изящные, комфортабельные. С бесшумно работающими турбинами… Ребят надо прежде всего удивить: это затормаживает сообразиловку. Мефодия я уложил головой направо. Это надо учесть при маневре.
Продолжая сидеть неподвижно (пускай они сами придумают: от усталости, или от потрясения), я ждал, пока турбины разогреются и наберут полные обороты. Дождался и с места (сожгу сцепление!..) взял сорок пять верст, одновременно закладывая вираж. Ребята, надо полагать, пораскрывали рты за своими щитками из гермостекла, глядя, как я на двух левых колесах аккуратно обогнул останки по крутой параболе, хлопнулся на все четыре и с форсажным ревом устремился к выходу из подковы.
Но ребятами, надо полагать, руководил хороший тактик: на концах подковы он расположил тех, у кого была самая быстрая реакция, и проинструктировал их неожиданным для меня образом. Они не стали хвататься за кобуры и палить мне навстречу парализующими лучами, раскуя наверняка промазать и повыводить из строя своих же. Они тоже форсажно взревели и с двух сторон бросили свои турбоциклы наперерез мне. Наперерез и с упреждением — так, чтобы три наших траектории, встретившись в одной точке, нарисовали стрелку с аварией на конце.
Оказывается, им во что бы ни стало нужно было помять мой красивый синий капот с белым крестом. Но это я сообразил уже потом. А тогда. оглянувшись назад, я поразился их непрофессионализму и восхитился их самоотверженностью.
Цирк продолжался. Два турбоцикла встретились в полутора саженях позади «ханьяна» и слиплись в один чудовищно нерациональный механизм, а седоки, теряя на лету кивера и кислородные маски, крутили встречные сальто в воздухе. Это впечатляло. В мощном контровом свете стремительно удаляющихся фар это было незабываемое зрелище.
Потом позади полыхнуло и стало еще светлее, чем от фар-прожекторов. Даже зеркальная хламида Деймоса на время поблекла в зареве пожара. И, по компасу кладя свою тачку на курс восток-северо-восток, я искренне молился за ребят: чтобы их не очень сильно опалило, чтобы они успели убраться подальше и чтобы в спешке не забыли тех двоих, кувыркавшихся без кислородных масок. Я не верил, что они пытались убить моего друга. Зачем? Просто им, как и любой полиции в мире, позарез нужен был подозреваемый — и вольно же было мне, подвернувшемуся на эту роль, самому не позаботиться об уликах…
Когда я влетел, наконец, в широкую тень забора и мои фары выхватили из тьмы калитку, я увидел, что слева от нее распахивается незамеченная мною ранее воротина. Прожекторные блики погони уже плясали по верхней кромке забора, поэтому я не стал задумываться.
Воротину придерживал одной рукой стриженый «под горшок» добрый молодец в белой с вышивкой косоворотке навыпуск и полосатых штанах. Гороховый Цербер тоже был здесь и, как бы не вполне доверяя силушке добра молодца, лично подпирал воротину плечом. Пропуская меня, он указал пальцем на мои фары и махнул рукой куда-то вглубь частного владения.
Я выключил фары и в непроглядной тьме (куда подевался Деймос?) медленно двинулся в указанном направлении, пока саженей через пятьдесят не уперся во что-то. Мигнув подфарниками, я увидел, что это была кирпичная стена. Не имитация из силиконового пластика, а настоящие кирпичи из настоящей глины… Оглянувшись, я не увидел забора — только прожекторные лучи над его кромкой. Высокий. в два человеческих роста, забор был полностью затенен от Деймоса кирпичным зданием! Черт знает сколько стоит такое количество кирпичей!
Я заглушил турбины и стал ждать. В салоне воняло. На заднем сиденьи неровно и страшно хрипел Мефодий, уже приходящий в сознание.
Минуты через две стало светло: где-то надо мной снаружи зажгли фонарь. Или окно. Рядом объявился Цербер, вжался носом в боковое стекло. Я осветил салон, и несколько мгновений мы смотрели в глаза друг другу, а потом он медленно улыбнулся, обнажив немногочисленные зубы, иззелена-черные от маковой жвачки. Улыбка у него получилась какая-то вынужденная, в ней читались корысть и тщательно подавляемый страх. Впрочем, не все ли равно, из каких побуждений он совершил свой героический поступок. Если ему нужна мзда, он ее получит.
Цербер жестом предложил мне выйти из турбокара и отступил от дверцы. Я отрицательно мотнул головой и провел ладонью по лицу, показывая, что у меня нет кислородной маски, а потом кивнул назад, на Мефодия. Цербер снова вжался носом в стекло, вгляделся и очень озаботился лицом.
За забором взвыли и заглохли турбины, и тотчас раздался настоятельный стук в калитку. Цербер даже не повернул головы в ту сторону. Он опять улыбнулся, пошевелил губами (видимо, что-то сказал) и повторил жест.
И тогда до меня наконец дошло, что он стоит снаружи без кислородной маски — дышит, говорит и улыбается!
— Они? — спросил он неожиданно звучным баритоном, едва я распахнул дверцу.
— Это опричники, — ответил я, вылезая наружу и с наслаждением вдыхая удивительно чистый, воздух. — Я, конечно, могу заплатить штраф, если они удовлетворятся штрафом, но мне кажется…
Цербер прервал меня, предостерегающе помахав пальцем, пригнул голову и еле слышно забормотал в ладонь.
— Тогда в гостевой терем, — сказал все тот же баритон. — Распорядись отогнать псов, если сами не уберутся, и разбуди Марьяна. Почему они вместе? Он уже знает?
Цербер опять забормотал.
Я слегка удивился, слышав имя, известное не только в Дальнем Новгороде и не только на Марсе, потому что знал, о каком Марьяне говорит господин Волконогов. Звучный баритон принадлежал, конечно же, ему, а не Церберу.
Марьян-Вихрь был турбогонщик Божьей милостью, не потерпевший ни единой аварии даже на головоломных трассах Восточной Сьерры под Нова-Краковым, и дважды принимавший участие в Ледовых ралли на Ганимеде, куда примерно каждое одиннадцатилетие слетаются лучшие гонщики Земли и Диаспоры. Марьян был там в десять и в шестнадцать лет (19 и 30 земных) — то есть, слишком рано и слишком поздно, чтобы стать победителем. Зато в отличие от многих он сумел вовремя уйти из профессионального спорта и примерно год тому назад, неожиданно для всех, стал личным ездовым господина Волконогова. В Дальнем Новгороде еще не перестали по этому поводу восхищаться деловой хваткой второго и пожимать плечами в адрес первого.
Я решительно не понимал: зачем будить Марьяна в связи с нашим появлением в усадьбе? Впрочем, это личное дело Марьяна и его работодателя…
Между тем, Цербер закончил бормотать в ладошку и повернулся ко мне.
— Прошу покорно следовать за мной, Андрей Павлович… — проговорил он тем голосом, которого я от него и ждал — глухим и скрипучим. Опять он чего-то боялся и, не заметив, сказал двусмысленность: покорно просит, или мне надлежит покорно следовать?
Я кивнул (отвык разговаривать вне помещений!) и сунулся к задней дверце «ханьяна», но меня вежливо оттеснили набежавшие откуда-то добры молодцы все в тех же форменных косоворотках навыпуск. Они развернули носилки, бережно и сноровисто уложили на них Мефодия, подхватили носилки с четырех сторон и быстрым, профессионально ровным бегом понесли куда-то налево вдоль стены высокого кирпичного здания.
Мы с Цербером медленно двинулись в ту же сторону.
9
Это было не здание. Это была стена. Могучая крепостная стена с раздвоенными зубцами поверху и узкими вертикальными бойницами между ними. Верхушку этой стены я видел много раз, возвращаясь с Пустоши, но издалека и сквозь испарения не узнавал, а вблизи ее заслонял забор.
Разумеется, это была всего лишь копия, хотя и превосходная. Нужно было бы продать урановые копи Марсо-Фриско, не говоря уже о Карбидной Пустоши и то вряд ли хватило бы оплатить доставку с Земли хотя бы десяти зубчиков оригинала. К тому же, насколько я помню, археологи успели восстановить не более пятидесяти саженей Стены (тридцать четыре левее Собачьей башни и неполных пятнадцать напротив Георгиевского Спуска) — а усадьба господина Волконогова была обнесена ею по всему периметру.
Но это я узнал потом, когда мы оказались внутри. Стена впечатляла. Мы шли сквозь нее очень долго и почему-то вниз, крутыми лестницами и наклонными сводчатыми коридорами, освещенными редкими тусклыми имитациями факелов в нишах, и не было ни единой двери ни справа, ни слева, но то и дело попадались какие-то заплесневелые тупики самого зловещего вида и запаха… Добры молодцы с носилками куда-то пропали, но меня это не беспокоило: я уже понял, что сплю и вижу сон. Невероятное количество кирпичей, плесень, воздух как над пашней — ничего этого не могло быть на Марсе. Я сплю на переднем сиденьи «ханьяна», скоро проснусь и увижу в нескольких саженях от себя купол Мефодия, совершенно целый. Еще лучше было бы проснуться в двухкомнатном «люксе» в бельэтаже «Вояжера». Кстати, пора бы мне оттуда съехать и поискать гостиницу подешевле…
Потом было обширное пространство с запахами прелой хвои и свежеструганого дерева, влажные песчаные дорожки с кирпичными бордюрчиками, веселые терема с ярко освещенными изнутри витражными окнами, глубокое звездное небо. Совсем земное небо, если бы не Деймос, карабкавшийся навстречу Фобосу и застрявший между зубцами Стены… В общем, это был приятный сон, но мне он уже порядком наскучил. К тому же, совсем не хотелось, пройдя через высокие резные двери в один из теремов, обнаружить там какие-нибудь пыльные скелеты. Или Харитона Петина с дубинкой. Или душную экзекуторскую с широкой каменной скамьей, на которой меня сейчас растянут и будут пороть плетьми. Или что там еще бывает во сне. Поэтому, поднявшись вслед за Цербером на высокое крыльцо терема, я с самым решительным видом уселся на последнюю ступеньку и вознамерился проснуться.
Проснуться мне не дали. Подхватили под руки с двух сторон и бережно внесли внутрь. Скелетов не было, а был вощеный деревянный пол, цветастые парчовые портьеры, невероятных размеров люстра на длинных цепях и настоящий огонь в настоящем камине. Мебели было немного: стол, стул и лавочка перед камином. Лавочка пустовала, стол был накрыт свисавшей до пола скатертью с вышивкой и ломился от яств, а стул был крайне неудобен: прямая высокая жесткая спинка с угловатой резьбой, узкие прямые подлокотники и жесткое сиденье. Ноги мои не доставали до пола. Горохового Цербера уже почему-то нигде не было. Было много суетящихся парней в чистых белых косоворотках и еще больше степенных девиц в длинных (непрозрачных) сарафанах и с кокошниками, а я был неописуемо грязен, вонял и не соответствовал обстановке. Если бы я оказался еще и без брюк, то я бы точно знал, что это сон. Но брюки на мне были, и брюки мне нужно было сменить.
Ни добры молодцы, ни красны девицы никакого несоответствия не замечали. Они делали вид, что так и надо, и даже не морщились. Они лишь белозубо улыбались, раскладывая у меня на коленях белоснежный рушник и затыкая мне за ворот белоснежную хрустящую салфетку. Я все еще надеялся проснуться и не сопротивлялся. Но когда мне с поклоном поднесли на серебряном блюде массивную серебряную чарку, украшенную золотой чеканкой с изображением двухголовой птицы, я отрицательно мотнул головой, отнял от подлокотников свои грязные руки и выразительно посмотрел на них.
— Помыться бы, что ли… — проговорил я просительно. — И что с Мефодием? Куда вы его унесли?
Красна девица не шелохнулась, продолжая протягивать мне блюдо с чаркой и приветливо улыбаться, и лишь вопросительно покосилась куда-то мне за спину.
— Не извольте беспокоить себя, светлый князь, — ответили мне тихим голосом из-за спины. — Откушайте, не побрезгуйте. А баенка сей минут будет готова.
Добрых молодцев от этих слов как ветром сдуло, а красны девицы медленно двинулись прочь, пятясь и кланяясь. Лишь та, которая с чаркой, продолжала стоять рядом, улыбаясь чуть напряженно.
— Народец ваш, сами изволите видеть, умом не зело расторопен, продолжал тихий голос. — И усерден, а бестолков-с.
Я ухватился руками за подлокотники и заглянул за спинку (дурацкий стул!). Говоривший был низковат, полноват, лысоват и одет без претензий на старорусскость — как я, но в чистое. Улыбка у него была не более чем вежливой, взгляд желтых глаз невыразителен, но цепок, а пальцы рук, умильно сложенных на животике, нервно подрагивали. Лицом он был вылитый Гороховый Цербер — но гладко выбритый и вдруг помолодевший лет на сорок.
— Князь? — переспросил я неприязненно. — Вы меня с кем-то путаете, сударь.
— Отнюдь нет, Андрей Павлович, — возразил человечек. Забрал у девицы блюдо (она, еле слышно вздохнув, поклонилась и плавно попятилась прочь), подошел ко мне вплотную и шепнул:
— Сядьте прямо; держите себя достойно; возьмите чарку.
— Что? — растерялся я, однако сел прямо и взял.
— Пригубите, — шепнул человечек, а вслух повторил: — Откушайте, не побрезгуйте.
— Перестаньте кривляться, — попросил я. — Вы кто — господин Волконогов? Где Мефодий? Ну, тот человек, которого я привез. Что с ним?
Человечек молчал, держа перед собой блюдо и невыразительно глядя на меня снизу вверх. Я пригубил. В чарке был мед. Очень душистый и крепкий градусов двадцать, не меньше.
— Ну, пригубил. Дальше что? — спросил я и попытался поставить чарку на стол.
Человечек ловко перехватил ее и поставил сам. Блюдо он сунул, не глядя, подбежавшему молодцу, а мне подал золотую двузубую вилку и стал придвигать закуски: салатницу с груздями в чесночном рассоле, тарелочки с какими-то паштетами, миску со студнем из белорыбицы, горушку мелких птичьих тушек в жаровне… Одновременно он говорил — тихим, ровным, спокойным голосом, никак не соответствовавшим содержанию:
— Я не кривляюсь и не юродствую, светлый князь. Просто я знаю о вас больше. чем вы. Такая у меня профессия: знать. Вы кушайте, кушайте… Государь Мефодий Васильич — у себя, в государевом тереме, и господин Волконогов там же, и все государевы лекари… А меня Савкой зовите и обращайтесь ко мне на «ты». Савелий Семенов я, по фамилии — Бутиков-Стукач, потомственный филер и доноситель. То есть, человечишко самого подлого роду-племени, и до той поры, пока лично в службе не отличусь, по батюшке меня величать не положено. Вот-с… Вы кушайте, кушайте, светлый князь, а я говорить буду… Касательно телесной хвори Государевой: она излечима и, по всей вероятности, будет излечена. Но и при таком благоприятном исходе вам надлежит быть готовым к приятию великого бремени…
— К чему?
— К престолонаследованию-с… Мефодий Первый, Государь-Самодержец Всея Великия и Малыя и Белыя и Дальния Руси девятнадцать лет тому назад изволили отречься от престола, облаяв своих думных бояр неподобающими словами. Сделанное по недомыслию и в горячности, отречение не было принято, но в силу формальной преклонности лет Государя боярская дума поставила ему регентом господина Волконогова…
— Бред, — проговорил я с набитым ртом. — Но забавный. Это что воробьи?
— Дрозды, светлый князь.
— Их же руками надо, а у меня руки грязные.
— Баенка уже истапливается, а подлым людишкам ни к чему нашу беседу слышать. Вы пальчики рушничком вытрите — ничего, постирают. А дроздов на вилочку, да и в рот. Косточки-с мягкие, пропаренные, даже не почувствуете. Мне продолжать ли?
Я кивнул. Дрозды оказались немногим вкуснее курятины, но косточки, действительно, не чувствовались. Можно было даже не жевать.
А вот сведения, сообщенные мне тихим ровным голосом филера Савки, ни прожевать, ни усвоить было никак невозможно. Они не лезли ни в какие ворота и были слишком противоречивы даже для параноидального бреда. Я престолонаследник Мефодия первого, который пытался отречься, но ему назначили регента «в силу преклонности лет»… Может быть, все-таки, «по малолетству»? Мефодий на целый год моложе меня, девятнадцать лет тому назад ему было тринадцать — то есть, около семи, если по-марсиански… То ли я думал вслух, то ли считал на пальцах, потому что Савка сказал:
— Ко дню утверждения регентства Мефодию Васильичу было без малого сто сорок лет.
— Сколько?
— Сто тридцать восемь по земным календарям-с, — ответил Савка, снова наполняя чарку, которую я как-то незаметно опростал.
Я опять кивнул (с самым серьезным видом) и подумал, что убежать из этой психушки, наверное, будет непросто.
— Ваш прапрадед, светлый князь Еремей Васильич, был его старшим братом и первенцем светлого князя Василия Юрьевича, — все так же ровно говорил филер, как будто сообщая результаты скучных архивных поисков (так оно и оказалось впоследствии — только поиски эти производил не он). — Еремей родился и упокоился на Земле. Мефодий же был зачат на борту «Лены» и появился на свет на борту «Луары» вскоре после гибели светлого князя Василия Юрьевича, чей прах, сожженный под парусами «Юкона» и «Лены», развеян в пустоте, в полупарсеке от Вселенского Предела…
Убежать будет непросто, а за забором меня поджидают опричники на турбоциклах. Правда, Церберу было приказано «отогнать псов» — но вряд ли он отгонит их далеко. Я эту породу знаю, они сутками ждать могут.
10
В «баенке», пока меня отмачивали, терли, хлестали, мяли, снова хлестали и снова отмачивали, я пытался припомнить все, что я знаю о Последней Звездной Экспедиции. Знал я немного.
1. Последняя Звездная в составе трех фотонных парусников («Луары», «Лены» и «Юкона») покинула Систему что-то около двухсот лет назад.
2. Экспедиция имела задачей миновать Вселенский Предел (существование которого было уже теоретически доказано, поскольку являлось побочным следствием Предельной Теоремы Геделя-Тяжко) и попытаться достичь хотя бы Проксимы Центавра.
3. Как и семь предыдущих экспедиций, Последняя Звездная свою задачу не выполнила, вписав еще одну бесславную страницу в историю несостоявшейся звездной экспансии человечества.
4. «Луара», флагман Последней Звездной, вернулась в Диаспору двадцать один год тому назад и потерпела крушение на околомарсианской орбите.
(Мне в то время было 12 лет, и я, как многие мои сверстники, переболел «звездной лихорадкой» в самой острой форме. К вящей славе Сибирской школы психологов — трудотерапия плюс природосообразность — я выздоровел уже к 15 годам. Я не пополнил собою ряды изобретателей «пространственных конвертеров», ниспровергателей Предельной Теоремы, нищих паломников по святым местам Звездной Экспансии и членов Братства Астероидных Отшельников; а вовремя обнаруженный у меня талант к нетрадиционной стоматологии обеспечил мне безбедное существование…)
5. Один из участников экспедиции, такелажник «Лены» Василий Щагин, действительно был моим предком и действительно погиб, а прах его был «сожжен и развеян». Почти все такелажники всех трех кораблей погибли именно так, осуществляя разворот эскадры в неустойчиво деформированном пространстве Предела. При этом снасти «Юкона» и «Лены» безнадежно запутались друг в друге и сами в себе, а полотнища их парусов образовали сложную полуторастороннюю поверхность, описать которую оказалось невозможным ни в одной из ныне существующих геометрий.
(Помнится, я чуть не свихнулся как раз на попытке осмыслить эту поверхность и осчастливить человечество отысканием формулы пространственных зыбей Предела — для обуздания оных…)
6. Экипаж «Юкона» и «Лены» перебрались в гондолу флагмана, парус которого уцелел. Но оставшихся в живых такелажников едва хватало для управления снастями «Луары» — к тому же, погибли, как это всегда бывает, самые лучшие. Не удивительно, что «Луара», маневрируя на подлете к Марсу, сначала сожгла ветром добрую половину русской территории Фобоса, а потом зацепила краем полотнища Деймос. Удивительно то, что гондола парусника с мертвым экипажем и работающими реакторами не врезалась в планету и даже осталась на замкнутой, почти круговой орбите. Теперь там музей.
(И толпы нищих паломников, сквозь которые не пробиться, если ты не сотрудник музея и не близкий родственник сотрудника. Родство с участником экспедиции ничего не значит: едва ли не треть паломников, если верить их фальшивым документам, состоят в таком же родстве. Еще одна треть потрясает письмами, справками и прошениями от исторических, естественнонаучных и теософических обществ, а остальные рьяно следят за соблюдением живой очереди…)
7. Я никогда ничего не слышал о выживших участниках Последней Звездной Экспедиции, равно как и о возвращении в Диаспору кораблей других экспедиций, достигавших Предела.
К тому времени, когда меня обсушили и начали облачать в чистое (вертя задами и призывно хихикая), я успел дважды обревизовать список известных мне фактов и дважды убедиться в том, что они ничего не объясняют. Но если принять на веру, что Мефодий родился на «Луаре» и прожил там первую треть своей жизни, то многое в нем перестает казаться странным. Например, то, что он носит вышедший из моды комбинезон «под звездолетчика» (уж не настоящий ли?). Плюс привычка подолгу и молча пялиться в звездное небо (когда в нем не видно Деймоса). Плюс более чем серьезное отношение к юмору как форме человеческого общения (что было свойственно, если судить по книгам, Героическому двадцать первому веку). Словом, очень даже не исключено, что мы с Мефодием Щагиным — не просто однофамильцы.
Вот только одно непонятно: когда это Щагины успели заделаться князьями, да еще и узурпировать несуществующий российский престол? «Всея Великия и Малыя и Белыя и Дальния…» Или это — бзик богатенького господина Волконогова? До неприличия заскучал и решил поразвлечься. Отгрохал Стену из настоящих кирпичей, понастроил теремов, костюмировал кучу статистов. Самого Марьяна-Вихря в ездовые нанял. Таможню купил: исключительно и только для того, чтобы не выпускать меня из Анисово до начала спектакля…
Остается еще загадочный пьяный бред Колюньчика Стахова: разумные черви-оборотни, сочинитель Саргасса из Южной Америки и криптолингвист из Швеции. Или Дании?
И остаются еще опричники на турбоциклах. «Отгони псов». Гм. Похоже на то, что они едва не сорвали спектакль, и жаль, что им это не удалось. Лучше бы они меня поймали… А может, они тоже куплены? Может, потому и не поймали, что не ловили, а гнали в ловушку?
И может быть, мне все же позволят выспаться, прежде чем продолжать комедию?
Когда меня, отчаянно зевающего и путающегося в рукавах и полах тяжелых (наверное, царских) одежд, вели под белы руки из бани обратно в терем, мне опять повстречался Гороховый Цербер. Разыгралась безобразная сцена: дряхлый старец пал на четыре кости, нечленораздельно взвыл и затеял возить лысиной по песку. Я попытался его обойти, но у старого шута, похоже, был третий глаз на макушке. Бороздя лбом песок и сковыривая им же кирпичи бордюрчика, Цербер на карачках кидался в ту же сторону, что и я, неизменно оказываясь у меня на дороге.
— Уберите дурака! — заорал я, обращаясь к добрым молодцам. — Что ему от меня надо?
Но они, видимо, тоже оторопели. Они едва успевали шарахаться вместе со мной то влево, то вправо, но продолжали при этом крепко держать меня под руки.
— Ручку, светлый князь, — раздался чуть позади тихий голос филера Савки. — Ручку не изволите ли подать моему папане? Для целования, в знак того, что не держите на него зла-с…
И вот тут со мною, кажется. приключилась истерика — потому что дальнейшее я помню урывками.
Помню, как топал ногами в песок, орал: «Во-он!» — и распихивал добрых молодцев, норовя локтем в зубы. Помню, как из терема набежала толпа каких-то бородатых, в мохнатых шапках и воротниках (одного я немедленно и с наслаждением дернул за бороду), суматошно трясли рукавами и приговаривали:
«А не в себе светлый князь — или куражится?»
«Не в себе-с, не в себе-с…»
«Истинный Рюрик!»
«Берсерки-с, варяжья кровь!..»
Помню, как меня, продолжающего орать: «Кончайте комедию!» — месить конечностями воздух и требовать, дабы предстал пред мои светлы очи сукин сын господин Волконогов, куда-то несли.
И больше ничего не помню, кроме мокрой от слез подушки, которую я кусал, а она напрягалась и взвизгивала, пока я не спихнул ее на пол и не заснул так.
11
…А все началось с того, что погибли мои туберозы.
Я к ним привык за восемь лет. Я даже разговаривал с ними, когда мы оставались одни. Им было не по себе под атмосферным куполом Норильска, и они часто вспоминали Данию, где когда-то цвели под открытым небом. А вот Южную америку, свою историческую родину, они уже не помнили — про Южную Америку им рассказывал я. Наверное, врал безбожно, потому что никогда в ней не бывал. Я вообще нигде не бывал, кроме трудотерапевтического санатория на Ваче, где меня лечили от «звездной лихорадки», и высокогорного курорта на Памире — там был Азиатский филиал Лицея нетрадиционной медицины… Впрочем, туберозы, наверное, тоже привирали, когда восхищались Данией. Открытое небо в приморской стране? Разве что очень большой купол из очень качественного коллоидного газа — а то и целая система куполов на изрезанном фиордами побережье… В Норильске мои туберозы были эмигрантами; эмигранты всегда привирают, вспоминая родину.
Мы с ними познакомились по почте, через бесплатный рекламный каталог семян, однажды оказавшийся в моей почтовой нише. Мне понравилось звучное имя цветов, и в тот же вечер я отправил заявку. Адрес был датский, семена оказались луковицами, а моя кредитная карточка по исполнении заявки заметно поголубела. Больше года я обслуживал только богатых (и очень капризных) клиентов, прежде чем вернул ей насыщенную синеву умеренного достатка. Все мои подружки вместе взятые обошлись мне, ей-Богу, дешевле, чем эти цветы.
За восемь лет — восемь периодов цветения — я сменил восемь подружек. Что делать: Норильский купол — не самая надежная защита для эфирно-масличных культур, и я не каждый день рисковал выставлять их на веранду. Мигрень мигренью, но цветы не виноваты в том, что умеют разговаривать только запахами. Лично мне их болтовня нисколько не мешала…
Утром того несчастливого дня я поверил синоптикам, обещавшим, что южный циклон пройдет мимо, и вынес мои туберозы из комнат. Циклон не захотел пройти мимо, а синоптики не успели нарастить мощность купола. За час до полудня с юга, со стороны Мазутных Болот, в прореху хлынула кислотно-парафинова взвесь.
Я работал, когда начался дождь. В моем кабинете сидел клиент с фиолетовой карточкой и тремя запущенными зубами, я уже восстановил ему подгнившие нервы и как раз заращивал последнее, особо каверзное дупло. Клиенту было щекотно, он то и дело дергал языком, а я не мог использовать марлевые тампоны: моя реклама гарантировала бесконтактное лечение. Поэтому все ренессансные пассы я выполнял только правой рукой, сосредоточив биотоки левой на языке.
Новорожденная эмаль затвердевает долго — никак не менее трехсот секунд. Все это время я вынужден был стоять рядом с клиентом, удерживать любопытный язык в четверти дюйма от зуба и беспомощно вглядываться в черные от дождя стекла, зная, что там погибают мои туберозы.
Едва закончив, я выбежал на веранду. Было поздно.
Даже луковицы, только-только начавшие оформляться, были все до единой изъедены дождем.
Вечером я узнал, что респектабельные кварталы Центра не пострадали, а нам, жителям южной окраины, выплатят компенсацию. Как всегда…
Мои туберозы я сжег под окнами дома: представлялось кощунством просто бросить их в утилизатор. Костер догорел… Я разбросал пепел, вернулся в пустой дом и заказал водку. Было за полночь. Дворники успели вымыть все окна и уже шебуршали манипуляторами по крыше, циклон ушел, над куполом сиял полярный день.
Я пил и не мог опьянеть. Было слишком пусто — и внутри, и снаружи. Некого стало любить — и все обессмыслилось. Дом и душа опустели.
Утром я понял, что это был рецидив «звездной лихорадки»: я пережил его в такой вот редкой, но достаточно известной форме, которую психологи называют «инверсией сверхценной идеи». К сожалению, я слишком поздно поставил себе диагноз.
На столе, меж трех пустых бутылок лежала моя девственно белая кредитная карточка, а в почтовой нише я обнаружил путевку от межпланетной туристической фирмы «Диаспора».
Путевка обещала увлекательный вояж по самым экзотическим мирам Вселенной: стратосферные поселения на Венере, подводные парки Европы, ледовые пещеры Ганимеда, террасы Мимаса и города-колодцы Оберона. Ну и, конечно же, непостижимый Русский Марс, с возможным посещением музея Последней Звездной.
Отказ от вояжа означал возвращение лишь трети его стоимости: уже не принадлежавший мне опустевший дом в Норильске я все равно не мог бы выкупить обратно. А съехать надлежало не позднее, чем через месяц после продажи. Зато отправляться в вояж можно было в любую из пятниц текущего года.
Что ж, зубы у людей болят не только на Земле!..
Дальняя Русь была последней в списке, но первой в маршруте. И уже на пути к Марсу мне пришлось возобновить практику: «Диаспора» оплачивала лишь необходимые расходы, не включая в число таковых секс. Пользуя гнилозубых туристов первого класса и офицерский состав экипажа, я получил возможность завести подружку.
У нее было редкое имя Аглая и не менее редкое отчество Феоктистовна, она оказалась коренной марсианкой и возвращалась домой из Сорбонны, где изучала историю православия. Ее папенька был священником в Дальнем Новгороде, имел приход в Купеческой Слободе и отличался истинно русской широтой взглядов: плотские грехи о. Елизар (в миру Феоктист) отпускал легко, а самые строгие епитимьи налагал на скаредов и любомудрствующих… Скаредом я, слава Богу, не был и работал как проклятый, чтобы доказать это Аглае. А любомудрием мы грешили вместе: наши легкомысленные дискуссии на обзорной палубе (о природе сил Вселенского Предела с точки зрения теософии) о. Елизар счел бы куда как более серьезным прегрешением, чем наши бурные ночи в ее каюте. По крайней мере, так утверждала Аглая.
По прибытии в Анисово мы с нею расстались так же легко, как и сошлись, и встретились опять через месяц. Она уже преподавала Священную Историю в церковно-приходской школе, а я ходил в таможню, как на службу, и качал права, которых у меня с каждым днем становилось все меньше. Работать мне при такой жизни было некогда, и я поневоле стал грешить скаредством…
А ведь мог бы оказаться богачом — сумей я только вырваться из Дальнего Новгорода! «Диаспора» честно вернула моей кредитной карточке первоначальный цвет — но здесь это был не более, чем красивый синий квадратик. Наличность (что-то около двухсот двадцатицелковых бумажек: гид-распорядитель группы сунул мне их через барьер за час до отлета…) безудержно таяла, а долю в Казне Дальнего Новгорода, перечисленную мне представительством «Диаспоры» из Марсо-Фриско, я почти всю употребил на покупку бессрочного билета.
Штампик! Одного-единственного штампика (о прививке против укуса карбидного клопа) не хватило в моей путевке! Никаких прививок никому из туристов не делали, потому что Карбидную Пустошь мы не посещали. Нечего там было осматривать, на Карбидной Пустоши, а поющие устрицы можно было купить на рынке. Гид-распорядитель просто собрал наши путевки и в тот же вечер вернул — со всеми необходимыми отметками. И штампики о прививке были у всех. Кроме меня. Пролистнули. Или не оттиснулся. Или просто стукнули мимо.
Так я решил (и то же самое сказал гид), когда всего за три часа до отлета обнаружился этот пустяк.
— А на кой черт он нужен? — спросил я таможенника. — Ведь я уже улетаю, и клоп меня не кусал.
Таможенник смотрел мимо меня, а гид (лицо у него вдруг сделалось озабоченным) крепко взял меня за локоть и отвел в сторонку от турникета.
— Послушайте, Эндрю, — сказал он мне вполголоса, — с ними лучше не ссориться. Поверьте моему опыту: будет только хуже. До отлета еще три часа, вы вполне успеете… — Говоря это, он что-то быстро начеркал с блокноте, вырвал страничку и протянул мне. — Найдите коридорного Митяя на восьмом этаже «Вояжера», отдайте ему эту записку и сорок целковых. Он все устроит… Турбокар водите?
Я ошеломленно кивнул.
— Возьмите наш. Бело-зеленый «фиат», вы знаете, на третьей стоянке, вот ключ… Бегом, Эндрю, бегом! У вас три часа — и ни минутой больше!
Я уложился в два.
Счастливый и запыхавшийся, я протянул таможеннику свою путевку. Едва глянув, он сунул ее обратно и буркнул: «Следующий». Турникет остался закрытым.
Я ничего не понял, а гид-распорядитель (он уже стоял по ту сторону барьера) успел заглянуть в мою путевку, понял все и схватился за голову.
— Сколько вы ему дали? — спросил он у меня свистящим шепотом.
— Митяю? Сорок…
— Подлец!
— Кто? — растерялся я.
Гид-распорядитель не ответил. Он торопливо выгребал из всех карманов деньги и сортировал их, отделяя дальнерусские купюры. Я осмотрел путевку. Штампика о прививке в ней не было, а были какие-то цифры.
Оказалось, Митяй устроил не все — он всего лишь устроил меня в очередь на прививку. Пятым на завтрашнее утро.
Вот так я и застрял на Марсе — на первый взгляд, совершенно случайно.
12
Спал я долго, крепко, без сновидений, проснулся с ясной головой и сразу все вспомнил. Надо мною был сводчатый потолок с разноцветной лепниной, передо мною — стрельчатые окна с витражами, а подо мною — мягкая перина, и я в ней утопал, укрытый до подбородка.
Было довольно светло — для Марса. На Земле я бы назвал это сумерками. Пахло застарелой пылью и сухими травами. Где-то в других помещениях хлопали двери, там торопливо шаркали и на бегу шептались. Рядом со мной, справа, кто-то не то зевнул, не то вздохнул и шелестнул бумагой.
Скосив глаза, я обнаружил красну девицу в длинной белой сорочке. Поджав колени, она умостилась на стуле (том самом или точно таком же), зевала, отчаянно терла глаза и читала толстенную книгу. Пыталась читать: света для этого было-таки маловато. Я деликатно кашлянул.
Красна девица глянула на меня непроспанными глазами, ойкнула и спрыгнула на пол (мелькнули ноги под взметнувшимся подолом). Постояла, хлопая ресницами и прижимая к груди раскрытую книгу, и кинулась вон. Не добежав до высокой двустворчатой двери, вернулась, захлопнула книгу, положила на стул и снова уставилась на меня.
А я на нее.
Она была длиннолица, курноса, высока и стройна. Вот только ноги, пожалуй, были тяжеловаты. Она стояла, как бы замерев на полушаге (сорочка просвечивалась насквозь) и смотрела на меня опасными болотными глазищами голубыми, но с марсианской желтинкой. Голову она откинула назад и вбок, чтобы тяжелые русые волосы не падали на глаза. Это делало ее похожей на удивленную гусыню.
Я усмехнулся. Не то, чтобы она показалась мне глупой, а просто еще, наверное, не проснулась.
— Доброе утро, — сказал я. — Меня зовут Андрей Павлович. А тебя?
— Дашка… — ответила она шепотом, подошла ко мне и, ухватив обеими руками одеяло, потянула его на себя и вверх.
— Э! — сказал я и вцепился в одеяло с другой стороны.
— Ой, да тише вы, — прошептала Дашка, одной рукой подобрала подол и полезла ко мне в постель.
— Э! — снова сказал я, потому что на мне, кажется, даже сорочки не было. — Это еще куда? А ну-ка брысь!
Но было уже поздно.
— Вам-то че, а меня-то выпорют… — зашептала она, щекоча ухо и прижимаясь ко мне всем своим длинным прохладным телом (сорочка на мне, оказывается, была, но слишком тонкая). — А Семка Бутиков знаете, как порют? Вы бы его, старого черта, велели в холодную на ночь, а? В одном исподнем, чтобы радикулитом скрутило. Хоть недельку вздохнем…
— Слушай, Дашка, — сказал я, поспешно отодвигаясь. — Скажи мне честно: ты действительно глупа, или притворяешься?
— Глупа, — хихикнула Дашка, скатилась в нагретую ямку и опять оказалась рядом. — А вам не все едино — в постеле-то?
— В постеле-то ладно, — согласился я. — Но у меня, знаешь ли, возникает такое впечатление, что вы все тут либо непроходимо глупы, либо… Слушай, перестань!
Отпихнув назойливую Дашкину руку, я попытался отдернуть свою, но не успел: рука попалась в горячий влажный капкан и не захотела отдергиваться. А потом капкан стал медленно раскрываться…
Нет, перина — это, все-таки, нечто сугубо земное и даже на Земле вряд ли удобное. А на Марсе, если учесть его слабую гравитацию, надо стелить пожестче. К тому же, после всех моих приключений — сначала на Пустоши, потом здесь…
Короче говоря, я оказался не на высоте, хотя Дашка так, по-видимому, не считала. А может, теперь она просто перестала бояться, что ее выпорют. Дрыхла с непритворно счастливым выражением на лице, навалясь теплой грудью на мою правую ладонь и для верности зажав в кулачке большой палец.
В холодную его, старого черта! — подумал я. На ночь, без порток… А почему бы и нет? Велю. Как его там — Санька? Сенька? Нет — Семка. Семка Бутиков… Знакомая фамилия, где-то я ее недавно слышал.
Спать мне уже не хотелось, но и тревожить Дашку не хотелось тоже, а господин Волконогов почему-то медлил возобновлять спектакль. Дождавшись, пока Дашкин кулачок разжался во сне, я осторожно высвободил ладонь, выполз из-под одеяла и на заду съехал с перины, как с мягкой горки. Оправил задравшуюся сорочку и пошел на цыпочках исследовать спальню.
Ничего полезного я в ней не обнаружил, кроме вороха царских одежд, как попало сваленных у изножья. Пошевелив груду ногой, я подцепил тяжелый кафтан с меховой оторочкой и длиннющими рукавами, поморщился и уронил обратно. В этом шутовском наряде далеко не убежишь.
Спальня была односветной, квадратной, обширной и очень пустой. От стены до стены было никак не меньше четырех саженей, а от пола до потолка еще больше. Перина (тоже квадратная — сажень на сажень) стояла под глухой стеной, напротив самого высокого из трех витражных окон.
Слева и справа имелись большие двустворчатые двери. Та, что справа, оказалась запертой (Дашка зачем-то бежала именно к ней — но это, наверное, спросонья). За левой дверью шептались, шаркали и, кажется, таскали что-то тяжелое. Я не стал выглядывать.
В простенках между окнами стояли два громадных неподъемных ларя. Они были ярко размалеваны райскими птицами, цветами и плодами, окованы железом и заперты на висячие замки. На том, что справа, был аккуратно разложен длинный желтый сарафан (Дашкин, конечно). На том, что слева, были: расшитый бисером кокошник, серьги со стекляшками, два браслета (гнутые полоски черненого серебра) и бусы из деревянных на вид полированных шариков, которые при ближайшем рассмотрении оказались силикопластовыми. Обуви не было, нижнего белья тоже.
Зато под кокошником обнаружился могучий кованый ключ. Я немедленно примерил его к замкам на обоих ларях и к запертой двери. Ключ не подошел.
Стекла в витражах были цветными и рифлеными — свет они пропускали, но и только. Я осмотрел оконные рамы и не понял, как они открываются. Скорее всего, никак.
Ниши, кладовки, тайники под картинами, потайные ходы за шкафами отсутствовали. Просто картины и просто шкафы тоже. Глухая стена была до середины высоты завешана коврами. Я попытался заглянуть за ковры, но они были прибиты. Дошечки мозаичного паркета везде были плотно пригнаны, а простукивать я не решился.
Выше ковров, над периной красовалась уже знакомая двухголовая птица, выполненная из белой, почему-то не раскрашенной, лепнины. Головы были хищными. Орленок табака, но в перьях. Из-под Семипалатинска, надо полагать, или с Русского Фобоса. Дашка дрыхла под ним и нисколько его не боялась…
За незапертой дверью стало наконец тихо. Осторожно приотворив и выглянув, я обнаружил там давешнюю трапезную — но не сразу ее узнал. Туда понанесли столов и лавок и расставили буквой «П» вокруг моего, с единственным стулом. Под окнами были кушетки и кресла, в простенках резные шкафы и буфеты. Свечи в люстре были погашены. Камин тоже не горел, но в нем уже были сложены свежие поленья и растопка. На столах было пусто.
Я притворил дверь, подбежал к вороху одежд и напялил-таки на себя кафтан. Рукава пришлось закатать. И все равно в нем было неудобно. Штанов я почему-то не нашел, а сапоги были: мягкие, красные, расшитые бисером и золотой канителью, с замысловатыми застежками на голенищах. Пока я с ними воевал, в трапезной опять зашаркали и зашептались.
Я присел на перину и стал ждать. Дашка дрыхла. Ей было хорошо.
К шарканью и шепоту добавились стеклянный звон и металлическое звяканье посуды. Я понял, что это надолго, и опять подошел к окну. Нет, все-таки оно не открывалось. Никогда.
Можно, конечно, чем-нибудь разбить…ключом, например. Но сейчас это вроде бы ни к чему. (Ключ я все-таки положил в карман кафтана — так, на всякий случай.)
Можно просто выйти в трапезную, потребовать объяснений. Но что мне объяснят шестерки, накрывающие на стол?
Можно, не обращая внимания на шестерок, поискать тузов. Но я не люблю проявлять инициативу, если не знаю, к чему это приведет.
Меня нужно загнать в угол и потыкать чем-нибудь острым, чтобы я стал действовать безоглядно. А в этом углу было просторно, мягко и ничем не тыкали. Постель, женщина, книжка (я взял со стула Дашкину книгу и бездумно полистал)… без картинок. Скоро подадут вино и фрукты. Если попрошу чего-нибудь еще — организуют..
Я забрался на стул, умостился на нем в Дашкиной позе и, положив на колени книгу, открыл наугад.
Бумага была очень хорошая — плотная, белая. Шрифт крупный и четкий… И света вполне хватало, если чуть развернуть страницы к окну. Вот только написано было что-то непонятное, хотя и по-русски:
«…не смотреть, куда Он показал. Но что-то во мне было сильнее, чем я, и оно заставило меня оглянуться. Стена пещеры разжижалась и зернисто текла. Как лягушачья икра, подумал я. Меня затошнило: это Он смотрел моими глазами.
— Грызи, — сказал Он и засмеялся.
Он говорил и смеялся моим голосом.
— Грызи, это вкусно.
Меня подвело к стене, наклонило, и Он стал хватать зернистый текучий гранит моими зубами…»
Очень художественная литература, подумал я. Закрыл книгу и попытался прочесть название на обложке. Оно было выполнено глубоким, но бесцветным тиснением. Я долго наклонял обложку так и сяк, пока не прочел.
Книга называлась «Я червь, я Богъ». Слово «Богъ» было написано с твердым знаком. Различить имя автора оказалось и вовсе невозможно — в конце концов, я нашел его на титульном листе книги.
Автором был Лео Кристоф Саргасса…
Здесь же, на титульном листе, я обнаружил и криптолингвиста из Скандинавии. Внизу, под заглавием, значилось: «Первое полное издание на русском языке с приложением криптолингвистического исследования профессора Маасме Грюндальфссона, доктора филологии (диплом Скандинавской Академии, Осло), магистра эзотерики и чернокнижия».
13
Первая возникшая у меня мысль была панической: не успею прочесть! (Хотя — зачем, собственно?)
Потом я вспомнил белое лицо Колюньчика Стахова и как он шарахнулся от меня вместе с креслом. Странная книга… То ли мне ее подсунули, то ли, напротив, оставили, не углядев… А Дашка почему не шарахалась? Она что умнее прочих? Или безграмотна? Это была вторая мысль.
Третья показалась мне самой здравой: спрятать, пока не отобрали! Но для начала просмотреть хотя бы оглавление.
В книге были четыре части, озаглавленные: «Я царь», «Я рабъ», «Я червь» и «Я Богъ». Предисловия не было, а исследование профессора Грюндальфссона называлось «Опыт некритического прочтения романа Л.К.Саргассы» и начиналось на пятьсот сорок третьей странице.
Ах, не надо было мне лихорадочно листать страницы с конца, ища 543-ю! Надо было сунуть книгу под перину, нырнуть в нее самому (хотя бы и в сапогах), привалиться к Дашке и притвориться спящим!
Едва я долистал до шестисотой, как с треском распахнулась одна из створок запертой двери, а другая, расколовшись вдоль, повисла на одной только верхней петле. В комнату, загородив проем, упало что-то тяжелое и стали вваливаться, кто запинаясь, кто перепрыгивая, рослые люди в оранжевых киверах и полукафтаньях, с дубинками в левых руках и с парализаторами наизготовку.
Дашка очнулась, заверещала, скатилась на пол и, продолжая верещать, зашлепала, дура, к своему сарафану, одергивая на бегу сорочку. Будь я в постели, я бы ее придержал, и все бы обошлось, потому что опричники, не обращая на нас никакого внимания, устремились к противоположной двери — в трапезную. Но один из них в длинном прыжке налетел на Дашку и грохнулся на пол, второй запнулся за первого и тоже упал, остальные притормозили, огляделись и обнаружили меня.
— Вот он! — радостно заорал один из них знакомым голосом и указал на меня дубинкой. — Так я и знал: уже читает!
Сунув парализатор в кобуру, он подбежал ко мне, выхватил книгу и сразу отпрыгнул.
— Шестьсот первая! — сообщил он, мельком глянув на страницу, и швырнул книгу через плечо. Она шлепнулась где-то между ларями.
— О Господи, — сказал я. — Здравствуйте, Харитон Кузьмич. Что случилось? Я вас не сразу узнал.
Ибо это действительно был Харитон Петин — и узнать его было действительно трудно. У него был обширный синяк под левым глазом, правая бровь начисто отсутствовала, а вся правая щека, висок и даже кончик носа покраснели и жирно лоснились, как это бывает после сильных ожогов. Зато вместо оранжевого кивера у Харитона Петина была оранжевая треуголка, а верхний брандебур его полукафтанья был посеребрен. Ей-Богу, не хотел бы я служить в организации, в которой продвижение по службе сопровождается — или предваряется? — столь серьезными повреждениями лица!
Новоиспеченный сотский, не ответив мне, победно огляделся и сделал короткий жест. Опричники — их было человек двадцать — окружили меня плотным полукольцом и взяли на прицел. Лица их были напряжены. Они чего-то ждали от меня и боялись. Ушибленная Дашка, всхлипывая и зачем-то присев за ларем, натягивала сарафан. Я ничего не понимал. Я снова ничего не понимал…
— Да где они там, эти шпаки?.. — нервно спросил один из державших меня на прицеле и посмотрел на взломанную дверь.
— Не отвлекаться! — рявкнул Петин и тоже оглянулся. — Уже садится.
Я тоже оглянулся. В проеме мутно голубело небо, тусклое марсианское солнце играло на луковках многоглавой церквушки, словно срисованной из детской православной Библии, а рядом с нею стоял большой грузовой винтоплан с эмблемой опричных вооруженных сил СМГ. Еще один винтоплан, поменьше, заходил на посадку.
— Вы можете мне объяснить, в чем дело? — спросил я Харитона. — Я арестован? За что?
— Помолчи, — рявкнул он. — Скоро узнаешь.
— Они ведь боятся, — сказал я. — И могут нажать на спуск.
— Могут, — согласился Петин. — Вот я и говорю: помолчи.
— Даже так? — разозлился я, сел прямо и запахнул кафтан. На этом стуле, оказывается, можно было принять весьма внушительную позу. Видимо, он для того и был предназначен. — И давно мы на «ты»? — осведомился я.
— Со вчерашнего! — Петин нехорошо усмехнулся и дернул обожженной щекой.
— А-а! Так значит, это ТЫ кувыркался над Пустошью?
Петин опять усмехнулся и положил правую ладонь на рукоять шпаги. (Вообще-то, по чину ему полагался тесак — видимо, чинопроизводство было настолько спешным, что тесака не нашли и всучили шпагу).
— К офицеру Тайного Приказа, — произнес он наставительно, — надлежит обращаться на «вы», с добавлением «ваше благородие»! — Поиграл пальцами на рукояти и добавил: — Между прочим, клинок серебряный.
— Смерть вурдалакам! — понимающе кивнул я. — И много их у вас тут на Марсе?
Петин не ответил.
— Харитон Кузьмич! — нервно позвал тот, который беспокоился отсутствием шпаков. — А, Харитон Кузьмич!
— Чего тебе? — оглянулся Петин.
— Кажись, он уже начинает.
Петин подозрительно уставился на меня и наполовину вытянул из ножен клинок.
— Что чувствуешь? — спросил он, глядя на меня, но обращаясь к нервному.
— Палец онемел. И уже вся рука немеет. Если что, нажать не смогу — да и толку-то! — В голосе его прорвались нотки уже не просто нервные, а панические.
— Три шага назад! — скомандовал Петин, видимо, тоже запаниковав. Всем три шага назад!
Опричники с поспешностью выполнили команду. Четверо из них, сделав только два шага, уперлись в перину, а нервный на третьем шаге запутался в ворохе царских одежд и упал. Падая, он взмахнул руками и все-таки сумел нажать на спуск.
Мне еще ни разу не доводилось испытать на себе действие парализующего луча. Но по рассказам тех пациентов Чукотского санатория, которые пытались бежать, я знаю, что это очень болезненно. Пораженные мышцы, прежде чем онеметь, сокращаются настолько резко, что возможны переломы костей, не говоря уже о порванных связках. Лет десять тому назад (вскоре после беспорядков на Умбриэле) Совет Безопасности при Организации Объединенных Миров Земли и Диаспоры, по инициативе Комитета ООМ по правам человека, запретил использование этого оружия, как бесчеловечного. Русский Марс был один из немногих миров, еще не успевших ратифицировать межмирное соглашение…
Все они, все до единого, держали меня на прицеле. И то, что произошло, когда нервный выстрелил, ни Харитон Петин, ни любой другой дурак, начитавшийся Саргассы с Грюндальфссоном, не смог бы истолковать в мою пользу.
Все они держали меня на прицеле, и ни один из них в меня не попал!
Нервный, падая, взмахнул руками, нажал на спуск и задел кого-то лучом. Неважно, одного или нескольких. Задетые, конвульсивно дергаясь от боли, тоже нажимали на спуск — но при этом теряли прицел и поражали опять-таки не меня, а друг друга… Цепная реакция продолжалась несколько секунд. Четверо упершихся в перину уже валялись на ней в разнообразных позах. Один из них, продолжая палить в потолок, пытался левой рукой разжать парализованные пальцы правой, сжимавшей рукоять парализатора. Дашка, дура, прыгала и хлопала в ладоши — вместо того, чтобы залечь за окованный железом ларь и не высовываться. А Харитон Петин, лежа на полу, истошно орал, призывая всех последовать его примеру…
Когда из трапезной понабежали добры молодцы с мечами и алебардами, в невредимости и в добром здравии оставались только сам господин сотский, да еще двое опричников, успевших внять его призыву. Нервный, спровоцировавший пальбу, тоже был парализован — но не лучом, а страхом. Все четверо безропотно разоружились и помогли разоружить своих товарищей, после чего были взяты под стражу.
14
Два добрых молодца, с мечами наголо и с каменными лицами, застыли слева и справа от моего стула. Пострадавших уводили и уносили через разбитую дверь к винтоплану. Дашку тоже было погнали вон, но я не позволил… Книгу Саргассы кто-то успел подобрать и спрятать. Наверное, Дашка: уж очень неподвижно она сидела на перине, заплетая косу и с большим интересом наблюдая разборку.
Харитонову шпагу, два десятка дубинок и столько же парализаторов добры молодцы аккуратно сложили в мешок, предварительно повынимав из рукояток энергообоймы. Мешок завязали и вручили Харитону Петину.
Относительно вынутых обойм и лядунок с запасными обоймами возникли разногласия: добры молодцы не хотели их отдавать. К разборке подключились новые лица: с одной стороны — филер Савка, а с другой — двое штатских из только что приземлившегося винтоплана.
Одного из штатских я знал, и очень хорошо. Это был столоначальник Приказа по делам иноземцев (чернильная крыса, по нескольку дней волокитившая каждый пустяк и неоднократно получавшая от меня на лапу). Он в основном помалкивал и поддакивал второму: старцу в крестах и звездах, при короткой шпажонке на золоченой перевязи, который разорялся о неприкосновенности опричного имущества. Савка в ответ напирал на самоуправство Петина, незаконно вторгшегося в частное владение и нанесшего ущерб, долженствующий быть возмещенным.
В конце концов был найден компромисс: филер Савка сбегал за ключом, все обоймы были ссыпаны в правый ларь и заперты в нем. Пустые лядунки были вручены Петину, а ключ от замка старцу. Тот, однако, не успокоился, пока лично не опечатал замок, закапав скважину сургучом и приложив к нему перстень (Савке опять пришлось куда-то бегать — за сургучом и свечкой).
Потом Савка очень официально осведомился о дальнейшей судьбе самоуправца Петина. Старец, не говоря ни слова, повернулся к сотскому, привстал на цыпочки, ухватил пальцами посеребренный брандебур и, сильно дернув, оторвал. Петин, продолжая стоять навытяжку, громко скрипнул зубами и просверлил взглядом нервного. Нервный вжал голову в плечи. Дашка хихикнула.
Старец неодобрительно покосился на нее, скользнул взглядом по мне и опять повернулся к Савке.
— Кому служишь, Савелий? — горько осведомился он.
— Сильному, Викентий Ильич, — улыбнулся Савка.
— А не ошибаешься? Целое больше части. Значит, сильнее.
— Истинно так.
— Кого же ты полагаешь большей силой? Марсову Губернию, или ее гражданина господина Волконогова?
— Россия больше своей малой части. России служу.
— Глупо, Савелий! Все эти ваши инсценировки, шутовство, мистическая чепуха…
— А вы вот у них спросите, ваше высокопревосходительство, — Савка кивнул на опричников, — чепуха ли?
Старец поморщился.
— Вы свободны, — бросил он Петину. — Госпитализируйте людей и немедленно садитесь за рапорт.
— Осмелюсь доложить… — начал Петин.
— В рапорте, в рапорте!
Петин мрачно козырнул, скомандовал опричникам: «Кругом, марш!..» — и все четверо ушли, унося мешок с оружием и связку пустых лядунок.
— Они глупы, — продолжил старец. — Но ты, Савелий! Тебя я никогда не считал дураком. Я знал, что ты подлец, предатель, доносчик — но не дурак.
— Вы меня изрядно аттестовали, — Савка опять улыбнулся, — признав за мною все четыре качества, необходимые в моей профессии. Польщен-с.
— Три, — поправил старец. — Потому что все-таки ты дурак, если полагаешь возможным реанимировать сгнивший труп.
— А вы, Викентий Ильич, неужели не верите в воскрешение господа нашего Иисуса Христа? После смерти-с?
— Христос воскрес через три дня. Мы говорим о разложившемся трупе.
— Я говорю о великой России, — возразил Савка. — Что для нее три столетия? Все равно что для нас три дня. Россия воскресе, Викентий Ильич. И господин Волконогов…
— Господин Волконогов занимается чепухой! — вспылил старец. Заставляя нас заниматься тем же! Мы изымаем книги, запрещаем книги, наказываем за чтение книг — вот до какой чепухи мы докатились. Уже сегодня над нами смеется весь Марс, а завтра будет смеяться вся Диаспора… Но это глупые книги, и нам приходится пресекать глупость, потому что она опасна. Ибо это о ней, о человеческой глупости сказано: «И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним?»
— «…и дано было ему вести войну со святыми и победить их», продолжил цитату Савка. — Вы святой человек, Викентий Ильич. Значит, я поступил умно, уйдя из Приказа.
— И прихватив кое-какие бумаги.
— Все свое уношу с собой… — Савка скромно потупился.
— Подлец!
— Благодарствуйте-с.
По всему было видно, что Викентий Ильич с превеликим бы удовольствием закатил Савке пощечину; но, покосившись на вооруженных свидетелей, сдержался.
— Ладно, — сказал он. — Мое почтение господину Волконогову! — и, прикоснувшись двумя пальцами к треуголке, направился было к разбитой двери.
Чернильная крыса из Приказа по делам иноземцев, до сих пор почтительно молчавшая в сторонке, ухватила его за рукав и что-то зашептала.
— Прости, милейший, чуть не забыл, — сказал ей Викентий Ильич и опять повернулся к Савке. — Эта ваша кукла, землянин Щагин, еще не коронована? осведомился он. — Мне не обязательно целовать пыль на его шлепанцах, чтобы поговорить с ним?
— Смею предположить, — Савка сделал неопределенный жест в мою сторону, — что светлый князь Андрей Павлович не откажется выслушать вас… Разумеется, вам надлежит держать себя в рамках вежливости, а целовать пыль — зачем же?
Викентий Ильич кивнул и направился ко мне, а чернильная крыса засеменила следом. Дашка дернулась было встать при их приближении, но вместо этого уселась еще плотнее, расправив сарафан и сложив руки на коленях (значит, запрещенная книга была под ней). Добры молодцы с лязгом взяли на караул.
Я приосанился (играть так играть!), хотя без штанов это получалось как-то неубедительно.
— Господин Щагин? — спросил Викентий Ильич.
Я с достоинством кивнул.
— Андрей Павлович?
Я снова кивнул.
— Вы говорить умеете?
— Да, — сказал я. — Здравствуйте.
— Спасибо… Уроженец города Норильск, Сибирская Федерация, Земля?
— Да.
— Счастлив сообщить вам, Андрей Павлович, что ваше прошение о натурализации в СМГ удовлетворено. С этой минуты вы являетесь гражданином Суверенной Марсовой Губернии, со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. Новый паспорт, в виде исключения, мы вам вручим прямо сейчас, но за остальными документами, а равно и для того, чтобы аннулировать…
— Это провокация, светлый князь! — крикнул Савка и, подбежав к чернильной крысе, ухватил его за руки, не давая открыть портфель. — Не берите, светлый князь, и в Тайный Приказ не ходите — вас там незамедлительно арестуют!
— Помилуй, Савелий, да за что же? — Викентий Ильич удивленно вскинул брови.
— Найдете за что, выше высокопревосходительство, найдете-с! А не найдете, так придумаете! Семнадцать лет под вашим началом работал — знаю-с! Вот для чего орлы ваши сюда вламывались!
— Вздор, Савелий. Да отпусти ты господина столоначальника! Не хотите паспорт — не надо. Господин Щагин так и так уже гражданин СМГ. Вот только за паспортом ему надо будет в Приказ идти…
— Вы, светлый князь, ничего не слышали — а если у них диктофончик, так мы сотрем-с. Будьте покойны! Там ваших всего два словечка, пустяк-с…
— Рация, Савелий. Диктофон в Приказе стоит и все пишет. Ты уж лучше не нарывайся.
— Так. — Савелий отпустил чернильную крысу и отступил на шаг. Вручайте паспорт, как обещано-с.
Чернильная крыса извлекла из портфеля паспорт, передала Викентию Ильичу, а Викентий Ильич (с издевательским, как мне показалось, поклоном) протянул его мне. Я молча взял паспорт и молча сунул в карман кафтана. Говорить что бы то ни было я уже опасался, но, подумав, все-таки спросил:
— О каких обязанностях вы упоминали?
— О губернских законах и уложениях и об указах господина Председателя губернского Собрания вплоть до самых последних, кои распространяются на всех граждан СМГ, — любезно объяснил Викентий Ильич, не объяснив ничего.
— Все? — спросил Савка. — До свидания-с!
— В Приказе, — уточнил Викентий Ильич, глядя мне в глаза строго и ласково. — В течение трех дней.
Они удалились. Викентий Ильич вышагивал широко и прямо, что-то насвистывая, а чернильная крыса, семеня, ковырялась в портфеле — наверное, отключала рацию.
Самое смешное было то, что две недели назад я действительно подавал прошение о натурализации, надеясь, в перспективе, получить выездную визу в Марсо-Фриско. И вот эта самая чернильная крыса в Приказе по делам иноземцев, глядя на меня пустыми глазами, прозрачно намекнула, что для успешного прохождения бумаг потребуется никак не менее полугода (марсианского) — или трех тысяч целковых в разные лапы…
15
— Дашка, — позвал я негромко, когда оба винтоплана бесшумно взмыли и пропали из поля зрения.
— Ай? — откликнулась Дашка.
— Книжка у тебя?
— Туточки. — Дашка похлопала обеими руками по перине.
— Давай сюда.
— Не соизволит ли светлый князь… — заговорил Савка.
— Не соизволит, — оборвал я, беря у Дашки книгу.
— Темновато здесь, — не смирился Савка.
— Принеси свет.
— Дует…
— Навесь двери.
— Бояре ждут…
— Я князь или не князь? — спросил я, листая книгу.
— Истинно, князь! — Савка низко поклонился.
— Тогда убери стражу и убирайся сам. — (Кажется, я начал входить во вкус роли. А что мне еще оставалось?..) — И принеси нормальную одежду. И пожрать чего-нибудь. Сюда.
— Как прикажете-с. — Савка посмотрел на добрых молодцев, и они гурьбой кинулись в обе двери. — А только лучше бы вам в светлицу подняться. Дует, а двери навешивать — долгая песня. Заодно и опочивальню обставят — ранее не успели-с…
Я захлопнул книгу и набрал полные легкие, дабы рявкнуть что-нибудь, приличествующее роли и случаю. Савка смотрел на меня ясными преданными глазами, а Дашка, открыв рот, с любопытством ждала, что именно я рявкну.
— Бысть по сему… — сказал я. Выпустил излишки воздуха, сунул книгу под мышку и стал слезать со стула.
— И бояре заждались, — приободрился Савка.
— Девятнадцать лет ждали? Подождут и еще, до вечера… — Я запахнул кафтан и посмотрел, не видна ли из-под него сорочка. Сорочка была не видна. — Завтрак нам с Дашкой в светлицу подашь. Веди.
— Девку к себе берете? — удивился Савка.
— Беру, если она не против. Кстати: Саньку посади в холодную. Без порток.
— Кого-с?
— Ну этого, как он там… старого черта. Как его звать-то? — обратился я к Дашке.
— Ой, не надо, Андрей Павлович, я пошутила! Он же старенький.
— Он тебя порол?
— Порол. Так ведь не по злоб[/]е порол, а для порядку!
— У меня другие порядки будут. Семка, вот его как! Семку Бутикова — в холодную. До утра.
— Никак нельзя, светлый князь.
— Это почему?
— Там, где он сейчас — и без того холодно — холодней некуда. — Савка вздохнул. — Помер Семка Бутиков-Стукач, Парамонов сын — пора пришла… Ни разу Парамонычем не зван, помер, как писано.
— Ой, — сказала Дашка, закрывая ладошкой рот. — А я-то…
— Бутиков-Стукач? — переспросил я. — Так это же…
— Папаня мой, — кивнул Савка.
— Ну, извини.
— А ничего, светлый князь, все помрем. Вот и я помру, и тоже по вашей милости. Папаня мой удавился, как вы ему ручку дать не изволили. Мне же кровью истечь написано. И еще много смертей будет… Зато Россия воскресе!
— Господи, — сказал я. — Все-таки вы тут все сумасшедшие. Зачем же давиться-то было? Ну, дурак я был, ну не в себе. Не понимал ни черта — и сейчас не понимаю…
— Прощения папаня испрашивал — а вы не даровали-с.
— Да за что?
— Опричную экзекуторскую помните?
— Еще бы.
— А исполнителя?
— Нет: он же всегда в маске был. Погоди! Так это…
— Он-с.
— Н-да… — Я посмотрел на Дашку. — Выходит, одна и та же плетка по нашим спинам гуляла — а, Дарья? Тебя-то за что?
— За всякое. То румяна не так наложу, то паркет недовощен, а то перевощен. Мне же, окромя постели, все внове было.
— Папаня на девках руку правил, — объяснил Савка. — Чтобы не больно, а с виду хлестко. Знал, кого пороть будет. Опричнине по закону не велено исполнителей содержать, добровольцы порют. Вот он и готовился, вас поджидаючи… А что удавился, так это обычное дело, и вы себя, светлый князь, не казните. В нашей династии все нехорошей смертью мрут.
— Так написано?
— Так написано…
— Здесь? — я ткнул пальцем в книгу, которую все еще держал под мышкой.
— На роду-с. Ну, и здесь тоже, только не все.
— Ну вот что, Савелий Семенович…
— Семенов, светлый князь. Савка Семенов.
— Ладно, тебе виднее… Вот что, Савка: похоже, застрял я тут у вас надолго и прочно, а понять ни черта не могу. Так что, пока не прочту, — я похлопал по книге, — ни в каких ваших спектаклях играть не буду. Считай это моей княжьей волей, если тебе так понятнее. Веди в светлицу.
— И девку тоже?
— Это как она скажет. Пойдешь? — спросил я Дашку.
— Только приоденусь, Андрей Павлович. Не в желтом же, в княжью светлицу-то.
— Ладно. Буду ждать.
Идти пришлось через трапезную. В ней было полно «бояр». А может, и просто бояр, без кавычек, кто их тут знает… Все они были бородаты, и бороды у них, в отличие от метрдотеля и гусляра в кабаке «Вояжера», были настоящие, не накладные — в этом я еще вчера убедился. Бояре при моем появлении встали. Многие (не все) поснимали шапки, кое-кто согнулся в низком поклоне… Не зная, как на это реагировать, я сделал строгое лицо и целеустремленно шагал за Савкой, придерживая полы кафтана. Обошлось без инцидентов.
Светлица оказалась уютной двухсветной комнаткой в юго-восточном углу терема, обставленной пышно и тесно. Стекла были прозрачными, без витражей. Но я не стал обозревать окрестности, а выбрал кресло поудобнее (возле окна), придвинул к нему низенький столик с перламутровой инкрустацией, уселся и открыл книгу на пятьсот сорок третьей странице.
— Правильно, светлый князь, — одобрительно прокомментировал Савка. Лучше всего с варяга начать, с Грюндальфссона. Гишпанец мудрено пишет, да и не всегда знает, о чем. А варяжья душа — почти русская…
Я отмахнулся.
16
Маасме Грюндальфссон
Опыт некритического прочтения романа(Л.К.Саргассы «Я червь, я Богъ».
…Новгородцы призвали варяжского князя Рюрика володеть Русью.
Рюрик родил Игоря.
Игорь родил Святослава.
Святослав родил Ярополка и Владимира, крестившего Русь.
Владимир родил Ярослава. (Между Владимиром и Ярославом четыре года княжил Святополк Окаянный, сын Ярополков.)
Ярослав родил Владимира, Изяслава, Святослава, Всеволода, Вячеслава и Игоря. Междоусобиями сих сыновей Ярославовых нарушилось прямое наследование русского престола, но генетическая линия Рюрика без труда прослеживается вплоть до Иоанна IV Васильевича (Грозного).
Cыновья Иоанна IV уже не правили Русью: благостный Феодор был марионеткой в руках Годунова, а мальчик Дима смертельно порезался ножичком в Угличе…
Т. о., первая династия российских правителей насчитывает более семи веков — с 862 по 1598 год.
Лео Кристоф Саргасса, испаноязычный писатель из Монтевидео, пристрастно перечел Карамзина и внес уточнения.
…Новгородцы призвали варяжских князей Рюрика, Синеуса и Трувора володеть Русью. Младшие братья — Синеус и Трувор — подозрительно быстро умерли, а Рюрик объединил Русь.
Рюрик родил Игоря.
Игорь родил Святослава.
Святослав родил Ярополка, Олега и рабича Владимира (от рабыни-ключницы) и разделил между ними Русь.
Ярополк убил Олега, выгнал из Новгорода рабича Владимира и снова объединил Русь.
Владимир вернулся с варягами, убил Ярополка и взял себе его беременную жену. Святополка (сына Ярополкова, рожденного после смерти отца) Владимир усыновил и посадил его княжить в Турове.
Владимир родил: Изяслава, Мстислава, Ярослава, Всеволода; Вышеслава; Святослава, Мстислава; Бориса, Глеба; Станислава, Позвизда и Судислава (всего двенадцать). Крещеную Русь он разделил между сыновьями и усыновленным Святополком.
Святополк убил Бориса, Глеба и Святослава, устрашил остальных своих названных братьев и начал объединять Русь.
Ярослав, княживший в Новгороде, поднял на Святополка новгородцев, а потом привел и варягов и в последней яростной битве на Альте разбил Святополкову рать. Святополк (прозванный Окаянным) бежал на запад и сгинул где-то в Богемских п[/]устынях…
На этом, по Л.К.Саргассе, династия прерывается. С 1019 года, после битвы на Альте, все русские правители, начиная с Ярослава и кончая Иоанном IV Грозным, были не рюриковичи, но рабичи — потомки незаконнорожденного Владимира, сына ключницы.
Действие романа «Я червь, я Богъ» открывается битвой на Альте и бегством Святополка на восток. На запад, в Богемию, бежал постельничий окаянного князя, обмотав лицо и обрядясь в княжьи одежды. Отсюда — слух о расслаблении Святополка, о том, что он даже не мог сидеть на коне, и воины принесли его к Бресту. Действительно, постельничий не умел ездить верхом, зато внешне был очень похож на своего господина…
Прервемся.
«Газоколлоидный купол Монтевидео воздвигался на месте руин одноименного города…» Эта фраза из путеводителя мало что скажет нам, обитателям северных куполов Земли. Похвально, конечно, однако вполне обычно. Потому что уже восстановлены Версаль и Монмартр под куполами Парижа, Сити и Тауэр в Лондоне, возрождается Манхэттен, полным ходом идут раскопки Кремля и Тадж-Махала.
Но уругваец поймет уругвайца.
Монтевидео оказался на краю озонового слоя атмосферы. К западу от него простираются сухие льды Аргентинских пустынь. На востоке бушуют кипящие воды Южной Атлантики, из-под которых вырастает новый материк. С юга циклоны и смерчи нередко приносят «звенящий» песок Антарктиды…
Уругваец поймет уругвайца: купол Монтевидео воздвигался руками аборигенов, не пожелавших принять ни мудрый совет, ни сыновнюю помощь Диаспоры. В конце концов, диаспориане сами возвели второй купол на севере бывшего Уругвая. Но этот «Малый Монтевидео» (который, кстати, прочнее и вдвое просторнее «старого») до последнего времени оставался практически незаселенным. Зато теперь «старый» Монтевидео — это действительно старый Монтевидео: один из немногих, почти полностью и почти достоверно восстановленных городов Земли.
Лео Кристоф Саргасса — уроженец «старого» Монтевидео, и всю свою сознательную жизнь он провел в восстановленных припортовых кварталах. Его интерес к истории не случаен.
Родной купол он покидал только дважды: шестнадцатилетним юношей принимал участие в «народных раскопках» Минаса, а тремя годами позднее — в подводной экспедиции на дно Фолклендской (Мальвинской) впадины.
Как литератор Лео состоялся очень рано: уже к 17 годам были написаны и частично опубликованы его «Камни теряют память» — небольшие выразительные зарисовки (скорее ностальгического, чем исторического характера) из жизни докатастрофного Уругвая. Впоследствии Лео Саргасса объединил их в цикл и напечатал отдельным изданием, скрупулезно восстановив первоначальный текст (с начинающим литератором не церемонились и редактировали все, кому не лень). Первой его крупной вещью был «Архипелаг боли» — повесть, посвященная давно забытой (а может, и вовсе не бывшей) «двухнедельной войне» между Британией и Аргентиной в конце предгероического XX века. Эту свою работу он не любил и не переиздавал ни разу, ссылаясь на то, что потерял черновики.
Постепенно расширяя географический диапазон своего творчества, Саргасса издал: «99 лет» (очерк истории Панамского канала), «Прямые дороги лжи» (хроники революций и диктатур в странах Латинской Америки), «Айсберг, айсберг!» (лирическая драма, развернутая на фоне грандиозной войны за Аляску в середине XX века — на этот раз, действительно, никогда не бывшей войны), «Рисунки венского еврея» (альтернативная биография Гитлера)…
Небольшой по объему, но очень насыщенный людьми и событиями роман «Твои генералы» (биография Наполеона Бонапарта, исполненная в необычной манере — от второго лица) знаменовал собою двойной поворот в писательской судьбе Л.Саргассы. Во-первых, его перестали править: он приобрел достаточную известность, чтобы диктовать свои условия издателю. А во-вторых, он наконец взломал не только географические (Западное полушарие), но и временн[/]ые рамки, выйдя за пределы излюбленного XX века. Причем, в обоих направлениях: горечь «Твоих генералов» явственно перекликается с настроениями конца Героического XXI века, а в уста одного из ближайших сподвижников императора автор не случайно вкладывает упрощенную формулировку Теоремы Геделя-Тяжко: «Экспансия асимптотически предельна»… В этом же романе впервые, но пока что не в полную силу прозвучали два немаловажных для будущего автора «Я червь, я Богъ» мотива: мотив фатальной предопределенности Истории — и связанный с ним мотив поиска «народа-мессии», якобы ответственного за эту предопределенность.
Так, незримые собеседники Бонапарта (его генералы и маршалы, живущие или погибшие в других, альтернативных нашему, мирах) попрекают своего императора чем угодно, но не итогами русской кампании 1812 года. «Русская» тема замалчивается так старательно, что становится едва ли не главной в романе. Более того: один из маршалов, обмолвясь, называет себя «сибирским наместником» — и тут же дается понять, что именно в его альтернативном мире, где даже Сибирь на какое-то время стала французской колонией, империю Бонапарта постиг особенно убедительный крах. Все и везде могло быть по-другому, карту любой страны можно было перекроить вовремя сказанным словом и вовремя сделанным жестом — но не России!
Разумеется, оба мотива были замечены критикой, и в Лео Саргассу немедленно полетели язвительные стрелы. Если бы он адекватно реагировал на уколы, он стал бы похож на ощетиненного дикобраза. Но его отношения с критикой были сложными… Точнее, отношение критиков к нему было сложным. Сам Лео просто перестал их замечать — сразу, как только переиздал свои первые книги с восстановленным авторским текстом. И лишь однажды он обронил в интервью несколько фраз, адресованных, по всей видимости, именно критикам:
«Я не литератор, а регистратор. Не беллетрист, а стенографист. Не сочинитель историй, а секретарь Истории. Мне чуждо понятие «персонаж»: люди, которые появляются в моих книгах, действительно жили, могли бы жить, или будут».
Это многозначительное «или будут» в особенности раздражило критиков, и на Саргассу обрушился шквал ярлыков-обвинений: от «солипсиста» до «лжепророка» и «фальсификатора».
Лео невозмутимо продолжал сочинять («регистрировать»?). Один за другим выходили в свет: «Копыта и котурны» (повесть о Калигуле); «Автохаракири» (предыстория банкротства «Мицубиси Дэнси»); «Убивай!» (противопартизанская тактика разных времен и народов); «Здравствуй, оружие!» (роман о Семилетнем фермерском мятеже на Ганимеде)…
17
Все это было очень интересно, однако не имело ни малейшего отношения к моим неприятностям. К тому же, у меня устали глаза. Я перелистнул несколько страниц.
Видимо, покончив с биографией и библиографией Саргассы, Грюндальфссон взялся за его психологию:
«…до уровня примитивного житейского фатализма, — прочел я в начале страницы. — Будучи умозрительной, она являла собою философию бытия, но не быта. Лео Саргасса не распространял Историческую Предопределенность на судьбы отдельных людей и не искал подтверждения вселенской концепции в мелочах жизни. Это делает его позицию столь же несокрушимой, как несокрушима была вера миссис Дуглас в милосердие Божье, в котором Гекльберри Финн разуверился после тщетной молитвы о новых крючках для удочки. Но подавляющее большинство читателей (а критики — те же читатели, только профессиональные) подобны скорее юному Геку Финну, чем старой вдове: они…»
Я перелистнул еще несколько страниц, подумав, что некоторые профессора филологии (в особенности — криптолингвисты) бывают не менее занудны, чем чопорная воспитательница Гека.
«…Вот почему я предлагаю прочесть последний роман Лео Саргассы НЕКРИТИЧЕСКИ. Т. е., принимая на веру каждое слово и стараясь даже явно фантастические страницы воспринять не как иносказание и сложную метафору, но как описание реальных событий в судьбах реальных людей — тех, которые «действительно жили, могли бы жить, или будут». В конце концов, такова была воля покойного Секретаря Истории.»
Здесь, надо полагать, заканчивалось длинное, страниц на двадцать, предисловие — потому что после этого абзаца стояли римская цифра I и подзаголовок «Рюриковичи». Я вспомнил, что бояре, видя мою истерику, назвали меня «истинным Рюриком», и пожалел, что не начал читать прямо отсюда. Глаза уже болели, а Савка почему-то не спешил принести свет…
«Действие романа, — писал Грюндальфссон, — охватывает более одиннадцати веков: от битвы на Альте в 1019 году до крушения фотонных парусников «Лена» и «Юкон» (Восьмая Звездная) в пространственных зыбях Вселенского Предела. Формально, героем романа является такелажник «Лены» Василий Щагин. Фактически — сорок шесть поколений прямых потомков Рюрика по мужской линии (старшие сыновья). Память сорока двух предков (за исключением Игоря, Святослава и Ярополка) пробуждается в сознании Василия Щагина под воздействием неустойчивых деформаций в нецелочисленномерном пространстве Предела. Тысячелетие с лишним сюжетно спрессовано в один ослепительный миг перехода героя из бытия в небытие…»
Собственно, дальше можно было и не читать. Если Василий Щагин — сорок шестой Рюрикович, то я, его праправнук — пятьдесят какой-то. Где-то еще должны быть скальные черви-оборотни, которые грызли гранит зубами героя-повествователя, — но все это уже неважно. Важно то, что поведение обитателей марсианской психушки за кремлевской Стеной становится понятным. Их безумие, так сказать, обретает систему.
Правда, ненормальны тут не только жители усадьбы господина Волконогова. Колюньчик Стахов, например, тоже подвинут. На той же самой почве, но в другую сторону. И Харитон Петин, с его серебряной шпагой. И нервный, усомнившийся в действенности парализатора («Нажать не смогу — да и толку-то!..»). И ничем не лучше Викентий Ильич, спустивший на меня эту свору: тоже ведь преследует некие неудобопонятные цели.
Не короноваться ли мне? В государевом тереме будет, пожалуй, уютнее, чем в подвале Тайного Приказа. И воздух чище. Там, говорят, не то что кислородных масок — обычных респираторов не дают. Интересно, во что обошелся господину Волконогову личный газоколлоидный купол над всей усадьбой? Над вокзалом космопорта — попроще, силикопластовый.
Три, ну четыре версты до космопорта Анисово. Сотня миль до Марсо-Фриско. Шесть тысяч километров до Фобоса. Каждое из этих расстояний сущий пустяк для человека, которого никто не считает ни потомком Рюрика, ни оборотнем из романа…
Очень болели глаза, очень хотелось проснуться, и, кажется, опять начиналась истерика. Запустить сочинение Саргассы в окно и выпрыгнуть следом. «Берсерки-с, варяжья кровь!»
Я взял себя в руки и снова попытался читать. Буквы расплывались и прыгали перед глазами… Тогда я отодвинул книгу вместе со столиком, поднялся, сунул руки в карманы и подошел к восточному окну.
За окном была православная Русь, какой ее рисуют в детских книжках: березы, сосны, избы, терема, церквушка, огороды с пряслами, даже какой-то узкий извилистый водоем — не то и вправду речка, не то просто канава. Зубчатая Стена, тянувшаяся вдоль невидимой за нею магистрали, делала пейзаж неисправимо искусственным; Колдун-Гора, нависшая трехглавым призраком над горизонтом, — и вовсе нереальным… Здесь княжить? Под этим тусклым солнцем, которое уже обогнало Деймос и подбиралось к зениту, но все равно не могло обеспечить достаточно света для чтения?.. Рваная хламида Деймоса разбрызгалась темной кляксой над перевалом между Средним и Северным Шлемами, там, где кончалась атмосфера долины Маринер. Края кляксы металлически отсверкивали… Я отвел взгляд от никому не нужного спутника с никому не нужным парусом «Луары» (все-таки, невероятно, чтобы кто-нибудь мог уцелеть в такой катастрофе) и опять посмотрел вниз.
И увидел Мефодия.
То есть, сначала я увидел толпу. Все те же бородатые, в мохнатых шапках, толпились на песчаной дорожке между моим и соседним теремами, опять суматошно трясли рукавами и что-то вскрикивали, а посреди гама, демонстративно игнорируя костюмированных психов, стоял и деловито озирался он.
Мефодий Васильевич Щагин — Государь-Самодержец всея Великия и так далее, Рюрикович в сорок седьмом поколении, младший сын такелажника «Лены», светлого князя Василия Юрьевича, мой двоюродный прапрадед, рожденный на борту «Луары» и чудом уцелевший в кораблекрушении… мой друг и почти ровесник Мефодий Щагин, немножко странный тип, официант из «Вояжера» — был в своем любимом, затасканном комбинезоне звездолетчика с эмблемой Матери-Земли на левом рукаве. Под мышкой он держал огромный сверток, в котором я без труда признал комбинированную упаковку для поющих устриц, изобретенную им же. Он стоял и деловито озирался. Он наверняка искал меня.
Я поспешно исследовал раму окна и опять не понял, как она открывается. Придется бежать вниз.
Хорошо, что я замешкался и не побежал сразу. К Мефодию, непочтительно расталкивая ряженых, приблизился Савка и стал ему что-то втолковывать. Мефодий послушал, согнутым пальцем свободной руки постучал себя по лбу и что-то спросил. Савка развел руками, задрав очи гор[ac]е, а потом указал куда-то на восток и вверх — не то на Колдун-Гору, не то на Деймос. Мефодий посмотрел в ту сторону, почесал в затылке, ухватил Савку за ухо, и они пошли по песчаной дорожке прочь от моего терема. Ряженые бояре, толкаясь и кланяясь, расступились.
Я снова ощупал раму окна и несколько раз толкнул. Она была сделана прочно. Тогда я вспомнил о ключе, достал его из кармана, зажал в кулаке и размахнулся, моля Бога о том, чтобы это оказалось обычное, а не гермостекло.
Бог услышал мою молитву…
18
Мефодий выглядел не многим лучше Петина. Правда, ожогов на лице не было — но было множество мелких ссадин, два аккуратных пластыря на правой скуле и густая россыпь черных точек над и под правым глазом. Наверное, он успел зажмуриться, прежде чем что-то там произошло…
Завтрак нам подали в светлицу — и сюда же принесли мою цивильную одежду, а едва задрапировали разбитое окно и подмели осколки, я погнал всех вон. И Дашку тоже, но Мефодий ее задержал — ухватил, привстав из кресла, за сарафан, притянул к себе и усадил на правый подлокотник. Поющую устрицу он еще раньше пристроил слева от себя, на полу, и то и дело притрагивался к ней и поглаживал, словно боялся, что она убежит.
Вот и сейчас, пока людишки, толкаясь в дверях, покидали светлицу, он левой рукой поглаживал сверток, а правой похлопывал по Дашкиному бедру.
— Я думал, ты что-то хочешь мне рассказать, — сказал я, когда мы остались втроем, и покосился на Дашку. На похлопываемое бедро.
— А ты не ревнуй, — хохотнул Мефодий. — Я же вот не ревную! — Мягким тычком пониже спины он столкнул Дашку с подлокотника и велел: — А ну-ка, Дарья, закрой поплотнее дверь да помоги светлому князю одеться.
— И ты туда же, — вздохнул я.
Мефодий снова хохотнул и потянулся к братине с медом.
Пока Дашка запирала дверь, я натянул плавки и брюки, с облегчением избавился от дурацкого кафтана, стянул через голову ночную сорочку и стал одеваться дальше. Одежда была моя, но не та, в которой я приехал с Пустоши, а та, что оставалась в номере «Вояжера». Рубашку кто-то постирал и погладил. Фрак тоже был отутюжен и приятно похрустывал, а лацканы сами собой улеглись модными волнами. Вот только карманы фрака были пусты, потому что и земной паспорт, и кредитная карточка (бесполезная, но все равно жалко), и справка о доле в Казне остались в карманах старого. А прочие документы — в папке на переднем сиденьи «ханьяна»… Черт с ними, никуда не денутся!
Зато теперь, когда на мне опять были штаны, все происходящее перестало казаться причудливым сном. И требовало объяснений.
Я застегнул ботинки, выпрямился и посмотрел на Мефодия. Мефодий не спешил объяснять — он насыщался. Неторопливо, но основательно. И, подбирая все, что подкладывала ему Дашка, то и дело дотрагивался левой рукой до устрицы.
Дашка сидела справа от него, не на подлокотнике, а тоже в кресле. Кокошник она сняла, волосы распустила, румяна стерла. Бус и браслетов на ней тоже не было, а ярко-синий сарафан и белоснежная хрустящая сорочка отнюдь не выглядели архаично и очень даже гармонировали с моим парадным фраком. С мятым-перемятым комбинезоном Государя-Самодержца они нисколько не гармонировали.
Я удовлетворенно улыбнулся и сел напротив Мефодия. Он, перегнувшись через стол, наполнил мою чару, потом Дашкину, откинулся и поднял свою. Дашка поставила передо мной паштет и стала придвигать что-то еще.
— Прочел? — спросил Мефодий, когда мы выпили, и кивнул на столик возле окна, где лежала книга.
— Не успел.
— Молодец! — прокомментировал он. — Чем меньше знаешь, тем спокойнее живешь.
— Это юмор? — осведомился я.
— Это мудрость, — ответил он, жуя и потому невнятно.
— Глупости там одни, — подала голос Дашка.
— Не скажите, барышня, — невнятно проговорил Мефодий и глотнул. Кое-что изложено с удивительной точностью. Правда, тали он почему-то называет стропами, вместо «взять рифы» пишет «подвернуть край», гондола и корпус для него одно и то же, и так далее. Но если отвлечься от терминологии, можно подумать, будто он своими глазами наблюдал разворот «Лены».
— Почему бы и нет? — спросил я. — Он мог видеть отчет экспедиции, там этот разворот зафиксирован. Я, например, видел.
— Ты! — возразил Мефодий. — А он не мог. Ты посмотрел дату написания?
— Неужели до?
— За полгода до. Не до разворота, разумеется, а до возвращения «Луары».
— А еще? — спросил я, помолчав.
Мефодий рассеянно посмотрел на меня и снова стал поглаживать свою устрицу. Он словно раздумывал, продолжать ли.
Дашка сидела, подперев кулачком подбородок и взглядом поощряла мое любопытство. Сама она почему-то не хотела поторапливать и понукать Мефодия.
— Что еще он видел? — повторил я.
— Знал, — поправил Мефодий. — Это не одно и то же…
— Пусть так. Что еще он знал, хотя и не видел? Битву на Альте и бегство Святополка на восток?
Мефодий громко хмыкнул, оставил в покое устрицу, привстал и опять наполнил наши чары.
— Легче перечислить то, чего он не знал, — заявил он, садясь. — Он ничего не знал про дядю Бена — или почти ничего, и это очень странно. Он ничего не знал про меня. Но это уже не так странно, потому что я родился после разворота. Который, кстати, никаким разворотом не был, а только выглядел — этого он тоже не знал. И еще ему пришлось выдумывать скальных червей, чтобы заштопать дыры и убрать противоречия, но ему было невдомек, что он выдумывает. Он полагал, что знает. Вот, вроде бы, и все… Впрочем, ты все равно еще не читал.
— Ты мог бы дать мне эту книгу и раньше, — проворчал я.
— Я надеялся, что ты сумеешь улететь отсюда, — возразил Мефодий. — Я недооценил глупость нашей администрации. Теперь тебе придется узнать все и принять решение… Мужайся, потомок! — Он поднял чару и улыбнулся мне.
Я посмотрел на Дашку. Она тоже сочувственно улыбнулась мне и тоже подняла чару.
«Неужели тоже прабабушка?» — подумал я, ощущая некий нехороший холодок в животе.
19
…Их было пятеро, оставшихся в живых участников Последней Звездной: сестры-близняшки Бекки и Сара Айсфилд, Люська (Люсьен) Молодцов-Пуатье, Мефодий и дядя Бен. Все они, кроме дяди Бена, родились на «Луаре».
— Бенджамин Смоллет, если тебе что-то говорит это имя, — сказал Мефодий и выжидательно посмотрел на меня. Мне это имя ничего не говорило, и он продолжил.
Когда стало ясно, что такелажники не успевают взять рифы и столкновения с Деймосом не избежать, детей стали спешно загонять в шлюпки. Дядя Бен уже тогда был старик, и в нештатной ситуации толку от него на борту было чуть. Но управлять шлюпкой он все-таки мог, а «Луару» все еще надеялись спасти.
Из четырех шлюпок только две успели задраить люки и отдать концы. И только одна — та, которой управлял дядя Бен, — благополучно опустилась на Марс. Вторая сгорела: она слишком рано вышла из тени гондолы. Если я видел вблизи поверхность Фобоса, я в силах представить себе, как это произошло. Большая красивая вспышка, облачко подсвеченного пара и пять душ в безвоздушном пространстве — четверо из них вполне безгрешны… И все же лучше так, чем когда рвется парус и на гондолу обрушивается мгновенная перегрузка. У такелажников — самая легкая смерть…
— Я просматривал отчеты комиссии ООМ по расследованию, — прервал я. Там фигурируют ДВЕ сгоревшие шлюпки.
— Конечно, две, — Мефодий усмехнулся. — А вам разве не показывали часовню Гвоздя из Левой Стопы Спасителя? У подножия Съерры, на западной границе Карбидной Пустоши? Всем туристам показывают.
— Ну и что? При чем тут часовня?
— Вспомни, как она выглядит: может, поймешь.
— Ладно, будем считать, что понял…
Дядя Бен управлял шлюпкой, а что управляло дядей Беном, для Мефодия так и осталось загадкой. Может быть, случай. Может быть, интуиция. Может быть, Бог. Все, что угодно, только не здравый смысл.
Шлюпку он посадил в местах необитаемых и диких. На западе громоздились отвесные рыжие скалы; не очень высокие, но вполне непроходимые. Не рискуя садиться там, дядя Бен израсходовал последние капли горючего на горизонтальный полет. На восток, насколько хватал глаз, простиралась бурая безжизненная равнина с белыми проплешинами. То, что они сначала приняли за испарения, оказалось тяжелым удушливым слоем ацетилена. Идти в ту сторону без кислородных масок было не самым легким способом самоубийства, а кислорода у них оставалось в обрез… Рация принимала хрипы, щелчки, свист и обрывки развлекательных передач на русском и польском языках (дядя Бен знал и тот, и другой), но то ли ничего не передавала, то ли дядю Бена никто не хотел слушать. Чего у них было достаточно, так это воды и консервов. Можно было либо сидеть в верхней, носовой рубке (расходуя кислород лишь на малышек Айсфилд, а самим обходясь респираторами) и ждать, пока их найдут, либо двигаться на север или на юг, стараясь, опять-таки, держаться повыше, где не так чувствуется ацетилен.
В конце концов дядя Бен и Люська пошли разведать дорогу на север, а Мефодий, как старший, остался с двойняшками. Люське Молодцову было всего лишь девять, а ему аж одиннадцать лет (биологических).
На третий день, не дождавшись Люськи и дяди Бена, Мефодий сам отправился в недолгую разведку. На восток: скорее из любопытства, чем из практических соображений. Дошел до первой проплешины и сразу же повернул обратно: дышать было невозможно. Однако, прежде чем повернуть, откопал свою первую устрицу и почти доволок до шлюпки. Устрица рассыпалась в прах с изумительно чистым музыкальным аккордом, когда он, послюнив палец, потер какой-то завиток.
Потом он еще два раза ненадолго покидал двойняшек и откопал еще две устрицы. Эти он сумел принести. Одна оказалась безголосой. Вторая спела им что-то похожее на волшебную сказку, но очень короткое.
В одну из ночей Мефодий наблюдал восход блистательного Деймоса в новом облачении. Это был один из первых таких восходов, если не самый первый. Мефодий ни разу не видел парус «Луары» на таком расстоянии и в таком состоянии — и не знал, что означает странный вид светила. Ему он не казался странным: просто не соответствовал тому, что было написано в учебнике астрономии. Но вокруг было много такого, что не соответствовало учебникам, и ко всему надо было привыкать.
Ни Люська, ни дядя Бен так и не вернулись.
Спустя еще неделю, когда иссякли не только кислород, но и вода (Ребекка-таки частенько писалась, и трусики надо было стирать), Мефодий собрал тележку, погрузил на нее двойняшек, напялил на них респираторы и покатил на юг. «Покатил» — это, пожалуй, сильно сказано: гораздо чаще приходилось перетаскивать на руках поочередно Ребекку, Сару и тележку. За несколько дней они таким манером преодолели несколько километров. Это был скучный, долгий, почти непосильный путь. Хорошо хоть Мефодий догадался соорудить что-то вроде тента над тележкой: малышки прятались там от пугающих необозримых пространств…
В очередной раз перетащив три своих ноши (две — живых, изнемогших от крика, и одну неподъемную), Мефодий обнаружил, что стоит на дороге. Ему было одиннадцать лет, и он знал, что такое дорога. Теоретически. Он еще ничего не знал ни о гоночных трассах Восточной Сьерры, ни об их предназначении.
Зато когда Сара опять сорвала респиратор, но не закашлялась, а засмеялась, он понял, что здесь можно дышать… Он снял респиратор сначала с Ребекки, потом свой, сел на тележку и стал дышать. И думать о том, какое направление выбрать.
Придумать он так и не успел. Низкий гудящий звук, который он слышал уже в течение нескольких секунд, но не обращал на него внимания, превратился в оглушительный рев, что-то горячее и плотное пронеслось мимо, буквально в сантиметре от тележки, и пропало, обдав их градом щебенки, клубами пыли и дурно пахнущих брызг. Потом еще и еще раз. Мефодий вскочил и стал дергать тележку к краю. Она не подавалась. Тогда он зашел с другой стороны и стал толкать.
Опять послышался нарастающий рев, и Мефодий заторопился. Одно колесо тележки сломалось, Ребекка упала на дорогу. Мефодий успел ее подхватить на руки и отпрыгнуть… Горячее, плотное, ревущее опять пронеслось мимо, чудом не размазав их по дороге, потом пронзительно взвыло и вернулось, пятясь. Из него выпрыгнул злой растрепанный человек, схватил за шиворот Сару и пинком отправил тележку вниз, а потом зашвырнул всех троих в свой экипаж, упал на сиденье сам — и они помчались куда-то с бешеной скоростью. Другие экипажи то и дело обгоняли их, и тогда пилот цедил сквозь зубы странные слова, похожие на те, что были в рабочем жаргоне такелажников. Правда, такелажники произносили эти слова только в эфире и никогда — в присутствии детей, но Мефодий их все равно знал…
Потом экипаж, пронзительно взвизгнув, замер посреди обширного зеленого пространства, где было очень много людей, и пилот, распахнув дверцы, вытолкал всех троих наружу. Прежде чем умчаться, он разразился длинной речью:
— Парень, — сказал он Мефодию, — счастлив твой бог — но я из-за тебя потерял три с половиной минуты. Сейчас я либо наверстаю их, либо сверну себе шею — а потом я найду тебя. Марьяна-Вихря ты запомнишь на всю жизнь!
— Вотс хэпен, пан? — громко спросил кто-то (в синем комбинезоне с рядами блестящих кружков и полосок).
— Спишь на службе! — гаркнул ему Марьян. — Я подобрал эту шпану на вираже бэ-8, в самом пекле!.. — Он захлопнул дверцу, взревел, и его не стало.
(Марьян-Вихрь выполнил свое обещание: нашел Мефодия, но только через двадцать лет. А в тот день он сумел не свернуть себе шею, пришел первым и вскоре улетел на Ганимед — изучать трассу и готовиться к первому в своей жизни Ледовому ралли.)
Человек в синем (он велел называть себя «пан полицай») взял на руки Сару, кто-то еще взял на руки Ребекку, Мефодия куда-то повели сквозь невообразимое количество людей. В громадной прямоугольной каюте, где оказалось очень много панов полицаев, их усадили за стол и накормили. Двойняшки, не доев, уснули, их унесли в другую каюту, а к Мефодию приступили с расспросами.
Мефодий очень плохо знал польский, но паны полицаи вполне прилично владели английским и русским. И все равно никто их них не понимал Мефодия. По-французски паны полицаи не говорили, на иврите тоже. Впрочем, дело, видимо, было не в языке. Всякий раз, когда Мефодий отвечал на вопросы о профессии отца, или о месте и времени своего рождения, или, например, о том, как пройти из гимнастической каюты на обзорную палубу, — паны полицаи переглядывались и покачивали головами. «Делириум астрис?..» — тихонько сказал один из них. Остальные дружно закивали, с жалостью поглядывая на Мефодия.
— Это латинское название «звездной лихорадки», — объяснил мне Мефодий.
— Мне ли не знать, — огрызнулся я, вспомнив свои три года в санатории на Ваче.
На Марсе эпидемия началась несколько раньше, чем на Земле, и паны полицаи уже располагали подробными инструкциями о том, как надлежит действовать при обнаружении больных. Но это был первый случай, с которым они столкнулись лично. Они не могли отказать себе в удовольствии порасспрашивать бедного хлопчика о том, что ему видится и бластится. Даже рискуя заразиться от него…
Ребекке и Саре повезло — на их лепет просто не обратили внимания. Сироты Айсфилд были помещены в Нова-Краковский детский приют.
А Мефодий Щагин оказался одним из первых пациентов Специализированной психиатрической клиники при Медицинской Академии Марса Посполитого. Оттуда он при первой же возможности бежал. На восток — чтобы найти дядю Бена и Люську и доказать свою правоту. Был пойман, снова бежал — теперь уже на запад, и больше года бродяжил. Сначала по Воеводству, потом перешел границу Небесной Провинции и там нашел приют в иммигрантских трущобах Ханьяна. Оттуда с группой авантюристов отправился в неосвоенные территории Запада. В поисках мифических обнажений урановых руд они дошли почти до самого конца долины Маринер. Там их, подыхающих от голода, подобрала ареологическая экспедиция из Марсо-Фриско и на своей «блохе» доставила в Анисово ближайший к Ханьяну (и единственный к западу от Колдун-Горы) космопорт.
В Дальнем же Новгороде его уже, можно сказать, поджидал господин Волконогов. С недавно изданным (пока лишь на испанском и английском языках) романом Л.Саргассы и со своим глобальным планом возрождения России. И еле-еле Мефодий от этих его замыслов открестился, сумев доказать, что он, во-первых, не старший, а во-вторых, не вполне законный отпрыск светлого князя Василия Юрьевича. Кто же мог знать, что через девятнадцать лет в те же тенета попадет его двоюродный праправнук? Вероятность-то, если прикинуть, — ноль целых, запятая, тридцать три нуля… Или сколько там ныне людей на Земле и в Диаспоре, дважды помноженных на самих себя, а потом на квадрат количества поколений за двести лет, и поделенных на пять или семь сохранившихся чистых династий, не исключая негроидных и желтокожих?
20
Ребекке и Саре недавно исполнилось тринадцать (Воеводство Марс Посполитый живет по местному календарю), и Сара уже не мисс Айсфилд, а пани Ковак. В отличие от Бекки, она изредка пишет Мефодию. В письмах откровенно и многословно хвастается благосостоянием мужа (черная кредитная карточка, сливовый сад на западном склоне Сьерры, два доходных дома в Нова-Кракове и т. п.) и облично осуждает образ жизни своей беспутной сестренки, которая ударилась в политику и чуть не стала депутатом Сейма от Фракции национальных меньшинств. Но Карло Ксанфомалино, симпатичный и состоятельный лидер Фракции, кажется, положил на Ребеккиту свой черный с поволокой глаз и это обнадеживает Сару. Потому что вот уже сколько Сара живет в Нова-Кракове, но ни разу не видела, чтобы во время погрома пострадал итальянский дом. Даже бедный. Даже на окраине. Их никогда не трогают: все помнят, как двадцать четыре года тому назад случайно сгорела будка обойщика Чиколо Чиколлини, а через три дня запылал весь Нова-Краков, и до сих пор туристы спрашивают, зачем это над зданием Сейма купол из гермостекла и почему он треснул. У Ребекки совсем не еврейское, а просто христианское имя, и она будет полная дура, если погонится за мандатом и упустит такую партию…
Короче говоря, Мефодий склонен полагать, что сестры Айсфилд счастливы — каждая по-своему. О своих экспериментах на Пустоши он им не сообщал и не намерен.
— Так это, значит, был эксперимент? — спросил я и указал на правый глаз Мефодия. — Я-то, дурак, грешил на опричников.
— Опричники были потом. — Мефодий потрогал кусочки пластыря на правой скуле. — Но это неважно. Они просто слегка перепутали: решили, что я — это ты.
— Ага… — сказал я.
— Угу, — сказал Мефодий. — Еще вопросы есть? Или, все-таки, по-порядку?
— Ладно, давай по-порядку.
Люська Молодцов устроился лучше всех. Никакой он теперь не Люсьен, а Елисей Захарович. Вторую часть фамилии он тоже отбросил, сочтя ее ненужной роскошью. Все равно никто не поверит, что его мамой была Анна Пуатье, второй навигатор «Луары», а папой не просто какой-то Захар Молодцов, а тот самый — автор уникального математического аппарата для ориентации в нецелочисленномерных пространствах. Даже дядя Бен «слегка плавал» в парастереометрии Молодцова… Ладно. При всей своей скользкости и умении жить, Люська был и остался романтиком. Там бредил Землей — тут замечтал о звездах. Окончил Историческое отделение Дальне-Новгородского Университета и сам себя сослал в музей Последней Звездной архивариусом — на родину, так сказать. Об экспериментах Мефодия Люська узнал лет восемь тому назад от дяди Бена. Обозвал их «красивым прожектом», в расчетах ни черта не понял (дитя гения!) — но загорелся. Именно потому, что не понял и не поверил: цель должна быть недостижимой, иначе ему просто неинтересно. Мефодия было насторожил его энтузиазм, но оказалось, что романтик — не такое уж плохое качество для конспиратора. Слово свое Люська сдержал, ничего не разгласил и без малейшей задержки снабжал «прожектеров» информацией из корабельной Памяти и из личного архива Молодцова-старшего. Будет немножко жаль его разочаровывать…
Мефодий, загадочно усмехнувшись, опять погладил упаковку с поющей устрицей… Я сделал терпеливое лицо и покосился на Дашку. Она тоже внимательно слушала, хотя видно было, что не впервые.
Дядю Бена первые три года держали в палате для буйных, а до этого два месяца в остроге. Ему инкриминировали нарушение границ опричного владения (тогда по Пустоши даже ходить нельзя было) и киднэпинг: пятнадцать плетей и от трех до восьми лет. Но до судебного разбирательства дело не дошло. Началась эпидемия «делириум астрис», и дядю Бена на пару со следователем упекли в благотворительную психолечебницу, содержавшуюся попечением господина Волконогова. Люська в этом отношении оказался умнее. Еще там, на западном краю Карбидной Пустоши, где их настиг пограничный рейд, опричники спросили: «Что еще за Люська — Елисей, что ли?» Ну, он подумал и кивнул. А дядю Бена даже слушать не стали. Шлюпка? Дети? Кораблекрушение? Сочиняет старый хрен, застигнутый с поличным! Ого, какую кучу казенного карбида наворотил — и даже устрицы аккуратно поотделял, чтобы не засорять энергоноситель металлокварцевой пылью…
Когда дядя Бен успокоился настолько, что к нему в лечебницу стали пускать посетителей (иногда Мефодия и Люську, а чаще — Бутикова-Стукача, который все еще дослуживал в Тайном Приказе), им удалось выработать и осуществить план его освобождения. Вняв настоятельной Савкиной рекомендации, дядя Бен объявил себя потерявшим память иноземцем и потребовал интернировать его за пределы Дальней Руси: он-де не слишком высокого мнения о достижениях психиатрии в этой стране. Как выяснилось, в СМГ было не так уж много чернокожих граждан — десятка полтора. Все они были налицо и в здравой памяти. Дядя Бен оказался лишним.
Его интернировали в Марсо-Фриско…
А пару лет спустя Бенджамин Смоллет, верноподданный его сиятельства графа Марсо-Фриско, появился в Дальнем Новгороде уже в качестве научного консультанта при постоянной торговой миссии графства. Как и за какие заслуги получил он эту синекуру, Бог весть. Но именно его дипломатические усилия привели к тому, что по Карбидной Пустоши стало можно ходить (но не ездить!), а поющие устрицы оказались весьма ходовым товаром. Настолько ходовым, что поначалу Казна попыталась наложить лапу на этот промысел. Впрочем, вскоре было обнаружено, что гораздо большую прибыль принесут энтузиасты и обыкновенный рэкет среди них со стороны опричнины.
Дяде Бену нужно было легализовать свой интерес к поющим устрицам и в то же время не привлекать к нему излишнего внимания. Ни со стороны властей, ни, упаси Бог, со стороны официальной науки — он очень хорошо помнил порядки в палате для буйных. Даже Мефодию в этом своем интересе дядя Бен признался не сразу, а лишь когда Мефодий сам пришел к нему со своей фонотекой и со своими статистическими выкладками.
Мефодию было тогда двадцать два года. Земных, разумеется. Дальняя Русь живет по двойному календарю — это сбивает, но неужели он выглядит так старо? Зато для женщин удобно: не «за тридцать» — а «семнадцать», не «под пятьдесят» — а «двадцать пять». А Дарья и вовсе пацанка: десять лет… Мефодию было двадцать два и он нигде не учился, потому что ему везде было скучно. Не только школьная математика, но и теория графов скучна и бессмысленна для тех, кто владеет приемами парастереометрии Молодцова. И в этом смысле у Мефодия был лишь один собеседник (он же учитель): дядя Бен.
Люська в это время был на первом курсе и корпел над Карамзиным. Карамзин был обязателен даже для тех, кто специализировался на Героическом веке, когда политическое бессилие в сочетании с животным ужасом перед начавшейся бойней подвигло все правительства на спешное упразднение наций, границ и самих себя. Россия, как известно, самоупразднилась одной из первых, потому что именно в России национализм восторжествовал с особенной силой и страстью: в начале двадцать первого века, точно так же, как и в начале двадцатого, русские стали резать друг друга из-за разночтений в истории Отечества…
Короче, Люська тоже не был собеседником, хотя и смыслил кое-что в папиных построениях. Он пребывал в миноре и в состоянии перманентного отвращения к изучаемому предмету: обязательность отвращает. И в особенности — романтиков.
И Мефодий пришел к дяде Бену со своими статистическими выкладками и смутными прозрениями, подозрительно похожими на бред. На «делириум астрис».
У дяди Бена тоже были статистические выкладки — правда, он исследовал не звук, а форму, — и они оказались полнее, чем выкладки Мефодия. Но основные выводы совпадали. Мефодий шел окольными путями, а пришел к тому же. Обнаружив это, они уже вместе состряпали феноменологическую теорию, которая впоследствии подвергалась лишь незначительным уточнениям.
Вчера вечером она была подтверждена полностью. Дядя Бен был бы рад этому, хотя и не особенно удивлен.
21
— Ты, все-таки, покопайся в памяти, — попросил Мефодий. — Бен Смоллет. Бенджамин Томас Смоллет… Неужели не слышал?
— Ей-Богу, нет… Ведь это было давно? Если он не родился на «Луаре», значит, он родился больше двухсот лет назад. Разве что в списках участников экспедиции… На «Лене» такого не было, это точно. Может быть, на «Юконе»?
— Да, на «Юконе»… — Мефодий разочарованно покивал. — Ну хорошо. А такое имя, как Осип Тяжко, тебе знакомо?
— Конечно — если ты имеешь в виду теорему Геделя-Тяжко. «Экспансия асимптотически предельна».
— Молодец. А где проходит асимптота?
— Господи, вот ты о чем! Ну конечно же, именно Смоллет. «Еретик Бен», конец двадцать первого века… Так это он?
— Обидно, — Мефодий усмехнулся. — Хотя и вполне обычно… Дядя Бен забытый автор забытой ереси.
— Почему же обидно? Настоящий ученый всегда еретик…
— Договаривай: «…но еретик — не всегда настоящий ученый». Я знаю эту формулу, потомок… Бен Смоллет задал Осипу Тяжко единственный вопрос: «Где проходит асимптота?» — это и было ересью… Забронзовевший Осип Нилович разразился серией популярных брошюр, долженствующих изничтожить дядю Бена, как ученого. И предложил ему похлопотать о месте бортвычислителя на «Юконе»: пускай, мол, лично убедится в существовании Предела. Еретик Бен принял вызов, хотя ему было уже под пятьдесят. Они с Осипом были ровесники, даже вместе учились в Гарварде, а потом вместе преподавали… Но это лирика. Дядя Бен обнаружил то, что искал. Хотя и не там, где искал.
— Значит, Вселенского Предела он не обнаружил? — спросил я. — И гибели двух кораблей не заметил?
— Не ерничай. Слушай. Тебя это лично касается… Дарья! Не видишь братина пуста!
— Вижу, — спокойно сказала Дашка. — Тебе уже хватит.
Мефодий посверлил ее бешеным взглядом, зажмурился и помотал головой.
— А если хватит, — сказал он, открыв глаза и скучно глядя в потолок, убери ее со стола.
— Так ведь пустая же, — спокойно возразила Дашка.
Мефодий посмотрел на меня с победной усмешкой и посоветовал:
— Никогда не спорь с бабами, потомок! Они нисколько не изменились.
— Не буду, — серьезно пообещал я. Было ясно, что Мефодий не решается приступить к тому, что он считает главным, вот и разыгрывает эту интермедию. Для разгона.
— Что открыл Колумб? — спросил он вдруг.
— Насчет баб? — уточнил я. Мне показалось, что это — либо еще одна интермедия, либо продолжение старой.
— Насчет баб никто никогда ничего нового не открывал — открытия Адама в этой области фундаментальны и исчерпывающи. Забудь о бабах. На время, конечно… Так что открыл Колумб?
— Америку. — Я улыбнулся.
— Точно?
— Куда уж точнее.
— Молодец, пять! А что он открывал?
— Колумб? Америку.
— Двойка! Он открывал западный путь в Индию — а открыл Америку. Этот континент лежал на полпути к заявленной цели и положил предел плаванью. Правда, сам Колумб этого не знал. И умер, полагая, что проложил западный путь в Индию. Открытые им острова до сих пор так и называются: Вест-Индия. По крайней мере, в двадцать первом веке они назывались так.
— Вест-индская впадина… — пробормотал я. — Ну и что?
— Ну и все. Асимптота пересекала путь к заявленной цели. Во времена Колумба Пределом был Американский континент.
— Это аналогия? — спросил я.
— Их масса! — объявил Мефодий. И стал загибать пальцы: — Цель — Индия; асимптота — Америка. Цель — мировое владычество; асимптота — противостояние сверхдержав. Цель — коммунизм; асимптота — тоталитарный режим. Цели праведность; асимптота — грех гордыни…
— Цель — колонизация Марса; асимптота — Марьин Овраг, — добавил я.
— Способный мальчик, — похвалил Мефодий. — На лету схватываешь… А вывод?
— Осип Нилович — дурак; дядя Бен — гений.
— Не смешно… — Мефодий поморщился. — Я же сказал: тебя это лично касается. Ты домой хочешь? В свой медвежий купол? Который, кстати, не что иное, как асимптота покорения природы?
— Хочу.
— Значит, ты никогда не вернешься домой.
— Упрусь в асимптоту? Пожалуй, тебе действительно хватит… Насколько я понял, Историческая Предопределенность не распространяется на отдельных…
— Забудь этот бред — он слишком логичен для истины! Романтики интуитивно правы: цель должна быть недостижимой. Только не потому, что так интереснее, а потому, что достижимые цели приводят в тупик. Двести лет в захлопнутой Вселенной!.. Как тараканы в кастрюльке. Даже не пытаетесь приподнять крышку, однажды доказав себе, что это невозможно… А, ч-черт. Дарья!
— Ай? — откликнулась Дашка.
— Перестань издеваться. У нас серьезный разговор — а мы трезвы, как… Ну, по капле, а?
Дашка вздохнула, поднялась из-за стола и, взяв братину, пошла вон из светлицы. Едва она закрыла дверь, Мефодий, подмигнув мне, расстегнул комбинезон и вытащил из-за пазухи металлическую фляжку со скорпионом на выпуклом боку — непременный атрибут рейнджеров двадцатого века и американских астронавтов двадцать первого.
— Уж этого она бы нам ни за что не позволила, — объяснил он, свинчивая колпачок, и плеснул на донышко в обе чары.
— Земная? — спросил я, осторожно нюхая.
— Небесная. От Люськиных щедрот… Залпом! И рот не открывай — дыши носом, пока не закусишь.
— Понятно. А плохо не будет?
— Будет хорошо. Ну — без чока, за дядю Бена.
Я скрупулезно выполнил инструкции Мефодия, отдышался и дважды сморгнул набежавшую слезу.
— Дядя Бен… — начал Мефодий перехваченным голосом. Задохнулся, тоже сморгнул слезу, помотал головой и продолжил:
— Дядя Бен был Колумб… Его «Санта-Мария» вернулась из дальнего плаванья — одна, истрепанная штормами, но с радостной вестью и с грузом вест-индского золота в трюме. И потерпела крушение возле родных берегов. Золото затонуло, а радостную весть никто не захотел услышать. Мы проскочили Предел, потомок! Дважды: туда и обратно. Но при этом ни разу не разворачиваясь. Потому что ТАМ нет направлений. Ты этого не поймешь. Я тоже не понимаю, но я привык к этой мысли: дядя Бен вбивал ее в мою тупую думалку с пятилетнего возраста. И вбил накрепко. ТАМ, где всегда разомкнуты окружности и сферы, такое понятие, как «вектор», теряет смысл. Это возможно вычислить, но нельзя представить. Хвала материи: она упорядочивает пространство. Но ТАМ ее слишком мало… Штурманы «Лены» и «Юкона», полагая, что их корабли сбились с курса, скомандовали корректирующий маневр. А парус — так легок, так тонок и так удален от массивной гондолы!.. На флагманском мостике не было штурмана — штурман скорбел почками, и его замещал бортвычислитель «Юкона», вовремя освоивший смежную специальность и оказавшийся под рукой. Дядя Бен. По его команде были остановлены реакторы, «Луара» легла в дрейф и подобрала шлюпки с экипажами потерпевших крушение парусников. В одной из шлюпок была моя мама, беременная мной. От папы осталась лишь гордая и грешная душа. В облачке пара, красиво подсвеченном парусами. Аминь!..
Он снова свинтил колпачок и наклонил фляжку над своей чарой, но что-то ему помешало продолжить движение. Я с трудом сфокусировал взгляд и понял, что на чару легла маленькая Дашкина ладонь. Мефодий усмехнулся, отвел фляжку и, наклонившись, поцеловал ее запястье.
— Мне надо, — сказал он, поднимая лицо.
— Я знаю, — тихо ответила Дашка. — Но ведь ты уже.
— Да? — удивился Мефодий.
— Да. Я слышала.
— Значит, не подействовало. Я даже не заметил. Веришь?
— Я твоему Елисею когда-нибудь глаза выцарапаю.
Мефодий посмотрел на меня, разочарованно вздернул левую бровь, завинтил фляжку и сунул ее за пазуху. Дашка уже сидела на своем месте. Полную братину она поставила на середину стола, подальше от Мефодия, а к нему придвинула какую-то тарелку.
— Продолжай, — попросила она, подперев кулачком подбородок. — Тебе надо рассказать все, продолжай.
— На чем я остановился? — спросил Мефодий, застегнув на груди комбинезон.
— Уже не рискуя ни совершать разворот, ни даже погасить парус… подсказала Дашка. — А дальше?
22
Уже не рискуя ни совершать разворот, ни даже погасить парус, «Луара» продолжала инерционный полет. Масса гондолы, как вылитая за борт китовая ворвань, предохраняла экипаж от зыбей Предела, создавала в себе и вокруг себя микроскопический штиль старой доброй Эвклидовой геометрии. Шли годы. Растения в оранжереях непредсказуемо мутировали в искусственном освещении. Рождались и росли дети, не видевшие звезд. Вспыхнули и были подавлены железной рукой капитана два больших мятежа и несколько малых бунтов. Мефодий научился сначала летать, а потом ходить. Мама умерла при родах. Дядя Бен и компьютер стали его первыми собеседниками.
Самой сильной из первых осознанных эмоций Мефодия была ненависть: он страстно возненавидел Осипа Тяжко — за то, что тот оказался прав. Дядя Бен смеялся над этой ненавистью. «Не бывает правоты навсегда, — говорил он. Не бывает абсолютных истин. Даже дважды два не везде четыре». «Но ведь асимптота недостижима — на то она и асимптота», — возражал Мефодий. «О да! Ахиллу ни в жисть не догнать черепаху!» — смеясь, отвечал дядя Бен. И объяснял апории Зенона, отложив на время тетрадь Мефодия с недоподчеркнутыми красным ошибками в дифференциальных уравнениях.
Что человеческая культура без математики? И что математика вне ее? Существуя как будто бы в разных пространствах, они формируют друг друга. Как тонкий узор атомарных цепочек металла в двуокиси кремния: формируя друг друга, узор и кристалл образуют поющую устрицу… Дядя Бен был очень сильным математиком и в высшей степени культурным человеком. До хрупкости маловероятное сочетание.
«Земля!» — закричал однажды марсовый «Санта-Марии».
«Звезды!» — оглушительно заорал в интерком дежурный оператор «Луары».
Почти шесть лет прошло с момента погружения в Предел. И вот сомкнулись вновь окружности и сферы, опять возникли направленья, и звезды стали походить на звезды. «Смотрите, — плача говорили взрослые. — Смотрите же! Вот точно такими мы видели их на Земле…»
Нет, не совсем такими. Не точно.
Прямо по курсу, чуть-чуть в стороне от скомканного паруса «Луары», мигала слабая зеленоватая точка — Солнце. А за кормой в полнеба полыхало рыжее мохнатое светило. Как вскоре показал спектральный анализ с поправками на эффект Допплера, это была не Проксима Центавра, а Денеб — Альфа Лебедя. И самое странное: флагман Восьмой Звездной не приближался к ней! Он удалялся от нее — на девяноста пяти сотых световой. Парус «Луары» медленно, словно нехотя, расправлялся под дуновением легкого звездного бриза.
Беседуя с Мефодием, дядя Бен и компьютер успели изрядно погутарить и между собой, обсасывая то апории Зенона, то парадоксы парастереометрии Молодцова. Захар не знал их языка — но исправно подбрасывал тему за темой. Обратно «Луара» летела не наугад. Второе погружение в Предел произошло в расчетное время, в рассчитанном месте и с рассчитанной скоростью. С парусом, погашенным за несколько минут до погружения.
Спустя три года по бортовому времени «Луара» косо пронзила плоскость эклиптики в районе орбиты Урана и стала удаляться от Солнца в направлении на Южный Крест. И еще полтора года понадобилось, чтобы снизить скорость с 0,98 световой до планетарной и вернуться в Систему.
— Дальше ты знаешь, — сказал Мефодий.
Да, дальнейшее мне было известно. Двадцать с половиной лет тому назад я сам распутал путаницу в официальных сообщениях комиссии ООМ и, возгордясь, немедленно отправил подробное письмо в Академию Наук Сибирской Федерации. С формулами, картами и графиками. Спустя три месяца я уже принимал трудовые процедуры на Ваче. Мой лечащий наставник выбивал из меня математическую заумь: то километровыми кроссами по сугробам, то охотой с голыми руками на волка (ни в коем случае не убивать, их у нас всего сорок три!), то весенним строительством ветроустойчивых стаек для тех же волков в противогазе и в герметичном прорезиненном балахоне. И выбил напрочь…
Я обнаружил, что рассказываю Дашке и Мефодию о санатории на Ваче и, сомкнув пальцы на чаре, показываю им, как нужно душить волка — чтобы не насмерть, а только уснул. Дашка, жалостливо кивая, слушала, а Мефодий рассеянно возил пальцем по скатерти и ждал, когда я закончу.
— Вот так, — закончил я. И почему-то разозлился. — А ты в это время… Ведь это все из-за вас. «Делириум астрис».
— Я в это время с другими такими же дураками искал уран на крайнем западе долины Маринер, — сказал Мефодий. — Дядя Бен в это время сидел в палате для буйных. А Люська в это время, ни черта не понимая, закладывал меня господину Волконогову. В это же самое время бортовая Память «Луары» отчаянно противилась попыткам ООМовских умников стереть алгоритмы Молодцова-Смоллета. И громоздила такие блоки, что Люська до сих пор подбирает к ним ключики. Можно, конечно, поискать виноватых, только зачем?
— Незачем… — согласился я, помолчав. — Но чего добивается, например, господин Волконогов?
— Неужели неясно? Ему охота возродить великую и единую Русь, распространить ее на всю обитаемую Вселенную. Мне — то есть, теперь уже тебе — отводится роль вдохновляющего символа… Правда, спасибо Саргассе, нас будет очень трудно заменить: хоть какая-то гарантия личной безопасности.
— Глупо, — сказал я.
— Конечно, глупо. Потому что сначала, даже если он одолеет Тайный Приказ, господину Волконогову придется иметь дело с Графством, Воеводством и Небесной Провинцией. У его сиятельства, например, — дядя Бен это доподлинно выяснил, — всегда наготове парочка водяных бомб.
— Водородных? Откуда?
— Я сказал «водяных». Две беспилотных «блохи», по шесть кубометров талой воды в трюмах. Автопилоты нацелены на самые крупные проплешины Карбидной Пустоши.
— Он что, сумасшедший? Дюжина сот ведер — это пожар до неба! Даже коллоидный слой…
— Он предусмотрительный. Во время последнего мятежа капитан «Луары» двое суток держал палец на тумблере, открывающем все главные шлюзы. И не снял, пока зачинщиков не повязали… Водяные бомбы — тумблер его сиятельства.
— Этот — нажмет!
— Будем надеяться, что господин Волконогов тоже так думает. А что, тебя уже всерьез интересует политическая ситуация в долине? Морально готовишься взять бразды?
— Скоро вечер, Мефодий, — сказала Дашка напоминающим голосом. — Андрею Павловичу к боярам выходить, а ты о пустяках.
— Это он о пустяках, — возразил Мефодий. И, посмотрев на часы, опять возложил левую руку на устрицу. — Позови холопов, Дарья, пусть уберут. Мне нужен стол.
— Я сама, — сказала Дашка, вставая. — А то еще Савка вопрется — не выгонишь…
— Хоть три Савки! Даже если поймет, помешать не сумеет. И не захочет.
— Это не опасно? — спросил я. Мне почему-то вспомнилось, что Савке Бутикову «написано» истечь кровью.
— Не опасно только в ухе ковырять… — Мефодий усмехнулся. — И то, если умеючи. Зови холопов, Дарья. Ты полчаса провозишься, а они — мигом.
23
Савка вперся, и выгнать его не удалось. Он сидел на самом краешке кресла (но все же сидел, поскольку Мефодий велел ему сесть) и ныл с подобострастной укоризной в голосе, а нам приходилось слушать его смешновато-жутковатое нытье.
Нытье сводилось к тому, что негоже заниматься пустяками в такое время, когда весь дальнерусский народец до крайности обозлен и произволом опричнины, и засильем инородческих обычаев; что общественное мнение возбуждено до высокого градуса и что не сегодня завтра (удалые ребята лишь посвиста ждут) запылает Тайный Приказ, а Дом Губернского Собрания со прочие службишки будут блокированы, после чего, сметя забор усадьбы господина Волконогова, толпы-с верноподданных обложат Стену, испрашивая вольностей и призывая Рюрика на царство; и что от государя-де Мефодия Васильича всего-то и надо — отложить на малое время свою забаву и повторить отречение, пусть даже теми самыми словами-с; а господин-де Волконогов нимало против них не возражает, униженно прося лишь об одном: о соблюдении формалитету-с, дабы светлый князь Андрей Павлович воцарился во всезаконии…
Мы с Дашкой, слушая нытье, сидели в своих креслах, чуть отодвинув их от стола, а Мефодий стоя колдовал над устрицей, которую он водрузил на середину пустой столешницы.
Точным круговым движением он взрезал упаковку по диаметру, отложил нож и, подцепив ногтями, снял верхнюю половинку вместе с пеной. Словно обнажил ядро гигантского ореха. Потом он занялся своими руками. Дважды облил их из фляжки, вымыл и тщательно обтер о комбинезон. Еще раз облив, сполоснул и потряс кистями в воздухе. Подняв руки, растопырил пальцы перед лицом и замер — как хирург перед операцией.
Савка продолжал ныть. Мы его не слушали.
Устрица была хороша. Не тем хороша, что красива (металлокварц, в отличие от кварца, не прозрачен, сероват и блекл, трудноуловимые узоры завитков скорее отталкивают, чем притягивают взгляд), а тем, что уникальна. Только на обращенной ко мне стороне верхней, обнаженной, половинки раковины я насчитал три завитка — и, кажется, из-под пены выглядывал краешек четвертого. То есть, мы услышим никак не меньше четырех песен. А то и все двенадцать, если завитки распределены равномерно…
Когда спирт на руках высох, Мефодий, не поворачиваясь к Савке, громко сказал:
— А теперь заткнись!
Савка вздохнул и заткнулся.
Мефодий осторожно охватил раковину левой ладонью, пальцем правой осторожно прикоснулся к одному из завитков, нажал и сделал несколько втирающих круговых движений.
Устрица запела и продолжала петь, когда он отвел палец. Песня была скорее необычной, чем приятной: аритмичный, скребущий визг — как ногтем по басовой струне гитары.
Не дожидаясь окончания песни, Мефодий разбудил еще один завиток скрежет дополнился тоненькой жалобной нотой с едва ощутимыми частотными модуляциями. Черти пилят кости грешника длинной тупой ножовкой, зубья которой неравномерно выломаны, а в это время ангельский хор оплакивает потерянную душу…
Третий завиток разразился бесконечной серией частых булькающих синкопов с коротким шипением после каждого. Ну, ясно: слезы Господа падают на раскаленную сковороду! Я с некоторым усилием подавил подступивший смешок. Судя по тому, как на меня посмотрела Дашка, правильно сделал.
И тут до меня дошла некая странность: Мефодий пробуждал уже четвертый завиток — а первый все еще звучал! То ли черти неутомимы, как черти, то ли они сменяют друг друга в процессе работы, а их ножовка дьявольски прочна. Если же серьезно, то мне никогда не приходилось слышать об устрице, способной петь так долго. Быть может, секрет в одновременности песен? Или в сухих пальцах?..
Четвертой песне я не сразу нашел соответствие в картине, нарисованной моим убогим воображением. В конце концов я решил, что это — посвист крыльев Серафима, время от времени грозно пикирующего на утомленных работников Преисподней. Но те, видимо, ощущали себя в своем полном праве и не обращали внимания на бессильные жесты небесных властей. Черти пилили, ангелы пели, Господь ронял слезы, а Его Серафим втуне вспарывал воздух крыльями. Или мечом.
Пятый разбуженный завиток захихикал премерзким голосом, и я изо всех сил окаменел лицом. Черт меня дернул вообразить эту ножовку…
Всего на верхней половине раковины оказалось восемь завитков. Мефодий разбудил все — и все они продолжали звучать, пока он снова мыл руки спиртом и сушил их, растопыря пальцы. Потом он перевернул раковину, опустив ее звучащими завитками в пену (песня стала немного глуше), и принялся за остальные. Спустя еще пять минут звучали все четырнадцать — а раковина, между тем, и не думала рассыпаться.
Зато она вдруг стала прозрачной.
Точнее — полупрозрачной. Как будто она содержала в себе какое-то… нет, не вещество. Некую черноту, весьма неохотно пропускавшую фотоны. Глубокую, изначальную черноту. Не тень, а тьму, которая уже была задолго до первой фразы Создателя и ухитрилась воспротивиться волюнтаристскому «Да будет свет!»
Короче говоря, это было немножко страшно…
Мефодий закатал рукава, опять вымыл руки (теперь уже до локтей) и опять высушил. Произвел точно такую же процедуру с ножом. И с лезвием, и с рукояткой. Раковина продолжала петь. Мефодий коротко глянул на каждого из нас по очереди и приказал:
— Внимание. Тишина. Неподвижность.
Раковина пела. В инфернальной какофонии я с трудом различал голоса отдельных завитков. Ни ритма, ни смысла в ней и подавно не было. Словно Господь сказал: «Да будет звук!» — но забыл уточнить, какой.
Мефодий взял нож в правую руку и плавно опустил обе кисти на раковину. Нет. В раковину. Погрузил. Или втиснул… В общем, сунул руки в то место, где была раковина: так, словно ее там не было. По самые локти.
Я ахнул — мысленно. Савка перекрестился. Дашка показала ему кулак. И сама заработала яростный взгляд Мефодия, стоявшего к Савке спиной.
По локти сунув руки в эту черноту (размерами чуть больше баскетбольного мяча, но не такую идеально круглую), Мефодий двигал ими непонятным образом. Мне были видны лишь смутные тени рук, да однажды слабый отблеск на лезвии ножа. Но я голову бы дал на отсечение, что он режет раковину изнутри. По диаметру. Ножом режет, свободной рукой придерживает — изнутри. Вот только лезвие ножа ни разу не показалось снаружи.
Потом он сделал резкое движение правой рукой на себя и вверх, бросил нож на столешницу и спокойно вынул из черноты левую руку. Сел в кресло и уставился на то, что получилось.
Кажется, получилось не то, что надо: Мефодий явно недоумевал. Руки он держал на весу — наверное, чтобы не мыть их снова, — и сосредоточенно смотрел в черноту.
— Я же просил его не выключать свет… — пробормотал он.
Его было плохо слышно: чернота все еще пела на все свои четырнадцать голосов. Нет — на тринадцать, потому что, кажется, не стало премерзкого хихиканья. Я хотел сказать об этой недостаче, но затруднился сформулировать и промолчал. Мефодий одарил Дашку еще одним яростным взглядом и громко спросил:
— Ты письмо вложила?
Дашка кивнула.
— И адрес не перепутала?
Дашка поджала губы и отвернулась.
— Р-разгильдяй, — сказал Мефодий. — Жди его теперь.
— Мефодий Васильич, ваше вели… — начал было Савка.
— Цыц! — оборвал Мефодий, не оборачиваясь. — Не беспокойся, долго ждать не будем. Спички есть?
Савка пошарил в кармане, достал спички, потряс коробком над плечом Мефодия и уронил в подставленную ладонь.
Я подумал: а как же он будет мыть коробок? Но он просто упрятал его в ладонях, сложенных замком, поднялся, опять навис над раковиной и погрузил руки туда. Некоторое время двигал руками там — видимо, открывал коробок и доставал спички. Две или три выронил, одну, наверное, сломал. Следующая зажглась, осветив изнутри черноту и сложенные лодочкой ладони в черноте. Я привстал и вытянул шею. Савка тоже. Дашка сидела, откинувшись в кресле, руки на коленях. Раковина пела.
Мефодий дождался, пока пламя установилось, и осторожно двинул горящую спичку вперед, к краю черноты. Не донеся, оглянулся через плечо на Савку и бросил:
— Назад!
Савка отступил обратно к своему креслу.
Мефодий глянул на нас и добавил:
— Вы тоже. Мало ли что…
Дашка поднялась и зашла за спинку кресла. Я последовал ее примеру.
— Дальше! — сказал Мефодий.
Мы отошли еще на два шага, а Савка переступил с ноги на ногу. Я опять вспомнил о том, что ему «написано», и вознамерился крикнуть, чтобы не валял дурака и отошел дальше. Я уже открыл рот, чтобы крикнуть.
И забыл закрыть, потому что увидел нож.
Нож лежал на столешнице — там, куда его бросил Мефодий, и у него не хватало доброй половины лезвия. Раковина пела… Но не настолько же громко, чтобы я не услышал, как сломалось лезвие! И где обломок?
Я на секунду зажмурил глаза и опять посмотрел на нож.
Он был сломан.
А в следующий миг стало ослепительно светло. По стенам светлицы (на фоне стен? за стенами?) заплясало яркое оранжевое пламя, в котором извивались длинные белые силуэты каких-то невероятных существ с желтоглазыми мордами и треугольными раззявленными пастями — их словно корчило в беззвучной агонии, и адское пламя пожирало их червеобразные тела…
Дашка коротко взвизгнула и стала мягко оседать на пол. Я скорее почувствовал, чем увидел это и почти на ощупь подхватил ее под мышки. На многие версты вокруг бушевало беззвучное пламя, взвивались, корчились и опадали нездешние существа, а из невидимого окна светлицы дуло. Этот сквозняк успокаивал, шепча: «не верь глазам своим»… Сквозняк, и Дашкина тяжесть на руках, и запах ее волос, и неразборчивые причитания невидимого Савки — о том, что доигрались и что всему конец, Иерихон с Нагасакой. Звонко, часто, непрерывно булькали и шипели на адской сковороде слезы Господа, а все прочие завитки невидимой раковины молчали. Пылала чужая Вселенная.
24
Не знаю, сколько продолжалось это кино. Секунды? Столетия? Темнота наступила вдруг — словно кто-то выключил проектор. То есть, не темнота, конечно. Обычный марсианский день, который на Земле сочли бы сумерками.
Устрица молчала — Господь выплакал все свои слезы. Да и не было уже устрицы. Были две большие полусферы, две половинки комбинированной упаковки. И мягкое дно той, что в центре стола, было выстлано тонкой металлокварцевой пылью. Про пыль я скорее знал, чем видел ее, потому что видел я плохо: перед глазами все еще стояла Преисподняя, и все еще корчились в ее огне аборигены чужой Вселенной… Кино.
Я проморгался.
Мефодий, присев на корточки по ту сторону стола, ворочал что-то тяжелое на полу. Обмякшая Дашка все еще висела у меня на руках. Я перехватил ее левой рукой под колени и положил в кресло, предварительно ногой развернув его к себе и отодвинув от стола. Потому что стол был густо заляпан кровью, и с него капало…
Осознав это, я заметался глазами, ища Савку.
— Очнулся? — спросил Мефодий. — Помоги.
Он говорил сквозь зубы. Зубы у него оказались заняты — зубами и левой рукой Мефодий затягивал жгут на Савкином предплечье. Ни черта у него не получалось: обрывок портьеры был слишком толстый, и Мефодий тщился затянуть его поверх рукава. У Савки не было кисти правой руки, из культи хлестало, сам он пребывал в обмороке.
Так жгут не делают…
Я поискал глазами, нашел свою ночную сорочку, разодрал, обломком ножа распорол на Савке рукав и сделал все как надо.
— Ищи обрубок, — сказал я, закончив. — Еще не поздно срастить, я попытаюсь. Где он?
— С-сгорел, — ответил Мефодий.
— Не морочь мне голову!.. — заорал я. — Пока не поздно, я могу попробовать срастить — но я не могу вырастить ему новую кисть, это не зубы! Где обрубок?
— Ты нож видел? — спросил Мефодий.
— Ну? — сказал я, заставляя себя успокоиться.
— А он туда руку сунул.
— Куда? В раковину?
— Если бы. Дальше. Нож сейчас у Люськи в запаснике, на «Луаре». А вот где рука…
Я посмотрел ему в лицо и сразу отвел взгляд. Мефодий не врал — он действительно не знал, где рука. И ему было крайне интересно узнать, где она.
«Кино… — подумал я. — Значит, не кино».
Я поверил. Что мне еще оставалось?
И еще я подумал, что Мефодий Щагин страшный человек. Он только что вырвал у мироздания какую-то тайну. С кровью вырвал — Савкиной кровью и кровью тех, не знаю, как их назвать. Если у них была кровь. И не успокоится, пока не вырвет новую тайну, в которую уперся… И так далее, ломая асимптоты.
— Дядя Бен был Колумб? — сказал я, глядя в его заляпанные Савкиной кровью колени. — Только не тешь себя мыслью, что ты — Америго Веспуччи. Ты — Кортес.
— Браво, потомок!.. — произнес он чуть напряженным голосом. Продолжай в том же духе. Говори то, что думаешь.
Свежая капля крови упала ему на колено. Подняв глаза, я увидел, что он зажимает пальцы правой руки в кулаке левой.
— Что с рукой? — спросил я.
— Ерунда… подушечки пальцев… — Он расслабил кулак и, скрипнув зубами, снова сжал. — Остались там.
— Только подушечки?
— Займись лучше Дарьей, — попросил он.
Я оглянулся на Дашку. Она была бледна, но дышала ровно.
— Дашь ей понюхать спирту, — сказал я, — и пусть она займется тобой. Но мне нужна помощь, так что сначала зови своих лекарей… государь-самодержец.
25
Савку увезли. Нам сказали, что в госпиталь. Я предпочел поверить. Крови он потерял не так уж много: если и умрет, то не сей минут и не от этого.
А когда-нибудь — все помрем…
Нам было не до Савки, потому что стали досаждать бояре, лишенные его чуткого руководства. Сначала они досаждали просто так — одним лишь назойливым фактом своего наличия. Потом нам пришлось выдержать публичное принятие пищи в присутствии тех же бояр. Ладно хоть Дашка стояла рядом и шепотом подсказывала: кому послать чарку со своего стола, из чьих рук благосклонно принять тарелку, к чьим устам преклонить ухо и покивать (слушать не обязательно), на кого зубом цыкнуть, а на кого как на пустое место посмотреть… В общем, это было даже забавно. Если действительно не слушать. Одного я послушал: он просил у меня дружину в десять тыщ ратников с парализаторами, обещая за три дня усмирить Марс Посполитый и бросить к моим стопам сие малое царствишко. Я припомнил статистический раздел путеводителя, где было написано, что в СМГ всего лишь сорок тысяч полноправных (или «православных»?) граждан, плюс три-четыре тысячи беспаспортных эмигрантов, и цыкнул на него зубом. А надо было покивать…
Кстати, о зубах: вот где мне было бы море увлекательной работы! И, если судить по одежде бояр, не бесплатной… Увы, на это, разумеется, не приходилось рассчитывать.
До одури нацыкавшись, накивавшись, насмотревшись как на пустые места и между делом насытившись, мы с Мефодием Первым дали понять, что пора и честь знать. И в окружении полудюжины добрых молодцев с алебардами двинули сквозь расступившихся бояр к выходу из терема (обедали не в гостевом, а в государевом). Мефодий баюкал на весу свою правую руку с забинтованными большим и указательным пальцами — похоже, он оставил «там» не только подушечки.
Бояре были вполне удовлетворены и больше не приставали, однако на крыльце нам досадил сам господин Волконогов. Правда, не лично, а через третьих лиц. Их было четверо. Они передали Мефодию Васильичу униженное по форме и настоятельное по сути напоминание господина Волконогова о формальной необходимости повторить отречение-с. Мефодий ответил господину Волконогову через тех же лиц, употребив самые понятные слова из рабочего жаргона такелажников. После чего потребовал (через них же), дабы господин Волконогов вернул ему его «ханьян». Желательно с Марьяном. Поскольку из-за травмы он, Мефодий, вряд ли сможет управлять турбокаром, а через два часа ему, кровь из носу, надлежит быть на кухне «Вояжера», дабы не потерять любимую работу подавальщика, то бишь официанта.
(Тут я впервые возымел повод задуматься: почему Мефодий выбрал себе такую профессию, отнюдь не совместную с его монаршьим достоинством? Но не желая утруждать голову на сытый желудок, решил, что как раз поэтому — из вредности.)
Третьи лица откланялись, мет[/]я песок разноцветными буклями и кружевными манжетами, а мы велели добрым молодцам держаться в отдалении и направились к восточной стене усадьбы, где протекала речка. По дороге я скинул с плеч осточертевший кафтан и повесил его на какую-то балясину, оставшись во фрачной паре. Дашка избавилась от кокошника и на ходу вытирала румяна. Мефодию не от чего было избавляться: он так и обедал в мятом-перемятом комбинезоне, который Дашка по-быстрому застирала. А может быть, велела застирать — не знаю. Я в это время обрабатывал Савкину культю и отбивался от государевых лекарей, которые пытались мне помогать. Удивительно, как это государь еще жив при таких лекарях: надо полагать, они его не часто пользуют.
Речка, таки оправдав мои подозрения, оказалась канавой. Мы шуганули от водоема добрых молодцев, граблями убиравших с его поверхности ряску, и расположились на травке, под кустиком. Наши алебардщики расположились в двадцати шагах от нас, под другим.
Охрана или конвой? А пес их знает.
Размышлять о чем бы то ни было мне оказалось лень. Это было плохо, потому что поразмышлять стоило. Например, вот о чем: как в предстоящей буче толпы-с верноподданных дальненовгородцев будут поступать с беспаспортными эмигрантами? Беспрепятственно пропускать в космопорт — чтобы летели к едрене фене? Загонять в резервации? Бить ногами на улице?.. Что мне выгоднее? Козырять ли своим новым паспортом гражданина СМГ (я нащупал его в боковом кармане фрака), избегая тем самым заключения в резервацию и битья ногами? Или объявить себя человеком второго сорта — зато без лишних формальностей оказаться на борту пассажирского (а хотя бы и грузового!) транспорта, который унесет меня отсюда к едрене фене?.. Впрочем, сначала надо оказаться по ту сторону Стены.
Я покосился на алебардщиков, сунул в зубы сорванную травинку, оперся на локти и запрокинул голову — якобы в послеобеденном блаженстве. Стена была чертовски высока. А травинка оказалась невообразимо горькой — как почти все, произрастающее на местной почве… Каковы, интересно, сливы на западном склоне Сьерры?.. Я перекатился на бок и стал ожесточенно отплевываться.
Дашка сидела, натянув на колени сарафан и обняв их руками, и тоже смотрела на тот берег «речки» — на Стену. А Мефодий, обхлопав левой ладонью незаросший участок почвы, прутиком рисовал какие-то овалы, дуги и стрелки.
Уловив мой интерес, Мефодий поморщился и попросил слегка подождать: сейчас он мне все объяснит, только сначала сам разберется. Не знаю, что он там собрался мне объяснять. Если про устрицы, то я все равно не пойму. А если про пожар в чужой Вселенной, то пусть лучше объясняет Дашке. Дашка ему все простит.
Гороховый Цербер… то есть, Бутиков-Стукач-старший вел меня сюда какими-то ходами и все время вниз. Снаружи гребень Стены почти не виден за забором. Со стороны магистрали — вообще не виден. А тут Стена чертовски высока. То есть, усадьба как бы расположена в обширной котловине, и вряд ли в этой Стене есть ворота…
Мефодий то ли разобрался наконец, то ли отчаялся разобраться, но стал объяснять, тыча прутиком в свои дуги и стрелки. Что-то про монокристаллы, пи-мерную осцилляцию и квазиразомкнутость эллипсоидов… Я покивал, глядя на него как на пустое место, поцыкал зубом, сплевывая остатки горечи, а потом спросил: есть ли в этой Стене ворота, охраняются ли они, и что сделает охрана, если мы просто встанем и пойдем?
Мефодий обиженно замолчал, а Дашка почему-то хихикнула и сказала:
— Не выпустит.
— А! Значит, ворота, все-таки, есть? — уточнил я.
— Не про вашу честь, ваша светлость! — отрезал Мефодий и принялся захлопывать свою головоломную параматематику.
— Не про мою, — согласился я. — Тебя-то Марьян вывезет.
— Вряд ли, — буркнул он, продолжая захлопывать. — Марьяну было велено разбить мою тачку на перевале Колдун-Горы, желательно — на глазах у опричников. Если он не дурак, он просто оторвался от погони и сюда не вернется.
— Тогда как же ты думаешь выбираться отсюда? — удивился я.
— А я и не думаю. Было бы о чем думать.
— Ты хочешь сказать, что это очень просто?
— Кроме «просто — сложно», — Мефодий усмехнулся, — есть и другие измерения. «Интересно — без разницы», например. «Сложно»- это не всегда «интересно». Мне вот безразличны кроссворды — как сложные, так и простые. Но многим нравится. Кому простые, кому сложные… Зато вот этим, — он захлопал последнюю стрелку и стал вытирать ладонь о штанину, — я могу заниматься где угодно. Причем, во всех смыслах «могу»: и хочу, и имею возможность. Везде. И здесь тоже… Но чем здесь хочешь заниматься ты? Русью править? Так ты скажи — я отрекусь!
— Здесь, — сказал я, закипая, — я ничем не хочу заниматься. Я хочу убраться отсюда. Подальше и побыстрее.
— Тогда извини. — Он посмотрел мне в глаза. — Я просто не понял тебя… Не знаю, разрешима ли твоя задачка, но мне она не по зубам: не мой профиль. И единственное, чем я могу тебе помочь — это тянуть с отречением. Вот я и тяну.
— И на том спасибо, — сказал я, тоже глядя ему в глаза.
Или он действительно страшный человек, — подумал я, — или на все сто была права боярская Дума, когда назначала ему регента «по формальной преклонности лет». Очень и очень похоже на старческий маразм преклоннолетнего математика: ну все ему без разницы, кроме квазиразомкнутых эллипсоидов.
— Ты не огорчайся, — сказал Мефодий (он понял мой взгляд как-то по-своему). — Кем был твой отец? — спросил он вдруг.
— Почему «был»?.. — Я отвел глаза. — Ему всего шестьдесят пять. Когда я улетал, он все еще работал.
— Извини. А кем?
— Вычислителем синоптической службы. Тобольский купол.
— А дед?
— По отцу?
— Пусть по отцу.
— Он всю жизнь провел на Балхаше, в ихтиологическом заповеднике. Начинал бухгалтером, кончил координатором математического обеспечения банка наследственности.
— А прадед?
— Точно не знаю, но что-то, связанное с газоколлоидными схемами: семнадцатое, мертворожденное поколение компьютеров. Прадед был неудачником.
— Как сказать… — возразил Мефодий. — Ну, про Еремея, моего сводного брата, я сам знаю. Он поступил в Новониколаевский физматлицей за полгода до старта Восьмой Звездной.
Мефодий выжидательно замолчал.
— Ну и что? — спросил я наконец.
— Ну и все, — ответил он. — У нас с тобой неплохая наследственность. И в этом, — он похлопал по своим захлопанным дугам и стрелкам, — ты вполне способен разобраться. Было бы желание — а возможность тебе подарила Природа. Почему ты ее не используешь — возможность, я имею в виду?
«Потому что желание мое осталось там, в Чукотском санатории, о мой гениальный предок! — подумал я. — И не исключено, что вместе с возможностью…» — Но вслух не сказал: три месяца в трущобах Ханьяна и год на крайнем западе долины Маринер стоили, наверное, моих трех лет на Ваче. А вот поди ж ты.
— А словами ты рассказать можешь? — спросил я. — Без формул? Все равно ведь уже ни черта не видно.
Я лукавил: до заката было еще часа полтора.
— Попробую, — сказал Мефодий, помолчав.
26
Металлокварц, образующий раковины поющих устриц, представляет собой монокристаллическую двуокись кремния с атомарными включениями кальция, меди, железа и молибдена. Иногда — очень редко — свинца и золота. Но такие, «золотоносные» устрицы, как правило, безголосы: они поют в ультразвуке.
Раковина, спевшая свою последнюю песню, распадается на мириады кристаллических чешуек, каждая из которых окаймлена цепочкой атомов металла. В целой раковине эти цепочки не замкнуты, а монокристалл фактически бездефектен. Геометрия цепочек существует вне геометрии кристаллической решетки, хотя и накладывается на нее. Они как будто занимают разные пространства… Очень грубая аналогия: вышивка крестиком на разграфленной в клеточку ткани. Или, скажем, чертеж на миллиметровке. Находясь в одной плоскости, клеточки и рисунок не нарушают друг друга. Они существуют раздельно.
Между тем, рисунок — если это искусная вышивка или умелый чертеж трехмерен. То есть, очень убедительно изображает нечто трехмерное. Пейзаж. Деталь. Витязя на распутье. Червячную передачу.
Атомарные нити металла, кем-то умело наложенные на кристаллическую решетку раковины, «изображают» нечто, возможное лишь в геометрии истинного пространства. То есть, такого, в котором не три измерения, а чуть-чуть больше: приблизительно три целых и четырнадцать сотых.
Истинное пространство — пи-мерно.
Но таким оно становится только ВНЕ гравитационного поля. ТАМ, очень далеко от Солнца, где почти неощутимо тяготение этой большой звездной массы, длина окружности равна шести радиусам. А площадь круга — площади трех квадратов, построенных на радиусах. Потому что длина — ТАМ — немножко больше, чем длина, а площадь — немножко больше чем площадь. Потому что окружность и сфера, оставаясь геометрическим местом точек, равноудаленных от центра, не вполне замкнуты — ТАМ, в нецелочисленномерном пространстве «вселенских пределов».
Нет никакого Предела. Есть берег неизвестного материка. Западный путь в Индию мы рано или поздно проложим. Сначала в обход, южнее мыса Горн, сквозь опасные рифы. Потом — Панамский канал и межконтинентальные авиалинии… Но прежде всего, наверное, придется осваивать материк.
Когда дядя Бен наткнулся на свою первую устрицу, ему показалось, будто он видит парус «Юкона» в момент разворота. А это был один из завитков… У Мефодия не могло быть подобных ассоциаций. Сначала он был заворожен песнями и стал их записывать, коллекционировать. Так появилась его фонотека. Потом его заинтересовало поведение карбидных клопов.
Они ведь кусаются, только попадая в безвыходное положение, и если рядом нет устрицы. Если есть, они прячутся в ней и пропадают бесследно. К тому же, было совершенно непонятно, что держит их на Пустоши и чем они там питаются. Не карбидом же! У них обычный белковый метаболизм, и они не способны синтезировать белок ни из карбида кальция, ни тем более из двуокиси кремния, что бы там ни утверждали умники с биофака.
Это самые обыкновенные, когда-то земные, а на Марсе мутировавшие клопы, в своей экспансии обогнавшие человечество. Как Ахилл черепаху. Но они кусаются, лишь защищаясь. Человеческую кровь они не пьют, как пили их предки. Они нашли что-то похожее, но более вкусное. Где? Пустошь — пуста.
Карбидных клопов ничто не держит на Пустоши — как ничто не держит людей в космопортах. Но почему-то в любом космопорту всегда очень много людей, а на Пустошь лучше не соваться без прививки.
Клоп достаточно мал, чтобы проникнуть в устрицу, разбудив один-единственный завиток. Применяя метод «меченого клопа», Мефодий обнаружил, что пропавшее насекомое выползает из другой устрицы — из завитка, звучащего точно так же.
Тогда он стал подбирать пары одинаково звучащих устриц. Половину оставлял себе, другую отправлял Люське. В запаснике музея Последней Звездной появились карбидные клопы… Люська был очень недоволен. А Мефодий понял, что в одиночку он вряд ли справится с этой загадкой, и пришел к дяде Бену. Со своими прозрениями, подозрительно похожими на бред.
Феноменологическая теория Смоллета-Щагина более чем подтвердилась. Действительность всегда объемнее, многомернее всяких теорий, и она опять оказалась такой. Природа никогда не отвечала однозначно на вопросы человека: из каждого ее ответа вырастали новые вопросы.
Вот и теперь, после эксперимента в светлице, можно строить предположения о том, где находят себе пропитание «карбидные» клопы. Видимо, там же, где остались Савкина рука и подушечки пальцев Мефодия. Да — мы одной крови с этими желтоглазыми тварями! И когда-нибудь мы встретимся с ними не столь трагически. Правда, нас уже опередили клопы…
А с устрицами пора кончать. Пора самим сооружать что-то более прочное и объемное. Природа может предложить нам запутанную карстовую пещеру, узкую тропу на перевале, извилистый пролив с опасными рифами. Туннели, магистрали и каналы человек сооружает сам.
27
Вот на такой романтической ноте Мефодий и завершил свою лекцию. Больше мы с ним никогда не говорили ни о марсианских поющих устрицах, ни о пи-мерном пространстве Предела, ни о той единственной из человеческих экспансий, которая, по убеждению Мефодия, не знает асимптот: экспансии познания.
Глупость, как я понимаю, тоже склонна к экспансии. Но у человеческой глупости есть поставленный Богом предел — взаимоуничтожение, смерть, небытие. И слава Богу, что есть. Слава Богу, что асимптоты недостижимы, что ЭТА черепаха всегда чуть-чуть впереди своего Ахилла.
Как бы нам ни было плохо, а все-таки может быть немножко хуже. «Робинзон Крузо». Дефо.
ОТ АВТОРА (Послесловие)
Очень, очень хотелось мне домыслить, продолжить, завершить фантазию Андрея Павловича, однако же, не смею… Не потому, что полагаю все рассказанное правдой. Скорее наоборот: потому что вымысел. Нелепость громоздится на нелепость и порождает новые нелепицы — с нелепой закономерностью, присущей человеческой фантазии. И, увы, человеческой истории. Той самой, чьим секретарем считал себя Л.К.Саргасса, храбро домысливший судьбу Святополка и судьбы сорока шести его потомков.
Я такой храбростью не обладаю. Может быть, потому, что это — моя История. А может быть, потому, что это не моя фантазия…
Впрочем, вздор.
Вот обещанные мною газетные вырезки. Я расположил их в хронологическом порядке, частью переписав полностью, частью цитируя, частью пересказывая, а частью приводя одни лишь заголовки с аннотационными врезками. Напоминаю, что все газеты одиннадцати- и двенадцатилетней давности. И, кстати, выражаю искреннейшую признательность редакции «Голоса Диаспоры», каковая любезно предоставила мне свои подшивки.
* * *
(Луна). АКТ ВАНДАЛИЗМА. Неизвестным злоумышленником уничтожена крупнейшая на Земле и в Диаспоре коллекция т. н. Поющих Устриц. Коллекционер — видный ученый в области минералогии и петрографии — считает потерю невосполнимой. «Не только потому, что каждый экземпляр был уникален! — объяснил он корреспонденту «ГД». — В долине Маринер (На Марсе, — «ГД») бушует пожар — как раз в том регионе, где находится единственный во вселенной ареал распространения этих удивительных порождений «мертвой природы»!»
Между прочим, злоумышленник оказался шутником: разрушив хрупкие порождения, он не поленился подбросить в каждый из контейнеров по изрядной горсти т. н. карбидных клопов, обитающих в том самом единственном регионе. Частный детектив с многообещающей фамилией Уайтсон ограничил свой комментарий двумя фразами: «Классическая ситуация: преступление в закрытом помещении. Интересное дело».
* * *
(Марс). «ТАМ НУЖНЫ СОЛДАТЫ, А НЕ ПОЖАРНИКИ!» — заявил представителю Комиссии ООМ по стихийным бедствиям престарелый граф, правитель одной из суверенных территорий планеты.
Далее следует несколько сумбурный репортаж: первые дни марсианской трагедии. Приблизительно две-две с половиной тысячи слов. Эпицентр бедствия — в плоской низине между Коулд-Маунт (Холодной Горой) на востоке и Восточной Сьеррой на западе. Тамошний космопорт Анисово блокирован пожаром. Предположения: горит ацетиленовый завод. Граф Марсо-Фриско с явным неудовольствием предоставляет батальонам спасателей запасные полосы Восточного космопорта и звено из восьми всепосадочных космобусов класса «блоха». Репортер «ГД» Мирза Бабай правдами и неправдами просачивается на борт одной из блох.
Дальний Новгород — крупный город в низине. Жара, удушье, ацетиленовый угар. Люди теряют сознание прямо на улицах. Газоубежища переполнены, кислородных масок не хватает. Кислорода — тоже… Репортер отдает свою маску какому-то старику. Старик отдает ребенку. У ребенка отбирают… Местная полиция в нелепых гренадерско-стрелецких мундирах производит непонятные аресты. Местная милиция в косоворотках и полосатых штанах оказывает гражданам подозрительно выборочное милосердие. Мирзу Бабая арестовывают, с перестрелкой высвобождают из-под ареста, везут к подножию кирпичной стены («О Аллах, это действительно кирпич!») и оставляют снаружи без кислородной маски… Стена окружает частное владение, над которым мощный газоколлоидный купол, все еще противостоящий пожару. Мирза — под куполом, но: «пожар, стена, волка ногой,… (серия непечатных слов), была дверь, во имя Аллаха, огонь, Глюза, милая, очень горит зарга…» Репортаж передан по радио и оборван на полуслове. Имя репортера — в траурной рамке.
* * *
(Венера). ШУТНИК? МАНЬЯК? КЛАДОИСКАТЕЛЬ? Вторая коллекция Поющих Устриц уничтожена в стратосферном поселении Небесный Китеж. Владелец, композитор-авангардист, в отчаянии: рушится замысел новой грандиозной симфонии. Аналогию с рассказом Конан Дойла «Шесть Наполеонов» частный детектив Уайтсон воспринял скептически: «Тот спрятал бриллиант в гипсовом бюсте. А что можно спрятать внутри этих штук? Они же рассыпаются от плевка!.. И при чем тут клопы?»
* * *
(Фобос, эвакопункт). СЕЙМ — ВСЕМ. До 90 процентов жителей Нова-Кракова отсиделись под гермостеклянным куполом здания Сейма (так назывался местный Капитолий), откуда и были эвакуированы 4-м батальоном спасателей. Экстренный Всевоеводский Референдум, проведенный уже на территории эвакопункта, назвал новым Председателем Сейма лидера Фракции национальных меньшинств Карло Ксанфомалино. В этот же день состоялось бракосочетание самого молодого Председателя в истории Воеводства и самой симпатичной активистки Фракции. «Этот штурм мне удался!» — заявил Карло. Не очень понятно, что он имел в виду.
* * *
(Каллисто). ПАССАЖИРЫ КОНТРАБАНДОЙ. Транзитная таможня космопорта, производя выборочный досмотр грузов, перевозимых с Марса на Ганимед, обнаружила «контрабанду». В пассажирском корабле это были бы «зайцы», а в грузовом?
Запрещенный к перевозке груз — именно так были оформлены супруги Рюрик — прятался в багажнике турбокара марки «ханьян». Полуспортивная модель, багажник очень тесный. Нет, во время перелета они жили в салоне увы, не оборудованном санитарными удобствами. Прятались только в крайнем случае. На вопрос о том, как им удалось миновать Анисовскую таможню, по слухам, самую свирепую в Близкой Диаспоре, Рюрики не захотели отвечать прямо, а посоветовали обратиться за консультацией к любому малолетнему сорванцу: их-де полным-полно во всех космопортах. В особенности, если на сорванце драная одежда и сам он торгует чем-нибудь принципиально несъедобным, выдавая отраву за местный деликатес. Эти клопы вездесущи и за червонец пронесут что угодно куда угодно… (Червонец — денежная единица Русского Марса. В одном червонце десять целковых или тысяча копеек.) Посмеиваясь, таможенники составили акт, оценив запрещенный груз в 13 червонцев, 8 целковых и 43 копейки. Это было все, чем располагали Рюрики, т. к. кредитные карточки на Русском Марсе не в ходу. На 50 процентов своей наличности супруги были оштрафованы за контрабандный провоз друг друга, а вторую половину экзотической валюты охотно продали таможенникам. По кредиту за монетку или ассигнацию. И, спросив дорогу, побежали в буфет… О событиях на родине Рюрики ничего рассказать не смогли: они улетели буквально за неделю до начала трагедии.
* * *
(Луна). БАНДА ШУТНИКОВ. На терминал детектива Уайтсона в Тихо Браге продолжают поступать новые сообщения об уничтоженных коллекциях Поющих Устриц. «Версии? — переспросил он корреспондента «ГД». — Сколько угодно! Например: эмигранты с Марса, банда маньяков-устрицененавистников. Сначала они подожгли ареал, а теперь расправляются с отдельными экземплярами. По всей Диаспоре. И везде подсыпают клопов… Годится?»
* * *
(Фобос, эвакопункт). КТО СТРЕЛЯЛ НА ПЕРЕВАЛЕ? Господин Волконогов решительно отрицает слухи о своей причастности к возникновению вооруженного конфликта на перевале Колдун-Горы: «Я в это время спасал россиян!» Граф Марсо-Фриско решительно отрицает слухи о возникновении конфликта как такового: «Коулд-Маунт — самое тихое место в долине, там никто никогда не стрелял!» Замечание «ГД»: парализаторы стреляют бесшумно, а обгоревшие трупы есть обгоревшие трупы. Они лежат на перевале, продолжая целиться друг в друга.
* * *
(Луна). НЕ СМЕШНО. Мистер Пакстоун (купол Коперник) был владельцем одной-единственной Поющей Устрицы. Да, вы уже догадались. Вот только клопы у злоумышленников, видимо, кончились, и в опустевшем контейнере мистер Пакстоун обнаружил… человеческое ухо. Детектив Уайтсон отказался комментировать происшествие. На вопрос о том, не намек ли это ему лично, он сухо заметил, что «это уже не смешно» и что все материалы по делу «Шутник» он передает в ИНТЕРПОЛ Диаспоры.
* * *
(Европа). ЗАРАЗУ — В ЛЕПРОЗОРИЙ. Хай-Йорк, штаб-квартира ООМ. В Комиссии по Историческому Наследию начались дебаты о дальнейшей судьбе Музея Последней Звездной. Музей нерентабелен, не был рентабельным, а теперь и подавно не будет. Транспортировка же его к Земле и любому из миров Диаспоры влетит в сумму, сравнимую со стоимостью самого Музея… Неожиданное решение предложил присутствовавший здесь же член Комиссии по Здравоохранению: чуть-чуть подтолкнуть — и пусть летит своим ходом в астероидный пояс! Братство Астероидных Отшельников о нем позаботится — это для них святыня. А вот появление Музея на орбите населенного мира чревато новыми вспышками забытой эпидемии.
* * *
(Ганимед). ТРИЖДЫ ВТОРОЙ. «Это не старость, это — судьба! Вот увидите: через одиннадцать лет я снова буду здесь… и снова приду вторым!» Только для «ГД», сразу после финиша — эксклюзивное интервью Марьяна-Вихря. Подробности марсианской трагедии.
Я не стану цитировать это интервью, поскольку в «подробностях» нет ни слова ни о господине Волконогове, ни о Мефодии Щагине, ни о супругах Рюрик. Марьян улетел утром второго дня трагедии, когда космопорт еще не был блокирован пожаром, но улетел по заранее купленному билету.
* * *
(Луна). ИЗ АКАДЕМИИ — В ПСИХУШКУ. Скандалом завершился доклад очередного соискателя в Лунной Академии Естественных Наук им. О.Н.Тяжко. Докладчик, выведенный из себя едкими, но справедливыми замечаниями оппонента, сорвал со стены портрет основоположника, топтал его ногами, после чего стал буквально бить головой стену и приговаривать: «Если достаточно долго и в одно место, то, может, получится…»
Рецидив «делириум астрис» — таков был диагноз коллег из Медицинской Академии Луны.
Тем, кто успел забыть, напоминаем: «делириум астрис» — эпидемическая разновидность вирусной шизофрении. Провоцирует сознание больного на порождение сверхценных идей; как правило — о бесконечности Вселенной и (или) о достижимости звезд. Лучшим из апробированных методов лечения считается шоковая трудотерапия на фоне перманентно-стрессового режима. Последняя вспышка эпидемии была зарегистрирована 13 лет тому назад на Тритоне (система Нептуна).
* * *
Теперь мне осталось написать лишь несколько слов о том, чего нет в газетах, но что, быть может, вдохновило А.П.Рюрика на сочинение некоторых деталей своей байки.
У четы Рюриков собственный дом в самом престижном, Желтом уровне Колодца-2 на Обероне. Супругу Андрея Павловича я ни разу не видел, поскольку, приходя, немедленно садился в кресло и слушал очередную серию байки, пока хозяин занимался моими зубами. По окончании же сеанса немедленно уходил. Я не знаю даже, как звать госпожу Рюрик: Дарья? или, может быть, Аглая?..
Сына же их, Рюрика-младшего, я видел неоднократно. Десятилетние сорванцы воистину вездесущи, никакого удержу не знают и никаких запретов не признают. В кабинет отца Игорь Андреевич заглядывал, а то и врывался частенько. Белокурый, синеглазый, очень подвижный мальчик. Норовом упрям, я бы даже сказал — задирист, но иногда впадает в крайнюю задумчивость. Не человечек, а непредсказуемая стихия.
Так вот: вслед за этою вочеловечившеюся стихией, пыхтя, бегал рысцой ладный крепкий низенький старик, с отполированной, как белая кость, лысиной и с протезом вместо кисти правой руки. Судя по тому, что именно он всякий раз открывал передо мною двери и препровождал меня в кабинет, старик служит у Рюриков мажордомом. Но одновременно — и главным образом — гувернером Игоря Андреевича. К мальчику он обращается на «вы» и не иначе, как по имени-отчеству. Хозяин же зовет старика Савелием Семеновичем, но никогда Савкой.
И, в заключение, последняя газетная вырезка. На сей раз современная: из того самого номера «Голоса Диаспоры», в коем был обнародован мой первый очерк о марсианских переселенцах:
(Оберон). БЫСТРО! БЕЗБОЛЕЗНЕННО!! БЕСКОНТАКТНО!!! Лечу и восстанавливаю зубы старым ТИБЕТСКИМ способом. Землякам-сибирякам 50-процентная СКИДКА. А.П.Рюрик. Адрес: Колодец-2, Желтый уровень, собственный дом.
Однако же, не советую обольщаться: даже со скидкой это ой как недешево.
(Напоминаю: этой книги я нигде не обнаружил. Цитировал, увы, по памяти и знаки препинания расставил, как Бог на душу положил. (Примеч. автора)·.
(Цитирую по изданию: Русский «Опыт» варяга Грюндальфссона. Сб. под ред. Л.Т.Корженецкой. Изд-во «Словесникъ», Небесный Китеж, сер. «Русский раритет». 272 стр., 8 илл. Тир. — 999 экз. (Примеч. автора).
ФЕАКИЙСКИЕ КОРАБЛИ Фантасмагория
Изменяется ли Вселенная, когда на нее смотрит мышь?
Нешуточный вопрос физиковКормщик не правит в морях кораблем феакийским; руля мы,
Нужного каждому судну, на наших судах не имеем;
Сами они понимают своих корабельщиков мысли;
Сами находят они и жилища людей, и поля их
Тучнообильные; быстро они все моря обтекают,
Мглой и туманом одетые; нет никогда им боязни
Вред на волнах претерпеть иль от бури в пучине погибнуть.
Гомер. Одиссея, песнь восьмаяЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПУСТЬ ДЕМОДОК ПОЕТ
БОГИ СТЕРПЯТ
Гулко глотая неразбавленное вино, Алкиной опорожнил двудонный золотой кубок, со стуком поставил его на гладкий стол, шумно перевел дух и возгласил:
— Пусть Демодок поет!
Гости заерзали в креслах, с сожалением отодвигая от себя полные блюда, усердно отдуваясь и крякая — дабы показать, что вот и они насытились и теперь желают того же, чего желает царь: плясок и анекдотов. Самые верноподданные с шелестом вытирали о плащи жирные пальцы. Понтоной еле слышно возник рядом, готовясь подхватить медное блюдо с колен певца.
Демодок не спешил, обстоятельно высасывал остатки мозга из хребтовой косточки вепря: ему не следовало спешить. Угождать — еще не значит угодничать. Пусть Понтоной угодничает.
Быстрые упругие шаги танцоров приблизились к певцу, окружили, замерли в ожидании.
Подождут.
Лира над его головой отозвалась на чье-то неловкое прикосновение (Понтоной, конечно! Услужливый дурак…), и танцоры одновременно вздрогнули, нервно переступив с ноги на ногу. Певец нахмурился. Не поднимая головы от блюда, чуть повел бровью в сторону дерзкого: ему, аэду, осмелился напомнить о его слепоте!
А спешить не следует. Нрав у царя Алкиноя неровен и крут, а хмель не всегда легок. Правда, сегодня царь привечает высокого гостя — равного себе или почти равного, — а значит, вряд ли станет показывать свое неудовольствие. Но лучше все-таки угодить: сегодняшний пир — не последний. Алкиной любит пиры, не упускает малейшего повода попировать. Правильно делает. Нигде еще Демодок не пел так часто, как здесь, в благословенной Схерии. И нигде еще так часто не бывал сыт.
Понтоной уже стоял рядом, зычно возглашая о царской милости и о том, что гости жаждут веселья. Демодок с сожалением отложил кость, тщательно вытер пальцы о хитон на груди и протянул руки. Понтоной осторожно вложил в них тяжелый кубок, поспешно и ловко убрал с колен певца блюдо. Демодок встал.
Гости одобрительно зашумели: сейчас они от души посмеются над бессмертными!
Ну что ж, певец не обманет их ожиданий. А боги стерпят. Боги все терпят.
Как всегда, Демодок не знал заранее, о чем будет петь и как на сей раз поведут себя боги. Не знал, кто из них останется в дураках и по какой причине. Знал (помнил) только одно: ни в коем случае нельзя смеяться над Посейдоном. Феакийцы, издревле искусные корабельщики, чтут и боятся этого бога и не простят певцу дерзкого слова о земледержце. Точно так же, как на острове Лемнос ему не простили бы насмешек над хромоногим Гефестом. А в пышнолесистой Аркадии его, еще молодого, самонадеянного и почти зрячего, побили камнями за нелестное упоминание о Гермесе — тогда-то он и ослеп окончательно. Люди не могут обходиться без жестоких богов, видя в них оправдание своей жестокости.
Ну, а Схерия чтит Посейдона. Учтем.
Демодок запел.
Слушая звон наковальни Гефеста, следя за его искусной работой (почему-то с нее начинается новый, еще неизвестный ему самому анекдот), Демодок глаз не спускал с Посейдона, которого не было, к счастью, ни в кузне Гефеста, ни рядом. Владыка морей, колебатель земли, отложив свой трезубец, пировал на Олимпе. Льстиво хихикая, лез на глаза Вседержителю Зевсу. Пусть. Пусть он будет подальше от кузницы, где вызревают смешные события, где в черном дыму и в багровых отсветах горна тоненько, самой высокой струной Демодоковой лиры, звенит наковальня, где некрасивый, хромой и угрюмый Гефест, ловко орудуя молотом, злобно бормочет под нос, отругиваясь от бестолковых вопросов Гермеса — своего не в меру любопытного сводного братца.
Что он кует, что он кует… Какая Гермесу разница, что он кует? Спроси у папы, папа все знает. Нет, это не механический слуга — зачем мне еще один? Я не люблю повторяться… Надо же, какой догадливый! Конечно, это не золото. И не медь. Железо — слыхал о таком металле? Необыкновенно прочная штука… Меч? А что, железный меч — дело хорошее, надо будет подумать. Но это не меч. Для меча этот прут слишком тонок. А для стрелы — длинен. И тоже тонок.
Заготовка все более истончалась под быстрыми ударами Гефестова молота, становилась длинной упругой проволокой — вот она уже не толще конского волоса, вот и вовсе пропала из глаз, а Гефест все недоволен своей работой, все рассыпает по кузнице нежный высокий звон (ноги танцоров едва поспевают за переборами Демодоковой лиры), и все это время глупые вопросы Гермеса перемежаются уклончивым бормотаньем хромого бога.
— Да отстанешь ты от меня или нет? — раздраженно воскликнул Гефест. Ловко и быстро смотал невидимую железную нить, швырнул еще горячий, красно светящийся моток в угол, и в углу звякнуло. — Что я кую, что я кую… А Демодок его знает!
— Демодок? — испуганно переспросил Гермес и настороженно огляделся. — Слушай, дорогой братец, я тут с тобой заболтался, а ведь у меня дела! Только сейчас вспомнил, что папа Зевс послал меня за… Ну, тебе это неинтересно. Трудись, не буду мешать. Пока! — и Гермеса не стало.
Демодок усмехнулся, не разжимая губ: гостям эти реплики богов слышать необязательно. Не так поймут.
Ну-с, работой Гефеста гости в достаточной степени заинтригованы, а что там у нас на Олимпе?
На Олимпе было ничего себе: бессмертные веселились. Как всегда. Пили, плясали, плели между делом интриги. Вершили судьбы… Посейдон развлекал Громовержца, упорно продвигаясь к какой-то своей цели. Вот и славно, пускай себе продвигается. Аполлон скучал: его порядком развезло от нектара, он с механическим упорством терзал золотые струны своей кифары и клевал носом. Незамужние хариты вяло вышагивали по кругу.
И это называется хоровод?! Только что руки за спину не заложили! (Откуда это? Ладно, потом…) Эх, вы, олимпийцы, ну что б вы без меня делали?
Демодок поудобнее перехватил лиру и выдал подряд три развеселых перебора с подстуком. Аполлон встрепенулся, прислушался, блеснул певцу благодарной улыбкой и забренчал порезвее, на лету схватывая подсказанные аккорды. Взвились одежды харит, замелькали в разрезах стройные ножки и вечно юные упругие перси с нецелованными сосками. Другое дело!
Мрачный задира Арей оторвался от профессионального созерцания очередной драчки внизу и заоглядывался насчет кому бы врезать. Для начала. Ближе всех к нему сидела Афина Паллада — строгая и трезвая воительница; но она для того и была так близко, чтобы в корне пресекать Ареевы поползновения. А вот затылок дяди Посейдона — как раз на расстоянии вытянутой руки. И трезубец его закатился под стол — пока-то нашарит…
Стоп. Только не это! Схерия чтит Посейдона.
Отчаявшись по-настоящему развлечься, Арей присосался к кубку, исподлобья наблюдая за пляской харит. Одежды юных прелестниц взвивались и опадали в таком бешеном темпе, что и не было их видно — одежд. Однако и сами девчонки (вертлявые бестии!) кружились и подпрыгивали с неменьшей резвостью — разглядеть что-нибудь было весьма непросто. И незаметно для себя Арей увлекся этой достойной целью.
Ну, наконец-то! Демодок облегченно перевел дух и с удивлением услышал три властных, требовательных хлопка. Это царь Алкиной, возбудясь описанием пляски богинь, трижды хлопнул в ладоши — и стайка юных наложниц присоединилась к танцорам. Правильно: лучше один раз увидеть, чем…
Вздохнув незаметно о том, что смертные девы давно и надежно сокрыты от его взоров, певец, не прерывая мелодии, опять отыскал взглядом Арея. Увлекся, драчун! Задышал, раскраснелся. Глаза бегают, рот приоткрыт, брови азартно подняты — хорош! Ну, последний штришок…
Прежде чем наложить его, Демодок мельком глянул на Посейдона. Тот, ничего не замечая вокруг, уже вплотную придвинулся к Зевсу и что-то ему горячо втолковывал, овладев, наконец, высоким вниманием. Громовержец мерно кивал, супил брови, усиленно морщил царственное чело. Демодок прислушался: речь шла о каких-то кораблях, о наглости смертных, дерзающих бороздить море, о том, что настала пора положить предел, поскольку авторитет страдает — на это Посейдон особенно напирал. А потом вдруг стал перечислять имена — знакомые, полузнакомые и совсем незнакомые Демодоку, причем имя царя Алкиноя было тоже помянуто, но в середине списка и без должной к царю благосклонности. Вряд ли такой разговор понравится феакийцам.
Демодок подмигнул харитам. Подмигнул и указал им глазами сначала на Арея, который уже поерзывал в кресле и сучил ногами от возбуждения, а потом на Афродиту — супругу хромого Гефеста, скромно стоявшую в стороне. Прелестницы мигом сообразили, что от них требуется, переглянулись, захохотали и, хохоча, втащили пенорожденную в круг.
Афродита немножко поотнекивалась, но тут Аполлон с подачи Демодока выдал такой невообразимый фортель на своем инструменте, что богиня махнула на все рукой, стала в третью позицию, повела плечами, притопнула — и плавно взмахнула туникой, нечаянно обнажив… Это было последней каплей: Арей, грохоча медными доспехами, круша и опрокидывая мебель, устремился к цели.
Боги не особенно удивились его поведению.
Один только Зевс обернулся на шум и даже открыл было рот, чтобы что-то сказать, но сразу передумал и поспешно отвел глаза, опять приставив ухо к устам морского владыки.
Демодока эта его поспешность насторожила, но разбираться и вникать было некогда, потому что Арей уже сгреб чужую жену в охапку и, осыпаемый на бегу щипками и оплеухами, почесал вниз по склону горы — по направлению к ближайшей оливковой роще. Хариты с визгом порскнули во все стороны.
Надо было вмешаться — и побыстрее.
Демодок отыскал взглядом Эрота, выдернул его вместе с луком и колчаном из-за пиршественного стола и поставил перед собой.
— Цель видишь? — спросил он, указав на удиравшего хулигана. Эрот важно кивнул, дожевывая.
— Огонь! — скомандовал Демодок.
— Бешполежно… — Эрот глотнул и задумчиво покачал головой. — Вот если бы он ее на плече нес, как барана — тогда можно бы. А так медный панцирь благородного бога надежно экранирует его жертву.
— Жертву? — переспросил Демодок. — Зачем же стрелять в жертву?
— А в кого? — удивился Эрот.
— В Арея, конечно! Пусть он почувствует к ней любовь и… ну, там… нежность, что ли. Уважение, в конце концов!
— Он ее и так любит, — Эрот заморгал. — Видно же!
— Это вы называете любовью? — горько произнес Демодок.
— Так ведь похитил! — проникновенно сказал Эрот. — Значит, воспылал. Страстью…
— Да… — Демодок сокрушенно покивал. — Да, конечно. Я все забываю, что вы не люди. Вы боги. Ни ума, ни фантазии — сплошное могущество.
— Так я пошел? — вопросил Эрот.
— Нет, погоди! Понимаешь… — Демодок замялся. — Ведь она-то к нему не пылает, понимаешь? А этот уголовник ее все равно изнасилует…
— Связь без взаимности греховна, — важно согласился Эрот.
— Вот я и говорю!.. — Арей уже преодолел половину расстояния до рощи, времени почти не оставалось, но Демодок задал-таки еще один вопрос. Он давно собирался задать его Эроту, да все не представлялось удобного случая. — Чем у тебя начинены стрелы? — спросил он как можно небрежнее.
— Любовью, — самоуверенно изрек Эрот.
Демодок бешено глянул на него, но сдержался и отвел глаза.
— Любовью, — бормотнул он сквозь зубы. — Ампула с «амбасексом» — и вся любовь.
— Что?
— Так, ничего… — Все-таки надо было решаться, и Демодок решился. — Стреляй в жертву! — приказал он.
— Так ведь броня экранирует, — напомнил Эрот. — Двойная: наспинная и нагрудная. Вот если бы он ее на плече нес или повернулся бы…
— Разговорчики в строю! — прервал его Демодок. Схватил юного бога за шкирку, прыгнул, и они приземлились в роще.
Арей приближался к ним большими скачками, крепко прижимая к груди добычу. Богиня визжала и дергалась, лохмотья белой туники развевались по ветру.
— Огонь! — снова скомандовал Демодок.
Эрот послушно выдернул из колчана стрелу, наложил ее на тетиву и поднял свой золотой лук, тщательно целясь. Но, так и не выстрелив, опустил оружие.
— Это же мама… — проговорил он, растерянно глядя на Демодока. — Она мне потом всыплет, — добавил он, подумав.
— А, ч-черт! — сказал Демодок, выхватил у него лук и встал во весь рост. Арей со своей орущей и брыкающейся ношей был уже шагах в двадцати — промахнуться почти невозможно. Демодок вскинул оружие и резко натянул тетиву…
Звук лопнувшей струны ошеломил его, но не сразу проник в сознание. Некоторое время он еще видел. Он успел увидеть, как стрела блеснула на солнце и растворилась в цели. Успел увидеть, как в последний раз дернулась Афродита; как ее кулачки, отчаянно молотившие по оскаленному лицу Арея, вдруг замерли, разжались, и она стала нежно гладить это лицо; как сам Арей споткнулся и побежал медленнее. Успел удивиться изменившемуся лицу вояки: откуда-то появился в нем проблеск мысли и — черт побери! — нежность к этой женщине, к этой хрупкой игрушке, которую он было похитил на время, но уж теперь не намерен был отдавать никому и никогда. И еще Демодок успел понять, что стрела Эрота пронзила сердца обоих — значит, врал пацан про броню (а, может, и не врал: ведь оттуда, с вершины Олимпа, Афродиту заслоняла двойная броня — наспинная и нагрудная; стрелять же в Арея было, по словам Эрота, просто не нужно — «и так любит»)…
А потом звук лопнувшей струны дошел наконец до его сознания, и он понял, что здесь, на земле, этот звук может означать только одно: что струна лопнула. И, действительно, нащупал обрывки струны на своей лире. Струны, а не тетивы. На деревянной лире, а не на золотом луке.
«Какой позор!» — мельком подумал он, но эту малоприятную мысль тут же заслонила другая, совсем уже неприятная: «Что я им тут наплел?». Он знал, что в принципе, с глобальной точки зрения, нет ничего страшного в том, что он им тут наплел. За годы и годы Демодок основательно изучил психологию эллинов и знал, что потом (потом-потом, через много пересказов) греки все перепутают в его песне, переиначат и поменяют местами. И окажется, что сначала был выстрел Эрота, нечаянно (конечно же, нечаянно!) поразивший его пенорожденную маму, а уже после выстрела — похищение… Но ведь это будет потом, через много лет, а сейчас-то ему как выкарабкиваться? И еще дурацкий разговор с сорванцом — хорошо, если греки его просто не поняли.
Демодок с усилием поднял голову и прислушался. Да. Греки, слава богам, просто не поняли его разговор с Эротом. Они настороженно молчали и ждали продолжения песни.
Демодок, тоже молча, принял из предупредительных рук Понтоноя свою суму, торопливо нашарил в ней комплект запасных струн, размотал, отделил нужную, сел и поставил инструмент на землю, зажав его коленями. На ощупь натягивая новую струну на место оборванной, певец лихорадочно прикидывал варианты, ни один из которых — он уже давно это понял — все равно не осуществится. Здесь ничего нельзя придумать заранее. Здесь надо просто петь. Видеть то, что поешь, и — петь. И будь что будет.
Когда Демодок снова шагнул под закопченные своды кузницы, Гефест, еще более угрюмый и раздраженный, яростно бил молотом по наковальне, злобно щурясь на широкую полосу раскаленной меди. И не было ни красоты, ни изящества в этой работе Гефеста — только ярость, только решимость на что-то злое, но справедливое, только уверенность в правоте ужасных намерений. Да еще привычная точность движений.
Присмотревшись к заготовке, певец увидел, что это будет большой наконечник копья — слишком большой и вряд ли удобный в бою. Его широкое лезвие, лишенное обычных зазубрин, становилось именно лезвием, а не жалом. Плоским, округлым и со всех сторон острым, как древесные лист. Такие наконечники будут делать не здесь и не скоро. И не из меди.
«А ты не так прост, мой хромоногий друг, — подумал певец. — Когда-нибудь не миновать тебе выйти в люди. Но сегодня, сейчас эта самодеятельность, право же, ни к чему…» И, беря вполне нейтральные аккорды на своей лире (пусть попотеют танцоры и пусть подождут Алкиноевы гости, наслаждаясь их пляской, — не все же им видеть и знать!), он тихо спросил:
— Что ты куешь, Гефест?
— Что я кую, что я кую, — заворчал бог, не прерывая работы и не оглядываясь на вошедшего — Какая тебе разница, что я кую? Спроси у папы, папа… — Но тут звуки Демодоковой лиры коснулись наконец его слуха, он замер с поднятым молотом и, оглянувшись через плечо, медленно, без стука опустил молот рядом с грозной поковкой.
— Так что ты куешь, Гефест? — снова спросил Демодок. — Судя по древку, — он кивнул на прислоненный к стене ствол молодого ясеня, уже ободранный и обтесанный, — копье. Но странный наконечник будет у твоего копья! — и, выхватив поковку, он стал осматривать ее с деланным интересом.
— А мне, может, такой и нужен! — буркнул Гефест и отшвырнул пустые клещи.
— Тебе? — удивился Демодок. — И зачем, если не секрет?
Бог стоял перед ним, набычившись, сложив могучие руки на груди, качал желваками и смотрел в сторону.
— Так зачем же? — повторил Демодок и бросил поковку в горнило, в самый жар, где она сразу начала плавиться, быстро теряя форму.
— Диомед промахнулся тогда, девять лет назад, — сказал наконец Гефест. — Ему надо было взять на два пальца ниже… Но Диомед — смертный, а я все-таки бог. Хромой и некрасивый, но бог. И я — сегодня — не промахнусь!
— Так я и думал. — Демодок сокрушенно покивал. — Ни ума, ни фантазии — сплошное могущество. Даже ты… А ведь ты подаешь надежды. Ты уже сорок лет подаешь надежды — это, наверное, потому, что у тебя было трудное детство. Но и ты, дружище, совсем недалеко ушел от остальных. — Демодок вздохнул. — Какое-то проклятье на этом мире, мой друг, — произнес он тоскливо. — Такой светлый, такой прекрасный, такой веселый проклятый мир…
Надо было, однако, кончать этот затянувшийся анекдот.
— Ты же хитроумнейший из богов, — вкрадчиво произнес певец, и отраженным светом его ума сверкнули глаза Гефеста. — Твоя месть не должна быть столь бессмысленной и жестокой. Отомсти смехом! Пусть весь Олимп и все смертные впридачу хохочут над ними!
Гефест опустил руки, быстро глянул на Демодока и уставился на железные сети. Уже готовые, уже свернутые в огромный, неподъемной тяжести рулон, они были аккуратно уложены под стеной, возле ниши с золотолобым болваном.
— Ну! — сказал Демодок, и по-новому, вкрадчиво и коварно, зазвенел его инструмент, и взмахом руки он отпустил танцоров. — Ну же! — И Гефест, торжествующе хохоча, одним прыжком преодолел расстояние между наковальней и нишей, обеими руками обхватил сеть и с хриплым горловым выдохом почти оторвал ее от земли. Но все-таки она была слишком тяжела — даже для Гефеста.
И тогда Демодок проиграл кодовую музыкальную фразу, искусно вплетя ее в рисунок мелодии, — и золотолобый болван (корабельный стюард, кое-как отремонтированный совместными усилиями певца и бога), скрипя и громыхая сочленениями, выдвинулся из ниши, неуклюже присел и взвалил сеть на свои плечи. Он заметно укоротился под тяжестью ноши, масло брызнуло из его суставов, потекло по золотым голеням и бедрам, и робот неожиданно легко побежал к выходу из пещеры, а Гефест, хохоча и потирая ладони, захромал следом.
Незаметно для бога Демодок укоротил путь от пещеры до особняка. Сплошной зеленой полосой пронеслись навстречу леса и рощи; на один вдох соленого морского воздуха хватило долгого пути вдоль побережья; в три гигантских прыжка был оставлен внизу крутой склон самой высокой горы на Лемносе — острове, который Гефест считал своей второй родиной.
Лишь на вершине горы, у златокованных ворот храма, они замедлили бег и, войдя, неспешно двинулись сквозь анфиладу огромных, роскошно убранных помещений. Демодок шагал следом, вдыхая затхлый нежилой воздух дворца, и мельком, но часто поглядывал по сторонам, чтобы дать гостям возможность хоть краем глаза увидеть и золотую чеканку на стенах, и тонкой работы жертвенные треножники в углах, и мраморную мозаику пола… Миновав кабинет Гефеста, они оказались наконец в спальне — единственном помещении, хранившем следы уюта. Запах благовоний, примятая с одного края постель и разорванная туника, небрежно брошенная на спинку огромного ложа, говорили о недавнем присутствии Афродиты.
Свирепо рыкнув, Гефест брезгливо, двумя пальцами, подцепил тунику и швырнул под ноги. Однако, поразмыслив, решил, что этого делать не стоило. Поднял, бережно отряхнул и аккуратно повесил на прежнее место.
Механический слуга уже раскатал на полу рулон, приподнял край сети с помощью магнитных присосок на пальцах и, держа ее на весу, ждал указаний. В спальне было еще довольно светло, но прямые солнечные лучи сюда не проникали, поэтому даже узелков не было видно. Казалось, робот держит пустоту.
Вдвоем с Гефестом они стали натягивать сеть под пологом брачного ложа…
«Не менее часа понадобится им, чтобы настроить ловушку, — прикинул певец. — Да почти сутки ждать, возвратясь в кузницу. Целый вечер, и целую ночь, и целое утро». Обойдутся без меня? Вполне. А я давно не бродил по Олимпу. Хоть смысла уже и нет, а все-таки… И Посейдон опять что-то замышляет, надо быть в курсе. И как там мой шлюп — держится или уже окончательно растворился в этой реальности? И, может быть, радиобуй заработал… А гости — гости ничего не заметят. Не в первый раз».
Демодок взбудоражил все струны своего инструмента в едином мощном аккорде, трижды глубоко вздохнул и мягко придавил их ладонью, оборвав звук. И время на земле остановилось. Для людей, а не для богов.
У РАЗБИТОГО ШЛЮПА
Это было первое, что по-настоящему поразило его в Элладе: боги действительно существовали. И первым из богов, кого он увидел, был Посейдон.
Демодок успел постареть и сгорбиться за сорок лет, прожитых в этом мире; люди говорили, что борода у него седа и неряшлива, что белые кустистые брови низко нависают над слепыми глазами, что его лицо — когда-то румяное и гладкое лицо двадцатилетнего юноши — почти черно от загара. Ну, а глубокие морщины на этом лице, вздувшиеся вены на руках, обширная плешь на затылке — в наличии всего этого он мог убедиться и сам, на ощупь.
Демодок постарел, потому что люди в этом мире тоже стареют. И умирают. И не только от старости.
А Посейдон, как и все олимпийцы, ничуть не изменился за эти четыре десятилетия — по крайней мере, внешне. Он был все так же сухощав, моложав и женствен, как тогда, во время их первой встречи.
Демодок (тогда еще просто Дима) лежал в гамаке между палубными надстройками, вдыхал дивный воздух Ионического моря и лениво перебирал струны гитары. И ничего не делал. (Даже у квазинавтов случаются такие короткие передышки. Редко, но случаются.) Наденька обозревала горизонты, а Юра, опять разворошив пульт, копался в потрохах кибершкипера — что-то ему там не нравилось. Шлюп на самых малых оборотах шел курсом вест. На траверзе слева у них был мыс Итапетра, что на северной оконечности острова Лефкас, а где-то прямо по курсу или южнее — активная зона тектонического разлома. Подводные вулканы. Возникающие и тонущие острова, которые Гомер называл «бродящими утесами»… Впрочем, это как раз и была гипотеза (одна из), которую им предстояло проверить спустя полчаса. Быстренько подтвердить или быстренько опровергнуть и сразу же браться за проверку следующей. И так еще два с половиной месяца, сколько успеют. Бредовая идея — проверять реальные гипотезы на материале квазимиров, но, говорят, срабатывает…
— Мальчики, посмотрите, — сказала вдруг Наденька. — Абориген за бортом. Вылитый Юрий Глебович!
— В лодке? — спокойно, по-видимому, даже не отрываясь от пульта, спросил Юрий Глебович (пока еще просто Юра). — Мы его не перевернем?
— Да нет, правда! — сказала Наденька. — Он… Он» кажется, идет сюда. К нам… Просто так идет, без лодки.
— Понял, — сказал Юра. — Это Иисус Христос.
— Ну почему сразу Христос? — обиделась Наденька. — Почему вы мне никогда не верите? Может быть, там отмель. Или скала какая-нибудь…
— Где это — «там»? — спросил Юра, превращаясь в Юрия Глебовича. — Координаты!
— Сейчас… Тридцать пять градусов справа по курсу, восемьсот… нет, семьсот пятьдесят метров. Уже меньше…
— Не выдумывай, — сказал Юра. — Нет там никакой отмели. И скалы там тоже нет. Глубина сто сорок.
— Но ведь я же вижу! — с отчаянием сказала Наденька. — Он идет к нам! Почти бежит. Сердится…
— Димка! — позвал пока еще Юра.
— Ну, чего там? — спросил Демодок.
— Слышал?
— Ну, слышал. Надоело… — Не верил Дима ни в каких аборигенов, ступающих по воде, аки по суху. Особенно, если их видела Наденька. Особенно, если они были похожи на Юрия Глебовича.
— Ты на палубе? — спросил Юра.
— Я в гамаке, — уточнил Дима, уже зная, что из гамака его сей момент погонят.
— Ну, раз ты все равно загораешь…
— Я не просто загораю, — перебил Дима. — Я провожу внеплановый эксперимент. Я выясняю: отличается ли загар, полученный в квазимире, от настоящего, и, если отличается…
— Успеешь выяснить, — сказал Юрий Глебович. — Подойди к ней и глянь, что она там видит.
— Скорее, Дима! — крикнула Наденька. — Он уже близко!
Точно зная, что все это ерунда и галлюцинации на почве богатого воображения (что с нее взять — новичок, наслушалась баек о населенных квазимирах; в первом из своих трех забросов он сам в эти байки верил, а после второго сам же их сочинял), Дима все-таки ощутил некоторое беспокойство и заторопился. Конечно, только для того, чтобы поставить юнгу на место. Чтобы прочесть юнге небольшую лекцию на тему «так рождаются мифы». Добравшись до правого борта, Дима уже открыл рот, готовясь произнести нечто весьма остроумное.
И забыл закрыть.
Снял очки и попытался протереть стекла. Помешал бинокль, который сунула ему Наденька, а он машинально взял. Но уже и без бинокля (и даже без очков!) Дима отчетливо видел аборигена в полукабельтове от шлюпа. Действительно, похож. То есть, не то чтобы вылитый Юрий Глебович, но похож — именно на Юрия Глебовича, а не на Юру. Было в нем что-то этакое… командорское. Этот квази-Юрий Глебович был почему-то облачен в короткую, до середины бедер, белую хламиду и во весь опор, совершенно не заботясь о командорском авторитете, мчался прямо на шлюп. Бежал. По воде. И потрясал на бегу огромной, сверкающей на солнце трезубой острогой…
— Ну, и как там абориген? — спросил Юра из глубины рубки. — Растаял?
— Командор! — хриплым голосом произнес Дима. — Это населенный мир, Командор…
— Ясно, — сказал Юрий Глебович. — Послал мне бог добровольцев. Аматоров. А ну-ка, посторонись!
Край люка уперся Диме между лопаток, и Дима посторонился…
Лучше бы он этого не делал. Лучше бы он тогда замешкался.
Но Демодок не замешкался и посторонился, выпуская Юрия Глебовича из рубки, — и это, вполне возможно, спасло Демодоку жизнь. Жизнь, которая так и закончится здесь, в древней Элладе, в одном из бесчисленных квазимиров тысяча пятьсот какой-то ассоциативной сферы. И никто никогда не узнает, в каком именно. Никому еще не удавалось обнаружить ни одного радиобуя в метатысячных сферах, а ведь каждая экспедиция оставляла их после себя — сверхнадежные, неуязвимые, практически вечные… Эта сфера тоже должна была кишмя кишеть радиобуями — да вот почему-то не кишела. Каждый заброс был уникальным, каждый квазимир оказывался новым и неисследованным, и теперь Демодок знает, почему так получалось. Но никому не может передать свое знание…
Обмотав струны мягкой шерстяной тряпкой, Демодок привстал на цыпочки, повесил лиру на крюк и огляделся.
Лица пирующих были ему незнакомы и потому неотчетливы, но позы вполне соответствовали тому, что рисовал его слух. А низкое вечернее солнце находилось именно на том месте, которое подсказало ему осязание. Застывшие волны, застывшие чайки над ними, застывшее пламя костра на берегу — все было похоже на красочную, глянцевую, не очень четкую фоторепродукцию с картины старательного художника-копииста.
Это не было зрением — то, что возвращалось к Демодоку, когда он останавливал время. Это было представлением давно ослепшего человека о том, что такое зрение. Но в местах, знакомых ему по воспоминаниям или на ощупь, это вполне заменяло зрение. А на Олимпе он видел даже больше и отчетливее, чем другие, зрячие в миру, аэды…
Щурясь и привыкая к нечеткому глянцу мира, Демодок вышел из дворца, проследовал мимо костра, где неподвижные рабы держали на весу неподвижного вепря, подставив таз под неподвижную струю крови из его горла; мимо корабля с хитроумным навигационным сооружением на корме, уже знакомым ему на ощупь. Потрогал стопой неподвижную твердую воду и шагнул на мыс Итапетра, на широкую отмель перед одноименной скалой.
«Эту отмель скоро будут называть Лугом Сирен, — подумал певец. — Теперь уже скоро. Да и сами Сирены обязательно появятся на этом лугу. Девятнадцать лет прошло после начала Троянской войны — Одиссей уже, наверное, заканчивает свое путешествие. Скоро будет направо и налево хвастать о пережитом. Будет вспоминать, сочинять и приукрашивать. Будет верить собственным выдумкам и закреплять их в умах многих и многих эллинов. И Сирены появятся. И шестиголовая Скилла обоснуется в круглой пещере на самой середине высокой материковой скалы; будет хватать и пожирать мореходов — по шесть человек сразу — пытающихся пройти узким проливом между материком и островом Лефкас. И легендарный лотос — корень забвения, — перестав быть метафорой, обретет свои коварные свойства… Таков этот мир, населенный богами и чудовищами — порождениями спящего разума».
Так думал Демодок, неторопливо шагая по отмели к подножию скалы Итапетра. К тому самому месту, где сорок лет назад они с Наденькой кое-как приземлили шлюп, спасаясь от бури.
Шлюп держался. Квазиреальность обгрызла и обсосала его, но еще не проглотила.
Исчезли палубные надстройки, иллюминаторы потеряли прозрачность и намертво приросли к бортам, а П-образная мачта на миделе стала мраморной аркой. И жертвенный треножник нелепо торчал на корме, перед разверстым люком в машинное отделение, где давно уже не было никаких машин, а был бездонный колодец с каменными влажными стенами, дышавший холодом, плесенью, жутью. Может быть, еще один вход в Аид… Но в целом шлюп сохранял прежние очертания.
И никуда, конечно, не делся радиобуй, который они с Наденькой, пыхтя и проклиная инструкции, выволокли из шлюпа и оттащили на пятнадцать метров от борта. Там он и лежал, поблескивая полированными ромбами граней, ощетиненный бесполезными штырями антенн. Демодок подошел к нему и ткнул пальцем в пружинную клавишу на одной из граней. Печатная плата послушно скользнула из паза ему в ладонь. Только это была уже не печатная плата. Это была черная, совершенно гладкая пластина (может быть, уже деревянная) с серебряными каббалистическими знаками. Где-то когда-то, лет сорок пять назад, в одной из старинных книг Дима прочел, что печатные схемы напоминают кабалистическое письмо. Образ понравился ему и запечатлелся в памяти — и вот результат. О том, что могло произойти с начинкой радиобуя, знай он о ней хоть что-нибудь, Демодок старался не думать…
Думать надо было раньше, когда Юрий Глебович пришел наконец в сознание и отдал Диме совершенно четкий приказ: оставить шлюп здесь.
Правое легкое у Юрия Глебовича было пробито двумя зубами остроги, которую они с Наденькой не рискнули извлечь: свободное острие оканчивалось могучей зазубриной, и, надо полагать, все три были заточены одинаково. Они только осторожно отделили древко и остановили кровь. Древко Дима швырнул обратно в море, и абориген тут же подхватил его с радостным гиком. Но им было не до аборигена: внезапно поднялась буря, и надо было спасать шлюп. Кое-как, на ручном управлении приземлившись на отмель у подножия высокой скалы, они потратили несколько драгоценных минут на установку радиобуя. (Наденька протестовала, но Дима был непреклонен: инструкция есть инструкция.) А потом они уложили Юрия Глебовича в капсулу обратного старта и уже задвигали крышку, когда он пришел в себя и заговорил.
— Бросьте шлюп, — говорил он. — Черт с ним… Пульт. Ты же видел. Не пытайся чинить… Немедленно в капсулы. Оба. Я тоже. Но сначала вы. Оба. Населен…
Он говорил медленно, с трудом выталкивая слова и кривясь от боли, — но он знал, что говорит. А Дима не подчинился. Это был его третий профессиональный заброс, он полагал себя уже достаточно опытным квазинавтом и счел возможным выполнить приказ только наполовину. Он почти силой загнал Наденьку во вторую капсулу и сразу нажал наружную клавишу обратного старта. Воздух сказал «блоп!», заполняя освободившееся пространство, и Диму качнуло.
— Молодец, — проговорил Юрий Глебович, наблюдавший за его действиями. — Теперь сам. Не торопись.
— Конечно, командор! — бодро ответил Дима и, проходя мимо его капсулы, локтем ударил в клавишу.
Четыре дня он пытался починить пульт и не преуспел.
На пятый день сломался корабельный стюард, и Диме пришлось самому топать на камбуз. Тогда он и заметил первые пятнышки ржавчины на нержавеющем металле консервных банок.
Еще два дня он занимался тем, что выдвигал и тестировал все блоки аппаратуры. Сначала выборочно, потом подряд, потом взялся за запасной комплект. Тестер показывал черт знает что, и Дима взял новый тестер. Вскоре оба прибора перестали реагировать даже на 220 вольт бортовой сети.
А еще через несколько дней, увидев, что одна из консервных банок проржавела насквозь, Дима решил, что с него хватит. Он залег в капсулу, надвинул крышку и нажал клавишу обратного старта.
Потом еще раз нажал.
И еще…
А потом Демодок выбрался из капсулы и стал жить в этом мире, поскольку ничего другого ему не оставалось.
ЗАГОВОР БОГОВ
Часть пути от Лефкаса до Олимпа Демодок преодолел пешком, перепрыгивая сначала с гребня на гребень застывших в неподвижности волн, потом — с острова на остров. Бессмертные пировали.
Певца узнавали. Приветливо (очень приветливо) улыбались, заговаривали о пустяках, опасливо глядели вслед, когда он, ответив или не ответив на вежливо-пустые вопросы, проходил мимо. Ганимед, который ловко сновал между столами, разнося нектар и благовония, подбежал к нему и протянул полный кубок.
Демодок пригубил, чтобы не огорчать бедного юношу. Младший сын Троса, родоначальника троянских царей, Ганимед был единственным из людей, удостоенным бессмертия. «За красоту», — так объяснил Зевс, забирая его на Олимп, хотя юноша был скорее смазлив, чем прекрасен. Взгляд его был безмятежен и пуст, как у манекена, и за сотни лет ни единая мысль не исказила его кукольно-правильных черт. Даже гибель и разрушение Трои, родного города, не коснулись его сознания. «Я никогда не умру!» — вот и все, что можно было прочесть на лице счастливейшего из смертных. Бездумье угодно богам… Вернув Ганимеду кубок, Демодок двинулся дальше, направляясь к столу Зевса. Боги, сообразив наконец, что это неофициальный визит, перестали оглядываться и занялись своими делами.
Посейдон уже, видимо, изложил свою просьбу и теперь почтительно внимал Громовержцу, время от времени интеллигентно встревая. Демодок присел рядом, осторожно втиснувшись между ним и Ареем — так, чтобы, оставаясь как можно дольше незамеченным, слышать все.
— Одиссея я тебе не отдам, — веско говорил Зевс. Посейдон приподнял, оторвав от стола, сухую ладошку, и Громовержец возвысил голос: — И не проси, не отдам! Такие люди нужны Олимпу, мы без таких людей пропадем. Смотри, сколько полезного он навоображал. Сирены — раз, Скилла с Харибдой — два… Кстати, ты же сам проводил полевые испытания Харибды! Скажешь, не понравилось? То-то и оно, что понравилось. Одиннадцати кораблей как не бывало! А ты его у меня просишь…
— Ты не до конца меня выслушал, Эгиох, — встрял наконец Посейдон. — Я как раз начал говорить о том, что на Итаке, родине Одиссея…
— Не отдам! — повторил Зевс. — Очень полезный человек. С богатым воображением — и в нужную сторону задействованным. А это редкость, чтобы богатое воображение — в нужную нам сторону. Он нам такое реноме создаст, такое общественное мнение — ого-го! А что мы без общественного мнения? Гром без молнии и ничего больше.
— Именно об этом я и хотел сказать, Тучегонитель, — терпеливо возразил Посейдон. — Против Одиссея я уже ничего не имею, тем более, что ты сам обещал ему благополучное возвращение. И да будет по воле твоей, Дий! Пусть он возвращается на свою Итаку, но…
— Правильно. Вот это правильно: пускай возвращается и всем рассказывает, какие мы всемогущие. А феакийцев ты лучше на обратном пути накажи. Вот Одиссея доставят — и накажи. Да покрепче! А потом этого бродягу… как его?
— Его имя Тоон, Светлейший.
— Вот-вот, и его тоже. Чтобы неповадно было Рок обманывать. А то что же это получится? Один обманет, другой обманет — и все! Был Рок — и нет Рока! Этого допускать нельзя, это я лично буду на контроле держать… Где он сейчас, этот бродяга? Ты его видел?
— Он сейчас на Итаке, Кронной. Именно поэтому…
— А что он там делает?
— Рвется на родину, в Схерию. Ведь он феакиец, я тебе уже говорил об этом. Может быть, я излагал путано и несвязно — я всегда волнуюсь, когда говорю с тобой, Вседержитель. Вот послушай еще раз…
— Ну-ну? Только без путаницы, а то ничего не понять.
— Тоон — феакиец. Светлейший. В молодости, до того как впасть в ересь, он был кормовым гребцом на одном из кораблей Алкиноя. А лет сорок назад, — (Демодок насторожился), — он бежал с корабля, думая, что спасается от моей мести и тем самым обманывает Рок.
— А за что ты хотел ему отомстить?
— Не ему, Эгиох, а всем феакийцам. Ты, конечно, помнишь эту историю, но я позволю себе вкратце изложить ее, дабы не лишать повествование стройности и порядка.
Было так. Лет шестьдесят назад феакиец Тектон выдумал и построил свой первый корабль со сплошной палубой, который не тонул в бурю. Он же оснастил его неким приспособлением, позволявшим найти верный путь даже в тумане. Полиций, сын Тектона, основал верфь и стал строить такие корабли во множестве. На склоне лет Тектон помутился разумом и выдумал мою грядущую месть. Полиций, выполняя последнюю волю отца, чуть не сжег верфь, но царь Навсифой, отец нынешнего царя Алкиноя, не позволил ему сделать это. Недостроенные корабли, а также все имущество и рабов Полиния царь передал Амфиалу — сыну Полиния, внуку Тектона. Поскольку Амфиалу было всего три года, царь назначил ему опекунов из числа самых опытных корабелов. Так и дело было продолжено, и преемственность сохранена. Полиний же, удалившись от дел, стал проповедовать мою грядущую месть, призывая феакийцев сжечь корабли, дабы не гневить меня еще более. Хитроумный царь понял, что преследовать безумца — значит косвенно подтвердить его правоту, и притворился, что верит пророчеству. Но, не желая прекращать выгодную торговлю, Навсифой осветил пророчество с неожиданной стороны. «Да, — говорил пройдоха, — Посейдон гневается на нас за то, что мы безопасно бороздим море, и обещал страшно отомстить нам. Поскольку месть объявлена, она неизбежна, ибо слово богов нерушимо. Именно поэтому, — говорил сребролюбец, — нельзя разрушать верфь и прекращать торговлю. Ведь это, — говорил он, — было бы попыткой избежать мести, попыткой нарушить волю великого бога. Чему быть — того не миновать!». Так, играя на природном мужестве и благочестии феакийцев, старый царь добился своего: корабли строятся, торговля ширится, Схерия богатеет…
— Ага, — сказал Зевс. — Ну конечно, я все это хорошо помню. А что Тоон?
— Тоон, Вседержитель, был обыкновенным трусом. Он вообразил, что именно его корабль я собираюсь разбить, и бежал. Бросился в море и вплавь достиг острова Андикифера, мимо которого они шли на Корикос и далее на Крит. Там, на Андикифере, он и прожил все эти сорок лет… Надо сказать, я действительно чуть не разбил этот корабль: у Тоона на редкость яркое воображение. К сожалению, он не успел поделиться своими опасениями с другими гребцами. Сиганул за борт, едва увидав мой трезубец, — только пятки сверкнули. Остальные гребцы решили, что его пожрало какое-то морское чудовище (дело было в тумане), и, налегая на весла, даже не помыслили обо мне — вот и ушли безнаказанными.
— А почему его не пожрало чудовище, воображенное столь многими?
— Не успело, Кронион. Слишком по-разному они его себе представляли, а когда, наконец, договорились, Тоон был уже на берегу. Чудовище уплыло восвояси и только недавно — спасибо твоему Одиссею — нашло себе пристанище на высокой скале, в пещере. Это Скилла, Светлейший. Теперь она будет контролировать узкий пролив между Лефкасом и материком. С ней я никому спуску не дам, пусть только сунутся…
— Вот видишь! А ты просишь у меня Одиссея. Не отдам.
— Я не прошу Одиссея, Эгиох. Я прошу Тоона. И совсем немножко феакийцев с ним вместе. Не всех — мне хватит гребцов одного корабля. Пятьдесят два человека.
— Этих бери. Побаловались со своими кораблями — и хватит, а то совсем от рук отобьются… Так, а что Тоон?
— Тоон, Громовержец, вовсе не считал себя трусом. Наоборот: он полагал, что не побоялся воспрепятствовать мне, самому Посейдону, и уберег корабль от моей мести. Так оно отчасти и было, но только отчасти: если бы Тоон остался на корабле, другие гребцы, видя, как у него трясутся поджилки, задумались бы и тоже увидели мой трезубец. Остальное было бы делом техники, а техника у нас отработана… Тоон же, поселившись на Андикифере, основал там школу «Соперников Рока», отбирая к себе в ученики мальчиков с богатым и вреднонаправленным воображением. Они научились мыслить в унисон, Эгиох! А направляет их мысли — Тоон, вообразивший себя свободным от Рока. Повторюсь: это человек с опасно ярким воображением… Вот почему остров Андикифера стал для нас малодоступен.
«А ведь я никогда не бывал на Андикифере, — подумал Демодок. — Я даже ничего не слышал о нем. Вот бы куда доставить радиобуй… Значит, на север от Крита, минуя Корикос. Надо иметь в виду. Андикифера. Хороший остров…»
— Как же ты его там достанешь, если Андикифера недоступна богам? — удивился Зевс.
— Он теперь на Итаке, Тучегонитель, — кротко напомнил Посейдон. — Он сам идет в наши руки.
— Значит, решил покориться. Это хорошо.
— Увы, он и не думал покоряться. Он стар. Громовержец, и он хочет перед смертью повидать родину. Его сопровождают два самых способных ученика… То есть, это он считает их самыми способными. Люди — особенно учителя и особенно в старости — нередко ошибаются, видя способности там, где есть лишь преданность и послушание. Совсем недавно учеников было трое, но об этом потом… От Итаки Тоон намерен добраться с попутным кораблем до Лефкаса, а Лефкас — обычная остановка феакийцев на пути с юга. На саму же Итаку феакийские корабли почти не заглядывают — на этом и основан мой план. Тоон сидит. там и ждет любого корабля до Лефкаса. Любого, но не феакийского! А феакийцы на днях доставят на Итаку твоего Одиссея. Тоон увидит корабль — свой корабль, Громовержец! — и это будет для него потрясением. Что бы он там ни воображал, он помыслит о Роке: рабство и благочестие неискоренимы в людях, Светлейший. Он помыслит о Роке и вспомнит меня, и увидит меня. И его послушные ученики — тоже увидят меня. Три человека, синхронно мыслящих обо мне! Этого достаточно, Громовержец, чтобы разбить корабль у него на глазах. Он не выдержит. Он бросится в море и покончит с собой. Моя месть свершится! — Посейдон грохнул кулаком по столу, и Зевс вздрогнул. — Ведь красиво, а? — спросил Посейдон, заглядывая ему в лицо.
— Хороший план, — мечтательно щурясь, проговорил Зевс. — Помочь тебе, что ли… Погоди-ка, — спохватился он. — А Одиссей?
— Одиссея я как-нибудь… на бревнышке, — пообещал Посейдон. — Верит твоему обещанию — цел останется, не верит — туда ему и дорога.
— Нет! — Зевс решительно помотал головой. — Хватит с него твоих бревнышек! До острова нимфы Калипсо — на бревнышке, до Схерии — опять же на бревнышке, а теперь еще перед самым домом бревнышко ему сунешь? Хватит! Пока Одиссей на корабле, корабль ты не трогай, вот так. Ты лучше вот что сделай. Пускай они Одиссея благополучно доставят, спящим его на берег Итаки перенесут и все Алкиноевы подарки возле него сложат, и ты им не препятствуй. Потому что заработал. И пусть они этого бродягу Тоона на борт возьмут и плывут обратно в свою Схерию…
— Отпустить? — возопил Посейдон.
— Да, отпустить. Ты слушай дальше, я тебе дело говорю! Взойдет он на свой корабль, расцелуется со всеми пятьюдесятью двумя соотечественниками, и завяжется у них разговор. А чтобы разговор завязался, ты им погодку обеспечь. Прислушайся к тем из них, которые о хорошей погодке помыслят, и обеспечь. Солнышко там, ветерок попутный… Чтобы на веслах не надрывались, а парус бы подняли и спокойно беседовали. И Скиллу свою придержи, когда проливчиком идти будут. Усвоил?
— Но, Эгиох! Другого такого случая…
— Усвоил, я тебя спрашиваю?
— Да, Вседержитель… — вздохнул Посейдон.
— Тогда — самое главное. Давай сюда ухо.
Посейдон послушно выполнил повеление, ткнулся ухом в уста Эгидоносителя, и Зевс зашептал, быстро посверкивая глазами из-под нависших бровей. Уныние и досада на лице морского владыки постепенно сменялись выражением торжества и неподдельного восхищения. Тщетно Демодок вытягивал шею и напрягал слух: самое важное боги решили утаить.
Утаить?.. Демодок присмотрелся. Зевс так и зыркал глазами во все стороны, но на нем, Демодоке, ни разу не остановил взор. Это не могло быть случайностью. Значит, Зевс давно заметил певца. Значит, нарочно позволил ему узнать подоплеку готовящейся интриги и даже заставил Посейдона повторить то, что Демодок пропустил. Выдал информацию и теперь явно дает понять, что она неполна. Зачем? Самого Демодока хочет использовать в какой-то игре?
Информация…
Положим, о феакийских кораблях Демодок давно знал. Исследовал на ощупь навигационное устройство, придуманное Тектоном, и даже пытался растолковать Гефесту принцип действия гироскопа. И о пророчестве насчет грядущей Посейдоновой мести Демодок тоже знал. А что он услышал впервые?
Андикифера. Школа «Соперников Рока». Феакиец Тоон, который не считал себя трусом…
Да, это важно. Это оружие против богов, а не против людей — оружие не менее могущественное, чем его лира. Но тогда тем более непонятно, почему Зевс…
— А, Демодок! — радостно вскричал Зевс, и Демодок вздрогнул. — Добро пожаловать на Олимп, Демодок, как я раньше тебя не заметил? Ганимед, мальчик мой! Кубок самого лучшего нектара моему гостю!
Ганимед подлетел к ним, сияя безмятежной улыбкой, с полным кубком в руках. Зевс потрепал его по щеке, ласково взъерошил волосы, забрал кубок и, пригубив, собственноручно поставил перед певцом.
— Пей, Демодок! — сказал Зевс. — Я всегда рад видеть аэда за своим пиршественным столом и угостить его в награду за чудесные песни. Пей!
— Не надо, Кронион. — Демодок поморщился и отодвинул кубок. — Мне пора возвращаться на землю, в чертоги царя Алкиноя. У него нынче пир, и гости жаждут веселья… Кстати, — сказал он, — уж не Одиссея ли принимает у себя царь феакийцев?
— Его, — охотно ответил Зевс. — Многохитростный муж завершает многотрудное плавание. Будет рассказывать о своих приключениях — послушай, певец, не пожалеешь.
— Обязательно, — сказал Демодок. — А потом? Царь Алкиной уже приготовил царю Одиссею свой лучший корабль, и пятьдесят два гребца безопасно доставят его на Итаку?
— Умгу… — произнес Зевс, не разжимая губ, и снова переглянулся с Посейдоном.
— А потом?..
Братья внимательно смотрели на певца и молчали. Черта с два они скажут ему, что будет потом.
— До встречи, Кронионы! — бросил Демодок, повернулся и пошел прочь.
— Всегда рады видеть тебя на Олимпе, славный аэд! — с облегчением воскликнул Зевс, а Посейдон злорадно хихикнул.
КОНЕЦ АНЕКДОТА
Боги шумными стаями слетались на Лемнос, к храму Гефеста, обещавшего им потеху. Они запрудили спальню, толпились в дверях, младшие тянули шеи, выглядывали из-за спин старших.
Ловушка сработала.
Гефест глумливо и гневно поносил осквернителей брачного ложа, и боги хохотали, глядя, как посиневший от натуги Арей тщится разорвать железные сети, плотно спеленавшие его и Афродиту. Но каждый рывок лишь усугублял положение любовников, прижатых друг к другу неразрывными путами. Богиня отворачивалась, постанывая от боли и унижения, и Арей наконец затих, вняв ее бессловесной мольбе. Лежал, до скрипа сжимая зубы, и сверкал бешеными глазами. Боги смеялись, и Алкиноевы гости вторили хохоту олимпийцев.
Эрот тоже неуверенно хихикал, выглядывая из-за плеча Гермеса (сам Громовержец смеется — надо смеяться!), но все-таки ему было немножко не по себе. «А это не я стрелял! — начал было объяснять он. — Это знаете, кто стрелял? Это…» Но Демодок нахмурился, и Эрот прикусил язык.
Подобревший от смеха Зевс согласился наконец вернуть Гефесту подарки, полученные во время оно за невесту, а хмурый, так ни разу и не улыбнувшийся Посейдон поручился за бога войны и даже пообещал, что сам заплатит выкуп, если Арей этого не сделает. Оскандаленные любовники были освобождены и умчались: Арей — в далекую воинственную Фракию, отводить душу, Афродита — к себе на Кипр.
Боги, досмеиваясь и крутя головами, стали расходиться.
— А ведь здесь не без Демодока… — услышал певец недовольный баритон морского владыки.
— Не так громко, — вполголоса ответствовал Зевс. — Конечно, не без него. Ну и что? Славно повеселились.
— Если бы все его песни были веселыми. И для всех…
— Ничего, — сказал Зевс. — Пусть Демодок поет. Пусть лучше поет, чем…
Голоса их пропали вместе с последним звуком струны, и земная привычная тьма обступила певца. Ощупью повесив лиру на слишком высоко вбитый крюк, Демодок сел и зашарил руками вокруг себя, ища свое блюдо.
— От царя Одиссея — славному аэду! — возгласил Понтоной, неслышно подбегая и ставя блюдо на колени певца.
Демодок хмуро кивнул, вдыхая ароматный мясной пар. Несомненно, это была самая жирная, самая вкусная хребтовая часть вепря, только что целиком зажаренного на углях. Она была еще слишком горяча — медное блюдо даже сквозь хитон припекало колени. Но Демодок не стал ждать, пока мясо остынет, и, обжигаясь, впился зубами в нежную мякоть, спеша добраться до мозговых косточек. Сегодня — пир, а что будет завтра…
Гости одобрительно зашумели, придвигались к столам, громогласно хвалили царя Одиссея за щедрость, гремели полными кубками. Пиршество продолжалось.
Полную жира хребтовую часть острозубого вепря Взявши с тарелки своей (для себя же оставя там боле). Царь Одиссей многославный сказал, обратясь к Понтоною: «Эту почетную часть изготовленной вкусно веприны Дай Демодоку; его и печальный я чту несказанно. Всем на обильной земле обитающим людям любезны, Всеми высоко честимы певцы; их сама научила Пению Муза; ей мило певцов благородное племя». Мясо глашатай; певец благодарно даяние принял. (Гомер. Одиссея, песнь восьмая.)ЧАСТЬ ВТОРАЯ СОПЕРНИКИ РОКА
НА ИТАКЕ, В ХИЖИНЕ ЕВМЕЯ
— …Со всей очевидностью напрашивается вывод о том, что персонификация богов равносильна обожествлению персоны. И то, и другое чревато тотальным безмыслием человеческих масс, их разобщенностью, упадком культуры. Ищущий разум подменяется воображением — но не свободным и творческим, как в нашем маленьком демосе, а скованным, втиснутым в жесткие рамки общепринятого канона.
Этот канон, порожденный не столько действительностью, сколько былым представлением о действительности, не развивается вместе с ней. Его нельзя изменить, как нельзя согнуть глыбу льда. Но, как реки Северной Фракии ломают лед с приходом весны, так и действительность рано или поздно разрушает каноны воображения. Глупо надеяться, что это произойдет скоро. Еще глупее пытаться в одиночку приблизить весну. Одинокий разум не в силах разрушить канон, как одиночный костер не в силах освободить реку. Но жизнь во льдах безрадостна и убога. Воображение, отделенное от действительности, умерщвляет ее и само становится действительностью. Следствие, отделенное от причины, видоизменяет последнюю в угоду застывшему воображению. Поступок, отделенный от личности, перестает быть поступком, но по-прежнему определяет судьбу человека. При этом внутренняя мотивация и самооценка уступают место внешнему произволу; произволу тем более реальному и неумолимому, чем более персонифицированы и, как следствие, представимы боги (либо, что то же самое, — чем более обожествлена и, как следствие, всемогуща персона). Утверждение «Есть высший судия» равнозначно утверждению «Не нам судить»…
Тоон прервал лекцию и посмотрел на учеников.
Могучий Окиал спал, утомленный трудными для его медлительного ума периодами. Его правая кисть, обращенная ладонью кверху, время от времени самопроизвольно сжималась, обхватывая рукоять короткого тяжелого меча. Едва пальцы расслаблялись, меч пропадал бесследно — и тогда опять становилась видна мозолистая ладонь Окиала. Ладонь кузнеца — черная от въевшихся в нее копоти и медной окалины.
Легкомысленный Навболит тоже не слушал учителя. Примостившись на корточках по левую руку от Окиала, подальше от возникавшего и таявшего оружия, он увлеченно выращивал из земляного пола хижины цветок асфоделя. Длинный стрельчатый стебель, неестественно изгибаясь и вздрагивая, тянулся боковым бледно-зеленым побегом к ноздре спящего.
«Как они восхитительно молоды! — подумал Тоон, с улыбкой глядя на своих учеников. — Бородатые мальчики. Весь мир — игрушка…» Не вставая с мягкой охапки сучьев, Тоон попытался подбросить поленья в очаг, не справился и, кряхтя, поднялся, чтобы сделать это руками.
Боковым зрением он увидел, как Навболит обернулся на шум и, спешно уничтожив цветок, придал лицу выражение почтительного внимания. Но бледно-зеленый побег в последний миг своего существования достиг-таки цели; Окиал чихнул, мотнул головой, ударившись затылком о стену, и вскочил, как подброшенный, инстинктивно заслоняя друга от примстившейся опасности. Трогательное было зрелище, но и смешное одновременно, и Навболит, не удержавшись, прыснул.
Окиал оглянулся на него, ошалело помотал головой и тоже неуверенно засмеялся. А потом, спохватившись, виновато посмотрел на Тоона и развел руками.
— Прости, учитель! — огорченно сказал он. — Кажется, я опять заснул на самом интересном месте. Я не умею спать на ходу, как Навболит.
— И на посту тоже, — ворчливо перебил Тоон.
Навболит перестал улыбаться и потупился — это он трое суток назад проворонил корабль, направлявшийся, по всей видимости, на Лефкас.
Тоон отошел от разгоревшегося наконец очага, тщательно поправил (руками) козью шкуру на мягкой охапке сучьев и, кряхтя, уселся. Да, трое суток назад они уже могли быть на Лефкасе и этой ночью пешком достигли бы скалы Итапетра на северной оконечности острова. А сегодня, если бы повезло, взошли бы на палубу феакийского корабля, чтобы к вечеру увидеть наконец берега Схерии. Любезной сердцу Тоона Схерии. Вместо этого они все еще торчали здесь, на Итаке. Голодать, правда, не приходилось: во дворце местного басилея шли непрекращавшиеся пиры, и каждый вечер троице бродячих фокусников перепадало по хорошему куску свинины или козлятины. Но за десять дней гости устали удивляться их представлениям, а вчера просто не пустили на порог. Пришлось довольствоваться гостеприимством хозяина этой хижины — старого свинопаса Евмея. Евмей был беден и несвободен, еще два-три дня — и они станут ему в тягость… А все-таки не стоило упрекать Навболита — мальчик и без того переживает.
— Я ведь еще видел корму корабля, учитель, — сказал наконец Навболит. — Я мог бы догнать его…
— И до полусмерти перепугать гребцов? — невесело усмехнулся Тоон.
— Они бы сочли тебя богом, — пояснил Окиал, усаживаясь и опять прислоняясь к стене. — Представляешь, чем это могло для тебя кончиться?
— Да уж… — Навболит поежился. — Пятьдесят два благочестивца…
— Это был двадцативесельный корабль, — уточнил Окиал. — Но и двадцати неразумных достаточно, чтобы загнать тебя на Олимп. И стал бы ты обожествленной персоной. Или еще хуже — персонифицированным богом, как бедняга Примней. Пил бы нектар и закусывал жертвенным дымом.
Навболит промолчал, а Тоон еще раз удивился, как точно и полно Окиал усвоил урок, который проспал.
— Солнце уже встало, — сообщил Навболит, глядя мимо него в голубеющий проем двери. — Может, пойдем глянем на море? Заодно искупаемся.
— Давай! — Окиал быстро поднялся, оправляя полы тонкого хитона. — А то все время спать хочется в этой жаре… Ты пойдешь с нами, учитель?
— Идите, — неохотно отозвался Тоон. — Я лучше посижу в тепле, дождусь хозяина. А в полдень присоединюсь к вам.
— Мы будем осторожны, учитель, — серьезно произнес Окиал.
— Я присмотрю за этим озорником! — весело пообещал Навболит и, пригнувшись, первым шагнул в проем.
Тоон заставил себя не оглядываться и не смотреть им вслед. Боязно было оставаться одному и боязно было оставлять учеников без своего влияния. Но приучать их к этому влиянию, держать на поводке своего авторитета было еще боязнее: Примней был очень послушным учеником…
Некоторое время он прислушивался к удаляющимся голосам, а потом растянулся на скудном ложе, укрылся и попытался уснуть, считая бесчисленные корабли, отходящие от феакийской гавани. Они величаво проплывали перед его мысленным взором, справа налево, плавно взмахивая перистыми крыльями весел, блестя бешено вращавшимися волчками гироскопов на высокой корме, и один за другим растворялись в морских просторах, бесстрашно ныряя в туман и в ночную мглу. Каждый корабль спокойно и твердо держался на курсе — лишь подвижные рамы из черного дуба, несущие медный волчок, бесшумно покачивались на бронзовых втулках в такт бортовой и килевой качке… Сто тридцать восьмой корабль оставил за кормой гавань и, прободав глазастым носом волну, лег на свой курс. Сто тридцать девятый… Он уже отошел далеко от берега — сто тридцать девятый корабль, — когда звонко и жалобно хрустнула втулка подшипника. Увесистый, в полтора обхвата, медный волчок вырвался из своих гнезд, с грохотом раскрошил дубовые рамы и покатился по головам гребцов, подпрыгивая, наматывая на себя и рвя снасти, проламывая черепа и борта. Надо было проснуться и крикнуть, что это неправда, что такой сон не имеет права становиться реальностью, но не было сил даже поднять руку (во сне!) и заслониться от обильных соленых брызг, перемешанных с кровью и мозгом, от разлетавшихся веерами (во сне!) осколков костей и дерева. «Это сон! Это мне только снится! — пытался втолковать кому-то Тоон, с ужасом глядя на усеявшие поверхность моря обломки, ошметки и трупы. Сладковатый, удушливый запах крови поднимался от волн… — Это. ТОЛЬКО МНЕ снится! — нашел он неотразимый до сих пор аргумент. — Только мне и никому больше! Это больное старческое воображение, это мой — только мой, никому другому не ведомый страх…» — А сто сороковой корабль, большой и красивый — самый большой и самый красивый из всех Алкиноевых кораблей, — струясь и переливаясь цветным миражем, весь в радугах от поднятых веслами брызг, уже подходил к роковому своему рубежу. Уже звонко и жалобно похрустывали с его кормы надтреснутые втулки гироскопа, и готов был уже повториться кошмар, и стал уже повторяться, когда Тоону удалось наконец проснуться и оттолкнуть видение.
Тоон облегченно вздохнул, открывая глаза, и улыбнулся бродившему на цыпочках Евмею.
— Доброго утра тебе, господин, — ласковым голосом приветствовал его свинопас и без перехода заговорил о своих обидах, тем более тяжких и непростительных, что обижали не его самого, а его хозяина, царя Одиссея, который как ушел девятнадцать лет назад на войну, так с тех пор и не возвращался. Троя уже давно разрушена и разграблена, и Елена давно возвращена своему законному мужу, и другие цари уже вернулись домой с богатой добычей, а Одиссея нет и нет, и что прикажете думать его верному рабу, свинопасу Евмею — никто, кроме него и царицы, не верит, что басилей жив. Бесстыдные женихи гурьбой осаждают соломенную вдову, жрут, пьют и безобразничают в ее доме, режут лучших свиней, опустошают закрома и винные погреба, и некому защитить добро отсутствующего царя, ибо царевич Телемах юн и неопытен, ему и годика не было, когда Одиссей отправился на войну, а теперь ему всего только двадцать, и что он один может сделать против толпы женихов? Да и нет его, Телемаха: четыре месяца назад он снарядил корабль и отплыл к далекому Пилосу — узнать у тамошнего царя о судьбе отца, а потерявшие стыд женихи готовятся перехватить корабль на обратном пути и убить царевича, дабы сим богопротивным убийством развязать себе руки и заставить царицу Пенелопу выбрать себе нового мужа из их числа. Нет никакой управы на мерзких корыстолюбцев: жрут, пьют и портят юных рабынь в Одиссеевом доме, и самого Евмея заставляют ежеутренне пригонять им по пять-шесть лучших свиней из Одиссеева стада, и не в силах старый Евмей защитить добро своего господина, и сам вынужден жить впроголодь, и нечем ему угостить путников.
Тоон было двинулся к роднику, но оказалось, что старый Евмей опередил его: не прекращая стенать и жаловаться, наполнил студеной водой объемистую деревянную чашу и, ненавязчиво оттеснив гостя к ближайшему загону для свиней, стал лить ему на руки.
Уже вытирая лицо чистой полой своей теплой мантии, Тоон заметил голубоватую вспышку в дверном проеме хижины. Он сразу понял, что это за вспышка, и поспешно задал какой-то вопрос Евмею, который, к счастью, все еще стоял перед ним, спиной к своему жилищу. Евмей стал пространно и многословно отвечать, а Тоон краем глаза продолжал наблюдать за проемом. Такими вспышками обычно сопровождались большие прыжки Навболита, лишь недавно освоившего этот способ передвижения и, прямо скажем, злоупотреблявшего этим способом в силу своей лени и легкомыслия.
Ну конечно же, это был Навболит — вот он! Не найдя учителя в хижине, он шагнул из темного проема на свет, зажмурился и, увидев наконец Тоона (но не заметив, что Тоон не один), раскрыл рот. Тоон поспешно задал еще какой-то вопрос Евмею. Это было ошибкой: Евмей озадачился вопросом и замолчал на полуслове, обдумывая ответ. Всего на каких-нибудь две-три секунды замолчал, но этих двух-трех секунд оказалось достаточно, чтобы в полной тишине отчетливо прозвучал звонкий голос Навболита.
— Парус!.. — только и успел сказать Навболит.
Не договорил, увидев наконец свинопаса, шагнул обратно в хижину, пригнулся, ударившись головой о притолоку, и прыгнул.
Но обернувшийся на его голос Евмей успел увидеть и Навболита, и голубую молнию на том месте, где только что стоял Навболит. Издав непонятный горловой звук, богопослушный свинопас выронил чашу, вяло воздел к небу задрожавшие руки, колени его подогнулись, и он рухнул на землю, шлепнувшись лбом в коричневую навозную жижу, подтекавшую из-под заплота, подрытого хряком. «Подотчетным», — машинально подумал Тоон, соображая, как же ему теперь спасать ученика.
Четверо пастухов в подчинении у Евмея. Да не то десять, не то пятнадцать козопасов где-то поблизости, с которыми эти пятеро ежедневно встречаются. И Одиссеева дворня, которая тоже изредка видится с кем-нибудь из двадцати. И дома других басилеев рядом, а в домах — рабы, ремесленники, торговцы, мореходы… Широкая известность «чуду» обеспечена, если болтливый Евмей хоть словом намекнет о нем своим подчиненным. Бедный мой Навболит. Бедный Примней… А ведь Примней демонстрировал свое искусство (правда, сам демонстрировал — подробно, преднамеренно и хвастливо) всего-то дюжине ротозеев, случайных попутчиков — и немедленно был вознесен ротозеями на Олимп. У Навболита еще есть время. То есть, у Тоона еще есть время, а значит, у Навболита есть еще шанс… Один дурак — не беда, два дурака — опасность, три дурака — катастрофа. Еще не беда.
— Встань, Евмей! — произнес Тоон, стараясь придать своему голосу ласковую встревоженность, и, наклонившись над богопослушным рабом, обнял его за плечи.
БОГУ — БОГОВО
— А ты тогда что? — спросил Окиал и, отогнув ветку терновника, опять посмотрел на берег. Гребцы продолжали таскать с корабля золотую и серебряную утварь, аккуратной горкой укладывая добро возле спящего.
— А что я? — сказал Навболит. — Я прыгнул обратно, а тебя нет. Искал-искал, свистел-свистел, смотрю: корабль уже в бухту заходит. Я — сюда…
— Да не трясись ты так! — прикрикнул Окиал. — На вот лучше, глотни. — Продолжая наблюдать за берегом, он достал из ручья в глубине грота холодную скользкую амфору и переправил ее в руки Навболита. Тот покорно поднес амфору ко рту, но, так и не отпив, опять опустил на колени.
— Мы щиты забыли убрать! — сказал он.
— Это ты забыл. А я убрал, так что не беспокойся. Лучше скажи: Евмей твои прыжки видел?
— А когда ты их убрал?
— Сразу, как ты ушел. Так видел или нет? Ты откуда прыгал?
— Из хижины.
— И то ладно. Из-за стены или с порога?
— Не помню…
Окиал с досадой посмотрел на друга. Увидел его тусклые от страха глаза, прыгающие, непривычно распушенные губы, побелевшие суставы пальцев на горле амфоры. Вздохнул и отвернулся, опять уставясь на берег. Разгрузочные работы подходили к концу. Спящий продолжал спать. Двое мореходов на скрещенных руках осторожно переносили через борт белобородого плешивого старца (даже отсюда, из грота, с расстояния в сто с лишним шагов было видно, как неприятно грязен его хитон). Еще один не занятый разгрузкой гребец поджидал на берегу, с неуклюжей почтительностью прижимая к груди деревянную лиру.
— Ладно, — хмуро произнес Окиал. — Будем надеяться, что он ничего не видел.
— Никогда не подумал бы, что я могу так перетрусить! — твердеющим голосом произнес Навболит, делая отчаянную заявку на самоиронию.
Окиал почти без усилий изобразил на лице зависть и восхищение: самоирония всегда считалась одним из похвальнейших качеств учеников Тоона. Самому Окиалу она была болезненно недоступна. И все же… Примней тоже храбрился и самоиронизировал. Но учителя не оказалось рядом, а они с Навболитом ничем не сумели помочь Примнею.
— А точно они были вдвоем? — спросил Окиал. — Ты уверен?
— Ну конечно! Только Евмей и учитель, и никого больше. Если бы там были пастухи, я бы заметил… Уж с одним-то учитель справится, правда?
— Еще бы! — поспешно поддакнул Окиал. Пожалуй, слишком поспешно: Навболит сразу как-то погас и отвел глаза.
— Тяжелая… — пробормотал он, приподнимая амфору. Похоже, он только сейчас обнаружил ее у себя на коленях. — Что в ней?
— А ты попробуй! — спохватился Окиал. — Очень вкусно!
Навболит удалил восковую пробку и глотнул. Задохнулся, почмокал, закатив глаза, и глотнул еще раз.
— Не увлекайся! — предупредил Окиал. — Этот мед собран дикими пчелами лет пять назад, не меньше.
— Семь, — уверенно сказал Навболит и сделал третий затяжной глоток. — М-м!.. Вот теперь я чувствую себя человеком. Пошли.
— Куда?
— Туда, — Навболит мотнул головой. — Поможем учителю. — И он на четвереньках резво двинулся к выходу.
— Ну уж нет! — Окиал изловчился, поймал его за полу хитона и дернул. Навболит качнулся назад и сел, рефлекторно пригнув голову.
— Он же там один, — проникновенно сказал Навболит, ощупывая макушку, и вдруг судорожно, длинно зевнул. — Ему же помочь… — пояснил он, справившись с зевком и продолжая держаться за голову. — А-а?.. — и опять зевнул.
— Ты ему уже один раз помог, — сказал Окиал, подтаскивая друга к стене.
— Красивый грот! — отчетливо произнес Навболит, с видимым усилием раздирая слипающиеся веки. — Окиал! Какой красивый грот… Здесь должны водиться нимфочки… — Веки его окончательно сомкнулись, и он засопел.
Окиал посидел над ним, соображая, где именно в хижине Евмея оставил он свою мантию. Наконец обнаружил ее под стеной, возле аккуратно свернутых козьих шкур, забрал и укрыл Навболита, тщательно подоткнув с боков толстовязаную шерстяную материю. «Нимфочек тебе…» — пробормотал он, усмехнувшись, вернулся к устью грота и отогнул ветку.
Спящий продолжал спать возле груды тюков и драгоценной утвари. Совершенно непонятно — зачем одному человеку столько посуды. Если он торговец и это его товар, то кому он собирается продавать его здесь, на севере острова, в семидесяти стадиях от столицы? Скорее всего, это был просто пассажир, случайный попутчик — как и белобородый старец в грязном хитоне, сидевший поодаль.
Старец сидел неестественно прямо, держа на коленях свою деревянную лиру. Он бережно оглаживал и ощупывал инструмент и, казалось, весь был поглощен этим занятием, но сухое неподвижное лицо его было при этом обращено в сторону грота. Как будто он точно знал, что здесь? закрытый кустами терновника, есть грот, и что кто-то в нем прячется.
Окиал бесшумно выскользнул из кустов и быстро, почти бегом, зашагал влево, к началу тропы. Не оглядываясь. Только краем глаза следя.
А вот и учитель идет навстречу: застиранный до белизны хитон мелькнул между деревьями. Успею перехватить его за поворотом?
Что это он мантию не надел? Ему же, наверное, холодно!
И не идет, а стоит. Ждет.
Никогда учитель не стоял в такой позе: переплетя ноги и грациозно упершись локтем в ствол дерева.
Навболит так иногда стоял. Передразнивая Примнея.
Окиал миновал поворот и быстрыми шагами приблизился к нему. Тому, кто стоял в двух шагах от тропы, неуверенно поглядывая на Окиала из-под полуопущенных век. Не то ждал, не то уступал дорогу. Решай, мол, сам: остановиться или пройти мимо.
Окиал остановился.
— Спасибо, дружище! — Примней поднял на него глаза, расплел ноги и, мягко оттолкнувшись от дерева, шагнул на тропу. — Ну, вот и свиделись… Не рад?
— Рад, — сдержанно произнес Окиал. — Но я спешу, извини.
— Да, я знаю: вы дождались корабля. Феакийского корабля.
— Ты тоже видел его?
— Я следил за ним от самой Схерии. Вам нельзя всходить на него, Окиал. Ты понял? — спросил он, почему-то шепотом.
— Ничего я не понял, — сердито сказал Окиал. — Корабль идет в Схерию, так? Но ведь и нам нужно в Схерию!
— Этот корабль обречен, — быстро процедил Примней и оглянулся. — Обречен, понимаешь? И сам корабль, и все пятьдесят два гребца.
— Ты забыл, как называется наша школа, Примней. Мы — соперники Рока, ученики Тоона! И сам Тоон с нами.
— Ты дурак, Окиал, и всегда был дураком! Это тебе не Андикифера. Здесь они всемогущи.
— ВЫ всемогущи, — поправил Окиал.
— Ну, хорошо, мы! Мы всемогущи. Мы обрекли этот корабль. И сам Высокопрестольный дал Посейдону свое согласие.
— А люди об этом знают?
— Об этом знает вся Схерия, идиот!
— О том, что именно этот корабль?.. — уточнил Окиал, пропуская «идиота» мимо ушей.
— Да! То есть, нет… Они знают вообще. Они знают, что Посейдон на них гневается и что он вот-вот…
— Ах, «вот-вот»! Ну, он уже больше сорока лет «вот-вот».
— Ты зря иронизируешь, Окиал. Операция продумана до мелочей. Я, правда, не знаю всех деталей, но, уверяю тебя — на этот раз они учли все! Может быть, они учли даже наш с тобой разговор. Может быть — хотя я очень надеюсь, что это не так.
— Ладно, — сказал Окиал. — Я подумаю.
— Ты не передашь это учителю?
— Я подумаю.
— О чем?!
— Например, о том, почему именно я должен передать это учителю. Почему ты сам ему не сказал. И еще о том, как помочь обреченному кораблю. Если он обречен.
— Просто ты пришел первым. Я ждал учителя, но ты пришел первым. И это хорошо: учитель вряд ли стал бы меня слушать.
— Вот именно.
Примней вздохнул.
— Думай быстрее, — посоветовал он. — Ладно? И еще. Осмотри Медный перст — там… Впрочем, сам увидишь. А то получится, что ты вообразил по моей подсказке, а оно и вышло. Внимательно осмотри!
— Ладно. Это все?
— Все. Прощай.
— До свидания. — Окиал помедлил, но все-таки шагнул к нему и протянул руку. Зря, конечно… Нет, не зря: Примней назвал его другом и стремился помочь. Его наверняка использовали, но он вполне искренне стремился помочь. Предупредить. Отвратить то, что сам полагает неотвратимым… — До свиданья, друг! — повторил Окиал.
Лицо новоиспеченного бога дрогнуло, и он обеими руками ухватил протянутую ладонь. Окиал взвыл. Мысленно.
— Чуть не забыл, — зашептал Примней, ослабив олимпийскую хватку, но не отпуская руки. — Остерегайтесь аэда. Старый, плешивый, грязный. Слепой — если не притворяется. Ходит по Олимпу, как у себя дома. Допущен к самому Зевсу. Ревизует святилища. Останавливает время. Запанибрата с Гефестом… Не давайте ему петь, а еще лучше — порвите струны! Нечаянно, понимаешь?
— Глупости говоришь, — решительно заявил Окиал, высвободив руку и разминая онемевшие пальцы. — Все аэды допущены на Олимп…
— Он пьет нектар — я сам видел! Ганимед поднес ему полный кубок нектара, и он отпил!.. А впрочем, как знаете. Я вас предупредил, а вы — как знаете. Прощайте. Я буду рядом с вами. Я ничем больше не смогу вам помочь, но я буду рядом. До самого конца, каким бы он ни был…
Примней повернулся и пошел прочь. Ни сломанной веточки, ни примятой травинки там, где он только что был. Лишь с болью отходящая от нечеловеческого пожатия кисть напоминала о встрече.
Окиал вернулся на тропу и зашагал вверх по склону. Учитель уже спускался ему навстречу, издалека улыбаясь, неумело пряча за улыбкой озабоченность и тревогу. Он ведь еще не знает, что Навболит отделался испугом и дрыхнет в пещере — надо рассказать и успокоить. И надо быстро-быстро придумать, что и как поведать учителю о беседе с Примнеем. И поведать ли вообще.
Да, и корабль! Самая главная новость: феакийский корабль, который доставит их прямо в Схерию!
ЗАГОВОР ЛЮДЕЙ
Корпус радиобуя, покрытый снаружи тонкими пластинами селеновых батарей, был бронзовый, цельнолитой, с одним-единственным углублением — узким прямоугольным пазом для печатной платы, задающей частотную модуляцию сигнала. Даже штырьки антенн с фарфоровыми изоляционными прокладками у основания были намертво вплавлены в вершинах бронзового многогранника, а монтаж внутренней схемы был раз и навсегда произведен методом нуль-сборки. Больше Демодок о нем ничего не знал. К счастью.
Ни Тоона, ни сопровождавшего его ученика — юношу по имени Окиал — радиобуй сколько-нибудь серьезно не заинтересовал. Кто-то из них (скорее всего, Окиал) щелкнул клавишей, помедлил две-три секунды и с тем же щелчком задвинул печатную плату на место — вот и все. Против доставки радиобуя на Андикиферу они, впрочем, не возражали. И на том спасибо. Двое гребцов — после того, как Демодок убедил кормчего, что этот металлический еж не имеет никакого отношения к святилищу, — перетащили его на корабль. Там он теперь и лежал, надежно принайтовленный за штыри антенн, — на самой корме, под примитивным гироскопическим устройством.
Гораздо больший интерес вызвало у Окиала само святилище — шлюп-антиграв, обглоданный квазиреальностью этого мира. Юноша, видимо, сразу почувствовал в нем нечто необычайное, нечто не от мира своего и, получив разрешение Тоона, немедленно вскарабкался на борт — к шумному неудовольствию кормчего, который стал поносить его за святотатство.
До сих пор все шло так, как посоветовал морскому владыке Зевс. Было жаркое солнце, припекавшее Демодоку лысину, был ровный попутный ветер, довольно редкий для этого времени года, была неспешная уважительная беседа между Тооном и постепенно разговорившимся кормчим, человеком набожным и подозрительным. Поначалу он ни в какую не хотел брать незнакомца на борт, ссылаясь на некие неблагоприятные знамения в небе. Но Тоон и сам, к удивлению Демодока, оказался неплохим авгуром — толкователем воли богов по поведению птиц. Он быстро запутал кормчего, доказав, что знамения, которые тот наблюдал, могут обозначать прямо противоположные вещи, а следовательно, ничего не обозначают, — и тут же предложил провести новое гадание, теперь уже наверняка. В результате оказалось, что для благополучного исхода плавания Акронею просто-таки необходимо взять на борт трех пассажиров. Тоон уже послал было Окиала за вторым своим учеником, но тут выяснилось, что Демодок тоже намерен вернуться в Схерию. Вместе с Тооном и Окиалом получалось как раз трое, а набожный кормчий решительно высказался за кандидатуру любимца муз.
Жаркое солнце, попутный ветер, беседа… Все очень точно соответствовало словам Зевса, и присутствие аэда нисколько не нарушало предначертанного хода событий. А может быть, и более того — являлось необходимой частью предначертаний, не до конца открытых певцу. Одно утешало: до северной оконечности Лефкаса они добрались без приключений, и осторожный кормчий решил остановиться здесь до утра. Если месть Посейдона свершится, то произойдет это на последнем сорокамильном отрезке пути. Впереди целая ночь, и есть еще время попытаться отговорить Тоона…
— Эх, Навболита бы сюда! — воскликнул Окиал, когда кормчий отошел достаточно далеко от шлюпа.
— Зачем? — сейчас же спросил Тоон.
— Странный колодец, — ответил юноша. — Не могу понять, какая у него глубина. На два моих роста вниз что-то вроде ступеней, а дальше — просто дыра. Ничто… Но перед этим ничто — нечто…
— Не вздумай спускаться! — предостерегающе сказал Тоон.
— Ну что ты, учитель, я сам боюсь. Хотя сорваться там, кажется, просто невозможно. Некуда падать, понимаешь?
— Не очень.
— Вот и я не понимаю. Такого просто не может быть: чтобы дыра — и некуда падать. Это… невообразимо.
Демодок слушал их, машинально поворачиваясь на голоса, и пытался представить, во что же превратилась под воздействием многих и многих воображений мембрана донного люка с односторонней проницаемостью. Когда-то она служила для запуска глубинных зондов одноразового использования. Узкие металлические сигары приходилось продавливать через нее гидроманипуляторами. Но однажды Дима отправил зонд без всякой гидравлики. Размахнулся как следует и пробил. На спор. За что и проторчал пару суток на камбузе, заодно освежая в памяти многочисленные инструкции по уходу за матчастью и правила эксплуатации научного оборудования шлюпа. «Вот хорошо, — приговаривал Юрий Глебович, неторопливо копаясь в электронных потрохах стюарда. — Вот замечательно! Давно собирался устроить ему профилактику — да заменить некем было… В следующий раз буду уборщика ремонтировать, имей в виду!»…
— Навболит бы прыгнул и посмотрел, — сказал юноша.
— И остался бы там, — возразил Тоон. — Из Аида не возвращаются, Окиал.
— Ничего, я бы его вернул.
— Сомневаюсь. Поэтому отойди от края. Тем более, что тебя — некому будет вернуть…
Это верно, подумал Демодок. Если проницаемость мембраны увеличить хотя бы вдвое, это был бы замечательный вход в Аид. Вход без выхода…
И вдруг он поймал на себе пристальный взгляд Окиала. Прищуренный, изучающий, острый. Это было совсем как несколько часов назад в Форкинской бухте: Демодоку опять показалось, что он прозрел. Как и тогда, это через несколько секунд кончилось, и Демодок погрузился в привычную земную тьму, так и не увидев ничего, кроме юного бородатого лица с недобрым прищуром.
А Тоон вдруг захохотал. Взахлеб, как-то не по-настоящему, натужно выдавливая смех вместе с кашлем, но с явным облегчением.
— Прости меня, славный аэд, — сказал он наконец, оборвав смех, и Демодок почувствовал на плече прикосновение его большой теплой ладони. — Кажется, мой ученик заподозрил тебя в притворстве, и это доставило тебе несколько неприятных мгновений… Окиал, я прошу тебя: отойди от колодца! Неужели во всем святилище нет ничего более интересного?.. Прости, я не запомнил твоего имени, аэд.
— Демодок, — сказал Демодок. — Меня зовут Демодок, и я действительно притворяюсь. Твой ученик не ошибся, Тоон. Вот уже сорок лет я притворяюсь человеком этого мира.
— Потом, — мягко прервал его Тоон, сжав пальцы у него на плече. — Потом поговорим, Демодок.
— Не верь ему, учитель! — отчаянно крикнул юноша. — Он не тот, за кого выдает себя!
— Окиал, — спокойно сказал Тоон, — ты хорошо помнишь, как следует возжигать огонь и приносить жертву? Ты ничего не перепутаешь, если мы отойдем и я не буду тебе подсказывать?
— Мне ничего не надо подсказывать, но я не могу оставить тебя одного! Я не затем отправился с тобой, чтобы оставлять тебя одного!
— Я не останусь один, — возразил Тоон. — Мы будем вдвоем с аэдом.
— Он такой же аэд, как мы — авгуры!
— Мы будем вдвоем с аэдом, — не повышая голоса, повторил Тоон. — Ты закончишь дело, за которое взялся, и, если захочешь, присоединишься к нам.
— Юноша прав, Тоон, — проговорил Демодок, мучительно вглядываясь в недоброе и отчаянное лицо, которое опять маячило перед ним, куда бы он ни повернул голову. — Юноша прав: я такой же аэд, как вы с ним — авгуры. Ты, может быть, не поверишь, но там, в моем мире…
— Я догадываюсь, — мягко сказал Тоон. — Не надо об этом сейчас, славный аэд. Сейчас и здесь… Окиал, мы будем ждать тебя вон под теми деревьями. Поторопись, если хочешь узнать нечто, по-моему, интересное.
— Хорошо, учитель, — буркнул юноша. — Тебе вид… Ладно. Я быстро. — Лицо его пропало, и опять наступила тьма.
— Позволь, я понесу твой инструмент, Демодок, — сказал Тоон, и Демодок послушно отдал ему лиру. — Держись за мой локоть, вот так. Дорога ровная, не бойся споткнуться. Сейчас мы уединимся, и ты расскажешь мне о своем мире все, что сочтешь возможным рассказать.
— Это не так просто, — проговорил Демодок, держась за его локоть и с привычной осторожностью переставляя ноги по вязкому сухому песку. — Боюсь, мне не хватит слов, чтобы рассказать все. Мой мир слишком отличен от твоего…
— Естественно, — перебил Тоон. — Нет и не может быть двух похожих миров, как нет и не может быть двух похожих людей. Каждый человек живет в своем мире, хотя каждый в меру сил и способностей притворяется, что это не так. В этом нет ничего дурного. Наоборот: нетерпимость к чужим мирам, желание утвердить свой мир в качестве единственного и непогрешимого образца чреваты хаосом. Кровавым хаосом… Терпимость, или, как ты ее называешь, притворство — основа стабильности человеческого сообщества. Но чрезмерная терпимость приводит к чрезмерной стабильности, к неподвижности мысли, к стереотипам — и в конце концов оборачивается очередной тиранией. Тоже кровавой… Идеально, чтобы у каждого человека были свой мир и свой бог, и чтобы миры не враждовали друг с другом. Не знаю, достижим ли такой идеал, но, право же, он стоит того, чтобы к нему стремиться. Вот почему мне интересен любой новый мир, как бы ни был он необычен и не похож на мой собственный…
— Этому ты и учишь в своей школе? — спросил Демодок.
— Да, — засмеялся Тоон. — Извини, славный аэд. Я так привык читать лекции, что и с тобой начал говорить, как учитель с учеником, а не как равный с равным… Ну, вот мы и пришли. Здесь мы одни, и нас никто не услышит. Позволь, я помогу тебе сесть… Я слушаю тебя, Демодок. Расскажи мне о своем мире и о своем боге. Может быть, тебе нужен для этого инструмент? Возьми его. Ведь ты — аэд.
Демодок принял лиру и положил ее рядом с собой на траву. Такого оборота дел он не ожидал и не был готов к нему. Тоон явно смотрел на него как на любопытный клинический случай — и был по-своему прав. Он был аборигеном своего мира, Тоон. Своего квазимира, населенного богами и чудовищами. Ну как, в самом деле, растолковать ему понятие объективной реальности, данной нам в ощущениях? «Кем данной?» — сразу спросил бы он и опять-таки был бы прав. По-своему прав — в своем мире…
— Инструмент мне не нужен, — сказал наконец Демодок. — Я прескверно играю и прескверно пою, но никто кроме меня самого не догадывается об этом. Сорок лет назад, в моем мире было наоборот: всем, кроме меня, было ясно, что я не умею петь. Но петь я любил, воображением бог меня не обидел — вот я и пел. И часто воображал себя звездой эстрады.
— Кем?
— Славным аэдом, — поправился Демодок. — Вот видишь, уже не хватает слов. Это ведь совсем разные вещи: славный аэд — это одно, а… Да. Но я не с того начал. Надо, наверное, рассказать, как я появился в этом мире.
— Разве не все появляются в нем одинаково?
— Опять не то слово. Ну, скажем, не появился, а прибыл. Мне было двадцать лет, когда я прибыл сюда.
— Сюда… На этот остров?
— Да. — Демодок решил пока не уточнять. — Я прибыл сюда на… корабле. Ты видел его только что — вот уже сорок лет, как он торчит здесь. Все называли его святилищем, и он стал святилищем — таков уж твой мир, Тоон… А сорок лет назад это святилище было моим кораблем. Я не смогу объяснить тебе, как он летал, потому что совершенно не разбираюсь в антигравах…
— В чем?
— Неважно. В устройстве моего корабля, когда он был кораблем… Нет, так у нас тоже ничего не получится. Может быть, ты будешь задавать вопросы, а я отвечать?
— Давай попробуем, — терпеливо сказал Тоон. — Сорок лет назад ты прибыл на этот остров. Откуда?
— Из другого мира.
— Из другой страны?
— Нет, из другого мира. Мы называем его первичным. А еще — действительным. Он отделен от вашего не тысячами стадий, а тысячами лет. И не только ими.
— Я понимаю. Рано или поздно все дети покидают свой первичный мир, и как правило — навсегда. Воображенным оружием можно убить, но воображаемой пищей нельзя насытиться. Приходится считаться с существованием иных миров, чтобы, не мешая соседям, возделывать свои поля… Ты покинул свой первичный мир двадцати лет от роду — поздновато, хотя бывает и позже. Но где же ты жил, пока не ушел из него? В какой земле?
— В Томской области, — отчаявшись, сказал Демодок.
— Где это?
— Далеко. Далеко и долго. Сорок тысяч стадий и почти три тысячи лет отсюда. И около полутора тысяч ассоциативных сфер. По крайней мере, зарегистрированных.
— Не понимаю, — терпеливо сказал Тоон.
— Конечно, не понимаешь. И вряд ли поймешь, хотя я точно ответил на твой вопрос.
— Это не так трудно, как кажется поначалу, — сказал Тоон, и Демодок опять ощутил на плече мягкое прикосновение его ладони. — Есть вещи, неизменные в любых мирах. День и ночь. Голод и жажда. Любовь и ненависть… Правда, есть люди, которые не умеют любить — или думают, что не умеют. Но людей, не способных к пониманию, я еще не встречал. Давай поговорим о том, что сближает наши миры, а не о том, что их разделяет.
— «А у вас негров линчуют!» — сказал Демодок, усмехнувшись. И, ощутив недоумение собеседника, пояснил: — Была когда-то такая поговорка. То есть, будет. Ритуальная фраза, означающая, что понимание не достигнуто.
Эту поговорку Юрий Глебович привез из своего дипломного заброса в семнадцатую ассоциативную сферу. Открытая на заре квазинавтики, эта сфера не содержала в себе ни одного населенного квазимира. Сотни сотен безлюдных Земель с разрушенными озоновыми слоями атмосфер, домертва выжженные космическими лучами и искусственной радиацией; гигантские цирки кратеров, за оплавленными кольцевыми стенами которых угадывались останки мегаполисов; действующие вулканы на месте крупнейших атомных энергостанций реального прошлого… Совершенно невозможные миры, называемые почему-то «вероятностными». И обрывки газет с малоинформативными и алогичными текстами, найденные в подземном нужнике на окраине одного из мегаполисов Восточной Европы. Там и была обнаружена эта фраза, завершившая, по всей видимости, некий дипломатический раут…
— Хорошо, — сказал Демодок. — Давай говорить о том, что сближает нас. Не о мирах. О целях. Я хочу вернуться в свой мир и полагаю, что ты в состоянии помочь мне. Для этого тебе не нужно пытаться понять мой мир. Достаточно выжить и, выжив, доставить меня на Андикиферу.
— Выжить? Но разве кто-то…
— Да. Посейдон выпросил у Громовержца твою жизнь и жизни всех пятидесяти двух гребцов.
— Значит, Схерия все еще помнит пророчество своего безумца. Помнит, боится и ждет… Этим-то и сильны боги — нашим покорным страху воображением. И вот уже названы сроки, намечены жертвы. Быть может, и способ расправы определен? Что говорил об этом прорицатель?
— Боюсь, ты не понял меня, Тоон. Не было никаких новых пророчеств. Просто я пел во дворце Алкиноя и слышал сговор богов. Но я никогда не пою все, что слышу из уст олимпийцев. Да и слышал я мало — лишь то, что боги пожелали открыть.
— Скорее — лишь то, что они сумели придумать, — возразил Тоон. — Тогда все гораздо проще. И в то же время сложнее: нам самим предоставлено выбрать свою судьбу. Предполагается, что мы окажемся слабее собственных страхов. Но — боги предполагают, а люди располагают. Даже если не догадываются об этом. Как-нибудь одолеем эти четыреста стадий.
— Стоит ли рисковать? — неуверенно сказал Демодок. — Так ли уж нужно тебе в Схерию? Дождемся другого корабля и отправимся сразу на Андикиферу…
— Риска почти нет: нас только двое, знающих планы богов. Маловато для явления столь представительного олимпийца, как Посейдон. Риска не было бы совсем, если бы ты не рассказал мне об этих планах. Или если бы я постарался забыть наш разговор. Но как я могу забыть, что ты нуждаешься в моей помощи и тоже стремишься в свой мир, где родился и провел свои лучшие годы?
СЛУЖИТЕЛЬ МЕДНОГО ПЕРСТА
Золотые руки оказались у этого юноши, и разбирался он не только в возжигании жертвенного огня! Такому — если для дела надо — не стыдно и свои собственные плечи подставить. Что Акроней и проделал, не раздумывая. Пусть видят, лентяи, что кормчий уважает настоящих работников — и только их! Не часто нынче встретишь такого мастера, который может, из ничего соорудив настоящий кузнечный горн, в какие-нибудь полчаса расплавить и (тут же, на плоском камне!) снова выковать бронзовое кольцо для Перста. Да так точно, словно и не было в кольце никакой трещины, словно и не вытаскивали его из дубовой рамы, а лишь в порядке рутинной профилактики сменили в нем истершуюся кожаную прокладку… Ничего, что масло капнуло на хитон, не жалко. Хоть оно и черное, и пованивает — плевать, не жалко. Это он хорошо придумал: пропитать прокладки земляным маслом вместо оливкового. И ведь нашел где-то земляное масло, в таком тумане…
— Ну, вот и все, можно раскручивать! — Окиал спрыгнул с плеч кормчего на палубу, подобрал кусок чистой ветоши и стал тщательно вытирать ею руки.
Акроней кивнул, с уважением глядя на черные от въевшейся копоти, божественно ловкие пальцы своего пассажира, и снова задрал голову. Массивный медный диск Перста лениво вращался, поблескивая осевшими на ободе капельками тумана, легко и бесшумно скользя отполированной осью в бронзовых кольцах гнезд. Акроней поднял багор, уперся им во внешнюю, вертикальную раму и несильно нажал, преодолевая инерцию. Рама слегка повернулась на вертикальных полуосях, и Перст, все так же беззвучно, не замедлив вращения, изменил наклон. Кормчий одобрительно хмыкнул: все было правильно.
— Ну?! — рявкнул он, поворачиваясь к торчащим из тумана головам гребцов и отыскивая глазами нерадивых. — Так и будем прятаться? За работу, лентяи!
Лентяи (в количестве четырех человек), провожаемые пинками и гоготом, встали, послушно выбрались из толпы и захромали к кораблю, на ходу жалобно кривясь и хватаясь руками за задницы. Акроней ухмыльнулся. Ничего, переморщатся. Не так уж сильно им и досталось — по-хорошему-то надо было часа три вымачивать розги в морской воде. В следующий раз будут тщательней осматривать Медный Перст перед отплытием… Морщатся они! А если бы юноша не заинтересовался устройством Перста (который, между прочим, в первый раз видит)? Не пришлось бы вам тогда морщиться — не было б чем!
Туман ближе к утру стал еще гуще, но вершина скалы Итапетра по-прежнему остро маячила наверху, и этого было вполне достаточно, чтобы снова направить Медный Перст так, как надо. Точно на юг Нотовым концом оси и точно на север — Бореевым. И чтобы Бореева планка внутренней рамы была на два локтя выше Нотовой.
Еще вчера, подводя корабль к мысу, Акроней направил его так, чтобы выброситься на берег в створе с вершиной скалы и источником. С тем местом, где был когда-то источник, а теперь стояло святилище, выполненное кем-то в виде большой толстой рыбы с задранным кверху хвостом. «Корма», — назвал этот хвост Окиал. А что, очень похоже на корму… Хотя, если уж и сравнивать святилище с кораблем — то только с торговым. Да и то они, пожалуй, не такие широкие. И раз в пять меньше. А в остальном — похоже. И даже пустое внутри, как настоящий корабль, только Окиал говорит, что там не трюм, а лабиринт — как в Оракуле Мертвых, но под крышей (или палубой?) и не такой сложный. Всего несколько переходов и тупиков, закрытых тяжелыми дверями, которые, однако, вполне можно открыть, если постараться. А закрываются они сами, с ужасным грохотом, но потом их опять открыть можно.
Гребцы даже перепугались, когда впервые услыхали вчера этот грохот. Ну и Акроней, конечно, тоже забеспокоился. Потому что смотрит: где юноша? Нет юноши. Огонь под треножником горит, а юноши нет. И опять грохот.
Впрочем, жертвенный дым ровной струей поднимался к ясному небу, и огонь под треножником не трещал и не разбрасывал искры: боги благосклонно принимали все, что им было предложено. И Акроней почти успокоился. А потом и совсем успокоился, когда Окиал по плечи вынырнул из колодца и крикнул, чтобы не пугались: это он, мол, там грохает — дверями, в лабиринте святилища. Сейчас он еще раз пройдет лабиринт — теперь уже до конца — и вернется. Юноша прошел и вернулся. Но о том, что он узнал в конце громыхавшего лабиринта, не стал рассказывать. Значит, нельзя. Значит, не всякое любопытство должно быть удовлетворяемо…
Любопытство — вот чего с избытком хватало в характере юноши. С большим избытком. Акроней даже сказал бы: с опасно большим избытком, — если бы не видел, что любопытство это было особого рода — несуетливое и деловитое. И какое-то всегда настороже.
Вот благодаря этой последней особенности своего любопытства Окиал и услышал то, чего другие просто не замечали. Услышал и спросил Акронея, всегда ли должны раздаваться такие щелчки, когда начинают раскручивать Медный Перст. Кормчий не успел не то что ответить — осмыслить его вопрос не успел (какие такие щелчки? где щелчки?), а юноша уже был на корме, у Нотова гнезда оси, и прислушивался, наклонив к нему голову. А потом выхватил откуда-то из-под хитона сразу два ножа и одновременно полоснул ими по обоим ремням. Гребцы, тянувшие ремни в разные стороны и уже переходившие с быстрого шага на бег; попадали на песок, в туман, а юноша резко сдавил тормозные колодки так, что черный дым, извиваясь, пополз из-под них и даже на берегу запахло гарью.
Пока Акроней, опомнившись, карабкался на борт и бежал, запинаясь за весла, к корме, еще не зная: оторвать ли щенку голову или просто разложить его на палубе и отъездить багром по мягкому, Окиал вдумчиво («мыслитель!») сколупывал с Нотова гнезда грязь и нагоревшее масло. А дождавшись запыхавшегося от одышки и злости кормчего, только что носом не ткнул его в трещину на кольце. Да-а…
Четверо лентяев закончили наконец наматывать на ось длинный, заново сшитый на порезах ремень и, спрыгнув на берег, протянули концы в разные стороны от корабля. Пока Акроней направлял Перст и заклинивал рамы поворотами дубовых обитых кожей эксцентриков, дюжина гребцов разобралась на две группы. Тройки самых сильных уже держали концы, ожидая команду, тройки самых быстрых стояли на подхвате. Акроней установил на корме бортовые блоки: левобортовой ниже, правобортовой выше, — так, чтобы ремень, когда натянется между блоками, не задевал ни ось Перста, ни внутреннюю раму. Перекинул концы через эти блоки и крикнул гребцам, чтобы ослабили хватку. Когда ремни провисли, кормчий кивнул Окиалу на нос корабля: нечего больше торчать здесь, на корме, да и видел он уже все это пару часов назад. Осторожно отпустив тормозные колодки, Акроней неторопливо прошел следом за юношей, вместе с ним спустился на берег, отвел на безопасное расстояние и дал команду.
Нехотя, потом все быстрее завертелся диск. Сильные тройки, сделав по десятку все ускоряющихся шагов, перешли на бег. Щелчков не было.
Быстрые тройки на бегу подхватили ремни — без рывка, мягко, как надо. Кормчий настороженно прислушивался. Щелчков не было.
Быстрые тройки уже пробежали по двадцать шагов, когда наконец появился звук. Нормальный звук — Акроней успокаивающе похлопал юношу по спине, когда тот вопросительно посмотрел на него. Свист. И даже не свист, а шелест, но сейчас будет свист… Есть. Часа три вот так посвистит, пока не замедлит вращение.
На тридцати пяти примерно шагах тройки резко остановились, и раздался хлопок: ремень, легко соскользнув с оси, натянулся между блоками. Порядок.
Правая тройка, не теряя времени, стала сматывать свой конец в бухту, левая помалу вытравливала. Незанятые гребцы зашевелились на берегу, поднялись, вырастая из тумана, потянулись группами и цепочками к кораблю, обступая борта.
Понимают, ленивцы, что время дорого! Как-никак, два часа потеряно, а ветер хоть и слабый, да встречный. Но спешка нужна будет потом, в море. Может быть, даже придется пощелкать бичом над спинами нерадивых. Для их же пользы — чтобы к вечеру смогли увидеть берега Схерии и ночью жаловаться женам на жестокого кормчего, показывая им рубцы на спинах. А четверо из обслуги Перста — на ягодицах. Каждому свое… Впрочем, ветер к полудню может перемениться (почему бы и нет? Посейдон милостив, полсотни лет не вспоминает об обещанной мести), но это вряд ли. Акроней потянул носом воздух и последний раз глянул на Итапетру. Ох, вряд ли — хотя парус, как всегда, наготове.
На самый же крайний случай — если Нот вообще не проснется, а Борей задышит сильнее, — на этот случай Акронею известна хорошая бухта на юге Схерии. Заночевать придется там, а в столицу двинемся поутру, вдоль берега. Три часа на веслах…
Все это Акроней додумывал, стоя уже на корме, отжав эксцентрики и зычно подавая команды гребцам. Нос корабля рывками сползал с берега, все вокруг скрипело и дергалось, и лишь Медный Перст, Всегда Обращенный к Полярной Звезде, был обращен к ней и ровно свистел на пронзительной ноте. Судно закачалось на мелких прибрежных волнах, гребцы полезли из воды, переваливаясь через борта и разбирая весла. Двое задержались на берегу, чтобы на руках перенести слепого аэда. Окиал со старым Тооном были уже на борту.
Носовые гребцы уперлись веслами в дно, и судно, отойдя от берега, словно рухнуло вниз, погрузившись в белесую мглу. Ох и туман! Ничего не видать в тумане, кроме Перста да силуэтов ближайших пяти пар гребцов! Ну да кроме Перста ничего и не надо видеть феакийскому кормчему.
— Правым бортом табань, левым греби! — протяжно скомандовал Акроней. — И-р-раз!.. И-р-раз!..
Медный Перст, плавно увлекая за собой вертикальную раму, поворачивался Бореевым — высоким — концом к невидимому носу корабля. На самом деле, конечно, поворачивался корабль. Но об этом говорили Акронею опыт и знание, а чувства — чувства нашептывали другое. Они шептали, что Схерия все еще за кормой, и весьма неохотно воспринимали доводы разума… Гребцам проще: они верят своему кормчему. А кормчий должен верить не себе, а вот этой штуке…
— Суши весла!
Бореев конец оси уже указывал точно на нос корабля. Значит, прямо по курсу был островок Эя — обиталище волшебницы Кирки. Вздорная баба: влюбляет в себя почтенных мужей и превращает их в бессловесный скот. Не стоит без нужды навещать ее остров — даже на малое время не стоит, лучше обойти стороной… Акроней дождался, пока корабль по инерции повернулся еще немного — так, чтобы ось указала на левую якорную площадку, — и, опустив кормовое весло, дал команду гребцам. Грянула песня, вскипели под веслами волны, и судно рванулось, взрезая собою туман. Чуть на восток — между островом Эя и устьем реки Ахерон.
ВУЛКАН НА ЛЕМНОСЕ
Море окончательно очистилось от тумана, и Окиал понял, что пролив остался далеко позади. Вершина Эй маячила мутным зеленым пятном за кормой слева. Гребцы уже вошли в ритм и работали молча; судно почти бесшумно скользило по длинным пологим валам. Даже Перст уже не свистел, успев заметно снизить свои обороты.
Аэд сочинил свою мелодию и откашлялся, видимо, готовясь запеть. Окиал оглянулся. В лице слепого он увидел все ту же гордую отрешенность человека, идущего навстречу опасности. Окиал отвернулся и стал незаметно ощупывать отполированные грани ежа. Узкая щель оказалась в очень удобном месте: над самой палубой, на той грани, что была обращена к корме. Гребцы не могли видеть ее, а от случайного взгляда кормчего Окиал закрыл щель ладонью. Большим пальцем он осторожно нащупал упругий выступ, дождался первого аккорда и нажал. С неслышным щелчком пластина скользнула ему в ладонь и полетела за борт.
Стараясь не прислушиваться к словам странной песни аэда (не то благодарственного, не то издевательского гимна морскому богу), Окиал детально припомнил расположение лабиринта. Нужный ему тупичок, тесно заставленный ржавыми ящиками, был в центре святилища по правому борту, если считать, что треножник стоит на корме. Вдоль короткой стены тупичка лежали рядком еще четыре ежа, и щели на их верхних гранях были пусты. А в ящиках было полно пластин — но не гладких, как та, что сейчас полетела за борт, а покрытых каплеобразными оловянными выступами. Нащупав крайний от входа ящик, Окиал взял одну из пластин и попытался засунуть в щель. Пластина оказалась слишком велика и не лезла. Он вернул ее на место и взял другую, из соседнего ящика. Тоже не то…
Аэд заливался соловьем, расписывая могущество Посейдона, обремененного многими заботами и обязанностями; и со всеми-то он справляется, и всегда-то он на высоте, и как он великодушен и незлопамятен. Вот видите: только что был туман — и уже нет тумана! Это он, колебатель земли, разогнал его своим златоклыким трезубцем. А сейчас, завершив свой нелегкий труд, Посейдон сидит в кузнице у Гефеста, вкушая дым вчерашних жертвоприношений, а юная харита — новая жена хромого бога — едва успевает менять на столе перед ним кубки с холодным нектаром: великая жажда мучает Посейдона после вчерашнего пиршества на Олимпе, когда хватил он подряд пять огромных кратер, наполненных лучшим феакийским вином, и сам Дионис отказался повторить этот подвиг, признав свое поражение. Вот почему неверна оказалась рука Посейдона, вот почему отделен от древка златоклыкий трезубец, погнутый могучим ударом о подводные камни. Вот почему торопит Гефест золотого слугу, который вчера поленился нажечь углей для горна и сейчас, весь в оливковом масле от усердия и торопливости, хлопочет в дальнем углу пещеры. Черный дым истекает из вершины горы на Лемносе и оседает на волны Эгейского моря: это золотолобый слуга усердно жжет угли для Гефестова горна.
— А может быть, хватит? — спросил Посейдон, отдуваясь и стирая с чела проступивший пот. — Работы-то всего ничего, пару раз стукнуть.
— А может быть, ты сам поработаешь? Вот молот, вот наковальня — возьми да стукни, — огрызнулся Гефест, скептически разглядывая трезубец и пробуя пальцем затупленные острия. — И дернул тебя Демодок так шваркнуть об дно!
— Это точно, — сказал Посейдон. — Дернул. Демодок. Говорил же я Зевсу: вознесем его на Олимп — и все дела. Так ведь…
— Скорее я соглашусь стать человеком, чем Демодок — богом, — хмыкнул Гефест.
— И станешь, — пригрозил Посейдон. — Вот еще немного проканителишься — и станешь. И согласия не потребуется…
— Аж лезвия переплелись, — возвысил голос Гефест, делая вид, что не расслышал угрозу. — Это же уметь надо — так шваркнуть… Э, э! Ты куда?
— Схожу посмотрю: может, и правда, уже хватит углей? А если нет, так дам пару раз по шее твоему слуге. Уж больно он у тебя нерасторопен.
— Дельфинами своими командуй! Я в твои дела не суюсь — и ты у меня не хозяйничай. «По шее»… — Гефест непочтительно отшвырнул трезубец на наковальню и захромал в дальний угол пещеры, а Посейдон, удовлетворенно хохотнув, опять повалился в кресло…
Окиал мотнул головой, отгоняя наваждение. Здорово поет. Стоит немного забыться — и уже не столько слышны слова, сколько видны закопченные стены кузницы, мятущиеся по ним тени и отблески от чадящих светильников, дубовая с толстенной медной плитой наковальня и груда инструментов на земляном полу рядом, вызывающая зависть и нетерпеливое — до зуда в руках — желание перебрать, осмотреть, ощупать, разложить в идеальном порядке и начать пользоваться… И нестерпимый жар, исходящий из дальнего угла кузницы, где копошится этот самый… как его… золотолобый, и куда поспешно хромает Гефест, недовольно ворча и на ходу что-то придумывая. И сам Посейдон, вальяжно развалившийся в кресле: сухое, чуть обрюзгшее лицо утонченного хама, привыкшего к величальным эпитетам снизу и подобострастно принимающего пинки сверху (а сверху-то никого, кроме Громовержца и его бабы — можно жить!), а еще прозрачные до пронзительной жути глаза, и белоснежная, тонко шитая золотым узором туника — небрежными складками на груди.
И все это — в нескольких протяжных и мерных строках гекзаметра! Плюс, конечно, мелодия… Да сколько же там этих ящиков, и скоро ли я нашарю нужный? С другого конца начать?
Это было правильное решение: уже во втором ящике с другого конца оказалось всего три… нет, четыре пластины. Да, четыре. И четыре ежа рядком — значит, все правильно. Они. Ну, сейчас что-то будет… Окиал взял одну из четырех пластин, и она сразу, с легким щелчком, встала на место.
И ничего не случилось.
Немного подождав, он снова нажал на выступ, вернул пластину в ящик и взял другую. Легкий щелчок, и… Опять ничего. Он вернул на место и эту пластину, и уже собрался взять третью, но, подумав, зарядил один из ежей, стоявших там, в тупичке. Тоже ничего… может быть, для каждого ежа — своя пластина? Окиал перепробовал оставшиеся три ежа. Гм…
А что вообще должно быть? Может, ничего и не должно быть? Но ведь не просто же так он хлопотал вокруг своего груза, суетился, ощупывал, торопил, вслепую помогал гребцам тащить и привязывать. Что-то должно быть, чего-то он от них ждет…
Может быть, не сразу, может быть, необходимо время?
Окиал рассовал все четыре пластины по щелям ежей, оставив незаряженным один в тупичке святилища, и стал ждать. Чего именно — об этом он старался не думать, чтобы не мешать естественному ходу событий. И, чтобы отвлечься, он стал слушать песню.
— Пережег, балда! — трагическим голосом возопил Гефест. — В переплавку тебя! На ложки!
Посейдон уловил фальшь в голосе мастера, хищно подобрался и, прекратив шашни с его супругой, устремил свой водянистый, до жути прозрачный взор в багровую тьму пещеры. Золотолобый болван стоял навытяжку, недоуменно помигивая рубиновым глазом, а Гефест яростно плевался, топал ногами, сотрясая гору, изо всех сил дул в разбушевавшееся пламя.
— Ну вот что, племянничек… — с угрожающей лаской протянул Посейдон. — Я вижу, слуга твой мало что смыслит в кузнечном деле. Давай-ка я сам тебе помогу! — Он небрежным жестом руки отстранил Гефеста (а тот неожиданно легко повиновался, не то хмурясь, не то ухмыляясь в бороду) и бросил свое оружие в жар, в гудящее пламя. — Время дорого, — объяснил он, улыбаясь в лицо мастеру. — А здесь мой трезубец раскалится не хуже, чем в горне… Или я чего-нибудь не понимаю?
— Не понимаешь, дядя, — согласился Гефест, сделав заведомо безуспешную попытку выхватить из огня трезубец и тряся обожженными пальцами. — Ничего ты не понимаешь в моей работе. Гляди, что натворил! — и он указал на бесформенный пузырящийся комок золота, который, шипя, растекался кляксой по каменным плитам пола. — Теперь новый трезубец ковать — на полдня работы. Только сначала углей нажечь надо…
— Так… — сказал Посейдон, помолчал и вернулся к столу. Гефест, таща за руку болвана, заковылял следом. — Чего ты добиваешься, племянник? Зачем ты хочешь меня огорчить?
— Я тебе, дядя, наоборот, угодить стараюсь, — хмуро сказал Гефест. — Заказ выполнить. А ты меня торопишь. А я, когда тороплюсь, нервничаю. И он, — Гефест кивнул на слугу, — тоже нервничать начинает. Вот и пережег уголь… Ты бы меня не торопил, а, дядя? И все будет в лучшем виде. Тебе трезубец к какому времени нужен? К утру? К вечеру? Ты скажи! Будет.
— К полудню, — сказал Посейдон.
— Вот завтра в полдень и приходи. Будет.
— Сегодня к полудню, — уточнил Посейдон.
— Это уже труднее… — проговорил Гефест. Сложил руки на груди и наклонил голову набок, словно к чему-то прислушиваясь. — Гораздо труднее, — повторил он. — Но, если мешать не станешь, то, может быть, справлюсь.
— За полчаса?
— А что, всего полчаса осталось?
Посейдон помолчал, все так же ласково глядя ему в лицо.
— Нет, не выйдет! — решительно сказал Гефест. — Ну, что ты… Это же еще угли нажечь.» Вот если три часа дашь… — неуверенно сказал он.
— Полтора! — Посейдон поднялся, с величавой брезгливостью оглядывая свою тунику.
— Может, тебе одежонку какую? — засуетился Гефест. — Я быстро, туда-сюда… Ишь, как тебя извозило…
— Предпочитаю свою. Значит, полтора часа.
— Ох, не знаю… Постараюсь, конечно, но… И куда такая спешка? Ладно, смертные торопятся — их можно понять, но ты, дядя, у кого позади и впереди — вечность…
— Забот много, — сказал Посейдон. — Вечных забот. И все — неотложные.
— И что за заботы такие, что вот вынь ему да положь трезубец? — пряча глаза, забормотал Гефест. — Или пучины морские долго жить прикажут, если чуть обождать… Тоже ведь, поди, вечны — пучины-то…
— Мои заботы, племянник. Мои!.. Тебе, — Посейдон радушно осклабился, — я больше мешать не буду.
— Понял, — быстро сказал Гефест. — Через два часа приходи.
Уже подойдя к скалистому обрыву над морем, Посейдон остановился и, глянув через плечо, спросил:
— Кстати. Что такое «ложки»?
— «Ложки»? — Гефест пожал плечами. — Первый раз слышу.
— Зато произносишь не первый раз. Ты слуге своему грозил, что переплавишь его на ложки.
— Ах, ложки! Хм… — Гефест дернул себя за бороду и глубоко задумался. — А Демодок его знает, что это такое! — сказал он наконец.
— Ага… — наконец произнес Посейдон, — Демодок… Ладно, работай. Быстро работай — если хочешь, чтобы впереди у тебя была вечность!
ПОТУСТОРОННИЙ ДИАЛОГ
Тема: сфероклазм в античных сферах. Иллюстративный материал (фономагнитокопия рабочей записи во время обнаружения эффекта). Массив «К.И.», выборка.
— Странные оговорки, ты не находишь? Сначала час как единица времени, потом ложки…
— Ничего странного: поэты всегда что-нибудь путают.
— Это не просто путаница…
— Знаешь, меня гораздо больше интересует разбитый шлюп. И вулкан на Лемносе.
— Нет, ты все-таки выслушай! Дело в том, что никаких ложек в Древней Греции не было, да и час как единица времени…
— Обыкновенный сфероклазм!
— В античных сферах?
— Ну и что? Насколько я знаю, Гнедич, переводя Илиаду, употреблял не только греческие, но и римские имена богов. А Жуковский в Одиссее рассаживал гостей на лавках вместо кресел и что-то там сравнивал с шелком, которого древние греки не знали. Вот тебе и сфероклазм.
— Ни по Жуковскому, ни по Гнедичу в этом мире не должно быть никаких ложек!
— Вулкана на Лемносе в этом мире тоже не должно быть. Но он есть. И это интересует меня гораздо больше.
— А если все это как-то связано? Вулкан, шлюп, заговаривающийся поэт…
— Юрочка, они все заговариваются. И всегда. Если не веришь, верни его в действительный мир и пообщайся. Только не забудь вернуть бедолагу, когда надоест.
— Именно об этом я и хотел тебя попросить.
— Именно с этого и надо было начинать! Только ты не туда сел — пульт хроностопа правее.
— Не все сразу. Я хочу сделать радиовызов.
— Боже мой, кому?
— Ему. У меня такое чувство, что этот поэт откликнется. Подскажи-ка номер маяка.
— Сумасшедший! Ты перепугаешь его до смерти!
— Номер, Наденька, номер!
— Восемнадцать-бэ-три… Не нравится мне эта затея.
— Мне тоже, а что делать?
— Мужская логика, Юрий Глебович!
— От Надежды Мироновны слышу… Восемнадцатый бэ! Алло, восемна…»
(Экспедиция 112-С, античные сферы. Информация широкого доступа.)
ТРИУМФ ЦАРЕДВОРЦА
— Ну, вот и ветер меняется! — услышал Окиал радостный голос кормчего и заморгал, с трудом возвращаясь к реальности. Последний отзвук аэдовой лиры исчезал за безоблачным морским горизонтом, и небо, казалось, мгновенно очистилось от тучи пепла и сажи… Впрочем, туча была не над этим морем, а над Эгейским, по ту сторону Пелопонеса. И вообще, она была в песне. Хотя…
— Ты очень хорошо пел, Демодок, — сказал учитель, словно угадав его мысли. — Не правда ли, Окиал?
— Да. О да! — Окиал понимающе кивнул и посмотрел на солнце. Полдень был уже близок. Был уже почти полдень, и всего два часа оставалось… Но ведь это же было в песне! — А что будет дальше? — спросил он.
— Не знаю, — буркнул певец. — Я еще не закончил.
— Вот парус поставим и узнаем, — сказал кормчий. — Сушите весла, бездельники! Сейчас за вас поработает Нот! И пошарьте под левой якорной площадкой — там должна быть моя заветная амфора, если вы не распили тайком. Да под левой, а не под правой! Есть? Тащите сюда: сначала угостим певца, а потом пустим по кругу. Ему нужно хорошенько промыть горло феакийским вином, чтобы закончить песню.
— Я продолжу ее через два часа, Акроней, — хмуро сказал аэд. — Не раньше.
— Хорошо, — легко согласился кормчий. — К тому времени, может быть, увидим берега Схерии. Придется опять поработать веслами, и твоя песня будет нам весьма кстати… Ты превосходно поешь, славный аэд, — сказал он, понизив голос. — Но гребцам важен лишь ритм — а слова… Вряд ли они прислушивались к словам, и вряд ли твоя песня поможет нам. Но берег родины мы успеем увидеть.
Два часа прошли в напряженном молчании, и даже заветная амфора не смогла разрядить его. Южный ветер был ровен и бодр, небеса безоблачны, тень Перста почти неподвижно лежала на палубе параллельно бортам. За все это время произошло лишь одно событие, не замеченное никем, кроме Окиала: один из штырей металлического ежа — тот, что был обращен к корме, — вдруг удлинился. А когда Окиал повернул ежа, делая вид, что просто устанавливает его поудобнее, штырь заполз обратно, и выдвинулся другой (на этот раз именно он оказался обращенным к корме). Там, далеко за кормой, на юге, был Лефкас, был мыс Итапетра и было святилище с тремя заряженными ежами.
Окиал опять представил себе расположение лабиринта, нащупал ежи и разрядил их. Три длинных штыря (на Лефкасе они тянулись вверх) поочередно заползли внутрь, едва Окиал одну за другой выщелкнул и бросил три пластины обратно в ящик. Но еж, лежавший у него под рукой, на корме феакийского корабля, по-прежнему тянулся длинным штырем к югу.
Может быть, он звал кого-то. Может, искал. Может быть, нашел и следил… Окиал старался не думать, чтобы не мешать ему. Если это опасно, он всегда успеет выщелкнуть пластину и бросить за борт. Без пластины еж мертв.
Но лишь незадолго до того, как слепой аэд снова тронул струны своего инструмента, штырь стал укорачиваться. Зато попеременно удлинялись другие, и, когда не на шутку разгорелась свара на Олимпе, длинный штырь указывал точно в зенит. Что-то там было, в зените, за непонятно откуда взявшимся облачком, неподвижно зависшим над кораблем…
Никто, кроме Окиала, не обращал внимания на это облачко: все слушали песню аэда и время от времени поглядывали на север, где должна была показаться Схерия. За бездельников работал Нот — работал ровно и мощно, напрягая тяжелое льняное полотнище паруса, — поэтому слушали не только ритм.
Гефест гнул свою непонятную линию, злостно саботируя изготовление трезубца. За эти два часа он сумел раздобыть еще один заказ — и более высокий: простодушный Зевс, поддавшись на грубоватую лесть мастера, повелел ему выковать зеркало для своей новой любовницы. Отшлифованная серебряная пластина у Гефеста, конечно, была, и не одна, но на обратной стороне зеркала предстояло выковать множество аллегорических изображений и сцен, прославляющих высокопрестольного дарителя. Работа тонкая, долгая и, безусловно, гораздо более спешная, чем заказ Посейдона. Морской бог не посмел впрямую нарушить волю Эгидоносителя и развернул стремительную интригу, имевшую целью публично столкнуть новую фаворитку с Герой, законной женой Громовержца. Проведенная с превеликим трудом и с непревзойденным блеском, интрига завершилась грандиозной сварой на Олимпе и молниеносным изгнанием фаворитки за Геракловы Столпы. Однако заказ свой Эгиох не отменил: зеркало теперь было обещано Гере.
— Благодарю тебя, мой повелитель, — отвечала богиня. — Оно будет напоминать мне об этой маленькой победе и послужит залогом новых. И когда же я получу свой подарок?
Зевс раздраженно пожал плечами, и воспрянувший духом Посейдон немедленно встрял:
— Как только твой сын Гефест закончит работу, о лилейнораменная! Насколько я знаю, он уже приступил…
— Гефест? — Гера слегка нахмурилась. — Ах, да, ну конечно, Гефест, кому же еще.
— Он искусен и быстр, — невозмутимо продолжал Посейдон. — Помнится, то самое кресло, на целых две недели сковавшее твои руки и ноги, он изготовил всего лишь за день. А тут какое-то зеркальце…
— Значит, к вечеру, — сухо сказала Гера.
— Быстрее! — воскликнул Посейдон. — Я думаю, что гораздо быстрее!
— Ладно, хватит, — оборвал Зевс. — Пускай принесет через час. Пошел вон. — И, вхолостую, без молнии, громыхнув, удалился в свои покои — переживать, а Посейдон не замедлил сообщить высочайшее волеизъявление мастеру.
— Вот и все, чего ты добился, — констатировал он, устало развалясь в том самом кресле, уже отмытом от сажи и пепла. — Эгиох раздражен. Владычица недовольна, оба они слишком хорошо помнят, что ты якшаешься со смертными, — словом, дела твои плохи, племянник… Кстати, я тебе не очень сильно мешаю?
— Не перенапрягайся, дядя, — буркнул Гефест. — Отдохни. Из кубка вон похлебай, мало будет — амфора под столом, сам нальешь. Супруга дворец отмывает, так что прислуживать некому…
— А ты куда?
— На Олимп, дядя. Я же ведь хроменький, пока доберусь — как раз час пройдет. Да обратно столько же. Отдыхай.
— А зеркало?
— А трезубец, ты хочешь спросить? Трезубец потом, когда вернусь.
— То есть, зеркало ты уже выковал? Успел?
— Если б не якшался со смертными, не успел бы. Я же тебе говорил, что ты плохо знаешь мою работу. Зачем обязательно ковать? Вот оно, зеркало… — Гефест грохнул на наковальню грубо сколоченный деревянный ящик и стал отдирать доски. Посыпалась сухая, добела пережженная глина, сверкнуло золото отливки. Подоспевший слуга ухватил ее металлическими пальцами, другой рукой смахнул глину и доски на пол, своротил туда же медную плиту и бережно уложил отливку на дубовый торец наковальни. — Самое трудное было — найти эту глину, — объяснил Гефест, копаясь в груде инструментов. — Самое дорогое — выдавить в ней рисунок. — Он приложил к отливке отполированный лист серебра. — А самое тонкое — залить в опоку расплавленное золото так, чтобы не пришлось потом переделывать. Не придется… — И несколькими точными короткими ударами он приклепал серебряный лист. — Отдыхай, дядя, — повторил он. — Ты за эти два часа не меньше моего наработался.
— Может быть, ты хоть теперь объяснишь, зачем тебе это было нужно? — спросил Посейдон.
— Что?
— Зачем ты тянул время?
— Я тянул время? — удивился Гефест. — Демодок с тобой, дядя, я этого не умею. Просто я не люблю, когда меня торопят.
— А я не люблю, когда меня задерживают! — взревел Посейдон и поднялся, нависая над устьем пещеры, почти сравнявшись ростом с горой, и пяткой раздавил кресло…
— Зря. Вот это зря, Демодок… — (Окиал не сразу понял, что это голос учителя прорвался сквозь песню, но слепой аэд и вовсе не услышал голос Тоона).
Морской бог был страшен в бессильном гневе, бледная радужка его водянистых глаз потемнела и подернулась рябью.
— Ты вот что, дядя, — забормотал Гефест, боком-боком придвигаясь к своему молоту, ухватил его и выскочил из пещеры на солнечный свет. — Ты не забывай: Гелиос все видит! И если я тебя ненароком стукну — так только из верноподданнических соображений. Чтобы исполнить волю отца моего — Вседержителя Зевса. Уйди с дороги, а то молот тяжелый — уроню на ногу!
— На земле очень много смертных, — уже спокойно и раздумчиво проговорил Посейдон. — Даже Урания вряд ли сочтет их — собьется. Многие из них некрасивы и хромы, как ты. И, как ты, искусны в ремеслах… Если тебе надоело бессмертие — так и скажи. На Олимпе незаменимых нет — кроме тех, кто всегда помнит об этом… Не дай тебе Демодок, — Посейдон усмехнулся, — проверить на себе это правило…
Окиал с удивлением посмотрел на певца и заметил, что не он один удивлен. Песня уже не оказывала своего волшебного действия на слушателей: боги не вставали перед глазами во всем своем блеске и гневе, они вихлялись плоскими дергаными тенями, пещера Гефеста померкла и расплылась, куда-то пропал, как и не был, забытый аэдом золотолобый слуга. Аэд подолгу шевелил губами и морщился перед каждой новой строкой гекзаметра, но слова были просто словами (далеко не всегда внятными), а мелодия — просто мелодией.
Что-то мешало им вновь обрести свою силу, что-то вклинивалось в них, рвя и корежа ритм, и Окиал не сразу понял, что это «что-то» исходит из металлического ежа. В нем скрежетало, хрипело и отрывисто сипло попискивало, а потом густой металлический голос произнес: «Мужская логика, Юрий Глебович». — И еще более низкий, на почти неслышных басах: «От Надежды Мироновны слышу».
Аэд выронил лиру, и она жалобно зазвенела, ударившись о скамью. Он повернулся к Окиалу, слепо вытянул руки, шагнул и чуть не упал, споткнувшись о свой инструмент. Окиал поспешно вскочил, уступая дорогу и одновременно заслоняя ежа от кормовых гребцов, которые тянули шеи и тоже прислушивались, но пока еще сидели на месте.
— Я так и знал, — бормотал аэд, слепо ощупывая руками металлические штыри. — Я так и думал… Один непредвзятый ум, всего лишь один… Ну, два — ты и твой ученик…
В еже щелкнуло, пропали скрежет и хрип, и неожиданно чистый баритон воззвал, словно стараясь докричаться через много стадий: «Восемнадцатый бэ! Алло, восемнадцатый бэ! Есть там кто-нибудь?»
— Есть! Это я! — закричал аэд помолодевшим голосом. — Это ты, Юра? Командор!
«Ну, вот видишь? — обрадованно сказал баритон. — Это кто-то из наших… Восемнадцатый бэ, кто ты?»
— Это я, командор! Я, Демодок… То есть, Дима…
«Держись возле маяка, Дима! Сейчас я врублю хрр-р-р…»
Голос, грубея, перешел на немыслимые басы, затем, произнеся почти нормальным тоном: «…стоп!» и «Держись возле…», сдвинулся в писк и, резанув по ушам, пропал. Окиал изо всех сил сдерживал напиравшую толпу, что-то орал с кормы Акроней, судно, накренившись на левый борт, чуть не зачерпнуло волну и, продолжая некоторое время крениться, застыло в неестественном положении. Не меньше двадцати гребцов навалились на Окиала сзади, а он, разведя руки и упираясь ногами в палубу, держал их. Напор становился слабее, наконец пропал, но Окиал не мог не только оглянуться — он не мог шевельнуть ни единым мускулом, даже моргнуть не мог. Аэд суетился возле ежа, перехватывая штыри, руки его мелькали так быстро, что их не стало видно, аэда трясло, он расплывался мутным грязно-белым пятном, что-то сверкающее и длинное упало с неба и тут же унеслось прочь, обратно, а потом все двадцать с лишним человек навалились на Окиала, и он вытянул руки вперед, чтобы не упасть грудью на штыри, грохнулся на голые доски палубы, и всю толпу накрыло волной. «А Навболита здесь нет, — спокойно подумал он, ускользая в небытие. — Это хорошо, что его здесь нет, это я молодец…»
Очнувшись, он обнаружил себя лежащим навзничь на палубе, увидел над собой неподвижный Перст в неподвижных, заклиненных рамках, услышал мерный скрип уключин и мерное, в такт, пощелкиванье Акронеева бича. Плавание продолжалось. Учитель убрал с его лба мокрую тряпку, Окиал приподнял голову, оперся на локти и сел. Гребцы (хмурые, со свежими рубцами на плечах и на лицах) работали молча, Акроней прохаживался между ними, пощелкивая и тоже хмурясь. Обломок мачты торчал посреди палубы. Аэда не было на корабле, и ежа его тоже не было, лишь крепившие его найтовы валялись у борта.
— Где он? — спросил Окиал.
— Ушел в свой мир, — непонятно ответил учитель и улыбнулся. — И тебе, мой мальчик, тоже надо уйти в свой мир, на Андикиферу. А мне в свой. Ты здесь бессилен, а я там — бесполезен. Уже бесполезен.
— Не понимаю, — сказал Окиал. — Но тебе виднее, учитель.
— Да, — согласился Тоон. — Мне виднее. Но все же там, на Андикифере, постарайся не употреблять эту формулу. Никогда. Постарайтесь жить без богов…
— Земля!
— Посейдон!
Эти два возгласа раздались почти одновременно. Окиал понял, что подспудно давно ожидал одного из них, и вскочил на ноги. Заболели измятые в свалке мышцы на спине и груди, резануло в правой коленке. Он пошевелил пальцами, нащупывая в воздухе рукоять своего меча. Нет, надо что-то другое…
Учитель тоже отреагировал быстро — но очень странно. Он встал на колени, в упор глянул в прозрачные водянистые глаза бога и покорно опустил голову.
— Уходи, Окиал, — шепнул он. — Прыгай за борт, мой мальчик. Не думай о нем — и он не заметит тебя. Не думай о нем, ты ведь умеешь…
Окиал не слушал его. Он наконец сообразил, что ему нужно, сжал дротик и швырнул его прямо в переносицу бога.
«Мал!» — с сожалением подумал он, когда Посейдон, взревев, выдернул дротик и, почти не целясь, послал обратно. Окиал увернулся и, закричав от усилия, бросил громадное — в два своих роста — копье с тяжелым зазубренным наконечником. Гребцы лежали ниц, побросав весла, и даже Акроней, выронив бич, медленно подгибал колени, повторяя позу учителя. Копье пробило голову бога насквозь, и Посейдон, обливаясь кровью и хрипло рыча, вслепую занес над кораблем тяжелую длань.
«Гефест… Где ты, дружище?» — подумалось вдруг Окиалу, и он удивился, потому что никогда прежде не думал о богах с такой теплотой и… надеждой? жалостью?
— Я всего лишь бог, — услышал он отчетливый голос Гефеста, словно тот был не на далеком Олимпе, а рядом. — Я — ничто без таких, как ты. Но ведь ты не единственный. Вас много…
И это было последнее, что Окиал слышал.
…могучий земли колебатель В Схерию, где обитая феакийский народ, устремился Ждать корабля. И корабль, обтекатель морей, приближался Быстро. К нему подошед, колебатель земли во мгновенье В камень его обратил и ударом ладони к морскому Дну основанием крепко притиснул; потом удалился. (Гомер. Одиссея, песнь тринадцатая.)ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ НЕТ БОГА, КРОМЕ…
Читатель ждет уж рифмы розы…
А.ПушкинМИР БЕЗ ВЛАСТИ
— Вот так здесь появляются острова… Ты все успела записать?
— Все. А ты?
— И я успел. Дома сравним?
— Там видно будет. Маяк оставь.
— Я помню. Который на очереди?
— Эс-пятый.
— Сто двенадцать-эс-пять… Пошел. Куда опустим?
— Прямо на этот островок — он здесь уже навсегда.
— Ох, надеюсь… Хотя, какая разница — все равно замолчит. Они всегда замолкают в античных сферах. И навсегда.
— Восемнадцатый-бэ-три не молчал.
— Да — пока здесь был этот парень. Кстати, как он там?
— Спит. Ты вкатил ему слишком большую дозу — хватило бы и полкубика. Он так истощен… И, ты знаешь, у него что-то с глазами.
— Это я еще там заметил, внизу. Ничего, дома разберемся… Обратный старт?
— Давай. Маяк не забыл включить?
— Ни в коем случае. Даю обратный старт.
Запели, удаляясь, позывные «сто двенадцатого-эс-пять», по экрану побежали светлые полосы, исчезли, и в уголке вспыхнули титры: «Экспедиция 112-С, античные сферы. Информация широкого доступа».
«А бывает еще и узкого, — подумал Демодок, отключив терминал. — И узкоспециального. И «только для исполнителей»… Не было у нас такой информации — «только для исполнителей». А тут есть. Бессмыслица какая-то: записывают все, но кое-что может просмотреть лишь тот, кто записывал. Ну и хранили бы в личных магнитотеках — зачем загружать Информаторий?»
Он сунул терминал под подушку, откинул одеяло и встал. Огромное — от пола до потолка — окно сейчас же уехало в стену, приглашающе распахнув желтую беговую дорожку, и Дима поежился, вдохнув заоблачный озонистый воздух Академгородка.
«Бегайте сами», — с ленивым протестом подумал он, выходя в сад, и нарочито неторопливо, нога за ногу, побрел к парапету, густо оплетенному новомодным гибридом — высокогорной мандариновой лозой. Северо-Байкальский штамм, который здесь, в двух километрах над Томском, почему-то не приживается. Не успевает вызревать. Вот километром ниже, на двенадцатом ярусе, говорят, уже весь парапет оранжевый, надо бы сходить посмотреть; а тут — мелкая мутно-зеленая кислятина гроздьями. Но знатоки не отчаиваются, ищут и находят в ней пикантные вкусовые элементы, мужественно жрут десертными ложками варенья и муссы и даже пытаются угощать ни в чем не повинных соседей. Из жильцов двадцать первого яруса, не обремененных специальными ботаническими познаниями, одна только Машка разделяет восторги знатоков. Да и то к величайшему неудовольствию своих хозяев: пикантные вкусовые элементы в козьем молоке они полагают лишними…
Дима шуганул Машку из мандариновых лоз; она, недовольно мемекнув, отпрянула, сыпанула на девственно чистый песок катышками непереваренной зелени и коры, отошла на пять метров вдоль парапета и принялась за свое, нагло кося в его сторону горизонтальным черно-желтым зрачком.
— Ну и дура, — сказал он козе.
Машка не возражала.
Демодок улегся грудью на парапет и стал смотреть вниз. Ночью опять была гроза, сады нижних ярусов башни влажно поблескивали. Оранжевого парапета на двенадцатом ярусе Дима не разглядел. Может быть, слишком далеко, а может быть, врут. Точнее сказать — привирают. Ну и пусть. Жалко, что ли. Все равно одно удовольствие было смотреть вот так вниз, лежа грудью на теплом, влажном от росы парапете. Или, допустим, вверх, перевернувшись на спину. Только предварительно надо зажмуриться, чтобы, переворачиваясь на спину, не видеть окрестностей. Чтобы смотреть только на башню. И тогда все знакомо и мило — как дома. Как в настоящем, а не в кем-то придуманном Томском Академгородке. Даже планировка внизу чем-то похожа, если не очень всматриваться: приземистый бункер глубинного вакуум-энергетического полигона, шахматный строй ангаров со шлюпами квазиисториков, квазигеологов и квазикосмогонистов, корпуса и павильоны прикладников от химии, субъядерной физики, тонкой позитроники, генетики — и прочая, и прочая, почти все на своем месте. За исключением Здания Ученого Совета, которого у них просто нет. Как-то они умудрились обойтись без него — без Ученого Совета, то есть, а следовательно, и без здания. Мол, пережиток эпохи абсолютизма. Твердая рука, мол, и ежовые рукавицы. Деспотия большинства, видите ли, которая ничем не лучше деспотии личности… Утопия, одним словом. Акратия, сиречь анархия, но слова «анархия» здесь не любят — вызывает ассоциации.
А вакуум-энергетикам, между прочим, только дай волю — всю ихнюю утопию по миру пустят. В лучшем случае… Ну, ничего, они еще спохватятся — даст бог, не при мне.
Не дома я здесь. Ох, не дома! Да еще эти эллинские привычки, отстоявшиеся за сорок лет… Врут они, все-таки, что не сорок, а только двенадцать плюс или минус полгода. Для Наденьки — да, может быть, и двенадцать. Значит, теперь ей тридцать, она и выглядит ровно на тридцать. Ну, Командор всегда был человеком без возраста — он и сейчас такой. А мне шестьдесят, а не тридцать два — и выгляжу я на шестьдесят, что бы они там ни говорили. Уж глазам-то своим я верю. И нечего мне про выпадение памяти, понимаешь. Что, я своего Томска не помню? По заповеднику не бродил? Да я там каждый уголок…
Дима глянул вперед, на заповедник старого Томска, и сейчас же отвел глаза вправо, на север. На севере было привычнее. Знакомо и мило — если не очень всматриваться.
— Любуетесь?
Дима нехотя обернулся и сполз с парапета. Это был сосед, один из хозяев Машки. Бодренький низенький старичок, затянутый в серое и строгое, с пухлым портфелем под мышкой и с таким же животиком. Работал он представителем городского бюро, а звали его кто как. Кто Геннадием Агрегатовичем, кто Агнессием Аккуратовичем — он никогда не обижался, но обязательно поправлял. Хотя настоящее имя его было, конечно же, ненастоящим — как почти все в нем.
— Любуюсь, — Дима улыбнулся и ткнул пальцем в животик, который тут же с громким хлопком опал и съежился. — Олицетворение дутого авторитета?
— Именно! — обрадовался сосед, сунул руку в карман, где носил баллончик с жидким азотом, и авторитет, натужно шипя, восстановился. — А что же вы Машку не шуганули? Опять молоко горчить будет.
— Шугал, — вздохнул Дима. — Так ведь это ж коза! Никакого почтения к вышестоящим формам жизни.
— Биологические аналогии опасны! — нравоучительно заявил старичок.
— «Исторические аналогии опасны», — поправил Дима. — Ницше, кажется? Или Сталин?
— И тот, и другой, — охотно уточнил старичок. — Но первый высказал это в философском трактате, а второй — по слухам — в приватной беседе, когда его сравнили с Наполеоном. Вы, Дима, очень хорошо знаете историю Власти.
— Просто мы с вами уже говорили об этом изречении, Герасим Панкратович, — напомнил Дима.
— Геноссе Аппаратович, с вашего позволения. — Старичок слегка поклонился. — Геноссе Аппаратович Тоталько… Сегодня в Пантеоне выборы. Среднее здание. Музей Политического Руководства. Вы придете?
— А что там будут выбирать?
— Меня. На новый срок. В пяти близлежащих магазинах будет организована раздача мужских подтяжек.
— Почему подтяжек? — не понял Дима.
— По талонам. Вместе с избирательным бюллетенем вы получите талон на мужские подтяжки.
— А что это такое?
— Это такие эластичные ленты с зажимами — цепляете их за штаны и перебрасываете через плечо. Очень забавно.
— А зачем?
— Чтобы привлечь избирателей. Это политическая борьба, как вы не понимаете?
— Кого с кем борьба?
— Не кого с кем, а во имя чего. Во имя моего избрания.
— Да, в этом вопросе я слабоват, — признался Дима. — Но почему именно подтяжки?
— А вы можете предложить что-нибудь другое? Так предлагайте, да побыстрее — ведь нужно успеть растиражировать талоны! Кстати, если вы пойдете на выборы, не забудьте: бюллетень надо опустить в урну — вам покажут, что это такое, — а талон отнести в магазин. Не перепутаете?
— А если перепутаю?
— Не беда. Талон вместо бюллетеня будет считаться голосом против меня, ибо голосование в этом случае сопровождается демонстративным отказом от дефицита.
— То есть, вас могут и не избрать? На новый срок?
— Ничего подобного! Неужели вы думаете, что все жители Томска придут на выборы? От силы человек тридцать, я это уже просчитывал. Плюс аппарат, но он…
— Аппарат — это ваш папа?
— А?.. Д-да, в каком-то смысле… Аппарат — это еще сто сорок человек. Но аппарат ничего не перепутает, он проинструктирован. А число неявившихся избирателей автоматически отождествляется с числом голосов «за». Таким образом, я буду избран абсолютным и подавляющим большинством.
— Странная система, — сказал Дима. — По-моему, вы там ерундой занимаетесь, в Пантеоне.
— Именно! — опять обрадовался председатель. — Замечательно, что вы сами сделали этот вывод — даже не побывав на выборах, чем я особенно восхищен! У вас, Дима, аналитический склад ума — вы умеете абстрагировать и обобщать. Из одного-единственного примера моей деятельности вы интуитивно верно индуцировали общее правило: власть предержащие всегда занимаются ерундой! Это обнадеживает — я имею в виду ваши способности. С удовлетворением убеждаюсь, что опасения Надежды Мироновны весьма и весьма преувеличены: вы успешно боретесь со своей амнезией и не сегодня-завтра сделаете новый, решающий шаг на пути к восстановлению акратического мировоззрения. Но — не буду вас торопить и тем более не буду вам подсказывать готовых формулировок, ибо только собственные открытия запоминаются на всю жизнь… Желаю вам неуклонного роста ускорения темпов развития ваших еще более лучших успехов! — выпалив на едином дыхании эту замысловатую фразу, старичок взмахнул портфелем, разбежался и сиганул через парапет.
Дима не стал смотреть, как крутая спираль силового поля несет его к основанию башни. Это уже не смешило. Геноссе Аппаратович Тотально деятельно занимался ерундой: в полном соответствии со сценарием должности впадал в детство.
«А ведь это предлог! — подумал Дима. — Меня пригласили на выборы, и я могу слинять на целый день. Даже обязан слинять. Будет просто невежливо с моей стороны, если я не слиняю…» — Он подмигнул Машке (которая опять взобралась передними ногами на парапет и, морщась, упрямо обкусывала зеленые гроздья цитрусовых), повернулся и бодрой трусцой побежал по дорожке сада в свою квартиру.
Ванна была готова, но, прежде чем снять плавки и плюхнуться в нее, Дима попробовал ногой воду. Ну так и есть: опять слишком холодная! А Демодок старенький, он тепло любит. Что у них тут за автоматика такая дурацкая — сколько ни объясняй… Спокойно, Дима, спокойно. Это же квазимир. Еще один «квази», только и всего. Шлепая мокрой ступней по паркету, он подошел к стене, обнажил пульт мажордома и вручную, но очень-очень вежливо растолковал ему, что воду следует подогреть до тридцати шести градусов по Цельсию. И что шампунь желателен целебный (хвойный, например), но ни в коем случае не «Молодежный»… Ничего, найдешь, если постараешься! И никаких тонизирующих добавок: мне шестьдесят, а не тридцать два, у меня сердце может не выдержать, понял? Раздолбай позитронный!.. Это не заказ, это обозначение моих отрицательных эмоций. А ты в словаре посмотри… Сам ты психический! В словаре Бодуэна де Куртене…
Да. Что да, то да: общаться с автоматикой Демодок за сорок лет разучился. Золотолобый стюард — тот помалкивал и делал все, что ему велели, даже гвозди башкой забивал. А эти слишком уж разговорчивы — не по чину… Кстати: если у них тут акратия, то и понятия чина не должно быть? Или есть — но в качестве какого-нибудь особо тонкого оскорбления? Прекрасный повод еще раз поиграть в кошки-мышки. Пока вода греется.
Дима сел на кровать, извлек из-под подушки терминал и, набрав код Информатория, задал вопрос:
«Этимология и значение слова «чин»?".
Ответ загорелся почти сразу:
«В этимологических словарях отсутствует. В широкодоступных массивах отсутствует. Упоминания: «История Власти», краткий курс. — Информаторий помедлил. — А также художественная литература доакратических эпох…»
Ну, ясно… Читайте классику, в ней все есть.
«…Подробная информация по спецкоду».
Та-ак. Неужели не клюнет?
Клюнул: спустя еще две секунды, неуверенно и кривовато, засветилась едва различимым петитом новая строчка:
«Употребление в быту нежелательно. Извините».
«За что?» — немедленно спросил Дима.
«За напоминание», — все тем же неуверенным петитом ответил Информаторий.
«А зачем тогда напоминал?»
Новый ответ вспыхнул восторженным заголовочным шрифтом во весь экран:
«ВИНОВАТ!» — и, чуть погодя, по-прежнему деловито, бесстрастно и четко: «Наложите, пожалуйста, взыскание».
«Трое суток гауптвахты!» — отстучал Дима, ухмыльнулся и отключил терминал. Помучайся, мил-друг, поразмышляй, а я пока искупаюсь.
Вода была теплая. Шампунь был хвойный. Правда, едва Дима закончил омовение, мажордом посягнул было подвергнуть его холодному душу, но Демодок эту его самовольную услугу пресек и заказал щадящий массаж. Кто здесь хозяин, в конце концов?
«А это вопрос…» — думал он, нежась и блаженно постанывая под упругими толчками горячего воздуха. «Это вопрос вопросов: кто здесь хозяин?» — бормотал он про себя, расчесывая перед зеркалом аккуратно подстриженную седую бородку и укладывая седые волосы на голове так, чтобы лоснящаяся от нездешнего загара плешь была как можно более заметной. Чтобы бросалась в глаза. Прежде чем пойти облачаться, он еще раз осмотрел себя в зеркале. Во весь рост. Оттянул дряблую кожу на груди, поросшую длинными седыми волосками, ощупал набухшие лимфатические узлы под мышками и в паху, потрогал набрякшие вены на запястьях и на лодыжках, Тридцать два года… Слепые они тут все, что ли?
Выйдя из ванной, швырнул в нишу уборщика пеструю шелковую хламиду, затребовал у мажордома фланелевое белье, белую полотняную рубашку и шерстяной костюм. Да, летний. Но однотонный, без аляповатости. Желательно темно-серый, в едва заметную коричневую полоску. А я так хочу! Ты у меня, дубина, из Бодуэна де Куртене вылезать не будешь, если еще раз пикнешь! То-то же… Рубашку замени — я хочу с манжетами, и чтобы запонки. Благодарю… Теплые носки и теплые ботинки. Ботинки — из натуральной кожи, мягкие. А затем, что я сегодня гулять буду! Под цвет костюма, естественно, но можно черные.
— Вот же идиот… — пробормотал Дима, зашнуровывая темно-серые, в коричневую полоску ботинки. Хотя, с другой стороны, это можно считать успехом: перестарался — значит, старается.
«Молодец! — отстучал он на пульте. — Так держать!»
Мажордом промолчал. Озадачился, кретин. А может, обиделся. Ничего, завтра мы разовьем наш успех. Неуклонно еще более лучший…
С поваром Дима воевать не стал: надоело. Сгреб все мясное с тарелки в мусоропровод и отправил туда же соус, который показался ему слишком острым, ограничившись овощным гарниром и двумя стаканами козьего молока, по всей видимости, присланного соседом. Молоко горчило. Кофе Демодок просто проигнорировал, а вот рюмочку коньяка, поданную к нему, выпил. Маленькими глоточками, смакуя, не спеша, с деланным равнодушием наблюдая укоризненно-возмущенные вспышки на дисплее повара… Вставая из-за стола, не удержался и, поблагодарив повара, сообщил ему, что коньяк был очень хорош, хотя гораздо больше ему, Диме, нравится натуральное виноградное вино. Привык, понимаешь ты, за сорок лет. Повар озабоченно осведомился о марке винограда. «Феакийская лоза», — отстучал ему Демодок. Но, представив себе замешательство, могущее возникнуть в позитронных кишках, сжалился и добавил: «Можно другой географически близкий сорт. Из Адриатики, например». — «Критский?..» — неуверенно предложил повар. «Вполне», — благосклонно отстучал Дима и пошел вон из кухни.
Интересно, какой виноград разводят сейчас на Крите? Или, скажем, так: где сейчас разводят критский виноград?.. В голове слегка шумело после коньяка, поэтому оба вопроса наверняка дурацкие. Ну и что? Тем интереснее будет задать их Информаторию, благо время до занятий еще осталось…
Великие боги! Я же совсем забыл про Информаторий — а ведь он может и в самом деле сесть на гауптвахту, с него станется!
Уборщик, застигнутый Димой врасплох, испуганно порскнул из-под его ног в свою нишу с захлопнулся там. «Молодец, — мельком отметил Дима. — Наконец-то начал соображать…» Но хвалил он его, как выяснилось, рано: терминала под подушкой не оказалось. Подушки, между прочим, тоже. Опять эта крыса распорядилась по-своему! Дима было направился к пульту мажордома, чтобы высказать все, что он думает о нем и о его штате, а заодно потребовать назад терминал и подушку, но, уловив за спиной, в нише уборщика, некое конспиративное шевеление, резко обернулся. Уборщик опять поспешно захлопнулся, но перед нишей на полу теперь лежал терминал… И на том спасибо.
Информаторий на гауптвахту не сел — не такой он, оказывается, был дурак, чтобы ни с того ни с сего садиться на гауптвахту. Он делал квадратные глаза и спрашивал, что это такое. Он очень хотел наложить на себя вышеозначенное взыскание, но не понимал, как. Или делал вид, что не понимает. Дима облегченно перевел дух и отменил взыскание. Информаторий поблагодарил, но не успокоился. Он продолжал требовать определение гауптвахты. Дима сообщил ему, что это была шутка.
«Ха-ха! — во весь экран откликнулся Информаторий и модифицировал вопрос: «Разъясните, пожалуйста, смысл шутки и (или) сформулируйте определение гауптвахты».
«Специально оборудованное помещение для содержания военнослужащих под арестом», — отчеканил Дима, чем вызвал целый каскад новых вопросов. Сперва это развлекало, но очень скоро стало надоедать. Пришлось давать определения таким понятиям, как: «дисциплина», «арест», «камера», «портупея», «оружие», «насилие», «параша», «конвоир», «офицер», «чин» (тут Демодок споткнулся, удивившись, но определение все-таки дал), «субординация», «единоначалие», «расстрел»…
Определение «классовой борьбы» Информаторий переваривал секунд десять, и Демодок, переводя дух, решил, что если последует еще хотя бы один вопрос, то он объявит свою компетенцию исчерпанной. Однако вопросов более не последовало. Последовал запрос. Странный.
«Сообщите, пожалуйста, ваш специальный код», — попросил Информаторий.
«Развлекаешься? — отстучал Дима. — Откуда у меня спецкод?»
«Ваша компетенция заслуживает открытия специального кода, — разъяснил Информаторий. — Сообщите его, пожалуйста».
«ДЕМОДОК», — отстучал Демодок и усмехнулся.
«Ваш специальный код десятизначен. Еще три знака, будьте добры».
«Хватит с тебя!»
«Проверьте, пожалуйста, правильность написания вашего спецкода», — немедленно отреагировал Информаторий, и во весь экран загорелось: «ДЕМОДОКХва».
Вот же… А, собственно, какая разница?
«Правильно, — отстучал Демодок. — Хвалю. Приятно было побеседовать, дружок, будь здоров». — Но, оказывается, это было еще не все.
«Ознакомьтесь, пожалуйста, со списком массивов, открытых для спецкода ДЕМОДОКХва», — предложил Информаторий.
Вот это было ничего себе… Судя по списку, который все полз и полз по экрану, Дима оказался крупным специалистом во всех областях истории и квазиистории, в философии насилия, в теологии, в теоретической и практической квазинавтике (за исключением технических аспектов), в стратегии и тактике вероятных войн (эт-то еще что такое?), а также в некоторых областях экономики, социальной динамики и тектологии (мировоззренческие аспекты), а также…
Дима осторожно положил терминал на кровать, сходил на кухню и порадовал повара, затребовав невыпитую чашку кофе. Подогревать не обязательно. Ну, хорошо, хорошо, давай свежий… Спасибо.
Когда он вернулся, список все еще полз. Демодок облокотился на подушку («Ага! — подумал он, глянув на нишу уборщика. — То-то же…») и стал прихлебывать кофе, время от времени посматривая на экран и поражаясь своей эрудиции.
На «Геральдике индустриальных эпох» Демодок поперхнулся и прямо поверх списка спросил, нельзя ли побыстрее. Экран на секунду погас, высветил слово «Можно», и проползание несколько ускорилось. «А еще быстрее?» — уже не церемонясь, отстучал Демодок, допил кофе и, нагнувшись, поставил чашку возле ниши уборщика. Когда он выпрямился, список иссяк. Последней за верхний обрез экрана стремительно уносило строку «Методика скорочтения». Неужели тоже закрытый массив?
Терминал отключился (сам!), и сразу же на пульте мажордома заверещал вызов швейцара. Но Диме было не до гостей. Этот вопрос надлежало провентилировать. Хотя бы этот…
Дима включил терминал, набрал код Информатория, набрал свой новый спецкод и спросил:
«Для кого еще открыт массив «Методика скорочтения»?»
Мажордом заткнулся, а на экране терминала высветилось:
«Для специалистов».
Дима решил не уточнять, для каких.
«Значит, я тоже специалист?» — спросил он.
«Да», — ничтоже сумняшеся ответил Информаторий.
Немного подумав, Дима спросил, открыты ли названия закрытых массивов. И уже не удивился, узнав, что закрыты. Открыты, оказывается, только аббревиатуры названий.
Та-ак! Ну что ж, кое-что начинает проясняться. Акратия. Атеиз. Ну-ну… Геноссе Аппаратович, с энтузиазмом работающий карикатурой на Власть, — и закрытый массив с закрытым названием «Стратегия и тактика вероятных войн». Замечательный мир. Можно сказать, уникальный. Прямая ему дорожка в семнадцатую сферу. Впрочем, здесь они их не нумеруют, а обозначают словесно. Семнадцатая — это по-ихнему что-нибудь вроде… А зачем гадать? Дима запросил краткую классификацию ассоциативных сфер и сразу выхватил на экране нужную строчку: «Мертвые сферы». Вот, где-то там. То есть, туда. Прямая дорожка…
Драпать отсюда надо, вот что, и побыстрее.
НАДЕНЬКА
Она впорхнула мимо меня в квартиру, захлопнув на ходу дверь, и сейчас же направилась в спальню, а я поспешил следом. В спальне она прежде всего велела мажордому распахнуть окно, потом подошла к кровати и швырнула подушку на пол. Уборщик боком-боком выбрался из приоткрытой ниши, ухватил подушку и, довольно урча, поволок ее к утилизатору. И если на пути туда он еще предпочел наиболее безопасную траекторию — так, чтобы между ним и мной оказалась Наденька, — то обратно продефилировал уже напрямик, наглея на глазах, и даже осмелился остановиться возле моих темно-серых в коричневую полоску ботинок, чтобы слизнуть какую-то невидимую пылинку…
— Как не стыдно! — говорила между тем Наденька, бегло ревизуя прихожую, кухню и кабинет, везде распахивая окна и выпуская на волю уборщиков, а я тащился следом, помалкивая и поеживаясь. — Здоровый мужик, а валяется до полудня на кровати! Ты можешь мне объяснить, зачем ты вырядился в эту… я даже не знаю, как это назвать! В каком каталоге ты ее откопал? Председатель бюро, да и только… А-а, ну конечно, как я сразу не подумала! Но, милый мой, прежде чем стать посмешищем, нужно заслужить это. Тут краткого курса мало, тут надо всю жизнь посвятить истории Власти, заработать не менее чем семизначный код, а то и восьмизначный, как у Геноссе Аппаратовича, надо вжиться в обычай и нравы эпохи абсолютизма, а не просто копировать внешние признаки! И вот только тогда, да и то лишь годам к пятидесяти, ты можешь стать одним из функционеров городского бюро. Твое стремление, конечно, похвально, если это действительно твое стремление…
— «Геноссе Аппаратович — настоящий герой труда», — я осмелился наконец вставить свою реплику в монолог Наденьки.
— Именно! — обрадованно воскликнула она, невольно скопировав председателя горбюро. — Чтобы стать и оставаться специалистом такого класса, как Геноссе Аппаратович, надо много и долго работать, — Наденька опять оглядела меня с головы до ног и сморщилась, будто вот-вот чихнет, — а не валяться в этом… — Она не выдержала и фыркнула. — Слушай, Дима, я не могу говорить с тобой серьезно. Тебе же все-таки тридцать два года, а не двенадцать! Может быть, ты все-таки переоденешься?
— Нет, — твердо сказал я. — Мне в этом теплее.
— Ну и ладно, — вздохнула она, усаживая меня за стационарный терминал в кабинете и сама усаживаясь сбоку. — Ну и Власть с тобой, золотая рыбка. Можешь потеть, если тебе так нравится. — Она подперла подбородок ладошкой, локотком включила терминал и стала смотреть на меня в упор с насмешливой жалостью, а я сидел, положив руки на колени и изо всех сил выпрямившись. Двоечник перед учительницей. Только учительница в два раза младше своего лоботряса. — Так чем же ты все-таки занимался? — спросила она.
— Беседовал с Информаторием, — покорно ответил я.
— О че-ом? — протянула Наденька, полуприкрыв ладошкой губы. — С твоими-то двумя знаками?
— Видишь ли… — промямлил я. — Он зачем-то открыл мне десятизначный код… То есть, беседовал-то я без всякого кода, а потом…
— Не понимаю я тебя, Дима, — вздохнула Наденька. — Ну, провалялся, ну, пробездельничал. Бывает. Даже со мной иногда бывает… Да-да, я, если хочешь знать, иногда бываю страшной лентяйкой! Но врать-то зачем?
— Я не вру. Я действительно беседовал с Информаторием.
— По десятизначному коду?
— И по нему тоже.
— А вот я сейчас проверю, и тебе будет стыдно. Проверить?
— Проверь, — согласился я.
— Ну, хорошо. Тащи сюда карманный терминал.
— Зачем? — удивился я. — А этот?
— Тогда отойди и отвернись!
Я пожал плечами и подчинился.
— И нечего обижаться, — говорила за моей спиной Наденька. — Все-таки у меня пятизначный код, и не могу же я… Ой.
— Что там такое? — спросил я, не решаясь обернуться.
— Сейчас. Извините… Дмитрий Алексеевич, ознакомьтесь, пожалуйста…
Я подошел и ознакомился. Четыре строки на экране:
«Значность кода жильца этой квартиры?
Десять. Видит ли жилец нашу беседу?
Нет.
Ознакомьте и отвернитесь».
Я посмотрел на Наденьку, ожидая, что она объяснит или рассмеется, или… ну, не знаю что, а она поняла мой взгляд по-своему, вспыхнула и поспешно отошла в угол. На экране между тем появилась новая строчка:
«Подтвердите, пожалуйста, ознакомление слепым набором своего спецкода».
Я подтвердил, и экран тут же погас.
— Все, Дмитрий Алексеевич? — спросила из угла Наденька.
— Тайны Мадридского двора… — проворчал я, стараясь убедить себя, что озадачен. (Я не был озадачен. Мне было противно. И немного жутко.) — Все, конечно. Только почему это вдруг на «вы»? Или мне уже не тридцать два, а наконец-то шестьдесят?
— Почему бы и нет, Дмитрий Алексеевич? Если вам это зачем-то нужно… — неуверенно сказала Наденька, неуверенно подходя ко мне и неуверенно глядя на меня, как… Как та, другая Наденька из другого мира смотрела иногда на Командора. Снизу вверх.
— Вольно, юнга! — вырвалось у меня. Наденька широко, шире окон, распахнула глаза (для ядения ими начальства) и вытянулась в насмешливом подчинении — там, на палубе шлюпа, чуть севернее мыса Итапетра, и волны Ионического моря бросили отсветы древнего южного солнца на лицо юнги… Но это было там. А здесь — судорога почтительности, отнюдь не насмешливой, пробежала по ее лицу и стерла воспоминание. Которого не было. Не могло быть.
— Куда вы катитесь, Наденька? — спросил я, впервые после своего спасения сумев назвать ее так.
— Я же не знала, Дмитрий Алексеевич! — сказала она, справившись наконец с приступом острой почтительности и стараясь изо всех своих сил держаться естественно. Плохо это у нее получалось, и я опять ощутил волну жути, прокатившуюся у меня по груди и накрывшую сердце. Акратия…
Впрочем, разговорились мы довольно легко. Наденька очень быстро освоилась со своим новым положением (и с моим тоже, хотя я и не понимал, чем оно отличается от моего прежнего положения: знал-то я ничуть не больше, несмотря на свою повышенную значимость, и специалистом себя не чувствовал). Мы очень мило пообедали. Правда, мне пришлось ее пригласить, поскольку она забыла — или сделала вид, что забыла, — о том, что сама же заказала обед на двоих. От стандартного меню я решительно отказался, но против постной баранины, предложенной поваром, возражать не стал: незачем демонстрировать Наденьке наши с ним отношения… Мы пили молодое вино из критского винограда и закусывали бараниной, причем Наденька очень естественно не замечала моих эллинских привычек. В ответ на мои осторожные вопросы об экономике и социальном устройстве этого мира Наденька с азартом излагала официальную версию и целыми абзацами цитировала краткий курс истории Власти, не видя и не желая видеть даже явных противоречий. Вопрос о том, кто здесь хозяин, для нее не существовал вовсе. Хозяев нет. И хозяин каждый. Значность кода всего лишь определяет уровень компетенции, а почтение к людям, чья компетенция высока, просто естественно. Вот у Наденьки она измеряется пятью знаками кода, и Наденька добивалась этого упорным трудом на ниве квазиистории тоталитарных систем, а на большее у нее, наверное, просто не хватает таланта. Ну и что? Пять знаков тоже обеспечивают достаточно интересную работу, Наденьку очень уважают на кафедре и вообще… А вы, Дмитрий Алексеевич, наверное, были крупным ученым, но после аварии шлюпа и после двенадцати лет, проведенных в античной сфере, подверглись частичной амнезии — обычная профессиональная травма у квазинавтов. Лет десять назад она попала в такую же ситуацию, но не в античной сфере, а в Мертвой… Ей неприятно об этом вспоминать, можно, она не будет? Ну вот, а после излечения Информаторий обнаружил у нее остатки квазигеологических знаний — к сожалению, только остатки. Зато в квазиистории она сразу сделала большие успехи, у нее уже пять знаков, и она часто ходит в забросы. Да, почти всегда с Юрием Глебовичем, а как вы угадали? Или вы просто знаете? Нет, он не квазиисторик, он техник, и у него всего три знака, но Наденька предпочитает ходить с ним, потому что… Это трудно определить. Такое впечатление, что он никогда не сможет превысить уровень своей компетенции и что поэтому с ним всегда безопасно. И с ним действительно всегда безопасно, хотя ситуации бывали разные, и порой только счастливые случайности выручали их. Похоже, счастливые случайности идут по пятам за Юрием Глебовичем, преследуют его во всех сферах…
— А вот если я пойду с вами в заброс… Возьмете?
Еще бы! Наденька охотно пойдет в заброс со специалистом такого класса, как Дмитрий Алексеевич, а Юрий Глебович пусть на этот раз отдохнет.
— Ну уж нет! — возразил Демодок. — Без Юрия Глебовича я не пойду… Технические аспекты квазинавтики не входят в мою компетенцию, — вспомнил он примечание к соответствующей строке.
— А-а! — Наденька слегка разочаровалась. — Тогда да. Тогда без Юрия Глебовича не обойтись. А куда? Опять в античные сферы?
— Там видно будет, — сказал Демодок, вставая.
— Свободный поиск, — понимающе кивнула Наденька. — Ничего, с Юрием Глебовичем можно. Между прочим, вас мы обнаружили как раз во время свободного поиска — Юрий Глебович посоветовал мне поискать развалины Критского царства, которое, будучи тоталитарной системой, тем не менее просуществовало почти семьсот лет. И это в действительном мире, заметьте, а что тогда говорить о квазимирах… Впрочем, вы это сами знаете…
— Да, конечно, — поддакнул Демодок. — Вы мне лучше расскажите, как найти Юрия Глебовича.
— Зачем? — удивилась Наденька. — Я сама его потороплю и сообщу вам, когда шлюп будет готов.
— Видите ли, Наденька, я хотел бы побеседовать с ним о природе случая, — соврал Демодок.
Хотя, если по большому счету, то не соврал, а очень даже наоборот, но как объяснить это Наденьке? Впрочем, объяснять ничего не понадобилось. Наденька посерьезнела, еще раз поразившись компетенции Дмитрия Алексеевича, молча провела его по дорожке сада к парапету и очень толково объяснила, где стоит ангар Юрия Глебовича и как лучше всего к нему пройти.
КОМАНДОР
— Я ждал тебя, Дима, — заявил Командор, когда Демодок взобрался по узкой лесенке стапеля на палубу шлюпа и заоглядывался, ища трехзначного техника. Да, это был именно Командор, а не другой Юрий Глебович из другого мира: рабочая роба на нем была распахнута, и два белых шрама — следы Посейдонова трезубца — четко выделялись на темном, почти фиолетовом от нездешних загаров торсе. — Садись! — Командор вышел из рубки (Дима увидел за его спиной знакомо выпотрошенный пульт кибер-шкипера), уселся на фальшборт и похлопал ладонью рядом с собой. — Садись, поговорим. Извини, как-то не получается перейти на «вы», хоть ты теперь и старше меня лет на двадцать…
Демодок сел. Молча.
— Сначала ты расскажешь мне о своих приключениях, — объявил Командор. — А потом буду говорить я.
Дима рассказал, стараясь быть как можно более кратким и опуская подробности, а дойдя до своего спасения, добавил, что о судьбе феакийского корабля все еще ничего не знает и очень хотел бы…
— Узнаешь, — пообещал Командор и потребовал продолжать.
Продолжили в кают-компании, где еще (или уже) ничего не было разворочено и выпотрошено, стояли удобные мягкие кресла перед низеньким столиком, и стюард (улучшенной модификации, но молчаливый, как тот, и очень предупредительный) бесшумно сновал из камбуза и на камбуз, ловко и вовремя принося запотевшие баночки сока.
Узнав, что у Демодока десятизначный код. Командор заметно посуровел (Дима не понял, почему), но заявил, что, может быть, это и к лучшему. По крайней мере, пока. А выслушав Димин рассказ до конца, предложил ему связаться с Информаторием по своему дурацкому коду и затребовать записи — Наденькины и его, Командора, собственные. Все записи их последней экспедиции, и особенно те, что «только для исполнителя».
— Разве это возможно? — удивился Демодок. — Ведь я не исполнитель…
Командор усмехнулся и промолчал.
«Акратия, — подумал Демодок. — Надо же, дрянь какая…» Его уже мутило от явных и недвусмысленных признаков свалившейся на него власти в мире безвластия.
Командор ждал, и Дима сделал запрос. Информаторий осведомился, видит ли их беседу еще кто-нибудь, кроме держателя кода ДЕМОДОКХва. Командор отрицательно покачал головой, и Дима ответил, что будет просматривать записи лично и в полном одиночестве, а техника он, мол, попросил заняться своими делами. На четвертой или пятой записи Демодок обнаружил, что его бокал пуст, а стюард почему-то не торопится принести новую баночку. Но, глянув на Командора, понял, что так и надо. Случайностей не бывает…
У него забыто, по-двадцатилетнему, участился пульс, когда он увидел на экране южный край земного круга, обрывающийся в ничто почти сразу за искаженной береговой линией Африки, чуть южнее страны лотофагов. Странно было думать, что на этой висящей в пустоте плоской тарелке он провел сорок лет… Совершив облет земного круга, шлюп замер над его центром, где география почти совпадала с действительной, и начал снижаться над северным берегом Крита. Но с высоты примерно в пять километров снова резко набрал высоту и двинулся к западному побережью Пелопонеса.
— Это я перехватил у Наденьки управление шлюпом, — вполголоса объяснил Командор. — Она обычно не возражает, если я делаю это молча.
— А зачем? — спросил Демодок.
— Сейчас увидишь. — Командор пробежался пальцами по клавишам терминала. Теперь на экране была Итака. Крупным планом. Сверху. И поверх оптического изображения — совпадающие с ним алые линии контурной карты. — Я опустил несколько часов и совместил наши записи, — объяснил Командор. — Наденька записывала оптику, а я — приборы. В том числе масс-локатор… Смотри вот сюда, — он ткнул пальцем на север острова, чуть южнее Форкинской бухты, и через несколько секунд там вспыхнула алая точка — раз и еще раз. — Внепространственный переход, — сказал Командор. — Что-то похожее я заметил еще с Крита.
— В Элладе? — удивился Демодок. — Это невозможно.
— То же самое говорила мне Надежда Мироновна. А ученики твоего Тоона, оказывается, освоили внепространственный переход. Вот что значит независимая мысль.
— От чего независимая? — усмехнулся Демодок.
— От стереотипов своего мира. Между прочим, это относится не только к квазимирам. Доказано, что паровая машина была создана еще в древнем Риме — но лишь один раз и ненадолго. Чей-то могучий ум сумел освободиться от стереотипов, но остальные сочли «чудо» невозможным. Или ненужным… Так. — Командор снова поиграл клавишами. — Дальше просто. Тебя мы видели в тот же день, но еще не знали, что это ты. А ближе к полудню мы поймали сигнал радиобуя с корабля. Потом — почти сразу — еще три сигнала, но теперь уже с мыса Итапетра. Корабельный архивариус отождествил все четыре сигнала с маяками экспедиции 18-6, пропавшей без вести двенадцать лет назад. Но я-то уже знал… Стоило мне увидеть вот это.
«Вот это» было разбитым шлюпом. Святилищем…
— Свой концерт на палубе будешь слушать? Нет? Ну, тогда тоже опустим. Вот что было дальше.
Демодок, вытянув руки и спотыкаясь, идет к радиобую. Юноша со знакомым недобрым лицом вскакивает, уступая дорогу. Гребцы грозной от удивления и страха толпой надвигаются на них, юноша сдерживает толпу, корабль начинает крениться и застывает в неестественном положении: включен хроностоп. Командор, спустившись на корму по гибкой серебристой лесенке, пытается оторвать руки певца от штырей, но, так и не оторвав, забирает его вместе с радиобуем…
— Могучего ума паренек, — сказал Командор, кивнув на экран, где юноша еще некоторое время сдерживает толпу. И добавил, помолчав: — Был.
Последние кадры, уже отраженные в предыдущей части этих записок: безнадежный поединок юноши с богом. Один независимый ум против полусотни послушных воображений… Голос Командора за кадром: «Вот так здесь появляются острова…»
— Остальное уже для широкого доступа, — Командор отключил терминал и глянул на дверь камбуза.
— Да, остальное я уже слышал, — кивнул Демодок, пряча терминал в карман пиджака. Подоспевший стюард поставил перед ним холодный консервированный омлет и стакан чаю.
— Кофе тебе вреден, — сказал Командор, прихлебывая из своей чашечки, и усмехнулся: — В твои-то годы…
— Погоди, — сказал Демодок, отложив вилку. — Но разве тут было что-то секретное?
— Детские игры, — отмахнулся Юрий Глебович и придвинул к себе миску с мясным рагу. — Ты лопай, лопай. Я тебя сейчас ругать буду — это на голодный желудок еще вреднее, чем кофе. А секретность… Наденька полагает свою информацию недостаточно достоверной. Поэтому — «только для исполнителя».
— Глазам своим не верит, что ли?
— Вот именно.
— Ага… А кто оценивает достоверность? Сама Наденька?
— Не только. Ты, например.
— То есть, для «десятизначных»…
— Девяти. После восьми знаков недостоверная информация становится доступной: для обобщений и далеко идущих выводов. Между прочим, Фарадей имел бы здесь не больше двух знаков, а Эйнштейн так и остался бы служащим патентного бюро. Зато и Лысенко до конца жизни пребывал бы агрономом на одной севооборотной сотке… Впрочем, это все из других эпох, а сей мир создан воображением нашего с тобой современника. Слямзили у аспиранта тему кандидатской и сделали докторскую; он ушел в глухую обиду и стал придумывать мир, где это невозможно. Мир без руководства — в том числе и научного… Поел? Ну, а теперь приготовься к хорошей порке. Вставать не обязательно.
Сорок лет назад (по своему счету) один кандидат в техники — большой, между нами говоря, разгильдяй и любитель побренчать на гитаре вместо того, чтобы осваивать матчасть, — совершил три ошибки. Первая: неплотно закрыл Надину капсулу, и ассоциативные вихри отклонили ее на старте. Вторая: поспешил отправить Юрия Глебовича, и Юрий Глебович не успел сосредоточиться. Третья ошибка касалась только самого Димы, поэтому о ней Командор говорить не будет. Результат мы имеем перед собой: шестидесятилетний аэд вместо тридцатидвухлетнего квазинавта… А вот из-за первых двух Командор и Наденька не вернулись в действительный мир.
Сначала про Наденьку.
Командор выполнил 52 поиска в Мертвых сферах и нашел ее только в 53-м. Ее занесло в мир, убитый искусственным белком. Она там, бедняжка, такого насмотрелась.» Помнишь, я рассказывал тебе про нужник на окраине Киева? Ну, так там, где оказалась она, — совершенно неподготовленный человек, стажер… Словом, только частичная амнезия и спасла ей рассудок.
Командора она не помнит. И Диму не помнит. Вообще ничего не помнит из того, что было с ней до восемнадцати лет. Так, в общих чертах — без имен, без лиц… Полагает, что родилась и выросла здесь, в этом мире, считает его единственной настоящей реальностью, а свою амнезию объясняет обычной аварией шлюпа в одном из квазимиров (по сути так оно и есть). Аварий у них тут много, пропавших без вести тоже хватает, и некоторые из них возвращаются. Вот она и считает, что ей повезло. Вернулась.
«Вернувшись» и пройдя курс лечения, Наденька сразу стала большим авторитетом на кафедре квазиистории тоталитарных систем, через каких-то два года получила свои пять знаков, на том успокоилась и всей душой предалась акратической вере. Юрию Глебовичу, с его трехзначным кодом и с его неистребимым скепсисом, и близко не подходи к этой идейной барышне — если бы не руки Юрия Глебовича, не его знание «на ощупь» всей этой техники… Ладно.
Командор проявился здесь, вот в этом самом ангаре. Был принят за своего, подлатан, поставлен на ноги, излечен от «амнезии» и определен на работу по специальности. Поначалу, едва осмотревшись, он кинулся было качать права, что-то доказывать… Глухо. Решил действовать по-другому. Заработал трехзначный код по техническим аспектам квазинавтики, бросил этой ерундой заниматься и занялся поисками. В первую очередь стал искать Наденьку, как-то сразу предположив, что в действительный мир она не попала. Тебя оставил на потом: ты все-таки мужик, хоть и раздолбай. Извини… К тому же доступ в действительный мир оказался закрытым, и опровергнуть предположение не представлялось возможным…
— Как — закрытым?
— Ты сначала выслушай, а потом будешь встревать, ладно? Хэппи-энд обещаю. Относительный, конечно…
Почему Командор стал искать ее в Мертвых сферах? Еще в капсуле, теряя сознание, он понял, что идет по чьему-то следу. Если очень охота, можно назвать это профессиональным чутьем: термин, который ничего не объясняет, зато успокаивает. Шел по следу, и лишь перед тем, как окончательно потерял сознание, отклонился. Слегка. Ну, а Мертвые сферы тут рядышком, дорожку этого мира Демодок определил верно…
— Дальше ты знаешь. Семь лет ушло на то, чтобы найти тебя, и труднее всего было заинтересовать Наденьку античными сферами. На этом выговор кончается, и начинаются размышления. Вольно, кандидат, можешь принять участие.
Диме было не до размышлений. Хотелось получить наряд на камбуз, чтобы там попереживать и поплакаться… стюарду, например. Но это был Командор, он пригласил принять участие в размышлениях, и надо было принимать участие.
— Что значит: закрыт доступ в действительный мир? — наугад спросил Демодок.
— Можно начать и с этого, — кивнул Командор. — Доступ закрыт для здешних шлюпов. Консервативная, негибкая технология плюс притяжение Мертвых сфер. Вот куда они скачут с особенной легкостью и охотой! Доступный и богатый материал по квазиистории Власти. Сучки в чужих глазах… Словом, искать Наденьку было гораздо проще.
— Значит, мы — все трое — обречены…
— Наверное, да, но я бы все-таки начал с другого. Не с тоски о действительном мире, а… Ну, назовем это бредом. Вот послушай, до чего я тут иногда додумывался. Мне порой начинало казаться, что никакого действительного мира нет. Есть множество квазимиров. И даже не «квази», а просто — миров. Они дробятся, множатся, пересекаются друг с другом. Отрицают друг друга, или наоборот — подпитывают… оптимизмом каким-то, что ли. Уходят в Мертвые сферы, когда устают быть или когда становятся бесчеловечными… Сколько людей, сколько воображений — столько миров. И даже больше, потому что многие населены. Ну, скажем, могучие миры Льва Толстого, и в одном из них — застенчивый фантазер Пьер Безухов, который тоже создает миры. Плюс к этому — сотворчество читателей, порождающее многочисленные модификаты этих миров… Который из них настоящий? Кто ответит? Вот эта техника? — Командор обвел взглядом кают-компанию. — Так ведь она тоже в одном из квазимиров создана. Задачка не решается!
— Ты рассуждаешь почти как Тоон, — сказал Демодок.
— Тоон? — равнодушно переспросил Командор. — Это твой новый знакомый? — Демодок кивнул. — А может быть, ты его придумал? — Демодок послушно улыбнулся и вскинул брови, но Юрий Глебович не шутил. Улыбался — да, но не шутил. — А может быть, и тебя, и его вообразил кто-то третий?
— Ну, слушай, это уже…
— А какая разница, Дима? Ты — есть. И ты хочешь быть дальше. И знаешь, что тогда самое главное?
— Когда?
— Всегда. И везде. Везде, где есть люди и где они хотят быть дальше… Ты пойми, я ведь сразу сказал: мне это только иногда кажется — вся эта бредятина. Но в какие бы дебри я ни забирался, или наоборот, как бы реалистично я ни рассуждал — самым главным оказывается одно и то же. — Командор замолчал. Надолго. — Терпимость, — сказал он наконец. — Или независимость мысли — но это другое название того же самого. Да-да, и не спорь, пожалуйста, а подумай. Разве может мысль быть независимой, если она нетерпима к другим? Безоговорочное отрицание — это уже зависимость! Вот так…
Они помолчали.
— А вывод? — спросил наконец Демодок.
— Выбор, ты хочешь сказать? Я его уже сделал. Наденька тоже. А твой выбор зависит от цели. И — в какой-то мере — от обстоятельств. Обстоятельства у тебя крутые: кто-то подарил тебе десять знаков, то есть, явно завысил уровень твоей компетенции. А человек, вылезающий за пределы своей компетенции, как правило, погибает — и не только в нашей профессии. Кому-то ты здесь очень мешаешь…
— Там я мешал богам, — сказал Демодок. — Ну, а здесь — если рассуждать по аналогии, — Информаторию?
— Разве что если по аналогии. Тиран-компьютер — это сказки двадцатого века. У компьютера есть пользователи, их наверняка можно обнаружить, ухватить за шкирку, вышвырнуть… сесть на их место… Только все это чушь. Я остаюсь тут не для того, чтобы вершить революции и основывать новые религии.
— Ты — остаешься?!
— Да. И давай не будем об этом. Я нужен им, Дима. Они тут слишком все одинаковые, не миновать им Мертвых сфер, если не будет таких, как я… поперечных. Мне не надо ни стрелять, ни проповедовать, мне надо просто быть. Здесь. Самим собой… И все. Кончили. Давай о тебе. Ты хочешь вернуться?
— Естественно.
— Очень хочешь? Ты ведь уже старый человек!
— Очень… Очень хочу.
— А если не доживешь и умрешь в пути? Он может оказаться слишком долгим!
— Все равно. Лучше в пути, чем… Хватит с меня богов!
— Понятно… Путь такой. Почти на пределе досягаемости моего шлюпа я обнаружил мир, который тоже вряд ли тебе понравится, но из которого, может быть…
ЭПИЛОГ
«У нас, товарищ Горбачев, появился новенький. Все психи как психи, а этот буйный. То есть буйных у нас тоже хватает и я вам писал про одного прошлую неделю, но чтобы такой буйный?! Вот почитайте, что он говорит: он говорит, что звезда над объединением «Томскнефть», которая символизирует газовый факел наших славных томских нефтяников, будто это совсем не звезда, а радиобакен для заоблачных сфер и что все мы покатимся в загробный мир, если не будет под ней честного человека. Это он так глупо понимает вашу Перестройку. Псих, что с него возьмешь, лечить надо! Но это еще семечки, что он говорит, и это еще невредно, а вот и ягодки. Он как-то раз говорил, что из объединения «Томскнефть» наших славных томских нефтяников надо сделать музей завоевания природы, а из Областного совета — музей политического руководства, а из Областного театра — музей управления культурой, и что однажды это уже сделали. А я точно знаю, что никаких музеев там не было и все томичи это вам скажут, и что деревья там всегда росли, а он говорит: вокруг музеев была базальтовая площадь километром диаметр и называлась Пантеон, а это всегда была площадь Революции. И получается он не просто псих, а псих вредный. И для Перестройки вредный, и для нас несчастных, которые хотят вылечиться. Что он с Гомером дружил это его личное дело и никого не касается, пускай бы лечился себе от своего Гомера и нас бы не мучил. А он пристает к нам что-бы все были терпеливыми и друг-дружку понимали. А как его поймешь когда он про загробные сферы заговаривается и говорит что все мы ненастоящие, он один только. Как же быть терпеливыми, когда от таких как он терпение у Народа лопнуло и вы, товарищ Горбачев, Перестройку начали!! А он обложился своим Гомером которого ему сестра принесла и сказала что можно, и он каждый день что-то пишет, а мне писать не разрешают. Сестра хитрющая и все мои письма находит и отбирает, но два раза не нашла и я их за окошко выбросил, добрый человек подберет и отправит. И это письмо я тоже за окошко выброшу если сестра не найдет. А у него не отбирают и говорят что пусть пишет, его это успокаивает.
А меня может быть тоже!!!
Вот написал вам письмо дорогой Михаил Сергеевич, и на душе как-то лучше, а вы сверху скажите что-бы у него тоже тогда отбирали потому-что про Гомера он тоже наврет».


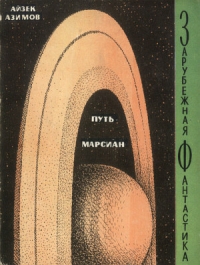
Комментарии к книге «Сон войны», Александр Ревович Рубан (demodok)
Всего 0 комментариев