Леонид Ашкинази Черно-белое биение жизни
Он посмотрел на меня задумчиво и сказал — ну, вообще-то я знаю способ помочь вам, друг мой… но это потребует от Вас некоторой работы. Я изобразил на лице готовность — а что мне еще оставалось делать? — сам же напросился. Вот вы говорите — продолжил мой доброжелательный собеседник — что ваша девушка — я иронически улыбнулся, мой собеседник заметил это и поправился — объект ваших чувств, скажем так… скептически относится к вашим чувствам… вот вы даже цитируете — не терплю, когда меня обнимают дрожащими руками… а знаете, почему? Нет? Ну, стыдно вам… задачка-то из простых. Им нужен высокостатусный самец — чтобы обеспечивал безопасность потомства. Это биология. Против природы — то есть против меня, друг мой, не попрешь. А ваша… виноват… ваш объект — она же вам битым словом говорила — «что я дам ребенку?» Поймите, голубчик, она нормальный человек. Конечно, она умна, сверх нормы работоспособна, сверх нормы контактна — но это все интеллект или воспитание. Вот вы и окосели, фигурально выражаясь… А в своей биологической основе она изумительно нормальна. Только вот трусишки… — я посмотрел на собеседника в упор и напрягся — ладно, ладно, это я шучу, ну и подумайте — будь у нее размер поменьше, может вы и не обратили бы на нее внимания? А высокостатусный самец — это что? Для самых глупых — деньги, для тех, что поумнее — хам и грубиян, для умных — невозмутимость. А она у вас умная. Понятно? Я кивнул — а что мне еще оставалось делать? Она же вам, голубчик, битым словом сказала — ну помолчи ты хоть две встречи о твоих чувствах, дай мне — понимаете подтекст? — дай мне обмануться, представить тебя этим… невозмутимым. Она же это просто в лоб тебе говорит, а ты как тетерев или этот, глухарь… Пою и пою. Ну и кончишь в бульоне. Тоже мне, Галина Бланка…
* * *
Описание событий, следующих одно за другим, при всей наивности этого жанра, имеет некоторый смысл. Если человек вообще живет — читает, общается, работает, пишет, думает, то событиями в цепочке становятся те, которые на самом деле совершенно не случайны. Например, человек А. думает о человеке Л., мысленно с ним разговаривает и мотается по делам работы по городу.
Пробегая мимо книжных прилавков, он на очередном замечает книжку автора, от которого Л. балдеет. — Ага! — произносит А. и вцепляется в. Далее все понятно — он читает эту, видит в ней какое-то интересное утверждение, начинает его комментировать и опять все не случайно. Человек, думающий о чем-то одном, неминуемо извлекает из мира то, что имеет к этому какое-то — не всегда очевидное — отношение. Поэтому события не случайны. Вот вы говорите, голубчик, что она вам что-то о вас, о ваших действиях говорила…
Да? Я кивнул — а что еще я мог сделать? Ну и что, ведь не слушались, наверное? — продолжил мой собеседник с соболезнующей улыбкой. И что странно — продолжил он, положив ногу на ногу — если в кровати девушка ласково так скажет тебе «ниже» или движением руки даст понять, что ей хватит… я не выдержал — да! Конечно, да! — Ах, «да», — издевательски протянул собеседник. Конечно, да… а когда женщина до кровати подсказывает тебе, как за ней ухаживать, почему не слушаешься, засранец?! Повисла нехорошая тишина.
* * *
Так что вас в книге Фрая задело? — То, что он про «власть несбывшегося» пишет, — ответил я. Мой собеседник показал пальцем на стол и посреди него сконденсировалась книга, уже раскрытая на 262 странице.
«Власть литературы над читателем — это и есть власть несбывшегося. Власть вашего личного несбывшегося над вами — абсолютная, беспощадная и бесконечно желанная. Пока вы лежите на диване, скрючившись в позе зародыша, с книгой в руках, с вами случается то, чего с вами никогда не случалось — и не случится! — НА САМОМ ДЕЛЕ, но разница между „самым делом“ и „не самым делом“ не так уж велика для очарованного бумажного странника. Пока он там — он ТАМ, все остальное не имеет значения. Но трагедия читателя в том, что писатель — не маг. (…) Чуда не будет. Вообще ничего не будет, никогда, потому что чудо должно быть Настоящим, а на Настоящее с большой буквы в жизни читателя почти не остается ни времени, ни сил…» — Ну и что, продолжил мой собеседник, убедившись, что я прочел, — ну и что? Чем же это вас, голубчик, задело? Только не надо про деревянную фразу в конце и высокопарие в начале, редактор недоделанный…
Более чем достойный противник приглашал меня к барьеру. Во-первых, власть несбывшегося не абсолютна, — ответил я. Пока он там — он там; но он возвращается оттуда с каким-то чувством, или с опытом, а это толкает его на действие. Опять же… — Спокойно, — перебил меня собеседник. — Не заводитесь, друг мой. В 95 % случаев все так, как написано. Ты счастливое исключение. С твоей уверенностью, что жизнь удивительна и прекрасна, что работа, женщины, ученики, горы, шорох занавески и свет звезд стоят того, чтобы жить, с твоей смешной уверенностью, что человек может столько чуда сделать сам и так верить в него, что я — сам Я дрогну, кину на весы последнее перышко и ЧУДО НАСТАНЕТ… знаешь, даже я смотрю на тебя с интересом. Ты вот недавно читал Пелевина? И в моем сознании немедленно всплыло: «Ты выходишь из человеческого мира, и если бы ты понимал, сколько невидимых глаз смотрит на тебя в этот момент, ты бы никогда этого не делал.
А если бы ты увидел хоть малую часть тех, кто на тебя при этом смотрит, ты бы умер со страху. Этим действием ты заявляешь, что тебе мало быть человеком и ты хочешь быть кем-то другим. Во-первых, чтобы перестать быть человеком, надо умереть. Ты хочешь умереть?» — Да, мне мало, — ответил я. — Но почему «умер со страху», — начал я фразу и понял, что лучше бы мне ее не договаривать, но было уже поздно — ты не выглядишь страшным, о мой собеседник. Собеседник нехорошо улыбнулся. — Хочешь, чтобы сирруф показал тебе «биение жизни»? Или так, на слово поверишь… Для меня, — продолжил я осторожно, понимая, что еще одно неосторожное слово — и я получу полным ковшом — важно, что будет, когда я стану кем-то другим. Ты понимаешь меня, о Всесильный и Грозный? Он бросил на меня мимолетный взгляд, как огонь Тофета на героя Пелевина, и я понял, что как тому был послан ответ, так мне послан вопрос. Однако — мелькнула мысль — это еще почетнее! — и я ответил на вопрос — мне важно, встречу ли я там ее. И уже произнеся это, я ужаснулся — зачем? Зачем он, который читает в сердцах, задал вопрос? Он хотел знать, осмелюсь ли я ответить?
* * *
Тора написана черным огнем по белому огню — Платон был прав, сучий потрох, проклятый родоначальник тоталитаризма — но видимый мир — это действительно тени на стене пещеры, а истинный мир написан черным огнем по белому огню, это мир любви. И если бы не было черного огня, мы бы не умирали от того… от того, что не все секунды времени твой белый огонь со мной… Но тогда мы бы мгновенно сгорели: мы живем только потому, что страдаем.
* * *
— Хорошо — помолчав, произнес мой собеседник. Такое чистое и ясное сатори — это редкость. Это удовольствие. Помнишь, что сказал Малыш Стругацких? Я кивнул — сил отвечать не было. — Ну хорошо, — после паузы продолжил мой следователь, — у меня есть еще вопрос. Я кивнул — а что мне еще оставалось делать?
— Вот ты, — назидательно продолжил мой собеседник, — вот ты читаешь запоем, музыку слушаешь, работаешь, пишешь, со мной вот беседуешь, хотя это-то вне времени… ну, в целом очень уж жить пытаешься. И, надо признать, получается. Про седьмую заповедь уж не будем, спасибо, что десятую соблюдаешь. (Все, все знает — подумал я со стыдливым восхищением, — и то, что я прелюбодеяю — как же это сказать-то правильно, блин! — и то, что стараюсь не отбивать…). Он помолчал — уж не давая ли мне время на эту мысль, хитрюга? — и продолжил — жить, одним словом, стараешься экстремально активно, а вот в конце что будет? Как функция рваться будет, представляешь?
Мне страшно думать об этом, — честно признался я. Но уклониться от вопроса я себе позволить не могу, — добавил я и замолчал. Собеседник ждал.
— Трудно при моем характере и ментальности плавно вписаться в смерть… — осторожно начал я, — мне кажется иногда, что я — кочегар в «Желтой стреле» Пелевина, идущей к разрушенному мосту, но что я не хочу сойти с поезда, как его герой, а в чудовищной своей нелогичностью надежде на чудо кидаю лопату за лопатой уголь в зев топки и летящий туда уголь видится мне черным огнем по белому огню… а на шее у меня на пропотевшем шнурке мотается диктофон и я спешу рассказать, что вижу… и верю — набрав скорость, проскочить. Не знаю, куда… Может, старуха не успеет, может быть, отшатнется от огня, бьющего из распахнутой топки, а может быть — совсем уж нелепо думаю я — все ж лопата, добрая древесина, да железка, а что, если… чего там коса — лопата в крепких руках, чай, пострашнее будет… А ежели что, так не жалко, запись услышат, и в других поездах, что рвут воздух и летят к мостам, глядишь, покрепче у топки встанут, ловчее лопатой взмахнут… кто знает… а если что… всяко случается… был такой Аристид Майоль, великий скульптор, совершенства достиг, не захотел вниз с вершины, а «спустился ночью в гараж, сел в машину и повел ее к берегу океана… к любимому месту около Этрета, где суша обрывалась в воду отвесной скалистой стеной…» это у Паустовского описано… а еще у Лема… загадочный конец «Возвращения со звезд», когда он решил покончить с собой… думают — потому что она его не поняла, потому что получилось, что он добился своего шантажом — нет! Не в этом же дело! Просто не захотел, не захотел обратно, обратно с вершины… и только она спасла его… она вернула его в жизнь, считайте, вернула уже из оттуда; мужчина, он решил — все — и, значит, все, уже был там; так что она, считайте, в те минуты на летящем из ночи шоссе стала женщиной — она родила его, родила из суицида.
* * *
— Когда я еду с ней в метро, освобождается два места, она садится и делает свой жест — прикасается ладонью к сиденью рядом — «сядь» — меня захлестывает такая волна ледяного восторга… если бы ты, о Всемогущий и Грозный, знал это… Мой собеседник скептически улыбнулся. — Я-то что, я знаю, я могу… — ответил он, — дело же не во мне… дело в тебе… ты же хочешь, чтобы она пошла тебе навстречу сама, чтобы не я за сценой ручки крутил, а чтобы честно, чтобы твои мысли, твои слова, чувства, тексты, короче — ты сам, чтобы она к тебе только сама и только из-за тебя на шею бросилась! Что я мог на это ответить? Ведь Он сказал правду.
* * *
В одном из старых фильмов была такая сцена — трое решили остановить машину. Вышли на шоссе, встали в ряд, взялись за руки, а страшнее всего среднему, он извивается, пытается вырваться, а двое средних держат его со свирепыми лицами. Трудно вытаскивать свое подсознание на шоссе… Да и что летит по этому шоссе навстречу троим, этим либидо, эго и суперэго? Жизнь или смерть? Чей сияющий белым огнем бампер расцветает на черном огне ночи?


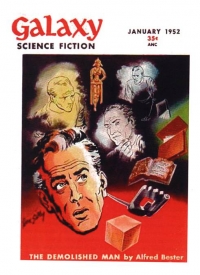

Комментарии к книге «Черно-белое биение жизни», Леонид Александрович Ашкинази
Всего 0 комментариев