Зиновий Юрьев ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕННИКИ
Шагов до окна было ровно восемь. Не размашистых, не быстрых, не пружинящих, которыми он ходил — да что ходил — летал! — когда-то, а шаркающих, неверных шажочков — последствия инсульта. Дистанция, конечно, не совсем марафонская, но Владимир Григорьевич преодолел ее сегодня очень недурно, даже не остановился ни разу и, очутившись на стуле у окна, почувствовал смешную гордость — хоть выбрасывай вверх кулак жестом спортивного триумфа. Он на мгновение так и представил себе многоцветную гудящую чашу стадиона, а на гаревой дорожке себя, в своей вельветовой пижамке: одна рука на палочке, другая горделиво поднята вверх.
Он слегка ухмыльнулся. То, что он еще мог шутить или хотя бы пытаться шутить, было неплохо. Ей-богу, неплохо. Одна из немногих оставшихся маленьких радостей. Точнее, причин для самоуважения. Еще точнее, последний щиточек против давящей безнадежности последней финишной прямой.
Его семидесятивосьмилетнее немощное тело напоминало ему иногда медленно тонущий корабль: еще одна пробоина, еще одна, отказывает рулевое управление, заливает котлы. Покинуть судно он не может, как капитан. Но в отличие от него этот вопрос не профессиональной этики, а цепей, которыми он прикован к кораблю. SOS послать некому, да и не поможет никто, когда вот-вот пойдешь ко дну, и остается только улыбаться. Хотя бы только потому, что больше ничего делать не оставалось. Капитан, капитан, улыбнитесь…
Владимир Григорьевич расчетливо зацепил палочку ручкой за спинку стула — когда нагнуться, чтобы поднять упавшую палку — почти подвиг, поневоле станешь расчетливым — и взял бинокль. И бинокль он поднял расчетливо, правой рукой, левая у него после инсульта слабенькая, обхватил плотно, чтобы не уронить, не дай бог. Вещи уже давно относились к нему с оскорбительным пренебрежением: то и дело норовили выскользнуть из рук, упасть, спрятаться.
Как и всегда, прикосновение руки к черному шероховатому телу бинокля было чувственно-приятно. И оттого, что был это отличный прибор, легкий и мощный, с двенадцатикратным увеличением. И оттого, что подарил его внук, единственная родная душа в его сжавшемся, опустевшем мирке. Сашка купил его в Гонконге, двадцать пять долларов, знал, чем порадовать деда.
Владимир Григорьевич ухмыльнулся. Кажется, астрономы и астрофизики до сих пор не могут решить, сжимается ли Вселенная или раздувается в чудовищном флюсе. С его вселенной, увы, дело обстояло проще. Она стремительно сокращалась, черные дыры успели уже поглотить почти всех дорогих ему людей, силы, здоровье. Что ж…
Он вспомнил о письме внуку, которое написал уже недели две тому назад и все никак не решался отправить. Даже в конверт вложил, вывел почетче адрес: «Константин Паустовский», штурману Александру Семеновичу Данилюку. А отправить не отправил. Получилось письмо длинным, печальным и каким-то плаксивым.
«Саша, — скажут внуку на его «Паустовском», — тебе письмо».
Или к штурману полагается обращаться на «вы»?
Внук неторопливо вскроет конверт — даже не глядя на обратный адрес, по одному дрожащему стариковскому почерку сразу увидит, от кого письмо, — куда торопиться, какие срочные вести может сообщить ему немощный дед? Скользнет глазами и поморщится, что-то расхныкался дедуля. Жаль, конечно, старика, да что ж поделаешь.
Немножко он, конечно, перехватывал в своем воображении. Перестраховывался. И не скользнет торопливо взглядом Сашка по дедову письму и не поморщится. Любят они друг друга. И именно поэтому не хотелось Владимиру Григорьевичу лишний раз огорчать парня.
Не хотелось со стариковским эгоизмом перекладывать на Сашкины плечи свои неизбывные печали. Да, плечики у парня атлетические — Владимир Григорьевич живо представил его с гантелями в руках, с блестящими от юного пота бицепсами и трицепсами, но каждому возрасту своя ноша. Одному — пудовые гантели, другому — палочка с резиновым наконечником. Написать ему надо просто что-нибудь забавное, легкое. Чтоб улыбнулся. Чтоб вспомнил деда и его необременительную любовь. Главное — необременительную. Может, в этом главный секрет любви — не дать ей превратиться в бремя, уберечь ее от слова «должен»? Ну, например, написать Сашке, как он только что представил себя на гаревой дорожке…
Чтобы удобнее было держать бинокль, он сложил на подоконнике несколько книг стопкой. Наверху оказался Бальзак в воспоминаниях современников. Книжка чем-то неуловимо напоминала самого великого романиста, каким он представлялся Владимиру Григорьевичу: была она плотной, солидной, надежной.
Владимир Григорьевич вдруг вспомнил, как ездил когда-то в писательской туристской группе в Таиланд. Зачем ему непременно нужно было мотаться через пол земного шара в жаркий и влажный Таиланд, он не знал. Наверное, главным образом потому, что попасть в группу было необыкновенно трудно, а стало быть, и престижно. Он бегал, взъерошенный, по кабинетам, выпрашивал какие-то унизительные характеристики, словно это не он покупал туристическую путевку за свои тысячу триста кровных рублей, а ему оказывали высочайшую милость. Потом он зачем-то заучивал совершенно неудобопроизносимые фамилии таиландских политических деятелей, обмирая, как школяр перед какими-то нелепыми и тоже унизительными собеседованиями, с трепетанием сердца ожидал, что вот сейчас кто-нибудь из этих буддоподобных собеседующих пронзит его своими оловянными глазками и проскрипит ехидно:
«А скажите, товарищ Харин, почему вам вдруг понадобилось в Таиланд?» Ответа на этот вопрос не было. Впрочем, его и не задали. А зря. Может быть, тогда бы он остался в Москве и не мучился за тысячу триста рублей от влажной духоты, а главное, от того, что, оказывается, зря он заучивал имена таиландских министров. Таиландцы, как выяснилось, сами их не очень твердо знали, и Владимир Григорьевич подозревал, что нисколько от этого не страдали.
Не так почему-то было жалко денег, как усилий, потраченных на заучивание этих имен. До слез было обидно. Сколько прекрасных и важных вещей не сохранил он в памяти за свою жизнь, вещей, которые были бы ему утешительной опорой на старости лет, а вот надо же — до сих пор крутятся в голове эти многосложные таиландские имена.
Зато потом, после поездки, можно было бы в разговорах небрежно вворачивать: помню, как-то раз в Бангкоке… Вворачивать, конечно, можно было, по поводу и без повода, но Владимир Григорьевич уже в самолете понял, что ни Таиланд вообще, ни Бангкок в частности его нисколько не интересовали, что он просто поддался бараньему стадному чувству, презирал себя за это, и в ровном плотном гуле четырех реактивных двигателей четко различалось басовитое «иди-от». И даже расстройство желудка, которое мучило его в дороге, он воспринял с удовлетворением: правильно, так тебе и надо, глобтроттер.
Зато теперь Владимир Григорьевич совершал путешествия кроткие, смиренные, полные светлой печальной радости. Без характеристик и собеседований. И совершал он их при помощи своей чернобокой призматической «фуджи» с просветленной оптикой. И посещал места таинственные, полные неизъяснимой прелести и непередаваемой красоты. Посещал один, без групп и проводников, тайно, никому о них не рассказывая, никого с собой не приглашая.
Начинал он всегда с кустиков молодой крапивы. В слегка дрожащем и потому таинственно-сказочном поле бинокля ее длинные зубчатые листья казались необыкновенно изящными, а вспыхивавшие здесь и там капельки были многокаратными бриллиантами самой чистой воды. Эта юная горделивая крапива была женственной — Владимир Григорьевич не уставал удивляться, с какой элегантностью она драпировала длинные листья какой-то бахромой. Порой ему остро хотелось погладить эти свежие листья: крапива была так юна и беззащитна, что вряд ли она обожгла бы своего поклонника. Впрочем, если бы и обожгла, тоже не беда: за удовольствия надо платить, от этого их больше ценишь.
Потом он медленно перебирался к рябине, минуя две ели. Ели были старые, пенсионного вида, скучные, унылые, с множеством сухих некрасивых веток, с сероватыми потеками смолы на сероватых шершавых стволах. Зато оранжевые гроздья рябины надолго приковывали его бинокль. Ягоды были слегка морщинистые, наверное, от того, что они испуганно жались друг к другу, — опасностей-то сколько кругом! — и Владимир Григорьевич думал, что осенью, когда они нальются после первых заморозков сладостью, он попросит врача Юрия Анатольевича или сестру Леночку сорвать ему гроздь. Кто знает, а может быть, он сможет сделать это сам. При этом Владимир Григорьевич не забывал мысленно добавлять трехбуквенное уточнение: ебэжэ. Что значило: если буду жив. Было это некой игрой. Порой казалось Владимиру Григорьевичу, что костлявая с косой может обидеться, когда о ней надолго забывают, и заявится разгневанная, чтобы напомнить о себе. И наоборот: если оказываешь старухе уважение, признавая ее власть, может, и выйдет отсрочка — проковыляет лишний разок мимо…
А увидел эти самые магические буквы ЕБЖ Владимир Григорьевич в дневниках Льва Толстого, великий старец в последние годы ни странички без них написать не мог.
Было в заклинании и еще одно немаловажное достоинство: повторяя его беспрестанно, привыкаешь помаленьку к мысли, что Ж вовсе не вечно, что в любое мгновенье можно оказаться и не Ж. И что Ж не есть нечто само собой разумеющееся, тебе полагающееся, а редкостная драгоценность, которой надобно восторгаться постоянно.
После рябины Владимир Григорьевич уже не столько продолжал путешествие, сколько торопился на свидание. Конечно, можно было и не скользить мимо елей к рябине, а сразу после крапивы чуть повернуть бинокль налево, но в откладываемом свидании тоже есть своя сладость.
Вот треснувший пористый кирпич из дурно обожженной, почти сырой глины, губастое горлышко молочной бутылки. На мгновение сердце Владимира Григорьевича сжалось от нелепого страха, где же она, неужели… господи, да вот же она, его земляничка. Вот ее трилистник, а вот она сама. Со вчерашнего дня она, казалось, повзрослела, налилась, и даже левый бочок начал заметно терять детскую белизну под напором красного сока.
Владимир Григорьевич хмыкнул. Конечно, если бы кто-нибудь узнал, что старый дурак умиляется какой-то никчемной ягодкой, которой-то и жизни-то всего несколько дней, кивнул бы понимающе: что вы хотите, старикашка тово, хотя для своего возраста еще впоол-не…
Привычно и все равно пугающе резко кольнуло в сердце, и Владимир Григорьевич поднял голову и осторожненько вздохнул, загадывая, что боль не задержится, а исчезнет. Так и случилось, но на сегодня путешествий хватит. Он вложил бинокль в футляр, закрыл приятно хрустящую «молнию» и снова подумал о внуке. Даже не подумал, а просто увидел его: со все еще непривычно русой бородкой, большого, широкого, смеющегося, протягивающего руки к деду.
В сентябре обещал прилететь, увидимся, ебэжэ, конечно, подумал Владимир Григорьевич.
В комнату вошел Константин Михайлович, сосед Владимира Григорьевича. Был он высок, лыс, рыхл. Щеки его слегка отвисали, придавая ему сходство с лысым бульдогом. Владимир Григорьевич помнил его еще главным режиссером театра. Был тогда Костя строг, суров, не раз и не два актрисы украдкой промокали осторожненько глага после его репримандов, а актеры шли пятнами и стискивали кулаки, чтобы не высказать главному то, что они о нем думали.
Теперь, оказавшись в Доме театральных ветеранов и страдая от склероза, он утратил вместе с должностью и строгость и лишь изредка впадал в беспричинный гнев.
Знакомы они были лет двадцать, относились всегда друг к другу с симпатией, хотя Костя ни разу не ставил пьесы Владимира Григорьевича, и отлично уживались, тем более что оба не храпели — качество, в общежитии ценимое необыкновенно.
Иногда Владимиру Григорьевичу даже чудилось, что он испытывает некое уважение к соседу именно за то, что тот не ставил его пьесы. Тогда, много лет назад, он, может, и гордился своими сочинениями, но сегодня ему даже не хотелось вспоминать их постыдную обтекаемость и диетическую обезжиренность. Верно, времена были такие, но, с другой стороны, кто заставлял его писать эти ловкие пьески? Кто заставлял тщательно обстругивать, шлифовать и лакировать, делая их аэродинамически совершенными и радующими начальственный взгляд? Ну, да бог с ними, что было, то было. Ну, не Шекспир он, не Чехов — он уже давно это понял, что делать. И к тому же, утешал он себя, окажись он действительно Шекспиром, еще неизвестно, как бы сложилась его театральная судьба. Гении и чиновники, как правило, не очень жалуют друг друга. Особенно в периоды застоя, как теперь принято говорить.
— Ходил за газетами, — сказал Константин Михайлович, — опять «Литературки» не досталось. С ночи ее, что ли, караулить…
— Ничего, Анечка нам сейчас принесет газету.
Сказал это Владимир Григорьевич, чтобы успокоить соседа. «Литературной газеты» на всех обитателей Дома не хватало, и иногда ею потом делились. Но, сказав: «Анечка сейчас принесет газету», он вдруг почувствовал странную уверенность, что Анечка действительно принесет «Литературку», и принесет ее именно сейчас.
— Что принесет? — спросил Константин Михайлович.
Владимир Григорьевич уже давно привык к внезапным пробуксовкам памяти соседа и терпеливо объяснил:
— «Литературку», ты ж говорил, что тебе не досталось сегодня.
— А… да-да. Абер дас ист ничево-о.
Стажировался когда-то у Константина Михайловича режиссер из ГДР, который любил повторять эту фразу. Заразился ею и Константин Михайлович.
В этот самый момент Владимир Григорьевич почему-то почувствовал, что день сегодня необыкновенный, хотя ничего необыкновенного в нем, казалось бы, не было. Плюс восемнадцать, без осадков, ветер юго-западны». Омлет на завтрак. Что еще? Но ощущение было настолько сильным, что он нисколько не удивился, когда в дверь их постучали и, не ожидая ответа, ее открыла Анечка. Анечке, или Анне Серафимовне, было слегка за семьдесят, как она выражалась, но она была постоянно полна энергии, новостей и интереса ко всему окружающему. Рассказывая о чем-нибудь, она округляла таинственно всегда подведенные глаза, говорила «представляете себе?» и многозначительно кивала, отчего на голове ее испуганно вздрагивала легонькая прядка крашенных в оранжевый цвет волос.
— Мальчики, а я вам «Литературку» принесла. И еще «Известия». Наконец-то признают, что экстрасенсы действительно обладают какими-то особыми свойствами, представляете? В газете.
— Абер дас ист ничево-о, — привычно и бездумно пропел Константин Михайлович.
— И вы, Анечка, верите во всю эту парапсихологию? — спросил Владимир Григорьевич только потому, что знал, как приятен будет такой вопрос Анечке.
— Верите? — снисходительно-саркастически повторила Анечка. — Верю ли я? Володенька, как вы можете спрашивать такую ерунду?
— В каком… это… смысле? — подозрительно спросил Константин Михайлович.
— В самом прямом, мальчики. Ни один уважающий себя человек, хоть с каким-нибудь умишкой, никогда не мог закрывать глаза на реальное существование всяких там знахарей, бабок с заговорами, шаманов, колдунов, заклинателей, представляете? И их способность помогать. Еще врачей никаких не было, о медицине и слыхом не слыхивали, ни аптек, ни бюллетеней, а они лечили, представляете? Сегодня, если в аптеках перебои, допустим, с клофелином, кажется, что это трагедия. А наши предки ничего, обходились. Потому что миллионы лет их лечили экстрасенсы, представляете? — Анечка кивнула победно и улыбнулась снисходительно, как улыбаются в разговоре с детьми.
— Но нельзя же быть доверчивым, как деревенская баба, — сказал Владимир Григорьевич. Он видел Анечкино воодушевление и подыгрывал ей. — Чрезмерная доверчивость, Анечка, никогда не украшала настоящий интеллект.
— Кто спо-о-рит, Володенька. Но и чрезмерная недоверчивость тоже удел ума скудного и трусливого, представляете?
— Ого, Анечка, вы сегодня настроены решительно, — сказал Владимир Григорьевич.
— Абер дас ист ничево-о-о, — вздохнул Константин Михайлович.
— Я под впечатлением необыкновенного совпадения, мальчики. Просто необыкновенного.
— Расскажи, — попросил бывший главный режиссер. Правой рукой он то застегивал пуговицы рубашки, то расстегивал их.
— Представляете, на днях дочка приволокла мне толстенную книгу английского писателя Колина Уилсона о всякого рода оккультных материях. Катька знает, как уважить матушку. Я ведь уже почтенной дамой выучила английский, чтобы можно было хоть что-нибудь почитать на эту тему. А то ведь по-русски только «Справочник атеиста». И все кругом одни предрассудки и мракобесие. И вот сегодня ночью я читала о самом знаменитом медиуме прошлого века Дэниэле Данглэсе Хьюме…
— Может, Дугласе, — сказал Константин Михайлович. — Данглэс — такого имени нет.
— Может, и нет, — легко согласилась Анечка, — но только его звали Даниэл Данглэс Хьюм и родился он в Шотландии.
— В Шотландии? — переспросил раздраженно Константин Михайлович. — При чем тут Шотландия?
— Костя, — сказал Владимир Григорьевич, — Анечка же нам рассказывает что-то очень интересное. Она прочла об английском медиуме Хьюме, и, представляешь, он как раз родился в Шотландии.
— А-а, — удовлетворенно кивнул Константин Михайлович, — это другое дело. Так бы сразу и сказали, а то…
Владимир Григорьевич знал, что сосед страдает болезнью Альцгеймера, и заставлял себя относиться к его забывчивости и капризам с терпимостью. Чтобы это было легче, он представлял себе немецкого врача Алоиза Альцгеймера, впервые описавшего болезнь в 1907 году (он узнал об этом из энциклопедии), высоким жилистым стариком в строгом черном костюме с жестким крахмальным воротничком с отогнутыми уголками, жесткими седыми волосами, стриженными ежиком, с жестким взглядом серых глаз. Старик этот был ему в высшей степени неприятен, и жертва его — Костя — заслуживал поэтому всяческого снисхождения.
— Так в чем же необыкновенное совпадение? — спросил Владимир Григорьевич и подумал: вот уж действительно совпадение: у Анны Серафимовны случилось что-то необыкновенное, и у него голова кружится от предчувствия какой-то особой значимости этого дня. И это-то в их Доме, где время сочится медленно, как вода в полупересохшем ручье, и редко приносит что-нибудь достойное внимания.
— Как в чем? — Анечка даже подпрыгнула от недогадливости своих слушателей. — Ночью я читаю о великом медиуме Хьюме, а утром в газете «Известия» вижу, впервые в нашей стране, заметьте, впервые, мальчики, официальное признание реальности необыкновенных способностей экстрасенсов. Даже не понимаю, как у них там в газете решились на такой подвиг. То все выдумки, шарлатанство, чепуха, как элегантно выразился покойный один физик, а то вдруг: следует признать… Или постановление какое-нибудь вышло про экстрасенсов…
— Э… — замычал Костя, и лицо его отобразило напряженную мысленную работу. — Э… а… — Он вдруг просиял и спросил: — Да, Анечка, но что общего между… медиумом и экстрасенсами? Медиумы ведь… это… гм…
— Те, кто вызывает духов, — подсказал Владимир Григорьевич.
— Да, — благодарно кивнул Константин Михайлович. — Духи, столоверчение, ну…
— Мальчики, мальчики, экие вы у меня шустренькие. Я и рта не успела открыть, чтобы рассказать вам про Хьюма, а вы уже злорадствуете: ага, путает старуха.
— Анечка, — твердо и сурово сказал Владимир Григорьевич, — это нечестно. Не кокетничайте. Все мы отлично знаем, что вы такая же старуха, как я… ну, скажем, тяжелоатлет. А то, что в паспорте — вздор, который никого не интересует. Признайтесь, сколько вы дали кому-нибудь на лапу, чтобы прибавить себе в паспорте лет пятнадцать?
— Спасибо, Володенька, — благодарно кивнула Анечка и поцеловала Владимира Григорьевича в щеку. Рука его, правая, здоровая, сама по себе поднялась и обняла старую актрису за бочок. Она на мгновенье задержала свой взгляд на лице старого писателя и благодарно улыбнулась. Улыбка получилась легкой и таинственной. — Так вот, мальчики мои дорогие, Хьюм был в первую очередь экстрасенс, хотя в прошлом веке этим словом не пользовались, а скорее всего его и не было вовсе. Рассказать?
— Не задавай глупых вопросов, — сказал Константин Михайлович и застегнул в очередной раз рубашку.
— Хорошо, мальчики. Значит, родился Дэннэл Данглэс Хьюм…
— Может, Дуглас? — спросил Константин Михайлович, и Владимир Григорьевич сделал незаметный знак Анечке, чтобы она не обращала внимания.
— Хьюм родился в Шотландии в тысячу восемьсот тридцать третьем году…
— Аня, — удивился Константин Михаилович, — ты помнишь… э… цифры… то есть… даты?
— Да.
— Как странно… я вот… особенно на память не жалуюсь, но числа положительно у меня в голове не держатся. Вчера вдруг сообразил, верите, что не помню свой номер телефона, разволновался… Это ж надо1 Стал искать визитную карточку, там, помню, внизу два телефона, служебный и домашний, и ее, представляете. не мог найти. Все обыскал. Неужели на работе оставил, гм… Наверное, в кабинете. Да, наверное, — Костя, милый, — ласково сказала Анна Серафимовна, — не бери в голову. Чего волноваться? Квартиру свою ты уже три года как сдал, когда сюда переехал, зачем тебе старый номер телефона?
— Что? А… ведь и верно, — облегченно улыбнулся Константин Михайлович. — Верно. Я как-то сразу и не сообразил… Абер дас ист ничево-о.
— Аня, не отвлекаться, — сказал Владимир Григорьевич. Он по опыту знал, что не надо давать соседу сосредоточиваться на своей забывчивости.
— Не буду. Итак, мальчонка был незаконнорожденный. Кто его отец, мать, наверное, знала, потому что была ясновидящей и всегда точно предсказывала смерть родных и знакомых, но сыну не говорила. Девяти лет она отправила его к тетке в Америку. У него была отличная память, он любил читать стихи, сам выучился играть на фортепьяно.
Еще в детстве он утверждал, что видит друзей и знакомых, находящихся в других местах, но никто, естественно, ему не верил, и отучали его от глупостей решительными подзатыльниками — в прошлом веке воспитывали детей энергично.
Когда ему было шестнадцать лет, в доме миссис Кук — так звали тетку — начали раздаваться какие то таинственные стуки, и столы двигались сами по себе. Тетка не без основания решила, что все это как-то связано с Дэниэлом, что он, видимо, якшается с чертом, и заставила юношу долго молиться с баптистским священником, которого вызвала специально для этого. Вначале молитва возносилась вполне благопристойно, но потом вдруг послышались стуки, барабанная дробь, священник замолчал с выпученными от ужаса глазами, а тетка в порыве негодования выгнала племянника из дому. Особенно ее и винить нельзя. Воспитывать племянника и без того дело хлопотное, а племянника на пару с чертом — это уже не шуточки.
В Америке в ту пору был, так сказать, медиумный бум, начатый знаменитыми сестрами Фоке, и Дэниэл быстро приобрел известность. По свидетельству современников, был он человеком слабым, хвастливым, вульгарным, но добрым. На фотографии он похож на Эдгара По — бледное, печальное лицо с задумчивым, как бы обращенным внутрь, выражением глаз.
Он вырос снобом, любил дорого одеваться, но был совершенно лишен коммерческой жилки. Оскорблялся даже, когда ему предлагали деньги за сеансы.
— Но что он все-таки делал? — спросил Владимир Григорьевич.
— Во-первых, в отличие от других медиумов он проводил сеансы при дневном свете. Он настаивал, чтобы его либо связывали перед началом, либо держали за руки. Ему даже не нужна была атмосфера таинственности — присутствующие могли болтать друг с другом о чем угодно.
— Анечка, ангел, — сказал Владимир Григорьевич, — не томи, что же он все-таки делал?
— Терпение, мальчики. Все по порядку. Прежде всего, столы начинали подергиваться, прыгать, становиться дыбом. Причем, как бы они ни наклонялись, предметы, лежавшие на них, не соскальзывали, и свечи горели так, как будто столы находились в горизонтальном положении. Присутствующие пробовали держать столы за ножки, но столы и их поднимали с земли.
Когда Хьюм был, что называется, в форме, слышался звон колоколов, в воздухе появлялись руки, которые махали платками, вся мебель, включая тяжеленные шкафы, начинала двигаться. Рояли поднимались в воздух и плыли по комнате, в воздух всплывали и стулья. Присутствующие взбирались на них и спрыгивали, а стулья оставались в воздухе. Мало того, играла музыка, слышался звук плещущейся воды, пели птицы, крякали утки, духи несли всяческую чепуху.
— Ерунда, — сказал Константин Михайлович и начал расстегивать пуговицы рубашки.
— Костя, милый, не вы один так думаете. Знаете, как называл Хьюма Чарлз Диккенс?
— Ну?
— Негодяем.
— Классики знали, что сказать.
— Может быть, но великий писатель ни разу не был на сеансах Хьюма. Хьюм много раз приглашал его, когда бывал в Англии, но Диккенс предпочитал больше доверять своим убеждениям, чем глазам. Вполне в духе многих нынешних ученых мужей. Вообще мне иной раз кажется, что основная польза от твердого убеждения — это возможность не думать, не наблюдать, не сомневаться, не ломать голову. Очень полезно для здоровья. Интересно бы узнать, наверное, все долгожители — люди твердых убеждений?
— Ну, Анечка, здесь я с вами не согласен. Если уж говорить с точки зрения здоровья, надо думать, самое полезное — вообще не иметь никаких убеждений.
— Не уверена, не уверена.
— А кто-нибудь его наблюдал? — спросил Владимир Григорьевич. — Я имею в виду ученых.
— Многократно, — торжествующе сказала Анечка. — Представляете, мальчики?
— Нет, — сказал Константин Михайлович, — не представляем. Абер дас ист ничево-о.
— Его изучала специальная комиссия ученых из Гарвардского университета. Скрепя сердце профессора вынуждены были подтвердить, что стол, за которым они сидели, двигался, отталкивал их, поднялся на несколько дюймов над полом, сам пол дрожал. Как выразились члены комиссии, казалось, что шла артиллерийская канонада. Потом стол вздыбился на две ножки.
Его долго изучал в Лондоне известный физик Уильям Крукс, который полностью подтвердил в опубликованном отчете все его странные способности. Крукс был честным ученым. Он писал, что его рациональный ум убеждал его в невозможности того, что он видел, но он вынужден был полностью убедиться в реальности происходившего.
— И что он видел? Опять столы? — спросил Владимир Григорьевич.
— Ах, Володенька, как мы все любим защищаться от непонятного старым добрым скепсисом. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда.
— Не сердитесь, Анечка, — вздохнул Константин Михайлович, вставая, — я подумал, не опоздаю ли купить «Литературку»…
— Нет, Костенька, я же вам ее принесла.
— А, да, да. Так…
— Так что же этот ваш знаменитый физик наблюдал? — спросил Владимир Григорьевич. Вообще-то был он человеком скорее скептического, чем доверчивого ума, но в семьдесят восемь лет, да еще после инфаркта и инсульта, в скепсисе проку было не слишком много. Скепсис и вообще-то не слишком утешителен, а под конец жизни превращается он прямо в парализующий волю яд. Да и какие-то неясные предчувствия, совпадения настраивали его сейчас на более восприимчивый лад. Конечно, быть того не могло, но… другие-то не все идиоты. Да и имя Крукс казалось знакомым, кажется, действительно был такой ученый. — Так что он наблюдал?
— Он наблюдал левитацию, то есть подъем Хьюма в воздух. Он приставлял Хьюма к стене, делал отметку, и Хьюм на его глазах удлинялся на целый фут.
— Фунт? — недоуменно спросил Константин Михайлович.
— Фут, а не фунт. Тридцать с половиной сантиметров, представляете, мальчики? Причем обычно Хьюм был человек невысокий, ста шестидесяти семи сантиметров роста, на глазах у физика вытянулся почти до двух метров. Вполне баскетбольный рост.
— Сколько цифр, — вздохнул Константин Михайлович.
— И что? — спросил Владимир Григорьевич. — Ктото же все-таки его разоблачил?
Конечно, думалось ему, спокойнее было, если бы ловкого иллюзиониста разоблачили. Спокойнее и привычнее. Да и приятнее, честно говоря. Хотя мистер Хьюм лично ему ничего плохого не сделал, все-таки приятнее было бы знать, что его разоблачили, вывели па чистую воду и — желательно — даже посадили. Боже, сколько же он за свою жизнь прочел фельетонов, которые все кончались стоном — «куда смотрит прокурор?». Как будто авторы их не догадывались, что прокуроры четко знали, куда смотреть, а куда и не заглядывать. Хорошо еще, подумал Владимир Григорьевич, что он в состоянии подсмеиваться над своими инстинктами. Да, было бы, конечно, спокойнее, если выяснилось, что речь идет всего-навсего о ловком фокуснике. Вроде какого-нибудь Ури Геллера, который ошарашивал публику и журналистов тем, что усилием воли гнул ложки, но ни разу не мог этого сделать в присутствии коллег. Да, конечно, это было бы привычнее. Но… и скучнее.
И было бы чего-то жаль.
— Не-ет! — вскричала Анечка торжествующе. — Никто и ни разу не разоблачил его! Тысячи сеансов в разных странах — и ни одного разоблачения. Он проводил сеансы с папой римским, его пригласил во Францию Наполеон III, он был принят в Петербурге Александром II, представляете? Он, кстати, приехал в Россию вместе с великим Дюма, женился на русской, и Дюма был его шафером.
— Гм… — хмыкнул Владимир Григорьевич и почувствовал нелепую гордость за нелепого медпума. — Гм… а как же он сам объяснял свои… чудеса? «- Никак, — развела руками Анечка. Казалось, она извиняется за своего хорошего знакомого. — Просто никак. Он ничего не мог объяснить. Он утверждал, что ему нужно лишь расслабиться, и все. Однажды он беседовал с двумя посетителями о делах и вдруг увидел, что у тех отвалились челюсти. Оказалось, что он, вовсе того не желая, парил над креслом и не замечал этого, представляете, а?
— Да… Сколько он прожил?
— Пятьдесят три года.
— Молоденький какой, — вздохнул Константин Михайлович.
— И ни разу не попался?
— Во-ло-о-дя, — укоризненно протянула Анечка, — ну почему вам так хочется, чтобы он обязательно оказался ловким мошенником? Откуда такая суровость? Как будто он вам конкурент. Или он подрывает ваши материалистические устои?
— Но, дорогая Анечка, не могу же я согласиться за здорово живешь с летающими столами. Я, человек, который подписывается на «Науку и жизнь» и «Знание — сила»…
— Я очень сожалею, но неужели вы не понимаете, что за тысячи сеансов в самых разных местах что-нибудь бы да обязательно сработало, будь это иллюзион? А тут ни разу!
— Гм… Да… — неопределенно пробормотал Владимир Григорьевич, но в этот момент дверь приоткрылась, и в комнату заглянул театральный художник Ефим Львович, живший через комнату. Бывший, разумеется, как и все здесь.
— Владимир Григорьевич, я вижу, у вас тут целая компания, а там к тебе пришли.
Дэниэл Данглэс Хьюм и вся его летающая мебель мгновенно съежились и побледнели рядом с новым чудом: к нему пришли. К не-му при-шли! Этого не могло быть. Просто никто не мог к нему прийти. Одиночество — плата за долголетие. Сашка плывет сейчас где-то на своем «Паустовском», а больше прийти к нему было просто некому.
— Пришли? Ко мне?
— К тебе, — кивнул художник. — Они внизу.
— Они? — глупо переспросил Владимир Григорьевич.
— Они. Двое. Ты выйдешь, или провести их сюда?
— А ты не спутал? Действительно ко мне?
— Не делай из меня идиота. К тебе пришли двое молодых людей.
Владимира Григорьевича вдруг охватило страшное волнение. Действительно, он идиот, болтает тут, а они… они тем временем могут уйти. Он затрепетал, хотел было подняться со стула, но забыл опереться на палочку и тяжко плюхнулся на сиденье.
— Да сиди ты, дуралей, — сурово сказал художник. — Сейчас я их приведу.
— Костя, — Анна Серафимовна встала и протянула руку Константину Михайловичу, — проводи меня. Не будем мешать Володе.
Они вышли, и Владимир Григорьевич услышал, как гулко колотится у него сердце. Боже, что за вздор, во что он превратился, что за нервическая развалина. Ну, пришел кто-то к нему, что за ажитация, что случилось? Нужно что-нибудь какому-нибудь аспиранту для диссертации. Советская драма пятидесятых-шестидесятых годов. Чушь какая-нибудь…
— Сюда, — послышался за дверью голос Ефима Львовича, и в комнату вошла девушка, а за нею молодой человек.
Несколько секунд они молча смотрели на старика, и взгляд их был ласков и внимателен, и Владимир Григорьевич почувствовал, как какая-то неведомая сила потянула его к двум незнакомым молодым людям. Что-то творилось с ним непонятное, болен он, тяжело болен. Но это были скорее привычные заклинания, нечто вроде ебэжэ, потому что в эту секунду он, наоборот, чувствовал какой-то необыкновенный прилив сил.
— Владимир Григорьевич? — спросила девушка. Голос ее был мелодичен, и угадывался в нем некий акцент.
— Да, — кивнул Владимир Григорьевич и в глупом своем волнении начал было вставать, снова забыв про немощное свое тело и палочку, которая стояла у стула. И встал. Ему показалось на мгновение, что у него жар, сорок, наверное, не меньше, потому что лицо его горело, все тело излучало жар. Он стоял, чуть покачиваясь, впервые стоял без палочки за те полгода, что прошли с момента инсульта. Чудеса. Ах, совсем перепутала все Анечка со своим Хьюмом, сдвинула все с места, как ее медиум — столы. Абер дас ист ничево, как говорит Костя. Что за чушь лезет ему в голову? Но чушь была какая-то легкая, озорная, и он вовсе не хотел ей сопротивляться.
— Здравствуйте, — сказала девушка, и что-то сладко повернулось внутри у Владимира Григорьевича. — Я — Соня, а это — Сережа. Мы товарищи вашего внука, и он просил нас навестить вас. Вот… Сережа, где апельсины?
— Вот, пожалуйста, Владимир Григорьевич, улыбнулся Сережа и протянул Владимиру Григорьевичу бумажный пакет.
Владимир Григорьевич совсем смешался, забыл совершенно, что левая рука у него еще совсем слабая, автоматически протянул ее и взял пакет. Сейчас он выпадет из руки, пронеслось у него в голове, он же ничего не может удержать в больной руке. Он испугался и разжал пальцы. Пакет остался висеть в воздухе. Самое странное было вовсе не в том, что кулек с апельсинами висел в воздухе, это казалось Владимиру Сергеевичу вполне естественным, а то, что он воспринял это как нечто само собой разумеющееся. Он засмеялся и взял кулек. Больной слабой рукой. И положил его на столик у кровати. И снова засмеялся.
— Ну что ж, садитесь, молодые люди.
Юрий Анатольевич Моисеев никак не мог решить, счастлив ли он и доволен судьбой или он жалкий неудачник. Поскольку был он врачом, пусть еще и не очень опытным — всего пять лет, как получил диплом, но все-таки врачом, он тщательно исследовал свое душевное состояние, чтобы поставить диагноз. Он вспоминал слова одного из своих профессоров: главное, молодые люди, не торопитесь с выводами. Бич современной медицины — спешка. Старые врачи умели ставить диагноз без анализов и рентгеновских снимков. Зато они замечали, какие у больного руки, даже цвет ногтей. Юрий Анатольевич видел при этом презрительно нахмуренный лоб профессора, кустистые седые брови и дрожавшую от сарказма маленькую седую эспаньолку.
Юрий Анатольевич посмотрел на себя в зеркало, пару раз подмигнул и задумчиво выставил язык. И все-таки диагност он, видимо, неважный, потому что глаза были печальные, а язык, наоборот, принадлежал сангвинику, излучал здоровый оптимизм. Реши тут… Он вздохнул и аккуратно вложил в футляр электрическую бритву.
Жизнь была чудовищно сложна. Во-первых, ее бесконечно запутывала Елена, старшая медсестра Дома театральных ветеранов. Она запутывала ее серыми удлиненными глазами, высокой спортивной фигурой и независимым характером, который делал ее похожей на кошку; с ней никогда нельзя было быть уверенным, выгнет ли она спину в следующую секунду под его рукой, мурлыча от удовольствия, или фыркнет сердито и выпустит коготки. Она сбивала его с толку своей неопределенностью: то она сияла, когда он входил к ней в ее стерильную комнатку на втором этаже, то обдавала равнодушным стерильным холодом.
И он, человек четкий и решительный, то есть не совсем четкий и не совсем решительный, но хотевший быть четким и решительным, никак не мог четко дешить, любит ли он ее или… Что «или», он не знал и в этом месте обычно прерывал самоанализ глубоким вздохом.
Мало Лениной тягостной зыбкости, работа его тоже была какой-то неопределенной. Выпадали дни, когда он благодарил судьбу, определившую его врачом в Дом ветеранов. Такого количества болезней, такого парада человеческих немощей, с которыми он ежедневно сталкивался, хватило бы на целую медицинскую энциклопедию. В такие дни он испытывал острую радость, что может хоть немножко помочь всем этим старикам и старухам, смотревшим на него с детской доверчивостью и наивной надеждой. Он чувствовал, как с каждым днем мозг его, глача, руки крепнут вместе с опытом, как приходит торжествующая уверенность в своих силах. И старички его и старушки казались в такие дни милыми и симпатичными, и все видели в нем вершителя их судеб. И он знал, что ни за что на свете не бросит их, потому что это было бы предательством по отношению к страждущим и беззащитным.
Тогда он беззлобно презирал своего друга Севу Блинова, который работал врачом в хоккейной команде. Врачом — это, пожалуй, слишком громко было сказано, потому что какой же нужен врач трем десяткам молодых здоровенных ребят, тела которых звенят от высочайших физических кондиций. Немудрено, что бедный Сева в основном составлял меню, чтобы ловко всаживать в подопечных по шесть тысяч калорий в день, возил их к зубному врачу и доставал путевки перед летними отпусками.
Но случались дни, когда он испытывал гнетущее чувство беспомощности, даже никчемности. Что он мог сделать перед неумолимым наступлением твердеющих артерий, отложением холестериновых бляшек, инфарктов и инсультов, выходящих из строя суставов, высокого кровяного давления и безжалостных опухолей? Он мог лишь регистрировать медленное умирание обитателей Дома, только регистрировать, потому что из двухсот причин старости, которые насчитывают геронтологи, ни одна не является главной и ни одну нельзя вырвать из арсенала торжествующей в своей безнаказанности смерти. Что он мог поделать перед железным сомкнутым строем двухсот причин старости, которые двигались на обитателей Дома, а стало быть, и на него с дьявольской неотвратимостью, чем мог защитить всех евоих подопечных, смотревших на него с робкой надеждой? Когда на кавалериста движутся танки, он в крайнем случае может выхватить саблю и под смех танкистов размозжить лошадиную и свою голову о броню. Он и этого не мог сделать.
Его пациенты часто умирали, и он никак не мог научиться относить эти смерти к естественному ходу вещей. Каждый раз он испытывал горечь поражения и чувство вины. И за то, что не преградил путь костлявой, и за свои тридцать лет, за упругие мышцы, которые он заставлял по утрам по сто раз отталкивать тело от пола, за отлично отлаженное сердце, за исправные, как хороший водопровод, почки и за давление в сто двадцать на семьдесят пять.
Смерть все еще казалась ему нелепостью. Конечно, он прекрасно понимал, что случается с человеческой машиной, когда судьба щелкает выключателем: останавливается мотор, холодеют и начинают распадаться клетки и ткани. Но как можно было поверить, что вместе с остановившимся сердцем бесследно исчезает крошечный, в сосисочных перевязках детеныш, первый раз бормочущий «ма-ма»? Куда пропадает тягостный ужас, который прижимал к земле и который все-таки приходилось перебарывать, чтобы вскочить с пудовой винтовкой в руках и бежать вперед, петляя, как заяц, среди смертоносных фонтанов разрывов? Где остаются сладостные аплодисменты, по десять раз заставлявшие подниматься тяжелый пыльный занавес? Куда исчезают драгоценная мудрость, что тяжко, по крупицам, копилась всю жизнь, знания, опыт?
Да, материя не исчезает, и его бедные пациенты умирали, чтобы их жалкие, измученные атомы снова могли включиться в вечный круговорот вещества и превратиться в лист подорожника, шестнадцатиэтажный жилой дом или комок земли. Но что случалось с тем, что ученые называют информацией, а обычные люди — душой? Она-то во что превращается? Ответов его материалистическое воспитание не давало. От этого, а может, не только от этого на него порой накатывалось раздражение. Тогда он начинал ненавидеть своих старичков за их старость, болезни, за их дурацкую жажду жизни. Чего вы цепляетесь за нее, что она вам, какие радости даст? И ненавидел себя за эту позорную ненависть. В такие минуты он завидовал Севке самой черной завистью. Его хоккеисты не умирали. Матч они могли проиграть, тренеры и меценаты могли накрутить им хвосты, шайбы и клюшки противника могли изукрасить тела синевато-желтыми гематомами, в худшем случае могла подкараулить травма, но умереть — нет уж, извольте. И пока он безнадежно пытался сражаться с болезнью Паркинсона и старческой дементностью, Севка ездил с командой по своим и зарубежным городам и весям, держа в фирменной сумочке флакон с заморозкой. Увы, действительно, каждому свое.
К счастью, у Юрия Анатольевича хорошо работали не только почки, печень и сердце. Еге организм умело поддерживал тончайший баланс бесчисленного множества гормонов и секретов, которые обеспечивали ему стойкий оптимизм. Они исправно отгоняли тягостное и печальное, и Юрий Анатольевич гораздо чаще улыбался, чем хмурился. Тем более что улыбки он считал входящими в круг своих служебных обязанностей. Он знал, что обитатели Дома звали за глаза его Юрочкой и, пожалуй, относились к нему хорошо. Может, даже любили его. Если не как врача, то, наверное, как сына. И нужно было улыбаться, чтобы и они улыбнулись в ответ. Часто это было единственным лекарством, которое он мог им дать. Тем более что и обычных лекарств иногда не хватало…
Он шел по коридору второго этажа к комнатке старшей сестры. Обитатели Дома, конечно, знали о его отношении к Елене, и ему казалось, что они были целиком на его стороне. Конечно, Леночку они тоже любили, хоть была она нарочито строга с ними. Может, даже именно из-за этой строгости и любили. Наверное, в самой глубине их стареньких душ им приятно было побаиваться строгой сестры, потому что страх напоминал им детство, и, трепеща перед строгой сестрицей, они чувствовали себя провинившимися детьми.
Художник Ефим Львович, обладавший сверхъестественной способностью находиться одновременно во — многих местах и потому знавший обо всех все и даже несколько больше, как-то незаметно возник перед врачом и сказал:
— А Леночка у себя.
И хотя произнес он эти четыре слова вполне деловито, Юрию Анатольевичу почудилось, что он подмигнул заговорщицки, мол, давай, смелее, Юрочка. Но не обидно, не с насмешкой, а как болельщик.
— Спасибо, — кивнул он и улыбнулся.
— Войдите, — послышалось из-за двери, и Юрий Анатольевич с привычным замиранием сердца втиснулся в Ленин пенал со стеклянным шкафчиком, столом и топчаном под застиранной простынкой-недомерком.
Леночка на мгновенье оторвала взгляд от каких-то бумажек, равнодушно скользнула глазами по Юрию Анатольевичу и снова уткнулась в них.
Вот дрянь, подумал он, вздыхая про себя. Вслух вздохнуть было опасно, это значило бы опустить перчатки, а Лена уж не упустила бы шанс нанести удар. Это уж точно. С Леночкой всегда нужно было держать стойку.
— Как дела? — равнодушно спросил он. То есть это ему казалось, что задал он вопрос эдаким небрежным, даже равнодушным тоном. На самом деле он прокаркал приветствие хрипло, как старая ворона, страдающая от ОРЗ.
Леночка ничего не ответила, лишь пожала плечами под белым халатиком. Ткань натянулась, и он понял, что под халатом у нее ничего нет. О господи… Да что же это за наваждение? Почему он должен трепетать перед этой вздорной сестрой? Девиц, что ли, мало на белом свете? Что за нелепая фиксация? Севкина жена Рита уже две недели звонит, обещает познакомить с какой-то необыкновенной девушкой. И красоты неописуемой, и аспирантка, и готовит божественно, и квартира двухкомнатная на улице Горького. Если бы проводили общий конкурс «А ну-ка, невесты», быть ей как минимум финалисткой. Ладно, Елена, бог с тобой, сиди, занимайся бумажками. Они для тебя, разумеется, куда интереснее, чем жалкий и дебильный поклонник.
— Я пошел, — сказал он и вздохнул мысленно. — Нужно посмотреть Харина в шестьдесят восьмой, не нравится он мне. — Он повернулся, чтобы выйти, но Лена сухо сказала:
— Одну минуточку, доктор.
Сейчас опять заведет какой-нибудь дурацкий официальный разговор, подумал Юрий Анатольевич, но Леночка подошла к нему, неожиданно вспыхнула ярчайшей и лукавейшей улыбкой, сцепила в замок руки у него на шее, легко повисла на нем и поцеловала прямо в кончик носа. Ее короткие волосы пахли солнцем, уши были маленькие и трогательные. Она откинула голову, все еще продолжая висеть на нем, и засмеялась. Где она успела так загореть, почему-то подумал Юрий Анатольевич, зубы по контрасту с загаром кажутся ослепительными… Но мысли эти текли как-то по-сиротски, сами по себе, потому что руки его жили своей жизнью: они скользнули ладонями по Леночкиной спине, по ее упругой теплой спине и прижали ее к груди так, чтобы удобнее было поцеловать ее смеющиеся глаза. Сердце его бухало о ребра громко и торжествующе.
— А знаешь, — сказала она, — может быть, действительно имеет смысл выскочить за тебя. Чего ждатьто, может, лучше и не будет.
— А я, между прочим, еще не делал тебе предложение.
— Не делал… А кто ж тебя спрашивать будет? Ты думаешь, ты обладаешь правом голоса? Запомни: голос тебе дан только для того, чтобы шептать: Леночка…
— Ну ты, мать, и стерва же, однако, — восхищенно покачал головой Юрий Анатольевич.
— Стерва, может, и стерва, — кротко улыбнулась Леночка, — но ведь приворожила красавца врача.
— Это ты-то?
— Я-то.
— Нет, сестра. Это вы чахнете от неразделенной страсти, это вы кусаете по ночам подушку, смачивая ее горячими девичьими слезами…
— Девичьими… ха-ха…
— Разумеется, сестра, это слово кажется вам смешным. Ха-ха. А я-то думал…
— Запомни, Юрочка, думать ты будешь только то, что я тебе разрешу. А разрешаю я тебе думать примерно так: какая она все-таки милая, как я ее люблю, мою птичку…
— Птичка бывает только невеличка, а в тебе, если я правильно измерял, сто шестьдесят девять сантиметров.
— Сто семьдесят. Но все равно птичка. Птичка-синичка. А теперь иди, мальчик, птичке нужно заполнить ведомость. Иди, иди, мальчик. Твоя птичка будет ждать тебя после трудового дня.
Вышел Юрий Анатольевич из пенала нетвердой походкой. В голове весело прыгало и чирикало: птичка-синичка, птичка-синичка. Улыбался он улыбкой широкой и бесформенной, какой улыбаются только терминально влюбленные и имбецилы. Боже, как он с ней разговаривал, какой язык! Как он всегда скован, как пыжится, как старается казаться эдаким развязным бонвиваном. Не его это роль, увы…
В коридоре откуда-то из стены бесшумно материализовался Ефим Львович, посмотрел внимательно на врача, удовлетворенно кивнул и исчез. Юрию Анатольевичу вдруг пришла в голову дикая мысль, что он не просто привычно пикировался с Леночкой, а играл роль, которую коллективно сочиняли для него ветераны сцены, и Ефим Львович случился в коридоре специально для того, чтобы убедиться, как прошла сегодняшняя репетиция. Не случайно он так дружит с драматургом Хариным из шестьдесят восьмой. Говорят, в свое время он был известным, пьесы шли по всей стране. Вот они и сидят и сочиняют пьесу под названием «Врач и сестра»…
Он потряс головой, приходя в себя. Что, однако, за чушь ему в голову лезла. Как зовут этого Харина? Он явно представил себе своего пациента, его печальные глаза старой больной собаки, узенькую грудку, покрытую седым пухом, чуть перекошенное после инсульта умное лицо со сглаженной носогубной «складкой. Владимир Григорьевич, ну конечно же, а сосед его с Альцгенмером Константин Михайлович.
Он постучал в дверь, услышал «войдите» и вошел в комнату. Владимир Григорьевич положил на подоконник бинокль и встал, улыбаясь врачу:
— Здравствуйте, Юрий Анатольевич.
— Добрый день, — машинально ответил Юрий Анатольевич, пытаясь понять, что вдруг показалось ему в комнате странным. Ну конечно же, старик встал легко, не опираясь на палочку. Его память услужливо высветила профессиональный слайд: левая рука и левая нога у старика очень слабы после инсульта, да, конечно, левосторонний гемипарез. Он вставал мучительно медленно, опираясь здоровой рукой на палочку или спинку стула. Рука дрожала от напряжения, лицо искажалось, и Юрий Анатольевич непроизвольно напрягал мускулы, стараясь помочь старику.
Слайд был четкий и яркий и подчеркивал невероятность маленького чуда. То есть, в сущности, никакого чуда не было, поправил себя строго Юрий Анатольевич, это у него просто после Леночки голова работает с перебоями. Лечит же он старого драматурга. Все по схеме: аминолон орально, церебролизин интравенно, массаж. Но тут же возразил себе: схемы — схемой, но ведь он видел Харина всего несколько дней назад и еще подумал, что никакого улучшения незаметно, сердце работало неважно, давление держалось упорно. Да, конечно, сто восемьдесят на сто двадцать. Но пока вся эта информация проплывала в его памяти, он привычно спрашивал:
— Как самочувствие, Владимир Григорьевич?
— Лучше, лучше, — улыбнулся драматург, все еще стоя без помощи палочки. Улыбка была какая-то неуверенная.
— Вижу, как вы стоите. Молодцом, молодцом. Дайте-ка мне вашу ручку.
Он привычно нащупал пульс и начал счет вместе с прыгавшей секундной стрелкой. Что за чертовщина такая, пульс был вовсе не Владимира Сергеевича. Он отлично помнил его быстрый слабый пульс больного сердца, которое судорожно торопилось, боясь остановиться вовсе. А теперь под его большим пальцем бился ровный сильный пульс отличного наполнения. Так, двадцать четыре умножить на три, семьдесят два, пульс молодого спортсмена. Такие пульсы считает, наверное, Севка Блинов.
Он даже поднял голову и посмотрел, действительно ли держит в своей руке руку старика. Владимир Григорьевич улыбался светлой улыбкой честного человека, который никого не обманывал и дал врачу свой пульс, а не подсунул чужой.
— Вы мне просто сюрприз заготовили, — сказал Юрий Анатольевич, — я такого пульса даже не помню. Отличный пульс, и выглядите вы совсем молодцом.
— Да, — растерянно и даже как бы виновато признался Владимир Григорьевич. — Сам себя не узнаю.
— И не надо. И отлично. Надо бы и давленьице ваше померить. Сейчас я принесу аппарат.
— Да вы не беспокойтесь, может быть, я с вами подойду?
— А вам не тяжело будет?
— Я уж и сам не знаю, может, попробуем?
— Обопритесь на меня.
— Спасибо, Юрий Анатольевич, я сам.
Владимир Григорьевич осторожно прошел к двери, почти не опираясь на палочку и не хромая. Он посмотрел на врача торжествующе-удивленно, словно не верил себе и ожидал медицинского объяснения. И показалось Юрию Анатольевичу, что выглядел старик даже чутьчуть виноватым, как будто в чем-то обманул его, проделал с ним какой-то фокус. Но какой?
Объяснения не было. Тем более его не было, когда Юрий Анатольевич накачал грушу и стал следить за спадавшим ртутным столбиком. Что за наваждение, тона не было. Столбик все укорачивался, и только когда он достиг цифры сто сорок, Юрий Анатольевич услышал четкие удары. Прекрасно. Нижнее девяносто, пожалуй, даже восемьдесят пять. Невероятно. Такого поистине чудотворного улучшения он не видел никогда.
— Вы просто умница, Владимир Григорьевич. Так держать.
— А сколько вы мне намерили?
— Сто сорок на девяносто.
Старик недоуменно развел руками и опять улыбнулся неуверенно:
— Сам не понимаю, что со мной. Не помню, когда я себя так чувствовал.
— А как?
— Это не я. Не мое тело. Знаете, такое впечатление, что из старого полуразвалившегося, то и дело останавливающегося автомобиля вдруг пересел в новенькие «Жигули». Все работает, мотор фырчит ровненько, приглашает нажать на газ, и страшно, и весело. У меня такое ощущение, что я мог бы… допустим, присесть и встать.
— Не увлекайтесь. Даже новый автомобиль надо обкатывать осторожно.
— Да, да, конечно, и все-таки… Может, попробовать?
— Ну, Владимир Григорьевич, вы прямо как ребятенок.
Владимир Григорьевич пожал худенькими плечиками:
— Да, конечно, дурость, и все равно зуд какой-то. Я осторожненько, а?
— Ну что с вами делать, давайте руку.
— Нет, нет, я лучше за ваш стул держаться буду.
Драматург стал серьезным, даже слегка побледнел, словно перед выпускным экзаменом, вздохнул и медленно начал приседать. Он присел и тут же встал, и лицо его отразило неожиданную обиду: готовился почти к подвигу, а получилось так легко.
— Знаете, Юрий Анатольевич, я не приседал… чтобы не соврать… лет пять. Просто чудеса какие-то.
— Вовсе не чудеса, — сказал врач не очень убежденно. Именно чудеса, а он, начинающий терапевт с жалким пятилетним стажем, вовсе не чудотворец. Это-то он точно знал. — Все идет отлично.
— Отлично, Григорий, нормально, Константин, — ухмыльнулся Владимир Григорьевич. — Простите, доктор, это я вас не передразниваю, боже упаси. Просто выскочила вдруг реприза из Жванецкого. Сама по себе. Наверное, от избытка чувств. Еще раз спасибо. Пойду, пожалуй, на улицу. Грех не воспользоваться такой погодой и таким самочувствием. Хотя, если разобраться, так хорошо себя чувствовать тоже ни к чему.
— Это в каком же смысле?
— Когда чувствуешь себя неважно, надеешься, что будет лучше. А так сиди и дрожи, чтоб не стало хуже. Уверяю вас, это очень глубокая мысль, и медицина должна взять ее на вооружение, ни в коем случае не допускать отличного самочувствия.
— Я рад, что вы шутите.
— Шучу — значит, существую.
Странно, странно было идти ему по коридору. Привык уже к шаркающим шажочкам, привык к волевым усилиям, которыми нужно было сокращать слабенькие мышцы. А тут хоть беги. Он представил себе лица ветеранов, если пробежит танцующе по коридору и издаст тарзаний крик. Смешно. Право же, какое это невероятно острое наслаждение — идти. Это же чудо, его в цирке показывать надо.
Сразу после войны, когда первую его пьесу поставили одновременно в Омске и Новосибирске, как же она называлась? О, господи, он становится похож на Костю. Конечно же, «Во весь рост», конечно. Да, сразу же купил он себе трофейный «опель-адмирал». Купил у свежеиспеченной генеральской вдовы. Вдова вытирала кружевным платочком слезы и азартно торговалась хриплым строевым басом. Покойник скорее всего любил машину больше, чем жену, потому что «опель» был отлично ухожен, чего нельзя было сказать о хриплой вдове.
Прекрасный был автомобиль, даже по нынешним меркам. Он вспомнил, как обидно ему было, что такую машину изготовили в фашистской Германии.
Он мыл в тот день машину во дворе, любовно проводя губкой по черному лаку. В лаке отражались дома, небо и он сам. В сторонке стоял парнишка-сосед и восхищенно смотрел на «опель». Как же звали этого парня? Имени его Владимир Григорьевич не помнил, но лицо видел отчетливо: напряженно-отрешенное лицо человека в трансе. Дело в том, что у соседа тоже был «опель». Даже не «опель», а «опелек», крошечная квадратная машинка, эдакая старомодная коробочка, года, наверное, тридцатого, сошедшая с экрана немой старинной комедии. Целыми месяцами сосед упорно сражался с тяжелыми опелиными недугами, но все равно коробочка отчаянно дымила, чихала, астматически кашляла и изредка передвигалась слабыми рывками. Сосед горько шутил, что может подняться с Трубной площади к Сретенским воротам только с разгона. А если не удавалось разогнаться, приходилось сворачивать в Малый Кисельный переулок.
«А ты задним ходом подымайся, все легче будет, — рекомендовал Владимир Григорьевич, — другое передаточное число».
Сосед не обижался. Старый «опель» научил его смирению, и взгляд у парнишки был не по годам кроткий.
Он смотрел на «адмирал», и машина, наверное, казалась ему ракетой.
Никому никогда не доверял Владимир Григорьевич руль, не мог, но на этот раз не выдержал. Какая-то смесь сострадания и хвастливой гордыни заставила его вдруг сказать:
«Ну что, хочешь прокатиться?»
Парнишка недоумевающе уставился на него. Слова не укладывались в его понимание. Разве в рай приглашают?
«Садись за руль», — сказал Владимир Григорьевич, отжимая губку.
«Я?» — глупо переспросил парнишка. Рот его остался открытым.
«Не я же».
Медленно, не веря своему счастью, как во сне, сосед отворил дверцу, зачем-то отряхнул рукой брюки, сел за руль, торжественно нахмурился и нажал на стартер. Мощный мотор заурчал ровно и ожидающе.
«Только осторожненько, ладно?» — сказал Владимир Григорьевич, наслаждаясь восторгом соседа и вместе с тем жалея о своем легкомысленном предложении. И кто его за язык тянул?..
Сосед не слышал его. Он существовал в другом измерении. Он чуть прибавил газ, и на лице его появилось выражение экстаза. Если бы в этот момент его спросили, как он представляет себе рай, он и не подумал бы о нимбах и арфах. «Рай, — сказал бы наверняка он, — это когда моторы в шесть горшков работают так, словно признаются шепотом в любви».
Жил тогда Владимир Григорьевич в переулочке у Покровских ворот. Двор был узкий, переулочек еще уже, и он вдруг забеспокоился, как сосед выедет.
«Осторожно!» — крикнул он.
«Лады», — пробормотал парень, включил первую передачу и прибавил газ. Мотор взревел, машина вздрогнула, буквально выпрыгнула из двора, раздался отчаянный визг тормозов, и «опель» замер, едва не врезавшись в стену противоположного дома.
«Ты что-о? — заорал Владимир Григорьевич и бросился к машине. Сердце его колотилось. — Рехнулся, что ли?» Сосед открыл дверцу. Он был белый, как стена дома, в которую он почти уткнулся. Губы его тряслись.
«Да я… — Он с трудом проглотил слюну. — Я… я же чуть-чуть прижал…» «Чуть-чуть», — передразнил его Владимир Григорьевич, счастливый от того, что машина была цела.
«Вы ж знаете… Я на своей газую, газую, пока раскочегарю старушку, а тут… еле прижал, а она… как тигр…» «Ладно, тигр, объедь квартал, только не прыгай», А почему вдруг выплыл из памяти темноватый узкий дворик у Покровских ворот? А, вот по какой ассоциации: чувствовал себя сейчас Владимир Григорьевич, наверное, так же, как тот испуганный парнишка, пересевший из своей дряхлой коробочки в мощный аппарат. И правда: то шаркал, держась за стены, а то спускается по лестнице эдаким фертом. Хоть не опирайся на палочку, а верти ее в руке опереточным бонвиваном: «без женщин нет на свете жизни, нет…» — Ну ты, Владимир Григорьевич, молодчиком, — просипел бывший директор театра с третьего этажа Иван Сергеевич. Был он велик ростом, обилен телом, и, когда Владимир Григорьевич стоял рядом с ним, ему всегда казалось, что он находится в цехе химического завода: в Иване Сергеевиче постоянно что-то булькало, хлюпало, переливалось, шипело, и весь он излучал тепло, как печь.
— Стараюсь, — ответил Владимир Григорьевич, моля бога, чтобы Иван Сергеевич не завел с ним длиннющий разговор о внутренней и внешней политике, до которых он был большой охотник. Он держал в руке несколько газет.
— Черт-те знает, что пишут, — пустил пробный шар Иван Сергеевич, многозначительно и неодобрительно потряс в воздухе газетами. — Боюсь, попахивает это ревизионизмом… — При этих словах внутри Ивана Сергеевича что-то неодобрительно зашипело и булькнуло.
Владимиру Григорьевичу захотелось сказать Ивану Сергеевичу, что бояться ему не стоит, но дебелый директор тут же вцепился бы в него, и он промолчал.
— Частный сектор развивать призывают, кооператоров хвалят, дожили, — сделал еще одну попытку Иван Сергеевич и неодобрительно покачал головой. Развитие кооперации в отличие от Ленина он явно не одобрял. Владимир Григорьевич опять промолчал, неопределенно и необязывающе пожал плечами и вздохнул. Иван Сергеевич обиженно перелил что-то внутри своего обильного тела и ушел, а Владимир Григорьевич уселся на зеленую скамеечку, пристроил палочку между костлявых коленей и начал думать о приятелях внука, которые приходили к нему. То есть думал он о них все время, но как-то несобранно, как бы вторым планом, потому что подумать сосредоточенно было как-то страшненько. Нет, глупость это, не страшненько, а скорее щекотно, что ли.
Вопрос номер один: когда молодой человек протянул ему серый пакетик с апельсинами и он, Владимир Григорьевич, от испуга разжал пальцы левой больной руки, пакет не упал. Это было абсолютно невозможно, поскольку находились они не в космическом корабле, поздновато, пожалуй, ему в космонавты подаваться, а здесь, в Доме для престарелых, невесомости пока не наблюдалось. И все его витиеватые фразочки, что перекатывал он в уме, не скрывали неприятный факт, тот самый факт, из-за которого он-то и не торопился обдумать как следует вчерашний визит. Ко всем его немощам теперь добавились галлюцинации. Именно галлюцинации. Они ведь всегда кажутся реальностью для того, кто ими страдает. И все-таки… Странная какая-то галлюцинация. Ведь все остальное сомнений не вызывало. Молодые люди, знакомые Сашки, приходили.
Их видели художник Ефим Львович, Анечка, Костя. А массовых галлюцинаций быть не может. Апельсины они действительно принесли. С узенькими черными нашлепками, свидетельствовавшими, что приплыли они из Марокко. И сейчас стоял пакетик на его тумбочке, не забыть бы угостить Анечку.
Стало быть, вся сцена вчерашняя была реальна, и лишь кусочек, мгновение, когда повис пакет в воздухе, было галлюцинацией. Грустно было признать, что последний его орган, который еще работал пристойно, мозг, тоже начал давать перебои. Он ухмыльнулся. Как же мы все-таки любим играть сами с собой. Вот только что высветилась в мозгу фразочка: «Грустно было признать…» А грусти никакой не было. И галлюцинации его не беспокоили, потому что в самой глубине сознания не верил он в них. То есть не в галлюцинации вообще, а в призрачные летающие апельсины. Вспомним еще раз весь эпизод.
Странно все-таки. Целостная, четкая картина, все детали так и стоят трехмерно перед его мысленным взорвм, даже мышечное ощущение разжатых пальцев, даже мгновенный нелепый испуг — сейчас упадут апельсины на пол — все четко. Все чувства упорно твердили: так и было, было. Глаза, мускулы, связки, кости скелета — все готовы были даже на суде поклясться, что никакая эта не галлюцинация. И лишь фильтр здравого смысла задерживал показания: не могло того быть.
М-да, приходится все-таки топтать свой скепсис и признать, что то была все-таки галлюцинация. Мираж. Фикция. Фата-моргана. Печальный, но факт. Ладно. В глубокой старости поневоле привыкаешь к ударам судьбы. Увертывайся, не увертывайся, закрывайся, не закрывайся, удары у времени тяжкие, бьет оно без промаха, и незримый рефери то и дело открывает счет. Теряешь родных и близких, уплывает из рук привычное дело, наваливаются болезни, подкрадывается одиночество, сиди только и жди, пока рефери не обрубит при счете десять последние ниточки. Аут. Все. Финита ля комедиа. Уже не ебэжэ. Никаких условных наклонений. Все.
И опять отметил Владимир Григорьевич, что снова юлит, петляет, плетет словесные кружева. Пугает себя: все, аут, финита ля комедиа, а страха нет. А что такое настоящий страх, он знал. Что-что, а это он знал. Было время присмотреться к своему врагу бесконечными бессонными ночами, когда на грудь давило холодное тяжелое отчаяние, когда разум подсказывал, что вышел он на последнюю свою финишную прямую, что остались до конца считанные шаги, а там, в конце, не ленточка и не судьи с секундомерами, а бездонный провал, пустота, понять которую его разум отказывался и в отчаянии пытался отринуть от себя и провал и мысль о нем.
Слова не помогали. Слова он знал все. Слова смирения и мудрости. Слова о том, что смерти бояться не следует, потому что не было еще человека, которому не удалось бы это хоть раз сделать; слова о том, что присоединится он к большинству, что само по себе было уже неглупо. Умные люди всегда стараются быть с большинством. И так далее.
Но то все были слова. Легкий пустой ветерок, который не мог даже покрыть рябью свинцовую поверхность его тяжкого страха. Моментами казалось ему, что вот-вот раздавит его этот холодный груз. Слова не помогали, не помогали лекарства. И нужно было по капелькам собирать по душевным закоулкам мужество, наскребать смирение. Да…
Ладно, лучше жить с галлюцинациями, чем умереть без них. С этим вопросом все. Пункт второй, который тоже щекотал его сознание целые сутки. Акцент. Да, говорили они по-русски, абсолютно правильно, но с легким акцентом. Ну и что? Почему у Сашки не могли быть друзья, говорящие с акцентом? На иностранцев они похожи не были, скорее откуда-нибудь с Северного Кавказа. А может, и не оттуда. Он не профессор Хиггинс из «Пигмалиона», чтобы безошибочно определять происхождение по акценту.
Пункт третий. Странно, что внук ни разу не рассказывал ему об этих друзьях, ничего о них не писал. Глупости. Ничего странного нет. Сашка был у него почти полгода тому назад, мог же он познакомиться с ними после этого? Мог.
И вообще этот бесконечный и бесцельный анализ, наверное, типичен для праздных стариковских умов, которые впиваются в любое новое впечатление, чтобы снова и снова пережевывать, передумывать его страдающими от недостатка раздражителей мозгами.
— Гм, все так, — гмыкнул вслух Владимир Григорьевич. И все-таки все не так просто. Всю жизнь любил он играть с собой в маленькие тайные игры: то загадает в метро на эскалаторе, сколько насчитает он во встречном потоке блондинок, грудных детей, дубленок, полковников в полковничьих папахах. То задумает, встретятся ли в номерах первых пятидесяти машин две первые цифры его номера. И так далее.
И сейчас играл он с собой, старый дурак, потому что все время держал про запас главный козырь. И знал ведь, что держал. Если не туза, то уж короля безусловно. Знал, что есть у него козырь, а пытался играть бескозырную, как говорят преферансисты.
Смешная Анечка, забавная актриса с оранжевыми волосиками, рассказывала вчера об этом медиуме… Хьюме. Чушь, конечно, интересная, но чушь. С другой стороны, когда его измеряли и делали на стене пометку и когда он вытягивался на добрую треть метра, и на стене делали новую отметку, то это уже явно не галлюцинация. Как объяснить — это уже другое дело.
Так и с ним. Можно сомневаться, висел ли пакет в воздухе, кроме него и Сашиных друзей, никто это не видел, а их нет. Но даже профессиональный скептик не сможет отрицать, что старик Харин за сутки окреп так, что приседал. При-се-дал! Само слово звучало невероятно. Милый доктор Юрочка смотрел на него, как на иллюзиониста, когда он присел в его присутствии и сам встал. Ефим Львович, вездесущий Ефим Львович, мог подтвердить, что он сам шел по коридору. Булькающий Иван Сергеевич мог подтвердить, что он шел сам к этой скамеечке.
Сколько заглотал он после инсульта всяких таблеток, сколько раз Леночка и Настасья Ивановна кололи его в его высохшие ягодицы, сколько раз массажистка Инна Сергеевна, всегда пахнувшая потом и одеколоном, рубила жесткими ребрами своих ладоней его левую ногу и руку. Все безрезультатно. Но вот появились двое Сашкиных друзей или знакомых, кто их знает, и он сразу же почувствовал себя необычно. Ничего особенного они ему не сказали, передали только привет от внука, расспрашивали о житье-бытье, но смотрели на него так странно, с такой, казалось ему, щемящей душу теплотой, такой лаской, что внутри у него что-то повернулось, что-то потянуло его, старого сентиментального дурака, к этим двум незнакомым людям, чтото согрело его, что-то прибавило сил. Смотрел он на них, и на глазах у него, идиота, наворачивались слезы. Почему? Откуда эта нелепая слезливость? Но слезы были. Легкие, счастливо-печальные слезы.
Промыли они его глаза, эти слезы, и впервые за долгое время увидел он мир не сквозь тусклый от привычного отчаяния фильтр, а таким, каким видел его раньше: живым, ярким и прекрасным.
Засыпал он обычно плохо. Когда не принимал снотворного, долго ворочался, передумывая бог знает что, а вчера заснул, как ребенок, и, засыпая, чувствовал на глазах все те же нелепые легкие слезы. Счастливые и печальные.
И проснулся сразу, как в молодости, легко вынырнул на поверхность бодрствования, ощутил почти забытую радость бытия и силы, почти забытые силы.
Да-с, милостивые государи и государыни, это уже не галлюцинации. Это, с вашего разрешения, факт. Фактический факт, как говорят в народе. Так сказать, объективная отметка на стене. Подходи и смотри, пощупай, если хочешь.
А объяснение? А нет никакого объяснения. И не надо. Не всегда все можно объяснить и уж подавно не всегда все нужно объяснять. К тому же где-то в самой глубине души побаивался Владимир Григорьевич, что, если очень настойчиво преследовать истину, можно и спугнуть ее. Она ведь особа пугливая. Но что же всетаки это было? Галлюцинация? Чудеса? Гипноз?
То же, наверное, спрашивали себя посетители сеансов этого Хьюма из Анечкиного рассказа. Если стол вдруг становится на дыбы, рояль плывет по воздуху, а сам медиум витает над стулом, что должны были говорить себе зрители? Не может быть, потому что этого не может быть никогда? Галлюцинация? Да, да, обрадованно думали они, наверное, ну, конечно же, галлюцинация! И хватались за взбрыкивавший стол, а он толкал, поднимал в воздух. После сеанса они рассматривали синяки, наставленные строптивым столом, и пожимали своими английскими плечами, гм, джентльмены, если это гипноз, то откуда синяк?
Владимир Григорьевич тихонько засмеялся. Может, пойти проведать свою крапиву, рябину и земляничку? Нет, пожалуй, не стоит. Пусть останутся сказочными персонажами, которых лучше вблизи не рассматривать. Пусть лучше дрожат в окулярах бинокля.
К скамеечке подошла Анечка. Глаза ее сияли.
— Вот уж не думала вас здесь встретить.
Прежде чем он успел сообразить, что делает, он вскочил на ноги, взял Анечкину ручку, нагнулся и поцеловал ее. Рука была сухая, легкая, теплая и слегка пахла каким-то кремом.
Это был какой-то заговор: вся улица глазела на Леночку. Мужчины смотрели с откровенным интересом, даже восхищением, а женщины старались прожечь злобными взглядами ее розовую с голубым курточку и разовые узкие брючки. От этих взглядов Юрий Анатольевич чувствовал себя как бы на сцене: волнение перемешивалось с гордостью, и хотелось раскланиваться направо и налево.
— Понимаешь, — сказал он Лене, — просто не могу понять, что случилось с Хариным и Лузгиным из шестьдесят восьмой.
— А что с ними случилось? — спросила Леночка.
Спросила она так механически, что он искоса посмотрел на нее. На ее лице светилась легкая улыбка, и ясно было, что предназначалась она не Юрию Анатольевичу, не двум старикам из шестьдесят восьмой комнаты, а городу и миру. Да, конечно, смешно было ожидать, что он может занять главное место в ее мироздании. Не та у него сила тяготения, чтоб удержать на близкой к себе орбите, такое небесное тело. Тридцатилетний докторишка в Доме для престарелых, без степени, без славы, с убогим окладиком, и даже подарков ему пациенты не делают. Даже машины у него нет, нет и быть не может, потому что для покупки самых дешевых «Жигулей» ему нужно было (давно подсчитано!) сорок восемь окладов, то есть четыре года не должен был он ни есть, ни пить, ни мыться, ни стричься, ни ездить на городском транспорте, не покупать ни обуви, ни одежды и не платить за однокомнатную его квартирку у Речного вокзала. Что сделать было бы довольно трудно, обладай он даже настоящей мужской волей. А он был человеком безвольным, и если еще можно было представить себе, как он перестает мыться, обрастает волосами и грязью, подвязывает сначала подметки веревками, а потом и вовсе начинает ходить босым, то с аппетитом было хуже. Аппетит у него, как назло, был зверский, зверский и пунктуальный. Тресни, а удовлетвори.
Впереди у тротуара стоял «мерседес» с частным номером. Артист какой-нибудь или завбазой. Сейчас бы подойти к машине с Леночкой и сказать небрежно: «Ты не устала, а то я тебя подвезу». — «На чем? — саркастически спросит старшая сестра, — на метро?»«Да нет, вот мой «мерседес», садись, только не забудь пристегнуться». — «Юрка! — взвизгнет сестрица, — ты меня разыгрываешь, что ли, дурак!» А он пожмет плечами, равнодушно и понимающе, вытащит из кармана ключи и откроет дверцу, сначала правую, для нее. Она притихнет, присмиреет, округлит глаза и посмотрит на него нежно и восхищенно. «Что ж ты раньше не говорил?» — прошепчет она, и он кивнет молча и сдержанно, есть, мол, вещи, которыми настоящие мужчины не хвастаются.
Они поравнялись с «мерседесом». На полочке под задним стеклом лежал гнусный плюшевый заяц, похожий, наверное, на ворюгу-владельца.
Он вздохнул. Интересно, а что он мог бы украсть, если бы захотел? Фонендоскоп и клизму, причем для хищения клизмы ему пришлось бы склонить к преступлению и Леночку. Ему вдруг стало смешно, и он фыркнул. Лена тут же посмотрела на него. Как и всякого диктатора, любая эмоция, не контролируемая ею, заставляла ее тут же настораживаться.
— Что смешного? — подозрительно спросила она.
— Да ничего, просто я прикидывал, стоит или не стоит склонять тебя к краже клизмы из Дома.
— Очень остроумно.
— Я и не пытался острить.
— Тем более.
Он вздохнул и посмотрел на нее украдкой. Сценическая ее улыбка по-прежнему сияла на загорелом лице. Он вдруг почувствовал дар провидения: в туманной дымке будущего он увидел располневшую, с моршинками, Леночку, Елену Николаевну, зло толкающую его незаметно локтем, что, мол, ты несешь, дурак, и улыбающуюся при этом гостям. Из будущего потянуло промозглым холодком, и он непроизвольно вздрогнул.
— Так что случилось с Владимиром Григорьевичем и Константином Михайловичем? — вдруг спросила Леночка и внимательно посмотрела на врача своими миндалевидными серыми глазами. Глаза были серьезные и заинтересованные, и белозубая улыбка осталась где-то на сцене.
Господи, подумал Юрий Анатольевич, какое же у нее дьявольское чутье, какое сверхъестественное чувство опасности: стоило ему на мгновение мысленно вырваться из ее охотничьей сетки, как в очаровательной ее головке тут же заревела тревожно сирена: внимание, добыча уходит!
Ему стало смешно и стыдно. Хороша добыча. Богатая он добыча, ничего не скажешь, тридцатилетний бедный дурачок с детскими нелепыми фантазиями. Хоть сафари на него организуй, лицензии продавай. Рохля с докторской ставкой…
— Ты их помнишь?
— Конечно. Инсульт и Альцгеймер.
— Да, но, кроме инсульта, у Харина еще целый букет…
— У него изумительные глаза.
— У кого? — не понял Юрий Анатольевич.
— У Владимира Григорьевича. У меня сердце сжимается каждый раз, когда я вижу его. Знаешь, такие глаза… как тебе объяснить? Столько в них доброты, кротости и… какое-то есть еще слово… старинное такое… когда человек знает, что ничего изменить нельзя и воспринимает все…
— Смирение?
— Ты умница, — сказала Леночка и потерлась щекой о его плечо. — Смирение. Именно смирение.
Боже, что только не проносилось в его дурной голове! Все чушь собачья. Тонкий она человек, тонкий и добрый, а что смотрит на нее вся улица, то разве она виновата? Волосы ей, что ли, посыпать пеплом и напялить на себя рогожное рубище? Он не сказал ни слова, не сделал ни жеста, но Лена, наверное, поняла все, потому что взяла его ладонь и нежно провела по ней пальцем. Блаженно было и щекотно.
— Дурачок ты у меня, — сказала она, У нее, у нее! — торжествующим хором вскричали все клетки и органы Юрия Анатольевича. — У нее! — восторженно вопили нейроны и ганглии головного мозга. — У нее! — дрожащим тенором вторил спинной мозг. — У нее! — екнула басовито селезенка. — У не-е, у не-е! — отбило такт сердце. — Мы все у нее, мы принадлежим ей и рады рабству.
Мир был прекрасен и сиял улыбками. Мимо медленно проехал «мерседес», который он только что хотел преступным образом присвоить. За рулем сидел седобородый величественный человек. Наверное, архиепископ или академик. Или зав. овощной базой.
— Юрка, хорошо, что ты сегодня не сидишь у следователя.
— У следователя? За что?
— Это неважно. Всегда найдется за что. За склонение к хищению особо крупной клизмы с использованием служебного положения. Мало? За склонение к сожительству в особо крупных размерах…
— Идиотка. Тебя уж склонишь… Так что бы сказал следователь?
— Он должен был бы вытягивать из тебя показания щипцами, лучше всего гинекологическими, для родов. А следователя нельзя восстанавливать против себя. Следствию нужно помогать. Глядишь — и зачтется.
— Что зачтется?
— Чистосердечное раскаяние.
— Раскаяние в чем?
— Неважно. Всегда найдется, в чем раскаяться.
— Хорошо, я раскаюсь.
— Пожалуйста. А то ты начинаешь и тут же останавливаешься. Единственное, что тебя хоть частично извиняет, — это головокружение от близости к своей птичке-синичке.
— За склонение синицы к сожительству…
— Все, Юрий Анатольевич, вы открылись. Все ясно. Вы долго скрывали, но теперь я поняла все: вы страдаете орнифилией, то есть извращенной страстью к птицам.
— Такого извращения нет.
— Есть.
— Нет.
— Хорошо, я тебе докажу. — Леночка выпустила руку Юрия Анатольевича и обратилась к молодому человеку в красной курточке с прыгающей кошкой на груди. Под кошкой было написано «пума».
— Простите, вы не скажете мне, есть ли такое извращение орнифилия?
— Что-о? — раскрыла рот пума.
— Страсть к птицам.
Молодой человек неуверенно рассмеялся и вопросительно посмотрел на Юрия Анатольевича.
— Не обращайте внимания, — кротко сказал Юрий Анатольевич. — Сестра немножечко… не в себе, понимаете? Ее отпустили из больницы на часок погулять со мной. Вообще-то она не опасная, скорее даже тихая, ее часто отпускают со мной погулять.
— Черт те знает что, — буркнула немолодая дама с накладным рыжим шиньоном и злыми губами. — Пьяных, слава богу, меньше стало, так психов выпускают. Лечить лень, вот и выпускают. План перевыполняют для премии.
— Ну, Ленка, с тобой не соскучишься, — покачал головой Юрий Анатольевич, — озорница ты…
— Простите, доктор, — прошептала Леночка, — мне так хотелось понравиться вам… Может, мне лучше нужно было рассказать вам, как я готовлю настоящие белорусские картофельные оладьи — драники.
— Да, Лена, да! — вскричал Юрий Анатольевич, остановился и поцеловал старшую медсестру сначала в левый, потом в правый глаз.
— Есе! — властно просюсюкала Леночка, стоя с закрытыми глазами.
— Во дают, бес-стыд-ники, — весело пропел старичок в желтой рубашке с погончиками. Слово «бесстыдники» он произнес медленно, смакуя все слоги.
Они шли рядом и молчали, дурашливость вдруг уступила место серьезности. Казалось, они оба только что сдали какой-то трудный экзамен и теперь отдыхали после испытания.
— Так что же с Владимиром Григорьевичем? — спросила наконец Леночка.
— Он был очень слаб. Инсульт. Левосторонний гемипарез, кровоизлияние во внутреннюю капсулу правого полушария…
— Я знаю, — прервала его сестра.
— Сегодня я не мог узнать его. Шел без палочки, почти не хромая. Да что шел! Он у меня в кабинете сделал приседание! Я б ни за что не поверил, если б не видел своими глазами. И давление, и пульс — как будто не его. Сто сорок на семьдесят пять, пульс семьдесят, наполнение — как у стайера.
— Ничего удивительного, — покачала головой Леночка, — пациент доктора Моисеева. Да, да, того самого Моисеева…
— Я не шучу.
— Я тоже. Ты столько вкладываешь в наших старичков, что любой мало-мальски порядочный человек просто обязан поправиться хотя бы из чувства благодарности. Так и знай, если кто-нибудь болеет, то это просто из-за скверного характера, назло.
— Спасибо. Но самое удивительное, что чувство благодарности почему-то одновременно сработало и у его соседа, у Константина Михайловича. Ты его помнишь? Этот, абер дас ист ничево.
— Конечно.
— У него улучшение, может, и не такое драматическое, но все равно заметное. Ты ведь знаешь эти постоянные движения при Альцгеймере, он то застегивает рубашку, то расстегивает, ну, провалы в памяти, с трудом находит нужное слово. Сегодня он был другим человеком. «Юрий Анатольевич, — говорит, — хотите, я вам всю таблицу умножения продекламирую? Я, — говорит, — и двадцать лет назад никогда не был твердо уверен, сколько будет семью девять. А сейчас знаю — шестьдесят три! Сам себе не верю. Не верите, спросите у Ефима Львовича, я его заставил себя проэкзаменовать».
— Гм… — промычала Леночка.
— Удивительное совпадение, птичка-синичка.
— Ты у меня замечательный, — серьезно сказала Леночка и поцеловала его в щеку. — До завтра.
— Так быстро?
— Мама что-то хандрит, я обещала, что не буду задерживаться.
— Что делать… Хочешь, я посмотрю ее?
— Нет, лучше не нужно. Я ее депрессии лучше кого угодно изучила. До свидания, Юра.
Лена исчезла в чреве метро, а он все стоял недвижимо. Мимо тек людской поток, а он все стоял, улыбаясь, когда его толкали, и вид, наверное, у него был такой блаженный, что никто не ругал его. Наоборот, глядя на него, начинали улыбаться и прохожие, разглаживались усталые после рабочего дня лица. Он чувствовал себя счастливым и одновременно опустошенным. Так, наверное, чувствуют себя марафонцы после своих сорока двух километров. Он посмотрел на часы: половина шестого. Домой ехать не хотелось. Он просто не мог быть сегодня один. Он лопнул бы от переполнявших его чувств, как глубоководная рыба, поднятая мгновенно на поверхность. Ну, конечно же, надо подъехать к Севке. Он еще вчера звонил. Сейчас он на базе. Вот и отлично, поеду на базу, решил Юрий Анатольевич, а потом, может быть, поедем вместе к нему.
Вечерняя тренировка была в самом разгаре. Юрий Анатольевич шел вдоль бортиков, и белесые ледяные потеки на линолеуме пола казались странными в разгар лета. Еще более странным казался пронизывающий холодок, скрипы и взвизги коньков, облачка ледяной пыли, взлетавшие вверх при резком торможении, глухие бухающие удары шайб о борт, потные лица игроков в вылинявшей, штопаной форме, которые подъезжали к бортику, чтобы тяжко перевалиться через него на скамейку; резкий голос тренера, усиленный мегафоном: быстрее, быстрее нужно работать!
Севка увидал его издали и махнул рукой. Юрий Анатольевич подошел, поздоровался, кивнул массажисту, второму тренеру и кому-то еще, кого он не знал. Все они почему-то сидели не на самой скамейке, а на ее спинке.
— Не замерзнешь? Дать тебе куртку? — спросил Севка. Был он великолепен в небесно-голубой адидасовской куртке, в бело-голубой адидасовской шапочке, в сине-белых адидасовских кроссовках, с синим адидасовским саквояжиком, стоявшим рядом на скамейке, и с голубыми адидасовскими глазами.
Стой, Юрочка, одернул себя Юрий Анатольевич, не злобствуй от низкой зависти. Глаза у него вполне отечественного производства и даже добрые.
— Спасибо, Сев, пока даже приятно после улицы.
— Смотри, стариканчик. Как там твои божьи одуванчики?
— Ничего, спасибо.
Глаза у Севки опять приняли импортный оттенок, и Юрий Анатольевич хмыкнул.
— Ты чего?
— Да так, показалось, что у тебя все такое адидасовское, что и глаза тоже с полосатым трилистником.
Сева на мгновение задумался, решая, должно быть, обидеться или нет, и сказал серьезно:
— Нет, тебе это показалось. Глаза у меня фирмы Купер, знаешь, хоккейное снаряжение.
Он, может быть, и обиделся бы, подумал Юрий Анатольевич, но у такого расчетливого парня, как Севка, он, видимо, и обиды не заслужил. На всех обижаться прокидаешься.
Они поулыбались, и Севка сказал:
— Стариканчик, ты думаешь, я спросил про божьих одуванчиков просто так? Нет, Юрка. Я тебе не хотел ничего говорить раньше, но вчера я беседовал о тебе с зампредседателя нашего ЦЭЭС. Врач, говорю, изумительный, опыт огромный, хотя парню всего тридцать лет, спортсмен, чист, как стеклышко…
— В каком смысле чист?
— В прямом, в анкетном. Никаких пунктов. Везде нет, не был, не имею. В общем, расписал тебя, как икону. И самое страшное, что все правда. Короче говоря, зам хочет поговорить с тобой и, если ты приглянешься, возьмет тебя на велосипедистов.
— На велосипедистов?
— Ну что ты так смотришь? Врачом в велосипедную команду. Место изумительное, я у ребят спрашивал.
— А что там делать?
— О господи, — вздохнул Сева, — ну, там ушиб, растяжения, ахиллес, трещинка в ребре, не дай бог, переломчик изредка, обычные дела. Зато Сочи, Крым, сборы. Годок поработаешь, поедешь куда-нибудь дальше, все будет зависеть от тебя, стариканчик. Есть, конечно, свои нюансы, но это зато не в твоей богадельне сидеть, это уж точно. Поверь, стариканчнк, неслабое место. Я тебя, дурака, уговариваю, а люди за такой джоб всю жизнь кланяться будут. Да что кланяться! Отстегнут штуку как минимум, это уж точно.
— А сколько нужно будет отстегнуть, это сколько штука?
— Обижаешь. Неужели я с тебя взял бы!
— Не знаю, Сева.
— Будем считать, что ты шутишь. Так удобнее.
— Доктор, — сказал совсем молоденький хоккеистик, подъезжая к борту и вынимая руку из огромной драной кожаной перчатки. По сравнению с перчаткой, рука казалась совсем маленькой. — Заморозь.
— Что случилось? — спросил Сева, раскрыл чемодан и быстро вытащил флакон с заморозкой.
— Да Колька клюшкой рубанул. — Он пошевелил мизинцем и поморщился.
Сева нажал на клапан, направляя струйку заморозки на пальцы.
— Перчатки совсем разлетелись. Скажи хоть ты Семенычу.
— Ладно.
— Доктор! — крикнул в мегафон старший тренер, и Севка быстро пошел к нему по льду осторожными шажками.
Да, думал Юрий Анатольевич, это, конечно, не наша богадельня. Мало того, что вся медицинская энциклопедия сокращается здесь до нескольких страничек, флакона с заморозкой и мотка лейкопластыря, здесь «Жигули» из абстракции превращаются в сугубо реальный автомобиль. Севка в команде третий год, а уже вторую машину меняет. И «бабок», как он выражается, побольше, и питаешься вместе с командой, командировочные, валюта…
Он посмотрел на лед. Шла двусторонняя игра. Та самая игра, которую он не раз видел по телевизору. Та самая и другая. Она была ближе, жестче, объемнее. Он слышал хриплое дыхание — это ж сколько кислорода нужно прогнать через легкие, чтоб обеспечить такие нагрузки! — гортанные выкрики «мне», «сюда», «сзади», быстрый, как у дятла, стук клюшкой о лед, чтобы привлечь внимание партнера, глухой звук сталкивающихся тел, скрип и писк стальных лезвий о лед.
Да, это не богадельня. Коньки делали и без того рослых спортсменов сказочными великанами в сказочных доспехах. Их тела излучали мощь. Он чувствовал, как мгновенно взрываются могучие мускулы, толкая вперед стокилограммовые тела в стремительном ускорении. Ноги — поршни. Руки — рычаги. Сухожилия — стальные тяги.
Очередная смена обессиленно переваливалась через бортик, и хоккеисты жадно пили из пластмассового контейнера с торчащим хоботком, передавая его друг другу. По лицам с запавшими глазами тек юный обильный пот.
Это не богадельня, еще раз мысленно повторил про себя Юрий Анатольевич. Ему было почему-то грустно. Он только что восхищался чудом, когда Владимир Григорьевич осторожно сделал перед ним приседание, а эти ребята могли бы присесть… сто, двести раз, да еще, наверное, положив на плечи штангу килограммов в пятьдесят.
Что это, разные люди или разные виды? Что общего у этих богатырей с его жалкими пациентами? Или эти люди тоже со временем согнутся, их мускулы усохнут и станут дряблыми, ноги-колонны истончатся, а животы, наоборот, вывалятся? Может ли это быть?
Может, может. И пока они объяты гордыней своего телесного могущества, все двести причин старения уже присматриваются к ним, примериваются, договариваются, кому первому сбивать с них спесь.
И вдруг понял Юрий Анатольевич, даже не понял, а ощутил с пугающей ясностью, что не сможет уже вырваться из крепкого плена немощных своих пациентов. Глупо, смешно, но не сможет он уйти, везде будет видеть всезнающие печальные глаза, обращенные к нему с надеждой без надежды.
Прощай, «Жигули», прощай, сборы, прощайте, элегантные стюардессы международных линий, прощайте, доллары и марки… Каждому свое. Особенно дуракам. Ему бы за свою идеалистическую глупость хоть какую-нибудь компенсацию получить. Например, начать презирать других и считать себя подвижником. Вы, жалкие материалисты, гоняющиеся за «бабками» и зарубежными командировками, вы, жалкие шустеряги, вы смешны мне, Чистому и Возвышенному. Так и этого нет. Если и мог Юрий Анатольевич относиться к кому-то с брезгливым презрением, то скорее к себе. На то он и дурак, на то он и рохля.
Сидеть на лавочке было покойно, послеобеденное неяркое солнце грело деликатно, и Анечкино присутствие придавало ощущению приятности некую законченность. Да что приятность, подумал Владимир Григорьевич, это же счастье, неслыханное, невероятное счастье: сидеть на скамеечке, дышать, ощущать теплоту солнышка и видеть Анечкины подведенные глазки. Может, мудрость — это умение видеть и чувствовать счастье. Увы, постигаем мы ее слишком поздно, если постигаем вообще, и платим за нее чересчур высокую цену. А может, мудрость иначе приобрести нельзя. Не вводить же в школе два урока мудрости в неделю, не выдавать же ее в ателье проката.
Владимир Григорьевич усмехнулся мысленно: как-то очень уж уверенно зачислил он себя в мудрецы. А это опасно. Не успеешь оглянуться, а уже поучаешь всех, как жить.
Дворовая собака, которую одни звали Пальма, а другие — Жучка, попыталась обойти группку суетливых воробьев, но те все равно вспорхнули и раздраженно зачирикали. Пальма-Жучка подошла к скамейке и кротко посмотрела на Анечку и Владимира Григорьевича. У нее были философские глаза профессиональной нищенки. Она, наверное, давно уже поняла, что можно прокормиться и смиренностью.
Владимир Григорьевич достал из кармана заготовленный для такого случая кусочек хлеба и протянул собаке. Она благодарно вильнула хвостом, и Владимиру Григорьевичу показалось, что она сделала легкий книксен. Впрочем, хлеб она взяла скорее из приличия, чтобы не обидеть благодетеля, потому что отнесла кусочек в сторонку, положила на землю и отошла, чтобы не мешать воробьям с гамом накинуться на хлеб.
Круговорот материи в природе, лениво подумал Владимир Григорьевич, а есть ли, интересно, круговорот доброты? Вряд ли. Природа благотворительностью не занимается. Воробьи-то уж, во всяком случае, явно не собирались возлюбить ближнего своего. Они распускали для свирепости перышки на шейках, толкались и наносили друг другу короткие уколы рапиристов.
Благо бы только воробьи. До Пальмы-Жучки жила при Доме одноглазая собачонка редкого уродства и обаяния. Смотрела она на обитателей Дома так умильно, так заискивающе, так трогательно вертела хвостом и вибрировала всем телом, так подмаргивала единственным глазом, мол, войдите в положение, православные, что кормили ее все на убой. Она подходила к ветеранам так, чтобы им легче было погладить ее желтую шерсть, и сладостно, по-кошачьи изгибала под их старыми ладонями спину. Владимиру Григорьевичу казалось, что она, как дама легкого поведения, привычно имитирует получаемое удовольствие, но все равно гладить Одноглазую любили все. Когда ты давно уже утратил способность давать кому-нибудь радость своей лаской, станешь благодарен и собачке, вихляющей задом под твоей рукой.
И эту-то собачонку сдали живодерам. Дом гудел, как растревоженный улей, ветераны роптали, проклиная бесчувственного завхоза, который, по слухам, и избавился от Одноглазой. Впрочем, негодовали далеко не все. Иван Сергеевич, например, даже одобрял завхоза.
— Главное, — сказал он, — отлов и отстрел должен быть организованный.
— Позвольте, — возразил ему запальчиво Ефим Львович, — при чем тут организованность? Разве организованность оправдывает жестокость?
— Жестокость — это качество, так сказать, индивидуальное. А действия государственных органов не индивидуальны, а стало быть, и не могут быть жестоки.
— Стало быть, стало быть, — наскакивал на него, передразнивая, Ефим Львович. — Стало быть! Откуда такая у вас уверенность в своей непогрешимости, Иван Сергеевич? А что, когда сотни тысяч крестьян сгоняли с насиженных мест при коллективизации и как кулаков…
«Что же, и кулаков, по-вашему, не было? — саркастически спросил Иван Сергеевич.
— Может, единицы и были, но не столько, просто с работящими крестьянами расправлялись…
Иван Сергеевич несколько секунд молчал, от негодования в нем лишь что-то шипело, булькало, потом он усмехнулся:
— Вы-то откуда русскую деревню знаете, Е-фим Ль-во-вич? Вы-то что о ней печалитесь?
Местоимение «вы» он произнес с многозначительным ударением. Большинство понимало, что именно хотел он сказать этим ударением, но то ли соглашались с ним в душе, то ли стеснялись ввязываться в спор, но только промолчали…
— Вы задремали, Володенька? — спросила Анна Серафимовна и положила свою легкую сухую лапку на его пятнистую от старческой пигментации руку.
— Нет, Анечка, разморился на солнце, согрелся подле вас.
Анечка выдержала легкую паузу, словно обдумывала, шутит ли он, или серьезен, и благодарно сжала его ладонь.
— Вы добрый, — сказала она задумчиво.
Удивительно, как она умела настраиваться на его волну: только что в голове его медленно проплывали обрывки мыслей о доброте, благотворительности. Ощущение совпадения волны было приятно: как будто точно настроил приемник, и звук получался чистый, без помех и хрипоты.
— Добрый… — повторил он. — Не знаю, друг мой, Анечка. Не знаю. Не уверен… Явного зла, пожалуй, людям не делал, но особенно творить добро тоже не кидался… Это ведь, знаете, очень просто. Главное — сразу не кинуться, по первому неразумному импульсу, удержаться. А сразу не кинешься — тут тебе здравый смысл тотчас охапку причин подсунет, почему именно в данном конкретном случае не следует торопиться. Конечно, принято сейчас на времена все списывать, но боюсь, я им особенно и не сопротивлялся…
— А я вам, Володенька, не верю. Злой человек никогда не забудет подчеркнуть свою доброту.
— Анечка, вам обязательно нужно сочинять афоризмы, лаконизмы, иронизмы — как они там теперь называются.
— Спасибо. Давайте говорить друг другу комплименты… — заметила она слегка дрожащим, но верным голоском. — Помните? Булат Окуджава.
— Помню. Но только одну строчку.
— И достаточно. Если я помню хоть одну строчку, у меня все равно ощущение, что стихи эти я знаю. Если знаешь хоть один элемент пейзажа, он уже не может быть чужим…
— Гм… Вопрос, Анечка, спорный. Впрочем, я из спорных вопросов уже сутки, наверное, не вылезаю, застрял в них, как Иона во чреве кита.
— Только не тоните, милый друг. — Анечка еще раз пожала легонько его руку и тут же отдернула свою, потому что по аллее шли две ветеранши, явно изголодавшиеся по сплетням. — А что вас мучает? — спросила она и посмотрела на него, округлив от любопытства подведенные глазки.
Владимир Григорьевич вздохнул. Разомлел он на солнышке подле Анны Серафимовны. Попробуй расскажи ей… А почему бы и нет? Как раз она-то смеяться не станет, наоборот.
— Помните, вчера, когда вы рассказывали нам о…
— Хьюме.
— Да, Хьюме. Постучал Ефим Львович и сказал, что ко мне пришли.
— Да, конечно. Фимочка всегда все узнает раньше всех. Иногда мне кажется, даже раньше, чем что-либо случится.
— Ну уж…
— Это я для красного словца.
— Короче говоря, ко мне пришли посетители. Первые, должно быть, за полгода.
Анна Серафимовна вздохнула и печально кивнула. И оранжевые ее волосики тоже печально кивнули.
— Я понимаю, — сказала она. — Катька моя, слава богу, приходит ко мне каждую неделю, внучки заскочат раз в месяц — в два. Но ведь не ко мне приходят. Долг выполняют. Так принято. Для себя приходят. Для некой внутренней галочки. Представляете, Володенька, я никогда не чувствую себя такой одинокой, как когда они у меня здесь. Сидят как на иголках, чувствуешь, как они минуты каблуками шпыняют, мол, тащитесь быстрее, окаянные. Мне бы, кажется, этими минутками наслаждаться, смаковать их, а не могу. Тоже начинаю в такт секундной стрелке дергаться, представляете? А с другой стороны, чего на них обижаться? У нас же не просто разница в возрасте, разница может быть в пять, десять, пятнадцать лет. Мы же принадлежим к разным видам. Мне порой кажется, что у меня и старой собаки куда больше общего, чем у меня и моих внучек-финтифлюшек… Честное слово. — Анечка виновато улыбнулась. — Я вас, Володенька, совсем заговорила, не даю вам рта раскрыть. Рассказывайте, милый друг.
— Пришли, значит, двое, парень и девушка. Приятели внука, принесли апельсины, те самые, которыми я вас утром угощал. Марокканские. Ну-с, и рассказывать-то было бы, строго говоря, нечего, если бы я не испытывал во время их коротенького визита какое-то странное волнение, прилив сил, который, как видите, продолжается до сего момента, тьфу, чтоб не сглазить.
— Вполне все понятно. Привет от вашего любимого Саши, первый визит за долгое время…
— Вы были бы абсолютно правы, если бы не одна маленькая деталь. Молодой человек — его зовут Сергей — протянул мне кулек с апельсинами, точнее, не кулек, а сероватый такой магазинный пакетик. Я машинально протягиваю руку, чтобы взять его, и тут спохватываюсь, что рука-то левая. Она у меня после инсульта совсем стала слабенькая, не то чтобы двухкилограммовый пакет удержать, газету с трудом держишь. И автоматически, рефлекторно разжал пальцы, испугавшись, что не удержу апельсины. — Владимир Григорьевич посмотрел виновато на собеседницу, гмыкнул. — И пакет повис в воздухе.
— В воздухе?
— Да.
— Ваш этот… Сергей заметил?
— Н-нет как будто. Пожалуй, нет. Он никак не обратил на это внимания.
— А видел он висящий пакет?
— Не могу ручаться, но, наверное, видел.
— Он вам протянул пакет?
— Да.
— Тогда он видел.
— Почему вы так уверены?
— Судите сами. Вот мы с вами разговариваем. Я хочу что-то вручить вам. Куда я смотрю? В сторону? Назад? Нет, конечно. Я смотрю на то, что вручаю вам. Вот так. Согласны?
— Наверное, — неуверенно кивнул Владимир Григорьевич.
— Не наверное, а наверняка. Молодой человек видел повиснувший в воздухе пакет и не высказал при этом ни малейшего удивления или волнения. Так?
— Так, — ответил Владимир Григорьевич.
— Так, так, — передразнила она его добродушно, экий вы у меня недогадливый.
— А о чем я должен был догадаться?
Анна Серафимовна с трудом сдерживала торжество:
— О чем, милый друг? Вы спрашиваете, о чем? Да о том, милый Володенька, что для вашего Сергея ничего необычного в этом не было. Вот о чем!
— Да-а…
— Вы-то, поди, рот рескрыли от изумления, признайтесь.
— Да, естественно.
— А он ноль внимания, представляете? А это может значить только одно.
— Что же?
— Что ваш Сергей экстрасенс, причем необычайно сильный.
— Гм… Я об этом даже не подумал.
— Меня как-то подруга познакомила с одним кинорежиссером. Что-то на «Мосфильме» он как будто ставил, но что — убей, чтобы помнила. Пойдем, говорит, я тебя познакомлю с необыкновенным человеком, живым экстрасенсом. Было это, наверное, лет двадцать назад, и ни в какую парапсихологию я не верила. Чушь и суеверие, самоуверенно выносила я приговор, когда кто-нибудь рассказывал о телепатии, телекинезе или о чем-нибудь подобном. Не то, чтобы я что-нибудь знала об этих материях, что-нибудь специально читала, думала. А так просто. Из духа отрицания. Раз другие интересуются — скажу, что чепуха. Другие б ноль внимания, я, наверное, поклонницей парапсихологии стала бы.
Подруга говорит:
«Аньк, надо ему бутылочку взять, режиссер это любит».
Ага, думаю, все понятно. После бутылочки-двух чудеса легче проходят. Приехали. Режиссер вроде бы был человек еще молодой, но какой-то изрядно подержанный. Порхает так, сюда, прошу, спасибо за жертвоприношение. Это он о бутылке. Грязь в квартире фантастическая. Я такой пыли ни до него, ни после не видела. Не пыль, а вековые отложения. На луне, наверное, такая. И кухня вся — причем, представляете, дом послевоенный, кухня метров двенадцать — заставлена пустыми бутылками, и лишь дорожка пешеходная к мойке проложена. Закусывали одним плавленым сырком. То есть закусывал и выпивал в основном хозяин квартиры, а мы с Тоськой — так подругу звали, умерла, бедняжка, три года назад — только делали вид. Режиссер, надо отдать ему должное, особенно и не настаивал. Сам отлично управлялся.
Какую-то он нес околесицу, рассказывал о каких-то древних тибетских книгах, в которых якобы во всех деталях расписана будущая история Земли, хвастался, что его способности никакими приборами не измерить все зашкаливаются, намекал на какие-то таинственные и всемогущественные учреждения, которые круглосуточно опекают и охраняют его. А я про себя посмеиваюсь: охранять, может, и охраняют, но убраться не помогают, это уж точно.
Потом режиссер показывал какие-то карточные фокусы. То есть, может быть, и не фокусы, потому что уж как-то особенно лихо угадывал он карты, которые я держала в руках, но, во всяком случае, похожие на фокусы. Я себе говорю: глупость. Не может того быть. Обман зрения. Не хотела верить и не могла. Вдруг он посмотрел на меня:
«Редко, — говорит, встречал такую недоверчивую женщину. Вы, — спрашивает, — ведь актриса?» «Да».
«Актриса должна быть доверчивая. Тогда и ей поверят. Актер не может быть холодным скептиком. Хоть я сегодня и не в форме, попробую убедить вас».
«В чем?» — спрашиваю.
«В том, что самоуверенность — удел невежд или полузнаек».
У меня, помню, даже кровь в лицо бросилась. Ах ты, думаю, хвастун ничтожный. Выставил двух дур на бутылку и куражишься. Тибетские, видите ли, книги он видел. Вся будущая история в них написана, весь мир молчит, один наш хозяин знает. А я как раз незадолго перед этим одну книжонку популярную прочла, в которой ученый автор камня на камне не оставлял от всяких парапсихологов и экстрасенсов. Очень убедительно с ними расправился.
Наш хозяин вдруг состроил какую-то страшную гримасу, стал как-то хрюкать, хватая судорожно ртом воздух, потом успокоился неожиданно.
«Лежит перед вами на столе коробок спичек?» — спрашивает.
«Да».
«Проверьте, не привязаны к нему какие-нибудь ниточки, что-нибудь в этом роде. Как следует проверьте, не стесняйтесь, со всех сторон».
«Нет, — говорю, подняв спички, — как будто ничего нет».
«Как будто», — усмехнулся он, еще раз страшно хрюкнул и пристально уставился на коробок. Лицо его побагровело, на виске одном вздулась жила, пульсирует, вот-вот лопнет. Столько лет прошло, Володенька, а как будто я сейчас вижу его перед собой.
Вдруг Тоська сжала мою руку своей и прошептала:
«Смотри!»
И действительно, коробок как будто бы вздрогнул.
Черт те знает, думаю, может, он стол незаметно наклонил, тем более на нем не скатерть, а клеенка. Мысль мне эта понравилась, как-то я даже возгордилась, мол, как я сразу все раскусила. И тут режиссер хрюкнул особенно страшно, крякнул, и я увидела, как коробок оторвался от дрянной липкой клеенки и поднялся сантиметров на двадцать над столом. Поднялся и повис, чуть-чуть покачиваясь.
«Руку!» — вдруг гаркнул режиссер.
Тоська, наверное, эту процедуру уже знала, видела, потому что быстро провела рукой над и под коробком, убеждая меня, что он ни на чем не подвешен.
Тут и я провела рукой. И испытала странную такую раздвоенность: голова моя, немолодая, заметьте, голова, кое-что уже видевшая, голова недоверчивая, бубнила, что это невозможно, что это, как утверждал автор разоблачительной книжки, обман, суеверие, эксплуатация доверчивости, нарушение незыблемых физических законов, вздор, чушь. А глаза и руки вопили: так вот же она, коробка спичек, висит сама по себе. И не знала я, кому верить.
А режиссер тем временем вошел в раж, весь налился какой-то темной яростью: покатил по столу взглядом шариковую ручку, поднял ее в воздух, поднял тоже сантиметров на двадцать чашку с блюдцем. Посмотрел на Тосю мою, заскрежетал зубами, прошипел:
«Ложитесь, Антонина Яковлевна!»
Та покорно брякнулась на ковер. Господи, думаю, это еще что такое? А он хрюкает, руки над ней простер, дышит тяжко, как астматик. Тужился, тужился, потом сразу обмяк.
«Не могу. Левитацию сегодня не могу, не в форме я. Это, — говорит, — редчайший дар. Знаете, за всю письменную историю цивилизации зарегистрировано всего несколько достоверных случаев левитации. А я подымал, подымал. Вот, смотрите». — И подает нам фотографию известной киноактрисы, называть не буду, жива она еще. И на фото надпись: человеку, который поднял меня.
Хочешь — верь. Не хочешь — не верь. И в каком смысле поднял… Но теперь уже сомневаться было трудно, прямо скажу.
Когда мы собрались уходить, он посмотрел на меня с ухмылкой и говорит:
«Вы ведь практически не пили?»
«Нет», — говорю.
«И Антонина Яковлевна не пила. Я, к сожалению, один целую бутылку спроворил. Практически без закуски. Так?» «Так».
«И пахнуть у меня изо рта должно соответственно. Так?» «Наверное».
«Наверное, — усмехнулся он. — Вы, очевидно, никогда не целовались с выпившим человеком. Если это так, позвольте мне в экспериментальных целях поцеловать вас практически в губы. Заполним, так сказать, брешь, в вашем жизненном опыте».
Антонина смеется:
«Смелее, Аньк, ты ж такое вытворять умела…» Я повернула голову, и он поцеловал меня в губы, раскрыв рот таким, знаете, влажным поцелуем. И ни малейшего запаха алкоголя. Он еще раз усмехнулся и так дохнул на меня — ха… Не скажу, чтобы источал он запах свежих роз, но сивушного запаха совершенно не было.
— Вы не устали от моего рассказа, Володенька?
— Что вы, Анна Серафимовна, я слово боялся пропустить.
— Спасибо. Но ведь это не просто возрастные мемуары. Я хотела рассказать вам, что висящий в воздухе пакет с апельсинами вовсе не обязан быть галлюцинацией или фокусом.
— Что же вы хотите сказать, что мой гость — экстрасенс?
— Не просто экстрасенс, а выдающийся экстрасенс, который даже не обращает внимания на свой необыкновенный дар. Режиссер, о котором я вам рассказывала, хрюкал, делал гримасы, тужился, а Хьюм даже не замечал, что иногда парил над креслом, помните?
— Да, — задумчиво кивнул Владимир Григорьевич. — Может быть…
Владимир Григорьевич лежал в темноте и слушал, как дышит спавший Константин Михайлович. Вдыхал он долго, как йог, с легким шипением, а выдыхал сразу, легким выхлопом — пхе… Ему не спалось. Нет, он не мучился от бессонницы, он чувствовал, что стоит ему отпустить тормоза, как он тут же скатится в долину снов. Но не хотелось ему засыпать, не хотелось расставаться с непривычной наполненностью сознания. Душу и память его волновали в эти минуты странные, беспокойные ветры. Они проносились, легкие и озорные, оставляя за собой летучую рябь.
Столько месяцев, может, даже лет жило в нем стоячее болото: ни ветерка, ни просто дуновенья воздуха, ни новых впечатлений, лишь привычное стариковское оцепенение, сменившее острый вначале страх смерти.
А теперь полнился он светлой всепонимающей легкой печалью, настолько легкой, что не давила она, а, наоборот, помогала смаковать жизнь, те капли, что еще оставались. И легкую руку Анечки чувствовал он на своей руке, и хрупкая стариковская нежность непривычно и мягко тянула за сердце. Нежность чистейшая, выросшая не на гормональной закваске, как у молодых влюбленных, а из душевной симпатии. Нежность хрупкая и сильная, как травинка, лезущая вверх через трещинку в асфальте. И вспоминал он Наденьку, свою жену. Боже, неужели она умерла уже двадцать четыре года назад? Кажется, только вчера он говорил ей:
«Ты, Надька, подумай как следует, ведь за старика идешь».
Надежда, которой было тогда… Да, перед самой войной, в сороковом году, двадцать лет, поднимала на него смеющиеся глаза, притворно вздыхала и задумчиво кивала:
«И то ведь верно, батюшка, за старчика иду».
Сколько же было тогда старчику? Тридцать два года. Ну, конечно, тридцать два, а Надежде двадцать, была она его моложе на двенадцать лет и училась тогда на филфаке.
«Смотри, Надежда, не ошибись, — еще раз говорил он серьезно. — Знаю ведь, по расчету идешь, а расчет-то пшиковый. Что у меня есть-то, у журналистика? Старый «ундервуд» модели одна тысяча двенадцатого года, вечная ручка «паркер» с золотым пером и треснувшим колпачком, костюм полушерстяной бэу и четырнадцать метров в доме с коридорной системой на Рождественке напротив архитектурного института».
«А-ить и то немало, батюшка», — по-старушечьи склонив милую свою головку набок, кивала Наденька. Такая была озорница, игрунья, сразу хотелось ей играть сто ролей: и чеховской старушки, и женщины-вамп, и простодушной комсомолочки, и влюбленной душечки… И оттого глаза ее всегда смеялись, и лексику путала от нетерпения. Так, так, скажет, батьюшка, же ву при, мсье Харин…
Веселая, как птичка, обожавшая танцевать. Вскоре после свадьбы купили они патефон. Вначале была у них единственная пластинка. На одной стороне фокстрот… гм… да, веселенький такой фокстротик, конечно, он еще назывался «Девушка играет на мандолине». На-на-на… Танцевали они преимущественно рано утром. Он всегда просыпался первым и, побрившись, заводил патефон, целовал Надю в нос и восклицал:
— Надежда, девушка и мандолина готовы, позвольте пригласить вас на тур фокстрота.
Надя выпрыгивала из постели в длинной своей ночной рубашке, заспанная, излучающая еще ночное сонное тепло, делала книксен, говорила «мерси, Вольдемар», прыскала со смеху и клала ему руку на плечо. Они танцевали под прыгающую мелодию фокстрота, а она напевала в такт дурашливые придуманные слова: за-хотелось ста-рику пе-ре-плыть Моск-ву-ре-ку, до середки до-тянул, а по-том и уто-нул. При этом он живо представлял себя, седовласого старика, почему-то обязательно в белой нательной рубахе, который, отдуваясь, отплевываясь, плывет по Москве-реке, все реже и реже показывается на поверхности.
А вскоре одним прекрасным утром Надя добавила:
«Однако, гражданин Харин, седни будем мы плясать утроем». — На этот раз играла она роль темной бабы.
«Ето почему ж?» — в тон ей спросил он. Неужели…
«А потому, товарыщ, что жена ваша понесла. То есть тяжелая, обрюхатевшая. Выражаясь опять же научно, забеременевшая…» О господи, мысленно воскликнул Владимир Григорьевич, неужели это было? Какая длинная у него жизнь. Отмерил ему кто-то, что называется, с походом. И счастье было, и горе.
В сорок первом году почти два месяца он был в окружении. И уже не военным корреспондентом, а простым солдатом, измученным и оборванным, пробирался он к своим, через пять кругов ада прошел, чтобы какой-то пухлый чистенький смершевец спрашивал его с ухмылкой:
— Это что же вы хотите сказать, что целых два месяца не могли выйти из окружения?
— Ну и сволочь вы, — сказал Владимир Григорьевич. Он валился с ног от нечеловеческой усталости, он руку дал бы отрубить, чтобы только узнать, что с Надей, где она, а тут эта ухмыляющаяся гадина. Он понимал, что совершает нечто непоправимое, но он падал, и не было сил остановить падение.
— Как ты смеешь, немецкий выбл… — смершевец вскочил и схватился за новенькую скрипучую кобуру.
Владимир Григорьевич рванул вверх край стола, опрокидывая его, раздался грохот, кто-то вскочил в комнату, и сквозь густеющий туман обморока Владимир Григорьевич услышал голос:
— Харин, неужели ты?
Не случись тут знакомый корреспондент из «Комсомолки», неизвестно еще, как бы все обернулось.
Надя была в Москве, но не одна, а с крошечным комочком, который она почему-то называла Валентиной, хотя комочек имени еще явно не заслуживал.
А в общем, должен он быть благодарен тому чистенькому тыловому смершевцу. Хоть бы за то, что использовал он этот слегка измененный эпизод в своей первой пьесе «Во весь рост».
Интересно бы перечитать ее… Нет, пожалуй, не стоит. Есть вещи, похожие на донный ил. Пока лежат спокойно в памяти, кажутся и сильными, и убедительными, и хорошо сделанными. В глубине души он даже считал, что мало в чем уступает классикам: и конструкция крепка, и сюжетная пружина упруга, и характеры выписаны выпукло. Ну, разве что «чуть-чуть», и весь фокус. Действительно чуть-чуть, но это чуть-чуть походило на скорость света. Как только тело начинает приближаться к ней, дальнейшее ускорение становится невообразимо трудным. Так, наверное, и во всем. Посредственного бегуна на стометровке отделяют от мирового рекорда каких-нибудь три-четыре десятых секунды. Смехотворные отрезочки времени, даже не отрезочки, а какие-то ничтожные осколки, даже секундная стрелка один раз дернуться не успеет. А вот поди же, выкинь никчемный осколочек, и окружат тебя сразу сотни фотои видеокамер, засверкают блицы, и будешь ты изрекать глубокие истины, что нужно быть настойчивым, целеустремленным, находить новые формы тренировки, и все будут внимать благоговейно: как умно. И все из-за каких-то паршивых двух-трех мгновений. Да и много ли отделяло его от Шекспира с его нелепыми Гамлетами, Отелло, Шейлоками и Просперо? Какая-то ступенька ничтожная, перешагнуть которую дано только гению. Неуловимое «чуть-чуть», постигнуть которое выпадает лишь любимцам богов.
А он не был ни гением, ни любимцем богов, и на драматической стометровке показывал результат в пределах, скажем, мастерской нормы. Не хуже, но и не лучше. Так что ему, если уж быть честным с собой, на застойные явления грех жаловаться. Еще не очень-то ясно, сумел бы он выйти в драматургические если не генералы, то уж старшие офицеры наверняка при нынешней гласности. Впрочем, понял он свои ограничения еще задолго до нее, когда за многие напечатанные ныне книжки могли запросто по статье сто девяносто прим посадить. Просто за хранение.
Понял он это со смирением. Что делать, на то и рекорды, чтобы посредственность знала свою меру.
А последнюю вещь написал он девять лет назад, и поставили ее всего в одном театре, и играли недолго, хотя рецензии были благостные. Он вдруг почувствовал, что отстал, что пишет так же, как раньше, может, даже лучше, а театральный поезд ушел.
Он так и сказал себе твердо: да, театральный поезд ушел. Можно, конечно, постоять со своим товаром на станции, авось кто-нибудь выскочит из режиссеров на короткой остановочке, купит пьеску в спешке, так и то потом начнет нос кривить. А тут еще и страшный нокдаун — гибель Валентины…
Из памяти Владимира Григорьевича опять вынырнула Надежда. На этот раз повзрослевшая, уже дама. Но такая же хохотушка. До самой смерти такой оставалась.
Как-то, когда уже была она тяжко больна, встретила она его смехом, прямо заливалась.
«Володя, — говорит, — сегодня была. Ольга. Представляешь, ее мать умерла».
На мгновенье все оборвалось в нем, господи, что это она, неужели… Она, наверное, прочла все в его глазах, потому что нетерпеливо фыркнула:
«Ты забыл, что ли… Я ж тебе рассказывала. Одна маман всю жизнь потратила на охоту за богатым мужем. Первый, Олин отец, умер в казенном доме еще до войны, второй — тоже, после какой-то растраты. И встретила она наконец старенького одного академика (она в издательстве каком-то научном работала). Академик был холостяком с таким огромным еще дореволюционным стажем, что никто уже давно и не пытался женить его. К тому же был он семидесяти двух лет от роду и скуп до крайности. Но Вера Гавриловна, это Олина мама, ударила упрямо копытом, раздула ноздри и сказала: не родился еще мужик, которого нельзя было бы взять голыми руками. Надо просто уметь вести осаду.
И повела она осаду по всем правилам полководческого искусства. Умела покойница, ничего не скажешь. До того доосаждала академика, что раз звонят им в дверь, и двое посыльных втаскивают огромную коробищу — телевизор «Ленинград», были когда-то такие. Экранчик с почтовую открытку, а казались чудом техники, верхом роскоши.
«Что такое?» — строго спрашивает Вера Гавриловна, которая сразу все прекрасно поняла.
«Это вам от Ивана Ивановича…»
«Отвезите, пожалуйста, обратно, голубчики, и скажите Иван Ивановичу, что я такие ценные подарки принять от него не могу. Вот вам десять рублей, голубчики».
Голубчикам что, взяли деньги, взяли «Ленинград» и ушли, а Ольга говорит матери:
«Ты что, в своем уме, матушка? От такой неслыханной роскоши отказаться?» А Вера Гавриловна только повела плечиком:
«Учись, дочка. «Ленинград» так или иначе никуда не денется, а дедушка-то подумает: экая она, однако, бессребреница, редкий человек… Она не только не мотовка, она еще поможет приумножить нажитое.
И захочется дедушке сберкнижки в четыре руки пересчитывать, ты уж мне поверь».
Так оно и вышло. И так уверился академик в бессребрености и редкостном характере Веры Гавриловны, что сделал ей предложение. Поженились они, и забил сразу мощный денежный фонтан из глубоких пластов холостяцкой скупости. Дачу купили роскошную, вдова маршальская продала, машину, шофера наняли, садовника. Ольгу все поздравляют: наследница, мол. У ученого старца никого из своей родни, никогошеньки.
И два дня тому назад финал: Вера Гавриловна благополучно умирает от инфаркта, а Иван Иванычу, которому стукнуло, между прочим, восемьдесят пять, хоть бы хны. А Ольгу он на дух не переносит».
А потом вдруг посерьезнела Наденька, посмотрела на мужа, усмехнулась печально:
«Я к чему? Боюсь, что плохо рассчитала. Хоть ты, старчик, и на двенадцать лет старше, а быть тебе моим вдовцом».
Так у него сжалось сердце, точно колючей проволокой его опутали. Гнал от себя эту страшную мысль, руками, ногами отталкивал, закрывая по-страусиному глаза. Не умолил костлявую.
Да-а… Словно зуб она на него имела. Причем близких косила, а не его. Мол, смотри. Подстерегла в семьдесят седьмом дочь Валентину. На верхушке холмика на Варшавском шоссе. Пошла на обгон на подъеме, а там КрАЗ. Не захотел даже забирать искореженные, смятые «Жигули». Милицейский капитан сказал:
«Это вы напрасно. Машина застрахована?» «Не знаю».
«Все равно, если даже и не застрахована, продать вам ее будет нетрудно. Вы даже не представляете, сколько вам дадут. Даже когда остается один техпаспорт, и тот можно продать».
Он покачал головой. Не хотел он продавать это скомканное железо, не нужны ему были эти печальные рубли…
Врач «Скорой помощи», которого он разыскал, сказал ему:
«Смерть была мгновенной. Ваша дочь даже не успела, наверное, сообразить, что происходит».
Что ж, тоже утешение. Раз не успела сообразить, значит, и не знает, что умерла… Вот и остался один на белом свете отставной драматург семидесяти восьми лет Владимир Григорьевич Харин. Один лишь внук бороздит, выражаясь газетным языком, далекие моря и океаны.
Появилась Анечка. Она держала в руке пакет. С апельсинами, догадался Владимир Григорьевич. Однако странно было, что в комнате темно, а он ее отлично видит: подведенные глазки, которые она таинственно округляет, когда рассказывает что-нибудь интересное, оранжевые волосики. Анечка разжала руки, и пакет поплыл по комнате, долетел до стены, и на стене осталась отметка: 7 футов. Это уже было вовсе несерьезно, и Владимир Григорьевич понял, что спит.
Юрий Анатольевич шел по коридору по направлению к Лениной комнате и думал о том, что сентиментальным быть плохо. Сентиментальным никогда не подойти к «Жигулям», не открыть хозяйским жестом дверцу и не опуститься в кресло. Сентиментальным нужно вкалывать, хлюпая при этом носом от умиления. Сентиментальному нужно идти проведать старика Харина, чтобы посмотреть, как поживает его лучший пациент. Еще бы несколько человек с таким драматическим улучшением, и можно было бы подумать о диссертации. Что-нибудь вроде «Новые методы реабилитации после инсультов». А что…
Не то из стены, не то из-под пола появился Ефим Львович и сказал:
— Здравствуйте, доктор. А Владимир Григорьевич исчез.
Не вовремя появился вездесущий старый театральный художник, не вовремя, потому что прервал триумфальную защиту диссертации. В тот самый момент прервал, когда седенький профессор, мировая величина, говорил:
«Мне кажется, коллеги, что результаты, полученные диссертантом, столь значительны, что работа скорее носит характер докторской…» — Как исчез? — вздохнул Юрий Анатольевич. Жалко было такой удачной защиты, иди, защищайся потом еще раз…
— Как исчезают? — пожал плечами художник и обиженно выпятил сизую нижнюю губу. — Так и исчезают.
— То есть? Ничего не понимаю.
Ефим Львович объяснил терпеливо, как растолковывают простые вещи несмышленому ребятенку:
— Утром у него были посетители, приятели внука, а потом его никто больше не видел.
— Что за вздор! — рассердился доктор. — Как это не видел?
Ефим Львович вздохнул и покачал головой, как бы желая сказать: боже, такой непонятливый — и врач. И такой должен лечить людей. Что ж удивительного, что люди болеют и умирают, с таким и не то может случиться.
— Как не видят людей, Юрий Анатольевич? Не видят. Смотрят и не видят. Его искала…его приятельница Анна Серафимовна. Его искала сестра Леночка… Елена Николаевна. Я, наконец, искал. — Последние слова должны были, казалось, значить: если уж я не нашел, то говорить не о чем. Хвастаться Ефим Львович не любил, но и достоинства свои знал.
— И что, его нигде нет?
— Нет.
— И в саду искали?
— И в саду искали.
— Может быть, он у кого-нибудь в комнате?
— Нет.
— Что за чепуха! Не мог же он уйти в город… Хоть он и чувствует себя в последние дни значительно лучше, но не настолько же, чтобы уйти самому с территории. Может быть, он пошел проводить своих гостей? Ну, конечно же, даже и сомневаться нечего. Наверняка он где-то здесь. Не мог он уйти. Вы что — забыли, что он только что еле двигался?
— Нет, конечно.
— Так в чем вы меня хотите убедить?
— Только в том, что Владимир Григорьевич исчез.
— Этого не может быть.
— Может, может. Они, гости и он, были утром, сразу после завтрака, а сейчас уже час, даже начало второго.
Юрий Анатольевич ничего не ответил, быстро дошел до Лениного пенала, постучал и открыл дверь. Лены тоже не было, хотя в это время она всегда занималась своей писаниной.
В шестьдесят восьмой комнате он застал Константина Михайловича. Он поднялся с кровати, на которой лежал одетый, и бульдожьи его щеки колыхнулись от резкого движения.
— Вы не видели соседа? — спросил Юрий Анатольевич, забыв поздороваться.
Константин Михайлович начал быстро застегивать правой рукой пуговицы, которых на его курточке с «молнией» не было.
— А? А… Владимира Григорьевича? Да, конечно…
Слава богу, вздохнул про себя Юрий Анатольевич, впал отчего-то в панику, идиот.
— Где же он был?
— Кто? А…
— Владимир Григорьевич, — нетерпеливо сказал доктор.
— Не знаю. Э… а…
— А где он сейчас?
— Сейчас? М… э… да, конечно, я видел его… к нему пришли… от внука… Абер дас ист…
— Да, да, я знаю, — нетерпеливо кивнул Юрий Анатольевич и автоматически отметил, что Лузгин опять, похоже, сдал. Улучшение было кратковременным и нестойким.
— А с утра вы его не видели?
— Нет… никогда… то есть, я хотел сказать, нигде не видел. Абер дас ист ниче-е-во-о…
— Простите.
Он вышел в коридор. Мимо шел величественный Иван Степанович Котомкин, зажав под мышкой целую пачку газет.
— Добрый день, кивнул ему Юрий Анатольевич, вы не видели Владимира Григорьевича?
Иван Степанович побулькал чем-то внутри себя, покачал головой и неодобрительно сказал:
— Вчера видел.
Юрий Анатольевич вышел во двор, и тут же к нему подскочила Анна Серафимовна.
— Как хорошо, что вы появились, доктор, я так беспокоюсь. Представляете, он исчез!
— Что значит «исчез»? — раздраженно сказал Юрий Анатольевич. — Пошел проводить своих гостей. Даже не пошел, а просто вышел.
— Но они ушли уже больше трех часов тому назад, представляете? — Она кивнула несколько раз головой, и оранжевая прядка над ее лобиком испуганно вздрогнула.
Что за паникерша, раздраженно подумал Юрий Анатольевич.
— Ну и что, что три часа? Разве не могли его гости свозить его куда-нибудь? — Ну, конечно же, подумал он облегченно, как он сразу не сообразил, — В конце концов, у нас же не тюрьма.
Он явственно представил себе гостей Владимира Григорьевича, увозящих старика куда-нибудь к общим знакомым, в магазин, мало ли куда можно поехать на такси в таком городе, как Москва. Съездили и сейчас вернутся. Наверное, машина с шашечками уже подъезжает к Дому. Наверняка, поправил он себя, не наверное, а наверняка.
— Он не мог уехать, — упрямо сказала Анна Серафимовна.
— Почему?
— Потому что… потому что, если бы он уезжал, он бы… не знаю… у меня предчувствие, что с ним что-то случилось.
— Ну, раз предчувствие — тогда другое дело, — с какой-то ненужной иронией сказал Юрий Анатольевич.
Не появился Владимир Григорьевич и к обеду, и Юрий Анатольевич совсем уже было решил идти к директору, но вдруг сообразил, что следовало бы заглянуть в шкаф в шестьдесят восьмой комнате. Если Владимир Григорьевич переоделся, то беспокоиться положительно было не о чем. Поехал со своими гостями в город и к вечеру вернется. Просто и ясно. Доктору стало стыдно. Похоже, что от постоянного общения со своими пожилыми пациентами он сам начал походить на них: легко терялся, начинал глупо нервничать, впадал в панику. Да и ему-то что? Он что, конвойный, чтобы постоянно пересчитывать свою команду? В конце концов, он же врач, и его забота — это здоровье обитателей Дома, а не табель ухода и прихода. Владимир Григорьевич действительно человек больной, но, в конце концов, не дебильный и знает, что делает.
Он постучал в дверь шестьдесят восьмой комнаты и повернул ручку. Константин Михайлович лежал на спине с закрытыми глазами, безмолвный и неподвижный, и Юрию Анатольевичу вдруг почудилось, что он умер. Он замер, прислушался, услышал легкий выхлоп выдоха — пхе, и испытал огромное облегчение. О господи…
— Константин Михайлович, — тихонько позвал он, и бывший режиссер сразу же открыл глаза и посмотрел на него. — Простите, что я вас побеспокоил, вы не заметили, Владимир Григорьевич переоделся до отъезда в город? Он ведь, кажется, здесь все больше в такой — вельветовой пижамке ходит?
Константин Михайлович сел, вздохнул несколько раз, и на лице его отобразилась внутренняя борьба. Наконец он решился, кивнул своим мыслям и сказал:
— Да.
— Стало быть, если он переоделся, пижамка эта должна быть где-то здесь.
— Да.
— В шкафу? Под подушкой?
— Э… э… в шкафу.
— Я думаю, мне можно посмотреть?
— В шкафу, да, да.
Юрий Анатольевич открыл скрипучую дверцу: два костюма, плащ, куртка, дубленка в пластиковом прозрачном мешке, рубашки, свитера, ботинки, сапоги. Пижамы не было. Да и почему она обязательно должна быть в шкафу, мало что говорит сосед. Сейчас он поднимет подушку и увидит знакомую вельветовую темнокоричневую в серую тонкую полоску пижаму. Пижамы не было. Нужно было доложить директору.
Наверное, вид у него расстроенный, потому что Константин Михайлович посмотрел на него внимательно и сказал с неожиданным участием:
— Абер дас ист ни-и-чево-о…
Директор Дома был великим молчуном. Когда с ним разговаривали, его полное лицо, которое всегда блестело так, что казалось выдраенным пемоксолем, багровело, он надувался и прежде чем ответить, долго барабанил пальцами по столу. Юрию Анатольевичу всегда казалось, что, если спросить директора, как его зовут, он долго будет думать, сыграет на столешнице Турецкий марш и только потом неохотно признается, что он Пантелеймон Романович Клишко.
Директор и на этот раз сразу налился темной кровью, лицо его стало вареным, он засопел и посмотрел на врача. Юрий Анатольевич молчал и думал, как неисповедимы бывают начальственные пути. Кто, в каком странном затмении, мог прислать сюда в директорское кресло этого надувного выдраенного болванчика? Откуда появился он, в каком инкубаторе он вылупился, почему? Кем он был до этого назначения: строителем, директором рынка, актером, чиновником?
Молчание загустевало, становилось физически осязаемым. Юрий Анатольевич подумал, что, если он наберется терпения, то они будут молчать минуту-другую, третью, час, день, месяц, год, два года, десять лет. А поскольку он был моложе директора лет на двадцать, то вполне может его и перемолчать. Но был он слабаком, не из начальственного спецтеста вылепленный, не было в нем великого чиновничьего терпения, и не выдержал он:
— Так что же делать? Может, подождем до утра?
При этом Юрий Анатольевич подумал с привычным смирением, что не быть ему, наверное, никогда директором или даже главврачом. Не те нервы. Ему бы тоже молчать спокойненько и смотреть почтительно на Пантелеймона Романовича, пока тот не разрешится от бремени. Начальство рожает ведь медленно, как слоны. Ан нет, не сдюжил.
Директор еще больше покраснел, набычился, кивнул и с облегчением опустил глаза.
И Елена была сегодня притихшая, не похожая на себя. Почти всю дорогу до метро они шли молча, как будто исчезновение старика Харина почему-то довлело над ними, хотя ни в какой степени они за него не отвечали, и был он для них, в сущности, всего лишь одним из обитателей Дома ветеранов.
И попрощались они у метро с видимым облегчением, и Юрий Анатольевич подумал, что насколько ему было приятно шутить с ней, настолько не хотелось делиться с ней заботами.
Из дому он дважды звонил, узнавал, не появился ли Харин, и долго не мог заснуть, пробовал читать номер «Науки и жизни», который выписывал, но в голову не лезли ни описания маленьких домашних хитростей, ни подробные инструкции по вязке дамского пуловера, ни интимные сведения из жизни трясогузок.
В час ночи он взбунтовался. Да что это такое, выговаривал он сам себе, что за трагедия? Кто он тебе, этот тихий старик с перекошенным после инсульта лицом? Брат? Сват? Пациент. Один из многих. Не более того.
И вообще давно следует относиться к своим старичкам и старушкам спокойнее, профессиональнее. Ему что, больше всех нужно? Видел он когда-нибудь, чтобы директор Дома Пантелеймон Романович метался вот так? Сидит за своим пустым столом, розовый, умытый, неподвижный и молчаливый, как Будда…
И что с ним могло случиться, со стариком? Цыгане его украли, что ли? Продали в рабство? Старик с наглым стариковским эгоизмом дрыхнет наверняка сейчас где-нибудь у родных или знакомых, а он дергает хвостом, как трясогузка какая-нибудь, шлепает босой по темной квартире и третий раз пьет из-под крана воду.
А если даже и случилось с ним что-нибудь, что из того? Не он первый и не он последний. Сколько за четыре года он уже прислушивался напрасно к биению сердца своих пациентов, боясь, не желая верить в противоестественную тишину?
И все равно не выходил Харин у него из головы, влез туда старичок тихой сапой и устроился основательно. И все смотрел на Юрия Анатольевича кротко, смиренно. И улыбался смущенно, словно чувствовал себя виноватым за причиненные хлопоты.
Что он за идиот, почему отказался от Севкиного предложения? Может, еще не поздно. Позвонить сейчас и сказать: Сева, Рита, простите сентиментального балбеса за поздний звонок, глуп я и по-русски непредприимчив. Хочу, дорогие мои, к велосипедистам. Молодым, длинноногим, загорелым, в блескучих футуристических костюмах, прямо наклеенных, кажется, на мощные торсы, в обтекаемых шлемах. Хочу в Сочи на сборы. Хочу мчаться за пелетоном в машине по ухоженным дорогам разных стран и направлять струйку заморозки на ушибленные колени и локти.
Хочу говорить: ребята, надо. Ребята, мы должны выиграть.
«Но ведь травма, Юрий Анатольевич», — захнычет велосипедист.
«Ничего, парень».
«Но…»
«Абер дас ист ниче-е-во-о».
Картина была так ярка, так праздничен был веселый караван разноцветных гонщиков, что даже старик Харин смотрел на него с восхищением.
«Это, конечно, не Дом ветеранов, сказал он Юрию Анатольевичу. — По-моему, тут и думать нечего, соглашайтесь, доктор».
Да, надо позвонить Севке. Он посмотрел на часы. Было уже четыре, и в комнату неохотно вползало утро. Спал он, что ли. Он вздохнул и снова помчался за велосипедистами.
Заместитель начальника отделения милиции по уголовному розыску майор Шкляр хмуро посмотрел на инспектора и сказал:
— Виктор, тут звонили из Дома театральных ветеранов, кто-то у них пропал, займись.
— Вы что, смеетесь, товарищ майор, у меня и так шесть висячек, — плаксиво взмолился старший лейтенант Кравченко.
— Только мне с тобой смехи смеять.
— Пошлите кого-нибудь еще.
— Некого, Виктор, ты прекрасно это знаешь. У нас в группе розыска пропавших всего три инспектора. Гриднев в отпуске. Остались ты и Шавлеев. Сколько дел у Шавлеева? Молчишь?
— А кто пропал? — спросил со вздохом старший лейтенант. Он и не надеялся, что майор изменит решение, это с ним случалось редко, просто так было принято. — Артист?
— Какой-то старик.
— Какой старик?
— Не знаю.
— Только мне стариков не хватало. Двух девиц ищу, парнишку, двух мужиков и саксофониста. — Майор не отвечал, уткнувшись в бумаги, и старший лейтенант спросил: — Машину хоть взять можно, это ж у черта на куличиках. — У него мелькнула было надежда: — А разве Дом на нашей территории?
— На нашей, — ответил майор, не поднимая головы. — И машин нет. Сорок вторая стоит без заднего моста, а четвертую только вчера жестянщикам пристроили. Иди.
Старший лейтенант Кравченко вздохнул и вышел из кабинета. Хаммурапи, царь Вавилонии, был не дурак, и не зря его законы изучают в институте. Он только недавно сдавал сессию в заочном юридическом, и Хаммурапи еще не выветрился из него. Субъект права — авялум, свободный полноправный общинник. А есть еще неполноправный, мушкенум, находящийся на царской службе. Мушкенум — значит, падающий ниц. Это он. Вот уж действительно неполноправный и действительно падающий ниц. Утешало только, что было в слове «мушкенум» что-то и симпатичное. Почти как мушкетер, и про мушкетеров, он знал. Атос, Портос и Арамис. А как же главный, д'Артаньян? Почему тогда три мушкетера, а не четыре? Чудно… Спросить надо у Зоечки, инспектор по делам несовершеннолетних считалась у них авторитетом в вопросах литературы и искусства.
Вообще бы разделаться как-нибудь с пропавшими.
Даже жена подтрунивает над ним. «Ты бы, — говорит, — лучше преступников искал, вон сколько квартирных краж, а не девчонок взбесившихся». — «Почему обязательно взбесившихся?» — спрашивал он, хотя в душе соглашался с женой. «Да потому что нормальный человек не будет сбегать из дому, чтобы доказать какую-нибудь глупость».
И то правда. Он вспомнил, как прибежала недавно в отделение растрепанная женщина, заголосила, как истеричка:
«Про-па-а-а-ла! Деточка родная, и где ты-ы-ы-ы!» Он три дня искал родную деточку и нашел ее в нетопленой даче в Заветах Ильича. Дача принадлежала родителям ее подруги, и подруга-то и навела его. Несмотря на апрельское солнце, дача после зимы была сырая, промозглая, и двенадцатилетняя беглянка дрожала на продавленной тахте под кучей тряпья. Она так замерзла и проголодалась, что шмыгнула облегченно носом, когда он взял ее за руку и вывел на весеннее солнышко.
«С мамкой, что ли, поцапалась?» — спросил он.
«Угу».
Он позвонил в отделение, и счастливая мать уже ждала их.
«Светочка, солнышко ты мое», — запричитала она, захлюпала носом, потом, вспомнив, очевидно, что-то, дала солнышку основательный подзатыльник.
«Смотрите, — не выдержал Кравченко, — снова убежит».
«А вы не учите, своих заведете, их и воспитывайте».
Не успел он войти на территорию Дома, как около него невесть откуда, словно грибок из-под земли, появился старичок и спросил:
— Вы, наверное, из милиции?
— Да, — кивнул старший лейтенант.
— Позвольте представиться: театральный художник Ефим Львович Мазлин. То есть, конечно, бывший.
— Кравченко Виктор, — сказал старший лейтенант. Отчества своего он не назвал, как-то совестно было представляться такому престарелому человеку по отчеству. Уместнее было бы представиться просто Витей.
— Я вас проведу к директору. Но только для приличия.
— Как так?
— Он у нас все больше молчит. Некоторые даже говорят, будто он надувной. А двое утверждают, что видели у него на теле ниппель.
Старший лейтенант шутки понимал. Улыбнулся и спросил:
— Как же они его нашли?
— Кого, директора? В кабинете, конечно.
— Я имею в виду ниппель. Раздевали его, что ли?
— Нет, — засмеялся художник. — Он не раздевается.
— Как так?
— А так. Никогда. Всегда сидит за столом, не двигается, всегда при галстуке. А ниппель, говорят, у него на шее.
Художник ему понравился, и когда он разговаривал с директором, поймал себя на том, что все высматривает, не торчит ли из него и впрямь ниппель.
Ему предоставили в его распоряжение библиотеку. Он освободил себе столик, сложил старые «Огоньки» аккуратненькой стопочкой, новых, поди, теперь не найдешь, достал блокнот, ручку и только собрался подумать, как тактичнее пригласить кого-нибудь из друзей или соседей пропавшего — все-таки народ преклонного возраста, — как опять перед ним вырос давешний художник.
— Я, товарищ старший лейтенант, когда-то, еще студентом, был бригадмильцем…
— Бригадмильцем?
— Да, конечно, вы, верно, и слова такого не знаете. Вроде дружинников нынешних. Бригада содействия милиции. С вашего разрешения, я вам помогу.
— Спасибо, Ефим Львович.
— Вы и имя мое запомнили.
— Профессиональная память, — улыбнулся Кравченко. Было в библиотеке тихо, тонко пахло чем-то библиотечным, пылью, что ли, прохладно, с полки на него уютно смотрела Большая Советская Энциклопедия, интересно, есть в ней что-нибудь про царя Хаммурапи? Наверняка есть, не забыть бы почитать. Мушкенум… Он блаженно потянулся. — Ну, раз вы, Ефим Львович, старый бригадмилец, расскажите, что знаете.
— Я знаю все, — скромно улыбнулся художник.
— Вот и отлично. Так где же ваш товарищ? Харин Владимир Григорьевич, девятьсот восьмого года рождения, — добавил он, глядя в папочку, которую ему дала секретарь директора.
— Этого я вам сказать не могу. Не знаю. Но думаю, что с ним что-то случилось.
— Почему?
— Не может же человек вдруг отправиться куда-то в пижаме, не предупредив никого. И даже если он уехал с гостями, он бы наверняка позвонил, не такой он человек, чтобы плевать на других.
— Не все сразу, Ефим Львович. Во-первых, почему в пижаме?
— Владимир Григорьевич перенес инсульт, поправлялся плохо, еле ходил, все больше в комнате, и почти всегда в любимой своей пижаме, теплая такая, вельветовая.
— И вчера он тоже был в ней?
— Когда к нему пришли, да. К тому же еще вчера врач наш Юрий Анатольевич Моисеев проверял, вся одежда Владимира Григорьевича на месте, нет только этой самой пижамы и тапочек.
— Вы говорите, он был в пижаме, когда к нему пришли. А кто приходил к нему?
— Молодой человек и девушка. Уже второй раз. Приятели внука Владимира Григорьевича.
— Приятели внука?
— Ну да. Внук у него штурман дальнего плавания, а больше из родных никого.
— А когда они приходили?
— Первый раз три дня назад, а второй — вчера. Сразу после завтрака.
— Вы их видели?
— Да, я провел их первый раз к нему в комнату. Шестьдесят восьмая комната на втором этаже. И вчера видел, когда они шли по коридору.
— К комнате Харина или из нее?
— Они шли к нему. Совсем еще молодые люди, лет по двадцать пять.
— Фамилий их вы, конечно, не знаете?
— Нет.
— Вы — человек наблюдательный, Ефим Львович, вы не заметили ничего необычного в поведении Харина после первого посещения?
— Заметил. Он… даже не знаю, как сказать… как будто Владимира Григорьевича подменили.
— Он расстроился?
— Наоборот. То еле ползал по комнате с палочкой, а то, представляете, пошел. Это вам врач подробнее расскажет.
— Это физически, а настроение?
— Какое может быть настроение у человека, который вдруг выздоровел? Причем не от ангины какой-нибудь. Это как воскрешение. Вы человек молодой, вам этого не понять, когда буквально сил нет ноги таскать, а Владимиру Григорьевичу, не забывайте, семьдесят восемь годков. И, кроме инсульта, был у него и инфаркт раньше, и гипертония стойкая. А тут вдруг узнать его нельзя, представляете? Прямо светился весь. И потом, товарищ старший лейтенант, меня еще одно обстоятельство настораживает.
— Какое же?
— У него бритва электрическая какая-то необыкновенная, внук подарил. Бритва, и правда, хороша. Он меня раз заставил мою «Агидель» принести для сравнения. Моя грохочет, словно в руке трактор держишь, а его только шипит и бреет — чудо. Да еще с аккумулятором, месяц можно бриться без подзарядки.
— Неужели месяц?
— Месяц, — с гордостью сказал Ефим Львович. — Вы не представляете, как Владимир Григорьевич ее бережет. И волосики все щеточкой аккуратно вычистит, и продует, и оботрет. А, вспомнил, фирма «Норелко».
— Не слышал.
— Есть такая. Внук его все время на заграничных рейсах плавает. Штурман он дальнего плавания. Сейчас он где-то в Тихом океане. — Ефим Львович сказал это с гордостью, будто был это не Володин, а его внук. У него самого внуков не было, а две внучки благополучно стали на брачный якорь и в дальние плавания не собирались. — Так я к чему? Если бы Владимир Григорьевич собирался уехать на несколько дней, он бы бритву свою не оставил, это уж вы мне поверьте.
— А он ее не взял?
— В том-то и дело, что не взял. Я зашел, будто спросить что-то у соседа его Константин Михайловича, а сам глянул в тумбочку, где всегда бритва лежит. На месте.
— Вы наблюдательный человек.
— Глаз художника, — скромно сказал Ефим Львович.
— Вы меня простите, конечно, — улыбнулся Кравченко, — но зря вы не стали следователем.
— Я иногда и сам так думаю, — беззвучно засмеялся художник.
— А внук…
— Данилюк Александр Семенович, корабль «Константин Паустовский».
— Ну, вы просто… Хаммурапи настоящий.
— Простите?
— Это я так… Вас не затруднит попросить ко мне лечащего врача? А то я и в лицо его не знаю.
— Он не лечащий. У нас ведь не больница, а Дом ветеранов. Но это я так, для вашего сведения. Сейчас позову. Его зовут Юрий Анатольевич Моисеев, но мы зовем его между собой Юрочкой. Такой человек… Иной раз думаю, может, заболеть для разнообразия, и тут же себе говорю: ты что, Юрочку огорчить хочешь? Это я шучу, конечно.
— Понимаю, — вежливо кивнул старший лейтенант. Было ему как-то покойно здесь, в прохладной библиотеке, разговаривать со старым… как он сказал… бригадмильцем… было приятно. И само исчезновение было какое-то… благородное, что ли, как в заграничном детективе каком-нибудь. Все так чинно, благородно, инсульт, пижама вельветовая, бритва заграничная, внук, корабль… Тихий океан, штурман. Неплохо бы, конечно, попросить майора направить его для опроса этого штурмана.
«Товарищ майор, — сказать, — мне тут по поводу пропавшего из Дома ветеранов командировочку выписать надо».
«На сколько?» — не поднимая головы, спросит майор.
«Дней на десять».
«Чего так долго, ты в своем уме? Куда это?» «Да на Тихий океан».
Да, вот тебе и мушкенум. Черт-те что за чепуха в голову лезет, уснешь здесь, пожалуй, в библиотеке.
Должно быть, устал старший лейтенант, совсем сбился с ног от постоянной спешки, и вправду задремал ненароком, потому что вдруг увидел перед собой молодого человека в халате и понял, что это врач.
— Здравствуйте, — сказал он и вовремя спохватился, что чуть было не сказал «Юрочка», — Юрий Анатольевич?
— Да, Юрий Анатольевич Моисеев.
— Кравченко Виктор Иванович. Прислали меня помочь…
— Я понимаю.
— Я уже немножко в курсе дела. Вам, строго говоря, угрозыск и не нужен.
— В каком смысле?
— У вас свой сыщик есть, художник Ефим Львович.
— А… — улыбнулся врач. — Это верно. Вездесущ и всезнающ. И добрейшая при этом душа.
— Приятный человек. Он какой художник?
— Театральный. Знаете, декорации, костюмы…
Старший лейтенант вдруг сообразил, что не был в театре, наверное, год, а может, и два. Когда ехал после демобилизации поступать в Московскую школу милиции, голова кружилась от счастья: столица, Третьяковка, Большой, Художественный, Театр на Таганке… Да вот как-то замотался с пропавшими без вести, хорошо еще, если выкроишь время подремать перед телевизором. Плохо это, неправильно. Система нужна. Майор Шкляр им все время твердит: в милиции, как в футболе, порядок бьет класс. Мол, если ты и не такого высокого класса сыщик, но порядок знаешь и блюдешь, всегда своего добьешься.
— Вы ведь лечите пропавшего… Харина?
— Да.
— Скажите, Юрий Анатольевич, действительно ли у него замечалось сильное улучшение? Я так понял со слов Ефим Львовича…
— Улучшение — не то слово. Владимир Григорьевич Харин — очень больной человек. Пять лет назад он перенес обширный инфаркт задней стенки… впрочем, это уже детали. Полгода назад — инсульт. Опять же, не входя в детали, скажу, что левая рука и левая нога очень ослабли в результате инсульта, стойкая гипертония, ишемическая болезнь — словом, целый букет, неприятный букет, поверьте, особенно в таком возрасте…
— Ему семьдесят восемь лет?
— Да, совершенно верно. Нельзя сказать, чтобы он совсем не оправился после инсульта, но все шло так медленно… И вдруг в один прекрасный день я застаю его другим человеком. Встал без палочки, даже приседание сделал, представляете? Давление, как у космонавта. Глазам и ушам своим не доверял… Хоть начинай верить после этого в чудеса. Нам, медикам, полагается быть скептиками, во всяких там целителей, знахарей и хилеров мы не верим. А тут хоть осеняй себя крестным знамением.
— Это… когда это случилось?
— Да совсем недавно.
— Такая быстрая поправка… она…
— Я был поражен, повторяю, глазам своим не верил.
— И как вы это объясняете? То есть я хочу сказать…
— В том-то и дело, что никак не могу объяснить. Накануне еле ползал, а назавтра принимает гостей и после этого…
— Да нет, никакой тут связи, конечно, быть не может. Просто так уж совпало…
— А вы этих гостей не видели?
— Нет.
— А у него часто бывали посетители?
— Да нет, насколько я знаю, ни родных у него, ни близких, один внук…
— Как вы считаете, Юрий Анатольевич, если бы вдруг Харин решил уйти, уехать куда-то, он мог бы сделать это? Я имею в виду его физическое состояние.
— В последние дни — да. Но насколько я знаю, ему и ехать не к кому, да он и чувствовал себя здесь как дома.
— Гм… Скажите, Юрий Анатольевич, по вашему мнению, мог Харин уехать куда-нибудь, ну, допустим, к внуку, никого не предупредив?
— Нет. Он на редкость деликатный человек. Знаете, из таких, что даже умирая, обязательно извинятся за причиняемые хлопоты.
— А… голова у него… Знаете, я в прошлом году разыскивал пожилую женщину, ее муж прибежал к нам, взволнованный, на секундочку, говорит, ее оставил около булочной. А она, оказывается, села в троллейбус, а где живет, не помнит.
— Возрастная дементность.
— Да, да, муж еще какую-то болезнь поминал…
— Болезнь Альцгеймера, наверное.
— Правильно, точно. Представляете, она села на троллейбус у Белорусского вокзала, а нашли мы ее только вечером в Северном порту… Внизу, у причалов. Седенькая такая старушка, спокойная. Мне уж потом муж рассказал, что до пенсии она секретарем парткома какого-то министерства была. Когда я ее вез, спрашиваю:
«А как вы сюда попали?»
А она так спокойно на меня посмотрела, даже как бы укоризненно. И спрашивает:
«А куда я попала?»
— Вот так. Да-а… Значит, у вас никаких идей в отношении Харина Владимира Григорьевича нет?
— Нет. Я уж и так и сяк и эдак прикидывал, примеривал — ни одной ниточки, ни одного хвоста.
— Вы сказали, что у него нет ни родных, ни близких. Почему вы так уверенно говорите?
— Видите ли, может, в больнице, где как бы больничный конвейер, врач не имеет возможности так близко познакомиться с больным. Тем более… привязаться к нему. А здесь… — Юрий Анатольевич пожал плечами. — Здесь как дом. Как семья. И ссоришься, и миришься, и хоронишь…
— Я понимаю, — сказал старший лейтенант. Странный парень, подумал он, но подумал уважительно. Находиться постоянно среди стариков… Нет уж, искать их — это дело другое. — Я понимаю, — еще раз повторил он. — Как вы думаете, стоит мне поговорить с его соседом по палате?
— С Лузгиным? Вряд ли он знает больше, чем я вам рассказал. К тому же как раз он страдает болезнью Альцгеймера. В начальной, к счастью, стадии, но тем не менее иногда у него случаются провалы в памяти.
— Спасибо, доктор. Вы действительно проверяли, ушел ли он в пижаме?
— Да. Вся одежда на месте.
— Гм… Спасибо еще раз.
Доктор вышел, и старший лейтенант подумал, что года два-три назад он уже впадал бы в панику — старичок-колобок выкатился так ловко, что и следов нет. Но по невеликому своему еще опыту он знал, что раньше или позже в гладком с виду клубке обязательно отслаиваются какие-то ниточки. Дергаешь за концы — не то, не то, не то, а потом, глядишь, что-нибудь обязательно и распутывается. Конечно, в детективных фильмах все интереснее бывает, но то ж искусство. В жизни главное — терпение.
Что за чертовщина, откуда берется этот бригадмилец, он же не спал, глаза не закрывал. Ефим Львович подмигнул заговорщицки и сказал:
— Виктор Иваныч, я тут дуэт привел, они за дверью.
— Дуэт? — старший лейтенант посмотрел на художника и наморщил лоб.
— Простите старого дурака, — легко засмеялся Ефим Львович, — привыкаешь и забываешь, что для других это может быть китайской грамотой. Есть у нас две дамы, две Маргариты, Маргарита Давыдовна и Маргарита Степановна, они всегда вместе, играли всю жизнь в одном театре, вот их и прозвали дуэтом.
— А почему…
— Вчера утром, когда я увидел, что приятели внука Владимира Григорича идут к нему, я заметил во дворе дуэт. Причем сидели обе Риты на скамеечке у проходной.
— Понимаю. Кстати, когда я сюда шел, никого в проходной не было. А вообще-то есть здесь какой-нибудь сторож, вахтер?
— Не знаю, говорят, когда-то был, а сейчас нет.
— И что же, любой может зайти и выйти?
Ефим Львович засмеялся:
— Мы, товарищ старший лейтенант, старики, но не заключенные.
— Ладно, пригласите, пожалуйста, ваш дуэт.
В библиотеку вошли две дамы. Одна была высока, величественно полна, на гордо откинутой седой голове красовалась старомодная прическа с пучком. Виктор Иванович почему-то сразу решил, что это Маргарита Давыдовна. Вторая Рита была поменьше, потоньше, с птичьим печеным личиком и живыми насмешливыми глазками. Методом исключения эта должна была быть Маргаритой Степановной.
— Добрый день, прошу прощения, что побеспокоил вас. Старший лейтенант Кравченко Виктор Иванович.
— Маргарита Степановна Волгина, — тоненьким, надтреснутым голоском сказала величественная дама.
— Маргарита Давыдовна Криль, — пробасила худенькая.
Как же все сложно бывает устроено, хмыкнул про себя Виктор Иванович. А майор прав: вы, говорит, не блохи. Не прыгайте, идите к цели спокойно и настойчиво. Как к ним обратиться вместе? Женщины? Говорят, это некультурно, хотя, если разобраться, почему? Они же действительно женщины. В классической литературе говорят «сударыни», но классикам хорошо, а сейчас сударынь нет. Гражданки — слишком официально. Товарищи — как на собрании.
— Маргарита Давыдовна, Маргарита Степановна, если я правильно понял, вчера утром вы видели, как через проходную прошли двое молодых людей. Как потом выяснилось, они шли к Владимиру Григорьевичу Харину.
— Почему потом? — усмехнулась Рита маленькая. — Мы сразу знали, что они к Харину. Они ведь уже второй раз явились, а у нас тут все все о всех знают. Недостаток впечатлений и новых лиц. Тут можно о себе узнать от других и то, что сам не знаешь.
— Зато скелеты у нас у всех сияют, — усмехнулась Рита большая.
— В каком смысле? — удивился старший лейтенант.
— В прямом. Все косточки перемыты.
— Гм… Понял. Так что вы можете сказать об этих посетителях?
— Он — в джинсах и джинсовой рубашке, — деловито пропищала Рита большая. — Она — в брюках светло-голубого цвета и кофточке с короткими рукавами в тон. Оба лет двадцати четырех — двадцати пяти.
— Вам и Шерлок Холмс мог бы позавидовать.
— Шерлоку Холмсу здесь делать нечего, — пожала плечами Рита большая. — За полчаса его разобрали бы здесь на части, промыли, как я уже сказала, каждую косточку по отдельности и кое-как собрали. Он о себе того бы не знал, что бы мы о нем за эти полчаса узнали. Оказалось бы, что играет он на скрипке неважно, скрипку приобрел по дешевке у скупщика краденого, нюхает тайно кокаин, задолжал доктору Ватсону… Деточка, — повернулась она к Рите маленькой, — сколько он задолжал доктору Ватсону?
— Три тысячи двести сорок фунтов и двадцать дюймов.
— Ласточка моя, дюймы — это мера длины.
— Мистер Холмс был большой оригинал, на Бейкер-стрит это все знают, и мерил деньги сантиметром. Я удивляюсь, как ты это забыла.
Дуэт покатился со смеху, а Виктор Иванович почувствовал, что голова у него кружится все быстрее и быстрее. Шустрые, однако, старушонки. Эти не забудут, в какой троллейбус сели, этим палец в рот не клади.
— Не сантиметром, а дюймометром.
М-да, нужно бы перечитать как-нибудь Шерлока Холмса. Впрочем, глагол «перечитать» старший лейтенант употребил как бы авансом, потому что книг о Шерлоке Холмсе он не читал, хотя имя, конечно, знал и видел какой-то фильм о нем по телевизору. Фильма oн не запомнил, в памяти остались лишь экипажи на тонких высоких колесиках и высокие шляпы.
— Скажите, пожалуйста, долго вы оставались на той скамейке, с котором видели, как прошли эти молодые люди?
— Практически до обеда, — сказала Рита маленькая. — Я только один раз за шерстью сходила в корпус и тут же вернулась. Я вяжу на спицах, — пояснила она.
— А я сидела не вставая, — добанила Рига большая. — Это наша ложа бенуара. И погода в тот день была ангельская. Я еще с утра знала, что будет райский день, потому что накануне передавали, что возможны дожди и грозы. Это, знаете, примета есть такая народная: если в программе «Время» говорят, что будут дожди, жди сухой погоды. И наоборот. Истинная правда.
— Бывает, — согласился старший лейтенант. Народная примета… Правда что… — Стало быть, если я вас правильно понял, вы из своей ложи 6енyapa просматривали вход на территорию со времени прохода молодого человека и девушки?
— Совершенно верно, — хором сказали обе Риты.
— И вы уверены, что ни эти молодые люди, ни Владимир Григорьевич Харин с территории не выходили?
— Не совсем так, молодой человек. Мы уверены, что они не проходили через проходную.
— А могли они выйти где-нибудь еще?
— Конечно, — хором ответили Риты.
— Где именно?
— Если они хотели перебраться через забор, — пояснила Рита маленькая, — то в любом месте. Ну, немножко бы покусала их крапива, только и всего.
— А видел бы их кто-нибудь в том случае, если бы им пришла идея перелезть через забор?
— Пожалуй, да, — кивнула Рита маленькая. — День был, как мы уже говорили, божественный, и все ветераны, ходячие, бродячие и даже ползающие, выбрались из своих конурок. И миновать их не могли бы даже агенты иностранных разведок.
О господи, вздрогнул старший лейтенант, опять дурачат его две Риты.
— Разведок? Почему вы решили?
— Как почему? Мы сразу все поняли, — очень рассудительно и серьезно сказала Рита с седой величественной головой. — За Владимиром Григорьевичем давно охотились иностранные агенты.
— Почему? — спросил старший лейтенант и на всякий случай тонко улыбнулся. Старушки, конечно, шутят, но…
— Он что-то знал, — пробасила Рита маленькая. — Говорят, он даже знал таблицу умножения. Здесь это редкость.
— Спасибо, — сказал Виктор Иванович. — Значит, вы считаете, что, если бы они даже хотели перелезть через ограду, кто-нибудь бы их заметил?
— Конечно. Представляете, какое это развлечение: вы слышали, вы слышали, а Харина Владимира Григорьевича, да, да, того самого, перекинули через ограду. Точно как волейбольный мяч. Ну конечно, террористы похитили. За выкуп. Что вы заладили: какой-какой, за две порции компота…
— Еще раз спасибо, — облегченно сказал старший лейтенант. Голова его кружилась.
До вечера он успел обзвонить морги. Стариков мужского пола было много, но все они были, так сказать, покойниками организованными, документированными. И лишь в больнице около площади Курчатова ему сказали, что есть у них неопознанный старичок примерно восьмидесяти лет.
Он долго шел мимо многочисленных корпусов, мимо медленно гулявших больных, которых можно было определить и по одежде, и по той осторожности, с которой они несли свои тела.
У маленького морга стояли два автобуса, и множество людей, все больше немолодых, тихо переговаривались, покуривали, ожидая выноса гроба.
Виктор Иванович показал молодому человеку в джинсах и грязном халате удостоверение, и тот повел его в морг. От провожатого попахивало спиртным, и Виктор Иванович строго спросил:
— Пил?
— Да что вы, товарищ инспектор, это формалин…
— Смотрите, за такой формалин…
— Борис Константинович был не просто хорошим работником, — донеслось из маленького зальца, где стоял гроб, — он был душевным человеком, которого…
— Всегда так, — буркнул человек в халате.
— Чего так? Говорят, душевный человек?
— Да не… Ты, говорят, Спилкин, выпимши на работе. А какой же я выпимши? И што пить-то? Формалин? Попробуй, сразу и ляжешь сам жмуриком. Правда, далеко нести не надо будет. Вот он, старичок без документов.
Старичок без документов был в черных шерстяных брюках, с желтым костяным лицом, к которому была приклеена редкая бороденка, и меньше всего походил на исчезнувшего драматурга. Года два-три назад Виктор Иванович бы сердился на себя за то, что не спросил, в чем одет покойник и какие у него приметы, но он уже давно понял, что милицейская работа — это сплошная цепь маленьких и больших разочарований, и нужно терпеливо ждать, пока в этой цепи не попадется удачное звено.
Утром он запросил в Центральном справочном бюро адрес Данилюка Семена, гипотетического отца Александра Семеновича Данилюка, внука пропавшего, и отправил через министерство морского флота радиограмму на сухогруз «Константин Паустовский», который находился в этот момент где-то между Гонконгом и Куала-Лумпуром.
Штурман Александр Семенович Данилюк читал и перечитывал радиограмму и никак не мог понять ее смысл. Радиограмма, подписанная каким-то майором Шкляром, гласила: «Сообщите фамилии зпт адрес ваших друзей зпт вашего имени посетивших Харина Владимира Григорьевича тчк адрес вашего отца».
Радиограмма была вздорная, и понять что-либо из нее было невозможно. Какие друзья? Почему они посетили деда? Не было у него никаких друзей. То есть друзья, конечно, были, но никого он не просил навестить деда. И адреса отца он не знал, хотя бы потому, что никогда в жизни его не видел. Может, перепутал что-нибудь Степаныч? Было жарко, душно, и он уже привык к постоянно мокрому лбу, к капелькам едкого пота, который то и дело затекал в глаза. А тут еще этот дурацкий запрос.
Он пошел в радиорубку. Степаныч собрал себе какой-то особенный кондиционер, и в рубке было прохладно. Штурман почувствовал, как привычный пот на лбу начал высыхать.
— Степаныч, — сказал он и протянул радисту листок, — ты, старик, в своем уме?
— Я, старик, в своем уме, — сказал радист и почесал рыжую пиратскую бороду.
— А что это значит?
— Грамоте знаешь?
— Маленько.
— Ну и читай тогда. Что написано — то и значит.
— А ты не ошибся?
— Фирма веников не вяжет, штурман, — надменно сказал радист. — Не было еще случая, чтобы старик Степаныч что-либо напутал.
Было старику Степанычу двадцать девять лет, и гордился он своей профессией необыкновенно.
Замполит, с которым штурман решил посоветоваться — на судне все равно все все знают, — неопределенно пожал плечами и сказал:
— М-да, неприятная история…
— Неприятная? — изумился штурман. — Почему? — Обычно добродушное, какое-то домашнее лицо замполита как бы отодвинулось от него, и пала на него неуловимая официальная отчужденность, — Не знаю, Александр Семеныч, это вам лучше знать. Дружки-то ваши.
— Да вы что, Алексей Иваныч, какие дружки? Никого я к деду не посылал, это какая-то ошибка.
Замполит хмыкнул, и лицо его еще дальше отодвинулось от штурмана, как в трансфокаторе, хотя с места он не сдвинулся, да особенно в крошечной каютке и двигаться было некуда. И написано на нем было ясно, словно буквами: конечно, все так говорят.
— Какая ж ошибка, запрос ясный. Ограбление, наверное. Вы вспомните, может, кому и рассказывали про дедушку.
— Ну, может, кому-нибудь и рассказывал, дед у меня… Его пьесы раньше во многих театрах шли…
— Состоятельный, значит, человек. Было, видно, чем поживиться.
— Да он же в Доме ветеранов.
— Тем более.
— Что тем более?
— Некрасивая история. Мы, конечно, пока ничего не знаем, но бросает это тень на весь экипаж. И чего ты так смотришь кусаче? Не нравятся мои слова?
Штурман хотел было крикнуть: да что вы несете, какая тень, при чем тут экипаж, вы ж ничего не знаете, но он чувствовал между собой и замполитом какой-то стеклянный барьер, как в медрегистратуре, и никакие его слова сквозь этот барьер все равно не пройдут. И поднялся в нем невесть откуда, из каких душевных отстойников, страх, знобкий гнусный страх, хотя бояться было нечего. И не подозревал даже, что есть в нем такое дерьмо, унаследовал его, что ли, от своих предков. Ведь знал же, что нужно было послать замполита подальше, крикнуть ему: да замолчите же, глупый и злобный человек, кого вы пугаете нелепыми своими речами! Другое, слава богу, ныне время. И ничего бы с ним замполит не сделал, и нечего трепетать перед всяким дебилом. А промолчал. И сказал кротко:
— Я сейчас же пошлю радиограмму.
— А отец? — спросил замполит. — Отец тоже замешан?
— Ничего не знаю. Я своего отца никогда в жизни не видел. Мать разошлась с ним, когда мне было три месяца.
— И ни разу не видел? — спросил замполит, и видно было, что и этому он тоже не верит, свинья. Это ж надо, чтобы так у человека изменилось лицо: обычно казалось оно изготовленным из вареной колбасы, причем не за два девяносто, а за рубль семьдесят, а сейчас скорее напоминало зачерствевший хлеб.
— Ни разу.
— Ладно, подождем, что сообщат сказал замполит. — Иди пока, работай.
Семен Олегович Данилюк открыл дверь и молча уставился на посетителя.
— Простите, вы Семен Олегович Данилюк? — спросил старший лейтенант Кравченко. — Старший лейтенант милиции Кравченко.
— Я Данилюк. А в чем дело? — Он почесал полную волосатую грудь под майкой. Лицо его тоже было полное и тоже волосатое: бородка и усики с проседью.
— У вас есть сын, Данилюк Александр Семенович, одна тысяча девятьсот шестьдесят второго года рождения?
— Сын? — изумился Данилюк. — Как вам сказать… Наверное.
— Вы разрешите войти? — спросил старший лейтенант. — А то мы разговариваем через порог…
— А… да-да, конечно, — пробормотал Данилюк. — Вы простите, я накину что-нибудь, а то…Он впустил инспектора в прихожую, исчез и тут же снова появился, натягивая через голову рубашку. — Сын, вы говорите? — спросил он сквозь рубашку.
— Да. Я хотел вначале выяснить, ваш ли сын Данилюк Александр Семенович.
— Данилюк, вы говорите? — переспросил Данилюк, и видно было по глазам, что он старался выиграть время, чтобы сообразить, что, собственно, от него хотят.
— Да, Данилюк Александр Семенович.
— Фамилия довольно редкая…
— Шестьдесят второго года рождения.
— Наверное, мой.
— Наверное?
— Видите ли, я его видел… так, так… угу, двадцать четыре года назад. Было ему, наверное, месяца три.
— И с тех пор ни разу не видели? — как-то совсем не официально, а по-домашнему, по-человечески изумился старший лейтенант. Изумился потому, что вдруг представил себе, что ему бы сказали, что он двадцать пять лет не увидит своего пузатого и сопливого Сергуню. Мысль была настолько нелепа, что тут же выскользнула из его головы, не было ей там места.
— Старший лейтенант, вы сказали?
— Старший лейтенант Кравченко.
— Не видели вы моей тогдашней жены, матери этого… сына. Свирепая особа. Узнала, видите ли, что я, так сказать, поддерживал некоторые отношения с ее приятельницей, и бац! Все. Как отрезала. — Он незло ухмыльнулся. — Взрывоопасная женщина. Но горда, горда! Мало того, что на развод тут же подала, сказала: «Прошу вас никогда ребенка не видеть». — «Как так, — говорю, — я же отец». — «Если вы забудете о нашем существовании, я тут же напишу заявление об отказе от алиментов». Ну, я и написал. Запродал, так сказать, сына на корню. Что вы так смотрите на меня? Шучу, шучу, конечно. А если серьезнее, молод был, глуп… Ах так, думаю, пожалуйста. Не нужен я — прошу, силь ву пле. И, честно говоря, довольно быстро забыл о мальчонке. Сэкономил, наверное, за восемнадцать лет тысяч двадцать на нем, но, как видите, не разбогател. — Он обвел глазами переднюю, в которой на вешалке висели несколько курток и плащей. Темно-красные, в узкую желтую полоску, обои кое-где отстали и плавно пузырились. Данилюк вздохнул. — Так что там мой абстрактный сын натворил?
— Абстрактный?
— А какой же? Не сын, а абстрактная величина. Бином Ньютона.
— А… да ничего. Он штурман дальнего плавания. Где-то он сейчас около Гонконга.
— Гонконг, говорите, — оживился Данилюк, — гм… может, мне по-райкински напомнить о себе? Знаете, был у Райкина такой номер, человек карточки детей перебирает, путает их. Шучу, конечно. Ну а что же тогда…
— Скажите, Семен Олегович, к вам в последние дни Владимир Григорьевич не заезжал?
Старший лейтенант видел уже, что это очередная пустышка, что никакого Харина тут нет и быть не могло, но порядок есть порядок.
— Владимир Григорьевич? — Данилюк выпятил нижнюю губу, поднял глаза к потолку, посмотрел на линялый желтый потек на нем и покачал головой. — А кто это?
— Ваш… этот… — старший лейтенант всегда путал зятя с тестем и прикидывал в таких случаях, что зять это молодой. — Ваш тесть.
— Тесть, тесть… Это что, отец жены?
— Угу.
— Господь с вами. А что, старик еще жив?
— Да.
— Скажите, пожалуйста, кто бы мог подумать… Старцу, наверное, под сотенку подвалило. А… его дочь?
— Она погибла в автомобильной катастрофе в семьдесят седьмом году.
— Ска-а-жите, пожалуйста, кто бы мог подумать, интересно, зачем ей это понадобилось… Ирония судьбы или с легким паром.
— Простите за беспокойство, — сказал старший лейтенант. — До свиданья.
— Ирония судьбы, — еще раз повторил Данилюк ч с остервенением поскреб грудь под рубашкой. — С легким паром. То есть, я хотел сказать, до свиданья.
Дверь щелкнула многоголосо, сразу несколькими замками.
Старший лейтенант вышел на улицу. В голове кругилась глупость: если за восемнадцать лет он сэкономил двадцать тысяч, а алименты — двадцать пять процентов зарплаты, сколько этот тип зарабатывает? Вот какие задачки надо в задачниках печатать, а не гектары с тракторами.
Но это задачка пустяковая, не говоря уже, что никому и не нужная. Тем более выходило не так уж и много, рублей по сто в месяц. Хотя нет, много, это же только четверть, выходит, значит, по четыреста в месяц этот хмырь зарабатывал. Интересно, где такие деньги платят. Ладно. Где старик — вот это задача. Радиограмма с «Паустовского» гласила, что никаких друзей внук Владимира Григорьевича к деду не посылал. Но они приходили, это факт. Приходили и увели куда-то его, да так, что никто их не видел. Словно испарились. Он увидел перед собой майора. Майор вздохнет тяжело, поглядит хмуро и скажет: ладно, так и напиши: испарился, мол. А что делать еще? Где искать? Ждать, ждать надо. Объявится в конце концов старик, в каком-нибудь виде да объявится.
Объявился Владимир Григорьевич только через десять дней, причем так же неожиданно, как исчез. Ефим Львович шел в библиотеку узнать, не вернули ли «Новый мир» с романом, о котором все говорили, и вдруг увидел перед собой в коридоре Харина.
Все эти дни думал он о старом приятеле. Сначала казалось ему, что вот-вот появится он, откроет дверь и скажет: «А вот и я», но к исходу вторых суток начал терять надежду. Понимал, знал, что не может Володя быть в живых. Что ж, еще одно попадание в тающую шеренгу друзей, родных и сверстников. Если и не привыкать он начал к этим попаданиям — трудно к такому привыкнуть, — то давно уже научился воспринимать взмахи косы костлявой со стоическим спокойствием. Что делать…
И вдруг, когда уже совсем было примирился с потерей, увидел Владимира Григорьевича. Как шел — так и остановился, как будто на стену наткнулся.
Никогда и ничему в жизни Ефим Львович давно уже не удивлялся, потому что за свои семьдесят два года видел все или почти все, включая шестнадцать снятых художественных руководителей театра и двадцать одного директора — подсчитал как-то бессонной ночью, — но на этот раз даже оторопел, уж не привидение ли перед ним в прохладном полутемном коридоре с салатного цвета стенами и вытертой ковровой дорожкой.
Привидение было знакомым и незнакомым одновременно. То есть это был безусловно Владимир Григорьевич, и одет он был все в ту же вельветовую свою пижамку, но какой-то загорелый, помолодевший, словно вернулся из отпуска.
Владимир Григорьевич улыбнулся, засмеялся мелко, весело и одновременно смущенно, раскрыл широко объятия, в которые художник вплыл не без некоторой опаски. Был он, разумеется, убежденным диалектическим материалистом — на том был воспитан, — но приготовился тем не менее, сжался внутренне, ожидая, может, пройти сквозь Владимира Григорьевича, поскольку привидения, как известно, суть предрассудок. Но не прошел, уперся грудью в грудь, почувствовал руки драматурга на своей спине и сам заключил старого товарища в объятия. Пахло от Владимира Григорьевича не так, как обычно, стойким и кисловатым лекарственным запахом, а солнечным теплом, как пахнет арбуз на бахче, ветром и чем-то неуловимым, но приятным.
— Володя, — только и мог он пробормотать, зашмыгал носом и почувствовал, что и коридор, и Харин начали расплываться. Что-то уж больно слезлив он стал, к чему бы это?
— Фима, друг, как ты? Как Анечка? — спросил Владимир Григорьевич так, как будто ничего необыкно венного не произошло, просто вернулся он, допустим, из командировки.
— Да все нормально, но… мы уже совсем решили, что…
— Что я… тово?..
— И не… тово, как ты выразился, и не не тово… Где ж ты был?
— У знакомых, то есть, правильнее сказать, у родственников, — как-то неопределенно и совсем не похоже на себя хихикнул Владимир Григорьевич.
— Ну, ты даешь, — покачал недоверчиво головой художник. — Тебя все ищут, Юрочка с лица спал, Анечка ходит с опухшими глазами, старший лейтенант Кравченко снимает со всех показания, посылает радиограмму твоему Сашке на край света, а ты — у знакомых и родственников! Ты что, позвонить не мог?
Ефим Львович знал, что следовало ему возмутиться, потому что это действительно было невероятным свинством со стороны Володи, знал, что не следовало так легко прощать людей за бездумный эгоизм, но никак не мог он наскрести в себе негодования, расплывался вместо гнева в неудержимой улыбке и смаргивал с глаз непрошеные слезинки.
— Да, конечно, — повесил голову Владимир Григорьевич, — ты прав, Фимочка, нехорошо получилось, но, понимаешь… — Он вздохнул. — Так уж вышло…
— Что ж я стою, старый дурак, ты кого-нибудь уже видел?
— Не-ет.
— И дуэт не видел? Они, по-моему, в своей ложе у проходной.
— Нет.
— Как же ты прошел?
— Так как-то… — Владимир Григорьевич виновато развел руками и улыбнулся смущенно. — Даже не знаю…
— Иди к себе, а я побегу скажу Анечке и Юрию Анатольевичу.
Ефим Львович ринулся вперед, а Владимир Григорьевич юркнул в шестьдесят восьмую комнату. Невообразимо знакомой была она, эта комнатка, каждый квадратный сантиметр ее мебели, стен, пола, потолка изучен-переизучен, тысячекратно ощупан был взглядом, когда прикован был Владимир Григорьевич к кровати, от лошадиной морды, подобие которой образовывали древесные прожилки на правой дверце шкафа, до еле заметной трещинки в синей вазочке для цветов, что стояла на столе.
И даже вмятина на застеленной постели Константина Михайловича — режиссер любил полежать — была знакомо четкой, как форма для отливки.
Что для молодого человека все эти детали? Так, ничего не значащий пейзаж, проносящийся за окном поезда. Его поезд давно уже замедлил ход, еле полз, в любое мгновенье вообще мог остановиться, и любая никчемная трещинка на стене могла стать последним образом уходящего мира.
Когда он лежал после инсульта, и глубочайшее тихое отчаяние намертво вцеплялось в него, выдавливало из сердца и головы волю к жизни, когда впереди не было ничего, кроме неминуемого черного провала, и непонятно было, зачем идти, когда все равно поджидает тебя эта бездонная пропасть; когда не от кого было ждать спасательного круга — и бросить некому, и нет вообще таких кругов, — тогда помогала ему эта комнатка. Лошадь косила на него одним глазом и, казалось, подмигивала: ничего, старик, ты дышишь — радуйся. Видишь трещинку на вазе — значит, жив, и будь за это благодарен.
И поднимался, поднимался он медленно из темных глубин депрессии, мрак помаленьку истончался, уходил, и Владимир Григорьевич чувствовал, как кто-то одну за другой снимает холодные гирьки с его сердца. А когда нашел в себе силы улыбнуться, впервые за долгие недели, то сказал лошади: «Спасибо».
Лошадь не заржала, но, казалось, понимающе кивнула.
Все было донельзя знакомо — многомесячным служила для него эта комнатка миром, и вместе с тем приобрела она сейчас, после возвращения оттуда, налет нереальности. Не целым, замкнутым миром она была, а лишь крохотной частицей большого, настоящего мира.
— Во-ло-денька! — раздался крик, и от двери к нему метнулась Анечка, обняла своими легкими лапками. — Во-ло-день-ка, ми-лый, — не то причитала, не то всхлипывала.
Она прижалась к нему, мотала оранжевой своей головой, и были эти простые движения удивительно красноречивы: нет, не может быть, не отдам, нет. Щекочущая, томительная, забытая нежность сжала его сердце. Он положил осторожно руки на ее худые костлявые плечики и поцеловал в волосы, стараясь попасть в двигавшуюся цель.
Анна Серафимовна, Анечка, смешная девочка-старушка, круглые глазки, представляете, мальчики, — если б знала она, что и вернулся-то он в основном из-за нее… Ну, может, и не в основном, но тем не менее… И если б знала, где он был и что за подарок для нее лежит в правом кармане его пижамы. Но потом, это потом.
— Володенька, милый мой. — Анечка отошла от него на шаг, чтобы удобнее было смотреть на него. Глаза ее влажно сияли, и улыбка медленно поднималась вверх от накрашенных губ.
— Анечка, — прошептал он. — Анечка… — Всю жизнь имел он дело со словами. Это был материал, с которым он работал. Выскакивали они из него легко, будь то в разговоре или в стуке пишущей машинки, пожалуй, даже слишком легко подчас, но сейчас он вдруг почувствовал, что не может нащупать в себе нужных слов, чтобы донесли они до этой старушки-девочки переполнявшие его чувства. А может, и не было вообще слов, чтобы могли они точно выразить эту странную смесь, в которой была и нежность, и теплый огонек, что начинал греть его при мысли об актрисе, и сожаление о чем-то, и горький сухой привкус старости.
Она нашла на ощупь своей рукой его руку и несколько раз провела ладошкой. Удивительно, как некоторые женщины умеют чувствовать, когда нужно спрашивать что-то, а когда нужно промолчать. Он вдруг увидел своих родителей. Отец в расстегнутом кителе — он только что приехал с фронта, из своего полевого госпиталя, где был хирургом, целовал мать жадно, запрокидывая ее в своих руках. А мать, задыхаясь, смеялась, плакала и все бормотала:
«Гри-и-ша…»
А он и сестра, на год моложе его, смотрели на них сквозь щелку неплотно притворенной двери, и было им смешно и даже как-то стыдно, что такие старые люди целуются, как маленькие. Сколько же было этим старым людям тогда, за год до революции? Лет по тридцать? Почти на полвека меньше, чем ему сейчас. Боже, подумал он, неужели я действительно прожил такую длиннющую жизнь, это же невероятно — семьдесят восемь лет! Но невероятность и длина была только в цифрах, потому что никакой невероятной длины он не чувствовал: промелькнула целая жизнь так быстро, что не успел он ни в чем разобраться, ничего не успел понять…
Они услышали легкий кашель, и Анечка пугливо отскочила от него.
— Простите, — сказал Юрий Анатольевич, — я не знал…
— Доктор, — сказал Владимир Григорьевич, — Юрий Анатольевич… Юрочка… — Он произнес слово «Юрочка» машинально, спутал на мгновение поток слов в голове с речью и смутился было, но Юрий Анатольевич, казалось, ничего не заметил. Он улыбался светло, и губы никак не могли занять определенного положения: и так складывались, и эдак.
— Умница, — сказал Юрий Анатольевич.
— Умница? Это я-то?
— Вы. Вы очень хорошо сделали, что вернулись. — Он несколько быстро моргнул и шумно высморкался в красный платок. — Здесь все-таки уход…
Уход… Если бы они только знали, что такое настоящий уход… Разве в этом дело, разве ради ухода он вернулся сюда? И если б знали они, что променял он на встречу с ними. Может, он и безумен, что сделал такой нелепый выбор. Наверняка безумен, если позволил маленькой гирьке перевесить огромный сияющий груз, но человек — не пробирная палата, у каждого свой набор гирек и разновесов. Собственно, этот набор, наверное, и определяет личность, и составляет свое «я». Владимир Григорьевич почему-то вдруг ясно увидел маленькую деревянную подставку с несколькими бронзовыми гирьками, каждая немножко больше соседней, так, что образовали они нечто вроде ступенек. Где же стояла эта подставка? А, конечно, в столовой, на мраморной темной плите огромного буфета.
Да, у каждого свой набор гирек. И, стало быть, оранжевые Анечкнны волосики, налитые доверчивой теплотой глаза, робкое прикосновение ее руки, Юрочка, похожий на большого ребенка, когда крадется по коридору в комнату старшей сестры, вездесущий художник Ефим Львович, сосед Костя, чьи вспышки беспричинного гнева только он умел погасить — стало быть, в его палате мер и весов они перевешивают все остальное. А может, и не безумен он. Разве не научило его его путешествие, что никогда не нужно торопиться прихлопывать человеку на лоб самоклеющиеся ярлыки: дурак, сумасшедший.
— Как вы себя чувствуете? — спросил Юрий Анатольевич.
— Слава богу, на ногах.
— Вы без палочки?
Владимир Григорьевич привычно потянулся было левой рукой за палочкой, но вдруг с нелепым испугом сообразил, что оставил ее там, откуда ее уже не вернуть. Тоже потеря — трехрублевая аптечная палочка.
— Как видите.
— Молодец. Зайдите потом как-нибудь, измерим вам давление. Я побегу. Нужно директору доложить, в милицию позвонить. Кстати, вернулись вы вовремя, потому что уже собирались поселить на ваше место другого. Сами знаете, какая очередь сюда.
Убежал Юрочка и не спросил даже, где он был. По-разному выражают люди свою привязанность. Одни простирают руки и восклицают: ты для меня весь мир! А другие промолчат, разве что спросят, какое у тебя давление.
И Анечка почувствовала безошибочным своим женским нюхом, что сейчас ему лучше остаться одному, и Костя сидел, наверное, где-нибудь в саду и вспоминал, сколько будет семью шесть, и Владимир Григорьевич занял свое любимое место у окна. То место, откуда совершал свои смиренные путешествия при помощи бинокля. Если б сказал ему кто-нибудь тогда, когда дрожали в окулярах нежные резные листики молодой крапивы, что вскоре совершит он совсем другое путешествие, путешествие, о котором не только друзьям рассказать трудно, которое ему самому уже сейчас, через час после возвращения, начинает казаться невероятным, он не поверил бы. Да что не поверпл, он бы даже плечами не пожал, мало какую глупость сморозить можно. Он сунул руку в карман пижамной куртки и вытащил небольшой жесткий прямоугольник. На плотном картонном листке с нарочито неровными краями напечатано было по-английски, старомодным, в завитушках, шрифтом: Daniel Dunglas Home. И роспись чернилом через всю визитную карточку. Торопился владелец карточки, автограф получился размашистым, даже кляксочка маленькая сорвалась с гусиного пера. Анечка оценит сувенир. Поверит? О, она-то как раз поверит. Она не загородит путь чуду ни крестным знаменем, ни научным шлагбаумом. Анечка, милый друг…
А главный сувенир придется спрятать, никто не должен его видеть. Он обещал никогда никому ни при каких обстоятельствах не показывать его. Он вытащил из кармана карточку, небольшую карточку девять на двенадцать. Она упруго пружинила в руках, и смотрели с нее на него лица: его, морщинистое, и юные лица Сони и Сергея. Все трое улыбались. Карточка сияла, испускала ярчайший свет, и улыбки не были неподвижными. Он смотрел на фотографию и видел, как они поворачивали головы, видел, как Соня провела рукой, поправила густые волосы, как Сергей почесал нос, как он сам крутит головой, не зная, на кого смотреть.
— Соня, — прошептал он.
Девушка на фото повернула голову, посмотрела на него, не на него, стоящего на фотографии рядом, а на него, сидящего сейчас у окна в комнате номер шестьдесят восемь в Доме ветеранов, улыбнулась светло, нежно и печально и прошептала явственно:
— Дедушка…
Никто никогда не должен был видеть эту фотографию, сделанную в двадцать втором веке.
Директор, как всегда, промолчал, когда ему доложили о возвращении блудного деда, покивал только головой, причем неясно было, что он этими кивками хотел сказать. В милиции попросили, чтоб написали им бумагу, а то висит на них Харин В. Г. Обитатели же Дома пришли, не сговариваясь, к выводу, что лучше Владимира Григорьевича не расспрашивать, потому что, как заметил веско и многозначительно Иван Степанович, после инсульта это бывает.
— Что бывает? — спросил Ефим Львович, которому почему-то стало обидно за товарища.
— Выпадение памяти. Ам-не-зия.
Слово было солидное, ученое, обидеться на него было бы глупо, тем более что дуэт согласно подтвердил:
— Он не помнит, — сказала Рита большая.
— Ему кажется, что он никуда не исчезал.
И все равно неприятен ему был этот надутый величественный индюк со своим апломбом. Спроси его, который час, он тебе ответит так, как будто одолжение делает, как будто один он знает тайну времени, один он к ней допущен, и только по доброте своей готов снисходительно ею поделиться.
На третий день после возвращения Владимир Григорьевич сидел с Анечкой на их любимой скамейке. Анечка привычно ворчала, что уже разгар лета, а овощей дают мало, хотя Катька ее говорит, на рынке всего прорва.
Владимир Григорьевич в десятый, наверное, раз нащупал в кармане визитную карточку, все никак не мог решиться. Что за дурацкая писательская привычка — относиться к своим поступкам, как к картинам в задуманной пьесе: так их прикидывать, эдак, примерять, искать связи с предыдущими эпизодами, предугадывать возможные следствия. Но ведь не пьеса же это, такого и не придумаешь, тем более что фантастику Владимир Григорьевич не любил и от реальности никогда не отрывался. Реальность, какая она б ни была, всегда казалась ему неизмеримо интереснее. Тем более, твердо сказал он себе, это ж реальность.
— Анечка, — сказал он и достал из кармана картонный прямоугольник. — Вот, это вам.
— Что это? — спросила с любопытством Анечка, беря визитную карточку. — Ой, какая прелесть! Это же… такая редкость! Это настоящая его визитная карточка? Где вы ее достали?
— Да, Анечка, настоящая. А вот эта подпись его.
— Настоящая подпись?
— Да, — Владимир Григорьевич глубоко вздохнул и добавил: — Он при мне расписался.
— При вас? — спросила Анечка, и глаза ее стали совсем круглыми. И плыли в них ужас и сострадание. Она хотела было что-то сказать, открыла несколько раз рот, но не произнесла ни слова. Она все смотрела на него, не отрываясь. Ужас уже успел вытаять из глаз, осталось только сострадание и упрямая решимость: что ж, меня и это не испугает…
— Анна Серафимовна, сказал Владимир Григорьевич, — боюсь, не надо быть большим физиономистом, чтобы догадаться, что именно сейчас у вас в голове. Так вот, милый друг мой, я еще не сошел с ума, во всяком случае не больше остальных, и мистера Хьюма я действительно видел, да что значит видел, разговаривал с ним, наблюдал за его невероятными трюками, и если вы выслушаете меня, то сами сможете решать, правду ли я говорю.
— Володенька, милый, я ничего не хочу думать, вы здесь, и слава богу…
— Это длинная история, и я не уверен, хватит ли у меня пороху рассказывать ее несколько раз. Поэтому я бы хотел, чтобы, кроме вас, были бы Ефим Львович и Юрочка. Поговорите с ними, а?
— Конечно.
Анечка улыбнулась и кивнула несколько раз одобряюще, мол, ничего, ничего страшного, пугаться нечего, и что бы он ни рассказал, все равно она будет рядом с ним, потому что нельзя же менять отношение к человеку только из-за того, что спутал он слегка фантазию и реальность. Мало ли кто что путает…
Сидели в комнате у художника. Сожитель его уехал на несколько дней к сыну, и никто им не мешал. Владимир Григорьевич устроился в кресле, Юрий Анатольевич подле него на стуле, а Ефим Львович и Анечка на двух кроватях.
— Давайте сразу договоримся, друзья: я ни в чем не хочу вас убеждать. У каждого свой иммунитет к необычному. У одного он работает исправно, безжалостно накидывается на все, что не укладывается в привычные рамки привычного опыта, у других толерантность, выражаясь научно, к чуду повыше. Так что относитесь к моему рассказу естественно, не насилуйте себя. Меня вы не обидите. И если скажете: этого быть не может, а потому и не было, я вас пойму. В отличие от вас, которые будут иметь дело лишь с моим рассказом, я все это пережил, сам видел, осязал, чувствовал, но все равно мотал упрямо головой и повторял: не может быть. Так что к вам претензий у меня не будет, и ваш скепсис я заранее понимаю.
И потом мне бы хотелось, чтобы вы в любой момент прерывали меня, если у вас появятся вопросы. Тем более что рассказ предстоит долгий. Договорились?
— Ты, Володя, торжествен, как на премьере, — усмехнулся Ефим Львович.
— Нисколько. Хотя, с другой стороны… Ну-с, ладно, поскольку все на свете с чего-то начинается, эта история началась с того момента, когда ты, Фима, открыл дверь шестьдесят восьмой комнаты и сказал, что ко мне пришли. Помню, что разволновался я почему-то ужасно — все мои внутренние органы запрыгали и задергались в каком-то шейке. Я потом думал, почему это? Ну, наверное, тут и состояние мое, поправлялся я ведь после инсульта безумно медленно, издергался весь, и Анечкин рассказ о необыкновенном медиуме, и — самое главное, наверное, — то, что очень долго никто ко мне с Большой, так сказать, земли не приходил. Некому. Ничего не поделаешь, говорил я себе, одиночество — это плата за долголетие. Да еще, бывает, с пеней. Признаюсь заодно, что задумывался не раз: а стоит ли вносить такую высокую плату за такое прозябание…
Владимир Григорьевич обвел глазами слушателей: Анечка смотрела на него с гордой полуулыбкой, почти материнской в своем бескорыстии, вот он какой. Но был в ее взгляде и некий невысказанный упрек: как же можешь говорить такое, если я рядом? Как ты можешь говорить об одиночестве?
Ефим Львович медленно и сладострастно облизывался, явно предвкушая что-то интересное, от чего сизые губы его блестели, а Юрий Анатольевич украдкой смотрел на часы. Ничего удивительного, в его возрасте набор развлечений побольше, чем у них.
— Юрий Анатольевич, еще одно условьице. Если вам нужно будет уйти, не чувствуйте, бога ради, себя обязанным сидеть здесь. Хорошо? — Врач кивнул, и Владимир Григорьевич продолжал: — Вошли двое, девушка лет двадцати пяти и такого же возраста парень. Уже потом, т а м, я узнал, что не ошибся. Соне действительно было тогда двадцать три года, а Сергею — двадцать пять. Хотя все это весьма условно, если разобраться.
— Что условно? — спросил Юрий Анатольевич.
— Говорить сейчас, в тысяча девятьсот восемьдесят шестом году, что Соне двадцать три, потому что родилась она в две тысячи сто пятидесятом году, то есть, сейчас посчитаю… через сто шестьдесят четыре года, если не ошибаюсь. — Владимир Григорьевич фыркнул и оглядел слушателей. Ефим Львович перестал облизываться, сразу поскучнел и посерьезнел. Анна Серафимовна начала было вздыхать, но спохватилась, забыла сделать выдох и осталась на мгновение сидеть надутая. Юрий Анатольевич медленно кивал, прикидывая, должно быть, какие симптомы у рассказчика и к чему они лучше подходят.
— Ладно, не будем забегать вперед. Ребята как ребята, молоденькие, свеженькие, чистенькие, улыбчивые.
Соня говорит:
«Здравствуйте, я Соня, а это Сергей. Мы приятели вашего внука, он попросил нас навестить вас».
Но я, признаюсь, почти не слышал, что она говорила.
— Почему? — спросил Ефим Львович.
— Потому что, если в те секунды, что я ждал их после предупреждения Ефима Львовича, я волновался, то тут я уже вообще потерял голову. Чувствую — что-то творится со мной необычное. Как будто кто-то взял меня, как бутылку, и взболтал. Все во мне перемешалось. Но главное ощущение — какая-то огромная жалость, что ли, теплота, которую они оба излучали. Смотрят на меня, а во мне все от их взгляда переворачивается, щекотно так на сердце стало, одновременно печально и радостно. Что-то говорят они, а я почти не слышу, так я полон был каких-то новых сильных ощущений. Чувствую, тянет меня к молодым этим людям, в буквальном смысле этого слова. Казалось, еще минута, и поволочет меня неведомое тяготение к посетителям, какое уж тут внимание. Я все-таки не мальчик, больше трех четвертей века прошагал, встречал на пути своем разных людей. Людей замкнутых, нейтральных, подобно некоторым инертным газам, ни в какие реакции с другими не вступающими. Людей открытых, жадных до общения с себе подобными. И прочих, стоящих между этими флангами. Но никогда, ни разу, не чувствовал я, чтобы так тянуло меня к кому-нибудь…
А потом Сергей говорит:
«Владимир Григорьевич, мы вам апельсины принесли, вот».
И протягивает мне пакет. Увесистый такой по виду, килограмма на два. Я протягиваю левую руку, чтобы взять пакет, и вдруг соображаю, что левая рука у меня больная, слабенькая, что не удержу я такой груз. А Сергей тем временем передает мне пакет, и я непроизвольно разжал пальцы. Но пакет не упал, он остался висеть в воздухе. Я понял, что сплю, что это какой-то удивительный по подробным деталям сон. То есть на сон все это было совершенно не похоже, но сознание услужливо подсказывало: а наяву-то апельсины в воздухе не парят, это ведь не «Союз» и не «Салют», а я не космонавт. И что самое удивительное — это я уже потом, вспоминая, осознал — особенно я не был поражен. Мало того, протянул опять руку, все ту же, больную, и взял пакет. И опять-таки, с одной стороны, мозг фиксировал странность — взял больной рукой! — с другой — все это вписывалось в общую сказочность, чудесность, необычность происходившего. Да и мысль о том, что все это, видимо, все-таки сон, служила как бы предохранительным клапаном.
Значит, взял я пакет с апельсинами и начал поворачиваться, чтобы поставить пакет на стол. И соответственно, чтобы обеспечить телу опору, уперся левой ногой, напряг ее. И почувствовал, что и она тоже стала сильнее…
— Поразительно, — пробормотал доктор.
— Именно. Я потому так подробно и описываю вам все эти физиологические детали, что они меня больше всего и потрясли. А потом уже, когда гости мои ушли, я вдруг твердо решил, что все это действительно галлюцинации какие-то, нельзя же всерьез верить себе, что видел висящий в воздухе пакет с марокканскими апельсинами. Прими это за реальность, и весь привычный мир тут же начнет рушиться. Если пакет с марокканскими апельсинами может вот так запросто висеть в воздухе, то почему, например, в следующее мгновение в дверь не постучат и не въедет в шестьдесят восьмую комнату Василиса Прекрасная на сером волке. Или почему не появится на подоконнике щука и не скажет пофранцузски:
«Миль пардон, мьсье Харин, загадайте ваше желание».
И действительно, почему?
И тут меня осенило: вот же он, решающий эксперимент — надо протянуть больную руку и попробовать поднять пакет. Что вам сказать, друзья? Представьте себе, что играете вы в карты, ставка огромная, вам сдали карты, и вы медленно-медленно сдвигаете их, чтобы посмотреть, что у вас, и сердце бухает и замирает одновременно. А здесь ставочка, как вы понимаете, побольше была, чем, допустим, заложенное именьице или тройка с бубенцами. Потому что, если все это мне померещилось, то, значит, тронулся я уже. Сегодня кажется, что апельсины летают, а завтра заложу руку за борт пижамной куртки и потребую, чтобы обращались ко мне «сир», потому что я Наполеон Бонапарт. Или там Александр Македонский. Это уже детали. Протянул руку, сжал пальцы, чувствую — сжал! — и поднял пакет. С трудом, конечно, но поднял. Все относительно. Поднял два килограмма, а на глазах слезы, будто мировой рекорд установил, и на штанге бог весть сколько чугунных блинов понавешено. Выходит, еще в себе…
Сижу обессиленный от эмоций, опустошенный, счастливый, встрепанный и думаю: так что же это все-таки такое? Нельзя же так буквально в одночасье начать поправляться…
— Нельзя, — кивнул Юрий Анатольевич. — Хотя все так. Я тоже не мог поверить своим глазам. Помните, как вы даже приседание сделали?
— Как же не помнить, я это все десятки раз через память пропускал, и так, и сяк, и в замедленном повторе. Объяснений никаких серьезных у меня не было. Хоть Анечка и рассказывала нам до этого о Хьюме…
— Кто это? — спросил Юрий Анатольевич.
— Медиум. Он жил в девятнадцатом веке и демонстрировал всяческие чудеса, — сказала Анечка и посмотрела вопросительно на Владимира Григорьевича, мол, сказать ли о визитной карточке.
Владимир Григорьевич едва заметно покачал головой.
— Угу, — сказал Юрий Анатольевич, и по лицу его видно, что слово «медиум» пришлось как нельзя кстати. Оно сразу ввело рассказ в привычную систему координат. Появилась точка отсчета. Медиумы, как известно, проходимцы. Столоверчение и вызов духов — развлечение для скучающих дам. И весь рассказ Владимира Григорьевича сразу превратился в занятную байку. Но ведь улучшение действительно было фантастическим, одернул он себя, но тут же возразил: ну и что? Кто знает, какие резервы таятся в нас? Сколько было таких случаев, когда врачи приговаривали к одному, а больные поступали наоборот и выздоравливали.
— Пробыли ребята у меня минут пятнадцать и, уходя, предупредили, что зайдут еще раз, если я, конечно, того желаю. Я, как вы понимаете, сказал, что буду ждать их с нетерпением. И ждал не только что с нетерпением, сгорал от волнения, словно чувствовал, что сулит их второй приход нечто куда более необычное, чем повиснувший в воздухе пакетик с апельсинами. Готов я уже был поверить во все. Человек я по природе довольно скептический. Если можно во что-то поверить или в чем-то усомниться, мне всегда естественнее было усомниться. Если мне говорили, допустим, что некто написал потрясающую пьесу, я внутренне усмехался: так уж и потрясающую. У Икса, говорят, собака ума невероятного, только что высшую математику не знает. А я уверен, что ловко стаскивает колбасу со стола. Я вам специально примеры пребанальнейшие привел, просто чтобы подчеркнуть, что излишней восторженной доверчивостью никогда не страдал. Но эти ребята скепсис мой напрочь уничтожили. Готов был ко всему.
Пришли они через день. Так же смотрят на меня непонятно. Соня — эта девушка — говорит:
«Владимир Григорьевич, вы, наверное, обратили внимание, что прошлый раз мы с Сережей вели себя… не совсем обычно?» Я забыл вам сказать, друзья, что оба они говорили с легким каким-то акцентом, и у девушки получилось не «обычно», а «обично».
«Да, конечно, — говорю я. — Еще бы! Когда в воздухе висит пакет, а я чувствую необычный прилив сил, этого не заметить нельзя».
«А… это… — пожала плечами Соня. — Это пустяки. Не о том речь».
«Пустяки?! — вскричал я. — Хороши пустяки!» «Но это и действительно пустяки, — улыбнулся белозубо Сергей, — смотрите». — И поднял меня в воздух.
— Как поднял? — спросил Ефим Львович.
— Так и поднял. То есть я не могу утверждать, что это он меня поднял, я могу лишь сказать, что вдруг начал медленно подниматься к потолку. Я в первое мгновенье даже не понял, что это я двигаюсь. Мне показалось, что я на месте, а комната, как лифт, начала опускаться.
Я поднял руку и уперся в потолок. Я провел по потолку пальцами, посмотрел, есть ли пыль. Пыль была. Почему-то мне это было необыкновенно важно. Как будто не было в ту секунду для меня более важной вещи, чем определить, есть ли пыль на потолке. Удивляться я уже не мог, объяснений никаких не было, в сон я больше не верил, страха не было, и вдруг сразу, толчком почувствовал я озорное веселье: ничего не боюсь. Пусть несут меня чудеса, как ветер — детский шарик. Сравнение, заметьте, было не случайным — я ведь и висел под потолком, как детский шарик.
Сознание наше, милые мои друзья, устроено так, что предпочитает вцепляться в мелкие детали, когда не в силах объять всю картину. А была такой деталью сначала пыль, а потом то, что пока я покачивался под потолком, семидесятивосьмилетний морщинистый детский шарик, с ноги моей по всем правилам всемирного тяготения упала тапка. Это уже было совсем вздором: если я вдруг потерял вес, то почему не потеряла вес тапка? И если одежда и обувь продолжали что-то весить, почему они не тянули меня вниз? Чепуха эта была какая-то уже совсем разухабистая.
«Простите», — сказал Сергей, и тапка поднялась с пола, всплыла ко мне.
Я захохотал, как дитенок, которого щекочут, Сергей засмеялся вместе со мной, и я плавно опустился на пол, держа в руке тапку. И знаете, о чем я думал в это мгновенье? Ни за что не угадаете: совсем стоптались мои старые тапочки, думал я, надо бы купить новые.
Привычный мир строгих законов и запретов рухнул. Я был готов ко всему. Если бы вдруг в окно влетел директор нашего Дома ветеранов Пантелеймон Романович с рожком в руке и протрубил первые такты, скажем, Сороковой симфонии Моцарта, я бы нисколько не удивился. Я сдался. Легко и с душевным весельем. Я не стал похож на ребенка, я был ребеночком в эти секунды, не знающим, что реально, что нереально, что возможно, что невозможно.
«А ведь я о другом говорила, — сказала Соня. — Я другое имела в виду. Мы ведь вас обманули…» Я замер, сжался, ожидая удара. Летел в веселом озорном полете и вдруг шмякнулся в холодное липкое болото. Сейчас выяснится, что все это фокусы, гипноз, иллюзион какой-нибудь, галлюцинации.
«Обманули?» — тупо повторил я.
«Да. Но мы боялись… Сразу…»
«В чем же? — вскричал я. — В чем же вы обманули меня?» Я их ненавидел. Поманили старого идиота, заморочили дурацкими фокусами седую глупую голову, а он уж и руки развел: готов лететь в небо. А вместо неба тебя мордой об стол, ишь ты, старый дурак, канарейкой себя вообразил. Вы и представить себе не можете, милые мои друзья, какую горечь испытал я в это мгновение, какое мучительное похмелье. Из сказочных чудесных грез назад в немощную старость…
Извините, друзья мои, за банальную сентенцию, но все мы готовы простить многое, но только не обманутое доверие. Помню, я когда-то в молодости в каком-то учебнике прочел, что Отелло двигала не столько ревность, сколько обманутое доверие. Ну, я, конечно, на Соню не бросился, все-таки я не мавр, тем более что она посмотрела на меня виновато и сказала:
«Александр Семенович вовсе не посылал нас к вам, это мы придумали».
В смятении я уже совсем было потерял остатки разума.
«Какой Александр Семенович?»
«Как какой, ваш внук».
«А… А… кто же вы? Почему вы… пришли ко мне?» «Понимаете, — замялась девушка, — вообще-то мы пришли из-за Александра Семеновича. Точнее, из-за письма, которое вы ему написали. Я случайно нашла его вложенным в старую одну книгу, прочла и… Словно услышала призыв о помощи, словно руки увидела протянутые. Так сжалось у меня сердце, читаю, перечитываю, а на глазах слезы. Там фраза такая есть: милый Сашенька, прости, что жалуюсь, но ты ведь одна у меня на белом свете родная душа…» Я почувствовал, как кровь бросилась мне в лицо.
«Простите, — говорю, — Соня. Это действительно из моего письма, но никуда я его не отправил, хотя надписал даже адрес на конверте. Перечитал письмо «решил, что некрасиво мне гак жалостливо писать… Оно и сейчас в тумбочке лежит».
«И все-таки он его получил, — как-то грустно и кротко сказала Соня. — И я прочла его спустя сто восемьдесят семь лет после того, как вы его написали».
Милые мои друзья, я вам уже раз десять, наверное, повторил, что перестал в те минуты чему-либо удивляться. Нет, неправда это. Как ни был мой бедный маленький разум анестезирован всем происшедшим, этого апперкота он выдержать не мог и отключился в глубоком нокдауне. Нет, упасть я не упал, даже сам был себе рефери. Считаю про себя: раз, два, три, четыре… При счете пять собрался, поднялся, фигурально выражаясь, хотя был, пользуясь опять же боксерским языком, грогги.
«Машина времени?» — с трудом прокаркал я, потому что голос меня не слушался.
«Ну, насчет машины — это разговор особый, но мы пришли к вам из будущего. Я ваша… — Девушка наморщила прекрасный свой лобик, зажмурила глаза, губы ее что-то беззвучно шептали, и она загибала пальцы на руке. — Я ваша… прапрапраправнучка. А вы, стало быть, мой прапрапрапрадед».
Что я мог сказать? Я сказал себе словами соседа моего Константина Михайловича: абер дас ист ни-и-чеево-о… А что я еще мог себе сказать? Здравствуй, детка, давненько что-то я тебя не видел. Так, что ли?
Должно быть, от этого карканья лицо у меня стало таким глупым, что Соня вдруг кинулась мне на шею и начала целовать меня.
«Дедушка, — шептала она. — Вы не один на белом свете… ты не один. Когда я прочла письмо… твое… так мое сердечко сжалось, от любви, жалости, состраданья, что говорю Сереже: хочу посетить прапрапра… Сережа — младший хроноскопист, они как раз занимаются временными пробоями. Он говорит:
«Ты знаешь, что значит твое имя?» «Ну?» — говорю.
«Софья — мудрость. А ты говоришь глупости. Ты же знаешь, каких энергетических затрат требует пробой. Каждое путешествие во времени обсуждается Советом».
«Я понимаю, — говорю, — но дедушка один в Доме ветеранов. Ему плохо. Он зовет внука, а внук далеко», «Ты взрослый человек, Соня, я не имею права».
При этом рассказе Сережа смотрел на Соню с восхищенной улыбкой, и видно было, что он действительно любит ее.
И чуточку, капельку успокоила меня эта улыбка, как будто хоть что-то увидел знакомое в невероятном калейдоскопе. И в двадцать втором веке влюбленные, оказывается, смотрят на возлюбленных точно так же, как и мы…
«Сереженька, — продолжает Соня, — я понимаю, что нельзя, но я не могу… И без твоего дурацкого пробоя сердце мое пронзило время, и я чувствую, понимаешь, чувствую его одиночество… Что тебе сказать, дедушка, Сережа никогда еще ни в чем мне не отказывал, и я… и мы здесь».
Что я мог сказать, друзья мои? Вы спросите: а ты верил, что они прямо из будущего? Не знаю. В эти минуты время перестало быть неудержимым прямым потоком. Оно вдруг представилось мне похожим на наши неторопливые, петляющие милые русские речушки, которые иногда такие излучины закладывают, что перейти от одной протоки до другой — метров двести, а проплыть для этого нужно двадцать километров.
«Дедушка, дедушка, — продолжала Соня, — не оставайся тут».
«А… куда же мне деться?» — глупо спросил я.
«Пойдем с нами».
«Куда?» — еще глупее спросил я.
«К нам. Туда». — При этом она почему-то кивнула на окно, как будто приглашая меня вылететь с ними н сесть на ветку дерева.
«В будущее?» — переспросил я. И верил я, и не верил, и оттягивал время, что угодно готов был спросить: который час, а где вы остановились, а чем заплатили за апельсины. Что угодно, только оттянуть решение, потому что было оно громадным, непосильным, невозвратным. Да, конечно, в те секунды казалось оно мне невозвратным.
«Да, дедушка, да, к нам, — прошептала Соня. — Ты не будешь одинок с нами, не будешь немощен и стар».
Прошептала и замолкла. И смотрели они на меня — она и ее спутник — терпеливо и торжественно. Понимали, наверное, какая буря бушевала в моей старенькой душонке. Такие порывы ветра и крепкую новую постройку могли бы потрепать основательно, а с ветхого домишки и вовсе крышу сорвать, если не унести целиком. Это только мы, литераторы, испокон века распространяем миф, будто люди думают связно и логично. На самом деле и при нормальных обстоятельствах мысли наши бегут, скачут, крутятся, толкаются, как овцы в загоне. А тут — вы только представьте на минуточку, что я должен был решить. И неслись на дьявольской бешеной карусели какие-то обрывки образов, фраз, эмоций. Какие-то благостные пейзажи пролетали перед моим мысленным взором, люди в белых свободных одеяниях, только что без крылышек и арф, и я сам в таком же снежном хитоне. То ли иду, то ли плыву в теплом воздухе. И Дом наш, все мои друзья, милые друзья, неспешные разговоры на скамеечке, какое давление, как дети, что внуки, в Париже террористы опять бомбы взрывают. Комната своя, последнее пристанище. И опять вы, друзья мои, отрада моя и опора, проносились перед моим мысленным взором. Их-то как остановить? И с Сашкой, с внуком, как расстаться? Проплыл передо мной его «Паустовский», а на палубе Сашка с биноклем в руках смотрит на меня и машет рукой.
А тут еще кружатся бумажной вьюгой, несутся листки из пухлой моей истории болезни, болезней, поправил я себя, а не болезни. А на заднем фоне этого безумного калейдоскопа цифра семьдесят восемь мигает, напоминает о себе, как на здании гидрометцентра, время и температура, знаете? То время, то температура.
Что вам сказать, милые друзья, замычал я вслух даже от отчаяния. И хочется взлететь, и жалко стропы рвать. И хочется новой жизни, и со старой расстаться жалко. Какая ни есть, а моя, хоть и почти вся прожитая, а все-таки дорогая. Уйти хорошо, но и родные могилки оставить трудно.
Поднял я голову, посмотрел на Соню и Сергея, вопросительно так, словно подсказки ждал, а они стоят молча, лица печально-торжественные. И не подсказывают.
Промелькнула у меня почему-то в памяти Майка Финкельштейн, долго сидел я в школе за одной с ней партой: серые добрые глаза за толстенными стеклами очков, жесткие кукольные косички. Училась она, не в пример мне, прекрасно и еще прекраснее умела подсказывать, одними уголками губ. Я долго потом не мог отделаться от привычки, когда не знал чего-нибудь, искать взглядом Майку.
Погибла она во время войны, была врачом в военно-полевом госпитале.
Но не было теперь рядом Майки.
Хватаюсь в муке опять за сомнения: а может, все это вздор? Может, зажмурю сейчас глаза покрепче, открою их, и окажусь на кровати, а рядом Костя посапывает. Так и сделал. Открываю глаза — все то же. Стоит Соня, смотрит на меня. А Сергей то на нее, то на меня.
Не знаю, смог бы я решить что-нибудь вообще, может, так бы и остался в роли буриданова осла, но в этот момент кольнуло в сердце, да так остренько, что я даже не сразу вздохнуть смог. Иголочка эта все и решила. Даже сам не понял, почему услышал вдруг свой голос:
«Я согласен».
Соня — мне на шею, целует меня, и у самой слезки на щеках.
«Спасибо, — шепчет, — дедушка».
Опять же ни к селу ни к городу вдруг подумал я, что никто никогда не называл меня дедушкой. Сашка мой — только дедом звал. Дед да дед. Вздохнул, и у самого в глазах радуга от слез. Спрашиваю:
«Что нужно взять с собой?»
«Да ничего», — улыбается Сергей.
«А где машина ваша?»
«Какая?»
«Времени».
«А… — он засмеялся, — да тут прямо».
«Не вижу».
«И не нужно. Подойдите просто вместе с Соней ко мне».
Делаю шаг, думаю, что совсем, видимо, рехнулся, потому что если уж и переселяться в будущее, хоть самые дорогие сувениры, хоть несколько фотографий нужно взять. Поворачиваюсь к тумбочке — у меня там самые драгоценные мои пожитки: фото, документы, два ордена и медали в палехской шкатулке, несколько афиш пожелтевших, рецензии на свои спектакли, которые я когде-то тщеславно вырезал и наклеивал в альбом. Не лишен был, не лишен, чего уж теперь скрывать. А если и давил в себе славолюбие, то ведь не только потому, что тщеславие — говорил я себе — смешно и постыдно, но и потому, главным образом, что на вершины драматургические не взбирался, Эвереста не покорял, все больше холмиками довольствовался. Вид, конечно, не такой, но зато лезть проще, ноги не скользят. И опять же, как и со всеми сравнениями, и это не вся правда, а полуправда. Четвертушка, а то и осьмушка. Давил я в себе тщеславие не столько потому, что стеснялся его, и не карабкался на театральные семитысячники не потому, что предпочитал покойные туристические тропки, а потому, что просто не мог, не умел. По молодости даже в отчаяние приходил: лезу, пру вверх, руками, ногами и зубами за каждый выступ хватаюсь. Каждый раз, когда новую пьесу писал, казалось: на этот раз уж точно на драматургический Олимп вскарабкаюсь. Долезу, думаю, открою глаза, глядь — а я уже в классиках. Долезаю, открываю — а я все на той же удобной утоптанной тропинке с киосками и с пепси-колой и фантой. Или тогда больше лимонадом и крем-брюле торговали? А потом и понял, что просто не дано мне восходителем стать.
Тут-то я и стал напевать про себя пастернаковские строчки «быть знаменитым некрасиво…». Но он гений, он имел право на эти строчки. А я и здесь, если не лукавил с собой, то подлукавливал. Но это я отвлекся, друзья мои. И то, надо думать, не случайно. И тогда, в тот час, цеплялся я за все, что угодно, только бы оттянуть решающее мгновение, и теперь, в пересказе, тоже тяну.
И вот, значит, вся эта ерунда проскакивает в моей заверченной голове — это я рассказываю долго, не могу, друзья, удержаться от некоторых литературных условностей, а тогда мысли блохами прыгали. Так вот, протягиваю я руку к тумбочке, а и никакой тумбочки нет. И шестьдесят восьмой комнаты нет. И Дома ветеранов нет. То есть мгновение назад было — а теперь нет.
А есть лужайка с зеленым-презеленым газоном, упругим и плотным, низкое длинное здание, легкое и прозрачное, голубое небо с самыми обычными облаками, и старый дурак Харин в нелепой своей вельветовой пижаме. Чувств никаких. Полная анестезия. Голова кружится немножко, а газон соответственно покачивается.
«Это хроностанция», — сказал гордо Сергей.
И такой, надо думать, вид у меня был глупый и нелепый, что Соня и Сережа так и прыснули необидно, глядя на меня. Посол из позапрошлого века, нечего сказать. Вместо дипломатического фрака — теплая стариковская пижама, вместо верительных грамот — не слишком свежий носовой платок. Что ж, думаю, не первый раз в жизни глупости делаю. Норму свою по этой части с походом перевыполнил.
Владимир Григорьевич гмыкнул, кивнул несколько раз своим мыслям и сказал:
— Я вижу, Юрий Анатольевич несколько раз на часы поглядывал. Признаться, я, братцы, тоже устал. Перерыв?
Была Лена сегодня какая-то молчаливая. И когда слегка сжимал Юрий Анатольевич пальцы на ее курточке, не прижимала она свою руку вместе с его к боку, не отталкивала, просто не замечала.
Может, устала, думал он, пока шли они по знакомому маршруту к метро, а может, это он все время в голове рассказ Харина и так, и эдак поворачивает. Трудно сказать… С одной стороны, вздор, конечно, все эти прапраправнуки и путешествия во времени. Малонаучная фантастика. Чушь собачья. С другой — и действительно ведь не узнать старика, улучшение поразительное. И где он был эти десять дней? Старший лейтенант Кравченко с его особой такой медлительной, основательной милицейской солидностью сказал ему:
«Не понимаю только, как он вышел. Будто испарился».
Из рассказа Владимира Григорьевича понятно было: отправился он в двадцать второй век прямо из своей комнаты, немудрено, что никто его не видел: ни вездесущий Ефим Львович, ни недреманое око дуэта, четыре, строго говоря, ока.
Надо бы, конечно, рассказать обо всем Леночке, головка у нее быстрая, четкая, поможет разложить все по полочкам, но что-то внутри него противилось: побаивался он почему-то Лениной четкости. Посмотрит на него прекрасными своими серыми глазами, гмыкнет и скажет: ты, Юрочка, понимаешь, что несешь? — При этом «ю» в его имени она растянет укоризненно: Ю-юрочка. Ну, скажет, старик — это понятно. Видели уже мы в Доме всякое. Благо бы там Константин Михайлович с его Альцгеймером или кто-нибудь еще из старцев. Чего-чего, а дементность в разных ее формах и стадиях видели. Но ты-то, ты-то… В тридцать-то лет. Вот уж действительно говорится: с кем поведешься, от того и наберешься. И ему станет мучительно неловко, потому что, как и всегда, будет Леночка права и возразить ей будет нечего.
Гм, пожалуй, первый раз с тех пор, как обнаружил Юрий Анатольевич, что земное тяготение сосредоточилось почему-то в старшей медсестре Дома театральных ветеранов, ощутил он некий барьер между ними. А то ведь как ребенок, ничего при ней в себе удержать не мог, что подумает, что в голову придет, то тут же ей выпаливает.
— Устала я что-то сегодня, — сказала Леночка, — как собака. Даже две собаки. Потому что Раечка, черт бы ее побрал, опять на бюллетене. Надоело все…
— И я? — спросил Юрий Анатольевич и тут же понял, что сморозил глупость. Не вовремя заворковал. Ворковать ведь можно только вдвоем. Это как чеснок. Едят оба — все нормально. Поест один — второй отскакивает, как при газовой атаке. Воркуют оба — любовный дуэт. Воркует один — дебильное сюсюканье.
— Ты? — серьезно, без смеха переспросила Леночка и посмотрела на него внимательно, даже изучающе. — Как тебе сказать, пожалуй, да.
— Спасибо, — сказал Юрий Анатольевич и почувствовал, как мгновенно испарился старик Харин с его бреднями и как испуганно остановилось у него сердце. Как будто кто-то безжалостно сдавил гортань.
— Пожалуйста, — улыбнулась Леночка, но улыбка была невеселой. Даже жесткой была улыбка.
Слов уже больше не было, как будто выскочив из его головы, Владимир Григорьевич уволок с собой все слова. Он вздохнул громко и прерывисто и подивился, что сердце все-таки продолжает работать. С трудом, но работать.
— Я устала, — сказала Леночка.
— Как две собаки? — обрадовался Юрий Анатольевич, выходя из немоты. Сейчас она скажет: нет, какой же ты недогадливый, не две, а три собаки. И мир снова потеплеет, и сердце смажет сладостное ощущение бла гополучия, и заработает оно опять ровно и сильно, шестьдесят ударов в минуту. Все-таки пусть и бывший, но волейболист. Второй разряд.
— Нет, Юрочка, не как собака и не как две собаки, а как человек, которому все надоело. Все, понимаешь?
— Не-ет, — неуверенно пробормотал Юрий Анатольевич. — Не понимаю.
— И это надоело. То, что ты ничего не понимаешь.
— Что я не понимаю?
— То, что ты не понимаешь, чего ты не понимаешь, и есть то, от чего, в частности, я устала.
Ну, слава богу, облегченно вздохнул про себя Юрий Анатольевич. Про себя, потому что вслух вздохнуть, да еще облегченно, следовало поостеречься пока.
— Что делать, сестрица, не дано. Как только я с вами, сразу глупею.
— Это не оправдание, Юра. Ты действительно ни черта не желаешь понимать. Ты добрый, милый парень. Есть в тебе даже что-то такое… Чеховское. Именно чеховское. Потому что ты тюфяк. Не матрац, а тюфяк… Я знаю, причиняю тебе боль, и мне нужно было бы сейчас острить, как обычно, дурачиться, но лучше, чтобы ты все понял. Ты ведь знаешь, как опасно копить в себе раздражение, эдак и язву желудка иль двенадцатиперстной нажить можно…
Никогда раньше не видел он ее такой, даже не догадывался, что ее милые серые глазки могут блестеть так металлически, а голос звучать так безжалостно. Это было так неожиданно, что он невольно повернул голову, почти уверенный, что потерял по своей дурацкой рассеянности Леночку, и идет сейчас с ним рядом не его птичка-синичка, а злая какая-то мегера. Мегера была поразительно похожа на старшую медсестру.
Опять кто-то сдавил ему гортань, втолкнул в нее душный комок, и ему стало трудно дышать. О чем она говорит, что он должен понять?
— Но что, что я должен понять? — горестно вскричал Юрий Анатольевич. — Что?
— То, что я не котенок, которого приятно гладить, тискать и с которым приятно играть. Мне двадцать четыре года, жизнь проходит, а мне все нужно играть роль котенка и бегать за бумажным шариком. Ты тюфяк, милый, мягкий, удобный тюфяк. Да, тюфяк — ты скажешь — тоже в жизни вещь нужная, но ведь нельзя же лежать все время. Ты можешь порхать восторженно, это дело твое, а я устала. Я хочу прийти домой и чтоб было кому стащить с меня сапоги. А то рухнешь иногда на стул в прихожей и сидишь полчаса, пока заставишь себя встать. Доползешь до зеркала, а оттуда баба смотрит с запавшими злыми глазами.
— Но… — застонал Юрий Анатольевич, — я же тебя люблю. Ты не можешь не знать. Просто я думал… я думал, что в моем положении…
— Боже, неужели ты в положении? — невесело усмехнулась Лена.
Странно, подумал Юрий Анатольевич, почему она старается надсмеяться надо мной, как-то унизить, не подпустить к себе. Словно он рвался к ней, а она по боксерски держала его на дистанции точными болезненными ударами. Что он мог сказать? Тюфяк? Наверное, она права. Наверное, он действительно тюфяк. Сентиментальный продавленный тюфяк. Ни за что ни про что оскорбил Севку, отказался от сказочного места врача велосипедной команды. От хороших «бабок» отказался. Не просто отказался, а еще с гонором, это, мол, не для меня. Неужели это-то она имеет в виду? И вдруг с пугающей жестокой ясностью увидел себя Юрий Анатольевич со стороны: тридцатилетний восторженный придурок. Нищий восторженный придурок. Не жаль было ему себя в эти мгновения яростного самобичевания, нет, не жаль. Пустая крохотная квартирка, семикопеечные резиновые котлеты из кулинарии, обтрепанная куртка на три времени года из четырех, единый проездной в кармане. Нет, зря он себя так, не чужд он и роскоши: годовая подписка на «Советский спорт». С утра можно прочесть, сколько не реализовали голевых моментов то футболисты, то хоккеисты, в зависимости от сезона, а то и те и другие одновременно. А зная, что кто-то не смог реализовать голевые моменты, легче начинать рабочий день, что ни говори. Ах да, совсем забыл. Ах, несет он, видите ли, зато высоко Гиппократову клятву. А что в нем толку, чем может помочь этим старикам, этой умирающей плоти, этим угасающим умам. Давление смерить? Направить к специалисту? Который, в свою очередь, пожмет незаметно плечами и подумает: не лечиться нужно, старички и старушки, поздно уже, а саван простирнуть и выгладить.
А он… сидел час, наверное, целый, слушал басни Владимира Григорьевича. Вот в чем дело. И Лена, выходит, права. Она в будущее не отправляется, она хочет жить. Сейчас. А он порхает, эдакий мотылечек голубенький, положительный герой, от которого стошнить может…
Но что же он молчит, надо что-то сказать, удержать свою любовь, а то вот уже холодная вода блестит свинцово, расходятся корабли. Фу, пошлость какая, вдруг одернул он себя. И разошлись, как в море корабли. Иль еще голосом Синатры спеть: стрейнджерс ин дзе найт… Путники в ночи… примерно из той же оперы.
Они стояли у метро, и Лена вдруг сказала:
— Поедем ко мне, я хочу познакомить тебя с мамой. Ну, чего молчишь? — нарочито грубо, зло добавила она.
Он все понял. Сразу. Она же не такая. Она тонкая, смешливая, что бы ни говорила, она котенок. И сердится она не на него, а на себя, лапка его бедненькая. В сердце образовалась дырочка, оттуда ударил обжигающий фонтан нежности, и он в изнеможении опустил голову на ее плечо.
А она вздохнула прерывисто:
— Господи, и что ты навязался на мою голову! Шла бы за того капитана, жила бы сейчас на Камчатке, самая красивая женщина гарнизона. И сам полковник пригласил бы меня на тур вальса, как в «Анне на шее»…
Дома Леночка сбросила с себя туфли так, что они шмякнулись о стенку, и закричала:
— Ма-ать!
На крик выскочила маленькая худенькая женщина в очках. Наверное, подумал Юрий Анатольевич, Ленина старшая сестра.
— Здравствуйте, — сказала она. — Я — Ленина мама. Кира Георгиевна.
— Моисеев Юрий Анатольевич. Я работаю с вашей дочерью…
— Я знаю, — несмело улыбнулась она, протягивая руку. Глаза у нее были какие-то испуганные, и она смотрела на дочь, как собака на хозяина. — Леночка мне рассказывала о вас.
— Обед есть? — строго спросила Лена.
Юрию Анатольевичу вдруг подумалось, что сейчас Кира Георгиевна станет по стойке «смирно» и рявкнет:
«Так точно, товарищ сержант».
Но Кира Георгиевна не вытянулась во фрунт, а, наоборот, втянула голову в плечики:
— Ты ведь не предупредила… Я только что пришла с работы.
— Ну конечно… — Лена иронически поджала губы, и лицо ее сразу стало злым.
— Да я сыт совершенно, — торопливо пришел на помощь Юрий Анатольевич.
— Нет, нет, вы не беспокойтесь, я сейчас что-нибудь соображу… Полчаса — и все будет на столе.
Юрий Анатольевич остался один с Леночкой и осторожно присел на жесткую тахту, крытую ковром, который спускался со стены. Ему было неловко. Должно быть, Леночка почувствовала что-то, потому что сказала:
— Ей это нравится.
— Что нравится?
— Когда я с ней… так…
Юрий Анатольевич пожал плечами. Опять мелькнула полоска стылой воды. Его родители жили в Риге, виделись они с сыном нечасто, раз или два в год, но любили друг друга нежно. Но, может, это у них игра такая: ма-ать! Смир-на-а! О господи, что за чушь лезет в голову.
— Ты прости, — сказала Леночка, — я тебе сегодня наговорила бог знает что… Бывают такие дни, к ангелу, кажется, и то прицепилась бы.
— Что ты, котенок мой, я понимаю. Тем более я и не ангел. Я вот думаю: ты, наверное, права. Действительно, чего я сижу в Доме ветеранов? Ни денег, ни перспективы. Приятель предлагал в спортивные врачи податься. Велосипедная команда. И платят побольше, и сборы, и поездки зарубежные.
Леночка внимательно посмотрела на него, словно взвешивала, что ей следовало сказать.
— И ты… отказался?
— Да, — кивнул он. — По дурости. А ты чего?
— Что чего?
— Чего на Камчатку не поехала?
Леночка посмотрела на него, настороженно хмыкнула. Почудилась ей, видно, некая опасность. Казалось, должен был Юрочка чувствовать себя безнадежно виноватым, а он, видите ли, еще взбрыкивает.
— Прописку московскую терять было жалко, вот почему, — отрезала она. — И потом, капитан только. Неужели я майора не заслуживаю?
Это ведь тоже в его огород камешек, подумал Юрий Анатольевич. Если и его прикинуть на табель о рангах, он-то уж наверняка больше старшего лейтенанта не потянет, а то и просто лейтенанта. Ни чина, как говорится, ни должности. Не матрац даже, а тюфяк. По крайней мере четко птичка-синичка сформулировала.
Не получался у них сегодня разговор. То тянул привычно любовный двигатель, сильно и ровно, то барахлили свечи, и начинал он работать с перебоями, дергал.
— Леночка, можно накрыть на кухне? — робко спросила Кира Георгиевна, выглядывая в дверной проем.
— Кухня не для еды, а для готовки, — сказала Леночка.
— Конечно, прости.
Леночка пошла на кухню, оттуда донесся свирепый стук тарелок, будто их швыряли изо всех сил, и неясный шепот.
— Ладно, — донесся голос Леночки, и она появилась в комнате с тарелками. — Мой руки.
И снова сидели они и слушали рассказ Владимира Григорьевича. Только вместо врача смотрел на соседа Константин Михайлович. Конечно, говорил себе Владимир Григорьевич, не стоило бы, наверное, подвергать бедную Костину голову таким перегрузкам. Но и прятаться от него было бы некрасиво.
— Ты остановился, — сказал Ефим Львович, — на том, что стоял на зеленом газоне перед каким-то зданием в своей пижаме.
— Костенька, — торопливо пояснила Анечка Константину Михайловичу, — Володенька рассказывает о путешествии в будущее. Он только что перенесся отсюда, из шестьдесят восьмой комнаты на полянку перед незнакомым зданием. — Говорила она в точности так, как пересказывают дикторши перед началом очередной серии многосерийного фильма содержание предыдущих эпизодов — коротко и глуповато.
— Куда перенесся? — подозрительно спросил Константин Михайлович.
— В будущее.
— А… понятно, — удовлетворенно кивнул он, — так бы сразу и говорила, а то: перенесся, перенесся…
Бедный, бедный Костя, подумал Владимир Григорьевич, куда, в какое путешествие отправляется твой бедный разум… Трудно было ему снова оказаться перед зданием хроностанции. И не только потому, что стояли между ними чудовищным фортификационным валом почти двести лет, а потому, что трудно, ах как трудно было связать больного Костю с миром, где забыли о телесных и душевных недугах.
И все-таки нужно было возвращаться к хроностанции. И не только для того, чтобы развлечь друзей необычайным рассказом, а чтобы привязать себя снова к реальности двадцатого века, к реальности Дома театральных ветеранов. А то ведь можно остаться в слепом полете, не зная, где будущее, где прошлое, где виден ное, а где пригрезившееся. Уже, уже уходили в невероятную даль милая порывистая Соня, нежная прапраправнучка, терял четкие очертания Сергей, тускнел невероятный Прокоп. Владимир Григорьевич сделал усилие, оторвал взгляд от равнодушных Костиных глаз и начал рассказ:
— Знаете, друзья, что успокоило меня немножко? Газон и небо. Родная, плотная, ухоженная травка пахла привычно, знакомо, а в высоком родном небе привычно паслось стадо беленьких барашков. Банально, конечно, но, наверное, сама банальность пришедшего мне в голову сравнения тоже помогла.
В сущности, мы зря ругаем постоянно банальность. Клише — якорь, который приковывает нас к действительности. Не будь клише, мы бы все стали глухонемыми, ибо подолгу бы думали, как выразить простейшие вещи. И не было бы у нас вообще общего наименьшего знаменателя, потому что объединяют нас, наверное, не палаты ума и фантазии, а понятная всем банальность и клише.
Головокружение мое стихло, страх осел немного, и я даже улыбнулся двум моим проводникам в будущее. И только я открыл было рот, чтобы сказать приготовленную глуповатую фразочку «спасибо, что подвезли», как увидел, что из здания спешит к нам невысокий человек в странном каком-то одеянии, похожем на полупрозрачный комбинезон неопределенного, переливающегося цвета. И то, что одежда была какая-то нарядно-эстрадная, а человек уже немолод, и то, что торопился он к нам очень уж деловито, и комбинезон так и вился вокруг его тельца радугой, все это заставило меня улыбнуться. Ничто не возвращает нам так нашей самоуверенности, как комичность кого-то другого.
Человек досеменил наконец до нас, проделывая на ходу одновременно массу дел: он яростно, но не очень страшно грозил кулаком Сергею, пальцем — Соне, улыбался мне и кричал:
«Русский? Инглиш? Франсэ? Дойтч? Итальяна?» «Русский, конечно», — почему-то обиделся я.
«Почему конечно?» — спросил человечек по-русски, раскрывая одновременно объятия и заключая меня в них. Ткань комбинезона была такой мягкой, что я ее вообще не чувствовал, и пах человечек почему-то свежескошенным сеном.
А действительно, почему конечно? — подумал я, ответа не нашел и пожал плечами. Но тоже как-то между делом, потому что человечек сжал меня в объятиях, отстранил, чтобы лучше рассмотреть мое лицо, снова сжал и рассмеялся весело:
«Конец девятнадцатого?»-спросил он меня, смеясь.
Тут же, взглянув на Сергея, он опять нахмурился и показал ему маленький нестрашный кулачок. Мне показалось, что и комбинезон отозвался на перемену настроения — он потемнел и перестал мерцать. Но настроения у этого человечка менялись мгновенно, потому что он уже опять смотрел на меня, сиял восторженнейшей улыбкой, теребил меня, щупал, обнимал, отстранял и даже поцеловал в нос.
Я стоял, разинув рот, как деревенский дурачок.
— Как стоял? — спросил вдруг Константин Михайлович.
— Как деревенский дурачок, — повторил Владимир Григорьевич.
— А… это другое дело, — удовлетворенно сказал Константин Михайлович. — Абер дас ист ничево.
Владимир Григорьевич вздохнул, улыбнулся, закрыл глаза, чтобы лучше, наверное, увидеть человечка в комбинезоне, и продолжал:
— Я просто не поспевал за этим человеком. Он все делал слишком быстро. Какой конец? Какого девятнадцатого? А, вдруг сообразил я. Это он пытается догадаться, из какого я времени. Я вдруг удивился: почему я из конца девятнадцатого? Телевизоров, правда, не было, но зато были Толстой и Чехов.
«Нет, — сказал я, — вы ошиблись почти на сто лет. Конец двадцатого».
«О, бедная моя голова, бедные мои органы чувств, запел человечек, воздевая руки к белым барашкам в небе и сотрясаясь от смеха, — как я сразу не догадался: ваше одеяние, миль пардон, из… как это… синтетики?» «Да», — кивнул я.
«Вторая половина двадцатого, старый я ослик!
Кстати, правильно я говорю? Я хочу говорить на русском языке второй половины двадцатого века».
«В общем, да. Но «миль пардон» — это скорее девятнадцатый или начало двадцатого, когда в России высшие классы хуже или лучше знали французский. И потом, говорят «старый осел», а не «старый ослик».
«Но у меня небольшие размеры. Я не могу быть полноразмерным ослом. Я настаиваю на ослике».
«Ради бога», — согласился я. Человечек был мне приятен, и я готов был согласиться на все ради него. Если ему непременно хотелось быть осликом, ради бога! Первый шок уже начал проходить, место его занимало огромное облегчение, какое-то пузырящееся возбуждение отпускника, только что выбравшегося из тряского поезда на приморскую набережную. Да что осликом, если бы человечек в комбинезоне захотел быть слоном или птичкой колибри — пожалуйста!
«Да, да, да, да… — выстрелил он длинной очередью, и вдруг лицо его исказила горестная гримаса, и мне даже показалось, что в глазах его набухли слезинки. Не-ет, я не ослик, не осел, я глупый ослище! Глупейший, за-быв-чи-вей-ший ослище! Я не представился вам, не узнал вашего имени, не поздравил вас с прибытием в двадцать второй век. — Он отступил на шаг, торжественно наклоня голову. — Прокоп Фарда, ста семи лет, начальник хроностанции. — Он наморщил лоб. — Простите, в ваше время, знакомясь, сообщали свой возраст?» «Никогда».
«Ах, да, да, конечно же. Это делали в газетах, и то в американских, о горе мне…» «Владимир Григорьевич Харин, семидесяти восьми лет, пенсионер, бывший драматург».
«Мальчишка. Пенсионер? Вы жили в пансионе?» «Отнюдь нет. Я получал пенсию по старости».
«Минутенцию, минутенцию… Ах, да, пенсия! — Человечек с силой хлопнул себя по лбу. — Ну, конечно, прялки-моталки…» «Елки-моталки, если уж быть точным».
«Посмотрите на это существо! — оглушительно заорал Прокоп, и из здания выскочило несколько человек. — Товарищ Владимир знает разницу между прялками, моталками и елками. Один во всей Вселенной! — Он вдруг тихонько засмеялся и смущенно потряс головой. — Товарищ Владимир, скажите мне честно, я кажусь вам… гм… глупым? Только честно, хорошо?» «Говорите просто Владимир. Товарищ Владимир — так у нас не говорят».
«Не увиливайте. Я похож на дурака?» «Нет, — твердо сказал я. — Вы экзальтированны, но не глупы».
«Странно, — вздохнул Прокоп, — мама все время твердит мне, что я глуп. Она называет меня… да, вспомнил: при-дур-ком».
«Мама? Сколько лет вашей маме?»
«Мама у меня еще довольно молодая женщина, ей без года сто сорок. Чего вы улыбаетесь, Владимир? Вам смешно?» «Мне смешно, что стосорокалетнюю женщину называют довольно молодой. У нас она была бы долгожителем-рекордсменом. О ней писали бы, у нее брали бы интервью, допытываясь, что она ест и сколько. А вы — довольно молодая. Как же назвать человека моего возраста?» «Как это все странно, — замотал головой Прокоп. Когда читаешь — это одно, а когда встречаешь живого человека — совсем другое дело. Откуда это постоянное внимание к возрасту? А, — завопил он, — понимаю! Вы же еще в плену глупых видовых рамок! Вы жили до семидесяти-восьмидесяти лет и потом умирали. Да, да, я знаю, понимаю, но это так нелепо! Как вы вообще могли жить в таких условиях?» Я вдруг вспомнил одного старинного своего приятеля-литератора, милейшего, в общем, человека, но похожего по своей экзальтированности на столетнего Прокопа. Иногда мы приходили с ним обедать в Дом литератора, и Оскар — так его звали — смотрел на немолодых вислозадых официанток и стонал от восторга. «Посмотри, — дергал он меня за руку, — вот эта, рыженькая, боже, какие глаза!» А когда приносили какую-нибудь еду, он закатывал глаза, откидывал свой стул на две ножки и кричал на весь зальчик: «Нет, ты ел когда-нибудь такую вырезку! Нет, ты скажи!» Прокоп смотрел на меня и кивал головой:
«Да, вы жили в печали: над вами веял скорый конец…» Не знаю почему, но вдруг я рассвирепел:
«Может, он и веял, но ни в какой печали мы не живем, дорогой Прокоп. Жили, умирали, и ничего, как видите, миллионов пять лет в виде гомо сапиенса отмахали. И кое-что успели за это время сделать. И с деревьев слезли, и огонь приручили, теорию относительности придумали, дома престарелых и телевизор».
«Как вы говорите, дома престарелых? Что это, друг Владимир?» «Говорят, животные всегда прячутся, когда чувствуют скорый конец. Мы этот инстинкт утратили и создали особые дома для стариков. Не самые веселые, конечно, заведения, но ничего, что поделаешь».
«Да, да, да, да, все-таки годы сказываются, черт бы их побрал! Конечно, милый Владимир, конечно. Вы были смелыми созданиями. Вы были, мы были. Потому что мы стоим на ваших плечах. Владимир, познакомься. Эта девочка — Майя Иванец, семидесяти двух лет, старший хроноскопист, а это тощенькое серьезное существо Гурам Шенгелия, четырнадцати лет, наш стажер. Дети мои, перед вами Владимир Григорьевич Харин, семидесяти восьми лет, из конца двадцатого века».
Семидесятидвухлетняя девочка — она действительно походила лицом и фигурой на двадцатилетнюю девчушку — обняла меня и осторожненько, как бесценный музейный экспонат, передала в руки худенького мальчонки, которому место было явно не на хроностанции, а в детском саду.
«Еще раз, добро пожаловать, — сказал Прокоп. — Сейчас я отведу вас отдохнуть с дороги — правильно я говорю? — а потом будет суд!» «Суд?» — изумился я. Вот оно, оказывается, как развлекаются наши потомки.
«Да, суд, — твердо, но печально сказал Прокоп. — Мы будем судить Соню и Сергея».
«За что?»
«За самовольный временной пробой».
«О боже, — я недоверчиво покачал головой, — и что же им грозит?» «Не знаю. Суд решит».
«Но все-таки, я ведь чувствую себя в большой степени виновником их… проступка».
«Ты ни при чем, друг Владимир, тебя судить не будут, но вон, видишь, идет Соня. Она хохочет, негодное существо, что-то рассказывает Эльжбете. Не похоже, чтобы она очень боялась суда, поэтому успокойся».
Всю жизнь, милые друзья, жил во мне синдром гостиницы. Так я называл чувства, всегда охватывавшие меня, когда я входил в номер гостиницы и закрывал за собой дверь. Гостиница — это другой город, другая страна. Гостиница — это скачок из привычных будней в новый мир. Новые люди, новые знакомства, новая кровать и новая еда. Нелепое детское возбуждение, детское предвкушение каких-то необычайных событий. Во второй половине жизни разум подсказывал мне, что ждать уже давно нечего, что ничего необычайного случиться со мной не может, но все равно стоянка в незнакомом порту оказывалась сильнее унылого здравого смысла.
Теперь, милые мои друзья, я прошу вас сделать усилие, огромное усилие, и представить себе, что должен испытывать человек, больной старик, вырвавшийся из богадельни прямо в рай. Прошу прощения за богадельню, я назвал так наш дом ради красного словца. За рай я прощения не прошу. Это и был рай, так во всяком случае мне тогда казалось. Столетний живчик, семидесятилетняя девочка с гладкой и упругой кожей, какаято… приветливость, что ли, разлитая вокруг, даже травяной газон казался каким-то особым, дружелюбным, молодым, красивым, зовущим к себе. То есть, другими словами, я должен был испытывать свой гостиничный синдром в сотой степени. Я должен был дрожать от возбуждения и нетерпения. Я должен был прыгать как козленок. Сразу на четыре ножки.
Но наш разум, наше сердце непредсказуемы. Мне было грустно. Мне было неловко. Не могу сказать, что я очень совестливый человек, скорее наоборот. Но я думал в те минуты о вас и чувствовал себя… предателем и дезертиром.
— Абер дас ист ничево, — сказал со вздохом Константин Михайлович.
— Ничево, ничево, — улыбнулся Ефим Львович гордо и смущенно одновременно.
— Во-ло-день-ка, — с недоверчивым восторгом пропела тихонько Анечка, — какой вы…
Владимир Григорьевич остановился, наморщил нос и лоб, чтоб скрыть сжавшие гортань эмоции, и посмотрел на товарищей.
Константин Михайлович откинулся к стене и смотрел на него ожидающе. Ефим Львович достал из кармана платок и громко высморкался, пряча при этом глаза, а Анна Серафимовна смотрела на рассказчика сияющими влюбленными глазами, и маленькое ее личико пылало от избытка чувств.
— Да, — продолжал Владимир Григорьевич, — мне было грустно. Нелепо, несообразно грустно. И ведь понимал я глупость этих чувств. Не обижайтесь, друзья мои, я употребляю сравнение лишь для того, чтобы пояснить вам свое состояние, но глупость эта вызвала у меня настоящую ярость. Старый дурак, выговаривал я себе, ты похож на человека, который печалится от того, что его выпустили из тюрьмы. Стоит за воротами и ревет, камеры жалко ему, видите ли…
Выговаривать-то выговаривал, но только без толку. Душа, как известно, здравым смыслом не всегда руководствуется. Мне иной раз даже кажется, что есть даже некая обратная пропорция: чем мускулистее здравый смысл, тем дистрофичнее душа. И на лозунги, призывы и выговоры душа тоже не слишком отзывчива.
Вот и сидел старый печальный дурак в раю и казнил себя… Смешно.
Я вздохнул в конце концов и оглянулся. Не знаю уж, что я ожидал увидеть в комнате двадцать второго века, но ничего необычайного не было. Кроме разве формы. Комната была круглой, а потолок был выполнен в виде сферы, и был он прозрачен. Не таким, правда, прозрачным, как круглое опоясывающее окно, которое смыкалось со сферой, но все-таки прозрачным. Впрочем, и окно было разной прозрачности. Часть его, которая находилась в лучах солнца, была затемненной, зато другие секторы позволяли видеть кустарник, темную полоску леса, все тот же ровный газон.
Я внезапно почувствовал себя обессиленным. Разум мой, душа онемели от невероятных перегрузок. Какая центрифуга может сравниться с испытаниями, которые обрушиваются на человека, дряхлого старика, перенесенного вдруг на небо?
Я лег, не раздеваясь, даже не расстегнув все той же своей вельветовой пижамы, на диван. Диван вздохнул, а может быть, чавкнул как-то. Сначала я почти утонул в его неземной мягкости, но через мгновение он собрался, видно, с силами, приподнял меня в более упругих объятиях.
У изголовья на спинке я заметил панель с символами. Один изображал две руки, ладонями к человеческому телу, другой — знак, похожий на волны, третий нос и дерево, четвертый — лампу и так далее.
Всю жизнь я обожал мелкую домашнюю технику, от кофемолки до электробритвы, от тостера до соковыжималки. Как вы понимаете, я не мог не дотронуться хотя бы до одного символа. Сначала я коснулся двух ладоней, и в ту же секунду по материалу, из которого был сделан диван, прошли волны. Вершины их были жестки, и действовали они как массаж. И какой массаж! Не хочу обидеть нашу массажистку, но ей далеко до того электронного чуда. Я нажал на волны, и мое ложе тотчас же превратилось в суденышко, плавно качавшееся на волнах. Откуда-то донесся плеск воды, легкий скрип переборок, шум ветра, далекий крик чаек. Я не мог сопротивляться. Я отпустил тормоза и медленно поплыл в страну сна.
Я открыл глаза, открыл легко, сразу и невольно улыбнулся, увидев перед собой Прокопа. Впрочем, я понял, что проснулся, потом, а вначале я был твердо уверен, что сплю. Судите сами: я как будто просыпаюсь и вижу стосемилетнего старца, висящего вниз головой на трапеции. Он раскачал ее и легко вскинул торс вверх. Был он без своего эстрадного комбинезона, и тело его было мускулистым и молодым.
Я прикрыл глаза, оставил крохотные щелочки. Мне хотелось смотреть и смотреть. Было в его сосредоточенности что-то детское, свежее, непосредственное.
Бывают сны, от которых хочется поскорее проснуться, очнуться, которые хочется побыстрее забыть. А тут я понимал, что сплю, и во сне боялся, что вдруг ненароком проснусь — такой забавный, приятный и уютный был сон. И яркий к тому же, со стереоэффектом.
И вдруг сон и реальность слились в детскую радость пробуждения, и я понял, что уже не сплю, что сон растворил дурацкую мою грусть, что праздничный фейерверк продолжается, и нельзя терять ни мгновения, надо глазеть на него, разинув в восторге рот.
Прокоп плавно опустился на пол, слегка толкнул трапецию, и она куда-то скользнула бесшумно. Он два раза глубоко вздохнул и начал медленно подниматься вверх, коснулся рукой прозрачного потолка и опустился, посмотрел на меня и закричал:
«Ах ты жулик, жалкий обманщик! Ты думаешь, я не вижу, как ты щуришь глаза! Ты хочешь лишить меня радости общения с ископаемым человеком?! Так берегись, гнев мой будет ужасен! — Прокоп попытался сделать грозное лицо, но черты лица тотчас же расплылись в добрейшей улыбке, и он захохотал. — Эй, ложе, не ленись, помоги гостю встать».
Подо мной прокатилась упругая волна, заботливо подтолкнула голову, плечи и спину, и я сел, улыбаясь, как идиот. В этом мире нельзя было не улыбаться. Так мне казалось в эти минуты, и меньше всего я мог предположить, что очень скоро мне будет не до смеха.
«Как ты, друг Владимир? Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, друг Прокоп».
«Правильно, ты сказал правильно. Лучшая наша форма обращения».
«А вы…»
«Ты».
«Хорошо, ты. А ты ожидал, что человек двадцатого века будет пытаться разжечь костер на ковре и нащупывать подле себя палицу?» «Браво! Умник!» «Может быть, ты хотел сказать «умница»? Слово «умник» имеет иронический оттенок».
«Гм, скажите пожалуйста, кто бы мог подумать. Тебе цены нет, друг Владимир, ты кладезь филологической премудрости. Мне уже племянник раз пять звонил из Бразилии, когда, спрашивает, я смогу увидеться с живым человеком из двадцатого века. Я говорю: потерпи. А он — не могу. Спроси хоть ты его, что за странный кулинарный прием описывали иногда их писатели — вешать лапшу на уши. Что такое лапша — все знают. Но зачем вешать ее на уши? Или таким манером удавалось получить особо тонкую лапшу? Но тогда почему действующие лица относились к этой процедуре, как правило, отрицательно?» Я улыбнулся:
«Это просто жаргонный оборот. Вешать лапшу на уши — морочить голову. Но и у меня вопрос. Прокоп, скажи, пожалуйста, а вот эта трапеция… Это…» «Принадлежность каждого дома. С самого нежного возраста мы обожаем висеть на ней, крутиться, сидеть. Один из наших самых мудрых философов утверждает, что суть мира можно понять, только вися вниз головой. Когда мы посещаем друзей, мы часто сидим или висим на трапециях, как обезьяны. Есть даже выражение такое, они на одной трапеции. Это значит, они очень близки друг другу».
«А… я видел, как ты поднялся в воздух. Это… как это делается?» «О, друг Владимир, это и просто и бесконечно сложно одновременно. Вы этого не знали — может быть, об этом смутно догадывались единицы, но мир пронизан гораздо более разнообразными силами, чем это казалось вам в вашем веке. Мы тоже не познали его до конца, наш старенький мир, это и невозможно, но мы давно научились пользоваться кое-какими из этих сил…Но что же это я, старый болтун! Ты ведь голоден, ты обязан быть голодным, а я, несчастный, потчую тебя болтовней. Хорош хозяин, ничего не скажешь! Кухня! Две ультры и две ромашки, и побыстрее!» «Да, Прокоп», — буркнуло обиженно откуда-то из стены.
«А теперь, друг Владимир, пока они готовят еду, я должен поговорить с тобой серьезно. Я ненавижу говорить серьезно. Серьезны только глупые люди, а мне хочется быть мудрым. Ты готов выслушать меня?» «Да, конечно, друг Прокоп».
«Я знаю, что причиню тебе… боль, но у меня нет выхода, никакого, поверь мне. Ты поймешь, ты увидишь, мы знаем, что в чем-то вы были мудрее нас. Вы ведали, что такое горе, болезни, разлуки, страдания, и это знание, тяжкое, горькое знание, давало вам мудрость. Мы неизмеримо счастливее, мы живем в легком светлом мире, но лучшие наши умы начинают понимать, что мы чересчур рано расстались со страданием. Слишком глубоко оно встроено в душу человеческую, чтобы можно было безболезненно расстаться с ним. А искусственное страдание опасно. Стоит только начать кому-нибудь отмеривать рукотворное страдание для других — пусть даже с самыми благими целями, — как оно отравит отмеривающего, ибо не должен человек причинять страдание человеку. И не должен вообще никто облекать себя такой властью, чтобы решать за других, что им гоже, что негоже. А уж когда облекал — а сколько было таких в нашей истории! — тут же начинал смотреть на себе подобных сверху вниз, с вершины, другим недоступной. А на себя — как на всеобщего благодетеля. И даже на плаху посылал для всеобщего благоденствия. И на кострах сжигал только для того, чтобы помочь заблудшему вернуться на путь истинный, не говоря уж о лагерях и тюрьмах. Палачи ведь редко себя злодеями считают. Куда слаще видеть в зеркале непонятого другими утешителя… Или на худой конец учителя.
А самому… Гм, душу ведь упражнять — не мускулы. Тут трапецией не обойдешься. Зарядки для души не существует. Поупражнялся десять-пятнадцать минут — и пожалуйста. Душа поддается только одному упражнению — жизни. — Прокоп покачал головой и совсем по-детски смущенно шмыгнул носом. — Прости, друг Владимир, совсем я заораторствовался с тобой. Не сердись. Это мой… слабый конек?» «Нет. Любимый конек. Или слабое место».
«А, да, да. Правильно, друг Владимир. Но хватит о страданиях. Об этом потом, друг Владимир. — Прокоп глубоко вздохнул. — Сейчас о тебе. Ты пришел к нам в наш век. Это наше настоящее, а для вас, живших почти двести лет назад, будущее. Ты оказался в будущем…» Прозвенел нежный колокольчик, сегментик стены опустился вниз, подобно лепестку, и из проема выдви нулся стол с двумя высокими сосудами и двумя тарелками.
«Отлично, друг Владимир. Открою тебе секрег. Я трус, я оттягиваю тягостный наш разговор и рад, что еда поможет мне отложить его еще на несколько минут. Ешь, друг Владимир».
«А что это за напиток?»
«Ты недоверчив, как зверек. Рецепта я тебе не скажу, не знаю, но, кажется, это какая-то травяная настойка, обработанная ультрафиолетовым излучением, насыщенная целым букетом газов, от кислорода до гелия. А может, и не до гелия, не знаю. Мы пьем ее, когда нужно поддержать силы. Попробуй».
Я не умею передать вам вкус напитка, потому что вкусы и запахи не поддаются описанию, их только можно сравнивать с другими вкусами, уже знакомыми, и другими запахами. Угадывались в зеленовато-фиолетовом напитке какие-то травы, растения, щекотали небо пузырьки газа, и пах он летним вечерним лугом, когда нагретая за день трава щедро отдает тепло, смешанное с густым ароматом.
И второе блюдо тоже было явно растительного происхождения и тоже ускользало от точного определения своих ингредиентов. Мы поели, и я почувствовал прилив сил. Прокоп поставил пустую посуду на столик, сегмент беззвучно занял свое место в стене.
Прокоп посмотрел на меня, и лицо его было напряжено.
«К сожалению, больше отступать мне некуда. Так вот, друг Владимир, перед тобой выбор. Или ты твердо решаешь остаться в нашем веке, и тогда наш мир будет в полном твоем распоряжении, и не будет ни одной для тебя тайны, ни одного секрета. Что знаем мы — то будешь знать и ты. И ты забудешь о годах и болезнях, потому что давно уже мы подчинили себе и то, и другое. Ты станешь одним из нас, ты станешь человеком нашего века. Ты сможешь жить в любом месте, заниматься любым делом, обучиться любой профессии. Ты сможешь, если захочешь, отправиться на любую космическую станцию, на Луну или Марс. Ты сможешь полюбить и сможешь быть любимым.
Никто не будет ничего требовать от тебя, никто не будет ничего ожидать от тебя, ибо ожидание — это тоже форма давления, а мы не можем, не хотим оказывать друг на друга давление, ибо это есть покушение на свободу, на святое право выбора.
Ты не будешь спешить, ты сможешь менять профессии и ремесла, пока не найдешь истинного своего признания. Но это не значит, что мы равнодушны друг к другу. Я надеюсь, что ты скоро увидишь, даже здесь, на хроностанции, что мы не холодны и не равнодушны.
Ты будешь молод и счастлив.
Но ты никогда не сможешь вернуться в свой век. Неукоснительные правила временных пробоев, или, выражаясь иначе, путешествия во времени, требуют, чтобы ничто из будущего, будь то материальные предметы или информация, не попадало в прошлое, ибо это может взорвать… нет, прости, друг Владимир, и это я пока что не имею права тебе объяснить подробно. Скажем лишь, что будущее не может, не должно влиять на прошлое. Это понять нетрудно. Ты не можешь вернуться в свой век, зная то, что еще не случилось, ибо уже таким образом ты бы неизбежно влиял на будущее. Ты не можешь не сделать то, что ты уже сделал, иначе… Но стоп, молчу…
Но ты не пленник, тебя не захватили силой бесшабашные Соня с Сергеем. Твоя связь с твоим временем еще не прервана. Представь себе корабль у причала. Так вот, ты сейчас у причалов двадцать второго века, а швартовы еще тянутся к двадцатому. И каждая минута твоего пребывания у нас оплачивается огромным расходом энергии…» «Да, но…» «Не торопись, друг Владимир, выслушай сначала меня до конца. В любой момент мы можем обрезать эти швартовы, и с точки зрения энергозатрат ты — станешь обычным гражданином нашей планеты. Но это будет значить, что ты уже никогда не вернешься назад.
По нашим правилам тебе дается четыре дня, девяносто шесть часов. В конце девяносто шестого часа, если, конечно, ты не решишь раньше, ты должен будешь или вернуться в свой век, или остаться у нас, но уже безвозвратно. И пока ты не решил свою судьбу, ты должен оставаться здесь, на хроностанции. Ты можешь общаться с любым из сотрудников — все они знают законы временных пробоев и не снабдят тебя никакой информацией, которая наложила бы запрет на твое возвращение в прошлое. Ты можешь запрашивать со своего терминала любую информацию, ты получишь только то, что не помешает тебе возвратиться. И если ты, допустим, запросишь сведения о некоем Владимире Григорьевиче Харине, тебе сообщат только год твоего рождения, но не смерти. Ибо ты не можешь жить, зная день своей смерти.
Это не вопрос удобства или неудобства, в конце концов можно примириться со всем, даже с тем, что знаешь заранее отмеренный тебе срок. Это совсем другой вопрос: причинной связи, свободы выбора и жесткости конструкции пространственно-временного континуума, но, кажется, я опять говорю больше, чем следует.
В сущности, это очень просто: если ты знаешь, что обязательно сделаешь в будущем, значит, ты лишен свободы выбора, значит, ты, по нашим понятиям, и не существуешь. Вот почему это невозможно. Ибо жизньэто свобода выбора…» «Д-да, — промямлил я. — Но… что-то я могу узнать?» «Безусловно. Самое главное — ты должен знать, что человечество выжило, оно с трудом, но благополучно преодолело полосу препятствий — разрыв между наукой и технологией и политической раздробленностью, животным нелепым эгоизмом и глупыми древними предрассудками. Это не значит, что на нашем небе никогда не появляется ни облачка. У нас свои проблемы и свои заботы. Об одной — о проблеме страдания — я уже упомянул. Но есть и другие… Но это наши проблемы и наши заботы. Они есть, и они будут всегда, потому что полное самодовольство означает паралич ума и души. Совершенство — это абсолютный нуль, при котором прекращается всякое движение. Оно равнозначно смерти».
«Вы пользуетесь словом «душа»?» — спросил я.
«Друг Владимир, я не ожидал от тебя такого вопроса. Во-первых, мы же очень близкие родственники, гораздо ближе, чем может показаться. Я уже успел кое-что выяснить. Можешь ли ты представить, что твоя правнучка, всего-навсего правнучка, жива, ей сейчас сто сорок два года. И говорим мы не на другом языке. Понимаешь же ты язык Пушкина, Карамзина, Шекспира, Софокла, Гомера? Наоборот, милый друг Владимир, мы знаем о душе многое такое, что вам и не снилось. Она для нас не только… но стоп, я опять увлекаюсь. Я оставляю тебя одного, дорогой друг, ибо мы отдаем себе отчет в громадности решения, которое тебе предстоит принять. Весь мир наш ждет его, твоего решения. И каково бы оно ни было, твое решение, мы воспримем его с душевным весельем, потому что по нашим понятиям свободное решение священно, его надлежит уважать и ему надлежит радоваться. Ведь в конечном счете весь прогресс рода человеческого сводится к увеличению выбора. Подумай сам, друг Владимир. Наши косматые предки выбора не имели, инстинкт посылал их в погоню за зверем, потому что нужно было набить брюхо. Инстинкт заставлял хватать первую попавшуюся подругу жизни и тащить в свою пещеру. У раба тоже выбор был невелик: можно было служить господину или подставлять спину и зад под бичи из сыромятной кожи. И у средневекового крестьянина, не говоря уже о крепостных, выбора не было. Не больше, чем у кирпича, из которого сложено здание.
И лишь постепенно, помаленьку, платя огромную цену, начал человек приобретать свободу выбора, ту самую, которой мы теперь так гордимся и которую ценим превыше всего.
Твой выбор пока ограничен: остаться или возвратиться. Но если ты решишь остаться, возможности выбора расширятся для тебя тысячекратно.
Прости, друг Владимир, за длинную речь, есть, есть у меня такая слабость…
Через час начинается суд над Сергеем и Софьей. Ты можешь присутствовать, а можешь и не прийти».
Я ухмыльнулся. Теперь уже я чувствовал свое превосходство.
«Ты, очевидно, шутишь?» — снисходительно спросил я.
«В каком смысле?»
«Неужели ты хоть на мгновенье мог подумать, что я буду валяться на этом сверхкомфортабельном ложе и почесывать спокойно задницу, когда мою прапра… моего милого потомка судят только за то, что она ринулась на помощь деду?» «Браво, друг Владимир. Мы ждем тебя ровно через час в малом зале станции».
«Кто-нибудь придет за мной?»
«Неужели мы позволим тебе заблудиться? Вот, одень на руку».
Он протянул мне нечто вроде часов-браслета. Но не форма потрясла меня, в конце концов мы уже привыкли к разным часам. Нет, в правом верхнем углу циферблата светились цифры, которые заставили меня вздрогнуть, как от электрического разряда: 8. 7. 2173. Ничего себе дата! Да, конечно, я уже знал, верил, понимал, что произошло невероятное и невообразимое, что я перемахнул через двести почти лет. Я напрягал ум в отчаянном усилии осознать, удержать в нем неосознаваемое и неудержимое. А тут на будничном циферблате так буднично, так привычно светятся будничные четыре циферки: две тысячи сто семьдесят три.
«Инфо подаст тебе сигнал, что пора на суд, и если ты не будешь знать дороги, — может, ты отойдешь от станции, — прибор подскажет тебе как вернуться. До свиданья, друг Владимир, и прости, что я непристойно серьезен, но сердце мое сжимается при мысли, что тебе предстоит решить».
«Прости, Прокоп, я все время хотел спросить тебя. Ты говоришь, суд. У вас есть преступники?» «Да, друг Владимир, их мало, но они бывают. Какие-то сдвиги в генах, какие-то сбои в гормональной системе, и у человека появляется агрессивность, тяга к насилию».
«И что вы делаете с такими?»
«Если такой человек еще в состоянии решать — я говорю «еще», потому что и агрессивность и жестокость, по нашему убеждению, — это болезнь, — мы предоставляем ему выбор: или психокорректировка, делающая его нормальным существом, или изоляция от общества».
«А что такое изоляция от общества? Тюрьма?» «О, это опять целая гамма выбора, потому что и преступник имеет право на выбор. Он может выбрать поселение в изолированной колонии, где живут такие же преступники, нечто вроде заповедника для злых и агрессивных людей, любящих и злобу и агрессивность. Он может отправиться на поселение на какую-нибудь необитаемую планету. Или выбрать тюрьму».
«У вас есть тюрьмы?»
«Конечно, но их выбирают, говорят, реже всего».
«А если преступник действительно болен?» «Если он не может принять взвешенного решения, по приговору суда он подвергается психокорректировке».
«А как это делается?»
«Если ты останешься, друг Владимир, ты сможешь увидеть это сам. Но суть не в технике. Вы уже тоже, наверное, догадывались, что уровень культуры общества определяется, в сущности, чрезвычайно просто. Уровень культуры — это соотношение двух сил — древних инстинктов и коры больших полушарий. Чем сильнее инстинкты, тем ближе человек к животному. И наоборот. Очень, очень многое можно проследить, рассматривая инстинкты. Допустим, тяга к богатству. В сущности, это то же стремление самца или самки занять в стаде доминирующее положение, только сила и храбрость заменяются другим атрибутом власти — богатством».
«А для чего власть? Властолюбие?» «Альфа в стаде или стае всегда имел больше пищи, а стало быть, больше шансов выжить».
«А стремление выделиться, хвастовство?» «То же самое, что павлиний хвост или удары в грудь гориллы. Вот какой я, смотрите все! И так все. Злоба, зависть, жадность, подлость. Все, что нужно выкорчевывать в себе, пропалывать… Прости, друг Владимир, мы заболтались, мне сейчас нужно идти, мы скоро увидимся…» Он обнял меня, сжал в объятиях и торопливо вышел. А я… Не думал я, что окажусь на старости лет в гуще такого боя. Казалось, давно уже у меня белый билет, давно уже освобожден от воинской повинности. Да и какой из человека воин в восемьдесят лет. Ан нет. Опять попал на войну, да еще на какую! С одной стороны шли на меня приступом земные родные воспоминания. Встала из небытия Наденька моя незабвенная, смотрела на меня из бесконечно далекого своего далека, но не звала к себе, лишь улыбалась, махала приветственно ручкой.
«Как ты, старчик мой?» — услышал я ее голос. А может, и не услышал, почудилось мне. Но кто знал, что здесь чудилось и что могло в действительности случиться. И дочку увидел. Эта, как всегда, торопилась, губки сжаты упрямо, всегда готова к сражениям, экая, право, сражательница.
И вас, милые друзья моих закатных лет, увидел. И не звали вы меня к себе, не требовали, возвращайся, мол, предатель, обратно. И будто бы радовались даже за меня. Ну, мы, мол, не сподобились, так хоть ты. Промелькнуло перед мысленным моим взором старинное изречение: чтоб сочувствовать, достаточно быть человеком. Чтоб сорадоваться, нужно быть ангелом.
Ефим Львович трубно высморкался и долго не отнимал обширный свой платок от лица, не хотел, наверное, чтоб увидели его слезинки, старый художник. А Анечка не стеснялась, слезы так и катились по ее щечкам, и, влажные, они казались совсем молодыми. Милая Анечка…
Константин Михайлович громко вздохнул и несколько раз молча кивнул.
— А с другой стороны, — продолжал Владимир Григорьевич, — наступал на меня новый век, нестерпимо щекотал тайнами, вот реши — и раскроются они тебе. Реши — и сбросишь дряхлую морщинистую оболочку, как змея кожу. Арфу в руки, нимб на голову — и дуй себе по векам неведомым.
И опять грустно мне стало. Опять летели качели к знаку минус. Уж больно неравные силы были в странном этом сражении. Три-четыре фигурки машут издали, машут ли? И если машут, с какого света? А рядом живой торжествующий мир.
Ах, неравные то были силы. Несколько кавалеристов, да и то скорее донкихоты на своих росинантах, простите за сравнение, а перед ними танковый вал. Люки открыты, танкисты высунулись, смеются, пальцами показывают: видели, мол, когда-нибудь таких воинов? Даже не стреляют, моторы заглушили и пари заключают, какая лошадка первая споткнется или падет от дряхлости.
Да, неравные были силы в этом сражении…
Я выскочил на улицу. Странно как-то волновал меня травяной газон. Какие-то древние, дожизненные какие то воспоминания поднимал из глубин видовой памяти. Медленно я опустился на колени и уперся руками в эту ухоженную кем-то траву. Она была теплой, трава нагрелась за день солнцем, и был зеленый ковер упругим и живым.
В той, земной жизни, я видел такие газоны. Помню, был как-то раз на одной начальственной даче подмосковной. До этого только в книгах читал: мол, настоящий английский газон получить очень легко, для этого нужна лужайка, газонокосилка и двести лет ухода.
Ну, не знаю уж, сколько лет и кто именно ухаживал за той начальственной травкой за высоким забором, — впрочем, меняется только начальство, дачи остаются, но показалась она мне необыкновенной. Подошел к хозяйке, не помню, конечно, как ее звали, но лицо запомнил, надутенькая такая была особка, но с демократической косметикой. «У меня, — говорю, — просьба». — «Слушаю». — «Разрешите мне снять ботинки и босиком по вашему газону побродить». Сказал и вижу — вмастил. Надутость вся побоку, расплылась в улыбке: «Сделайте, — говорит, — одолжение».
Кругом гости собираются, ведут литературно-политические важные разговоры, в воздухе дымок сизоватый и аппетитный от жарящихся шашлыков, а я все милуюсь с травкой. До сих пор помню ее мягкую и упругую ласку.
Вот такая же трава, только не дачная заплатка, а целые поля, окружала меня на хроностанции. Я шел по траве и не пытался вмешиваться в битву, что шла в голове, в сердце, в печенке, селезенке и даже суставах.
Потому что — удивительное дело! — жалкое войско моих воспоминаний все еще не сдалось. Вместо того чтобы благоразумно поднять белый флаг, оно снова и снова упрямо ползло на смехотворный и обреченный штурм превосходящих сил противника, как принято говорить в военных сводках. И шла, шла нелепая битва, и ничего я не мог сделать.
Да и как я мог вмешаться в битву, когда участвовали в ней пусть и неравные армии, но каждая во сто крат сильнее меня. Я шел и шел, дошел до рощицы. Если и сосенки стояли спокойно, они в битве не участвовали, и я прислонился к светло-коричневому, почти янтарному, пахнущему смолой, бугристому стволу сосны и спросил:
«Что же делать?»
Вокруг — ни души. Никого не стеснялся. Да и на глазах у толпы готов я был кинуться за советом к кому угодно.
«Как что? Решай», — скрипнула сосна. Черт-те знает что за мир. Может, здесь и деревья разговаривают.
«Конечно», — ответила моим мыслям сосна, и в то же мгновенье часы на руке четко сказали: «До начала суда десять минут. Ровно столько, сколько вам нужно, чтобы дойти».
Я повернулся к станции.
«Уважаемые друзья, — сказала полная дама в белом костюме, — сегодня по жребию роль обвинителя выпала Жоао».
«У нас нет профессиональных прокуроров, — пояснил тихонько Прокоп, который сидел рядом со мной. — Когда человек слишком часто обвиняет ближних, у него это может войти в привычку, а мы таких привычек не любим».
Жоао оказался смуглым мускулистым пареньком. Впрочем, в «пареньке» я не был уверен. Вполне могло статься, что ему лет пятьдесят, а то и сто, иди разберись в этом сумасшедшем мире. Но эта зыбкость, неопределенность впечатлений не смущала меня и не тяготила. Наоборот, она была мне приятна, словно я сидел в театре и смотрел необыкновенный спектакль. В театре ведь не думаешь: а сколько лет вон той актрисе, что играет девочку, а что за человек вне сцены герой-любовник, какое кровяное давление у благородного отца. Может, это во мне профессиональный театрал говорил, но только следил я за судом, затаив дыхание.
«Друзья, — сказал Жоао, — я чувствую себя крайне неловко. Я должен обвинять людей, которых люблю и уважаю…» «Почему неловко? — прервала его дама в белом. — По-моему, обвинять по-настоящему может именно тот, кто любит, знает и уважает обвиняемого».
«Давайте не увлекаться банальностями», — буркнул кто-то из зала, в котором собралось человек двадцать.
«Не надо бояться банальностей, — улыбнулась дама в белом, — банальность — гарантия общепризнанности того или иного положения, а суд должен иметь дело только с общепризнанными положениями. Эрго — суд должен быть банальным».
«Браво, Эльжбета, — крикнул тощенький Гурам Шенгелия, — прекрасный поворот!» «Поворот, разворот, отворот, — покачала головой Маня Иванец, с которой меня уже знакомили, — эдак мы никогда не вынесем приговор».
«Майя Иванец», — подсказал мне Прокоп.
«Да, я помню», — сказал я. Какой-то несерьезный был суд, похожий скорее на пикировку друзей.
«И все же, друзья, — вздохнул Жоао, — судить Софью и Сергея нужно. Они совершенно самовольно, ни с кем не согласовав, ни с кем не посоветовавшись, ни у кого не спросив разрешения, совершили пробой. Мало того, что каждый пробой пожирает огромное количество энергии, существует твердое правило, которое требует координации пробоев, совершаемых на нашей станции и на станции в Хараре. Потому что, как все вы знаете прекрасно, два пробоя, совершаемых одновременно, могут вывести из строя… Не буду продолжать, так как, к сожалению, пока что мы не имеем права сообщать нашему гостю никакой конкретной информации, в том числе принципы и детали хроноскопии. Мало того. Соня и Сергей отправились в тысяча девятьсот восемьдесят шестой год совершенно неподготовленными».
«Ну, насчет «совершенно» — это явное преувеличение», — покачал головой сухой высокий человек в красных шортах и красной рубашке.
«Бруно Казальс, — прошептал Прокоп, — старший хроноскопист. Сегодня он адвокат».
«Вы их что, назначаете? Обвинителей, защитников…» — прошептал я.
«Нет, мы бросаем жребий. Перед самым судом. Человек, даже подсознательно, не должен заранее готовиться ни к роли прокурора, ни защитника, ни судьи».
«Не знаю, преувеличение или нет, — сказал Жоао, — но Сергей сам рассказывал, что, уже оказавшись в двадцатом веке, они сообразили, что не изготовили и не захватили с собой денег…» «Денег?» — спросил из зала тощенький Гурам.
«Денег. Да, денег. Может, ты не знаешь, что это такое?» «Забыл», — покраснел Гурам.
«Ты стажер, — сказал Жоао, — ты хочешь стать хроноскопистом. А для этого прежде всего ты должен быть историком».
«Сегодня у нас конкурс банальностей», — буркнула Майя Иванец.
«Майя, не мешай», — сказала Эльжбета, которая, как я уже понял, исполняла роль председательствующего.
«Так вот, стажер, деньги — это особые знаки, которые служили…» «Вспомнил», — сказал красный как рак Гурам.
«Итак, — продолжал Жоао, — они отправились в двадцатый век в Москву без денег, что само по себе совершенно недопустимо…» «Как называлась ваша денежная единица? — спросил шепотом Прокоп. — Я, как Гурам, забыл, представляешь…» «Рубль».
«Спасибо».
Сообразив, что они не имеют денег, Соня и Сергей все же направились в магазин и совершили двойное нарушение правил хроноскопии: они использовали приемы, недоступные аборигенам, и нарушили их законы.
«Пусть лучше Сергей расскажет, что произошло в магазине», — предложил адвокат Бруно Казальс.
«Хорошо, — согласился Жоао. — Сергей, расскажи».
«До сих пор не понимаю, как у нас с Соней вылетели из головы деньги. Тем более что все равно мы должны были приготовить одежду. Когда мы решились на пробой, я попросил хронокомпьютер подобрать нам стандартную одежду для двух молодых людей в Москве летом тысяча девятьсот восемьдесят шестого года. Что стоило заказать еще и денег… Но я был как в тумане…» «Почему?» — спросил адвокат в красных шортах, закидывая длинную волосатую ногу на другую.
«Я люблю Соню…»
«Это все знают», — нетерпеливо сказала Эльжбета.
«Все, может быть, и знают, — согласился Сергей со вздохом, — но мне казалось, что Соня этого не знает. «Ты, Сережа, — говорила она мне, — меня совершенно не любишь». Раз она сказала: «Если ты действительно любишь меня, ты должен выполнить мою просьбу». — «Какую?» — спросил я. «Нет, ты сначала обещай». И посмотрела при этом на меня таким взглядом…» «Каким?» — спросил с улыбкой Жоао.
«Протестую, — вскочил адвокат в шортах. Стоя, он походил на баскетболиста, он был, наверное, метров двух ростом. — Взгляд девушки на своего поклонника отношения к делу не имеет».
«Увы, имеет, друг. Именно из-за таких взглядов и совершаются…» «Друзья, коллеги, такую банальность не могу вынести даже я, — сказала Эльжбета, — а я, как вы знаете, большая поклонница банальностей, общих мест и особенно клише. Роль их в истории цивилизации, кстати, не оценена должным образом и по сей день. Но продолжай, Сережа».
«Короче, — вздохнул Сергей и повесил голову, — я согласился совершить несанкционированный пробой к ее дедушке, то есть не дедушке, а прапра…» «Мы еще дойдем до этого, а сейчас расскажи, что было в магазине».
«Значит, идем мы с Соней по улице, и она говорит, что нужно бы купить ее предку что-нибудь, что в то время неудобно было навещать людей с пустыми руками. Когда Соня сказала «купить», меня словно что-то кольнуло. Я ведь знаю, что это такое. И сообразил, что денег-то у нас нет. Но Соне я ничего не сказал».
«Почему?» — спросил Жоао.
«Мне… было жалко ее. Она была так возбуждена, такие у нее были веселые глазки…» «Друг Сергей, — улыбнулась Эльжбета, — если ты начнешь перечислять, что именно тебе нравится в Сонечке, боюсь, мы никогда не кончим».
«Хорошо, молчу. Ладно, думаю, что-нибудь сообразим. В этот момент мы проходили мимо магазина «Овощи-фрукты» на широкой такой улице…» «Ленинградский проспект», — подсказала Соня.
«Да, Ленинградский проспект. Мы зашли. В магазине было много народу, и мы не сразу сообразили, что там происходит. То есть все элементы ситуации были нам знакомы по различным историческим документам: очередь, сумки, толкотня, деньги, кассы, вся эта экзотика, но когда мы оказались внутри самой ситуации, мы просто растерялись. Настолько растерялись, что остановились перед суровой девицей, которая пропускала покупателей — так тогда назывались люди, пришедшие в магазин, — порциями по несколько человек.
«Чего вы стоите? — довольно резко спросила она. — Туда или сюда».
«А…» — растерялся я.
«Бэ-э… — зло передразнила она меня. — Нужны апельсины — проходите, молодой человек, не задерживайте других!» От растерянности я поднял мысленным усилием пакет с тележки, стоявшей за девушкой, направил его к себе. Но я, признаться, плохо соображал, что делаю, потому что пакет задел за белую шляпку какой-то старухи, и старуха завизжала:
«Это до чего ж мы дожили, апельсинами швыряются, окаянные».
Девица в халатике сначала открыла рот и молча глядела, как пакет плыл ко мне в воздухе, а потом закричала:
«Не имеете права!»
Я окончательно растерялся, запаниковал. Мне надо было, конечно, отдать пакет с апельсинами девушке и извиниться, но я зачем-то приподнял ее в воздух, она схватилась за юбку, крикнула: «Ой!» В очереди зашумели, загалдели. Кто-то кричал:
«Отпускайте побыстрее, а не летайте!» «Они не только летать, нырять будут, только не работать!» «Это что же такое?»
«Надо жаловаться».
«Цирк устроили».
«Кио».
Что такое «Кио», я не знал, испугался, сдвинул локальную временную секвенцию на несколько минут, и мы с Соней бежали из магазина».
«Вот видите, друзья, как это было опасно, — сказал Жоао. — Конечно, если бы продавцы магазина заявили, что у них уплыл по воздуху пакет с апельсинами, это посчитали бы глупой шуткой. Но вдруг в очереди был бы человек с фотоаппаратом, и он успел бы сфотографировать пакет в полете — это было бы уже некое доказательство…» «Чего? — спросил баскетболист. — Что апельсины могут летать? Что в магазине… как это называется… когда недостает…» «Недостача», — не удержался я, и Прокоп гордо посмотрел на присутствовавших, словно я был его учеником.
«Спасибо, — поклонился мне баскетболист. — Недостача».
«И все равно, Сергей нарушил правила пробоя, — сказал Жоао. — И это недопустимо. Хорошо, что на этот раз все как будто обошлось благополучно, но…» «Прости, друг Жоао, — опять встал баскетболист в красных шортах. — Если вы помните, друзья, когда-то богиня правосудия изображалась с весами в руках. Символ прост: любой акт правосудия напоминает взвешивание. На одной чашке деяние, на другой — законы, — обстоятельства, побудительные причины и так далее. Да, мой друг Сергей пошел на нарушение правил пробоя, да, он не испросил разрешения и не согласовал пробой с графиком работы станции в Хараре. Груз на этой чашке ясен. Но почему? Что двигало им? Взгляд любимой девушки и ее просьба — разве они не перевешивают все правила и инструкции…» «Браво, — сказала Майя Иванец. — Это уже банальность, переходящая в поэзию».
«Судебная поэзия девятнадцатого-двадцатого веков, — сказал тощенький Гурам. — Смотри работу профессора Чебоксарского университета Петра Шишлянникова».
«Стажер показывает когти и эрудицию, — кивнула Эльжбета. — Так их, Гурамчик».
«Ах, коллеги, коллеги, — покачал головой высокий Бруно, — вам все шутки».
«И прибаутки», — выкрикнула Майя Иванец.
«Отлично, с шутками, с прибаутками, но давайте спросим Соню, что заставило ее просить Сергея».
«Спросим, — согласился Жоао. — Соня, расскажи нам».
«Хорошо, — сказала Соня. — Я начну с самого начала. Недавно я ездила к отцу, он живет в Находке, скрещивает там разных рыб, кого с кем именно, я так и не запомнила, но это неважно. Он мне говорит:
«Дочурка, я тебе подарок приготовил».
«Какой?» — спрашиваю.
«Перебирал на днях старые вещи и нашел старинную лоцию. Вы, историки, ведь обожаете старые книги».
Лоция и действительно была старая, издана более двухсот лет назад в Советском Союзе. Хотя я историей мореходства никогда не занималась, я все-таки перелистала ее. И нашла в ней старинный конверт, адресованный штурману корабля «Константин Паустовский» Александру Семеновичу Данилюку. Нетрудно было догадаться, что он был владельцем лоции. Но ведь Данилюк — фамилия моего отца, стало быть, Александр Семенович — наш предок».
— У меня сердце сжалось при ее словах, — сказал Владимир Григорьевич своим слушателям, — хоть и не первый раз слышал я о неотправленном моем и все же полученном внуком письме, а все равно сжалось. Я этого письма не отправлял и знал, что не сделаю этого. Значит, значит… его отправили Сашке после… моей смерти. Но почему обязательно смерти, перебил я в негодовании сам себя, почему его не переслали внуку после моего исчезновения? Резонно, резонно…
Соня тем временем продолжала:
«Конверт пожелтел, высох, адрес выцвел, но письмо, написанное дрожащим почерком — я сразу подумала: его писал старик, — прочитать было можно. И я прочла его. Его действительно написал старик, глубокий старик по понятиям того далекого времени, дедушка штурмана. Ему было много лет, он был болен, он находился в Доме для престарелых, и, кроме внука-штурмана, у него не осталось никого из родных и близких. Нет, не подумайте, что он жаловался, сетовал на судьбу или что-то подобное. Наоборот, чувствовалось, что старик старался изо всех сил, чтобы его письмо не получилось слишком грустным, но все равно оно потрясло меня. Столько в нем было печали, смирения, столько одиночества. Мне показалось, что оно адресовано вовсе не штурману, а мне, этот немой крик о помощи. Повторяю, друзья, он не жаловался, мой далекий предок, нет, не ныл. Он даже пытался шутить, описывая, как путешествует при помощи бинокля, когда сидит летом у открытого окна. Но все равно горе, печаль стариковского одиночества, неизбежный и скорый конец впереди и жалкие и одновременно прекрасные усилия сохранить при этом мужество и юмор — все это так сжало мне сердце и горло, что я разрыдалась.
Я, молодая, с сильным загорелым телом, занятая любимым делом, чувствующая поминутно на себе ласкающий взгляд человека, который меня любит, я, живущая в светлом, легком, беспечальном мире, мире, полном друзей, мире без немощной старости, в мире без неминуемой смерти, что когда-то нетерпеливо подкарауливала жертвы на каждом шагу, я вдруг почувствовала острый, невыносимый стыд. Конечно, я понимала, что ничем не провинилась перед далеким предком. Но ведь крик о помощи через прикушенные губы относился и ко мне.
Я отдавала себе отчет, что у каждого века своя школа горя и радости. То, что печалит нас сегодня, показалось бы, наверное, нашим предкам смехотворным. Люди двадцатого века, не говоря уже о предыдущих, жили в гораздо более суровом мире, чем наш мир. Наверное, они были терпеливее нас, смиреннее. Наверное, они были большими стоиками. А может быть, и мужественнее нас. Иначе они бы не выжили.
Но это ничего не меняло. Все равно это было отчаяние, пусть с ним и боролись смиренным мужеством. Я думала о прапрапрадедушке все время. Это стало как наваждение. Я пыталась представить себя на его месте: одна, тяжко больная, дряхлая, ждущая конца.
Ждущая конца! Умом я понимала смысл этих слов. В конце концов смерть отступила от нас не так давно, чтобы мы забыли, что это такое. Но сердцем… Как вообще можно представить, чтобы кто-то или что-то насильно отнимало у тебя друзей, небо, облака, смех, работу, подсовывая взамен ничто, черную пустоту, абсолютный ноль, конец движения.
Не знаю уж, мы ли стали такими слабыми или наши предки были такими сильными, но то, что дедушка штурмана Владимир Григорьевич Харин нес с таким кратким и тихим мужеством, для меня оказалось непосильным бременем.
Я просто не могла не думать о человеке, написавшем это письмо. Все время. И все время представляла себя на его месте. И мне становилось так страшно… Какой-то древний, забытый давным-давно страх подымался откуда-то, и мне хотелось кричать, выть в такие минуты. Я попросила Сергея… впрочем, остальное вы все знаете. И как бы вы ни наказали нас — а мы заслуживаем наказания, вернее, я, а не Сергей, — все равно я нисколько не буду жалеть о проступке, потому что вон сидит мой любимый прапрапрадедушка и плачет. И я плачу вместе с ним».
Прокоп погладил мою щеку, достал из каких-то глубин своего эстрадного комбинезона платок и вложил мне в руку. И во время. Слезы текли из глаз, как два фонтанчика, и Соня, милая Соня, расплывалась в радужном окаймлении.
«Спасибо, Соня, — сказала Эльжбета и громко, совсем по-ребячьи, шмыгнула носом. — Прокурор, ваше слово».
«Подведем итоги, — сказал Жоао. — На одной чаше весов лежат нарушенные инструкции, нарушенные грубо и, я бы сказал, вопиюще. На другой — сострадание и жажда помочь ближнему. Обвинение предлагает сделать Соне и Сергею внушение и выразить им общественное восхищение».
«Протестую! — крикнул адвокат. — Ты забыл добавить и благодарность».
«Ура!» — крикнула Майя Иванец.
«Ура!» — подхватил тощенький Гурам, поднялся в воздух и сделал плавное сальто.
«И выразим наше восхищение и нашу любовь дорогому другу Владимиру Григорьевичу», — сказала Эльжбета, засмеялась, тряхнула упрямо головой, поднялась в воздух и медленно, солидно, как дирижабль, подплыла ко мне и поцеловала меня в висок, точь-вточь как на известной картине Марка Шагала.
«По-моему, тебе нужен еще один платок», — прошептал Прокоп.
Как всегда, он был прав.
И вот я снова один в своей круглой комнате. Всетаки, друзья мои милые, сердца наши очень прочны. Не верил я, что может оно выдержать тот водопад чувств, что обрушился на меня во время суда. А оно продолжало биться.
Прокоп почувствовал мою усталость. Меня провожала сюда вся станция. Все смотрели на меня и все излучали такое участие, такую любовь, что я буквально разогревался в этом напряженном поле симпатии.
Я отдышался немного, лег на свою чудо-кровать и — о, вечное мое детское любопытство! — нажал на этот раз на символ, похожий на экран. Тут же раздался тихий голос:
«Что вы хотите? Назовите».
«Последние известия», — сказал я.
«Хорошо», — ответил сразу со всех сторон все тот же приятный мужской голос, и прямо передо мной возникло изображение. Я был настолько поражен самим изображением, что не мог даже понять, что именно я вижу. Передо мной было окно в мир, настоящее, абсолютно настоящее трехмерное окно в мир, яркое, живое. Я знал, что несколько секунд назад здесь была стена, но чувства мои отказывались этому верить. Чувства были сильнее знания.
В окне показались три человека, две женщины и мужчина. Они склонились над приборами, похожими на компьютеры. Голос пояснил:
«Группа специалистов из Саранского университета считает, что они нащупали путь к расшифровке так называемого Марсианского камня. Они не сомневаются, что этот текст был выжжен на камне около двадцати тысяч лет назад некой космической экспедицией, посетившей Красную планету. Ученые считают, что для полной расшифровки им понадобится еще две или три недели».
В окне появился уже знакомый зал, где только что судили Соню и Сергея. Камера показала Соню, потом меня, причем в тот самый момент, когда я вытирал платком Прокопа глаза.
«Заканчивается первый день пребывания в нашем времени человека из двадцатого века Владимира Григорьевича Харина, — рассказывал диктор. — Сегодня он присутствовал на бурном заседании суда на Московской хроностанции. Суд постановил сделать внушение двум сотрудникам станции Софье Данилюк и Сергею Иванову, которые самовольно отправились на двести лет назад, чтобы доставить к нам родственника Софьи Владимира Григорьевича Харина, и выразить им одновременно общественное восхищение и благодарность.
Драматург из двадцатого века должен в ближайшие дни решить, остается ли он в двадцать втором веке или возвращается в свой двадцатый».
Гм, не думал, что я выгляжу столь благопристойно.
Почтенный старик, благородный отец, если пользоваться амплуа старого театра. На экране тем временем появился тощенький, пошатывающийся, как после выпивки, страусишко.
«Ученым кенийского биоцентра удалось впервые воссоздать огромного африканского страуса — эпиорниса, исчезнувшего еще в девятнадцатом веке. Вы видите новорожденного, которого крестные отцы нарекли Крошкой».
«Продолжается пребывание на Земле посланцев планеты, которую двадцать два года назад впервые посетили наши космонавты. Как известно, мы решили называть ее для себя планетой Королева, поскольку обитатели планеты используют для общения между собой колебания особого поля экс, которые не имеют эквивалента в земных языках, и их собственное название планеты можно выразить лишь математическими символами».
В окне показался небольшой аквариум, в котором плавали полупрозрачные бесформенные существа. Перед аквариумом сидели несколько почтенного вида людей и оживленно беседовали с амебами. При этом они, очевидно, пользовались каким-то переводным устройством, которое походило на передвижной аппарат для снятия электрокардиограммы. На стенках аквариума были видны многочисленные присоски с разноцветными проводами, которые шли к аппарату.
Внезапно окно захлопнулось, исчезло, и голос моего инфоцентра сказал:
«Мы очень сожалеем, но следующую страницу в выпуске новостей вы посмотреть не сможете, поскольку она содержит информацию, которая не может быть передана в двадцатый век».
Что делать, пожал я плечами. Увижу каких-нибудь амеб в дипломатических фраках в другой раз. Я протянул было руку к знакомому символу, который уже раз усыпил меня мягким покачиванием, плеском волн, скрипом переборок, криком чаек, но не нажал на него, потому что, очевидно, задремал. А проснулся из-за слов:
«Вы сегодня немножко не в духе…» Голос был женский. Наверное, это Соня пришла ко мне. Я открыл глаза и повернулся, чтобы обнять внученьку, но ее не было, и мужской голос ответил:
«Может быть. Я сегодня не обедал, ничего не ел с утра…» Что за чертовщина? Я сел в кровати. Да это же мое окно в мир продолжало светиться.
Казалось, все, перерасходовал я свой запас удивления, но нет, оказывается, был еще во мне какой-то неприкосновенный запасец, потому что я почувствовал, как отвисает у меня челюсть, сейчас шмякнется о пол. Видел я в окне… и сейчас язык поворачивается с трудом… Увидел знакомое мужское характерное лицо, да и женское лицо было знакомым, я знал, чувствовал, что видел эти лица, но память испуганно отказывалась включаться.
«…У меня дочь больна немножко, — продолжал знакомый человек в военной форме, — а когда болеют мои девочки, то мною овладевает тревога, меня мучает совесть за то, что у них такая мать. О, если бы вы видели ее сегодня! Что за ничтожество! Мы начали браниться с семи часов утра, а в девять я хлопнул дверью и ушел».
Боже, это же пьеса, сообразил я. Безумно знакомая пьеса, знакомые слова. Сейчас, сейчас я все вспомню. Я почувствовал, как название уже подымается к поверхности памяти.
«Я никогда не говорю об этом, и странно, жалуюсь только вам одной. Кроме вас одной, у меня нет никого, никого…» Актриса тихонько прошептала:
«Какой шум в печке. У нас незадолго до смерти отца гудело в трубе. Вот точно так».
В голове моей, точно дельфин на поверхность моря, выпрыгнуло: господи, да это же «Три сестры»! Это же Вершинин и Маша!
И вспомнил я по одной только реплике: какой шум в печке. Чехов, только гений Чехова мог столько запрессовать во вздорные, в сущности, чепуховские слова.
«Вы с предрассудками?» — продолжал Вершинин, и тут второй дельфин выпрыгнул на поверхность моего оцепеневшего сознания:
«Это же… это же Станиславский».
— Как Станиславский? — нахмурился Константин Михайлович. — Станиславский ставил…
— При чем тут ставил? — Владимир Григорьевич сделал паузу, усмехнулся и продолжал: — Константин Сергеевич играл Вершинина.
— Володенька, — вздохнула Анечка, и видно было, что ей не хотелось уличать Владимира Григорьевича в выдумках, но не могла она сдержаться. — Володенька, если я правильно помню, Станиславский играл Вершинина, когда и кино-то не было…
— Я тоже так думал, — почему-то торжествующе кивнул Владимир Григорьевич, — но еще более невероятным было то, что Машу играла… Алла Константиновна Тарасова!
— Абер дас ист… — сказал Константин Михайлович, и Ефим Львович добавил:
— Невозможно.
— Конечно, невозможно, — кивнула Анечка и вздохнула. — Тарасова играла Машу в сороковых годах, я прекрасно ее помню. А Станиславский — лет на сорок раньше, если не больше.
— Согласен, милые друзья, согласен. И я знал, что они никогда не играли вместе. И знал к тому же, что не могли их снять в цвете, с фантастическим стереоэффектом. И тем не менее колдовство продолжалось, чеховское колдовство.
«Когда вы говорите со мной так, — тихонько засмеялась Тарасова, — то я почему-то смеюсь, хотя мне страшно…»
Через несколько минут я стряхнул с себя оцепенение и почувствовал, что, если тут же не получу ответа, просто сойду с ума. До сих пор все виденное в двадцать втором веке было фантастично, но по-своему логично. А здесь… Я вспомнил, как Прокоп обращался к инфоцентру.
«Вы можете ответить мне на вопрос?» — неизвестно кого спросил я, чувствуя себя идиотом.
«Конечно», — ответил приятный мужской голос, и невероятные Маша и Вершинин замерли.
«Каким образом в одной сцене участвуют актеры, которые никогда не играли вместе, и каким образом они вообще оказались на… экране, когда их так снять не могли хотя бы из-за того, что в их время не было ни телевидения, ни цветного кино».
«Вы видите постановку «Трех сестер» с участием звезд Московского Художественного театра, осуществленную в 2151 году к двухсотпятидесятилетию премьеры».
«Да, но…»
«Постановка создана методом компьютерного синтеза».
«Что это?»
«По фотографиям, кинокадрам, воспоминаниям, письмам театральный компьютер синтезирует, воссоздает физический и духовный образ актера, его голос, а режиссер ставит спектакль так же, как с живыми актерами. Мы показываем вам «Три сестры» по просьбе Прокопа Фарда. Разрешите продолжать?» Не знаю, наверное, ко всему нужно привыкнуть, но я еще явно не был готов к технике двадцать второго века. Что-то мне почудилось святотатственным в этом вызове духов, хотя, повторяю, я понимал, что скорее всего не прав.
«Нет, — вздохнул я. — Не нужно».
Конечно, если это всего-навсего нечто вроде усовершенствованного мультфильма, это одно дело. Ну, а если электронные привидения, вызванные из небытия всемогущим компьютером, осознают себя? Мысль эта заставила меня зябко поежиться: я представил, вернее, попытался представить себя в виде электронного облачка в машинных потрохах… Бр-р! Но тут же успокоил себя, не волнуйся, тебя-то уж наверняка воссоздавать не будут, дух твой не вызовут, спи спокойно, дорогой Владимир Григорьевич Харин, второразрядный драмодел середины двадцатого века.
Вместо этого я нажал на символ, в виде двух цифр и знака плюс, 2+2, и коснулся его.
Мой центр мелодично тренькнул и сказал:
«Вычислитель к работе готов, жду задания».
«Я прибыл, — сказал я п посмотрел на часы, — девять часов тому назад. Всего мне дано для принятия решения девяносто шесть часов. Изобразите графически сколько мне осталось секунд, минут, часов и суток».
«В статической или динамической форме?» «Динамической».
«Вас устроит схема Яковлева?»
«Покажите».
Снова вспыхнуло яркое объемное окно. На этот раз большую часть его занимала горка, сложенная из камней разного размера. Из боковых камней сыпались песчинки, а внизу светились оранжево четыре группы цифр. В левой группе все время менялась правая цифра, уменьшалась, и я сообразил, что это мой тающий запас секунд. Так и есть. Вот вздрогнула и последняя цифра в следующей группе, и я увидел, что у меня осталось уже не 5220 минут, а 5219.
Ага, горка, очевидно, тоже была сложена из единиц времени. Песчинки, что скатывались с нее — секунды. Вон упал уже камешек покрупнее, должно быть, минута. Если набраться терпения и следить за эрозией и дальше, скоро выпадет и часовой камень.
Будь она проклята, эта динамическая схема неведомого мне Яковлева. Нагляднее не придумаешь. Теперь, даже закрыв глаза, я физически ощущал ток времени, что уносит песчинки секунд, подмывает минуты, сдвигает с места, раскачивает часы.
«Надо решать».
«Все, — сказал я, — хватит. Выключить все».
«Хорошо», — послушно, но с достоинством ответил инфоцентр и бесшумно закрыл на окне ставни.
Я лег на диван. Как и накануне, он принял меня в объятия с довольным вздохом. Почему-то все эти услужливые машины начали потихоньку раздражать меня. То есть все, разумеется, было бесконечно удобно, весь материальный мир, окружавший меня, казалось, только и ждет моих команд, чтобы тотчас же стремглав броситься их выполнять. Казалось, скажи я сейчас «солнце, хватит светить», и оно тут же послушно погаснет.
«Солнце, — сказал я, — хватит светить».
Инфоцентр мелодично звякнул, и голос сказал:
«Хорошо».
В ту же секунду потолок мой и та часть кругового окна, что была в лучах солнца, потемнели. Чертовы автоматы солнце не выключили, но приказ мой выполнили.
А почему, собственно, я должен испытывать к ним неприязнь, подумал я. Чем плохи все эти слуги, что так облегчают жизнь. Ответа не было, во всяком случае разумного ответа. Но нет, пожалуй, он был. Во мне все время шла все та же битва: далекий мой двадцатый век, вы, мои милые друзья, Дом ветеранов, доктор Юрочка, букет стариковских болезней и семьдесят восемь лет продолжали бессмысленное сопротивление ослепительному двадцать второму веку. Что, что мог противопоставить Дом ветеранов победоносному маршу человеческого разума и могущества, что я видел вокруг? Бинокль «фуджи» и рассматривание часами пыльной крапивы под окном? Булькающего Ивана Степановича, взволнованного экономическими реформами? Тебя, Ефим Львович? Я люблю тебя, Фимочка, мы знакомы лет сорок, я прошу тебя не обижаться, но тогда мне казалось, что не мог ты перевесить чашу весов…
— Я и не думаю обижаться, — ухмыльнулся Ефим Львович. — Я понимаю.
— И ты, Костя, пойми меня…
— О чем ты говоришь, — вздохнул Константин Михайлович, — абер дас ист ничево-о. Я бы сам… Да, сам… — Он кивнул и привычно начал нашаривать пуговицы на рубашке.
— И вас, дорогая Анечка, я прошу не сердиться на меня.
— А я и не собираюсь, — Анечка улыбнулась светло и победоносно. И вздернула при этом свою крашеную головенку, гордо и независимо. — Для чего? Ведь…
— Спасибо. И позвольте продолжить, друзья. Я понял, что великолепие и суперуютность окружавшего меня мира просто не могли не одержать верх над скромным убогим мирком моих закатных дней. Слишком неравные были силы. Даже рефери на боксерском ринге и тот прекращает бой за явным преимуществом, когда силы и класс соперников оказываются очень уж разными.
Наверное, в большинстве из нас есть хоть какое-то внутреннее чувство справедливости. Большинству из нас было бы неприятно зрелище беззащитного человека, которого награждает тумаками компания здоровенных верзил.
Вот, наверное, почему меня раздражала вздыхавшая кровать, что нежно и сильно массировала мне спину и ждала команды усыпить меня плеском волн; невесть откуда появляющееся ярчайшее и объемнейшее окно в мир, готовое по первому слову показать мне что угодно, от амебоподобных послов до страусенка Крошки; обитатели хроностанции, которые соревновались в доброте и благородстве; даже стосемилетний порхающий Прокоп в эстрадном своем костюме — все они невольно были здоровенными верзилами по сравнению с моим старым мирком. Боже упаси, они никого не хотели бить, они даже не засучивали рукава, наоборот, они все соревновались в благородстве и тактичности, по крайней мере, люди, но все равно силы в битве были непристойно неравны.
Надо было прекратить избиение. Пора было моим воспоминаниям выкинуть полотенце и признать поражение. Скажу Прокопу, твердо решил я, что незачем нам обоим присутствовать при жестоком побоище. Все. Хватит. Сейчас вздохну поглубже и испытаю мгновенное облегчение от принятого решения, от избавления от рабства лет и болезней. Что говорил Прокоп о выборе? Чем развитее общество и цивилизация, тем больше выбор у человека. Истинно так. Кожа моя разгладится и снова станет упругой, впитает солнце, мышцы нальются забытой силой, разогреются давно остывшие эмоции, я буду смеяться беззаботно и кувыркаться макакой на трапеции, ведя философские беседы о бесконечности Вселенной. Может быть, я напишу даже пьесу. Бесконечно прекрасную и глубокую. Которую так и не сумел сочинить в суетных своих прошлых буднях. И играть в ней будут великие актеры разных лет, разных эпох. Может быть, я даже сам поставлю эту пьесу. Мне и раньше приходила в голову эта мысль, как, наверное, и любому автору пьес. Но я знал, что такое актеры, видел, как нелегко складываются порой отношения актеров и постановщика, и понимал, что никогда не смог бы выйти с бичом в руках к группе смешанных хищников. Так, Костя?
Константин Михайлович, коротко взмахнул рукой, как будто раскручивал над головой бич, улыбнулся, кивнул:
— Абер дас ист ничево-о…
— С электронными фантомами, — продолжал Владимир Григорьевич, — наверное, легче. Может быть, с живой Марецкой я бы не справился, но с синтезированным, так сказать, бесплотным духом… Но нет, поправил я себя, если фантом — точная копия, от этого его характер покладистее не станет.
А может, я стану профессором русской литературы двадцатого века, и хохотушки-студентки будут смотреть на меня влюбленными глазами и шептать: представляете, он знал самого Василия Гроссмана. А может, я стану штурманом космоплана и облечу все небо, чтобы найти, куда попадают после нас лучшие наши воспоминания…
Я вышел на улицу, и в который уже раз упругий травяной газон наполнил мою душу мистической радостью. Я пошел по направлению к темной полоске леса, что казалась театральной декорацией, заменявшей горизонт.
А может, хватит с меня счастья идти вот так по траве, ни о чем не думая, ни с чем не сражаясь, ни о чем не мечтая.
Впереди с легким жужжанием ползла большая оранжевая черепаха. Я подошел к ней.
«Простите, — сказала черепаха, — я газонокосилка два-одиннадцать, подравниваю лужайку. Разрешите, я объеду вас?» «Объезжай», — вздохнул я.
А что скажет мне тот театральный лес, если я дойду до него? Здравствуйте, я лес номер три дробь пять, создаю тень и выделяю кислород, разрешите покачать ветками?
Не получался у меня почему-то праздник души, вон даже хохотушки-студентки не расшевелили. Я пошел обратно. А может быть, я уже утратил способность радоваться жизни? Может быть, мне придется явиться в центр психокорректировки и попросить сделать мне инъекции оптимизма и дать пилюли для душевного веселья?
О, господи, вздохнул я, когда же кончатся мои рефлексии? Господь, как обычно, ничего не ответил. Очевидно, он не считал мое душевное смятение вопросом первоочередной важности. А может, просто помощники не докладывали ему мои просьбы.
В комнате меня ждала Соня.
«Дедушка, — сказала она, — дедушка…» «Что, дочка?» «Мне показалось, ты был грустный…» «Я! Грустный?» «Да. Может быть, ты сердишься на меня?» — Она посмотрела на меня, моя далекая прапрапраправнучка, и глаза ее были испуганные и нежные. Она, казалось, ласкала меня взглядом.
«За что ж я могу сердиться на тебя, девочка?» «Не знаю… Может быть, за то, что я вторглась так… неожиданно в твою жизнь…» «Но ведь ты хотела мне добра. Когда ты говорила давеча на суде, я даже не мог сдержать слез…» «Я видела. Не знаю, дедушка. Я так мало знаю, мало пережила и так мало понимаю. Бывает так, что люди сердятся, когда кто-то вторгается в их жизнь, даже для того, чтобы помочь им?» Милый мой трогательный потомок, милый мой проницательный потомок, подумал, я, каким же чувствительным прибором бывает любящее, доброе сердце.
«Я не сержусь на тебя, Сонечка. И обещаю тебе, что что бы со мной ни случилось, в последний свой сознательный миг я подумаю о тебе с признательностью и любовью».
«Спасибо, дедушка. — Она обняла меня и поцеловала в щеку слегка шершавыми теплыми губами. От нее пахло солнцем, водой, молодостью. — Ничего, что я называю тебя дедушкой? Может, тебе это неприятно?» «Господь с тобой, доченька…» Она внимательно посмотрела на меня и наморщила милый свой лобик.
«Это бог. Когда-то ведь люди верили в бога, вот и остались эти слова».
«А, да, да. Я знаю, что такое бог, я читала. Наверное, он был как наш идеал».
«Идеал?»
«Прости, дедушка, так трудно все время помнить, что ты из другого мира и не знаешь того, что кажется нам само собой разумеющимся. Идеал…» «Я знаю, что такое идеал».
«У вас тоже были идеалы?»
«Конечно. Не у всех одинаковые, не у всех достаточно достойные, но были. Когда я был совсем еще мальчишкой, мои идеалом был мой соученик. Его звали Ленька, а кличка была Китаец. Он поразительно умел плевать сквозь зубы: заряд слюны вылетал из его рта с восхищавшим меня цыканьем, и он мог попасть в цель метра на два, если не на три. Кроме того, он не просто курил, он умел выпускать дым кольцами. Кольца были круглые, туго свитые, и он заставлял каждое следующее пролететь сквозь предыдущее. К тому же он был физически сильным мальчишкой, а я — щупленький цыпленок, и его покровительство придавало мне вес не только среди остальных ребят, но даже в собственных глазах.
Школа наша была во дворе старинного монастыря, расположенного на холмике, и я иногда выходил на остатки крепостной стены, смотрел вниз на площадь и выпячивал свою узенькую грудку, потому что воображал себя под покровительством Леньки всесильным…» «Как смешно ты рассказываешь. Значит, ваши идеалы были живые?» «Не обязательно. Иногда это были литературные герои или подлинные люди, но жившие раньше».
«Но как вы тогда с ними разговаривали?» «С идеалами?» «Да».
«Никак, разумеется».
«Как странно. А мы все время мучаем наши идеалы расспросами, спрашиваем совета, рассказываем о наших делах».
«И они отвечают?»
«А как же, конечно. На то они и идеалы».
«Кто же они, ваши идеалы?»
«О, у каждого свой идеал. Мой идеал, например, это Ксения Сурикова».
«Кто это?»
«Ах да, какая я действительно глупая! Ксения Сурикова была врачом на Второй марсианской станции. Однажды там неожиданно вспыхнула неизвестная эпидемия. Она не оставила заболевших, была с ними до последней их минуты».
«И что с ней случилось?»
«Она погибла с ними, хотя в любой момент могла покинуть станцию».
«И ты с ней разговариваешь?»
«Конечно».
«Как же?»
«Мы вводим наши идеалы в компьютер, все, что известно о них, и когда нам нужно, компьютер воссоздает наш идеал. Я не хотела говорить об этом на суде, это моя тайна, но перед тем, как уговорить Сергея сделать пробой и отправиться к тебе, я советовалась с Ксенией».
«И что она сказала?»
«Она сказала: «Плюй на инструкции, деточка». Она почему-то всегда зовет меня деточкой».
Я кивнул. Ксения Сурикова вполне могла быть и моим идеалом. Что за мир…
«Ну, и, конечно, у нас есть наш общий идеал!» «Общий идеал?» «Да, общий. Все наши личные идеалы синтезируются специальным компьютером в общий. Это уже не конкретная личность, как моя Ксения Сурикова. Это абстрактный идеал».
«Что значит «абстрактный«?»
«Этот идеал — не личность, не человек, пусть даже созданный компьютером. Это общая идея. Это наш общий знаменатель, если так можно выразиться».
«И вы к нему обращаетесь?»
«А как же! Когда трудно, когда смутно на душе, когда одолевают сомнения, когда личный идеал не приносит успокоения, мы обращаем наши мысли к нему».
«И он… помогает?»
«А как же, дедушка! Его слова подобны спокойному грому, как сказал один наш знаменитый поэт. Потому что слова рокочут, они сложены из миллионов наших идеалов, наших мыслей, знаний и чувств. Он всегда придет на помощь, всегда, но с самого раннего детства нас учат звать его только тогда, когда действительно трудно».
«Почему?»
«О, это часть нашего сознания. Он не может говорить сразу со многими, у него всего лишь тысяча каналов, а нас миллиарды. Мы обучены всегда уступать ближнему, и даже малые дети знают, что, заняв канал к Общему, мы заставляем ждать других… Это… я не знаю, дедушка… Это как бы наша натура. Обеспокоить Его по пустяку — все равно как… как украсть что-то… Украсть у кого-то, кому это действительно нужно».
«Я понимаю…» — сказал я. Новый виток человеческой спирали. Человечество экономно. Нужные идеи оно не выбрасывает, оно лишь подымает их на достойную себя высоту.
«Ты не устал?» — Соня посмотрела на меня, поптичьи склонив головку на плечо.
«Нет, милая деточка. Можно и я так же назову тебя?» «Конечно. Если ты не устал, я хотела показать тебе дерево».
«Дерево?»
«Никак не могу запомнить, как правильно: генеалогическое древо или дерево. Я попросила компьютер обыскать все архивы. Представляешь, какая это долгая работа, проверить все нужные архивы за двести лет. Ведь уже к концу вашего века большинство данных начали вводить в компьютерную память. Сейчас посмотрим, что получилось. — Она нажала кнопку, вспыхнуло окно. — Заказанное генеалогическое древо. Или дерево, если готово».
«Пожалуйста, — сказал инфоцентр. — Готово».
На экране начало расти, ветвиться дерево. Через несколько секунд оно заняло все окно. Я рассматривал его с замиранием сердца. Вот основание. Я прочел: Харин Владимир Григорьевич, родился в 1908 году. Даты смерти не было. Или добрый компьютер решил пожалеть меня или… или я еще не умер, и сейчас, в 2173 году, мне… мне… 265 лет? И тут меня осенило. Нет, конечно же, компьютер просто выполняет приказ, не давая мне сведений, которые я не могу взять с собой обратно. Да, наверное, дело в этом. И тем лучше. Не хотел я видеть дату своей смерти, какой бы ни была эта дата. Есть вещи, которые лучше не знать. А может, я все-таки и не умер?
Удивительно было ощущение, что рядом, совсем рядом уже давно решена и зафиксирована моя судьба, известно мое решение, которое я еще не принял. Может быть, борения в моей душе — пустой пшик? Может, никакой свободы выбора у меня и нет, а есть лишь иллюзия его? Но ведь есть, есть! Могу я сейчас встать, выскочить на упругий зеленый газон, подпрыгнуть, как молодой жеребенок, тряхнуть головой и заорать: «Прокоп! Я решил! Я…» А что я? Что решил? Ведь ничего я не решил еще, как бы нелепы и жалки ни казались мои смятенья.
Вот, в метре от меня росло на экране дерево. Харин Владимир Григорьевич. Я. И в нем тайна моей жизни. Может быть, я давно уже умер, то есть умер по календарю. Потому что нить моей жизни еще не порвалась.
Что вам сказать, друзья мои милые, смутно мне было на душе от близости и одновременно недоступности этой тайны. На мгновение я ощутил время не как единый рокочущий неукротимый поток, а как множество ручейков, все вместе дающие силу времени.
Я вздохнул и оторвался от Харина. Я физически вдруг осознал себя частью невыразимо большего, чем я, мира. Малой частицей, которая лишь в животном своем невежественном эгоизме пытается втащить весь мир в себя, раздуть себя до размеров мира.
И стало мне печально и легко. Я был всего-навсего частицей мира, даже частицей дерева. Не более того.
А рядом… Рядом вторая жизнедающая ветвь: Харина Надежда Александровна, урожденная Крюкова, родилась в 1920 году, умерла в 1962 году. Бедная моя Наденька, так и осталась для меня навсегда молоденькой и смешливой.
Наденька и я дали побег: Валентина Владимировна Харина, родилась в 1941 году, умерла в 1977 году. Ах, дочка, дочка, ну что тебе вздумалось идти на обгон на крутом подъеме, была бы у меня в старости опора. Сколько бы тебе было сейчас, милая? Нет, конечно, не в этом дурацком 2173-м, а в моем 1986 году? Сорок пять лет всего? Совсем была бы молодой женщиной…
А это кто еще, что за Данилюк Семен Олегович? О, господи, это же Сашкин отец, которого я не видел… конечно, двадцать с лишним лет, с того самого момента, когда выгнала его дочка. Бог с ним. Когда он умер? В 1996 году.
А вот и Сашина веточка, милого моего внучонка с пиратской рыжей бородой. 1962 год — год его рождения. Год, когда я впервые увидел это нелепое краснофиолетовое тельце, что со временем превратилось в Сашку. Да, Саша умер в 2054 году, значит, значит, девяноста двух лет. Что ж, Сашенька, я рад за тебя, ты многое увидел, ты успел жениться. Вот и веточка его жены, Ольга Васильевна Сущева, 1963 года рождения, а умерла тоже в 2054 году, наверное, погибли они вместе в какой-нибудь катастрофе.
Саша и неведомая мне Оля дали жизнь двум детям: сыну Владимиру, который родился в 1994 году, и дочери Елене, появившейся на свет в первый год двадцать первого века. Не в мою ли честь назвали они своего первенца? Володя… Жизнь его была короткой, правнука моего не стало в 2031 году.
«Он погиб в космической катастрофе», — сказала Соня.
«Неужели правнучка моя еще жива?» «Конечно, — улыбнулась Соня. — Евгении сейчас… 142 года. Евгения Александровна воспитательница в детском саду. Почему ты усмехнулся, дедушка? Это очень почетная профессия. Почему ты улыбаешься?» «Прости, Сонечка, так трудно привыкнуть к вашей шкале ценностей. Наши воспитательницы детских садов, увы, таким почетом не пользовались. Встретишь, бывало стайку дошкольников на улице или на прогулке — чистые воробушки, а у воспитательницы почти всегда такая скорбь на лице, будто жизни их остались считанные часы».
Я засмеялся, и Соня вопросительно посмотрела на меня.
«Я хотела…»
«Я не об этом, — перебил я ее, — я просто представил себе стопятидесятилетнюю даму в роли воспитательницы…» «Я ее очень люблю, она удивительная женщина: веселая, озорная, даже отчаянная. Ребята ее обожают».
А дерево все ветвилось, густело, крепло. Появлялись праправнуки и праправнучка, женились, выходили замуж.
Пусть дерево и было мультипликационным, но все равно давало оно ощущение вечного и величественного жизненного круговорота.
Я увидел Сонину веточку, милой моей прапрапраправнучки, дорогой моей проводницы в новый мир. Я робко коснулся своей старой клешней ее юной ладошки. Она сжала мою руку и нежно погладила ее.
Все было хорошо. Земной шар уверенно несся по древней своей орбите, исправно наворачивая положенный километраж, человечество вынырнуло из темных, опасных туннелей, и люди стали богами.
И путешествовали в пространстве и времени мои гены, и, стало быть, все шло хорошо. И снова испытал я печальное, краткое успокоение живой плоти, исполнившей свое предначертание — исправно передавшей эстафету следующим поколениям и потому освобождавшей место на земле.
И вот снова передо мной схема Яковлева, которую я вызвал на экран инфоцентра. Боже правый, как же изменилась совсем еще недавно геометрически совершенная пирамида, сложенная из единичек времени! Куда делись ее четкие очертания! Как поработала над ней временная эрозия. Сколько уже унес с собой бесконечный поток секундного песка, сколько выпало из ее граней минут и часов, как съежилась, скособочилась пирамида отпущенного мне времени…
А счетчик внизу все плясал со скоростью дервиша, отсчитывая его, это время, и было в мельтешений оранжевых цифр обычное для времени тупое несокрушимое упрямство.
Все, хватит неопределенности. Хватит зажмуривать по-детски глаза, сучить ножками и визжать: не хочу ничего решать. Пора.
Лет семьдесят пять назад, нет, почему же, триста лет назад, я, может быть, и довизжался бы до того, что подошла бы ко мне мама, подняла на руки, и ее теплая грудь, все еще не утратившая для меня своей мистической роли источника жизни, тут же вернула бы спокойствие. Мамы не было. Прижаться было не к кому, и никто ничего не хотел за меня решать. Пора.
Я вышел на улицу. Легкий ветерок нес предвечернюю прохладу и дыхание леса. Я брел по зеленой живой траве, и с каждым шагом сомнения осыпались с меня, как засохшие листья. Мне даже почудилось, что я слышу их шорох.
Как сказать Прокопу? Не надо никаких изысканных и торжественных речей, надо просто сказать: Прокоп, я решил. Я хочу остаться. Старик улыбнется своей детской и мудрой улыбкой, обнимет и поцелует. А может, от постоянной своей экзальтированности поднимется в воздух и сделает пару кульбитов. И скажет: друг Владимир, наконец-то, я не сомневался в твоем решении. Отныне ты не турист с гостевой коротенькой визой, а полноправный гражданин двадцать второго века, и все, чем он богат, у твоих ног. Приказывай, спрашивай, требуй.
И я спрошу… Что я спрошу? Я спрошу, куда деваются после смерти миллиарды миллиардов битов человеческих чувств, памяти, знаний, опыта. Неужели природа, эта скуповатая рачительная хозяйка, которая никогда ничего не выбрасывает, ни материю, ни энергию, ни время, так легкомысленно вышвыривает в какие-то помойные черные дыры эту бесценную информацию?
Наверняка вы знаете ответ. Наверняка вы давно уже вывели великие уравнения, которые связывают не только массу и энергию, но и время, и информацию. Наверное, вы поняли, что не только масса может переходить в энергию, но и другие члены ваших уравнений — друг в друга. Может быть, и миллиарды миллиардов битов человеческих чувств тоже могут переходить в массу и энергию…
Прокоп засмеется и скажет: «О, друг Владимир, все гораздо проще, чем вы думали, и одновременно гораздо сложнее. Теперь, когда ты с нами, ты можешь знать все. Слушай…» Сразу, пожалуй, я писать не буду. Надо осмотреться, познакомиться с их театром. Где-то в самой глубине моего сознания смутно догадывался, что, как бы далеко ни ушли от меня писатели нынешнего века, я обладаю перед ними одним, но, может быть немаловажным преимуществом: я не частица общего потока, я вплыл в него как бы со стороны, я еще полон забытыми ими сомнениями, я несу в себе память другой эпохи, я могу сравнивать. А для писателя это так важно — отстраниться, посмотреть на мир со стороны, удивиться тому, что никогда не видел.
Но это потом, потом. Пусть эмбрион во мне растет неторопливо, потому что в отличие от эмбриона естественного, жестко запрограммированного матушкой-природой, я буду переделывать свой множество раз, прежде чем разрешу ему высунуть на свет божий свою головенку.
Я буду путешествовать. Не в туристской нелепой группе, как когда-то, когда зачем-то понесло меня в Таиланд, не по жесткому графику туристического конвейера, а сам и неспешно, как путешествовали когда-то. Может быть, даже пешком пойду я по этой прекрасной стране, что зовется нашим будущим, по такой вот живой теплой траве, впитывая в себя улыбки людей, облака и приветствия автоматических черепах, что ухаживают за газоном.
«Простите, — сказала мне оранжевая черепаха, и я вздрогнул от неожиданности, — газонокосилка двадвенадцать, разрешите я объеду вас?» «Обожди, черепаха. Скажи мне, ты счастлива?» «Я очень сожалею, но я не понимаю вашего вопроса. Разрешите мне продолжать работу?» «Продолжай, — сказал я. — Если ты не понимаешь вопроса, ты уже счастлива. Ты мудрая черепаха, и я желаю тебе многих лет беспорочной службы».
Должно быть, я казался газонокосилке довольно странным существом, потому что она неуверенно посмотрела на меня своими объективами, даже выкатила их, чтобы получше рассмотреть меня, но не нашла, с чем сравнить в своей памяти болтливого двуногого, и, деловито зажужжав, двинулась дальше.
Кто знает, подумалось мне, а не была ли эта встреча неким предзнаменованием? Не будут ли так же смотреть на меня в тягостном недоумении люди? Какие сомнения, какие воспоминания… Все давно решено, все сомнения развеяны, на все вечные вопросы найдены вечные же ответы, а это живое ископаемое все задает нелепые вопросы, вопросы, давно потерявшие всякий смысл.
Нет, это чепуха, какая-то гаденькая перестраховка. Все те, кого я пока встретил здесь, были людьми чуткими, благодарными, лишенными древней автоматической неприязни к чужаку.
В прежней своей жизни — я поймал себя на том, что так и подумал «прежней жизни» — я не очень жаловал родственников. Никак я не мог заставить себя часами улыбаться какому-нибудь дебилу только потому, что приходился он племянником какой-то тетки, которой я не видел сто лет и нисколько от этого не страдал.
Но теперь я твердо решил, что повидаю всю свою родню, всех своих родственников в двадцать втором веке, пусть даже дальних. Говорить нам, конечно, будет не о чем: а, дедушка, как вы? Привыкли? О, да, вполне, летаю даже, комбинезон вот завел себе переливающийся. А вы как? Спасибо, ничего. С Марса вот только прибыл…
О господи, что мне было делать с моей фантазией. Не бог знает, какая мощная, не бог знает, какая оригинальная, но неутомимая, как бывший мой сосед по Дому ветеранов Иван Степанович в своей борьбе против китайских реформистов и советских кооператоров. Зачем-то я явственно увидел его перед собой с пачкой газет под мышкой. Огромного, несокрушимого. Он остановился и смотрел на меня маленькими своими подозрительными глазками. Я знал, что ни в чем перед ним не виновен, но все равно он внушал мне чувство вины и страха. Всю жизнь я боялся таких непроницаемых, таких настороженных, таких недоброжелательных глаз. А смотрел в них не раз. И всегда возникало во мне тягостное недоумение — мы же люди, мы одной породы, почему же смотрите вы на меня, как удав на кролика? Но потому и были обладатели таких глаз, как правило, начальниками, что они действительно были другой породы. Порой казалось даже, что построены они не из обычной материи, а из антиматерии, не из плоти, а из антиплоти.
Иван Степанович смотрел на меня сурово и осуждающе. Внутри его обширного тела, как обычно, что-то булькало и переливалось, и я подумал, что не может это сложное химическое производство с замкнутым циклом функционировать только для того, чтобы он сомневался в исходе наших и китайских экономических реформ. Должна же, наверное, быть и более высокая цель… Не хотел бы я ею быть…
Иван Степанович неодобрительно хмыкнул, екнул чем-то внутри себя и исчез, а вместо него я увидел Прокопа. Никому уже давно я так не радовался, как этому легкомысленному старцу. То ли торопился я побыстрее сказать ему о своем выборе, то ли устал от бесконечных своих самоедских рефлексий и фантазий, но только я побежал навстречу ему. Да, милые друзья мои, побежал. Ну, может, побежал — это слишком громко сказано, может, нужно было сказать «потрусил», но душа моя помчалась, ринулась к нему.
Не знаю, знакомы ли они с телепатией или просто так чутки к ближним своим, но Прокоп, похоже было, чувствовал мое состояние. Он сам бросился мне навстречу, да так стремительно, что поднялся в воздух и пролетел, наверное, метров десять и заключил меня в крепкие объятия.
И я испытал мгновенное успокоение. На неуловимое мгновение время бесшумно разомкнулось, и я прижался к груди не стосемилетнего старца в радужном костюме, а к маминой теплой груди, которая поглощала и амортизировала все ребячьи горести и которую я только что вспоминал.
«Прокоп, дорогой мой друг, — сказал я и прерывисто вздохнул, — я, кажется, сделал выбор…» «Я чувствовал, друг Владимир, — очень серьезно и — мне показалось — даже печально сказал Прокоп. — Я чувствовал, что твое решение не за горами. Это… знаешь… как бы предчувствие грозы. — Он посмотрел куда-то в сторону и добавил: — Наверное, я покажусь тебе старым осликом…» «Ослом, — сказал я. — Я уже поправлял тебя, друг Прокоп», «О, да, да, конечно же. Ослом, ослищем. Но мне почему-то всегда бывает немного грустно, когда люди делают выбор. О себе я уже не говорю, я так слезлив и сентиментален. Можно так сказать?» «Вполне».
«Почему это? Почему нужно печалиться разумному решению, естественному выбору? Ты не знаешь, друг Владимир?» «Нет, конечно. Может быть, всякое решение — это выбор одного из путей, и позади остаются нехоженые дорожки, невстреченные люди, товарищи, не ставшие товарищами, девушки, не ставшие возлюбленными. И всех их немножко жаль. Но больше их жаль себя. Это ты ведь пошел налево, не повстречав тех, кто справа, ты влюбился в рыженькую, не остановив свой взгляд на черненькой, ты стал строителем вместо того, чтобы пахать землю…» Прокоп положил руки мне на плечи, откинул голову и посмотрел на меня смешливо и восхищенно.
«Вла-а-димир, — пропел он, — да ты поэт».
«Ну, конечно, — ухмыльнулся я, — кто бы мог подумать: дикарь из двадцатого века вместо того, чтобы зарычать и потянуться за палицей, произносит какие-то слова, пусть не бог весть какие глубокомысленные, но…» «Ах, кокет, кокет…» — засмеялся Прокоп.
«Не кокет, а кокетка».
«Но ты же существо мужского рода. Кокетка — она».
«Что делать, друг Прокоп. И все-таки кокетка, хотя я и не кокетничал».
«Кокетничал».
«Ладно, признаюсь: чуть-чуть. Но ты должен простить меня за маленькую слабость. Все-таки это час выбора, час решения, и мне позволительны легкие глупости».
«Позволительны», — кивнул Прокоп.
«Я решил», — сказал я.
«Я знаю».
«Я решил…» — тупо повторил я и почувствовал, как изношенное сердчишко мое угрожающе забилось о ребра. Хоть и окрепло оно таинственным образом в благодатном этом новом мире, но вот-вот, казалось, разлетится сейчас на куски. Какая грусть, какая печаль сопутствует нашим выборам? Ужас, а не печаль. Но почему? Я ведь решил.
«Я решил», — снова прошептал я, и Прокоп ничего не ответил. Он стоял молча, выпрямившись во весь свой невеликий рост, словно в карауле, и глаза его блестели от набухавших слезинок.
Это очень просто, подсказал я себе. Я просто не выучил урок, стою как дурак, и Майка Финкельштейн тихо суфлирует уголками губ: я хо-чу ос-тать-ся здесь. Очень просто: я хочу остаться здесь. Раз, два, три, четыре. Да, всего четыре словечка, чего ты мыкаешься, какие новые дурацкие сомнения сжали тебе гортань и сделали неповоротливым язык? Какие нехоженые дорожки остались у тебя, старик? Туда? Какие невстреченные друзья? Какие девушки? Давай, давай, Майка Финкельштейн с двумя жесткими, словно проволочками, косичками с красными не слишком чистыми и глаженными бантиками, тебе все подсказала. Ты же умел понимать движение ее губ, когда подсказывала она тебе дату Соляного бунта или столицу Лихтенштейна, и всегда отвечал урок, почему же ты сейчас молчишь?
И в это мгновение, милые мои друзья, впервые за долгие-долгие часы ощутил я в себе тишину. Сражение, что бушевало во мне, затихло, и на скорбном поле боя остались лишь павшие. Но кто же победил? — тоскливо вопрошал я себя. Где разгромленное войско, сдавшееся в плен? Маленькая горсточка моих воспоминаний, еще более поредевшая, с белым флагом, выкинутым перед непобедимым и сияющим новым веком. Где они, где флаг? Что за вздор, что за новые нелепые фантазии терзали меня напоследок? Почудилось мне, что не смешное и жалкое воинство моей души, а светоносная сила окружавшего меня мира повернула вспять. Быть того не могло. Почему, зачем?
«Я решил, — в отчаянии выкрикнул я. — Я хочу…» — ну вот видишь, старый ослище, как говорит Прокоп, все так просто, ну, давай, ты ж умел, ты ж заставлял себя подняться, когда тело весило тонны, и мчаться вперед, когда земля вздрагивала испуганно от разрывов, и воздух был плотно наполнен пением сотен шмелей, которые несли смерть. Ты же жаждал упасть, вжаться в землю, мгновенно, как крот, уйти в ее спасительную толщу. Каждая клеточка твоего тела вопила: спрячься. Ты же знал, что для этого не нужно было ни малейшего усилия, только на мгновение освободиться от упряжки долга, ненависти к врагу, стыда. И не делал этого, да, но там был враг. Твой и всей страны. А здесь? Позади друзья и впереди друзья. Кого предать? Тех, с кем жил и страдал, или тех, к кому пришел радоваться? Все не то, не то, все это дымовая завеса слов, жалких слов. Даже сейчас, в эти тяжкие секунды, ты по гнусненькой своей привычке все стараешься облагородить себя. Вроде бы и не обязательно, а так, на всякий случай, глянь, где-нибудь, может, и зачтется. Вот, мол, справочка: дана настоящая Харину В. Г. в том, что он является благородной душой. Избег соблазна вечной жизни и добровольно вернулся в двадцатый век. Дана для предъявления…
Кому, а? Может, себе? Как будто бы других отделов кадров ты уже можешь не бояться, старый вьюн. Нет, друг Владимир. Не дезертирства ты боишься, старый ханжа, а боишься остаться туристом в новом для себя веке. Туристом с двухсотлетним стажем, потому что корни твои, дурень, там, в твоем мире. И дело не в том, какой лучше. Душа человеческая, слава богу, не компьютер, и не калькулирует, точнее, не всегда калькулирует, что и где лучше.
— Что вам сказать, милые друзья мои, — глубоко и прерывисто вздохнул Владимир Григорьевич, — стоял я на толстом упругом зеленом ковре, смотрел на стосемилетнего начальника станции, которая занималась тем, что пробуравливала толщу времени вперед и назад, а видел вас, дорогие спутники моих последних лет, вас видел, Дом ветеранов, шестьдесят восьмую свою комнату. И понял, что в своей хрупкости и незащищенности вы неуязвимы. И понял, что знал это с самого начала, только не умел себе в этом признаться.
— Во-ло-денька, — пропела Анечка и чему-то покачала головой, словно хотела чему-то поверить и боялась.
— Да-а, — протянул Ефим Львович, вытащил платок и долго и безуспешно крутил его и мял, пытался, наверное, вспомнить, для чего он его вытащил.
— Так вот и бывает, — неожиданно ясным, давно забытым голосом сказал Константин Михайлович и громко вздохнул. Он помолчал, повторил: — Так вот и бывает, — и добавил, подумав: — Абер дас ист ничево.
— Что вам добавить, милые мои? — продолжал Владимир Григорьевич. — Осознав свое безумие, я вдруг успокоился. Омыла меня печаль, но не острое отчаяние, а именно печаль. Кроткая, стоическая. Знал, что значат те слова, что уж на этот-то раз я произнесу. Знал, знал, ничего не скажешь. Знал, что буду потом казнить себя, знал, что стану вспоминать их не раз, когда будет уже поздно. Все знал.
Но знал также, что еще не поздно. Знал, что приблизился к пропасти, уже и ногу поднял, чтобы шагнуть в нее. Но ведь еще не шагнул, еще держался за перила. Еще можно было отступить от края, обернуться, уйти. Еще можно было и нужно было.
Ничего не хотел. Ни безумной гордости камикадзе, ни отравленной легкости капитуляции. Хотел удержаться. И не мог. Какая-то дьявольская сила толкала меня, и я понял, что не смогу тягаться с нею.
«Прокоп, — сказал я. — Я решил. Я хочу вернуться… домой».
А Прокоп все стоял навытяжку, смешной и торжественный, и слезы катились у него по щекам.
«Что ты, друг Прокоп, — сказал я, обнял и прижал его голову к своему плечу. И был мне этот простой жест душевной отрадой. Я, я, старый немощный человек своего нелегкого века, утешал бессмертного и всемогущего своего потомка. Стало быть… — Не нужно печалиться…» — И как же странно устроена наша психика! В самые патетические мгновения мозг наш с детским легкомыслием цепляется за всяческую ерунду. Мой, во всяком случае. Жадно ухватился за знакомые слова и дурашливо подсунул: не нужно печалиться, вся жизнь впереди. И ирония была в них такая — в том, что вся жизнь у меня впереди — что не выдержал я и засмеялся. И Прокоп несмело и благодарно улыбнулся мне сквозь слезы.
«Спасибо, друг Владимир», — пробормотал он.
«За что?»
«За решение».
«Ты не хотел, чтобы я остался у вас?» «Что ты, друг Владимир, как ты мог подумать такое!» «Так за что же?»
«За выбор. Это очень мужественный и глупый выбор. И я преклоняюсь перед ним. Весь мир узнает о нем, и весь наш мир преклонится в изумленном восхищении. Потому что нам всем начинает не хватать глупости. А человек слишком много миллионов лет делал глупости, чтобы легко и безболезненно сразу расстаться с ними. Ты преподал нам урок, и теперь мне начинает казаться, что бедной Соней двигала не только жалость к далекому предку, а некое высшее провидение… Мы преклоняемся перед тобой. Весь наш мир пошлет тебе прощальный привет в момент пробоя, и мне хочется, всем нам хочется, чтобы ты унес этот привет с собой, в свой век, своим друзьям, потому что в тебе мы воздаем должное всем нашим предкам, на чьих плечах мы тянемся к небу».
Внезапно я почувствовал, как меня ожгла простенькая и пугающая мысль. Я вспомнил генеалогическое древо и пробел вместо даты моей смерти. Ладно, мне компьютер правды не сообщил, но Прокоп-то знал. Я посмотрел на него.
«Прокоп, скажи мне, ты ведь знал?» «Что?» «Знал, что я решу вернуться?»
«Нет».
«Но ведь все это в компьютерной памяти. Ты мог нажать кнопку и узнать, что Харин Владимир Григорьевич умер тогда-то и там-то, в тысяча девятьсот восемьдесят или девяносто таком-то году, и, стало быть, он вернулся».
«Мог».
«И не нажал кнопку?»
«Нет, друг Владимир, не нажал».
«Но почему?»
«Я не хотел знать. Я уже говорил тебе, что свобода выбора для нас священна, и я боялся, что знай я заранее твое решение, что-то в моих словах, жестах, выражении лица могло повлиять на тебя, подтолкнуть к тому, что должно было родиться пусть в муках, но само, только само».
«Прости, друг Прокоп. Древняя привычка думать о людях хуже, чем они есть, инстинкт самосохранения и самовозвеличения. Прости».
«Я понимаю, я все понимаю», — грустно сказал Прокоп.
«И еще… — теперь, когда я знал, что расстаюсь с этим миром, мне страстно захотелось понять его, — может, это глупый вопрос… вы счастливы?» Прокоп склонил голову набок совсем по-птичьи, вздохнул, подумал и сказал:
«Мне иногда кажется, что мы не стали счастливее вас…» «Но…» «Я знаю, что ты хочешь сказать, друг Владимир. Да, мы неизмеримо свободнее, у нас меньше примитивных забот и несчастий. Но, наверное, для гармонии нужны и заботы и несчастья. Да, несчастий и забот стало меньше, но реагируем мы на них, похоже, острей. Сократилось количество страданий людей, но уменьшилась и защита от них — эгоизм».
«Я вижу…» — пробормотал я.
«Вот и сейчас, — вздохнул Прокоп, и глаза его увлажнились, — мне больно… Ты уходишь…» Сердце мое сжалось. Печаль была одновременно тяжела и светла.
«Что делать», — вздохнул я.
«Я… — Прокоп вдруг улыбнулся, — я… завидую тебе».
Владимир Григорьевич помолчал, подумал и сказал:
— Вы знаете, друзья, до сих пор я думаю, что он хотел этим сказать… Но вернемся в двадцать второй век. Я стоял перед Прокопом, улыбавшимся сквозь слезы. И именно в этот момент я почему-то подумал о Дэниэле Данглэсе Хьюме. Потом уже я понял, почему именно о нем и именно в эту минуту.
Забегая вперед: как только произнес я такое простенькое и такое трудное словцо «вернуться», воображение мое тут же рванулось домой, в наш Дом, к вам, милые мои друзья, к вам, Анечка.
— Спасибо, — улыбнулась Анна Серафимовна.
— Возвращение подсознательно, наверное, ассоциировалось у меня с сувениром, с гостинцем, а вы, Анечка, с вашим Хьюмом.
Объединившись, вы, Анечка, и Хыюм знали, что делать, тут уж у меня выбора не оставалось.
«Прокоп, — сказал я, — дорогой друг, у меня к тебе просьба».
«Это прекрасно», — просиял Прокоп.
«Почему?»
«Как почему? Разве ты не знаешь, какое это редкое наслаждение — оказать кому-нибудь услугу?» «Гм… Вот теперь я чувствую, что я в другом веке. Мы, признаться, относились к просьбам друзей без вашего восторга».
«Да, да, конечно, друг Владимир, наверное, наш мир куда более упорядочен, и куда больше услуг нам оказывают наши машины. Но не будем отвлекаться, я слушаю тебя».
Никогда не был я особенно деликатным и стеснительным, — сказал Владимир Григорьевич. Настырным хамом тоже, кажется, не был, но своего привык добиваться. А здесь вдруг замялся. Чувствую, язык не поворачивается. Наверное, и не повернулся бы, но помогло, надо думать, все-таки ощущение камикадзе, что ли… Выбрал ведь я возвращение, отказался в странном своем безумии, в торжествующей глупости, в гордыне, наконец, нелепой, от жизни, от бессмертия, от молодости, предпочтя скорый конец в Доме престарелых ветеранов. И в качестве компенсации за добровольный отказ от прописки в раю чувствовал я себя вправе просить то, что собирался попросить.
«Понимаешь, друг Прокоп, там, откуда я пришел, живет прекрасная женщина по имени Анна, Анечка…» Владимир Григорьевич замолчал, глубоко вздохнул и улыбнулся Анечке. А она зарделась, разом помолодела, и улыбка ее была счастливой, торжествующей и чуть-чуть испуганной, словно боялась она, улыбка, что что-нибудь или кто-нибудь вот-вот сгонит ее с глаз и губ актрисы.
И Ефим Львович посмотрел на нее внимательно, и в глазах его появилось восхищенное удивление, словно только теперь он вдруг увидел, что она действительно прекрасна. Что она принадлежит не только миру кефира, компота и горчичников, но и совсем другому миру.
И отставной режиссер Константин Михайлович тоже внимательно посмотрел сквозь туман своего склероза на Анечку, посмотрел пристально и оценивающе, как смотрят режиссеры, подбирая исполнителей для новой пьесы. Посмотрел и кивнул удовлетворенно: подошла. И сказал:
— Абер дас ист… — и впервые за долгое-долгое время не закончил свою любимую присказку вечным «ничево».
Владимир Григорьевич набрал побольше воздуха, как будто собирался нырнуть, и продолжал свой рассказ:
«Анечка очень интересуется различными необыкновенными явлениями, — сказал я Прокопу, — которые у нас объединяют словом «парапсихология». Носит это слово оттенок некой несолидности, пожалуй, даже непристойности, потому что и телепатия, и телекинез, и ясновидение считались, официально, по крайней мере, несуществующими».
«Как странно», — пробормотал Прокоп.
«Почему?»
«Как почему? Это такие простые и очевидные вещи…» «Теперь, у вас. У нас все было не так. Не знаю уж почему. Наверное, потому, что явления эти как бы зыбки, ненадежны, неповторимы. А наука наша предпочитает иметь дело только с тем, что можно измерить, взвесить, разобрать, разложить, многократно повторить. С тем, наконец, что можно объяснить. И это вполне понятно. А объяснить, каким образом усилием воли человек поднимает над столом шариковую ручку, наши ученые не умели. Совсем не умели. А потому и не хотели, не желали признавать такие факты реально существующими. А чтоб это было проще делать, чтобы не оставалось никаких сомнений, перевели все эти явления в разряд анекдотического шарлатанства. Запретами в науке многого не добьешься, но кому захочется ставить под угрозу свою репутацию. Ах, это тот, ха-ха-ха, который… Ученые, я иногда думаю, вообще по натуре очень консервативны.
Так вот, мой друг Анечка прочла в какой-то английской книжке о самом необыкновенном английском медиуме и экстрасенсе девятнадцатого века Дэниэле Хьюме…» «Хьюм… Хьюм… — Прокоп наморщил лоб. — Хьюм… Это не тот, который заставлял летать пианино и рояль?» «Тот, друг Прокоп».
«Ну, конечно же, конечно. Один из немногих, кто обладал даром левитации».
«Точно».
«Когда в прошлом веке люди научились подыматься в воздух, наши ученые и историки переворошили горы первоисточников в поисках тех, кто когда-то умел делать то же самое. Их было немного, буквально единицы за века. И ничего удивительного, потому что законы тяготения несокрушимы, и только другие силы, совсем другие силы, неизвестные вам, позволяют иногда уравновесить гравитацию. До сих пор мы не знаем, как этим единицам, которые, безусловно, ничего даже не подозревали о силах и полях, которые у нас теперь изучают дети в школе, как им удавалось бросить вызов тяготению. Некоторые считают… впрочем, друг Владимир, этого я опять не могу тебе сказать.
Ты должен меня простить, я не могу нарушить первый закон временных пробоев, как бы мне ни хотелось этого сделать. Впрочем, если бы я даже и решился это сделать, тебе было бы бесконечно трудно, а скорее всего и просто невозможно понять меня. У каждого времени свои основные парадигмы, и мыслить вне их дано лишь гениям. Ты не сердишься?» «За что, друг Прокоп, за то, что я не гений? Обидно, конечно, но что делать…» «Представь себе, что ты явился… Ну, допустим, даже к гению, к Ломоносову и стал излагать ему… основы квантовой механики…» «Увы, я…» «Неважно, друг Владимир, когда делаешь столько допущений, одним больше, одним меньше — не имеет значения. Предположим, поэтому, что ты прекрасно знаешь квантовую механику. Мало того, давай предположим, что ты еще обладаешь редким даром популярно излагать сложные научные построения. Так вот как прореагирует академик Михаило Ломоносов? Хоть он был человеком и просвещенным, но, надо думать, через пять минут он бы в лучшем случае приказал гнать тебя взашей. А в худшем тебя бы упекли в дом для умалишенных. Потому что и через столетия после него другой великий гений — Альберт Эйнштейн, сам приложивший руку к созданию квантовой механики, никак не мог принять ее до конца. Теперь представь, что я начал бы говорить тебе об информационном поле, об его статистических флюктуациях, о формулах перехода информации в массу и наоборот… Самое большее, что бы ты мог Понять, — это то, что я несу чушь. Так вот, друг Владимир, и не смотри на меня с таким упреком…» «А Хьюм…» — спросил я.
«Да, так или иначе этот Хьюм обладал редкостным даром левитации, ничего, абсолютно и ничегошеньки не понимая в том, как это происходит».
«Друг Прокоп, моя Анечка была бы счастлива, если бы я мог подробнее рассказать ей о Хьюме. — Я напрягся и добавил: — И добыть ей какой-нибудь сувенир, связанный с ним».
Прокоп вдруг засмеялся, и в такт смеху комбинезон его заструился, переливаясь всеми цветами радуги. Он слегка оттолкнулся, медленно поднялся в воздух, сделал переворот и поцеловал меня в макушку.
«Прости, друг Владимир, ты был такой смешной. У тебя был вид, как будто ты бросался в пропасть. Я все понимаю. Это очень просто. Нам даже не понадобится специальный пробой. На днях в девятнадцатый век отправляется наш старший хроноскопист Бруно Казальс, да ты помнишь его, высокий человечище в шортах».
«Да, конечно, он был защитником на суде».
«Совершенно верно. Ты отправишься вместе с ним. Энергия, потребная для пробоя, практически не меняется, перебрасывается ли один человек, два или три. Это ведь туннельный эффект… Но стоп, молчу».
«А… а я не останусь…» — промямлил я, и Прокоп весело рассмеялся.
«Ты хочешь спросить, не закинем ли мы тебя в девятнадцатый век и не бросим там на произвол судьбы?» «Ну…» «Разве что ты сам захочешь».
«Я хочу в Москву, в свой век, в свой Дом ветеранов…» На подвижное лицо Прокопа набежала вдруг тучка. Он спросил:
«И к своим болезням? Ведь тот заряд бодрости, что мы можем дать тебе, недолговечен…» «Это нечестно, друг Прокоп. Ты сам твердишь о свободе выбора и сам же пытаешься повлиять на мое решение».
«Ты прав, — повесил голову Прокоп, — Ты абсолютно прав. Прости».
«Я не сержусь».
«А сейчас я пойду. Надо поговорить с Бруно, покопаться в архивах, решить, куда и когда вам отправиться, чтобы встретить Хьюма, а не рыскать по странам в поисках его, снабдить тебя одеждой, деньгами и документами. Надеюсь, ты ведь не захочешь появиться в Лондоне в этой пижаме».
«Нет».
«Видишь. Ты знаешь английский?»
«Гм… Не очень. Точнее, нет, Зис ис э тэйбл».
«Придется выучить, хотя бы минимальный разговорный объем».
«Выучить? Ты смеешься».
«Нисколько. Курс рассчитан на шесть часов сна. Можно провести его за одну ночь, а можно разделить на две ночи».
«Гм… Как это у вас все просто. Ты вот сказал «деньги». Где ж вы возьмете английскую валюту? В музее?» «Почему в музее? Мы изготовим тебе столько денег, сколько нужно. Это очень просто. Мы заказываем все, что нам нужно, от одежды и пищи до любой справки, через инфоцентр, который есть у каждого. Инфоцентр переправляет заказ в соответствующие производственные центры. На каком-то этапе из компьютерной памяти будет вызван образец, допустим, английских банкнот разного достоинства середины девятнадцатого века. С образцов скопируют нужную сумму, причем банкноты состарят, чтобы они были не слишком новыми».
«И это может сделать каждый?»
«Конечно».
«У нас это называлось изготовлением фальшивых денег».
«У нас не может быть фальшивых денег, друг Владимир, потому что у нас вообще нет денег…» Вечером ко мне пришла Соня, Личико ее было печальным. Она прижалась щекой к моей щеке и обняла меня.
«Ты уходишь?» — прошептала она.
«Да, Сонечка».
«Но почему?»
«Это трудно объяснить, внученька. Я был бы… чужим здесь».
«Нет! — пылко воскликнула девушка. — Не говори так!» «Я был бы… экспонатом. Да, девочка, да, не спорь. Я волоку на себе и в себе слишком большой груз своей жизни, своих воспоминаний, своего «я», чтобы чувствовать себя в вашем мире просто и естественно. Может быть, со временем, я бы забыл о покойной жене своей Наденьке, твоей прапрапрапрабабушке, о дочери, о внуке, о друзьях, о войне, о своих пьесах, о болезнях, но тогда это был бы уже не я. К тому же, девочка моя любимая, груз, который я волоку, это мой груз. Да, он не легок, но это мой груз. Мы странные люди. Мы такие свирепые собственники, что бывает нам жаль расставаться даже со своими страданиями и невзгодами».
«Это так сложно, дедушка…»
«Что делать, дружочек, не знаю, как ваша, а наша жизнь была действительно сложна. И нас она делала существами непростыми. Редко кто из нас понимал себя. Большинство вообще жило, не задумываясь особенно, кто они и что они. И мир вокруг себя они воспринимали только в непосредственной близости. У них было короткофокусное зрение. Все, что не касалось его или ее, было покрыто туманом. Ну, а уж в свое сердце они и подавно не заглядывали. Разве что для кардиограммы… Мы жили, Сонечка, в мире, полном загадок, но самая большая, наверное, это мы сами, наша душа. И только немногие гении понимали ее. Вам проще, вы живете в более ясном мире…» «Не знаю, дедушка. Может, наш век и яснее, но в нем тоже много непонятного. Я смотрю на Сергея, я вижу, как он любит меня, и мне грустно. Потому что… Не знаю… может быть, потому что я не люблю его так, как он — меня. И я чувствую какую-то вину…» У меня сжалось сердце. Сквозь невообразимую толщу времени вдруг увидел я мою незабвенную Наденьку. Ее, ее это были слова. Совестливая была она необыкновенно и спуска себе не давала. «Я чувствую вину…» Ее слова и ее душа плыли по океану времени. О, господи…
«Дедушка, милый мой странный дедушка, — прошептала Сонечка, — я хочу совершить преступление».
«Что ты, девочка, ты шутишь, наверное?» «Нет. Но ты не беспокойся, это незлое преступление. Я даже спросила свой идеал, и Ксения сказала: плевать на инструкции. Делай, как тебе подсказывает сердце».
«Сонечка, внученька, когда будешь разговаривать с ней, передай Ксении, что один старый дурак из двадцатого века целиком и полностью разделяет ее взгляды».
«Мы все знаем, что при пробое в прошлое ни в коем случае нельзя с собой брать ничего, что несло бы какую-нибудь информацию о будущем, потому что первый закон хроноскопии гласит: будущее не должно и не может влиять на прошлое».
«Даже я знаю об этом».
«И все-таки… Вот…»
Ксения протянула мне плотный листок размером с обычную почтовую открытку. Это была фотография. Соня, Сергей и я стояли на фоне хроностанции. Это была фотография, и это не была фотография, потому что листок, казалось, излучал свет. И фигуры, и лица не были неподвижны. Это была не фотография, а маленькое окошечко в мир, окошечко, сквозь которое я видел три фигуры, три лица, три улыбки.
И тихий голосок Сонин я услышал ласковый: «Дедушка…» Я посмотрел на внучку. Она упрямо сжала губы и быстро моргала. А голосок повторил издалека: «Дедушка…» И я понял, что сквозь окошко я не только вижу трех людей, но и голос слышу внученьки.
«Возьми с собой», — прошептала Соня.
«Да, но…»
«Возьми с собой, — упрямо повторила она. — Если ты никому не покажешь листок, мы ведь, строго говоря, и не нарушим первый закон».
Наверное, не нужно было мне брать этот волшебный листок, не нужно было разрешать девочке идти на такое грубое нарушение правил. Она молода, сентиментальна, это понятно. Но я-то, старый тертый калач, я понимал, что следовало сказать: нет, детка, не нужно.
Понимал, а не сказал. Потому что неизвестно еще на чем стоит человечество, на законах ли или на нарушении их. На правилах или на исключениях из них. Обнял я внучку, теплую, молодую, пахнущую морем, солнцем, травами, новым миром. Обнял жену свою, дочку, внука, всех, кто нес сквозь века наши гены. И спасибо тебе, Ксения Сурикова. Я понимаю тебя. Может быть, ты самая понятная мне связь с новым миром. Ты заработала право плевать на инструкции и следовать зову сердца тем, что не покинула умиравших, предпочтя умереть вместе с ними. Не часто, но и мы умели это делать.
Я спрятал листок и поцеловал Соню.
Владимир Григорьевич открыл тумбочку.
— Конечно, друзья мои, мне не следовало бы рассказывать вам об этой фотографии и не следовало бы ее показывать, но… не знаю, как сказать… Вы стали так близки мне, словно вместе со мной совершили это путешествие, словно мы — один экипаж, и я бы чувствовал себя дурно, если укрывал что-то от вас. Единственное, о чем я прошу вас, пусть эта фотография будет нашей общей тайной.
Владимир Григорьевич покопался в тумбочке и достал листок, вложенный в журнал «Театр». В шестьдесят восьмой комнате было не темно. Солнца, правда, во второй половине дня не было — окно выходило на восток, но и темно не было. И все равно брызнул с листка ярчайший свет. Оконце в двадцать второй век было распахнуто, и являлся он каким-то удивительно свежим, умытым, юным. И улыбались лица на листке. И улыбки не были неподвижными. И в благоговейной тишине услышали все тонкий Сонин голосок: «Дедушка…» — Они, — вздохнул Ефим Львович, — они. Соня и Сергей. Я ведь видел их.
— Володенька, — сказала Анечка, — у нее ваши глаза…
— Абер, — сказал Константин Михайлович, — дас ист… дас ист… — и не окончил он во второй раз за годы свою присказку.
— Значит, никому, друзья мои, — сказал Владимир Григорьевич.
— Ни слова, — кивнул Ефим Львович.
— Никогда, — подтвердила Анечка.
— Никому, — вздохнул Константин Михайлович. Он открыл было рот, чтобы сказать что-то еще, но промолчал, забыв закрыть рот, и лицо его было задумчивым.
— Прокоп пришел утром, — продолжал Владимир Григорьевич, — как всегда, возбужденный. Он даже не вошел в мою круглую келью, а влетел в нее. Влетел в буквальном смысле этого слова, причем влетел, как грузовой дирижабль: в каждой руке было по объемистому свертку.
«Вот, — воскликнул он, — здесь все, чтобы ты стал состоятельным русским помещиком из Курской губернии. Ты хочешь быть состоятельным помещиком из Курской губернии, друг Владимир?» «Сколько душ?» — деловито спросил я.
«Душ?» — округлил глаза Прокоп.
«Так назывались крепостные крестьяне».
«А, да, конечно, конечно. Видишь ли, никаких… Как у вас назывался документ, который подтверждал или не подтверждал что-то?» «Справка?» «Да, разумеется, справка. Так вот, господин Харин, никаких справок о количестве душ в вашем имении мы вам не приготовили, не было тогда таких справок. Это вы потом увлеклись справками. Но вы будете прилично одеты, и в кармане у вас будет триста фунтов. Наш друг Бруно Казальс, который уже бывал в Англии времен Диккенса, уверяет, что это деньги немалые, а если учесть, что пробудете вы в Лондоне всего несколько дней, это целое состояние. Но что же ты стоишь, помещик?» «А что же я должен делать?» «Вот твой сюртук, панталоны, галстук, белье, жилетка, цилиндр, перчатки, крылатка, сапоги».
«Да, но я не вижу моего лакея, или ты хочешь, чтобы я сам оделся, но это же… смешно…» Мы посмеялись, и я натянул на себя довольно сложный костюм перламутрово-серого цвета. Удивительное дело, я знал, что одежда была только что изготовлена специально для меня, по мне казалось, что я улавливаю тонкий запах пыли и нафталина.
Я посмотрел на себя в зеркало. Курский помещик был, к сожалению, немолод, но вполне еще сохранял тотварный вид, как говорили в Госстрахе лет сто спустя после отмены крепостного права. Он был даже не лишен некой стариковской элегантности. Причем, сказал я себе, помещик, видимо, скорее либерального склада ума. Хотелось мне думать, что вряд ли он развлекается, отправляя свою дворню на конюшню для порки.
«Смотри, как на тебе сидит костюм», — горделиво сказал Прокоп, как будто это он снимал с меня мерку и кроил сюртук и панталоны.
«Недурно, — снисходительно согласился я. — Хотя, конечно…» «Ты меня пугаешь, дорогой друг, — нахмурился Прокоп. — По-моему, ты слишком входишь в роль. Может, у тебя действительно задатки крепостника. Предупреждаю, если ты захочешь остаться в Лондоне, дело твое, но помогать мы тебе не будем, а переводов от управляющего твоим имением тебе придется ждать долго.
А если говорить серьезно, друг Владимир, костюм тебе очень идет. Вот твой паспорт, можешь не рассматривать, работа классная. Вот деньги. Помни, что в фунте двадцать шиллингов, а в шиллинге — двенадцать пенсов. Но Бруно все тебе объяснит. Теперь проверим твой английский».
«Но я…»
«Хау ар ю, май диэр френд?»
Я хотел было сказать, что ничего не понимаю, но вдруг сообразил, что Прокоп спрашивает, как я поживаю, его дорогой друг. Мало того, откуда-то из неведомых глубин моего мозга вдруг выскочила на поверхность фразочка:
«Джаст файн, тэнк ю».
И не только выскочила, но и раскрыла свой немудреный смысл: прекрасно, спасибо.
«Вот видишь, — улыбнулся Прокоп. — Ты знаешь гораздо больше, чем представляешь. Я думаю, что твой Хьюм кое-что может сказать по-русски, но беседовать вам придется, наверное, все же по-английски».
«А почему ты думаешь, что он знает русский?» «Потому что мы наметили посещение Лондона в сентябре 1859 года. Твой экстрасенс только что вернулся из России с молодой женой, русской…» «А, да, да, я что-то вспоминаю, Анечка рассказывала еще, что его шафером был сам Александр Дюма».
«Совершенно верно. Дюма-отец. Если бы у тебя было больше времени, ты мог бы прочесть его заметки о путешествии в Россию. Итак, Хьюм только что вернулся из России, где пробыл больше года, у него родился сын, которого окрестили на английский манер Грегори. Но все звали Гриша. Я склонен думать, что хоть немножко он русский выучил. Как-никак он не раз бывал в Царском Селе у Александра Второго. Впрочем, ты увидишь сам».
«А ты уверен, друг Прокоп, что мы попадем в яблочко? Может быть, мы не застанем его, а времени ждать…» «Яблочко? Почему тебе нужно попасть в яблоко? И как ты в него попадешь?» «Это выражение такое. Попасть точно в цель».
«А, да, да, понимаю. Видишь ли, компьютер, который готовил ваш пробой, довольно досконален. Вот смотри, заметка из газеты «Таймс» от 10 сентября 1859 года: «Вчера в доме лорда Литтона на Сент Джеймс-стрит известный медиум мистер Хьюм вновь поразил присутствовавших на сеансе своими необыкновенными способностями. В отличие от предыдущих сеансов мистер Хьюм на этот раз не только подымался в воздух сам, но с разрешения хозяина и согласия хозяйки заставил всплыть к потолку их собаку, взрослого мастиффа по кличке Роб. Бедная собака была настолько поражена происходившим с ней, что даже не лаяла, а лишь перебирала в воздухе лапами, заставляя присутствовавших смеяться…» Так, так… Ага, вот конец заметки: «Чтобы не обижать своих многочисленных друзей, лорд Литтон заявил, что намерен просить мистера Хьюма дать еще два сеанса в его доме, 12 и 13 сентября. Как известно, наш знаменитый медиум настаивает, чтобы на его сеансах присутствовало не более 8 человек».
Вот тебе и яблочко, дорогой друг. Вы попадете в Лондон 11 сентября 1859 года».
«А где я найду его?»
«Отель Уильяма Кокса на Джермин-стрит. Представишься русским путешественником, который сам изучает тайны сношения с… скажем, душами умерших, много наслышан о необычайных способностях господина Хьюма и хотел бы… и так далее».
«Ты думаешь, он примет меня?»
«Не сомневаюсь. Во-первых, не забывай, что русский путешественник для него, для человека, только вернувшегося из России с молодой русской женой, больше, чем просто посетитель. Во-вторых, я думаю, дорогой друг Владимир, ты сможешь достаточно поразить его воображение своим даром видеть прошлое и будущее. А чтобы ты мог это сделать, вот тебе несколько страничек, на которых ты найдешь краткое жизнеописание твоего будущего собеседника. Держи, милый друг, проштудируй их как следует. И обрати внимание на несколько строчек, которые убедят тебя, что ты обязательно увидишь его. До свидания, друг мой. Я приду за тобой перед пробоем».
Прокоп выпорхнул, а я принялся читать аккуратные странички, покрытые удивительно четким и приятным для глаза шрифтом. Родился… так… впервые обнаружились… Америка… Тетка… Мать… подозревал, что отец… Тетка выгнала… Стуки… духи… комиссия ученых Гарвардского университета под председательством поэта Уильяма Калена Брайанта… Стол вздыбился и поднялся в воздух… Пол дрожал… Дальше, дальше… Впервые поднялся в воздух 8 августа 1852 года, девятнадцать лет от роду… Дальше, дальше… Я просмотрел почти все странички, но ничего, о чем говорил Прокоп, не нашел. А вот, кажется, то самое. Я начал читать: «Известный парижский издатель Визителли рассказывает в своих мемуарах: «Кажется, в 1878 году меня познакомили в кафе с меланхолического вида человеком лет сорока пяти — пятидесяти. У него было бледное осунувшееся лицо тяжело больного, но волосы его были густы и ниспадали на высокий лоб крупными локонами. Это был знаменитый медиум Дэниэл Данглэс Хьюм. В свое время его имя гремело по обе стороны океана, но в последние годы он удалился по состоянию здоровья от дел и вел довольно замкнутую жизнь.
Господин Хьюм оказался весьма приветливым и общительным человеком и охотно отвечал на все вопросы, которые не могут не волновать любого мало-мальски любопытного человека, когда речь заходит о таких таинственных явлениях, как спиритизм. Господин Хьюм пил подслащенную воду, и когда я спросил, чем вызван такой непривычный вкус; он ответил:
— Видите ли, месье, я сейчас пощусь.
— Но отчего же? — спросил я.
— Тем силам, с которыми я порой общаюсь, мешает грубое физическое начало, и время от времени мне приходится как бы подавлять в себе это начало. Отсюда и посты.
Когда я спросил, может ли он объяснить, как именно он проделывает все те невероятные вещи, о которых столько слышала вся просвещенная Европа и Америка, он обезоруживающе улыбнулся, пожал плечами и сказал:
— Знаете, месье Визителли, я думаю, этот вопрос мне задавали, наверное, не меньше тысячи раз. И каждый раз я говорю одно и то же: я не знаю. Я ничего для этого не делаю. Это происходит как бы само собой. Как будто некие силы просто избрали почему то именно меня для своего проявления. Впрочем, — добавил медиум, — я ведь не один обладаю какими-то таинственными способностями, Помню, например, как ко мне в Лондоне пришел как-то пожилой русский путешественник, было это, кажется, лет десять тому назад, нет, пожалуй, девять, да, девять. Помню, что мы недавно вернулись с покойной моей первой женой из России, и сыну толькое исполнился год…» Я на минутку отложил листки. Сердце мое билось. Пожилой русский путешественник. Это я. Я закрыл глаза. Как уже случалось со мной несколько раз, я физически ощутил поток времени не как единую грозную и неумолимую реку, а как множество рукавов ее, петляющих самым невероятным образом.
Мне было грустно и смешно. В то время, когда я терзал себя, возвращаться мне или не возвращаться в свой двадцатый век, все давно было решено, все давно свершилось, и, стало быть, все мои душевные терзания были смехотворны. Все давно свершилось, каждый шаг мой, вплоть до последнего, был расписан, только я не видел этого расписания. И хорошо, что не видел. Потому что вид на одно и то же событие из настоящего в будущее и из будущего в прошлое принципиально разный. Пока я не знаю будущего, я свободен в своих решениях и поступках. При взгляде из будущего назад мир застывает в жестоком предопределении. Собственно, это, наверное, и есть смерть — абсолютная жестокость, неподвижность, конечность.
С детства у меня была странная привычка: если я встречал в книге особенно интересное и увлекательное место, я откладывал ее на несколько минут. Для чего — не знаю. Может быть, чтобы насладиться ожиданием, нетерпением. Чем ведь сыны человеческие только не наслаждаются…
Когда нетер-пение стало невыносимым, я снова поднял листок и продолжал:
«Путешественник этот — я даже запомнил его имя: господин Харин — рассказал мне, что интересуется возможностью мысленно проникать посредством астральных сил в прошлое и будущее. Он предложил продемонстрировать свое искусство, и я согласился. Пока он смотрел пристально на меня, точнее, на мой лоб, и рассказывал о моем прошлом, особого впечатления его слова на меня не произвели, хотя, должен признать, некоторые детали подтверждали как будто его искусство. Но я не был уверен, что господин Харин не мог узнать их откуда-нибудь. Так, например, он сказал мне, что моя бедная покойная матушка происходила из рода «ясновидящих» и, как и ее предки, умела безошибочно предсказывать смерть родных и близких. Я уверен, что никогда никому об этом не рассказывал, думаю, что не очень-то распространялась на эту тему и матушка. Она вообще не любила говорить о такого рода материях. Но с другой стороны: ручаться я за это не могу. Да и тетушка моя, миссис Кук, которая воспитала меня, да благословит ее господь, могла рассказать кому-нибудь. И дядюшка Фрэнк, особенно когда бывал в подпитии, а случалось это чаще, чем следовало бы, любил нести всяческую околесицу.
А потом господин Харин закрыл глаза, дыхание его стало редким и глубоким, и он медленно сказал:
— Я вижу горе, господин Хьюм. Ровно через три года, летом, вы потеряете близкого человека… Вы напишете книгу о своей жизни… В 1867 году у вас будет тяжкое расстройство нервов, и вы будете лечиться в клинике, где познакомитесь с молодым человеком, отпрыском аристократической семьи, который напишет потом о вас книгу.
В 1871 году вашими необыкновенными способностями заинтересуется блестящий молодой ученый физик Уильям Крукс…
Не могу сказать, чтобы я сразу поверил прорицателю, но, с другой стороны, было в его словах и нечто, что не давало мне просто так отмахнуться от них. Я сказал полувшутку, полувсерьез:
— А смерть мою вы можете предсказать?
Господин Харин посмотрел на меня испытующе и спросил:
— Вы действительно хотите это знать?
По спине у меня пробежали мурашки, но я все же кивнул.
— Хорошо, — сказал русский, — назову вам год. Вы умрете через двадцать семь лет, в 1886 году, и будет вашей жизни пятьдесят три года.
Помню, я подарил ему свою визитную карточку с автографом и начисто забыл о предсказании. Тем более что он сам себя опроверг. С одной стороны, предсказывал он, я потеряю близкого человека. С другой, прошли уже почти три года, и я никого не потерял. Жене моей миссис Александрине Хьюм, или Саше, как звали ее в России и как я тоже звал ее, был всего двадцать один год, она, правда, начала немножко покашливать, простудилась, как я думал, но была в остальном совершенно здорова, Гриша, наш сын, рос крепким, энергичным мальчуганом.
И вдруг, буквально за какой-то месяц, моя незабвенная, любимая Саша тает и умирает. Врачи — а я приглашал к ней лучших врачей Европы — только разводили руками и вздыхали, скоротечная чахотка…
Что вам сказать, мсье Визителли, все, буквально все, что предсказал мне этот странный русский, все оказалось абсолютно, повторяю, абсолютно точным. И поверьте мне, я ныне уже нисколько не сомневаюсь, что умру именно в восемьдесят шестом году, как предсказал господин Харин. Но самое удивительное еще и то, что с тех пор я не только не мог найти этого русского, оказалось, что и в России никто о нем и не слыхивал, и паспорта на такое имя не выдавали, и не было в Курской губернии такого помещика. А ведь он представился мне курским помещиком…»
Нас провожали все сотрудники хроностанции. Прокоп сказал:
«Каждый век что-то находит, но и что-то теряет. Наверное, вы были привычнее к горю, привычнее к расставанию и умели находить лучшие слова, чтобы выразить свою печаль. Мы не можем найти таких слов, чтобы они достойно выразили печаль, восхищение и благодарность, которые мы все испытываем к тебе, друг Владимир. Мы можем лишь сказать тебе просто: прощай! Но если ты прислушаешься, ты услышишь, что простое это и грустное слово произносят сейчас миллионы, и миллионы, и миллионы людей. Слушай!» И в наступившей глубокой тишине я действительно услышал далекое эхо, что перекатывалось от горизонта до горизонта:
«…щай… щай…»
«…уг… уг…»
«…имир, имир».
Оно было одновременно тихим, как шепот, и мощным, и оно накатывалось волнами, и в ритме их угадывалась, чудилась, неведомая мне смесь горя и радости, конца и начала.
Сердце мое не выдержало. Я закрыл глаза. Мне казалось, что я умер, что меня уже нет в живых, и лишь дух мой плывет по волнам эха, которое становилось все тише и тише, пока совсем не умерло в невообразимой дали. Дух еще осознавал себя какое-то время, у него еще было «я», но оно все истончалось, это «я», таяло, пока совсем не'исчезло, и дух перестал принадлежать мне, потому что меня не было…
Не знаю, сколько времени я был без сознания, наверное, вечность, но пришел я в себя от голоса Бруно Казальса и острого запаха детства.
«Мы в Лондоне, господин Харин», — сказал он поанглийски, и я ответил:
«О, йес, ай си».
Я действительно видел, что мы в Лондоне, хотя запах был запахом моего детства и Вышнего Волочка — острый крепкий запах конского навоза. Но сделаем перерыв, друзья мои, я вижу, что и вы устали…
Не успел экипаж, как окрестили себя постоянные слушатели Владимира Григорьевича, снова занять свои привычные места в шестьдесят восьмой комнате, как в дверь постучали, и вошел врач.
— Милости просим, Юрий Анатольевич, — сказал Владимир Григорьевич.
— Я не помешаю? У вас у всех такой сосредоточенный вид…
— Владимир Григорьевич продолжит рассказ, — сказал Ефим Львович. — Я вчера полночи ворочался, не мог заснуть от ожидания.
— Мы ведь уже в Лондоне, гордо сказала Анечка, и местоимение «мы» никому не показалось неуместным.
— В Лондоне? — изумился Юрий Анатольевич. — Ведь вы рассказывали о том, как попали… — Врач замялся, и на лице его появилось смущенное выражение. Видно было, что ему неловко было произнести слово «будущее».
— Из двадцать второго века Владимир Григорьевич отправился в девятнадцатый, в Лондон, — с плохо скрываемым торжеством объяснила Анечка. — Я раньше рассказывала об одном удивительном экстрасенсе Хыоме, и Владимир Григорьевич попросил своих хозяев разрешить ему посетить на обратном пути Англию.
— Ничего себе обратный путь, — покачал головой доктор, — небольшой крюк в век.
— Побольше, — сказал Константин Михайлович. Он на несколько секунд поднял глаза к потолку, наморщил страдальчески лоб, что-то беззвучно пошептал и вдруг торжествующе выкрикнул: — Сто двадцать семь лет!
— Костя, ты прямо арифмометр какой-то, — усмехнулся Ефим Львович.
— А почему все-таки сто двадцать семь лет? — спросил Юрий Анатольевич.
— Потому что я попал в Лондон в пятьдесят девятом году, — объяснил Владимир Григорьевич.
— В пятьдесят девятом? Но это же…
— В тысяча восемьсот пятьдесят девятом, — сказал Ефим Львович. — Не девятьсот, а восемьсот…
Казалось Юрию Анатольевичу, что тогда, в первый раз, когда описывал Владимир Григорьевич, как очутился в будущем, был он почти готов поверить в то, во что поверить было решительно невозможно. Но, пропустив дальнейший рассказ, он дал возможность своему здравому смыслу перевести дух, собраться с силами, и сейчас этот здравый смысл лишь снисходительно улыбался; как же, из двадцать второго века в девятнадцатый, а завтра, может быть, в третий до нашей эры. Может, попросить Харина смотаться в Древний Рим или, допустим, слетать к Гомеру в гости. Но спорить с больным стариком не хотелось, тем более что вреда от этих сказок никому не было. Конечно, следовало бы уйти сейчас, дел у него сегодня было предостаточно, но неловко было так решительно подчеркнуть свое отношение к их… россказням.
Четыре пары глаз, стариковских, выцветших, окруженных морщинами, смотрели на него выжидательно, и Юрий Анатольевич, привычно обругав себя за жалкое слабоволие, сказал:
— Это… Вы разрешите и мне послушать?
— Конечно, — кивнул Владимир Григорьевич.
— Может быть, вкратце рассказать доктору о том, что он пропустил? — предложил Ефим Львович.
— Мне кажется, не стоит, — сказал Владимир Григорьевич. — Вы не замечали, любое краткое содержание предыдущих глав звучит глуповато, а уж в этом случае и говорить не о чем.
— Вы продолжайте, — сказал доктор. — Так, как будто я знаю все.
— Хорошо. Значит, мы остановились на том, что я пришел в сознание от остроты запаха конского навоза, и этот запах почему-то напомнил мне далекое детство в Вышнем Волочке. Но это был не Вышний Волочек, а Лондон. И — удивительное дело! — был этот Лондон почему-то очень знакомым. И множество экипажей на высоких тонких колесах, и приземистые дома с закопченными фасадами, и запах дыма, который дает каменный уголь, и женщины в длинных юбках под легкими зонтиками, которые, казалось, нужны были лишь для того, чтобы защитить высокие прически, и мужчикы с бородами и бакенбардами — все это было почему-то очень знакомо. И вдруг я понял, откуда это чувство: Диккенс. Именно Диккенс. Не Теккерей, не Коллинз, а Диккенс, удивительно пластичный писатель, умевший описывать свой мир и своих героев так, что все мы видели их его глазами.
Я огляделся. Мне казалось, что сейчас появится Урия Гипп, Давид Копперфильд или Оливер Твист. Кандидатов на роль последнего было множество, улица так и кишела оборванными мальчуганами, которые бесстрашно скользили в потоке карет, колясок и грузовых телег. Лошади ржали, хлопали бичи, слышались выкрики, ругань — и всепроникающий запах конского навоза.
«Друг Владимир, — тихонько прошептал мне на ухо Бруно, — я бы рекомендовал тебе закрыть рот, у тебя довольно забавный вид».
Я вам говорил уже, друзья, что Бруно очень высок, без малого два метра, а в цилиндре он был настоящим великаном, и он явно привлекал к себе внимание, хотя прохожие чисто по-английски делали вид, что не смотрят на него.
Я вдруг вспомнил двух давно забытых кинокомиков, чьи имена были когда-то нарицательными: Пат и Паташон. Высокий и худой и маленький и толстенький. Я не толстенький, скорее наоборот, но все равно, зрелище мы с Бруно являли, надо думать, довольно комичное.
«Как ты?» — спросил Бруно по-английски.
«Сейчас проснусь», — ответил я.
«Проснешься?»
«У меня такое ощущение, что сейчас я открою глаза, сон кончится, я отлеплю горчичник с груди, и нужно будет вставать, чтобы не опоздать на завтрак».
«Ты не проснешься, Владимир, сколько бы ты ни моргал глазами, потому что мы действительно в Лондоне. Думаю, нам не стоит терять времени, потому что его у нас мало. Ты рискнешь сам отправиться к твоему Хьюму или ты хочешь, чтобы я поехал с тобой?» На мгновение мной овладела паника, как это один? Как я сумею найти отель Кокса? Как я спрошу Хьюма? Я же ничего никому не сумею объяснить, я ничего не пойму, я заблужусь, я буду бродить по этому городу, пока не попаду под конские копыта, пока не упаду, поскользнувшись на куче навоза, пока не умру от голода. Как это один?
Бруно терпеливо смотрел на меня с доброй лукавой улыбкой, по-птичьи наклонив голову, и я видел, что он все понимал. Я разозлился на себя за детские дурацкие страхи. Конечно, по крайней мере в первый раз следовало воспользоваться помощью Бруно, но глупое мальчишеское самолюбие заставило меня сказать:
«Я сам».
«Отлично, друг Владимир. Вот тебе бумажка с адресом. На всякий случай я написал его и по-английски, и по-русски, чтобы ты мог разобраться в безумной английской орфографии. С тех пор, как путешествия во времени стали более или менее регулярными, мы пришли к выводу, что надо иметь свою постоянную базу, и сняли домик, адрес, разумеется, не такой шикарный, как Джермин-стрит, где находится отель Кокса, Кенсингтон-роуд, но домик вполне удобный. Вот ключ. Если меня не будет, когда ты вернешься, откроешь сам».
«Хорошо, Бруно… А… как остановить кэб? Кэб, правильно?» «Да, кэб. Очень просто. Вон, видишь? Подними просто руку и все. Скажешь: Джермин-стрит. Скажешь смело, с достоинством, потому что это аристократический адрес, прекрасная улочка, которая соединяет Риджент-стрит и Сент-Джеймс-стрит. Да и весь этот район аристократический, совсем недалеко Букингемский дворец».
Букингемский дворец почему-то придал мне храбрости.
«Ладно, друг Бруно, авось не пропаду».
«Не пропадешь», — твердо сказал Бруно.
«Ты в этом уверен?»
«Абсолютно».
Ну, конечно, пронеслось у меня в голове, он знает. Опять взгляд из будущего. Он знает, что тут мне ничего не грозит, потому что в книге судеб суждено мне вернуться в свой век, свой Дом ветеранов, в свою шкуру. Старую, но свою…
Когда я залез в экипаж, пахнувший опять-таки конским навозом, пылью и потом, сердце мое нелепо колотилось так, словно я прыгнул со скалы на спину дикого мустанга. Возница обернулся и пробурчал что-то, чего я не понял.
«Джермин-стрит, плиз, Кокс хоутел».
То ли произношение мое было ужасным, то ли не следовало говорить «пожалуйста», но возница посмотрел на меня изумленно, опять пробормотал нечто совершенно невразумительное, щелкнул кнутом, сказал, наверное, что-то обидное лошади, потому что та протестующе заржала и повлекла нас в сторону, где, как мне хотелось надеяться, находилась мифическая Джерминстрит.
Не знаю, поверите ли вы мне, дорогие друзья, если я скажу вам, что задремал в экипаже, но было так. Увы, емкость моих физических и эмоциональных аккумуляторов давно уже стала невелика, и они быстро садятся. Я задремал, хотя в оправдание свое должен сказать, что езда в конном экипаже убаюкивает куда эффективнее, чем в автомобиле: цокот копыт, скрип рессор, покачивание так и навевают сон.
Если бы у нас здесь в нашем Доме был кэб, — улыбнулся Владимир Григорьевич, — можно было бы смело забыть о родедорме, ноксироне, димедроле и прочих снотворных. Не можешь заснуть — вышел во двор, сел в кэб, сказал вознице «Букингемский дворец» и…
— И везут тебя прямым ходом к Кащенко, — усмехнулся Ефим Львович.
— Как хотите, — сказал Владимир Григорьевич, — я не настаиваю. Тем более что возникают определенные трудности: как сонному перебраться из кареты в свою постель.
Все посмеялись, и Владимир Григорьевич продолжал:
— Я задремал, и снилось мне, что я еду куда-то на поезде. Я высунул голову в окно, в лицо ударил тугой воздух, и я безмерно удивился, потому что и не подозревал, что воздух может быть такой твердый и так хлестать по лицу. И летели мимо клочья дыма, и дым пах волнующе и странно, и мать дергала меня за руку и говорила: немедленно закрой окно, засоришь глаза, и я понял, что я мальчик, потому что не может же мать дергать за руку взрослого человека, и не может взрослый человек не знать, что такое сопротивление воздуха. Мне не хотелось расставаться с пьянящим дымом, хоть бы в глаза влетело сто соринок, но мать оттащила меня от окна и сказала:
«Для человека с инсультом ты ведешь себя довольно легкомысленно».
Это было странно. С одной стороны, я был явно мальчиком, хотя бы потому, что меня волновал запах дыма и проносившиеся мимо коровы, которые смотрели на меня удивленно и с завистью. С другой — у меня почему-то был инсульт. Все это было непонятно, и я проснулся.
Экипаж остановился, и я понял, что мы приехали. Чтобы извозчик говорил понятнее, я составил в уме фразу, что я иностранец, что он должен выражаться яснее.
«Это я вижу», — пробормотал он и довольно ясным голосом назвал сумму в пять шиллингов. Наверное, нужно было поторговаться, потому что глаза возницы были неуверенные и лживые, но я молча заплатил ему. Он посмотрел на меня диким взглядом, что-то буркнул, дернул за вожжи и поспешил укатить, боясь, очевидно, что я передумаю.
Улица была тихой и так походила на декорации к какому-нибудь фильму, что я даже оглянулся в поисках съемочной группы. Группы не было, и я вошел в подъезд с начищенной медной табличкой. Дверь мне открыл свирепого вида человек в ливрее с пиратской бородой, и я подумал, что раз он не прогнал меня, вид у меня, стало быть, вполне респектабельный. Мне захотелось пожать пирату руку, но я сдержался. Наверное, братание курского помещика с британским пиратом могло показаться здесь неуместным. Внутри было полутемно от красного дерева, дуба, кожи и меди. Никогда в жизни я не видел такого количества сияющего дерева и сияющей меди. Что-что, а за уборкой мистер Кокс, похоже было, следил строго.
Из-за конторы выплыл мистер Пиквик — я чуть не обратился к нему «мистер Пиквик», так он был округл и приятен — и спросил, чем может служить. К своему величайшему изумлению, я обнаружил, что понял его слова. Ночной курс английского делал свое дело. Я глубоко вздохнул, впервые всерьез бросаясь в английское море, и объяснил, что хотел бы видеть мистера Хьюма. И опять чудо! Мистер Пиквик вполне понял меня, потому что спросил, как доложить.
«Скажите, что его хочет видеть русский путешественник мистер Харин. Вот моя карточка».
«О, да, да, конечно, — расплылся мистер Пиквик в широчайшей улыбке, которая казалась еще шире из-за бакенбардов, — мистер Хыом недавно вернулся из России».
Я поймал себя на том, что жду, пока Пиквик поднимет трубку телефона и позвонит медиуму. Но телефона не было. Телефон еще не был изобретен, и вместо него портье отправил вверх по лестнице — лифта тоже еще не было — еще одного Оливера Твиста.
«Вы прямо из России, сэр?» — спросил портье, жестом приглашая меня сесть в кресло.
«Да, я прибыл в Лондон только что».
Вскоре появился Оливер Твист, сказал что-то портье, а тот уже — мне:
«Если вы соблаговолите пройти, сэр, мистер Хыом готов принять вас».
Я прошел за боем по тишайшему коридору. Он остановился перед сияющей дверью красного дерева с сияющей медной цифрой 5, почтительно постучал, оттуда донеслось «кам ин», Оливер приоткрыл дверь, пропуская меня, и мягко закрыл ее за мной.
Навстречу мне шел невысокий молодой человек с бледным лицом, окаймленным густыми темными волосами. На нем был темно-красный длинный халат и белая рубашка. Он был похож на Эдгара По, а может, на лорда Байрона. На кого именно, я решить не мог, потому что представлял себе того и другого достаточно смутно.
Как странно, пронеслось у меня в голове, издатель Визителли уже рассказал в своих мемуарах о посещении Хыюма таинственным курским помещиком. А я ведь могу повернуться еще и удрать отсюда. Как тогда?
Но нет, история знает, что делает. Где она уже прошла, она прошла, поступь у нее основательная, и мыслишка эта была лишь детским взбрыкиванием. Я-то знал, что никуда не уйду, потому что я уже был здесь, беседовал с Хьюмом и даже предсказал ему будущее. Я двигался по предопределенной траектории, и не дано мне было выскочить из уже проделанной колеи.
В этот момент откуда-то из соседней комнаты раздался детский крик «мама», плач, и женский голос произнес:
«Ну, Гриша, не плачь…»
И этот плач, и русские слова вдруг сняли с меня все напряжение, и я почувствовал себя совсем легко и непринужденно.
«Добрый день, мистер Харин, — улыбнулся Хьюм, — вы должны извинить меня, это сын… Мы недавно приехали с женой, она тоже русская, моя Саша, и я буду рад вас познакомить… Конечно, жизнь в отеле… Но найти хороший дом в Лондоне — это далеко не простое дело, уверяю вас, сэр. Но вот и Саша».
В комнату вошло совсем юное существо, почти девочка. Я испытал в эту секунду нелепое, но острое чувство давнего знакомства с ней. Эта тоненькая фигурка, эти доверчивые большие глаза на нежном личике — сколько раз мое воображение создавало этот образ, когда я читал и перечитывал Тургенева и Толстого. Она держала за руку крошечного мальчугана.
«Саша, позволь представить тебе господина Харина, твоего соотечественника. Мистер Харин, это моя жена Александрина, которая предпочитает, чтобы ее звали Сашей, и Грегори, он же Гриша».
Девочка улыбнулась и кивнула мне приветливо. Волосы у нее были русые и разделены посредине пробором.
«Рад познакомиться с вами, миссис Хьюм», — сказал я.
Вздор, чушь, не может быть, вертелось у меня в голове, не может того быть, чтобы это юное существо с очаровательным румянцем на персиковых щечках умерло через три года. И все же…
Саша и ее супруг что-то говорили, я что-то отвечал, а сам думал, что прав, тысячу раз прав был библейский царь, действительно знание может приносить печаль…
Но вот мы остались наедине с Хьюмом, и он сказал:
«Вы не представляете, сэр, как я привязан к вашей родине. Нигде я не чувствовал себя таким счастливым. И не только потому, что нашел в России жену, не только потому, что имел честь беседовать неоднократно с их императорским высочеством царем Александром, что-то в моей душе тянет меня к России. Порой мне кажется, что во мне течет русская кровь…» «Если не ошибаюсь, ваша матушка родом из Шотландии, — сказал я, и Хьюм посмотрел на меня внимательно, удивленный, очевидно, моей осведомленностью, — а Шотландия своей суровой природой, я слышал, напоминает Россию».
«Истинно так, истинно так, сэр! — пылко воскликнул Хьюм. — Я провел там первые годы своей жизни, а самые сильные и счастливые впечатления — это впечатления детства».
«У нас в России был великий поэт, он умер совсем молодым, Лермонтов, его предки, говорят, родом из Шотландии».
«Лермонт? О, да, это шотландское имя. К сожалению, я так и не выучил русский язык как следует, но я обязательно попрошу Сашу почитать мне его. Хорошая поэзия ведь как музыка, она больше, чем только слова».
Мы вели неторопливую пустую беседу, а в голове моей жужжал простенький вопрос: а о чем мне, собственно, говорить с ним? То есть я уже знал, что займусь предсказаниями, ведь я уже, строго говоря, сделал это сто с лишним лет тому назад, возьму у него автограф, потому что этот автограф он уже подписал и вручил мне, то есть не сейчас, не в этом странном временном зигзаге, а в рамках настоящего времени, и, стало быть, через несколько минут мы можем распрощаться.
Парапсихологией я никогда особенно не интересовался. Конечно, как и всякому нормальному человеку, мне было любопытно время от времени читать очередное газетное разоблачение парапсихологии, но в самом этом настойчивом отрицании было нечто, заставлявшее среднестатистического скептика насторожиться. Раз газеты отрицают и разоблачают, значит, думал я, все не так просто. Но сам я с экстрасенсами не сталкивался, и никакого своего мнения по поводу их существования не имел, ибо мнение это просто не на чем было выстраивать, разве что на привычном недоверии к газетным разоблачениям.
Кроме того, чтобы интересоваться подобного рода вещами, надо, наверное, обладать соответствующей натурой, натурой романтической, жаждущей всяческих чудес. А я всю жизнь был скорее суховатым скептиком, склонным по природе к сомнениям. Если кто-то говорил, что прочел изумительный роман, первым побуждением моего уксусного ума было усомниться: так уж и изумительный.
Но то было давно, в другом веке. Мог ли я остаться прежним после того, как потрясли меня и взболтали невероятные скачки из века в век, когда случалось то, что случиться, безусловно, не могло и все же случилось. Да и трудно было оставаться скептиком, когда меня подымали к потолку, когда люди взмывали в воздух надувными шариками, нисколько не чувствуя себя при этом волшебниками. Но то было в двадцать втором веке, веке невероятных достижений науки и техники. А сейчас я сижу перед человеком, который, кроме таблицы умножения, к науке другого отношения не имеет, но волею судеб неведомым для себя способом соприкоснулся с тем, что скрыто для его века, да и для моего тоже. Не случайно же его имя известно будет через триста лет, более известно, чем через сто.
И нужно было быть тупым скотом, чтобы не испытывать любопытства перед этим бледным феноменом. Так сказал я себе. Тем временем вежливый наш разговор медленно влачился, пока я не заметил:
«Скажите, мистер Хьюм, правда ли, что ваша матушка, насколько я слышал, была ясновидящей и происходила из рода ясновидящих и умела предсказывать смерть родных, близких и знакомых?» Медиум откинул рукой прядь волос со лба и внимательно посмотрел на меня. Лицо его было задумчиво, словно он пытался что-то вспомнить.
«Я вижу, сэр, вы изрядно осведомлены о моем детстве», — слабо улыбнулся он.
«Вы не ошиблись, дорогой мистер Хьюм, — пылко вскричал я, сам удивляясь своим неведомым артистическим способностям. — Вот уже несколько лет я ищу все, что можно узнать о вас, о человеке, который своим необычайным даром глубоко потряс меня и поразил мое воображение…» «Благодарю вас, сэр, я польщен, но… — Хьюм запнулся и, склонив голову на плечо, как-то искоса посмотрел на меня. — Но… дело в том, что, я, по-моему, никогда не рассказывал о несчастном даре моей матушки, да и сама она после всех ударов судьбы, кои не раз обрушивались на нее, не очень-то афишировала способности свои проникать мысленным взглядом в будущее…» Я неуклюже рассмеялся, чтобы выиграть хоть несколько секунд.
«Ну что же, дорогой метр, я не решался говорить об этом, потому что негоже недостойному ученику хвастаться перед великим учителем, но я тоже… развил в себе некоторые способности… так сказать… видения… видения за горизонт, если позволительно так выразиться. И вполне может быть, что я не читал ничего о даре вашей матушки, а… как бы увидел… Иногда я путаю то, что узнал, так сказать, из обычных источников, с тем, что… увидел. Это моя скромная способность непостоянна, мистер Хьюм. Я заметил, что мой мысленный взгляд приобретает остроту только тогда, когда меня живо волнует человек, о ком я думаю. Говоря с вами и испытывая при этом глубокое волнение, я даже вижу ваше будущее как бы против своей воли…» Лицо Хьюма, как я уже сказал, было бледным, но в этот момент он еще больше побледнел. Он как-то криво усмехнулся и сказал:
«И что же вы видите, господин Харин?» — слово «господин» он произнес по-русски, и мне почудилось, что прозвучало оно насмешливо.
«Астральные силы, что руководят мною, — пробормотал я медленно, стараясь дышать глубоко, словно я был в трансе, — подсказывают, что через три года вы испытаете большое горе, ровно через три года вы потеряете близкого человека… Позже… позже… Да, позже, в 1867 году вы будете лечиться, потому что случится с вами нервное расстройство… В клинике вы познакомитесь с аристократом, который напишет впоследствии о вас книгу, прекрасную книгу.
Позже… еще позже… в 1871 году ваши необыкновенные способности будет изучать молодой ученый Уильям Крукс, который станет со временем сэром Уильямом. И даже опубликует свои наблюдения в солидном журнале…» Хьюм долго смотрел на меня, потом пожал плечами и спросил, слабо усмехнувшись:
«А смерть мою вы тоже видите?»
«Да, вижу».
«И что же вы видите?»
«Вы действительно хотите знать, когда умрете? Жить с этим нелегко…» «Да, хочу».
«Ну что ж, я скажу вам, учитель. Вы умрете через… двадцать семь лет».
«То есть в 1886 году?»
«Да».
«Ну что ж, будем надеяться, что вы не ошибаетесь. Двадцать семь лет — немалый срок, а я и теперь иногда чувствую себя таким усталым… Обессиленным… Словно земля притягивает меня… — Хьюм невесело усмехнулся. — Смешно. Человек, который умеет взлететь под потолок, жалуется, что его притягивает земля…» Хьюм испытующе посмотрел на меня.
«Но вы странный предсказатель, мистер Харин…» «Почему?» «Видите ли, обычно прорицатели предпочитают пользоваться неясными формулировками, оставляющими, так сказать, место для толкований. Вы же…вы словно читаете чье-то жизнеописание…» Я вздрогнул. Если бы он знал, этот хрупкий молодой человек, как близок он к истине.
«А вы? — поспешил я спросить, чтобы скрыть свое смущение. — Не может быть, чтобы вы, человек, наделенный столь щедро столь необычайными способностями, не видели будущее…» «Как вам сказать, мистер Харин… Вы не поверите, если я скажу вам, что совершенно не знаю, на что способен. У меня порой бывает ощущение, что кто-то, какая-то высшая сила руководит мною, иногда даже против моей воли. Года три назад я вдруг явственно почувствовал, так явственно, как будто мне прочли об этом сообщение, что я на год потеряю свой дар. И что же вы думаете, так и случилось…» «Да, да, я читал об этом».
«Да, об этом много писали. Это было десятого февраля пятьдесят шестого года, а ровно в полночь десятого февраля пятьдесят седьмого года способности мои вновь появились. Произошло это так, как будто я был при этом вовсе ни при чем. Кто-то забрал разом, кто-то вернул разом обратно… Но вы правы, мистер Харин, порой я вижу будущее и прошлое…» Я почувствовал, как сжался от нелепого детского страха. Хьюм внимательно посмотрел на меня, пожал плечами.
«Странно, — пробормотал он, — вы отбрасываете какие-то необыкновенные тени, в прошлое тень почти не отбрасывается, зато в будущее простирается тень такой длины, какой я никогда не видел…» «Благодарю вас, я, право, не заслуживаю вашего драгоценного внимания, дорогой мистер Хьюм. У меня к вам просьба. И только потому, что я проделал неблизкий путь из России в Англию ради встречи с вами, я осмеливаюсь просить вас о ней».
«Я сделаю все, что смогу».
«Это не так много. Я бы хотел получить ваш автограф».
«Только и всего? — воскликнул Хьюм. — Вы не устаете поражать меня. Вот, прошу вас».
Он взял со стола плотную визитную карточку, кажется, ее картон назывался или называется бристольским, обмакнул перо в чернильницу и размашисто расписался. Он помахал карточкой, чтобы быстрее высохли чернила, и протянул ее мне. На карточке было написано «Дэниэл Данглэс Хьюм. Медиум. Кокс отель. Джермин-стрит». И подпись наискосок.
«Спасибо. Но как странно пишется ваше имя. По правилам его ведь следовало бы произносить «Хоум», как слово «дом».
«Да, но мы всегда были Хьюмами».
«Еще раз благодарю вас. Исполнилась моя мечта».
Хьюм кивнул и усмехнулся.
«И все же вы необыкновенный человек, господин Харин. — Хыом опять произнес слово «господин» по-русски. — И не только потому, что отбрасываете такие странные тени…» «Но почему же?» «Вы первый мой собеседник, который не просит продемонстрировать ему мои способности. Да и приехать из России ради автографа… право же, вы заставляете меня смутиться… Скажите, мистер Харин, будете ли вы завтра в Лондоне?» «Да, конечно».
«Могу ли я просить вас в таком случае почтить своим присутствием сеанс, который я даю завтра, двенадцатого, в доме лорда Литтона на Сент-Джеймс-стрит?» «О, я был бы счастлив, — вскричал я, на этот раз вполне искренне, — но я не имею чести быть знакомым с вашим хозяином».
«Не имеет значения, — твердо сказал Хьюм. — Я вас представлю, этого будет достаточно, — надменно добавил он. — В конце концов лордов много, а Хьюм один».
«И все же мне не хотелось бы причинять вам хлопоты…» «Чепуха, вздор. Сеанс начинается в восемь вечера, и я заеду за вами… Где вы остановились?» «О, не беспокойтесь, метр, я буду ждать вас внизу…» «Отлично, я спущусь ровно в семь тридцать. До свидания, господин Харин».
«До свидания, мистер Хьюм».
Он был точен. Ровно в половине восьмого я увидел, как он спускается по лестнице, натягивая перчатки. Он был в темно-сером, почти черном костюме, и кружевная его рубашка и галстук казались ослепительно белыми. Он увидел меня, помахал рукой и улыбнулся как старому знакомому. Мы поздоровались, и я сказал:
«Может быть, я напрасно отпустил кэб?» «Чепуха, лорд должен прислать за мной своих лошадей, да, вон его экипаж, прекрасные лошади, не правда ли?» Лошади и впрямь были хороши. Серые, с лоснящимися боками, они нетерпеливо вскидывали свои точеные головы.
Я вдруг почувствовал себя старым, потрепанным и неловким. И то, что я знал историю Англии на сто лет вперед, нисколько не компенсировало моей… второсортности. Я понимал всю вздорность своего неожиданного комплекса неполноценности, но ничего не мог с собоя поделать.
«Мистер Хьюм, — пробормотал я, чувствуя, как кровь прилила от смущения к моему лицу, — боюсь, что мой туалет…» «Чепуха. Вы вполне респектабельны, — твердо сказал Хьюм, и я испытал детское чувство благодарности. — А знаете что, вечер теплый, расстояние совсем невелико, может быть, пойдем пешком?» «С удовольствием».
Хьюм махнул кучеру, и мы пошли по тихой улочке, и медленное цоканье копыт по мостовой было каким-то удивительно подходящим к этой съемочной площадке, к этим прекрасным декорациям под названием «Лондон, середина девятнадцатого века».
«Вы волнуетесь перед сеансом?» — спросил я, чувствуя, что мой вопрос вполне вписывается в антураж.
«Пожалуй, нет. Я вам уже говорил, что у меня всегда ощущение, что я, Дэниэл Данглэс Хьюм, никакого отношения к тому, что происходит на сеансах, не имею, что действует кто-то или что-то другое, а я лишь почему-то избран для предоставления происходящего публике».
«И вы не пытаетесь как-то настроить людей, внушить трепет, соответствующее настроение?» «Ни в малейшей степени, как вы вскоре увидите. Когда я был совсем еще мальчишкой, мне было всего восемнадцать лет, меня изучала в Америке целая комиссия ученых мужей из Гарвардского университета важности и суровости необыкновенной. Особенно суров и недоверчив, помню, был один джентльмен по имени Уильям Кален Брайант. Он смотрел на меня так, как будто я не то уже вытащил у него из кармана деньги, не то вот-вот сделаю это. Мне даже показалось, что, доставая платок, он проверил, на месте ли бумажник. Я сказал им:
«Джентльмены, поскольку я вполне понимаю ваши сомнения, я бы просил вас, чтобы во время сеанса меня держали за руки и за ноги, дабы вы могли убедиться, что я недвижим».
С таким же успехом я мог бы обращаться к стене — ученые мужи не только не удостоили меня ответом, они даже не взглянули на меня.
Ну, ладно, подумал я, посмотрим, как вы вскоре заговорите. Я чувствовал, что сеанс будет удачным, и действительно, пол затрясся, как это почти всегда бывает вначале, раздался грохот, как будто где-то совсем рядом палили из пушек, и огромный круглый дубовый стол вздрогнул и стал на дыбы.
«О боже! — испуганно воскликнул этот самый величественный мистер Брайант. — Он толкается!» «Кто?» — спросил я, еле сдерживаясь, чтобы не засмеяться.
«Да стол!»
Потом стол поднялся в воздух, и гарвардские джентльмены посыпались с него, как горох.
«Держите его!» — завопил длинный янки с седыми бакенбардами.
«Кого?»
«Этого Хьюма!»
Два ученых мужа кинулись ко мне, обняли меня так, словно я пытался вырваться, и, разинув рты, пялили глаза на стол, который, покачиваясь, висел в воздухе. Куда только делась величественность мистера Брайанта! Он упал на четвереньки и проворно пополз по полу.
«Что вы делаете, сэр, — завизжал один из тех, кто держал меня, — стол может раздавить вас!» Но Брайант не обратил на предупреждение ни малейшего внимания. Оказавшись под столом, он помахал руками и крикнул:
«Стол висит, под ним нет опоры!»
«Этого не может быть!» — рявкнул апоплексического вида старец.
«А я вам говорю, что опоры нет!» — раздраженно возразил простертый на полу мистер Брайант.
«А я вам говорю, что этого не может быть!» — еще громче крикнул старец и закашлялся.
«Я сам прекрасно знаю, что это невозможно, но, сэр, в отличие от вас я лежу под столом и вижу, что он свободно висит в воздухе», — все еще лежа сказал Брайант. Даже распластавшись в нелепой позе на полу, он не утратил импозантности.
«Ваши наблюдения, сэр, ничего не значат по сравнению с великими законами!» — прорычал старец, все более наливаясь багровой кровью.
Я рассказываю вам так подробно, мистер Харин, потому что эпизод этот в том или ином виде повторялся в моей жизни десятки раз. Та комиссия из Гарвардского университета вынуждена была признать, что все виденное ими действительно имело место, что я не делал ни малейших попыток ввести комиссию в заблуждение, что при самом тщательном осмотре дома они не обнаружили никаких приспособлений или приборов, к помощи которых могли бы прибегнуть я или мой помощник…
Меня проверяли, сэр, десятки раз. Я имею в виду специальные комиссии. Но и при обычных сеансах я тоже прохожу постоянные испытания. И ни разу, повторяю, ни разу никто не уличил меня в обмане. Что естественно, потому что я никогда никого не обманывал. И что же? Все равно находятся люди, подобные тому упрямому старцу, которые продолжают тупо твердить: этого не может быть, это все обман, это все ловкость рук. Вы читали произведения господина Диккенса? Все говорят, он замечательный романист».
«Да, конечно».
«Не буду спорить, некоторые его сочинения действительно замечательны, но он, к сожалению, напоминает мне того гарвардского упрямца. При каждом удобном и неудобном случае он утверждает, что я обманщик, причем употребляет и более сильные выражения. Но он ни разу не был на моих сеансах! Ни разу! Много раз я приглашал его, и через общих знакомых, и посылал приглашения. И что же? Ни разу этот джентльмен не ответил мне и ни разу не пришел на сеанс. Иногда мне даже кажется, что такие вот опровергатели просто боятся увидеть меня своими глазами. Вы согласны?» «Боюсь, что да. Есть люди, которые держатся за свои убеждения, как слепцы — за поводыря. Они боятся не только подвергнуть их сомнению, они боятся даже на мгновенье отпустить их…» «Истинно так, мистер Харин… А вон и дом лорда Литтона».
Жилище лорда вполне соответствовало титулу хозяина — это был прекрасный трехэтажный дом с изумрудным газоном перед ним, который напомнил мне о газонах вокруг хроностанции. Только что, совсем недавно, бродил я там, воюя со своими сомнениями, только что беседовал с почтительной оранжевой черепахой, но уже видел я двадцать второй век через дымку невообразимо далекого времени, уже терял он четкие контуры реальности, уже уплывал, покачиваясь, в сказку, в мечту, в сон.
«У меня к вам просьба», — сказал Хьюм, возвращая меня в Лондон, и мне показалось, что произнес он эти слова несколько смущенно.
«Слушаю вас, метр».
«С вашего разрешения я представлю вас графом Хариным, хорошо? Эти снобы…» «Ради бога».
Величественный дворецкий открыл нам дверь, и я подумал, что это скорее всего автомат. Не мог человек быть столь неприступен и не могли человеческие глаза быть так напрочь лишены какого-либо выражения. Впрочем, поправил я себя, может быть, все дворецкие такие. Опыта общения с дворецкими у меня не было.
Зато сам лорд оказался маленькой плешивой обезьянкой. Он был так похож на обезьяну, что я бы не удивился, если бы он вдруг начал чесаться ногой, а потом взобрался по гардине вверх и перепрыгнул на огромную тяжелую люстру.
Хьюм представил меня, графа Харина, как владельца огромного имения под русским городом Курском, который столь живо интересуется сеансами Хьюма, что специально приехал из далекой России.
Какие-то люди пожимали мне руки, какие-то дамы протягивали руки для поцелуев, обдавая меня тошнотворными запахами духов, пота и давно не мытого тела, а мне все казалось, что сейчас кто-нибудь из них скажет:
«Позвольте, какой он граф, какой владелец поместий, это же пенсионер из Дома престарелых ветеранов сцены, он получает сто двадцать рублей пенсии, да и то три четверти у него удерживают за пребывание в Доме».
Самое смешное, что никто из присутствовавших ни о чем не догадался, и я облегченно перевел дух.
Владимир Григорьевич улыбнулся и сказал:
— Конец предпоследней серии, друзья мои. Боюсь, я замучил вас, да и сам, признаюсь, устал немножко… Все-таки не каждый день бываешь у лорда…
Сверкающая яхта у дрянного причала, думал Юрий Анатольевич, мечась по своей квартирке в тщетных попытках хоть немного прибрать ее. Только сейчас, когда Леночка сидела молча в продавленном кресле и следила за ним, он вдруг впервые по-настоящему увидел всю убогость своего жилища: старенький «Рекорд», который включался лишь после того, как два или три раза его хлопали ладонью по боку; узенькая сиротская тахтенка, крытая лысоватым ковриком; двустворчатый шкаф с дверцами, которые всегда стремились открыться, словно шкафу было жарко, и которые приходилось уплотнять сложенным вчетверо «Советским спортом»; испуганно вздрагивающий при каждом включении и выключении холодильник…
— Я сейчас… — пробормотал Юрий Анатольевич, незаметно подсовывая снятые вчера носки под тахту. Если бы ты предупредила меня… У меня, кроме каменного сыра… нет, вру, еще яйца… Яичницу хочешь? — тоскливо спросил он.
— Нет, — сказала Леночка, помолчала и вдруг спросила: — Сколько здесь метров?
— Где?
— Здесь, в твоей квартире.
— Двадцать и девять кухня. А…
— Двухкомнатная и однокомнатная — прекрасный обмен, — сказала Леночка и заплакала. Заплакала горько, как ребенок, всхлипывая.
Голова у Юрия Анатольевича начала вращаться вокруг своей оси, и он почувствовал, что вот-вот упадет. А может, подумал он, это не голова вращается, а все вокруг? Из-за этого дурацкого коловращения он никак не мог сообразить, что именно Леночка хотела сказать этим обменом. Наверняка что-то очень важное, он чувствовал это, но что же именно… И слезы ее… Юрий Анатольевич прерывисто вздохнул, подошел к Леночке, стал перед ней на колени и пробормотал:
— Не плачь… Что ты…
Но Леночка продолжала плакать, и плечи ее под сине-розовой курточкой горько вздрагивали. Он погладил ее руки, которыми она закрыла лицо, и пробормотал:
— Не плачь, птичка-синичка…
А может быть, пронеслось у него в голове, она имеет и виду обмен своей квартиры и его на одну. Мысль была явно нелепая, она даже не укладывалась в сознаниe, и потом, где бы он жил тогда? Его вдруг обдало жаром, словно он открыл дверцу раскаленной духовки. Как где? Она же… она же… Вместе… но почему же тогда она плачет…
Он почувствовал, как накатилась на него волна пронзительной нежности к этим рукам, по-детски прижатым к лицу, к вздрагивающим плечам.
Он обнял ее и начал тереться носом об ее руки.
— Птичка-синичка, — бормотал он, — птичка-синичка. — Он знал, что нужно было найти совсем другие слова, пылкие и нежные, трепещущие и необычные, достойные свершившегося чуда, и искать их вовсе не нужно было, потому что они переполняли его грудную клетку, толкали даже сердце, они подымались по пищеводу, но застревали почему-то в гортани, отчего он не мог вздохнуть, не мог открыть им проход.
Боже, как он никчемен, пронзила его острая и ранящая мысль. Такой же, как и все вокруг него. Чем он отличается от калеки-телевизора и припадочного холодильника? Любимая девушка согласилась стать его женой, она плачет почему-то, а он стоит перед ней и тупо трется носом об ее руки и дебильно бормочет одну и ту же синичку. Неужели он действительно такой беспомощный… Он понял, что наступил момент истины. Сейчас или никогда. Она уже называла его тюфяком. С тюфяками не живут, тюфяков не любят, с тюфяками не смениваются квартирами, о тюфяках не говорят с гордостью: я вышла за прекрасного тюфяка.
Он рывком вскочил на ноги, подсунул одну руку под Леночкины теплые ноги, другой обнял за шею, легко поднял ее из кресла. Она вовсе не тяжелая, автоматически отметили его мышцы. Сердце колотилось, он никак не мог как следует вздохнуть. Он перестал соображать, что делает. Неведомый ему автопилот управлял теперь его движениями. Он сделал круг по комнате, круто повернул, отчего одна туфля со стуком упала с Леночкиной ноги на пол, уложил Леночку на тахту, решительно оторвал ее руки от лица и начал целовать ее в заплаканные глаза. Глаза были мокрые и соленые, и целовать их было вкусно. Наверное, приятно было и глазам, потому что Леночка закинула руки за его шею, крепко обхватила ее и притянула к себе…
Потом, через столетие, наполненное праздничными фейерверками, он спросил ее, сидя около тахты на полу:
— А… почему ты плакала, глупышка моя?
Леночка вздохнула глубоко и прерывисто и сказала:
— Ты не понимаешь…
— Чего?
— Ты не понимаешь…
Он изжарил яичницу и, когда она была готова, с яростью натер окаменевший сыр и посыпал им тарелку.
— Открой рот, — сказал он.
— Для чего? — сонно спросила Леночка.
— Для яичницы.
— Открою.
Она широко открыла рот с ровными маленькими зубками, и он осторожно вложил в него ложечку с порцией яичницы. Леночка тут же проглотила ее и снова разинула рот, широко и требовательно. Он засмеялся.
— Почему ты смеешься? — спросила Леночка сквозь яичницу.
— Неплохо начинается наша семейная жизнь: ты лежишь с открытым ртом, а я кормлю тебя с ложечки.
— Не вижу ничего смешного, — твердо заявила Леночка. — Это единственно приемлемый для меня вариант.
После того как он напоил ее чаем, Леночка вдруг сказала:
— Знаешь, почему я заревела? Потому что в тот момент я твердо решила, что буду с тобой.
— Но почему же слезы?
Леночка вздохнула.
— Ты не понимаешь. Всякое окончательное решение печально.
— Но почему?
— Как ты не понимаешь… В этот момент я окончательно отказала молодому талантливому кинорежиссеру, лауреату ста премий, который хотел сделать меня кинозвездой; блестящему растущему дипломату, который умолял меня поехать с ним на три года в Женеву или Буэнос-Айрес; космонавту и автогонщику.
— М-да, компания…
— Не мдакай, милый, ты ведь победил их. И плакала я, честно сказать, потому что было их жалко. Такие все они были растерянные, жалкие. Особенно дипломат. У того прямо слезы на глазах были…
Они посмеялись тихо и удовлетворенно. У них уже появлялись общие шутки, и они инстинктивно понимали, что это немалое достояние, может быть, не меньшее, чем югославский гарнитур.
— А где ты был сегодня полдня, я раза три подходила к твоей двери, — сказала Леночка.
— А… я часа два просидел у Харина…
— У этого инсультника из шестьдесят восьмой?
Было в этом слове что-то неприятное, и Юрий Анатольевич хотел было обидеться за Владимира Григорьевича, но не успел, потому что Леночка неожиданно проворно села, закинула руки за его шею и поцеловала его в губы. Ее тело излучило какое-то удивительно приятное тепло.
— А что с ним? — спросила Леночка. — Он ведь так хорошо поправился.
— Нет, он здоров. Просто я… — Он вдруг запнулся на мгновение. Как-то сложно ему вдруг показалось объяснить Леночке, почему он провел два часа в шестьдесят восьмой комнате.
— Что ты?
Может быть, и не следовало рассказывать ей о приключениях Владимира Григорьевича, ведь просил он сохранить в тайне, но не мог, не хотел он с первого дня прокладывать между собой и этим теплым прекрасным существом запретную зону с колючей проволокой и контрольно-пропускным пунктом.
— Понимаешь, Владимир Григорьевич рассказывал нам о том, где был… Все эти дни, что отсутствовал…
— Интересно, — зевнула Леночка. — И где же он был?
— О, это не так просто… — И опять запнулся Юрии Анатольевич. Хотел проскочить трудный участок с ходу, но не смог. Какое-то нелепое оцепенение овладело им. Он помолчал, пожал плечами и продолжал: — Он путешествовал во времени…
Только сейчас, произнося эти слова, он вдруг почувствовал всю нелепость их. Тогда, сидя сначала в комнате Ефима Львовича, а потом в шестьдесят восьмой, он подпал под гипноз рассказа. Он слушал Владимира Григорьевича, он как бы постепенно втягивался в рассказ, он вместе с самим стариком преодолевал сопротивление здравого смысла и в конце концов почти верил ему. Даже не то, чтобы верил, но и не не верил. А сейчас, сидя на пыльном полу рядом с тахтой, на которой лежала Леночка, ощущая ее голую руку на своей, он находился совсем в ином измерении, и слова «путешествовал во времени» казались уже дикими и нелепыми.
— Как это, во времени? — лениво спросила Леночка.
— Во времени… — Юрий Анатольевич опять почувствовал, как слова положительно не желали соскальзывать с его губ, и рассердился на себя: что он, однако, за мнительная рохля?! Он набрал побольше воздуха и выпалил: — Понимаешь, к Владимиру Григорьевичу пришли двое молодых людей, и оказалось, что они его далекие потомки, что они прибыли из… — Юрий Анатольевич напрягся, как перед прыжком в холодную воду, — …из двадцать второго века…
— Странно, раньше как будто у него такого не наблюдалось. Он давно уже слабенький, но умственные способности были в норме.
Юрию Анатольевичу хотелось сказать, что умственным способностям Владимира Григорьевича могут позавидовать многие, что старик обладает тонким и цепким умом, что он не утратил чувства юмора, но опять он замешкался, чувствуя, что ему трудно сказать все это. И снова сердился он на себя за слабоволие, скорее даже предательство. И снова все восстало в нем против его трусости.
— При чем тут норма? — раздраженно сказал он. Ты бы сама послушала, как он рассказывает, ты бы не говорила о его умственных способностях.
— Может, это он придумывает просто для развлечения, такая устная фантастика? — примирительно сказала Леночка. Было ей хорошо и покойно. Рубикон она перешла, мосты за собой благополучно сожгла, и не хотелось ей спорить с Юрочкой. Смешной такой. Смешной и пылкий… Что ж, конечно, не самый лучший вариант! Не режиссер, не лауреат ста премий, но обладал он перед всеми ее поклонниками одним несомненным достоинством: в отличие от них он был существом реальным, с сильными теплыми руками, которые так сладостно и томительно ощущать на своем теле.
— Не-ет, не думаю, — сказал Юрий Анатольевич, — он не придумывает.
— Почему ты так уверен?
— Не знаю, это такой яркий рассказ, с таким количеством деталей, не думаю, чтобы он просто сочинял.
— Гм… И что же сказали ему потомки?
— Они взяли его с собой… в двадцать второй век…
— И ты хочешь сказать, что Харин побывал в двадцать втором веке? — спросила Леночка, погладила руку Юрия Анатольевича, и он почувствовал, как впитывает ласку всей кожей, всей своей плотью.
Леночкина рука была легкой, теплой и излучала блаженные щекотные импульсы, и двадцать второй век не выдерживал эти импульсы, отступал, тускнел, съеживался.
— Да, конечно, но… — пробормотал Юрий Анатольевич.
— Может быть, все-таки пригласить психиатра? В конце концов, ты терапевт и не обязан разбираться в старческом слабоумии.
— Я не думаю…
— И напрасно. Все равно все все узнают, пойдут разговоры, и ты же окажешься виновным, что вовремя не пригласил специалиста. Ты можешь дать гарантию, что все ограничится безобидными байками? А если завтра он выпорхнет из окна, чтобы снова навестить потомков? Что тогда?
— Да, но Владимир Григорьевич… он не похож на безумного, — прошептал Юрий Анатольевич.
— Бедный мой добрый и наивный Юрчонок, — сказала Леночка, и голос ее был нежен и ласков. — И как бы ты жил без меня, такой ты доверчивый ребенок… Ну, подумай сам, глупыш, похож или не похож на безумного человек, который уверяет, что побывал в будущем? Машина времени и всякое такое. Значит, когда Харин был там, ему было лет триста? А вернулся — и снова восемьдесят, а?
Ответить было нечего, потому что Леночка была права, но правота ее не производила впечатления цельности и красоты, какой, по мнению Юрия Анатольевича, должна быть правда. Юрий Анатольевич вздохнул и промолчал.
— И еще, Юрчонок мой глупенький, может, тебе всетаки сходить к твоему приятелю, к тому, к спортивному врачу? Когда мы поженимся, не знаю, удобно ли будет, если мы оба будем работать в Доме? Конечно, я тоже могу найти другую работу, но ты сам говорил, что там такое хорошее место…
И опять Леночка была права, и опять в ее правоте было что-то неприятное…
— Устроились? — спросил Владимир Григорьевич, обводя глазами Анечку, Ефима Львовича и Константина Михайловича. — Потерпите, немного уже осталось. Итак, оказались мы в гостиной в доме лорда Литтона.
«Леди и джентльмены, — сказал Хьюм, откидывая рукой прядь черных волос с бледного лба, — я никогда не предваряю свои сеансы длительными разглагольствованиями, как это любят делать многие медиумы, но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что я не нуждаюсь ни в каких особых атрибутах, обычных для такого рода сеансов. Как вы видите, в гостиной светло, и я не прошу, чтобы притушили свет, так сказать, для создания атмосферы. Мало того, я даже не прошу вас сосредоточиться, не прошу тишины. Вы можете разговаривать о чем угодно, вы можете ходить по гостиной, вы можете смеяться и шутить. Единственное, о чем я осмеливаюсь вас просить, леди и джентльмены, это хотя бы одним глазом поглядывать за мной, дабы вы могли убедиться, что ничего необычного я не делаю…» В этот момент раздался оглушительный грохот, словно совсем рядом, за стеной, выстрелила пушка, пол дрогнул, и дамы — а их было пятеро — громко вскрикнули.
«Спокойствие, дорогие друзья, — поднял маленькую сухонькую ручку лорд Литтом, — смею заверить, что бояться совершенно нечего». — Вид при этом у него был чрезвычайно довольный, как будто именно он произвел выстрел.
Первый выстрел сменился залпом, причем казалось, что мы находимся в центре батареи, потому что грохот раздавался сразу со всех сторон. Пол мелко вибрировал.
«Кейлэб», — пробормотала дама с замысловатой седой прической, которая стояла недалеко от меня и уцепилась за руку высокого джентльмена с красной физиономией.
«Ты со мной, Дженифер», — не очень уверенно сказал краснолицый.
Я посмотрел на Хьюма. Он сидел на стуле, закинув ногу на ногу, полузакрыв глаза, и мне показалось, что выражение лица у него было самое что ни на есть скучающее. Это было так неожиданно, что я чуть не рассмеялся. Человек заставляет палить невидимые пушки, трясет прекрасный пол в дорогих коврах так, как будто под ним работает судовой дизель мощностью в пять тысяч сил, и при этом у него выражение лица, которое бывает на профсоюзных собраниях. Канонада тем временем стихла, и моя соседка облегченно вздохнула:
«Ах, Кейлэб, это было ужасно, мне казалось…» Что именно ей казалось, я не узнал, потому что она замолчала, забыв закрыть рот. Глаза ее выкатились, она смотрела на большой овальный стол красного дерева, стоявший в центре гостиной. Стол затрясся, несколько раз подпрыгнул, как жеребенок на лугу, и начал вставать на дыбы, подымая медленно вверх длинный конец.
На столе стояла высокая фарфоровая ваза с цветами. а по обеим ее сторонам горели в фарфоровых же канделябрах свечи. Я непроизвольно напрягся и сделал шаг к столу. Еще мгновение — и все, что стояло на столе, начнет скользить по наклонной плоскости. Секунда-другая, и тонкая ваза брызнет осколками, а свечи упадут на ковер, и нужно будет быстрее поднять их, чтобы не начался пожар. Я хотел было броситься к столу, но что-то удержало меня. Казалось, меня приклеили к тому месту, где я стоял. Я завороженно смотрел на стол, и органы моих чувств с негодованием бросались друг на друга: глаза мои видели круто накренившийся стол, а уши так и не слышали звона разбивающейся вазы и канделябров, потому что они и не собирались соскальзывать со стола. Но и не это заставило меня разинуть рот. Фокус, иллюзия, вопил здравый смысл, все эти вещи закреплены на столе, но глаза мои видели нечто гораздо более невероятное: пламя свечей не подымалось под прямым углом, как оно должно было делать по всем законам, а горело так, как будто стол стоял горизонтально.
Ага, торжествующе возопил мой здравый смысл, торопясь взять реванш за болезненные щелчки, ага, теперь-то ты понимаешь, что это всего-навсего массовый гипноз, что стол стоит ровно! Это было прекрасное объяснение, разом ставившее все на свои места. Пусть до сих пор ученые мужи до конца и не разобрались в механизмах гипноза, но он существует, он существовал всегда, и многие чудеса рушатся карточными домиками, если предположить, что свидетели их просто-напросто были загипнотизированы.
Да, объяснение было разумным, и я даже испытал некоторое разочарование: в душе, наверное, я дикарь или ребенок, а может быть, это одно и то же, потому что в самых забытых запасниках моей души всегда, оказывается, хранилась жажда чуда.
Я вдруг вспомнил рассказ Хьюма о Гарвардской комиссии и о ее председателе, который лег на пол, чтобы убедиться в том, что стол висел в воздухе. Прежде чем я сообразил, что делаю, я уже подскочил к столу, к той части, которая непристойно задралась в воздух, опустился на четвереньки и провел рукой. Рука прошла свободно, потому что ножки были высоко надо мной. На внутренней поверхности стола видна была пыль и бахромчатые нити паутины. Конечно, пронеслось у меня в голове, может быть, это гипноз, это не может не быть гипнозом, но бедный мой разум отказывался в это верить: я знал, что я — Владимир Григорьевич Харин, что нахожусь я в середине девятнадцатого века в Лондоне, на фешенебельной Сент-Джеймс-стрит, что… Я вдруг рассмеялся, и стоявший рядом сухонький старичок нагнулся и участливо спросил:
«Вы что-то сказали?»
«Нет», — покачал я головой, все еще сидя на полу под вздыбившимся столом красного дерева. Боже, каким же забавным инструментом проверял я работу своих органов чувств! Вспомнить, что я, отставной драматург и пенсионер, обитатель Дома ветеранов сцены, нахожусь в Лондоне девятнадцатого века как доказательство здравого ума… Ведь само мое пребывание здесь, сам лорд Литтон, сам Хьюм, смотревший на меня со своего штофного стула, само время уже было невероятным…
Хьюм, казалось, понимал, о чем я думал.
«Леди и джентльмены, — сказал он, вставая, — мой русский друг, очевидно, сомневается, наблюдает ли он нечто действительно происходящее или перед ним как бы мираж. Так, дорогой граф?» Граф? Какой граф? Ах, это же я… Я сделал усилие и попытался собрать вместе мои разбежавшиеся органы чувств.
«Признаюсь, дорогой метр, что мой жизненный опыт действительно восстает против того, что регистрирует взгляд».
«Ах, как справедливо, как справедливо вы выразились», — сказала молоденькая девушка, сама фигура которой тоже бросила вызов здравому смыслу: ее талия была так затянута, что, казалось, ее должны были сначала выпотрошить, ибо никакие внутренние органы не могли уместиться в столь ничтожном объеме.
«Ну что ж, дорогой граф, я понимаю вас, — торжествующе улыбнулся Хьюм, и видно было, что наше изумление доставляет ему огромное удовольствие. — И потому предлагаю маленький опыт, который однажды уже убедил скептиков. Это было, если не ошибаюсь, когда мои способности проверял сэр Дэвид Брюстер, надеюсь вы знаете его?» «О да, — кивнул лорд Литтон своей плешивой обезьяньей головкой. — Сэр Дэвид не верит даже самому себе». — Обезьянка засмеялась, чрезвычайно довольная, очевидно, своим остроумием.
«Сэр, — обратился Хьюм к хозяину, — могу ли я попросить у вас тарелку, которую не жалко разбить?» «Тарелку?» — обезьянка растерянно заморгала красноватыми, без ресниц, веками, как будто Хьюм попросил у него нечто совершенно необыкновенное.
«Не жалко разбить, ха, ха, ха…» — залился лорд Литтон в идиотском смехе.
«Да, сэр, разбить».
«Вы шутник, Хьюм, настоящий шутник… — лорд Литтон взял с каминной мраморной полки колокольчик, потряс им, и в комнате невесть откуда материализовался дворецкий. — Джеймс, принесите нам тарелку, которую не жалко разбить, ха-ха-ха…» Дворецкий торжественно поклонился и сказал:
— Хорошо, сэр.
Через минуту он явился с тарелкой, снова торжественно поклонился и протянул ее хозяину. Тот, в свою очередь, передал ее Хьюму.
«Держите, — сказал он, — мне совершенно не жалко этой тарелки, ха-ха-ха…» «Благодарю вас, сэр, — в свою очередь, поклонился Хьюм, взял тарелку и постучал по ней ногтем. — Как вы видите, леди и джентльмены, эта тарелка цела. Сейчас я положу ее на пол, и стол, опустившись, своей тяжестью раздавит ее. Вы можете сомневаться, не внушил ли я вам то, что вы видите, но ведь тарелка не поддается внушению. Так?» «Так», — серьезно кивнула девица с осиной талией.
«Благодарю вас, мисс Прайс», — важно сказал Хыом и положил тарелку на ковер.
«Боюсь, у вас неважный глазомер, Хьюм», — сказал сухонький старичок, а красномордый добавил:
«Подвиньте-ка тарелку. Если вы даже опустите этот стол, ножка не достанет до тарелки».
«Не беда», — сказал Хьюм и пожал плечами. Он, наверное, хотел сказать это тоном равнодушным, но я видел, что он с трудом скрывает торжество. Он опять уселся, закинул ногу за ногу и с легкой улыбкой смотрел на нас.
Стол начал опускаться. Джентльмены были правы, он положил тарелку на ковер слишком далеко, и опускающаяся ножка должна была оказаться минимум в полуметре от тарелки. И в эту минуту я услышал, как затянутая девица воскликнула:
«Ах, смотрите!»
Я оторвался от тарелки и увидел, что стол теперь уже не касался ковра сразу всеми своими четырьмя ножками. Он висел над полом, наверное, в полуметре и слегка покачивался. Покачавшись, он медленно поплыл в сторону тарелки и, когда оказался над нею, начал опускаться. И опять ножка не попадала на тарелку.
«Да что же это такое», — раздраженно пробормотал Хьюм, стол прыгнул, и тарелка хрустнула под его тяжестью.
Присутствующие захлопали, а я наклонился и поднял черепок. Черепок был самый обыкновенный, неровной формы, с острым сколом.
Да, нужно было отключить здравый смысл, здесь ему делать было явно нечего. Хьюм был прав. Если даже предположить, что все мы были загипнотизированы, то тарелку-то вряд ли можно было убедить расколоться на десяток черепков. А если стол на самом деле все время стоял недвижимо, подсунуть тарелку под его ножку было невозможно — стол весил, наверное, не менее центнера.
Да и стоял он теперь, раздавив тарелку, минимум в метре от прежнего своего места, это видно было по вмятинкам на ковре.
«Мисс Прайс, — сказал Хьюм, — если не ошибаюсь, вы играете на фортепьяно…» «Немножко».
«Мы были бы вам чрезвычайно признательны, если бы вы соблагоизволили сесть за этот великолепный рояль и сыграть нам что-нибудь».
«А вы не… подымете меня в воздух?» «С удовольствием, но только если вы того пожелаете».
«Нет, нет, я ужасно боюсь высоты», — зарделась девица с тонкой талией.
«Я не боюсь высоты, — сказал наш хозяин и засмеялся. — Правда, я не очень искусен в музицировании, но, сдается мне, вам это и не так важно».
«Благодарю вас, сэр», — важно сказал Хьюм.
Обезьянка села за рояль, откинула крышку и, к моему величайшему изумлению, качала довольно бойко выстукивать нечто танцевальное. Не успел он побарабанить и минуты, как тяжелый рояль покачнулся и поднялся в воздух, а рядом с ним подымался лорд Литтон, который продолжал играть, заливаясь при этом смехом. Интересное было чувство юмора у нашего хозяина.
Я ребенок. Я сижу с мамой в цирке. Наверное, это летний цирк, потому что где-то совсем рядом хлопает тяжелая парусина крыши, а я смотрю на круглую арену, смотрю на человека в блескучем, переливающемся костюме, который подбрасывает в воздух множество деревянных палочек, они вращаются над ним, образуя высокую мерцающую арку, и он успевает ловить их и снова посылать вверх. Я не дышу. Я боюсь вздохнуть, чтобы не спугнуть чудо, яркое, праздничное чудо, и сердечко мое сжимает тягостная мысль — это чудо кончится.
«Мамочка, — шепчу я, — а скоро представление окончится?» «Скоро, скоро, Володенька», — успокаивает меня мать.
Как она не понимает! Она думает, что успокаивает меня, что я жду конца, а я страшусь его, я бы отдал все на свете, даже свой драгоценный перочинный нож с шестью предметами, которым гордился необыкновенно, лишь бы праздник не кончался.
Но это было давно, лет семьдесят назад… Нет, поправил я себя, не семьдесят лет назад, а скорее наоборот, я буду сидеть рядом с мамой в жалком заезжем шапито только через полвека…
Но было, будет, какая в конце концов разница. Важно, что, как и тогда, я снова испытывал страх, что это яркое чудо кончится, что вот-вот рояль с музицирующей морщинистой обезьянкой плавно спланирует вниз, погаснет яркий свет, и снова наступит будничный мир, в котором здравый смысл самодовольно озирается вокруг, а не скулит, униженный и посрамленный, у моих ног.
Тем временем музыка оборвалась, потому что теперь рояль, стул и старый лорд плыли в воздухе порознь. При этом рояль продолжал жестяно отбивать все тот же танец, а обезьянка делала беспомощные движения руками и ногами и заливалась при этом смехом.
Это было уже слишком. Все имеет пределы. Я уже исчерпал свои резервы удивления, одна за другой во мне отключались какие-то пробки, и я бессмысленно и бесчувственно глазел, как лорд и его стул опустились на ковер, а рояль продолжал висеть, покачиваясь. Словно во сне, словно сомнамбула, я подошел к роялю и потянул его вниз за ножку. Куда там, он и не думал опускаться.
«Осторожнее… гм… мистер… — сухонький старичок потянул меня за рукав. — Не дай бог, рояль может…» «А? — пробормотал я. — А, да, да, конечно».
«Можно опустить рояль?» — спросил Хьюм.
«Конечно, дорогой Хьюм, — засмеялся лорд Литтон, — это было просто замечательно. Если бы кто-нибудь сказал мне, что я буду играть, вися в воздухе, я бы поставил тысячу гиней, что это невозможно».
«Если вы не устали, леди и джентльмены, я бы хотел показать вам, что и сила огня отступает перед теми силами, которые выбрали меня для своего проявления».
«Как отступает?» — спросила дама с высокой седой прической.
«Очень просто. Огонь перестает быть огнем и перестает жечь».
«Вы гасите его, ха-ха-ха?» — засмеялся лорд Литтон.
«Нет, сэр. Когда сталкиваются две силы, побеждает та, которая не слепа…» «Вы выражаетесь загадками, дорогой Хьюм».
«Увы, я ничего не могу сказать яснее».
«Почему?»
«Потому, сэр, что я не знаю, как все это происходит».
«Вы не знаете, как подымаете в воздух все эти предметы и даже людей?» — недоверчиво воскликнула миссис Прайс.
«Именно так».
«Как странно», — пробормотала леди с высокой седой прической.
«Гм… однако же», — буркнул краснолицый и пожал плечами.
«С вашего разрешения, леди и джентльмены, я подойду сейчас к камину».
Хьюм аккуратно отставил в сторону от каминного очага экран с охотничьей сценой на нем, и я почувствовал, как от огня пахнуло жаром. Медиум вынул из подставки длинные каминные щипцы — не то, чтобы я когда-нибудь видел раньше каминные щипцы, я просто догадался о том, что это, — и разворошил угли. Посыпались искры. Хьюм сделал еще шаг к каминной решетке, и я непроизвольно напрягся, словно желая остановить его. Но он опустился на колени, протянул руки к огню, набрал полную пригоршню углей и поднес их к своему лицу.
Я не трусишка. Меня всегда забавляло, как моя бедная Наденька зажмуривала в кино глаза, когда на экране в кого-нибудь стреляли или кому-нибудь втыкали в спину или куда-нибудь еще нож. Но тут и я не выдержал. Не мог я спокойно смотреть, как вопьются сейчас раскаленные угли в слабую человеческую плоть, как на мгновение вспыхнут мошками в огне ресницы и брови, как вытекут глаза. Это ведь было не кино. До братьев Люмьер было еще далеко, еще дальше до фильмов ужасов.
«Хватит! — крикнула миссис Прайс. — Остановите безумца!» «Однако же!» — рявкнул красномордый.
«Боже, боже, боже», — стонала пожилая леди с высокой седой прической, а сухонький старичок начал громко икать.
«Хьюм! — скомандовал лорд Литтон. — Можете заниматься самосожжением где угодно, но только не у меня в доме».
«Слушаю, — сказал Хьюм и опустил руки. На лице не было ни следа ожогов, разве что оно чуть раскраснелось, то ли от угольков, то ли от реакции присутствовавших. — Уверяю, леди и джентльмены, я вовсе не страдал и не истязал свою плоть. И чтобы вы поверили, я прошу кого-нибудь взять из моих рук вот этот красненький уголек», — медиум протянул ладонь, на которой лежал уголек. По поверхности его муарово пробегали искорки.
«Э, нет, Хьюм, — засмеялся лорд Литтон, — меня вы на это не подобьете, ха-ха-ха…» «Он же горячий», — отшатнулась мисс Прайс.
Почему-то все взоры в эту секунду обратились ко мне. Гости лорда Литтона, очевидно, считали, что на роль огнепоклонника больше всего подходит русский варвар. Пусть граф, но явно варварский граф.
«Не бойтесь, господин Харин», — мягко сказал Хьюм. Слово «господин» он произнес по-русски, и была в этом «гаспэтине» какая-то поддержка, какая-то общая тайна, как будто хотел он сказать: не бойся, уж мы-то, избранные, друг другу вреда не причиним.
Знал я, видел, что бояться нечего, что только что на моих глазах прижимал он целую пригоршню жгучих угольев к лицу, и все-таки стиснул я губы, заставляя себя протянуть руку. Знать-то знал, но древний инстинкт дергал за мускулы: ты с ума сошел, что ли, ведь обожжет…
Хьюм улыбнулся, заговорщицки подмигнул мне и перекатил уголек на мою ладонь. Я напрягся, как перед болезненным уколом. Но укола не последовало. Глаза мои видели на ладони начавший тускнеть красный уголек, а болевые центры молчали, потому что никто не вопил им: больно!
«Я понимаю, — сказал Хьюм, — что у кого-нибудь из вас может создаться впечатление, что уголек вовсе и не горячий. Сейчас мы проделаем эксперимент. Есть у кого-нибудь листок бумаги?» «Возьмите», — старая обезьянка протянула в сморщенной лапке газету. Мне показалось, что была это «Таймс».
«Благодарю вас, сэр. — Хьюм аккуратно оторвал лист, отделил от него половину и повернулся ко мне. — Бросьте сюда уголек, сэр».
«С удовольствием», — прокаркал я. Хоть уголек и не жег меня, но все мое естество жаждало побыстрее освободиться от него. Я бросил уголек на газету. Листок на моих глазах начал коричневеть вокруг него, темнеть, корежиться и вдруг вспыхнул веселым огоньком. Послышались аплодисменты.
Мы возвращались вместе с Хьюмом после сеанса. Он опять предложил пройтись, и я согласился. Дождя не было, но воздух был насыщен влагой, и холодный ветер заставлял меня поеживаться. Я вспоминал ужин после сеанса и снисходительное добродушие хозяина по отношению к Хьюму. Нет, он не оскорблял его, но он и не давал забыть, кто есть кто. Часом раньше бледный молодой человек мог бросить вызов силе тяжести и жару огня, но вызов титулу и состоянию бросить он не мог… Хьюм словно ответил моим мыслям:
«Порой мне кажется, мистер Харин, что я глубоко несчастный человек…» «Почему?» «Потому что я не беру денег».
«Не понимаю».
«Как вам объяснить… Вы, наверное, слышали, что я пользуюсь определенным успехом, меня приглашают в лучшие дома, я имел честь быть принятым папой римским, Наполеоном Третьим, вашим царем Александром Вторым. Я знаю, что почти все аристократы тем не менее относятся ко мне, как к фокуснику. Пусть к необыкновенному, но к фокуснику. И не дают мне забыть о моем происхождении. А я все тщусь и тщусь доказать им, и скорее всего себе, что я ровня им. Именно тщусь. Умом я понимаю, что никогда ничего никому не докажу, но какая-то дьявольская гордыня разъедает мою душу, как уксус. И только со своей Сашей я счастлив. Мне ничего не нужно доказывать ей…» «Но деньги…» «Да, деньги. Если бы я хоть раз получил гонорар, все эти аристократы вздохнули бы с облегчением. Все бы стало на свои места. Мне бы вручали после сеанса конверт и выпроваживали через ход для слуг. Все было бы неизмеримо проще. А так… Я ведь знаю, что веду себя глупо, что я тщеславен, но ничего не могу с собой поделать… Надеюсь, вы простите меня за это излияние…» «О чем вы говорите, мистер Хьюм».
«Не знаю, почему я так откровенен с вами… Может, потому, что у меня ощущение… — Хьюм вздохнул, — как бы выразиться… что вы все равно знаете меня… Ваши предсказания… И потом мне почему-то кажется, что мы больше не увидимся…» «Я скоро возвращаюсь домой», — сказал я.
«Я открою вам маленький секрет. Скорее всего меня так тянет к себе высшее общество, потому что мой отец был аристократом. Моя бедная матушка несколько раз намекала мне, что я незаконнорожденный сын графа Хьюма. Не знаю, может быть… Но он ни разу не сделал даже попытки повидаться со мной… Сначала я испытывал почти ненависть к матушке, а теперь мне кажется, что она сама страдает еще больше меня…» Удивительно все-таки устроена человеческая психика. Вот человек, наделенный какими-то редчайшими способностями, которые и через сто лет будут казаться такими невероятными, что большинство, в том числе и люди ученые, предпочтут скорее отмахнуться от них, чем пытаться объяснить. Человек, имя которого будет известно и в двадцать втором веке, ибо только в будущем его чудеса перестанут быть чудесами и впишутся в новые парадигмы науки. А он страдает из-за какого-то дрянного графчика, соблазнившего в далекой деревушке шотландскую доверчивую крестьяночку, и бесплатно развлекает надутых идиотов, лишь бы быть поближе к так называемому высшему обществу…
Наверное, Хьюм не лгал, когда утверждал, что не может объяснить, как он творит чудеса. Впрочем, творит ли? Не мог этот заурядный человечек бросать по своей воле вызов законам природы и здравому смыслу. Просто, просто… скажем, в силу каких-то случайных обстоятельств он оказался тем проводником, сквозь который в наш привычный мир попадали силы неизвестного нам свойства.
Я мысленно усмехнулся. Я переворошил охапку слов, которые ровным счетом ничего не объясняют, и почувствовал удовлетворение.
«А духи, — спросил я, — когда вы их вызываете, вы тоже не знаете, как это происходит?» Хьюм помолчал, и мне показалось, что вопрос был ему неприятен.
«Духи, — вздохнул он наконец, — я не люблю духов».
«Но они…»
«Не знаю, не знаю… Я знаю, что, когда по комнате летают столы и рояли, когда я взлетаю в воздух и люди, которые держат меня за руки, подымаются вместе со мной и вынуждены отпустить меня, чтобы не оторвать мне руки, когда я спокойно прикасаюсь к огню, все это пусть и невероятно, но реально. Самые заядлые скептики не могут отрицать того, что видят, что могут пощупать и потрогать. Самое большое, что они могут сделать — это не интересоваться мною. Вы слышали имя Натаниэля Готорна?» «Кто это? Не писатель ли?» «Да, это известный американский автор. Так вот он написал обо мне, я могу даже процитировать на память: «Все это абсолютно твердо доказанные факты, но я не могу заставить себя интересоваться ими».
«Гм…»
«Это его право, по крайней мере, он честен. Но духи… Иногда присутствующим на моих сеансах кажется, что они видят какие-то привидения, узнают умерших, но… это так… неопределенно… Знаете, порой мне кажется, что у меня душа естествоиспытателя, и эти неясные выходцы из царства теней… они как бы… мне трудно это объяснить… низводят меня на уровень других медиумов, которые, увы, столь часто злоупотребляют доверием публики».
«Но ведь вы не пытаетесь никого обмануть?» «Нет, нет! Но я еще раз повторяю: рояль в воздухе — это реальность. А духи… Когда очень хочется чтонибудь увидеть, обязательно увидишь… Вы согласны?» «Да, наверное».
«А вот и мои отель. Саша и Гриша ждут меня. Они всегда ждут меня. Знаете, мистер Харин, мне кажется, то, что я делаю, не должно оскорблять всевышнего, иначе он бы не послал мне в награду Сашу… Благодарю вас, благодарю…» «Помилуйте, дорогой Хьюм, за что же?» «Я излил вам душу… Не помню, чтобы я с кем-нибудь был так откровенен».
«Я рад был познакомиться с вами. Прощайте, вы необыкновенный человек, и даже отдаленные потомки будут помнить ваше имя».
Хьюм поднял голову и пристально посмотрел на меня. В тусклом свете газовых фонарей глаза его казались огромными и печальными:
«Вы… вы говорите… просто так иль вы знаете… знаете?» — Он молча смотрел на меня, и я живо почувствовал, как он напрягся, ожидая ответа.
«Да, дорогой Хьюм, мне удалось заглянуть за горизонт. Это правда».
«Спасибо, — прошептал Хьюм, и мне показалось, что на глазах у него блеснули слезы, — прощайте». — Он пожал мне руку и исчез в подъезде.
«Надеюсь, ты простишь меня, друг Владимир, — улыбнулся Бруно, когда я вернулся на Кенсингтонроуд, — но тебе придется переодеться».
«Во что? Я только начал привыкать к этому элегантному костюму».
«Как во что? В твою вельветовую пижаму. Или ты хочешь появиться в твоем Доме ветеранов в сером цилиндре?» «А что…» «Увы, нельзя».
«Почему?»
«Эта ткань могла бы вызвать шок у ваших специалистов, потому что, строго говоря, это и не ткань».
«А что это?»
«Увы, друг Владимир, не могу, не имею права объяснить тебе. Да я и не знаю».
«А ты уверен, что я попаду точно домой? Не может случиться, что я вынырну на поверхность двадцатого века в том же Лондоне? Боюсь, с английской полицией и работниками нашего консульства может случиться шок: советский пенсионер оказывается в столице Великобритании в тапочках и вельветовой пижаме с двумя с половиной сотнями фунтов стерлингов в кармане».
«Нет, пенсионер в пижаме, но без пенса».
«Почему без пенса?» — обиделся я.
«Потому что и деньги я у тебя отберу, друг Владимир», — улыбнулся Бруно.
«Боишься, что меня обвинят в валютных махинациях?» «Хуже. Купюры столетней давности, да еще фальшивые, да еще сделанные не из бумаги… Увы, друг Владимир, увы…» «Ты меня огорчаешь, друг Бруно. Как же я доберусь до своего Дома ветеранов? Пешком? Через всю Европу. Подайте бывшему русскому драматургу, возвращающемуся на родину, же ву при, мсье, битте, эншульдиген мих…» «Что-что, но нищенствовать в Европе мы тебе не разрешим. И окажешься ты, друг Владимир, точно в своем Доме ветеранов сцены. Откуда начал ты свое путешествие, туда и вернешься».
«И опять я не увижу самого движения во времени?» «Нет».
«Но…»
«Это невозможно, друг Владимир».
«Ты недоступен, друг Бруно».
«Что делать, как говорили когда-то, ноблес оближ, положение обязывает».
«Мог бы и не переводить, — почему-то обиделся я. — Или ты меня уже совсем идиотом считаешь».
«Нет, отчего же, не совсем, — улыбнулся Бруно. — А если говорить серьезно, мне грустно расставаться с тобой, друг Владимир, я привык к тебе…» «Спасибо, друг Бруно, я унесу эти слова с собой. Это хоть можно забрать с собой?» «Можно, — очень серьезно сказал Бруно. — А я унесу с собой память о добром и смелом человеке…» «Но…» «Помолчи, друг Владимир, помолчи. Ты даже не понимаешь, как ты приблизил к нам и оживил свое время. Нам будет не хватать тебя».
— Вот, собственно, и все, — вздохнул Владимир Григорьевич и посмотрел на своих слушателей. — Остальное вы знаете. Я вернулся…
Иван Степанович с достоинством расстегнул брюки, опустил их и лег животом на жесткий диванчик, покрытый белой куцей простынкой с черными инвентарными печатями.
— Пожалуйста, Леночка, — снисходительно сказал он, — я готов.
Старшая сестра вынула из автоклава иглу и вставила в шприц. Чудак он все-таки, Иван Степанович. Как будто делает одолжение, честь оказывает, подставляя задницу.
— У вас витамины, сегодня последний укол.
— Я думаю, следует сделать еще несколько уколов. Мне они очень помогают.
— Это решаю не я. Сходите к Юрию Анатольевичу, если он решит…
— Я ходил.
— И что же?
— Два раза не мог застать его, все время у Харипа в шестьдесят восьмой, — сказал Иван Степанович осуждающе. — Не понимаю, почему нужно все время заниматься одним человеком. В конце концов, он же не личный врач Харина, не Харин ему зарплату платит, а государство.
Леночка протерла место укола спиртом, втянула в шприц раствор витамина, нажала на плунжер, посмотрела на изгиб блеснувшей струйки и привычным движением вонзила иглу в обширную ягодицу.
— При чем тут личный врач? — сказала она. — Просто Владимир Григорьевич рассказывал о своем путешествии.
— Спасибо, — сказал Иван Степанович таким тоном, что было ясно, кто кому делал одолжение: не она ему, а он ей оказывал честь, доверяя свою совсем еще недавно начальственную задницу. Он важно и неторопливо поднял брюки, так же важно и неторопливо что-то булькнуло в нем, перелилось, и он спросил:
— А что за путешествие? Это когда он отсутствовал?
Слово «путешествие» он произнес с саркастическим нажимом. Конечно, подумала Леночка, Иван Степанович — дядька неприятный, вечно надутый, как индюк, но на этот раз его сарказм был ей понятен. Наверное, потому, что Юрка воспринимал россказни Харина с глупой детской доверчивостью. Конечно, старик был не виноват. Она ничего не имела против Харина, старичок тихий, неназойливый, нетребовательный в отличие от некоторых других. Но то, что он ставил ее Юрку в глупое положение, вызывало в ней глухое раздражение. Ну, тронулся старичок, бывает, даже и с молодыми бывает, но другим-то зачем голову морочить своими бреднями. Наверное, это раздражение и заставило ее сказать:
— Видите ли, был он в двадцать втором веке. — Она подумала и добавила: — Ив девятнадцатом. В Англии.
Смех зародился где-то в необъятных глубинах обширного тела Ивана Степановича, долго поднимался кверху, фильтровался и наконец вышел из него несколькими неспешными солидными выхлопами: ха-ха-ха.
— Шутница вы, Леночка.
Наверное, собственный смех был ему приятен, потому что слово «шутница» произнес он благосклонно, одобрительно, как будто награждал ее некой почетной грамотой.
Следовало бы, конечно, старшей сестре промолчать, тем более что ждали свою очередь на процедуры еще несколько человек, но в ней шевелились какие-то неясные планы. Она и не пыталась их уяснить, боялась подсознательно, что, оказавшись с ними с глазу на глаз, устыдилась бы. А так, как бы и не понимая, что делает, она сказала:
— А я и не шучу. Он и вправду уверен, что побывал в будущем и прошедшем.
Иван Степанович еще раз булькнул, пропуская сквозь многочисленные внутренности смех, но уже другой, довольный, ибо испытывал в эту минуту глубокое удовлетворение.
Нет, не потому, конечно, что сошел Харин с ума, не таков он, чтобы радоваться чужим несчастьям, он человек высоких нравственных принципов, столько лет занимал ответственные посты, руководил театром. Не случайно люди его уважали, ему доверяли столь важные участки. Нет, потому еще испытал удовлетворение, что не раз смотрел на него Харин свысока, брезговал вступать с ним в разговоры. Было это Ивану Степановичу неприятно, и ловил он себя на том, что вызывает в нем этот старикашечка неприязнь. А теперь-то и становилось ясно почему: болезнь, вот почему. И можно было теперь относиться к Харину с жалостью — невелика радость лишиться на старости лет остатков разума.
Иван Степанович вышел из кабинета, важно кивнул старушке, ждавшей на стуле своей очереди, как будто приглашал ее не к старшей сестре в процедурную, а к себе в кабинет, зашел в свою комнату, взял «За рубежом» и пошел в садик посидеть на скамеечке. Но что-то не читалось ему сегодня. Был он почему-то приятно возбужден, испытывал прилив сил. Помогли ему инъекции бэ-прим и бэ-двенадцать, помогли, совсем еще молодцом себя чувствовал, еще ого-го…
Да, поторопились некоторые недальновидные товарищи, вытолкали на пенсию. Что им его опыт, его знание людей, театра. Им бы своего человечка лишь посадить. А толку? А что им толк? Толк — понятие растяжимое. Атмосфера, говорят, теперь другая. Гласность. Сказать все можно. Особенно, когда больше сказать нечего. Интриганы… так коллектив театра переворошить, перекрутить, что выступили люди против него, против человека, который ничего никому плохого не сделал.
Да, бывало, случалось, наказывал кое-кого, но ведь только для пользы дела. Дело — вот что главное. И для пользы его нельзя останавливаться ни перед чем.
Он вспомнил почему-то, как подвела его заслуженная артистка Панчихина. Старушка сидела в его кабинете и казалась совсем крошечной в большом кресле. Она испуганно вжалась в спинку, боялась, видно, что вот-вот вынут ее из кресла и выставят из кабинета, из театра. Чувствовала…
«Понимаете, Лидия Иосифовна, — сказал он со вздохом, — боюсь, вам нужно решать…» «Что, Иван Степанович?» — каркнула старушка.
«Думается, нужно вам оформлять пенсию».
Актриса ойкнула и побледнела. Годами двадцатью раньше, когда Ивана Степановича только перевели в театр из музея, он, может быть, и испугался бы. Но теперь он знал, чего стоят актерские охи и ахи. Лидия Иосифовна закрыла глаза и дышала быстро и мелко.
«Понимаете, вы постоянно бюллетените, и я просто беспокоюсь о вашем же здоровье. — Он посмотрел на листок, лежавший перед ним на большом, крытом толстым стеклом, столе. — В прошлом месяце вы вышли всего на шесть дней, в позапрошлом — на четыре… Конечно, я понимаю…» — Он услышал какой-то хрип и поднял глаза. Актриса выгнулась и разом осела, на лобике ее блестел пот. Она закрыла глаза и уронила голову на плечо. У него мелькнула было мысль, что, может, ей действительно плохо, но он легко отогнал ее. Детские приемчики, ах, сердце, ах, воды. Закрыть глаза и дышать со свистом — невелико искусство. Он бы и сам мог сыграть так, тем более что у него-то сердчишко действительно пошаливало, иной раз ловил себя на том, что уже привык время от времени массировать легонько левую сторону груди.
«Может быть, водички вам налить?» — спросил он на всякий случай, но актриса не отвечала. Упорная была старуха. Ну что ж, она умела играть, но и у него выдержки хватало, слава богу, всю жизнь с людьми работал, и в клубах, и в музее, и вот теперь в театре.
Он разложил перед собой штатное расписание и список личного состава — предстояло сокращение штатов, и нужно было заранее подготовить кандидатуры. Но никак он не мог сосредоточиться, нет-нет да поглядывал краешком глаза на Панчихину. И вдруг словно подтолкнуло его что-то. Старуха начала сползать с кресла, подол ее платья задрался, и видна была худая ляжка в чулке и край комбинации. Вот эта-та черная комбинация с разорванными кружевцами — почему-то запомнились ему эти кружевца — и встревожила его. Уж слишком как-то представлялась старуха. Он нажал кнопку секретаря и сказал секретарше Людочке:
«Тут Лидии Иосифовне плохо, вызови «скорую»…» Он был почти уверен, что при слове «скорая» старуха встрепенется, пробормочет что-нибудь приличествующее вроде: «Ах, простите, я, кажется…», но Панчихина продолжала лежать в кресле нелепой скомканной куклой. Продолжала она лежать и тогда, когда в кабинет вошла бригада «скорой»: какая-то замученная врачиха в грубом пальто, накинутом на халат, и бородатенький санитар с тяжеленным металлическим чемоданчиком.
В дверях стояла Людочка, а за нею Гаврилова из бухгалтерии, еще кто-то. Все-таки развлечение. Это тебе не репетиция «Женитьбы Бальзаминова», которую они репетировали, наверное, уже полгода и никак не могли выпустить спектакль. Что-то, видите ли, никак не мог найти их сиятельство художественный руководитель, и Иван Степанович уже не раз ставил о нем вопрос у руководства. Руководство понимающе вздыхало, разводило руками и говорило:
«Так-то оно так, Иван Степаныч, но…» Прикрывали этим «но» свою трусость и беспринципность. Удобное словечко это «но». Вообще начинало Ивану Степановичу в последнее время казаться, что-то вокруг шло не так, как раньше. Слишком много пожимали плечами, слишком часто разводили руками, слишком охотно выставляли щитами всяческие «но»…
Врачиха тем временем скомандовала бородатому:
«Носилки!» — При этом она посмотрела на Ивана Степановича так, будто он был в чем-то виноват. Она открыла было рот, хотела, видно, что-то спросить, но передумала. Лицо ее было злое, брезгливое.
Черт-те знает кому только доверяют такой важный участок, как медицина, подумал Иван Степанович. Бородатый тем временем вернулся с носилками. За ним трусил еще один, водитель, наверное. Из кармана куртки у него торчал «Советский спорт». Они уложили Лидию Иосифовну на носилки, и мужчины подняли их.
«Что с ней?» — спросил Иван Степанович, но врачиха даже не ответила, пожала только плечами. Воспитаньице…
Старуха оклемалась, оказался у нее микроинфаркт, проводили ее на пенсию, но почувствовал Иван Степанович, что что-то в театре переменилось. И взгляды ловил на себе косые, и разговаривали с ним не так, как раньше, не так… И откуда-то выползло нелепое слово «выборы»… И их сиятельство худрук осмелел. И даже руководство смотрело на него не то с жалостью, не то с осуждением. Сам Петр Петрович, как-то разговаривая с ним, долго играл остро отточенными карандашами — все пытался поставить их на попа — пожевал губы, бросил на Ивана Степановича быстрый взгляд исподлобья, сказал брезгливо:
«Ты бы, Иван Степанович, сделал выводы…» С того разговора у Петра Петровича и покатился он кубарем вниз, быстрее и быстрее, пока не докатился до пенсии, инвалидности и Дома ветеранов. Слава богу, если можно так выразиться, до позорища выборов директора не дожил.
Да, не так он представлял себе конец пути. Не так. Не то, чтобы он часто задумывался о конце, нет, некогда ему было заниматься такими пустяками, но если и мелькала неприглашенная заблудшая мыслишка о смерти, то представлялась она, смерть, Ивану Степановичу боевой, на посту предпочел бы он закрыть глаза, в кабинете или где-нибудь на совещании, чтоб говорили все: сгорел Котомкин на работе… В последних-то двух словах и заключалась вся разница. То сгорел на работе, а то просто сгорел…
Иван Степанович вздохнул. Горько было, горько. Но и сейчас не позволял он себе озлобиться. Нужно было продолжать жить. Жить и бороться. Хотя бы против того непорядка, с которым он сталкивался здесь. Разве это порядок, когда спятившего старика не лечат, а дают ему возможность сбивать с толку других ветеранов безумными россказнями. Конечно, психические заболевания, наверное, не заразны, но все равно не дело, когда несет больной всякий бред, смущает народ… А врач — если, конечно, этого Юрия Анатольевича можно назвать врачом — не только не принимает меры, а запирается в теплой компании с больным, и его невозможно найти… Да еще неизвестно, чем они там занимаются.
Нет, нет, поправил себя Иван Степанович, подставляя лицо солнышку, это ни к чему. Чем они могут заниматься, кто это воспримет всерьез. Он вдруг поймал себя на том, что мысленно составляет заявление. Лучше сделать упор на будущем. Будущее наверняка должно заставить директора отреагировать. Какой он ни на есть руководитель, а все-таки директор, пусть хотя бы Дома ветеранов, и должен понять, что будущим не шутят. Будущее… будущее — слишком святое дело, чтобы его компрометировали ненормальные склеротики. В конце концов, здесь Дом ветеранов, а не психушка. Да, этот тезис и нужно положить в основу заявления, Иван Степанович облегченно вздохнул. Не любил он воспоминаний. Только крутили они сердце, озлобляли понапрасну. Дело, главное — дело. И теперь, когда занят он был пусть небольшим, но настоящим делом, на душе стало покойно. Он боролся за порядок, и это возвращало ему самоуважение. Рожденный бороться должен бороться до конца.
Он переписывал заявление на имя директора четыре раза, но добился все-таки своего: формулировки были четкие и краткие, выводы логичные.
— Здравствуйте, Пантелеймон Романович, — сказал он.
— Здравствуйте, — буркнул директор.
Сидит, как Будда, подумал Иван Степанович, нет, чтобы встать, выйти из-за стола, пожать руку, поговорить с заслуженным человеком. И откуда он такой взялся, молчун, глухонемыми он, что ли, руководил раньше. Вон надулся, аж побагровел весь, руководитель…
— Я пришел с заявлением, — сказал Иван Степанович, — вот, пожалуйста. — Он вынул из кармана листок, развернул его и положил на стол.
Директор посмотрел на Ивана Степановича, на листок на пустынной поверхности стола и ничего не сказал, только еще больше набычился.
У Ивана Степановича вдруг мелькнула дикая мысль, что, может быть, директор и вправду надувной, как уверяли местные остряки, которые говорили, что видели ниппель у него на шее. Он с трудом удержался от того, чтобы сделать шаг к столу, перегнуться и пощупать Пантелеймона Романовича, хорошо ли накачан. Это же надо, какая чушь лезет в голову… Следовало, конечно, уйти, но Иван Степанович упустил момент, когда это было бы естественным, а сейчас неловкость приклеила его к полу, и он чувствовал себя глупо. Надо было обязательно что-то сказать, чтобы проткнуть дурацкое молчание, которое все раздувалось и раздувалось тягостным пузырем.
— Может быть, вы прочтете при мне? — наконец выдавил из себя Иван Степанович, как выдавливают из тюбика засохшую зубную пасту.
Директор взглянул исподлобья на посетителя, побарабанил пальцами сразу обеих рук по столу, мелодия угадывалась знакомая, и Иван Степанович вдруг подумал, что, может быть, псих-то как раз он, Иван Степанович, и что, может быть, это он только думает, что он в Доме ветеранов, может, он уже давно в психушке. Мысли эти его испугали, он не любил, когда мысли начинали забредать бог весть куда, и сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Главное — насытить клетки кислородом, кислород — защита. Он окислит всякую дрань, что лезла в голову. В животе у него что-то забурчало, булькнуло, перелилось из одного сообщающегося сосуда в другой. Обычно Иван Степанович внимания на таинственную жизнь своих внутренностей не обращал, не до этого было, но сейчас ему вдруг показалось, что директор обязательно спросит его, что это такое.
И директор спросил неожиданно высоким голосом:
— Что это?
И от того, что он столь четко представил себе заранее вопрос, Иван Степанович испугался почему-то, растерялся.
— Это… — замялся он, — перистальтика у меня такая…
Пантелеймон Романович дико посмотрел на него, поднял заявление и потряс им в воздухе.
— Я про это.
— А… заявление.
— Я… изучу, — сказал директор и опустил глаза…
Юрий Анатольевич сказал старушке, которая испуганно смотрела на него, нервно теребя оборки на желтенькой блузке:
— Не волнуйтесь, Галина Дмитриевна. Маленькая тахикардийка, больше ничего. Торопится немножко сердечко, спешит, но мы его успокоим, вот попьете зги капельки, корвалол, и все будет в порядке.
— Благослови вас бог. — Старушка неловко перекрестила его, смутилась и добавила: — Вообще-то я не очень верующая, но как-то… — Она легко засмеялась и ушла.
В дверь просунул голову Ефим Львович.
— Юрий Анатольевич, вас Пузырь требует.
— Пузырь?
— Простите, я хотел сказать директор.
— Ах да, я сразу не сообразил. Спасибо.
Директор молча кивнул ему и так же молча подтолкнулнул к нему по полированной поверхности стола лисюк бумага. Юрий Анатольевич увидел слово «заявление» и начертанное наискосок красной шариковой ручкой «Моисееву».
Он взял листок и начал читать: «психические заболевания… врач Моисеев Ю. А…вместо лечения… бредовые россказни… будущее… компрометирует…» И подпись, крупная и величественная, как ее владелец: Котомкин И. С., член КПСС, персональный пенсионер республиканского значения.
Юрий Анатольевич почувствовал, как кровь стремительно прилила к его щекам, как будто ее гнали мощным насосом, и его всего обдало жаром. Сердце споткнулось раз-другой и понеслось аллюром. Кроме Елены, сказать было некому. Она не могла сказать. И кому? Этому булькающему величественному кретину? А почему, собственно, не могла? Нет, не могла… Но кто же тогда? Анна Серафимовна? Смешно. Ефим Львович? Они с Котомкиным давно уже не разговаривают. А, Константин Михайлович, ну, конечно же… Ему почему-то очень хотелось верить, что именно Константин Михайлович рассказал Котомкину о путешествиях Владимира Григорьевича. Он даже попытался представить себе сцену: Константин Михайлович теребит, как обычно, пуговицы на своей рубашке и говорит Котомкину: «А Владимир Григорьевич-то… то-го…» — «Что того?» — «Ездил в будущее…» Нет, не получалась эта сцена. Не настолько глуп булькающий Иван Степанович, чтобы написать заявление на основании слов бедного Константина Михайловича. Нет. Дас ист невозможно.
Но тогда… Как ни отталкивал от себя эту мысль Юрий Анатольевич, она все равно наплывала на него, холодила промозглым тягостным туманом: Леночка. Больше некому.
А почему, в сущности, он так разволновался, что случилось? Леночка искренне убеждена, что Владимир Григорьевич нездоров, что его нужно лечить, что ему нужна квалифицированная психиатрическая помощь. Она этого и не скрывала. Разве она не говорила ему, что он не должен замалчивать такой случай? Разве не говорила, что, вылети он в окошко в очередном путешествии, с него же спросят? Говорила. И справедливо говорила, потому что… потому что… что потому что? Потому что беспокоится за него? Или за старика Харина?
Но почему он так легко капитулировал? Почему так легко и быстро примирился с тем, что Владимир Григорьевич ненормален, почему думает только о том, от кого узнал Котомкин о собраниях в шестьдесят восьмой комнате, как будто именно это имеет решающее значение, а не сам Владимир Григорьевич.
Он так явственно увидел перед собой Харина — невысокого, с треугольничком худенькой цыплячьей грудки, покрытой седым пухом между лацканами пижамы, с умными живыми глазами. И голос: милые друзья мои…
Неужели предаст, подумал он, и вопрос был тягостный, как была тягостной мысль о встрече Владимира Григорьевича с психиатром. Не могли, не должны были соприкасаться хроностанция, порхающий Прокоп в переливающемся комбинезоне и психиатр. Он даже не умел объяснить себе почему, он просто чувствовал это нутром, всем своим небогатым врачебным и жизненным опытом. Не должны были соприкасаться эти вещи, как не должны соприкасаться материя и антиматерия, ибо их соединение уничтожает друг друга.
Он вдруг сообразил, что давно уже стоит перед директором, держит в руке заявление Котомкина, и Пантелеймон Романович молча смотрит на него, втянув голову в покатые плечи.
— Я подумаю, что делать, — сказал он.
— Да, да, — кивнул директор и облегченно уткнулся взглядом в свои руки, что привычно лежали перед ним на столе.
Нужно поговорить с Леночкой, подумал Юрий Анатольевич, у нее светлая головка, она не впадет в панику от любой чепухи, как он. Она все расставит по местам, мигом наведет порядок в его растрепанной душе. У нее удивительные руки. Все вещи любили ее руки, от шприцов до него самого, все так и тянулись навстречу им.
Когда он вошел в Леночкин пенал, она сидела за своим столиком и что-то писала, склонив головку набок. И кончик языка высунула. Наверное, именно так она выглядела, когда писала в школе сочинения. Онегин как представитель… Да чей бы ни был он представитель, хоть бы коллектива ветеранов сцены…
— Угадай, Юрчонок, что я сочиняю, — сказала Леночка. Она не посмотрела на него, но знала, кто вошел.
— Инвентарную ведомость. Простыней желтых куцых столько-то…
— А вот и нет. Смотри,
Она протянула ему листок, и он прочел:
«Меняем двухкомн. кв. 28 м, кухня 6 м, метро «Коломенское» и однокомн. кв. 20 м, кухня 10 м, метро «Речной вокзал» на трехкомнатную кв. от 40 м».
— Все говорят, это прекрасный вариант, — сказала Леночка. — Можно было получить и большую, но ведь на троих могут не дать. Теперь, говорят, такие строгости. А что, если большие подсобные помещения, и сорок метров немало. Главное — чтоб кухня была просторная. А то в нашей шестиметровой и повернуться вдвоем нельзя. Ты согласен?
Он держал ее за плечи, и плечи под халатиком привычно поерзали, находя удобное положение под его ладонями, и мир был прост и приятен, потому что состоял в основном из этих теплых плечей.
— Чего ты молчишь?
— Что? А, да, конечно, согласен.
Он усмехнулся. Глупышка. Да если бы она предложила сменяться на дырявый сарай в ста километрах от Москвы, он был бы так же счастлив.
— Сегодня же дам объявление… А на тебя жаловались, — сказала Леночка.
— Кто?
— Котомкин. Этот, который булькает. Хотел повторить курс инъекций витаминов и никак не мог к тебе попасть. Сидит, говорит, врач все время у Харина.
Юрий Анатольевич почувствовал какое-то неприятное стеснение в груди. Котомкин. Неужели он был прав, тоскливо задал он себе риторический вопрос, который не нуждался в ответе. Уравнение допускало только одно решение, и за двумя черточками в правой его стороне стояли Иван Степанович и Леночка. Он достал из кармана халата заявление и положил его перед медсестрой.
— Вот.
Леночка прочла его, коротко пожала плечами, посмотрела снизу вверх на врача.
— Ну и что? Демагог, конечно, этот Котомкин, но по существу…
— Что по существу?
— По существу он прав, нельзя оставить больного человека без помощи, мы ж говорили с тобой об этом.
— Да, но…
— Юрчоночек мой глупенький, — сказала Леночка и потерлась щекой об его живот. — Ну разве можно быть таким… таким мнительным? Чего ты разволновался? Надо пригласить специалиста, чтобы он посмотрел Харина. Ну и что? Что ты его, на каторгу отсылаешь? Да я уверена, что его и в больницу незачем будет брать. Они вообще не любят брать стариков. Тем более что он же не буйный. Даст что-нибудь, какие-нибудь транквилизаторы, не знаю. Но главное, ты будешь спокоен, ты выполнил свой врачебный долг. Даже если есть один шанс из ста, что Владимир Григорьевич выкинет что-нибудь эдакое, ты будешь знать, что сделал все от тебя зависящее.
Хорошо говорила Леночка, мягко, без нажима, заботливо, словно массировала его совесть, и она успокаивалась. Тем более что, по существу, она права. Даже при желании ей трудно возразить. И тем более трудно. что такого желания у него не было. То есть вроде бы и было только что, но куда-то испарилось, исчезло.
— Как ты думаешь, чей дать лучше телефон?
— Что? Какой телефон?
— Юрчоночек, тебе еще рассеянность по чину не полагается. Станешь стареньким профессором — тогда пожалуйста. Жил человек рассеянный на улице Бассейной. Я об обмене.
— Ах да, конечно. Прости. А может, дать оба телефона? Тебя дома не будет, я отвечу. И наоборот.
— Ну вот, а то некоторые девочки утверждают, что мужики вроде и ни к чему. А я сама и не сообразила. Она снова потерлась щекой об его халат. — Правда, от тебя есть польза, а?
— Хочется надеяться, птичка-синичка.
Психиатр оказался немолодой поблекшей женщиной с каким-то брезгливым и жеваным лицом. На голове у нее был старомодный шиньон, и Юрий Анатольевич подумал, что она, наверное, пришлепнула его лет двадцать назад и забыла снять.
Она сидела в его кабинетике и листала пухлую историю болезни Владимира Григорьевича, кивала удовлетворенно, как будто уже поставила диагноз.
— Он ходячий? — спросила она строго, как на допросе, и Юрий Анатольевич подумал, что следовало бы ей ответить также резко, чтоб поставить ее на место, но не нашелся.
— Да, сейчас он неплохо ходит.
— Я думаю, в таком случае нам удобнее побеседовать здесь, а не в палате.
— Да, наверное.
— Ну что ж, пригласите тогда… — она посмотрела на историю болезни, — Владимира Григорьевича.
— Хорошо.
Юрий Анатольевич шел по коридору, и на душе у него опять было смутно. Не хотели его нести ноги к шестьдесят восьмой комнате. По пудовой гире было на каждой.
Когда разговаривал с Леночкой, было все ясно, и видел он, что она права. Но теперь, когда шел за Владимиром Григорьевичем, чувствовал он себя не то предателем, не то тюремным надзирателем, не то тем и другим вместе. Может быть, Леночка и права. То есть скорее всего права, но права абстрактно, как бы алгебраически. А плюс Б равняется… А когда теперь вместо букв нужно было подставить Владимира Григорьевича и эту мымру с жеваным лицом… Жоржетта Ивановна, имечко одно чего стоит…
Шестьдесят восьмая комната. Дверь еще закрыта. Еще не поздно повернуться и уйти. Но он уже скользил по тягостной наклонной плоскости и не умел остановиться.
Он постучал и услышал голос Владимира Григорьевича: войдите.
— А, здравствуйте, Юрий Анатольевич.
Старый драматург отложил книгу и встал навстречу врачу.
— Добрый день, Владимир Григорьевич. — Юрий Анатольевич вздохнул, посмотрел на кровать Константина Михайловича, спросил, чтобы хоть на несколько секунд отсрочить неизбежное: — А где Константин Михайлович?
— В саду, кажется. Может, сходить за ним?
— Нет, нет, спасибо… Я, собственно, к вам.
— Слушаю вас, доктор.
И так смотрел на него старик приветливо, так понимающе, так мудры и смиренны были его выцветшие глаза, что Юрий Анатольевич почувствовал, как подымается в нем глухое раздражение, даже злоба к этому неуязвимому в своей благожелательности человеку. Этот не предал бы, подумал он, и эта мысль еще больше раздражала его: о, господи…
— Я хотел пригласить вас к себе в кабинет…
— С удовольствием, но для чего?
— Я хотел… показать вас… невропатологу… такая поправка… после инсульта… — Удивительно, пронеслось у него в голове, как одно свинство липнет к другому. За предательством тянется вранье.
— А что, — улыбнулся Владимир Григорьевич, — может, мы с вами будем ездить по медицинским учреждениям и конференциям, и вы будете демонстрировать меня. Я, может, научусь делать стойку на руках, и мы так и будем выходить на сцену: вы на ногах, в строгом черном костюме, а я на руках…
О, господи, застонал мысленно Юрий Анатольевич, да что это за муки такие, он что, специально издевается надо мной. Он знал, понимал, что презирает и ненавидит сейчас, в сущности, не Владимира Григорьевича, а себя, но делать-то это заставлял его этот старик…
— Вот знакомьтесь, — пробормотал он, — Владимир Григорьевич Харин. Жоржетта Ивановна…
— Здравствуйте, — сказал Владимир Григорьевич.
— Садитесь, — коротко кивнула Жоржетта Ивановна.
Владимир Григорьевич сел, а Юрий Анатольевич вышел из кабинетика, осторожно притворив за собой дверь.
— Скажите, пожалуйста, как вас зовут, — скомандовала дама со старомодным шиньоном.
— Вы как следователь, — улыбнулся Владимир Григорьевич.
— Я врач, а не следователь, — терпеливо объяснила Жоржетта Ивановна.
— Да, да, я понимаю, прошу прощения, я не хотел обидеть вас.
— А я не обиделась. Слушаю вас.
— А… да, извольте: Харин Владимир Григорьевич.
— Когда вы родились?
— В тысяча девятьсот восьмом году, увы…
— Почему вы говорите «увы»?
— Хотя бы потому, что старость — не радость.
— Понимаю. А вы считаете себя стариком?
— Не думаю, чтобы это имело значение, что я считаю. Даже если бы я считал себя птенчиком, все равно семьдесят восемь лет — возраст почтенный. У Чехова, Бунина, Достоевского я не раз встречал фразы: дверь отворилась, и в комнату вошел старичок лет пятидесяти. Отворилась или затворилась — не так уж важно. Представляете — старичок лет пятидесяти. А тут — семьдесят восемь. Так что, выбор, Жоржетта Ивановна, невелик.
— Вы сказали «птенчик». Вы считаете себя птенчиком?
— Я сказал, по-моему, если бы я считал себя птенчиком?
— А вы себя им считаете?
Владимир Григорьевич внимательно посмотрел на врачиху. Была она ему неприятна и дурацкими своими вопросами, и какой-то агрессивной настырностью. Комплекс неполноценности у нее, что ли, подумал он. С такой внешностью, впрочем, немудрено. Но цапаться с нею не хотелось. Чувствовал он себя сегодня с утра каким-то просветленным, успокоенным. Именно успокоенным, а не просто спокойным. Хорошее словечко, подумал он по старой писательской привычке, успокоенный.
— Да, конечно, — улыбнулся он, — я птенчик.
— Понимаю, — кивнула Жоржетта Ивановна. — Вы птенчик. Но…
— Я шучу, — пожал плечами Владимир Григорьевич. — Если бы я и был когда-то птенчиком, я бы все равно давно уже превратился в старую ворону.
— Значит, вы считаете, что были птенчиком раньше, а сейчас стали старой вороной? Так?
— Строго говоря, да.
— Понимаю. Скажите, Владимир Григорьевич, какое сегодня число?
— Не понимаю…
— Число. Дата. Второе, третье, пятнадцатое, понимаете?
Владимир Григорьевич пожал плечами. Разговор получался какой-то нелепый, как будто она считает его слабоумным.
— Сегодня двадцать четвертое августа.
— А год?
— Тысяча восемьсот… То есть девятьсот восемьдесят шестой.
— Вы можете мне сказать, где вы находитесь?
— В кабинете врача.
— В более общем смысле.
— В более общем смысле? Может быть, начать с нашей Галактики? Или Млечного Пути?
— Как вы считаете нужным.
— В Доме ветеранов сцены.
Странный был разговор. Не похоже на невропатолога. Видел он их, не одного, особенно после инсульта, с их иголочками, здесь чувствуете, а здесь, молоточками. И вдруг как ожгло его: это же скорее психиатр, а не невропатолог.
Да, но он же не жаловался, вел себя нормально, если не считать… Ну, конечно же, как еще понять… Его рассказы и его отсутствие. Но кто? Юрий Анатольевич. Так слушал внимательно, так светились глаза у него интересом — и вот, пожалуйста, эта идиотка с шиньоном на небрежно крашенных волосах.
Он посмотрел ей в глаза. Глаза были как бы закрытые: равнодушные и недоброжелательные. Как окошко в бюро пропусков в неприступном каком-нибудь учреждении.
— Скажите, доктор, вы психиатр?
— Да.
— А мне сказали, невропатолог.
— Не знаю, для чего нужно было скрывать. Скажите, Владимир Григорьевич, на что вы жалуетесь?
— Я ни на что не жалуюсь, дорогой доктор. Кроме того, чему помочь вы не сможете, к сожалению.
— А именно?
— Если бы вы могли скостить мне… ну, скажем, лет тридцать хотя бы, это было бы замечательно. Я бы прожил их совсем по-другому.
— Как именно?
— О, в одном слове не ответишь.
— Но все-таки…
— Когда-то, до рождества Христова, я был драматургом. Теперь я понимаю, что неважным. Я был слишком скованным в своем творчестве, слишком зажатым и искусственным. Слишком многого боялся мой внутренний редактор. Теперь я догадываюсь, что писатель должен, наверное, быть скорее эоловой арфой и естественно откликаться на ветры окружающей жизни…
— Эолова арфа… — пробормотала врачиха.
— Это… — Владимир Григорьевич хотел было объяснить ей, что такое эолова арфа, но передумал. Не стоит она того, чтобы знать, как тоненько звенит на ветру эолова арфа. Он вздрогнул вдруг, так кольнуло в сердце. Отвык, отвык он совсем за последние недели от этих фехтовальных уколов, пора вспоминать. Он почувствовал, как устал, отяжелел, одряхлел. Ведь только что, кажется, булькала энергия, как газ в боржоме. Вышел газ…
— Что это? — спросила врачиха.
— Что-что? — нахмурился Владимир Григорьевич. Отвлек его укол в сердце.
Врачиха посмотрела на него и кивнула. До чего же скучные и непроницаемые глаза. Всего-навсего глаза, роговица, хрусталик, зрачок, а непроницаемы и непроходимы, как тюремная стена. Фу-ты, что за сравнения лезли ему сегодня в голову.
— Скажите, Владимир Григорьевич, кто-нибудь из ваших родственников страдал какими-либо психическими расстройствами?
— Да нет как будто.
— А как проходила беременность у вашей матери?
— Беременность у моей матери? Когда она была беременна мною?
— Именно.
— Вы что, шутите?
— Почему вы решили, что я шучу?
— Ну, подумайте сами, откуда я мог знать, как проходит у моей матери беременность, если я еще не родился. Да если бы и родился, вряд ли грудной ребенок настолько наблюдателен…
Конечно, подумал Владимир Григорьевич, надо бы встать и уйти, плюнуть на эту душу, но ведь все равно не отвяжутся. И к тому же устал он от чего-то сегодня, полон был какой-то болезненной истомы, и не было даже сил возмутиться. Все равно не отвяжутся.
— Чем вы болели в детстве?
— Насколько я помню, обычным детским набором: свинка, корь, что-то еще…
— Когда вы начали ходить?
— Куда, в школу?
— Нет, вообще ходить.
— Гм… не помню. Не знаю.
— Мать вам не говорила?
— Не помню, может быть, и говорила. Но я как-то не считал эту информацию очень важной. Так и прожил семьдесят восемь лет в неведении.
— А заговорили когда?
— Наверное, как все…
— Что значит, как все?
— Ну, когда дети начинают разговаривать?
— Владимир Григорьевич, я вам задаю вопросы, а не вы мне.
Может, все-таки послать ее подальше, эту настырную бабу? Не стоит, наверное, все равно не отцепятся, пока не выполнят весь ритуал. А то еще отметит: агрессивен. Лучше потерпеть. Он сделал глубокий вдох, чтоб успокоиться, унять, осадить поднимавшееся раздражение, сбросить с плеч усталость.
— Я понимаю, — кивнул он. — Простите.
— Так когда вы начали говорить?
— В месяц.
Врачиха медленно подняла на него глаза. Только сейчас он заметил, что ресницы у нее были накрашены, но как-то неровно, неряшливо. И эта неряшливость удивительным образом подходила к старомодному шиньону, к жеваному пористому лицу.
— Вы говорите, в месяц?
— Я пошутил.
— А если серьезно?
— Серьезно, года в два. Или три. В общем, наверное, нормально.
— В каком возрасте вы пошли в школу?
Почему он так устал, подумал Владимир Григорьевич, что он сегодня такого делал? Да вроде ничего особенного. Странно…
— Что? В два… простите, я задумался… Как обычно, в семь лет. Или это теперь начинают учиться в семь?
— Как вы учились?
— Если честно, средне. Особенно по математике. Таблицу умножения миновал благополучно, а потом еле полз. Очень задачки меня пугали, все эти трубы, бассейны. Что угодно в голову лезло… — Владимир Григорьевич оживился, даже улыбнулся. — Сажусь решать, а сам так живо представляю себе эти трубы, ржавые такие, только краны медные блестят. А в бассейне рыбки, и все смотрят на трубы со страхом, а вдруг вся вода вытечет.
— Очень интересно. Скажите, а эти рыбы что-нибудь говорили, как-то выражали свой страх?
— Нет, преимущественно молчали, как им и полагается, но подплывали к трубам, высовывались из воды и смотрели как завороженные и так испуганно. Мне вообще фантазия учиться мешала. Сидишь на уроке и думаешь: вот сейчас поползет по штукатурке на стене, между портретов Фонвизина и Крылова трещина, раздастся грохот, стены закачаются в страшном землетрясении и некому будет говорить: Харин, опять домашнее задание не приготовил.
— Очень интересно, — слегка оживилась врачиха. Вы можете сказать мне возраст полового созревания?
— Вообще или мой?
— Ваш, конечно.
— Гм… Наверное, лет в четырнадцать. Может, в пятнадцать. Впрочем, влюбился я первый раз значительно раньше, лет в десять… Ее звали, помню, Власта. Кажется, ее отец был поляком…
— Нет, нет, меня интересует именно пубертация. Половое созревание.
— Я ж вам сказал, Жоржетта Ивановна, лет в четырнадцать.
— Угу. А какие у вас были склонности в детстве?
— Обычные. Преимущественно, удрать из дому.
— Куда?
— Куда — не столь важно. Важно было удрать.
— Почему?
— Да потому что дома нужно было постоянно заниматься скучными вещами: колоть дрова, складывать их, заносить в дом, тащить пойло поросенку, который метался в своем загончике в сарае как ракета и норовил сбить меня с ног.
— Гм… Ваша трудовая деятельность вкратце.
— Учился, кончил Московский университет, перед войной работал в газетах, во время войны — фронтовой корреспондент. А потом стал писать пьесы.
— Но вы где-то работали?
— Нет. После первой же поставленной пьесы меня приняли в Союз писателей, и больше на работу я никогда не ходил. С тысяча девятьсот сорок седьмого года.
— То есть почти сорок лет, — задумчиво сказала Жоржетта Ивановна, и Владимиру Григорьевичу показалось, что впервые с начала разговора в ее глазах мелькнули человеческие чувства: неодобрительное удивление и зависть.
— Скажите, Владимир Григорьевич, если я правильно поняла, вы рассказывали своим друзьям о том, как вас перенесли в будущее и в прошедшее?
Владимир Григорьевич сжался, как от удара. Иди, объясни этой мымре… Тут же ярлычок на лоб. Сказать ей, пожалуй, что просто сочинял, чтобы развлечь друзей. Жизнь, мол, в богадельне скучная, вот и решил позабавить. Устная, так сказать, фантастика. Пожалуй, так и надо сделать, чтоб отвязались. Он уже даже приготовил мысленно фразу: да, рассказывал, но рассказывал не о подлинном путешествии, а просто придуманную историю… Но почему-то не произнес он эту фразу. Не хотелось ему называть нестерпимо прекрасные дни в двадцать втором веке придуманной историей. Не хотелось. Глупо, конечно, но не хотелось. Каким-то это было бы предательством. И по отношению к милой Соне, и Сергею, и суетливому добряку Прокопу, и долговязому Бруно… И даже бедному Хьюму, которому так хотелось быть принятым в высшем обществе.
И черт с ней, с этой мымрой. Столько раз кривил за жизнь душой, так ее разработал, бедную, что гнулась, как резиновая. Хоть в цирке выступай с номером: человек с гуттаперчевой душой. Гнет и вяжет ее по желанию публики. Но он не в цирке. Хоть под конец можно не врать. Нужно не врать. В семьдесят восемь лет надо саван выстирать и выгладить, а не ерзать в дрянной какой-то суетне. И что они ему в конце концов сделают? Ну, решат, что он тихий псих. На здоровье. Он-то знает…
Он посмотрел на Жоржетту Ивановну и сказал:
— Да, я рассказывал о своем путешествии в будущее и прошлое.
— И как же вы туда отправились?
— Меня забрала в будущее моя прапрапраправнучка, если я не перепутал все эти прапра.
— Ваша… кто?
— Соня приходится мне прапрапраправнучкой, она родилась, если я не ошибаюсь, в 2150 году, и когда я был в двадцать втором веке, ей было двадцать три года.
Перепрыгнул Владимир Григорьевич какой-то ровик, заполненный холодной нечистой водой, стоял теперь по другую сторону от Жоржетты с шиньоном и был для нее недосягаем, потому что было ему наплевать, что она подумает и что напишет в своих листочках. И от этого почувствовал он какое-то облегчение, почти радость, и даже усталость не давила на плечи тяжелым рюкзаком.
— Значит, она забрала вас в двадцать второй век?
— Совершенно верно.
— Гм… Скажите, вы испытывали во время своего… путешествия какие-нибудь необычные ощущения?
— Странный вопрос. Подумайте сами, может ли не испытывать, — он сделал ударение на отрицание «не», — может ли не испытывать человек, оказавшийся в столь невероятной ситуации, необычных ощущений? Конечно, не может.
— А какие именно — ощущения?
— О, это такой букет, который быстро не перескажешь. И недоверие, нежелание поверить в реальность происходящего, и убеждение в том, что это не сон, удивление, смущение, смятение пораженных чувств, мучительные сомнения…
— Сомнения в чем?
— Видите ли, они предложили мне либо остаться у них навсегда, в их прекрасном сияющем мире и стать полноправным гражданином века, в котором давно уже забыли о болезнях, старости и даже смерти, или вернуться сюда.
Жоржетта Ивановна испытующе посмотрела на Владимира Григорьевича, и ему почудилось, что губы ее с облезшей помадой тронула улыбка. И в неприступных равнодушных глазах впервые мелькнул интерес: ну, конечно, псих. Хотя бы потому, говорила улыбка, что вернулся. Она бы, говорила улыбка, такой глупости не сделала. Она бы не вернулась в свою однокомнатную квартиру, где ее ждала парализованная мать, которую нужно было каждый день кормить, мыть и переворачивать, борясь со все более привычным раздражением, отгоняя от себя мысли, которые пугали. О, она бы не вернулась, это уж точно!
— Скажите, Владимир Григорьевич, а во время… своего путешествия вы слышали какие-нибудь голоса?
— Вы что, смеетесь?
— Я вас спрашиваю: во время путешествия вы слышали какие-нибудь голоса?
— Ну, как я мог не слышать голосов, когда я пробыл на хроностанции… это станция, где осуществляются временные пробои, — с каким-то торжествующим вызовом пояснил Владимир Григорьевич. — Я пробыл там несколько дней, я разговаривал со всеми сотрудниками, присутствовал на суде…
Жоржетта Ивановна хотела было что-то спросить, раскрыла даже рот, но передумала.
— …А вы говорите — голоса.
Не первый раз за время дурацкого этого разговора испытал Владимир Григорьевич острое желание сходить к себе в комнату, открыть журнал «Театр», вытащить оттуда фотографию — если ее можно было назвать фотографией — и принести этой идиотке с чулком в волосах. Чтоб увидела свет, струившийся с листка, увидела улыбки, живые, подвижные улыбки, услышала далекий Сонин голосок: «Дедушка…» Чтоб увидела своими глазами открытое окошко в двадцать второй век.
Что б сказали вы тогда, уважаемая Жоржетта Ивановна? Как бы отвисла у вас челюсть, как бы сразу застряли у вас в горле ваши идиотские вопросы…
Желание это было так остро, что оно подталкивало его в спину, тянуло к двери. Но нет, нельзя было этого делать, нельзя. Ни за что и ни при каких обстоятельствах. Хватит того, что уже показал раз Анечке, Ефиму и Косте. И то не следовало…
Что она говорит, чучело?
— Да, да, я понимаю. Владимир Григорьевич, вы человек интеллигентный, разобраться в вашем состоянии не так-то просто. Поэтому постарайтесь помочь мне, хорошо?
— Постараюсь.
— Отлично. Вот вам картинка, расскажите, пожалуйста, что вы на ней видите или что она вам напоминает. — Врачиха протянула Владимиру Григорьевичу изрядно захватанный листок, на котором была изображена огромная клякса.
— Присмотритесь, может быть, она вам что-нибудь напоминает, вы же писатель, вы сами рассказывали мне о своей фантазии.
— Я бы рад, дорогая Жоржетта Ивановна, но… — он взглянул на ее мятое пористое лицо, вздохнул. — Ну, хорошо, хорошо. Немножко эта клякса напоминает… Росинанта…
— Кого, кого?
— Росинанта. Так звали лошадь Дон Кихота Ламанчского. И голову ее хозяина.
— А эта? — Жоржетта Ивановна протянула второй листок.
— Эта… Ну-с, скажем, схватку. Смешались в кучу кони, люди…
— Хорошо, вот еще одна. Что вы здесь видите?
Опять наваливалась на него усталость, опять в рюкзак за спиной положил что-то тяжелое, и он давил на плечи.
— Ничего, — сказал он. — Кляксу.
— Это я уже слышала. Постарайтесь всмотреться. Вы ведь уже видели лошадей… Этого…
— Росинанта. Да, и снова лошадей. Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий…
— Видите.
— Я устал, — сказал Владимир Григорьевич.
— Я тоже устала, — сказала Жоржетта Ивановна, и губы ее стали злыми. — Но я же не жалуюсь. А я хожу на работу каждый день…
А, вон оно что, подумал Владимир Григорьевич, это она мне не может простить, что я сорок лет не ходил на работу.
— Хватит, я думаю, дорогая Жоржетта Ивановна, на сегодня хватит.
— Позвольте мне решать, хватит или не хватит.
— Почему, с какой стати? Я и так делал вам одолжение, рассматривал ваши дурацкие кляксы. — Он попытался встать, но ноги плохо слушались его. Как до путешествия, машинально отметил он. Он напрягся и встал.
— Сядьте, больной!
— Вы мне надоели, — тихо и отчетливо сказал Владимир Григорьевич. Сердце его колотилось о ребра, ему почему-то было очень тесно в грудной клетке. — Вы и ваши дурацкие вопросы.
— Больной! — рявкнула Жоржетта Ивановна строевым голосом, но Владимир Григорьевич уже закрыл за собой дверь и шел, покачиваясь, по коридору. Зачем он рассказывал этой дуре о каком-то землетрясении… О каком? А, вот почему он вспомнил. Пол плавно покачивался под его ногами. Только бы не упасть. Никогда в жизни ничего так не хотелось Владимиру Григорьевичу, как хотелось ему сейчас лечь, умерить как-то бешеный аллюр сердца.
Он с трудом отворил дверь шестьдесят восьмой комнаты и рухнул на кровать…
— Ну что? — спросил Юрий Анатольевич, с замиранием сердца глядя на психиатра.
Жоржетта Ивановна брезгливо вздохнула, устало помассировала себе правый висок. Помолчала, чтобы успокоиться. Интеллигент, называется…
— Конечно, окончательный диагноз ставить преждевременно, — сказала она, — нужно еще разок побеседовать с больным, но нарушения в психике очевидны…
— У него… такой… ясный ум, — тоскливо промямлил Юрий Анатольевич…
— Больной, если не ошибаюсь, перенес не так давно инсульт?
— Да, совершенно верно…
— Что вам сказать… В этом возрасте не часто встретишь четкие симптомы, границы бывают смазаны, одно накладывается на другое, личностные особенности на болезненные проявления. И все сплошь и рядом на фоне дементности. Думается, что в данном случае мы имеем дело с элементами парафренного синдрома… Вы замечали у больного состояние веселости, блаженства, эйфории?
— Гм… Раньше — безусловно нет. Владимир Григорьевич чаще был печальным.
— Что значит — раньше?
— Я имею в виду — до его исчезновения.
— Что значит — исчезновения?
— Именно исчезновения. Он исчез из Дома, и его не было десять дней.
— И где же он был?
— В том-то и дело, что нам так и не удалось установить.
— Но его искали?
— Конечно. Мы даже обратились в милицию.
— И что же?
— Нигде не было ни следа, И появился он так же внезапно, как исчез, — Ни у родных, ни у друзей?
— Нет. У него никого нет. К тому же он исчез прямо в пижаме и вернулся, представляете, тоже в ней.
— При чем тут пижама, — раздраженно сказала психиатр, — стало быть, свое отсутствие в эти дни он объясняет поездкой… в двадцать второй век?
— Совершенно верно.
— Гм…
Конечно, думала Жоржетта Ивановна, эти десять дней реального отсутствия несколько спутывают картину. Конечно, следовало бы подумать как следует.
В сущности, это… Что это — она не знала, но чувствовала, что следовало бы разобраться. Нелепость того, что сообщил ей доктор, была очевидной. Строго говоря, все бреды, все галлюцинации, все виды фантастического ментизма именно потому и являются психическими расстройствами, что не связаны с реальными обстоятельствами жизни больного. А здесь… Глупость, поправила она себя, не ездил же он действительно…
Она посмотрела на часы — половина пятого. А ей еще нужно было вернуться в диспансер, писанины накопилось за последние дни страшное количество. И мать… Она что-то никак не могла сообразить, варила ли она вчера обед или позавчера. Господи, вдруг сказала она мысленно с каким-то странным пылом, сделай так, чтобы обед на сегодня оказался готовым. Не было у нее больше сил, просто не было. И нужно было что-то говорить этому молоденькому терапевту, который уставился на нее так, как будто это ему она должна вынести приговор. Она сделала усилие и сказала:
— М-да… О чем же мы говорили? Ах да, о настроении больного. Вы сказали, что после возвращения его настроение изменилось…
— А… да, пожалуй. Он стал оживлен, энергичен, даже в его физическом состоянии замечались…
— Весел?
— Пожалуй, да.
— Совершенно верно. Явные элементы парафренного синдрома. Своего рода конфабулярный бред. С другой стороны, я все время думала и о нейроидном синдроме, это ведь своего рода кульминация фантастического бреда. Обилие ярких, чувственных, как бы зримых фантастических переживаний в виде сценичных представлений, в которых — заметьте! — больной не только зритель, но и участник. Причем всякого рода полеты в космос — симптом довольно распространенный…
— Но он не летал в космос, — тоскливо сказал Юрий Анатольевич. — Он рассказывал о путешествии в будущее. В будущее и в прошедшее.
Жоржетта Ивановна посмотрела на него, вздохнула.
— Я думаю, завтра мы с ним закончим, и я оформлю все бумаги. — Она еще раз устало вздохнула. — Скажите, у вас… вы не могли бы попросить вашу машину подбросить меня до диспансера?
— К сожалению, вряд ли. У нас всего одна легковая машина, и ту директор никому не дает.
Собственно говоря, другого ответа Жоржетта Ивановна и не ожидала. Удача всегда поворачивалась к ней задницей, в крупном и мелком. Всю жизнь, сколько она себя помнила, она куда-то спешила, куда-то тащила тяжеленные сумки, и никто никогда не помогал ей.
Всю жизнь она втискивалась в автобусы, впрессовывалась в людскую стену в вагонах метро, чтобы выкроить несколько квадратных сантиметров для себя, всю жизнь смотрела на часы, и всегда ей казалось, что она потная. А может, она и была потная. Так и прожила жизнь вспотевшая, как марафонец на дистанции, словно пробежала ее.
Она подумала о старичке, что только что сидел перед ней. Писатель. Сорок лет не знал, что такое час «пик». Ей хотелось презирать его, его праздную, легкую жизнь, презирать хотя бы для того, чтобы оправдать свою. Но презрения не было. Была только усталость и ощущение высохшего пота на спине.
— Что делать, — сказала она, привычно подняла с пола нагруженную сумку в нелепых пальмах с купленными сегодня — повезло все-таки! — пятью банками зеленого горошка, обтянутыми пластиковой пленкой. — Что делать, — повторила она и пошла к двери.
Владимир Григорьевич дремал, а может, и спал, и снилось ему, что бежит он босым по живому упругому зеленому травяному ковру. Трава была утренняя, роса еще не высохла, и прикосновение голых подошв к ней было пронзительно сладостным. Так был он переполнен счастьем, что оно не помещалось в нем, выплескивалось при каждом толчке, и он подумал, что надо бежать осторожнее. Он стал отталкиваться от земли реже, но почему-то продолжал мчаться с прежней скоростью. Просто теперь он долго летел после каждого толчка над землей, и густой, теплый, настоянный на травах воздух легко поддерживал его.
Счастье, которое испытывал он во время беззвучного своего полета, было таким полным, что было ему одновременно и грустно. Не мог он разделить восторга невесомости с Наденькой, которая не хотела бежать вместе с ним, а махала ему рукой откуда-то издалека. И с дочкой, с внуком.
Ему казалось, что лицо его было влажно, как и ступни. Наверное, он плакал. А может быть, и не плакал, потому что слезы не могли тут же не высыхать в стремительном полете. Он знал, что спал, и все-таки рассуждал логично, и это его рассмешило, он раскрыл было рот, чтобы рассмеяться, но тугой теплый воздух тотчас же закупорил его, и он не то, что смеяться, даже вздохнуть не мог.
Он открыл глаза. С правой дверцы шкафа смотрела на него знакомая лошадиная морда, образованная древесными прожилками. Лошадь смотрела сочувственно. Очень чуткая была коняга. За несколько лет совместного житья она хорошо изучила его привычки и знала, что, просыпаясь, Владимир Григорьевич не сразу определял свое место во Вселенной, а несколько минут лежал неподвижно, приходя в себя.
Начало темнеть, и шестьдесят восьмая комната была полна слегка зеленоватых теней. Владимиру Григорьевичу вдруг остро захотелось услышать голос Кости. Ему показалось, что скажи сейчас режиссер свое «абер дас ист ниче-во-о», и вправду все было бы ниче-во-о. Но Кости не было. Видел он какой-то сон, но не сумел удержать его в памяти, уплывали последние его редеющие клочья. Как будто куда-то бежал он, что ли…
Густели тени в комнате, теряли зеленоватый оттенок, а он все лежал в темноте. Лежал на кровати на спине и боялся повернуться, потому что опять запеленала его душная обессиливающая истома, как в кабинете у Юрочки, когда мучила его строевая врачиха с шиньоном на голове. Вместе с истомой наплывала на него тяжкая печаль. Жаль, жаль было чего-то, что не умел он определить, жаль.
Внезапно Жоржетта Ивановна, невесть как появившаяся в комнате, сделала быстрый фехтовальный выпад, даже ногой притопнула, и в вытянутой ее руке с облезлым маникюром холодно и страшно блеснула рапира. Владимир Григорьевич хотел было удивиться, откуда у этой халды рапира, но не успел, потому что лезвие уже впилось ему в грудь.
Боль была такой страшной и огромной, что спрятаться, увернуться от нее он не мог, он знал это. Она накатилась с торжествующим ревом, эта волна боли, смывая все на своем пути: тягостный душащий ужас, Жоржетту Ивановну, клочья сна, испуганную конскую морду, даже боль смывала она. Да, даже саму боль, из которой состояла.
Она подняла Владимира Григорьевича, подняла легко, качнула и схлынула, а он остался где-то наверху. Он знал, что наверху, потому что видел свое тело в любимой теплой пижамке, лежащее внизу на кровати.
Жаль, жаль было… И покойно. И уплывал вдаль старичок в знакомой пижаме, а он уже летел по темному туннелю, туннельный эффект… но страшно ему не было, потому что впереди был свет, и он понимал, что туннель скоро кончится и что все на самом деле значительно проще, значительно проще…
Юрий Анатольевич присел на корточки перед тумбочкой Владимира Григорьевича. Он уже составил опись всей одежды, что была в шкафу, обуви, содержимого двух чемоданов. Он открыл скрипучую дверцу. Сверху на стопке книг и журналов лежала палехская шкатулка с отбитым краем. Тонконогие кони с лебедиными шеями мчали куда-то нарядные сани. Он открыл ее. Пятиугольничек ордена Красной Звезды с потемневшим ободком, орден Отечественной войны, две медали. Он взял опись. Как записать, каждый орден по отдельности? Орден Красной Звезды — один прописью. Было в этом что-то святотатственное, и он записал: палехская шкатулка с орденами и медалями.
Под коробкой лежал запечатанный конверт с непривычным адресом: Корабль «Константин Паустовский». Штурману Александру Семеновичу Данилюку. Ах да, это же внук. Письмо внуку. Юрий Анатольевич положил письмо себе в карман. Сегодня же надо отправить. Неважно, что телеграмму о смерти дедушки штурману уже отправили, пусть получит и последнее письмо.
Из журнала «Театр» торчал краешек какой-то фотографии. Может быть, тоже отправить внуку? Он потянул за краешек, и в тумбочке почему-то стало светлее. Что за чудеса. Он вытащил фотографию. Из плотного, размером с обыкновенную почтовую открытку, листка струился яркий свет, это была не фотография, а маленькое окошко, маленькое открытое окошко, сквозь которое видна была залитая солнцем лужайка, Владимир Григорьевич, девушка и молодой человек. Все улыбались. И улыбки не были неподвижными, выхваченными из времени стремительным щелчком затвора, а живыми. И даже головы поворачивались. Девушка смотрела на Владимира Григорьевича и что-то говорила. Юрий Анатольевич видел, как шевелились ее губы, и непроизвольно прислушался. И услышал тонкий голосок: «Дедушка…» Тонкий, ласковый голосок.
Юрий Анатольевич не занимался логическими выкладками: фотография не похожа на обычные фотографии, а стало быть, сделана и так далее. Он понял все мгновенно, без всяких выкладок.
Он смотрел в распахнутое оконце, на осколочек чужого счастья и испытывал такой острый и мучительный стыд, которого не испытывал никогда. Старик был в будущем, каждое слово его рассказа было правдой, а он пригласил Жоржетту Ивановну, чтобы она выписала ему страховку. Перестраховку, вернее. На всякий случай. Как бы чего не было.
Всю жизнь крутил он головой: и туда посмотреть, и сюда, и назад, и вперед. Как бы чего не вышло. Всю жизнь боялся. Чего? Выговора? Выговора в приказе? Чего он мог бояться, что он мог потерять? Окладик свой, на который они бы и за месяц не нашли замены? Чего он боялся? Почему?
Юрий Анатольевич замычал от нестерпимого стыда и снова посмотрел на окошко. «Де-душка», — ласково и тонко, как в детской сказке, звучал девичий голос, и Владимир Григорьевич снова расплывался в счастливой улыбке, а высокий парень смотрел на девушку восторженно и глуповато, как всегда и везде смотрят на возлюбленных те, кто любит. И плыли в окошке легкие, высокие облака, и веяло миром и счастьем.
Почему не сказал птичке-синичке:
«Никакого психиатра звать я не буду. Потому что человеку нужно верить. И если человек говорит, что был в будущем, значит, он был там».
«Да, — сказала бы Леночка, — но…» «Никаких «но». И перестраховка, на которую ты меня подбиваешь, постыдна. Тебе, может, и нет. А мне — да. Потому что ты жестока и эгоистична. Я понял это еще тогда, когда увидел испуганные глаза твоей матери».
Не сказал. Сдался. Позвал Жоржетту Ивановну с глазами фельдфебеля. И составляет сейчас опись имущества покойного. А старик ведь не показал врачу эту фотографию. Почему? Из гордости, наверное. Бедный Владимир Григорьевич…
Маленький хрупкий старичок сидел и слушал дурацкие вопросы. Парафренный синдром, дура! Сидел и терпел. И не ткнул ей в морду это волшебное окошко, а хотел, наверное, еще как хотел. Удержался.
Слезы, горькие слезы тяжкого стыда набухали на глазах у Юрия Анатольевича. Надо покрепче зажмуриться и сразу открыть глаза, и увидеть, как входит в дверь старый драматург, улыбается ему кротко, приветливо и мудро. Он всегда обращался к нему «Юрий Анатольевич», но несколько раз по рассеянности называл его Юрочкой. Как сына. Сына-предателя.
Он закрыл глаза, выжимая из-под век слезы, открыл их. Старика не было. Он не мог вернуться.
Надо было зажечь электричество, но он не мог оторвать взгляда от волшебного окошечка, сквозь которое лился свет далекого чужого счастья. И вдруг показалось ему, что Владимир Григорьевич медленно повернул голову, посмотрел на него и кивнул ему. Кивнул и глаза прикрыл на мгновение, мол, ничего, не грусти.
Показалось ли? Надо было еще раз присмотреться, но боялся он. Сердце колотилось. Предлагал ему старик помощь. Но так тонка была ниточка, что протянулась откуда-то к нему, так хрупка паутинка, что можно было разорвать ее лишним взглядом, уничтожить сомнением. Спасибо, Владимир Григорьевич, и простите, что убил вас…
И уже знал Юрий Анатольевич, что этот листочек он не отдаст никому, не покажет никогда никому, будет беречь, пока жив. Как вечный упрек, напоминание, помощь. И прощение…
— Ефим Львович, — сказал Юрий Анатольевич. — Вот бритва Владимира Григорьевича. Это подарок внука, он ее очень любил и гордился ею. Прекрасная электробритва фирмы «Норелко», с аккумулятором, который дает возможность пользоваться ею без подзарядки три четыре недели, я прочел в инструкции. Владимир Григорьевич говорил мне: если со мной что-нибудь случится, отдайте ее Ефиму Львовичу.
Старый художник скривил на мгновение губы, громко втянул воздух, несколько раз быстро моргнул, но удержался все-таки.
— Спасибо, — сказал он и осторожно взял двумя руками черную коробку со скошенной передней стенкой. Он еще раз громко вздохнул, склонил голову набок, както странно посмотрел на врача и спросил: — Зачем вы обманываете меня?
— Я? — удивился Юрий Анатольевич. — Я вас обманываю?
— Ничего вам Владимир Григорьевич не говорил.
— Что? Почему вы так… — Юрий Анатольевич не закончил фразу, потому что вдруг сообразил, что ведь и вправду никогда ему Владимир Григорьевич ничего подобного не говорил. Да, не говорил. И тем не менее ни на секунду не возникло у него сомнение, что именно этого хотел покойный драматург. — Я не знаю… — промямлил он. — Но… я уверен.
— Я тоже, — загадочно сказал Ефим Львович.
— А бинокль я хотел…
— Совершено верно, — вздохнул Ефим Львович, — Анне Серафимовне. Да?
— Конечно.
Иван Степанович Котомкин неспешно и торжественно шел к выходу из столовой. И мысли у него были тоже неспешные и торжественные. Почему именно они были торжественные — он не знал, но всем своим существом ощущал их значимость. Да, конечно, есть в мире несправедливость, неблагодарность, но…
В этот момент увидел он перед собой художника Мазлина. Старый мазилка с грохотом отодвинул свой стул, вышел из-за стола и стал на пути Ивана Степановича. Губы его дрожали, а вся его морщинистая длинноносая физиономия дергалась и перекашивалась набок.
Иван Степанович протянул было брезгливо руку, чтобы отстранить препятствие, но художник неожиданно сделал шаг вперед и небольно ткнул его костлявым кулачком в лицо.
— Вы… — брызнул слюной Ефим Львович, — вы… дурной человек!
Столовая загудела, и гул распространялся по ней кругами, как от брошенного камня:
— Абер дас ист правильно, — громко сказал Константин Михайлович.
— Что? Что он сказал?
— Ну, знаете…
— Такой тихий человек…
— Так ему это не пройдет…
— Заслужил…
Нужно, нужно было отшвырнуть эту длинноносую обезьяну, думал Иван Степанович, но не хотелось доставлять ему такого удовольствия, не хотелось нисходить до презренного ничтожества. Не его унизил старый… паяц, да, паяц, а себя.
Ненавидел Иван Степанович художника всеми клетками своего большого тела, все клетки словно ощетинились от близости ненавистного врага. Но удержался. Не унизил себя. Прошел молча. И гордо. Потому что оказался на высоте. Да, нелегко быть на высоте, быть благородным, но он сумел. На глазах у всех. Прошел, как шел всю жизнь — неспешно, важно, с высоко поднятой головой, не вслушиваясь в глупый улей голосов. Ведь главное — знать, что ты на высоте, что ты прав…
— Пантелеймон Романович, — сказал Юрий Анатольевич и протянул листки директору, — вот опись имущества покойного. Здесь все правильно, кроме того, что я передал электробритву его другу Ефиму Львовичу Мазлину, а бинокль «Фуджи» — Анне Серафимовне Труниной по просьбе… покойного.
Директор посмотрел на него неуверенно, помолчал, подумал и сказал:
— А… как это оформить? Права наследования…
— А никак, — твердо сказал врач. — Никак.
— Но…
— Никак, — еще раз повторил Юрий Анатольевич и вышел из кабинета…
Людей перед окошком, в котором принимали объявления в бюллетень по обмену жилой площади, было немного, всего трое, и Юрий Анатольевич подумал, как можно по одним только лицам определить, какое именно объявление они принесли. Перед ним стояла женщина лет пятидесяти с сурово поджатыми губами. Мать, наверное, говорил ей сын, давай лучше по-хорошему разъедемся, с Катькой вы как две собаки, все равно не уживетесь.
Он представил себе этого сына, высокого, угрюмого, с пудовыми кулачищами, которые он сжимал в припадке еле сдерживаемой ярости, и не сразу сообразил, что девушка в окошке говорила ему:
— Что у вас?
— Я бы хотел… — сказал Юрий Анатольевич и протянул ей квитанцию о приеме объявления.
— Ускорить не можем, — рявкнула девушка. У нее был флюс, и она старалась не смотреть на посетителей. — Следующий.
— Нет, вы меня не поняли, я хочу взять свое объявление обратно.
— Напишите заявление, деньги получите в бухгалтерии.
— Не нужно мне никаких денег.
— Сейчас, — сказала девушка с флюсом, не удержалась, с любопытством посмотрела на него, исчезла и вскоре вернулась.
— Вот, держите.
Юрий Анатольевич взял листок и отошел от окошка.
«Меняем двухкомн. кв. 28 м, кухня 6 м, метро «Коломенское» и однокомн. кв. 20 м, кухня 10 м, метро «Речной вокзал» на 3-комн. кв. от 40 м. Звонить…»
Он разорвал листок сначала пополам, потом сложил половинки и разорвал их еще раз.
КОНЕЦ


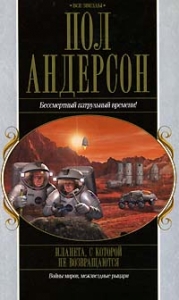

Комментарии к книге «Дальние родственники», Зиновий Юрьевич Юрьев
Всего 0 комментариев