Наталья Володина Яблоко для тролля
1
— Смотри, чайка попалась. Очень жирная.
— Интересно, эта чайка тетя или дядя?
— Чайка — это мясо. Тут важен возраст, а не пол.
— Почему?
— Старые — все жилистые. Вчерашняя старуха в зубах завязла, до сих пор с клыков свисает, будто я водоросли жрал, как люпень.
— Открой пасть-то. Тоже герой — зубы в два ряда, а чистить не умеешь. Люпень ты и есть.
— За люпеня ответишь!
— Ладно тебе! Лучше подумай, как домой ее понесем? Видишь, клюв — с папин клык.
— С мамин.
— Я и маминым в нос не хочу. И лапы еще! Говерь с крыльями, а не птица. И когти.
— У меня тоже, — Люс вытянул пушистые лапки и сделал когти веером.
— Ты и доставай.
Подкрались к ловушке поближе. Птица, присев на зад, долбила клювом камень, придавивший хвост.
Хвост был длинный. Камень тяжелый и крепкий. Было ясно, что если не вмешаются Боги, ситуация и за сотню оборотов не изменится. Львята расслабились и легли на песок. Люс — пузом, Брита — брюхом.
Чайка стучала по камню куда-то назад себя и смотрела искоса, низко голову наклоня. Неприятно так смотрела. Желчно. Молча. Неудобно, знаете ли, изъясняться в такой позе. Впрочем, первой заговорила именно она.
— А помочь?
Ей пришлось прервать увлекательное занятие и задрать голову: вмиг львята повисли в воздухе парой надутых шаров. Шерсть распушилась, словно каждый волосок неожиданно опротивел соседу и решил расти автономно. Картинка получилась красивая, но продолжалась недолго. Пузо и брюхо шлепнулись на прежние места. Еще какое-то время падал песок. Сверху.
— Люс.
— Ага?
— Чайки не разговаривают.
— Не-а.
— И мы не грызли корешки.
— Не-а.
— Божечки! — проворчала птица. — Набросали всякого мусора на хвост. Мало того, что унизительно, так ведь еще и неудобно. Думаете, сидеть на заднице для меня обычное дело?
— Заткнись! — икнул Люс.
— С чего бы? — фыркнула чайка.
— Мясо молчит.
— Мясо молчит, а я говорю. Какой вывод отсюда следует?
— Ты не мясо, — мявкнула Брита.
— Сожрем — и замолчишь, — пообещал Люс.
— Девочка получилась умная, а мальчик деятельный. Перспективное потомство, — определила птица.
— Отвалите камешек?
— Уже побежали. За папой. Он с тобой болтать не будет!
— А что он со мной будет?
— Жрать.
— Какой упертый мальчик. Все жрать да жрать. Маньяк, а не ребенок!.. Не надо нам папы. На сделку пойдете?
— Не пойдем.
— Почему это, интересно?
— Ты — жирная, — припечатал Люс, облизываясь.
— Погоди, Люс, кто знает, что может говорящая чайка? — вмешалась Брита.
— Вот именно! — подхватила птица. — Вдруг я умею нечто особенное?
— Скакать на одной лапе? — удивился Люс.
— Рассказывать сказки, — догадалась Брита.
— Ска-азки… Мне бы лучше…
— Пожрать, — закончила чайка. — Я буду приносить тебе рыбу.
— Каждый день. Много. Долго…
— Стоп! Одна рыбина и одна сказка ежедневно. Отвалите камешек.
— Люс, помоги, — Брита прижалась мягким плечом к валуну. — Ты ведь не обманешь нас, птица? Дай слово.
— Все та же вера, — усмехнулась та. — Какое слово предпочитаете? На выбор: честное октябряцкое, зуб дам, клянусь пфеннингом моей бабушки… Одна история и одна рыбина в день. Ну, раз-два! Уфф…
Давненько я так долго не сидела. Рыбы у меня сегодня, как видите, нет, зато сказка будет длинная. И с продолжением.
Львята поудобнее устроили на песке пузо и брюхо и услышали:
— Жил-был Тролль…
2
Тут я не выдержала, изловила возлюбленное чадо, подняла за чудесные розовые ушки и шлепнула его попкой ни в чем не повинное вагонное сидение. Если б я вовремя позаботилась о появлении на свет второго чада, то хлопнула б их сейчас друг об друга. А так — сиденье пострадало. Оно за двое суток натерпелось страху и за себя, и за вагон, и за систему железнодорожного сообщения в совокупности. Я, конечно, знала, что рискую не одна, да захотелось похвастаться перед друзьями главным достижением жизни. Прибитое к сиденью, достижение выглядело вполне адекватно: голубые глазки, длинные локоны, замызганная одежонка (вагон стал существенно чище).
— Мама! — воззвал Геничка. — Пока мы едем, моя сильность на сколько повысилась?
— На столько же, на сколько упала крепкость вагона.
— А это много?
— Можем и не доехать.
— Ура! — возрадовался Геничка и попытался вскочить. Видимо, наращивание сильности требовало непрерывности процесса.
— Сидеть! — заорала я жутким голосом, от которого повылазили из орбит последние оконные стекла и глаза пассажиров. — Сидеть, или…
— Что? — поинтересовался ребенок, взирая на меня с радостным любопытством. Пришлось выдохнуть.
— Песенку спою, — вяло закончила я, тоскливо вспоминая последний наш с Геничкой и K° совместный хоровой опыт, произведенный минут сорок назад. Пели все. На лицах попутчиков отражалось многое, в зависимости от конкретного темпераментовладельца или носителя половой конституции. Помню ужас, отвращение, депрессию, покорность, мировую скорбь. Счастья не припоминаю.
— Может тебе, внучек, сказочку рассказать? Про курочку Рябу, — прозвучал жалобный голосок откуда-то из-за шторки.
— Про Рябу не надо. Там не бьются.
Я поняла, что людей нужно спасать.
— Расскажу тебе про Тролля. Там бьются.
— Часто?
— Иногда.
— Пусть почаще, да, мамочка? И плохие должны все время оживать, чтобы снова было с кем биться.
— Договорились. Итак, жил-был Тролль…
3
Жил-был Тролль. Когда-то, много веков назад был он волшебником, умел делать всякие штуки: двигать горы и ушами, превращать головешки в золото, а уродин — в красавиц, рисовать мамонтов на скалах и петь на три голоса. Но как-то раз он на неделю охрип, искупавшись в ледяном ручье, заклинания никак не выговаривались, и Тролль ничего чудесного не вытворял. А к концу недели понял, что мир без его волшебства не изменился. Золота хватало, уродины изобрели косметику, а уши шевелились и без приказаний. «Что ж, — подумал он, — пусть так». И стал просто жить. Попадал, конечно, в разные передряги, но силу свою великую не применял, выкручивался как обычный человек. Со временем он и выглядеть стал, как человек. Небольшого для мужчины росточка, щупленький, жилистый, перья на голове выродились в волосы, правда, по-прежнему топорщились во все стороны и усилиям ножниц и гребня не поддавались. Остались с тех давних, волшебных пор с ним только вечная его жизнь, ярко-фиолетовые глаза, да любовь к сочинению дурацких песенок. Песенки вырастали в душе как бабочки в коконе и, повзрослев, улетали и порхали совершенно самостоятельно. Иногда Тролль считал их своими детьми. Других ему дано не было.
В прежние времена обитал наш герой большей частью в лесах. Любил то, что растет само: и травку, и козявку, и тварь покрупнее. Нежничал с жабами, болтал с белками, мерился силой с медведями.
Появились приятели и среди людей.
— Мамочка! — встрял Геничка. — Если он сейчас же не забьется, я пойду играть с дедушкой в соседнее купе.
За стенкой всхлипнуло, запахло корвалолом, зазвенело зубами о стекло, тяжко рухнуло на лавку.
— Забьется, не забьется, — заворчала я, панически соображая: с кем бы ему забиться? — С кем бы ему забиться, если мы до людей только вот добрались? С ежиком, что ли? Был у него один кабан знакомый, всегда пер напрямки, как баран. Никогда тропы не уступит. Встанешь на пути — непременно сомнет, да еще потопчет, клыками потычет. Так ведь с его дороги и отойти можно загодя, не хочешь — не дерись. А остальные звери Тролля уважали, любили даже. Нет, с ними проблем не было, если обычаи знать.
Проблемы только с людьми бывают. — «С тобой, например», — подумала я мрачно.
— Значит, говори о людях, — потребовал сын.
Между прочим, если вы считали Геничку производным от Геннадия, то хи-хи вам и ха-ха. Это уменьшительная форма от Гений. Ладно-ладно, не надо меня подозревать в мании величия или комплексе матери Христа. Так назвала своего первенца во втором дивизионе обожающая бабаня, приподняв впервые кружевной уголок над сопящим носом младенца. Ее мудрое отношение к жизни сразу куда-то испарилось. В глазах зажегся свет, на челе — звезда, за спиной отросли крылья, а в сердце пламенный мотор. Отрос. То была женщина как женщина, в меру занятая собой и другими, а тут ее как прорвало. Второе дыхание открылось. Этакая лебедь-марафонец. Значит, подымает уголок на сморщенным сопящим личиком — и все. Запала. «Гений!» — шепчет. «Спасибо, мамуля», — думаю, меня благодарит за сей подарочек. А она глаза безумные подымает, и чувствую: чего-то в них нет. Пустовато.
«При чем тут ты? — говорит — Гений — он!» И снова под уголок — нырь. Тогда уж подсчитала я, чего в них не хватает, в глазах. Многовато вышло: меня, отца, соседок-подружек, телевизоров, дачного участка, сибирского кота-любимца, дня, ночи и всей этой дурацкой вселенной. А был Он один: Гений, Бог, Царь, Повелитель и прочий Геничка.
Сейчас этот покоритель бабушек сидел напротив, и левая нога в растоптанной сандалии — о ужас! — уже стояла на трусливо дрожащем вагонном полу.
— Все-все! Про людей.
4
Погода год от года портилась. Зимы зверели, прочее мокло и кисло. Порой вода не шлепала под ногами, а хрустела и резала пальцы. И падал сверху странный белый песок, на вид — нежный, как пух птенца, а на ощупь — колючий и холодный. Снег. Однажды осенью вместе со снегом пришли с севера люди. Маленькое племя во главе со старой самкой. Совсем мало мужчин, все худые, замерзшие, совершенно лысые местами. Шерсть росла у них почему-то только на туловище. Потом Тролль узнал, что эта шерсть им не родная, а просто одежда, сшитая из шкур животных, а без нее люди совершенно безволосые, если не считать растительности на голове, и такие же беззащитные перед холодом, как и он.
Тролль долго трудился, но сделал-таки себе нечто из шкур, не особенно казистое, но теплое и крепкое. Он давно уже мерз, а к югу уходить не решался — не любил перемен.
Племя, к изумлению лесного народа, не вымерзло за зиму, слегка проредило звериное население и порядком подпортило настроение заячьим семействам. Люди нарыли землянок и жгли костры. Тролль с удивлением узнал, что еще кто-то, кроме него, пользуется огнем. Частенько подкрадывался он к стоянке и потихоньку наблюдал за человеками, особями стайными, рациональными. Ему казалось, что за их обыденными занятиями просвечивает некий другой смысл, чем за деловитой хлопотней зверей, даже таких старых и уважаемых, как птица Крак, приятель нашего героя. Словно кроме самой жизни могла существовать иная, новая цель. К тому же, люди умели петь и смеяться. Троллю они нравились.
Весной согрелась земля, проснулись пчелы, засияли жадные до солнышка одуванчики, и появился бешеный волк. Он шастал по лесу и убивал все, что отражалось в его мертвых глазах. Пьяное от совокупления зверье почти не сопротивлялось, но когда волк задрал пару человеческих самок, люди вырыли ловушку и загнали туда больную тварь. Волк сидел в яме, убить его побрезговали. Тролль прикрыл ловушку ветками от солнца и иногда подкармливал выродка падалью. Сейчас он, присев на корточки, как раз бросал зверю дохлых мышей, раскачивая их за хвостики. Жрал тот вполне осмысленно, это он умел.
— Развлекаешься? — Крак — огромный седой от старости ворон неловко плюхнулся на самую толстую ветку ближнего деревца. Оно крякнуло, но выдержало.
— Не одобряешь?
— Все одно — сдохнет. — И, помолчав, добавил, — Убили их, твоих приятелей.
— О ком ты? — спросил Тролль, не желая знать ответа.
— О людях, о ком еще.
— Как?
— С севера пришли другие. Самцы с дубинами и острыми кольями. У некоторых кольев острия блестят и режут лучше камня. Раз — и насквозь. А еще у них есть сверкающие короткие ножи. Похожи на каменные. Очень удобно головы отрезать.
— Они что, бешеные?
— Отнюдь. Веселые. Празднуют победу, поют и смеются.
— Врешь.
— Посмотри сам.
Помолчали. Потом Тролль поднялся и тихонько пошел к становищу. Мудрая птица Крак слетела наземь с радостно разогнувшегося дерева и со словами «ох, грехи» проглотила последнюю дохлую мышь. Оскорбленный волк драл когтями земляные стены и жрал свой помет.
5
Не так уж их было и много. Чужаки жарили мясо, плясали, вопили и скакали, изображая особо удачные моменты охоты на людей. Чье мясо они, собственно, и жарили. Кругом валялись изломанная утварь, одежда, инструменты — добро, с любовью хранимое прежними владельцами и не имеющее ценности для пришельцев. Тем нужно было только мясо. Трупы убитых заботливо разделывали, самые качественные куски укладывали на носилки. Было ясно, что с собой чужаки могут унести едва ли десятую часть добычи. Чересчур сытые падали мордами прямо в то, что ели, и запросто могли быть живьем расчленены своими сородичами. Никогда раньше Тролль не видел сразу столько красного. Никогда раньше Тролль не видел такого разнообразия выражений на лицах трупов.
Видимо, он подошел слишком близко. Убийцы-сторожевые заметили наблюдателя и азартно засвистели. Тут же все: и сытые, и очень сытые, и обожравшиеся повскакивали и с воем бросились к нему, желая продолжить потеху. «Ладно, — подумал Тролль, — я вас не приглашал». И нырнул в лес.
6
Когда Тролль в очередной раз оглянулся, преследователей осталось всего пятеро. С незнакомым ранее мстительным удовольствием вспомнил он, куда девались остальные. Зыбучий песочек — один, сломанное бурей дерево, которое в нужный момент стукнули по определенному месту — два, приятель медведь не оплошал — три, водоворотик на переправе — четыре и т. д. Мелкие лесные неприятности. Даже придурок-кабан не подвел, до сих пор, поди, топчет того кривоногого, наступившего отдыхающему в кустиках зверю прямо на морду. Что в запасе? Вихлявое бревно-мосток через речку. Не столько речка глубока, сколько падать высоко. На камни опять же. Болотище в низине, там и зимой провалиться можно, а с виду — чинно-пристойно, полянка полянкой. И, конечно, особенный сюрприз. Тролль опять оглянулся и с криком: «Бодрей, бодрей! Не унывать! Не отставать!» — прыгнул на подленькое бревно.
После болота сзади топал только один, но и Тролль порядком подустал. Преследователь был ражий мужичище-вожак с ломаными зубами. Может, он с рысью целовался, неизвестно, но губы у него отсутствовали, и оскал казался совершенно зверским. Изо рта текла пена, по телу сочилась кровь от мелких порезов, рука беспорядочно болталась, копье утонуло в болоте. Однако ноги работали равномерно и мощно.
Тролль вдруг встал и развернулся. Детина дотопал до него, взмахнул здоровой рукой. Взглянул Тролль в мертвые глаза и резко отпрыгнул назад. Самец шагнул.
— К тебе брат, — горько усмехнулся Тролль, отвечая торжественно взвывшему волку.
7
Тролль сидел, обхватив руками колени, на краю становища, на одном из немногих свободных от подсыхающей липкой бурой корки и внутренностей клочков травы. Кровь людей была ему неприятна.
«Забавно, — мелькнула вялая мысль, — к звериной крови у меня нет отвращения». Лес оцепенело молчал, деревья прижали листья к веткам, живые твари попрятались по норкам и гнездам. Или разбежались?
— Поболтаем? — Крак шмякнулся на плечо.
— Уйди. Я устал.
— Ты не устал, ты задумался.
— Неужели? Может, знаешь о чем? Я — нет.
— О том, о сем… Ты уходишь к людям. — Не дождавшись реакции, Крак добавил: — И больше не будешь к ним привязываться.
Тролль тряхнул плечом так, что тяжелая птица, кувыркаясь, отлетела к деревьям. Взял одну из странных палок с блестящим концом, и отправился нанести визит.
— Будешь в наших краях — заходи! — каркнул Крак вдогонку из кустов.
8
Обожравшийся волк в своей яме даже головы не поднял.
— Теперь тебя некому будет кормить. Что ж, напоследок ты неплохо пообедал.
Серебристая струя мягко вошла выродку точно между глаз.
9
— Мамашенька, что же это! Какие вы ужасы дитю рассказываете! — неожиданно прервала зашторенная бабулька благородную тишину. Я не оговорилась? Ух ты! Действительно, в вагоне царила тишина. Паровозные гудки, грохот колес о шпалы, скрежет дряхлого состава, естественно, не имели никакого значения. Геничка прилип к лавке, мордочка сияла вдохновением.
— Не нравится — могу не продолжать, — буркнула я. — Можно подумать, с нашей стороны сказки приятнее.
— Нет-нет, прошу вас! Весьма оригинальная притча, — взмолился из соседнего купе интеллигентный голосок стареющего любителя корвалола. «Ага, конечно! — саркастически подумала я. — Притча-то банальная, да ваше сердце второго пришествия Генички никак не выдержит».
— Мамочка! — встрепенулся сынуля. — Плохие скоро оживут? Чтобы опять биться.
— Сказать по правде, плохие не оживают. Но и не переводятся, так что без них не останемся.
— А Тролль не умирает? Ты сказала, он живет вечно. Это долго?
— Это всегда.
— И сейчас живет?
— Да. Обязательно. Где — не знаю, честно говорю. Может, в Пензе.
— Почему в Пензе? — удивилась поборница курочек Ряб для детских ушей. — Я ж оттудова. И дед мой, и тетка, и…
— Значит, в Орле, — решительно прекратила я пререкания. — Дальше будете слушать или нет?
— Будем! — дружно ответствовал вагон, и в каждом гласе звучала своя надежда. Персональная, как компьютер.
10
Положим, жил Тролль все же не в Орле, а в Нижней Салде. Работал в армянской фирме «Тарго» коммивояжером, продавал мужскую косметику: средство от перегара «Антитещ», одеколон «Буря кроет», дезодорант «Ара-мать», шампунь «Для перхоти», прочую мужчинскую ерундистику, сплошь из натуральных химикатов. Шел он по грязной вонючей улочке времен дедушки Демидова кривиком (т. к. улочка изгибалась змеюкой) к бюстозаводу имени дедушки Ленина. Во время оно специализировалось предприятие на выпуске бюстов второго по ходу рассказа дедушки, а сейчас шлепало первого. Дело оказалось выгодным, зарплата выплачивалась, мощности наращивались. В общем, наличествовали на бюстозаводе потенциальные жертвы армянской товарной интервенции.
Выглядел Тролль нынче презентабельно, лицо фирмы как-никак: клетчатые брючки модного кроя, куртка с разрезами «роза ветров», стильные боты на двух каблуках под углом, все одноразовое, яркое — просто супер. Правда, вид несколько портила торчащая грива. Специалист по визажу, сотрудник «Тарго», долго загибал ее в разные стороны, намачивал, накрашивал, накручивал, прореживал, потом заплакал:
«Слющай, тебя какой мама рожаль? Не армянский?» И лишь услышав категорическое «нет», слегка успокоился.
Сначала коммивояжер заглянул в слесарку к знакомому Феде. Тот неотступно следил за модой и тем, за что ее принимают, и одевался почти так же броско, как Тролль. По Феде равнялось большинство мужского контингента завода и часть женского определенной направленности.
— Слушай, Стасик, — сказал Федя Троллю, — заскочим на минутку в бухгалтерию, у моей Светки сегодня именины, они с бабами стол собрали, ждут. Неудобно опаздывать. А после поглядим, что ты принес. — И уже на ходу добавил, подхватив из-под станка цветы, — Они новенькую приняли. Девочка — умереть за рубль!
Сердце Тролля дзинькнуло.
Размахивая букетом, Федя влетел в бухгалтерию, таща за руку Стасика. С криком: «Где моя примадонна?!» влюбленный проволок коммивояжера по комнате, сметая им и собой все препятствия на пути к предмету воздыханий. Летели стулья и деловые бумаги. Очередной преградой оказалась новенькая. Неудержимый в порыве страсти слесарь довольно крепко стукнул ее Стасиком. Девушка чуть не упала.
— О, мадам! Простите! Любовь несет меня, я вижу лишь Светлану! — воскликнул Федя и представил их друг другу, приседая от воспитанности за обоих, — Аделина. Стас.
— Мы знакомы, — улыбнулась Аделина, положила теплые руки на плечи Троллю и поцеловала в губы.
— Привет. Вот мы и встретились.
Конечно, это была она. Его Душа.
11
— Мамочка, что такое душа? — поинтересовался Геничка.
— Душа — это нечто. Нежное и эфирное.
— А что…
— Уже ничего, — прервала я сей поток любознательности. — Вернее, уже Москва. Приехали. Дождь был, но кончился. Пошли.
Засидевшиеся пассажиры выглядывали в окна, выискивая встречающих именно их, цепляли на себя гроздья чемоданов, прощались друг с другом с такой радостью, будто теряли навеки заклятого врага, примеряли столичные выражения лиц. Подошел попрощаться мужчина из соседнего купе. Он оказался скорее огромным, чем большим, и не таким уж старым.
— Девушка, вы ведь расскажете сказку до конца этому победителю? Запишите и издайте.
Пожалуйста.
— Зачем? — опешила я.
— Интересно, что будет дальше. Счастливо, укротитель, — это уже Геничке. — Наращивай сильность здесь, — он постучал пальцем по макушке моему ангелочку. Не больно, но с удовольствием.
12
Мы были в конце пути с одного вокзала на другой, когда ее выбросили из красивого такого автомобиля на тротуар прямо нам под ноги. Машина сразу уехала. Выпихнули нарочно в лужу, сволочи.
Девица была совершенно голая, рыжая, грязная и невероятно пьяная. Она встала на четвереньки к нам лицом и зарычала от ненависти. Геничка зарычал тоже и принял боевую позу. «Води после этого детей по улицам», — заворчала и я, задвигая сыночка за спину, и, нагнувшись, заглянула в глаза находке. Смысл в них вроде имелся. «Вставать будете?» Дама молча поднялась. Она оказалась на полголовы выше меня (а я не дюймовочка), худой, как стелька в профиль и неустойчивой. От холода ее трясло, зубы звучно лязгали. Лучше б я рубль нашла! Упаковала девицу сначала в свой плащ, потом в подрулившее такси.
— В милицию или в больницу? — спросил шофер.
— Пошел ты на… со своими рекомендациями, — интеллигентно ответила дама хорошо поставленным голосом, аккомпанируя себе зубами. Мы узнали в подробностях и красках, где она желала бы увидеть то и другое общественные учреждения, а потом назвала адрес. Добрались быстро.
— До квартиры-то дойдете? — с надеждой поинтересовалась я, взглянув на часы: на поезд мы еще не опаздывали. Выбравшаяся из машины девица в ответ гордо тряхнула рыжими кудрями и куда-то завалилась. Пришлось расплатиться, взять в охапку колючего Геничку, походный ридикюль метр на метр и тащиться ее провожать.
У дверей в квартиру вышла заминка. Я звонила, звонила, а там не открывали и не открывали. «Нет никого, — вдруг исторгла из себя моя красотка, подпиравшая мусоропровод. — Одна живу».
— Зачем же было сюда ехать? Что-то я не видела на вас ключа.
— Замок кодовый.
Тьфу, кошки в бок! Отлипнув от мусоропровода, она изволила потыкать ногтем в нужные места.
Двери рая отворились перед нами и захлопнулись за.
Ничего себе квартирка, евродизайн в собачьей будке. У входа под ногами на пушистом коврике удобно устроился телефон. Ты-то мне и нужен! Я присела и подняла трубку.
— Мадам, назовите номер, по которому мне следует позвонить.
— Позвонить, — повторила мадам. — Зачем?
— Я набираю номер, объясняю ситуацию вашим близким, те приезжают, занимаются вами, а мы с сыном продолжаем путешествие на следующем поезде.
Ноль реакции. Девица к этому времени опустилась на пол. Геничка тоже. Они строили друг другу рожи. Всякие телефоны, поезда и прочая муть их абсолютно не волновали. Конечно, я знала несколько московских номеров. Можно было позвать на выбор: милицию, санитаров или пожарных. Последние хоть помыли бы ее.
— Девушка, вам нельзя в таком состоянии оставаться одной.
— Я не одна. Ты здесь.
Пат. Мы злобно посмотрели друг на друга.
— Меня зовут Лена, — первой сдалась я.
— Долли, — охотно представилась эта зараза.
13
В отсутствие пожарных заниматься стиркой Долли пришлось мне. Сунула ее в ванну, основательно полила какой-то пенящейся жидкостью с иностранной этикеткой (надеюсь, не средством для дезинфекции унитаза) и прополоскала. Представ в чистом виде, существо оказалось неожиданно миловидным и юным. Погудев феном, облачившись в ярко-зеленый халат и чуть протрезвев, она принялась разыгрывать роль хозяйки дома, видимо, это дело у нее шло на автомате.
— Будем пить кофе.
Усадив нас с Геничкой на белую суперсофу в гостиной, Долли утонула в хозяйственных заботах.
Канула в водовороте кухни.
— Мама, — мрачно сказал сын, — тетя мне не нравится.
— Мне тоже.
— Тогда почему мы тут сидим?
— Черт его знает.
Помолчали. Геничка спросил:
— Можно в окошко выглянуть?
— Если выполнишь одну просьбу. Останься с этой его стороны.
Крошка посмотрел в окошко, потом еще кое-что посмотрел. И еще. И еще. И… Пришлось примотать птенчика к себе корабельным канатом. За окошком между тем были: поздний вечер поздней весны, дождь, свобода и виды транспорта, везущие достойных того людей в места красивые и хорошие.
Долли явилась эффектно. На фоне кошмарной зеленой занавески, скрывающей худощавые прелести хозяйки, гордо плыл никелированный баркас на колесиках, уставленный жестяными дребезжащими чашками и уродливым кофейником.
— Что это? — оторопела я, показывая на помесь раздавленной консервной банки и каталки для покойников.
— Спецзаказ. Мастерская дизайнеров Синих. Очень талантливо. — Не дождавшись нашего восторга, добавила, — И дорого.
Она подтащила к изделию памяти Синих роскошное кресло и элегантно присела мимо. Откуда-то снизу прозвучало:
— Извините, но кроме кофе ничего нет. Я на диете.
— А мы на откорме. — Я пошла выгребать из баула остатки дорожной снеди. Кушала Долли с аппетитом. Геничка тоже. Испив крепкого кофею, мое чадо тотчас уснуло.
— Отнеси его в будуар, — посоветовала хозяйка, махнув длинной рукой в направлении где, по ее мнению, данное помещение находилось. Сейчас там уверенно расположилась стена, увешанная картиной художников, вероятно, Красных. Тошнотворное зрелище. Я подняла свою пудовую пушиночку и отправилась на поиски будуара. Вернувшись, отметила, что интерьер претерпел некоторые изменения.
Железно-покойное сооружение, в частности, украсилось массой разных по форме и содержанию бутылок.
Невероятно иностранных, судя по этикеткам.
— За встречу, — Долли лихо хлопнула бокал, по объему скорее смахивавший на пивную кружку.
Жесткое выражение ее бледной физиономии мне не нравилось. Да что там, эта дама мне вообще не нравилась. Физиономия просто не являлась исключением. Широкий рот ее обладательницы исказила светская улыбка.
— Ты, должно быть счастлива, что познакомилась со мной? Могу дать автограф.
Я пригляделась к ней повнимательнее. Кроме вышеупомянутого плотоядного рта лицо состояло из следующих компонентов: прямые упрямые брови, длинные, почти до ушей, озерообразные серые глаза надвое рассекали узкое конопатое лицо. Им не позволял слиться высоковатый и длинноватый нос, несколько портивший его владелицу. Как я уже указывала, красавица, претендующая на известность, улыбалась, что тоже не особенно украшало ее: верхняя губа при этом задиралась, обнажая широкие зубы, нависавшие над нижней губой карнизиком. Среди небольшой компании известных мне известных людей такой рыжей и наглой точно не было. Я брякнула наудачу:
— Ведущая программы «Передом на Запад!»
— Вот еще! — оскорбилась девица. — Я звезда эстрады. Группа «Бергамот по средам». Мы очень популярные. — Она небрежно закурила и лихим жестом закинула ногу на ногу. Пара бутылок шлепнулась на ковер. — Неужели не слышала? Хотя, в твоем возрасте слушают уже «Машину времени» и похоронные марши.
Она, оказывается, острит.
— Давай, напою наш хит, сразу вспомнишь, — и заныла:
Ах, я бедная, бедная Лиза. У меня нет ни верха, ни низа. У меня нет ни лева, ни права. Я, наверно, не Лиза, а Клава.Мелодию я раньше не слышала, и слава Богу. Стихи были, как ни странно, мои. Видимо, решив, что окончательно поразила мое воображение, Долли вдруг встала, шлепнулась рядом и стала больно целовать в губы. Не прерываясь, она прытко вылезла из халата и трусов, повалила меня на софу, сама пала сверху. К ее досаде, я на сии намеки никак не отреагировала. Было скучно и хотелось спать. Мы наполовину свисали со снежного мебельного плато. Тикали часы. Она уже перестала грызть мои губы, лежала рядом. Ее опять стало потряхивать. Вдруг она ткнулась лбом мне в плечо, сказала:
«Пожалуйста», потом подняла голову. Глаза у нее были жалкие, как у издыхающей лошади. Поглядев в них секунд десять, я чертыхнулась, плюнула на ориентацию и полезла вниз: целовать, куда она просила.
Интересно, качественно ли я ее вымыла? Эту даму.
Мадам кончила, лежала, не шевелясь, раскинув в стороны тощие ноги в синяках и закрыв локтем лицо.
— Достаточно?
Не дождавшись ответа, я пошла в ванную и хорошенько почистила зубы. Вернувшись, застала Долли в той же позе, но с открытыми глазами.
— Знаешь, что они со мной делали? — спросила она спокойно. Тело изогнулось в конвульсии, ее стало рвать. На белый атлас софы.
Потом мы бросили на ковер какие-то тряпки и легли спать. Девица долго рыдала, обвив меня, как удав березу. Под утро, всхлипнув напоследок, засунула нос мне в ухо, выдавила: «Ненавижу тебя», и заснула.
Самоуверенное создание граждан Синих бликовало и ликовало в ранних солнечных лучах. День обещал стать пай-мальчиком. Во всяком случае, в погодной ипостаси.
14
Мы с Геничкой тайно собрались и, поковырявшись минут пять с дверным замком, трусливо сбежали, пока Долли еще спала. Мы дали друг другу слово впредь оставлять найденные предметы там, где они валяются: в луже, в чужом кармане или на дне Марианской впадины. Плащ завис в зубах врага, все равно безнадежно испорченный гостеприимной московской грязью. Уже в поезде до меня дошло, что в его кармане находилась записная книжка с телефонами и адресами — специально переложила поближе, чтоб в любой момент достать можно было. На отдельном, вложенном в блокнот жестком листочке красовались координаты господ Петровых, к коим мы и направлялись. Ладно, я их хоть помнила. Дурное предчувствие по-хозяйски цапнуло за пятку.
Утомленное кознями судьбы чадо вело себя на редкость благообразно и три часа дороги от Москвы до Лжедмитриевска не возникало. Один раз его даже поставили в пример.
Манюня и Леня Петровы нас, конечно, немного потеряли. Жили Петровы в центре Лжедмитриевска в огромной, сталинской постройки квартире, за которую, собственно, и были избраны гостеприемниками.
— Леночка! — истерически щебетала круглая Манюня, особа слегка восторженная, — какой сын, какой мальчик! Неужели ты его сама родила? Такой огромный, красивый мальчик, весь в мамочку! Смотрите, какие у нас ушки. Мамочкины ушки! А язык! Такой длинный, красный язык, очень гибкий язычок.
Умница, прелесть, хочешь гороха? — ну и в таком духе минут 15, вертя и крутя Геничку, совершенно изумленного силой напора манюниной энергии, превышающей даже его боезапас. — Светка! Беги сюда, здесь та-акой кавалер!
На зов явились: Светка восьми лет, кошка, собака и джинсовая матушка Манюни, тотчас поставленные Геничкой в ровные колонны, определенные на службу и пристроенные к делу. Очкастый Леня, в позе интеллигента скромно мывший пол, был допущен, наконец, поприветствовать. Он всегда казался немножко славным, подарок, а не муж, а Манюня отшлифовала его душевные грани до сияющего блеска солдатской пряжки.
Петровы слегка богемствовали и чтили себя интеллектуальной элитой. Леня пел под контрабас, Манюня расписывала ложки из нержавейки. Квартира походила скорее на стенд достижений кружка «Умелые руки», чем на жилище. Периодически свисали с потолка голубые канаты, символизировавшие струи дождя, стены были затянуты самоткаными коврами в исполнении матушки Манюни, а углы — самотканой паутиной в исполнении пауков. То там, то тут, то из-под полки, то над унитазом смотрели неотступно глаза великого гения Альберт Иваныча Эйнштейна, кумира Лени. Центром домашней вселенной Петровых, духовным очагом сиял на бархатном пьедестале посреди гостиной ярко начищенный черный контрабас. Все это долженствовало будить воображение и стимулировать творческие позывы.
— Наши когда соберутся? — поинтересовалась я, проходя сразу на кухню помогать.
— Часика через два начнут подтягиваться. Ой, кто будет, не поверишь! Приехали Бобровы из Минска, Жанна с дочкой, Андрей со второй женой разошелся, на первой женился — они, Марик со своей дурочкой, Васюся, Иришка с Мишкой прилетели, Гога и все Болимбасовы. Короче, пол-курса будет.
Детей к аниной маме отведем, они присмотрит. Давай держи нож, вот это надо мелко-мелко-мелко, синеньким присыпь сверху, укропчик где-то здесь…
— Не учи кошку рожать, — важно протянула я, и мы ринулись в битву.
15
Точно через два тире четыре часа май либер Геничка энд другие чилдрен вплотную занимались анечкиной мамой, а мы отмечали праздник нашего курса. Сие событие по традиции ежегодно совпадало с днем рождения пятерых братьев-близнецов Болимбасовых, работавших сейчас в Германии и приехавших на встречу на пяти новеньких шестисотых медседесах цвета зеленая тоска. В связи с появлением сына и отращиванием его до удобоперевозимой (да-а?) кондиции, я несколько юбилеев упустила и на этот раз намеревалась утешиться по полной программе.
Когда черный контрабас покинул пьедестал, последний оказался обыкновенным раздвижным столом. Его обширные пампасы населяли теперь салаты наливье, шпроты каракумские, огурцы под кетчупом. Были еще: синие из манюниных эстетических соображений куриные тушки, лежащие в эротических позах лапками кверху; сыр торчал из помидоров; с потолка свисали порезанные серпантином копченые колбасы. Свежайшая, дикорастущая еще в горшках трава петрушки и кинзы оазисами окружала источники влаги, томящиеся в бутылках. Сию кулинарную блажь довершал невесть откуда взявшийся в это время года и смотревший бирюком арбузище в шляпе и с курительной трубкой.
Народец, имевший удовольствие одновременной со мной учиться на архитектурно-сантехническом факультете Лжедмитриевского политеха, резвился, вкушая, и вкушал, резвясь. Гостелюбивый Леня музицировал, не жалея контрабаса. Мягкие, низкие, тревожные звуки стекали на пол, обволакивали ноги, делая атмосферу духовной и пищеварительной. Мы успели прослушать историю лысого Марика о ненасытном начальнике, трогательный рассказ семейства Бобровых о больном верблюде, встреченном на сафари в амазонской пустыне, полную иронии притчу Аркадьева о безнадежной и безупречной в моральном отношении любви тещи к болотному багульнику, случившейся на даче в деревне Большая Порка, а также половину сплетен Жанны о тех, кто не приехал. Самое время было начинать подготовленную Петровыми культурную программу, когда в дверь позвонили. Манюня удалилась открывать.
Вид исполнившей обязанности швейцара хозяйки мне не понравился. Особенно рыскающий в раздумьях взгляд. Остановив выбор на мне, она подошла.
— Слушай, — сказала Манюня, — там пришла… — она долго, что для нее, мягко говоря, не свойственно, искала слово. Не нашла. — Пришла короче. Спрашивает, кажется, тебя. Говорит, нужна Лена. Боброва и марикова Элен по описанию не подходят.
— Брюнетка? — почти без надежды.
— Рыжая, — ответила безжалостная Манюня.
Кошки в бок! Может, сплю?
16
Конечно, в высоком темноватом коридоре не заслуживающего таких потрясений семейства Петровых стояла она, давешняя шалава. Вся в белом и эффектном, выглядела она на редкость материально. И даже цивилизованно.
— Я привезла деньги за такси. На, — она помахала купюрой.
— Спасибо. До свидания. Следующий поезд в семь сорок. Как раз успеваешь.
— Я на машине, — она хлопнула по карману, там что-то звякнуло. Должно быть, ключи. — И не тороплюсь. Почему ты уехала? Тебя никто не отпускал.
Тут это жуткое создание полезло целоваться. Я вздохнула, стряхнула ее и дала по морде.
— Ты что? — опешила Долли.
— Ничего. Я позволяю использовать себя только по пятницам. А сегодня суббота.
Долли вдруг широко улыбнулась.
— Как ты мне нужна, — доверчиво сказала она, и знакомо ткнулась лбом в плечо. Для этого ей пришлось изрядно согнуться. Когда человек стоит в таком положении, ударить его по морде невозможно — рука не подымется. К тому ж, любопытно было бы запустить ее в наш зверинец. Да и что я — зверь, дите в ночь выгонять? Почти уговорив себя, спросила все же для очистки совести:
— Никакого секса?
Долли оторвалась от плеча и фыркнула:
— Подавиться мне кексом! Меня здесь накормят? Вино в машине. Там еще автомат для твоего сына.
— Надеюсь, тарахтит не очень громко?
— Совсем не тарахтит. Водяной.
Сходили за вином и водяным автоматом. Потом отправились знакомиться и кормиться. В проеме распахнутых настежь дверей, ведущих в обычно гостиную, а ныне банкетный зал семьи Петровых, Долли встала. Было отчего. Комната смахивала на лежбище котиков после нереста, мебель Манюня с Леней имели низкую, к тому ж на всех ее не хватило. Гости свободно перемещались по утыканному свечками полу, в основном на пузе, задирали кверху руки и шарили по столу, ища поесть, вели себя бесконечно любвеобильно по отношению друг к другу. Бритые братья Болимбасовы лупили по пяти гитарам, в пять здоровых глоток исполняя гимн факультета:
Все выше, выше и выше Стремится фекалий запас, Чтоб гадить на землю и крыши, Но бдит голубой унитаз!Тут наш лихой курс дружно вскочил и заскандировал: «Сделаем небо! Чистым! Подымем сантехнику до заоблачных высот! Ха!» На слове «ха!» полагалось топнуть и выбросить вверх кукиш, видимо, грозящим свалиться оттуда на мирное население какашкам.
— Что это? — слегка обалдела Долли.
— Вечеринка выпускников архитектурно-сантехнического факультета. Самолетно-унитазное отделение, — с готовностью подскочил временно разведенный Васюся.
— Долли, — снисходительно уронила Долли и принялась звездить.
Первым делом она просветила публику на предмет безграничной популярности как собственной, так и группы «Бергамот по средам» в целом. Потом вдалась в детали. Она расположилась в единственном кресле и дирижировала восторгом публики, повествуя о своем редком таланте, тыкая временами в очередной ростбиф по-северокорейски или серебристую колбасную спираль, висящую повыше. Она пробовала и оценивала вина, давала советы дамам по поводу макияжа и диет и по всем остальным поводам тоже. Она знала лично Гошу Всмяткова и Папу Пермского, конюха Мадонны и собачку Паваротти. Ее величайшая группа «Бергамот по средам», долженствующая музыкально пережить не только наше время, но и остальные времена, под песни которой будет, вероятно, разыгрываться Армагеддон, собирала, естественно, стадионы и набитые поклонниками клубы и красные уголки небольших заводов. Они почти записали первый альбом «Не финти», в очередь за коим уже выстроились колонны тонких ценителей изящных искусств. Звезда стреляла по публике фразами: «Смотрю, а это гитара Зинчука», «По самый микрофон в цветах», «Сам пришел поздравить, представляете?» Убитая публика плакала, целовала ее в носки и подносила очередной кусок пирога с селедкой. Потом попросили спеть. Долли не отказалась. Она заиграла на всех пяти гитарах братьев Болимбасовых; нашла детскую дудочку Светки Петровой и выдала ее Васюсе, красный от гордости и натуги Васюся дул с таким видом, будто держал в руках волшебную флейту эльфов. Музыкальный Леня рвал струны чернотелого друга.
Братья бренчали на временно свободных от Долли гитарах и стучали по столу расписными ложками Манюни. Собачка Петровых тоненько выла в кухне. Сколоченный на скорую руку из отходов стройматериала ансамбль заиграл с азартом и довольно стройно.
Вдохновленная сопровождением, Долли запела. У меня открылся рот. Голос ее поднялся над нами и зазвучал откуда-то сверху сильно и нежно. И почему-то перестали казаться глупыми и жалкими канатные водопады Петровых, трепетные души свечей пришлись к месту, а торчащие на бритых головах уши братьев смотрелись таинственно и строго. Банальные физиономии однокурсников неожиданно обернулись лицами людей умных, печальных, бесконечно одиноких в развеселой пьяной толпе. И неважно было, что слова в песне чепуховые, а мелодия на копейку. Не важно вообще ничего. У Долли и правда оказался талант.
17
Мы прослушали, я думаю, весь репертуар наипопулярнейшего «Бергамота». Под занавес был подан величайший шлягер всех времен и народов «Бедная Лиза».
— Ой, что-то знакомое! Ленка, это же твоя песня! Только мелодия вроде другая, — встряла эрудированная Манюня. — А стихи точно твои.
— Твои? — развеселилась Долли. — Мы думали, народные. Фольклор, — ввернула она научное слово.
— Весь фольклор экспроприирован народом у своих лучших представителей. Сплошной плагиат, — ответила я.
— Значит, ты стихи пишешь?
— Пишет-пишет! — зашумели в зале. — Еще песни сочиняет и сказки.
— Писала, — поправила я, — по молодости. И по дурости. Теперь взрослая и умная.
— Пой! — приказала Долли, вручая мне гитару.
— Фиг, — отрезала я, демонстративно хватая со стола кусок чего-то крупного и поспешно пихая в рот.
— Почему?
— М-ням, — издала я.
— Да мы вам споем, споем! Мы песни ленкины наизусть помним, еще лучше нее, — обрадовались угодить сокурсники. Братья опять похватали гитары, Леня припал к контрабасу и пьяный хор взвыл:
Эта уличная мразь Разбрелась, куда попало. Скука плотно улеглась и висела, и стояла. Где-то слабенькая грудь выводила о хорошем. Из дворов глазела муть, и невкусно пахло прошлым. Мяли землю каблуки, та визжала неприлично. Шли одни недураки деловые, как обычно. Я, один на всех дурак, в наглых птиц кидался хлебом. А на крыши влез синяк и прикидывался небом.Теперь уж Долли пришлось насладиться доброй половиной моего культурного наследия. Белорыжая зараза молча улыбалась, ехидно посматривая из троноподобного кресла. Я продолжала есть.
— Вот ты какая, — констатировала она по окончании псевдомузыкального экскурса в мое прошлое.
— Неправда. Я — ведущий конструктор нашего КБ, серьезная и высокооплачиваемая деловая дама.
— Что же ты конструируешь?
— То же, что и остальные здесь — унитазы для самолетов. Мой профиль — гидропланы.
— А мы сейчас разрабатываем секретную канализацию для бомбардировщика Б-20 Зандерболт, — похвастались немецкие братья. — Но это военная тайна.
— Надо же, — вежливо удивилась звезда. — Как-то мне в голову не приходило, что в бомбардировщиках нужна канализация.
— А как же! Захотел пилот пописать, что ему — дырку в полу дрелью вертеть? Баночка-то на вираже перевернуться может. А через дырку моча попадет на территорию врага и экологически загрязнит ее, неприятностей с зелеными не оберешься. Не-ет, без канализации никак, — разъяснили засекреченные братья.
Дама фыркнула:
— А бомбы, они территорию врага не загрязняют? А ты чем сейчас занимаешься? — обратилась она ко мне.
— Унитазирую самолет нового русского. У его тещи дача в Новых Лядах, там прудик, приземляться очень удобно. А летать не очень — у клиента кишечник слабый. Чтоб дискомфорта в воздухе не испытывать, он желает иметь возможность сходить прямо под себя. Делаю совмещенное унитазокресло.
А специалисты из сопутствующего цеха шьют соответствующие штаны.
— Интересная работа, — ответила воспитанная Долли. — Нужная людям. Хорошо платят?
— Не обижают.
— Почему тогда у вас в доме диван, стол, игрушки да голые стены? — перебила любопытная Жанна, изведшая визитами половину факультета. — Одна приличная картина, и та висит в сортире.
Представляете? Прихожу туда, в общем, руки помыть, гляжу — над унитазом море. Читаю: батюшки, Айвазовский! «Вид бухты Мариуполя с горы Константинополя. 1856 год». Выхожу, спрашиваю у Сергея Николаевича, это ленкин папа, подлинник? Да, говорит. Что ж тогда, возмущаюсь, он у вас в туалете, его в гостиную надо, на центральную голую стену. А он: «Здесь влажность соответствующая и нет попадания прямых солнечных лучей».
— Потому и стены голые, все в папину коллекцию вкладываем, — вздохнула я.
— Где коллекция-то? Один Айвазовский.
— Он коллекция и есть. Папа давно картины собирает, начал с Махалкина, местного гения. Подкопил денег — Махалкина продал, этюд Куинжи приобрел. И так далее. Теперь до Айвазовского дошел. Сейчас у него Рембрандт на примете, да средств пока не хватает.
Манюня, слегка встревоженная перерывом в культурной программе, решила подхватить тему живописи:
— Кстати! Наш Васюся неплохо рисует. Особенно ему тараканы удаются. Может, твой папа купит пару его картин?
— Вряд ли. Квартирка хрущевская, хранить негде. Поэтому у нас бывает только одна картина одновременно. А поменять Айвазовского на Васюсю папа не согласится.
Васюся, похваленный в присутствии заезжей звезды, нежно краснел и потел.
— Знаете, у нас весь выпуск такой подобрался талантливый: Андрюша шьет кукол, Жанна лобзиком по стеклу выпиливает, Анечка свистит иволгой, Бобровы лепят из пластилина, все, все ужасно одаренные! — трещала Манюня.
— Каким же талантом Господь одарил вас? — поинтересовалась Долли.
— Моя Манюня танцует на столе, — гордо возвестил Петров-муж.
— Попросим! Попросим! Степ! — взликовала стосковавшаяся по зрелищам толпа.
Толстая Манюня подвернула полы совмещенного с халатом вечернего платья и, кряхтя, закинула на стол полную ножку в модельной туфле. Взыграла музыка, завизжала Жанна, заухали, засвистели и заскакали инженеры. Круглая Манюня, топча свечи, лихо стучала каблуками по столу и трясла ажурной шалью. Белая Долли, путаясь в канатах, пьяной молью металась по гостиной. Веселье смяло, наконец, шаткую плотинку цивилизованности, бурно и мощно хлынуло в давно подготовленное Петровыми русло.
Начался шабаш.
18
Отзвенели гитары, сгорели свечи и пара тканых ковров, закончился век синих эротических куриц и одетого в шляпу арбуза. Усталые унитазостроители склонялись ко сну. Им было постелено.
Высокоморальные хозяева выделили комнату семейным парам и по комнате холостым особям обоих полов. Переодетая в богемный халатик Манюни Долли заплела толстые косички, втиснулась между мной и стенкой, обняла за шею и поцеловала в ухо. «Ты обещала!» — зашипела я. «Просто спасибо», — шепнула она и притихла. В ухо мне текли ее слезы. Через изъеденное дизайном окно в комнату наливался очередной рассвет.
19
— Урра-а-а! Автоматчики заходят с флангов, конница бьет по центру, дядя Вася сидит в засаде! В засаде, я сказал, а не на стуле! Бросишься на гадов только по приказу! Урра! В атаку! Тра-та-та-та-та!
И тому подобное. Я привыкла просыпаться под бой орудий и звуки военных маршей. Пойти, что ли, спасти парочку коллег? По-пластунски, ногами вперед вылезла из-под общего одеяла, что-то накинула и выглянула в гостиную. Анечкина мама с утра пораньше поспешила избавиться от Генички и привела его сюда. Тут он встретился с доллиным автоматом, что и решило судьбу коллег: полуголые инженеры играли в войну. Васюся прятался под стулом, братья скакали друг на друге, мня себя конницей, почетная роль гадов досталась Лене и Аркадьеву. Геничка, как всегда, выбрал самое трудное. На этот раз он был автоматчиками. Не знаю, как сынуля представлял себе фланги, но находился он везде и отовсюду поливал водой из автомата ошарашенных столь бурным пробуждением инженеров. Доставалось и своим, и гадам. Последние, впрочем, сидели в крепости из матрасов, отстреливались подушками и чувствовали себя довольно сухо и комфортно. Геничке очень нравился подарок Долли.
— Слушай мою команду! — рявкнула я. — Войну прекратить! Штаны надеть! Постель прибрать! Даю две минуты. Генералу Геничке срочно явиться к фельдмаршалу маме и сдать оружие.
Геничка разочарованно подергал губками и явился. Освобожденные инженеры, как зомби, тыкались друг в друга и искали штаны.
— Зачем дядей мучил? Ты кушал? — я с некоторой опаской похлопала его по пузу — вдруг застучат косточки аниной мамы? Живот молчал.
Мы позавтракали, попрощались с разъезжающимися по родным КБ одноклассниками, навели порядок, помыли морду Альберт Иванычу, которому некто пририсовал ослиные уши и богатые зеленые усы, достали кошку из кастрюли с борщом (конечно, она оказалась там совершенно случайно).
К обеду изволила явиться и звезда. Она королевским кивком поприветствовала собравшуюся трапезовать челядь, села на освобожденный от Лени стул рядом со мной и как-то уже привычно ткнулась лбом куда-то мне в шею. Лоб оказался горячим.
— Долька, у тебя жар.
— Как ты сказала?
— Жар, говорю, вся горишь.
— Да нет, как ты меня назвала? — она подняла голову и улыбнулась.
— Долька. На Долли ты сегодня никак не тянешь. Ты хоть умылась?
— Не-а. И не буду. Зови Долькой. — И Манюне, — Нужны малина и аспирин. И теплые носки. А лучше — валенки. Будем меня лечить.
Вышезаказанное тотчас доставили. Правда, валенки оказались с калошами.
Запланированная на после обеда экскурсия по городским достопримечательностям сама себя отменила. Больную Долли заботливо устроили на кресле в гостиной вместе с запчастями: малиной, теплым молоком, медом, пачкой аспирина и рыбацкими валенками матушки Манюни. Сытый и боеспособный Геничка стоял перед большим зеркалом, изучая мускул. Сыночек сгибал и разгибал в локте руку, надувая несуществующий бицепс и орал в такт: «Голубой вагон бежит-качается! Эх! Скорый поезд набирает ход! Эх!»
— Смотри, мама, я так пою, что даже потею! — похвалился он. На лице его возникло знакомое задумчивое выражение, а взгляд уперся в японскую вазочку, с трудом доставшуюся Лене по наследству от дедушки-дипломата.
— Все! — поспешно выдохнула я. — Садимся и слушаем сказку про Тролля.
— Да? — заметил Геничка, плотоядно поглядывая на японский шедевр. Идея разобраться с ним казалась сынуле гораздо привлекательнее. Решив, впрочем, что вазочка никуда не сбежит, а мама может передумать, он вяло поинтересовался, — Ты закончила на том, что Тролль встретил душу. Что такое душа?
— Нежное, эфирное создание. Эфирное значит воздушное. Ну, тонкое такое, возвышенное, — пояснила я.
— Ага, понял, — Геничка посмотрел на худую и длинную Дольку.
Ах, так? Ладно, будь по-вашему. Я по-турецки уселась на пол и начала рассказ.
20
Отпраздновав Светкины именины, Федя и Стасик вернулись в слесарку. Продвинутый Федя со знанием дела запустил руки в троллев дипломат и комментировал предлагаемое самым восторженным образом. Воздух вскоре заполнился наидичайшими ароматами и междометиями: «Ах!», «Ух!», «Ой-ойой!», «Э-ге-гей!» и «У-ю-юй!». Кое-что купили. Федя выбрал дезодорант для носков «Брызги недр»:
«Побалую себя с получки», и потащился провожать Стасика на проходную.
— Слушай, ох и баба у тебя! — не выдержал-таки слесарь, когда уже попрощались.
— Какая баба?
— Да Аделина из бухгалтерии, видел я, как она тебя целовала.
— А, эта. Это не баба. Это Душа.
— Я и говорю, душа, а не баба! Ну, ты мужик.
Тролль только улыбнулся. Он решил сегодня никуда больше не ходить, благо улов был немалый.
Подогретые фединым энтузиазмом работники бюстозавода порядком обогатили фирму «Тарго» в лице ее представителя. Тролль отправился домой готовить торжественный ужин к приходу Аделины, рабочий день которой заканчивался в шесть, и вспоминать ее первое появление. Где-то под ложечкой привычно зацарапались песенки.
21
Тролль тем летом рыбачил. Мягкое нежное утро только-только распустилось. Зверье еще не успело закончить хлопоты, связанные с пробуждением. Вокруг чирикали, цвикали, попискивали, чуть слышно шлепали мохнатыми лапками по сырой траве, восторженно квакали и вовсю ели друг друга. Тролль давно забыл язык зверей, а может, те разучились разговаривать, но их утренняя суета будила в нем покой, была близка и понятна. Он стоял на носу лодки, беззвучно опуская длинный шест в податливую светлую воду, легко разводя ее носом суденышка, и гадал: много ли рыбы попалось за ночь в сеть, свитую пару дней назад? Вчера вечером он как раз решил опробовать ее и установил в хорошем, уловистом месте. Было самое лето, заготавливать рыбу на зиму время еще не приспело, но сеть уж очень хотелось проверить.
В привычном гомоне лесного народца услышал Тролль нервную нотку. Принюхался. Да, совершенно явно чувствовался в девственном воздухе запах, от которого Тролль бежал много лет назад: запах человека и его крови. Нельзя сказать, чтоб Тролль не терпел людей, он довольно часто жил среди них по их правилам, но их привычка убивать и мучить друг друга без необходимости тяготила его, лишала душевного равновесия. Тогда он уходил в дикие леса, благо их было еще без края, и жил, как тысячи лет назад, простой жизнью зверя. Но рано или поздно всегда возвращался к людям, будто что-то притягивало.
Ленивая речка никуда не торопилась, медленно и важно огибала естественные выступы: каменный ли мысок, кряжистый ли дуб, росший с незапамятных времен и не желавший покидать обжитого места из-за такой чепухи как спокойная водица. Уступчивый речкин характер поделил ее на множество рукавов и рукавчиков, и образовалась на ее неспешном пути масса мелких островков.
На одном из них Тролль увидел человеческое существо, голое, здорово исцарапанное, но живое.
Существо спало, свернувшись калачиком, укрытое вьющимися волосами удивительного цвета — цвета листвы осеннего клена. Вдруг оно почуяло что-то и вскочило. Оказалось, это самка, но какая-то чудная, Тролль не встречал еще такой породы. Страшно худая, высокая, с непомерно длинными ногами, слишком маленькой для такой взрослой особи грудью, с кожей совершенно белой, даже синей от холода.
В руках находка держала копье. Наизготовку.
— Хочешь есть? — спросил Тролль на местном наречии. Обычно это действовало.
— Ах, это ты, — сказала женщина непонятно, прошлепала к лодке, смешно задирая разодранные коленки, уселась на дно, положила рядом копье и скомандовала, — поплыли!
— Ты кто?
— Твоя Душа. Буду с тобой жить.
Женщина-Душа и взаправду поселилась в жилище у Тролля. Он сплел ей лежанку из ивовых прутьев, набросал сверху сухой травы, дал шкуру волка, чтобы укрыться, кое-какую одежонку. Первое время женщина помалкивала, только спала да ела до рвоты. Живот уже не прилипал к позвоночнику, но тело было по-прежнему худым и белым. Царапины ее Тролль замазал красным илом и они быстро зажили. Как-то Душа спросила:
— Почему ты все делаешь сам?
— Кто же за меня сделает? Ты вон помочь не торопишься.
— Заставь помощников.
— Нет у меня помощников, видишь же — живу один.
— Не ври. У Хозяина леса всегда есть помощники: духи воды, духи ветра, духи деревьев и зверей. А увидеть их я не могу, я же человек.
— Я тоже человек. Может, и есть у леса Хозяин, да я его никогда не видел.
— Почему тогда тебя звери не трогают? Утром хромой медведь приходил, ты ему лапу колдовским зельем мазал.
— Хозяина у леса нет, а законы есть. Кто их уважает, того зверь не обидит. А медведь — приятель мой, он медвежонком здесь жил, на твоем месте спал.
Душа разочарованно почесала рыжую гриву.
— Плохо, что ты не колдун. Мне с Большим Бубном расправиться надо. Тут без колдуна трудно.
Ладно, — решила она, — пойдешь вечером со мной, там видно будет.
— А если не пойду?
— Пойдешь-пойдешь, баздыкну копьем — бегом побежишь.
Тролль развеселился и согласился. Конечно, он не испугался, что его баздыкнут копьем, вид женщина имела довольно жалкий, но она была забавная. К тому же, интересно узнать: что за Большой Бубен и чем он провинился перед этой самкой?
Вечером собрались в путь. Взяв на плечо любимое копье, Душа затопала впереди, показывая дорогу.
Ее худые лопатки освещала Луна.
— Душа, кем ты была в своем племени?
— Охотницей.
— Женщины не охотятся.
— Меня женщиной не считают. Говорят, больно страшная.
— Ну, хорошо. Как ты зверя выслеживаешь? Если так топать, глухой тетерев в соседней роще с перепугу с ветки свалится.
— Не твое дело. И не смей звать меня Душой. Душа — жена Хозяина леса. Раз ты человек, значит я просто А.
— А?
— А! Имя такое. Будешь хихикать, баздыкну.
Она подергала лопатками, запнулась, зацепилась копьем и кувыркнулась в какую-то яминку. Он ее вытащил. Так и шли. Две ночи, два дня и еще пол-ночи.
22
— На месте.
Тролль и А стояли на плоской вершине низкой горушки, у подножья которой спала по причине ночного времени суток деревня. Сюда доносился запах жилья. Горушку венчало сложенное из обтесанных камней святилище, похожее на небольшую пещерку. На пороге лежали подношения странным человеческим божествам: дурно пахнущая нога старого зайца, горсть орехов в плошке, мучнистые корешки амбариса. Скучновато.
— Он там, — дрожащим пальцем А ткнула внутрь святилища.
— Кто «он»?
— Большой Бубен. Ты должен его принести. Если пойду я, с небес ударит огненная стрела прямо мне в голову, — А выразительно постучала себя по темечку. — Ты мужчина, тебя не убьет. Может быть.
— Ладно, как выглядит этот Большой Бубен?
— Не знаю, Его никто не видел, кроме шамана. Зато все слышали, как он говорит: «Бум!» Колдун ходит советоваться с ним в новолуние.
Тролль, веривший только в то, что видел собственными глазами, покрутил головой и пропал в пещерке. Он шарился в полной темноте, пока не запнулся за что-то. Это что-то гулко ухнуло.
— Он! — пискнула А снаружи.
Вытащенный под яркий лунный свет Большой Бубен оказался огромным горшком для еды без дна.
Верхнее отверстие было затянуто выделанной и разрисованной уродливыми фигурками кожей. Бубен лежал рядом с пещеркой, посвечивал кожаной гладью, недовольно гудел, потревоженный столь беспардонным образом. Храбрая охотница на полусогнутых ногах обошла его кругом, потыкала копьем, потрогала пальцем. Небесная стрела не спешила бить охальницу по темечку. А ходила вокруг племенной святыни быстрее и быстрее, бормоча тихонько, но страстно что-то злобное, трясла лохматой гривой, ухала, а потом вдруг вскочила на затянутое кожей пузо и присела. В нос ударил характерный запах испражнений. Сделав дело, А спрыгнула с Бубна и некоторое время глядела вниз, пытаясь рассмотреть спящую под горой деревню.
— Пора идти. Догонят — убьют, — она развернулась и затопала обратно в лес, даже не взглянув в сторону поверженного врага, чье некогда надменное тело украшала ароматная кучка.
Они шли остаток ночи, утро и весь день, остановились передохнуть только к вечеру.
— Как тебя зовут? — спросила А, откинувшись спиной на теплый ствол старого клена и устало вытянув ноги.
— Вух. С чего вдруг тебя заинтересовало мое имя? До сих пор ты обходилась без него.
— Этой ночью я узнала, что ты смелый. Смелых следует звать по имени. Молодец, Вух, не испугался Большого Бубна.
— Может, расскажешь, чем он тебе насолил?
А сердито посопела и выдала следующую историю. Оказывается, люди ее племени вовсе не рыжие, а темноволосые и темнокожие. Они нашли ее в лесу младенцем, воспитали и вырастили. По местным меркам А считалась страшной уродиной, мужчины племени не хотели брать ее в жены, женщины чурались и не научили ведению хозяйства. Чтоб не дармоедничать, А стала ходить на охоту.
— Ты сказал, я плохая охотница. Но и другие у нас не лучше. Если зверья в какой-то год меньше обычного, племя голодает. Колдун идет к Большому Бубну испрашивать совета. Большой Бубен говорит, что нужно сделать, чтобы зверь ловился.
— Топать тише.
— Это ты колдуну скажи. Ну и вот, этим летом мы опять голодали, живность попряталась. И Большой Бубен приказал принести в жертву меня, потому что я рыжая и навлекаю на племя беду. Как только меня убьют, зверь вернется и сам в ловушки попрыгает. Ужасно жаль, конечно, голодных детишек, но себя мне жаль еще больше, и я удрала в лес, к Хозяину, хотела стать Душой. Помню, когда была девочкой, старухи шептались, мол, живет в лесу Хозяин, вечное существо, великий колдун. Ему суждено быть одиноким, пока не встретит и не спасет от смерти свою Душу, женщину из людей, которая станет его женой. Я, когда тебя увидела, подумала, ты Хозяин и есть, обрадовалась. Ну да ладно, ты и так ничего, — лицо А внезапно расплылось в широкой улыбке, обнажив широкие, как у бобра, верхние зубы. — Посплю пока, покарауль, — распорядилась она, бухнулась на бочок, нежно обняла копье и засопела.
Ночью отправились дальше. Тролль предпринял кое-какие меры, чтобы сородичи беглянки не нашли их по следам. Хотя против столь бестолковых существ, не могущих летом в хороший год прокормиться в богатом живностью и ягодами лесу, и эти предосторожности были излишни. До жилища добрались без хлопот, не считая нескольких синяков на теле А, постоянно куда-то падавшей. Наступил поздний вечер. Накануне отдохнули хорошо, спать еще не хотелось, но, как следует наевшись, улеглись, каждый в своем углу. Верный очаг тепло тлел, мягко освещал столь разные лица: белое, узкое, загадочное, сероглазое — это А, треугольное, с ярко-фиолетовыми глазами, хитрое и вместе с тем печальное — это Тролль.
— Вух, почему мужчины не хотят меня?
— Ты не похожа на женщин, которых они знают.
— Ты знал других?
— Я много чего повидал.
— И таких, как я?
— Таких, пожалуй, нет.
— Скажи, я тебе нравлюсь?
— Конечно, — соврал Тролль — Почему же ты не взял меня до сих пор? — В голосе ее что-то звенело. Слезы, что ли?
— Хочешь стать моей?
Она всхлипнула.
— Прыгай сюда, — позвал Вух, и А прыгнула. Прямо через очаг.
Перед рассветом Тролль отчего-то проснулся. В оконное отверстие заглядывали последние ночные звезды. И ярче их рядом с ним сияли в полутьме счастливые глаза А.
А прожила с ним до следующего лета. Однажды, возвратившись с рыбалки, он не застал дома ни ее, ни знаменитого копья. Она ушла, как уходили все женщины, когда-либо делившие с ним кров. Может, их не устраивал простой быт Тролля, а может, то, что от него не рождались дети. Тролль не искал А. Вскоре он и сам перебрался отсюда на новое место. Но это уже другая история.
23
На коленях у Долли Геничка доедал малину (с медом он уже разобрался). На ковре вокруг меня собрались домашние: Светка с собакой, Манюня с Леней, матушка с вязанием и сама по себе кошка. С кухни тянуло подгорающей квашеной капустой.
— Понравилась сказка?
— Нет, — ответил честный сын, облизывая расписную ложку. — Больше не хочу про Тролля. Расскажи теперь про Бэтмана.
— Легко.
— Что за Бэтман? — удивился несовременный Леня.
— Герой. — Я потянулась. — Ладно, слушайте. Только история будет короткая, язык устал, — я потрясла языком. Он вяло мотнулся слева направо, точно хвост больной коровы. — В одной деревне жил-был хороший Бэтман. Круче его в округе парня не случилось. Как-то раз он встретился с Найтменом, главарем хороших из соседнего села, и у них вышел бой из-за Ватмана, но об этом узнал Клинтон, местный участковый, он прилетел на крыльях ночи, дал обоим по саксофону, и все само собой уладилось.
Правда, саксофоны целую неделю побаливали.
— Ну-у, — протянул Геничка, — это нечестная сказка. Больно коротенькая.
— Слазь! — Долька спихнула его на пол. — Ничего в сказках не понимаешь. Ленка, ты просто гений, тебе срочно в Москву надо переезжать, печататься во всех издательствах.
— Гений — я, — заявил с пола Геничка.
— Ладно, твоя мама не гений. У нее обычный талант. Что ты там с ним прозябаешь, в своем, как его?
— Малом Сургуче, так его. Не прозябаю, а живу на пользу обществу по специальности. Чтобы в Москву всех талантливых переселить, нужно сначала оттуда всех неталантливых выселить. А то места не хватит. Нас, таких, на десяток одиннадцать штук.
— Да, — авторитетно изрекла Манюня, — русский народ, знаете, какой одухотворенный? Про нашу семью уж молчу, вы любого прохожего возьмите — что-нибудь этакое творит. Да вот хоть сосед по площадке, Власий Давыдович, прекрасные стихи пишет. Он даже в заводской малотиражке печатается.
Мама, помнишь, я его поэму цитировала по ударника Завьялова? Как там?
Перед нами рабочий Завьялов, еще тот трудолюб, э-ге-ге! Всю-то жизнь у станка простоял он на одной, понимаешь, ноге. А вторая нога — на педали, и, товарищи если не врут, ему дали четыре медали и грамоту «За доблестный труд»…— Дальше не помню. Но каков язык! «Ему дали четыре медали», — Манюня в восторге закатила глаза и перестала дышать. Потом со свистом засосала в легкие очередную порцию воздуха и закончила, — Самородок!
Крыть Дольке было нечем. Но она не сдавалась.
— Ладно, не хочешь печататься — напиши для нас хит. Мы с ним, знаешь, как на весь мир прогремим?
И тебя прославим.
— Пусть на мир пустые молочные цистерны гремят по ухабам. Мне больше нравится унитазы ваять.
Бесшумно, и оплата гарантирована, — я встала. — Посмотрю: что там с капустой? Пытают ее что ли? — запах из кухни тянулся премерзостный.
Долли в рыбацких валенках протопала за мной в кухню, села на витой табурет и глядела непонятно.
Кажется, печально.
— Спросить хочешь? — подтолкнула я, мешая капусту.
— Нет, заявление сделать. Мне кажется, я должна быть с тобой.
— Как это? — вдруг стало неуютно — девочка говорила серьезно. — В качестве кого? Ты ведь не брошенный птенец, чтобы положить в сумку и унести домой. Ты для этого слишком длинная.
— Перестань обзываться. Мне нужно быть с тобой — и все. Почему ты этого не чувствуешь? Не хочешь жить в Москве — не надо, перееду в ваш Малый Сургуч.
— Да, там давно тебя ждут. Есть вакантное место в хоре ветеранов, они в прошлом месяце солистку схоронили, соловушку девяностодвухлетнюю. Очень тебе обрадуются. — Я подошла к Дольке, прижала к груди ее глупую лохматую голову и сказала мягко: — Вот балда! Что ты себе придумываешь? через неделю тебе будет стыдно вспоминать о том, что ты сейчас наговорила. А через месяц забудешь и меня, и тех сволочей из ленд-ровера.
— Мне нельзя с тобой? — голос ее звучал глухо, должно быть от того, что рот был заткнут моим животом.
— Нельзя. Завтра вместе домчим до Москвы на твоем авто, если его еще не угнали, попрощаемся и отправимся в разные стороны. Я вернусь к своим унитазам, ты — к своему «Бергамоту». Тьфу ты, чертова капуста опять горит…
24
На желтой и сырой траве Лежу я, точно лист зимой, И бродят мысли в голове О том, что ах! и Боже мой! Что рядом дождичек идет И мочит мокрую траву, А я уже который год, Быть может, вовсе не живу, И жизнь моя лишь чей-то сон, Лишь чей-то бред, лишь чья-то блажь… Но вдруг очнется этот «Он», И вмиг рассеется мираж?Тролль и Аделина пили чай со слоеным тортом. Вечерело. Темнело. Веснело. Выло шальными кошками. Стучало в окно полуодетыми ветками клена. Пахло вареной сгущенкой. Аделина ела торт руками по старой привычке, застрявшей со времен средневековья. Между собой им было не обязательно играть в культурных, но Тролль старательно соблюдал те многочисленные правила, которыми люди умудрялись усложнять жизнь. Может, он подсознательно боялся отстать от них, а может, это был просто такой вид спорта.
— Перемазалась-то как, — Стасик пересел к Аделине, достал парчовый носовой платок и стал стирать с ее лица сгущенку. Та стояла насмерть.
— Ты языком, — посоветовала А.
Тролль лизнул ее в милую мордочку.
— Щекотно, — хихикнула А и стала расстегивать на нем стильную рубашку стоимостью один доллар.
25
Они отдыхали, лежа на полу на толстой шкуре. На кровати им показалось скучно.
— Между прочим, этого медведя я сам убил, — похвастался Стасик. — В наших уральских лесах кто только не шатается! Напал, понимаешь, ни с того, ни с чего. Совсем зверье одурело. Язык забыло, на людей бросается.
— И что ты с ним сделал?
— Вспомнил былую сноровку: затолкал палку в пасть, вскочил верхом и свернул шею.
— Ври больше! — Аделина фыркнула. — Мех-то искусственный, я же чую, — она засунула узкий нос глубоко в псевдо-шерсть и чихнула. — И давно не чищенный вдобавок. С утра займемся уборкой. Что только ты тут делал без меня!
— Жил. Ждал.
— Как жил? Расскажи.
— Нет. Не интересно. Давай я лучше сказку расскажу.
— Про нас?
— Не совсем. Про двух женщин. Одну зовут Лена, Елена Сергеевна.
— А другая пусть будет Долли, Доля.
— Идет. Стяни одеяло с кровати, дует. Значит, жила-была Елена Сергеевна.
— И Долли.
— Погоди, они еще не познакомились. Жила-была сама по себе Елена Сергеевна в провинциальном городе Малый Сургуч, что на широкой сибирской реке Сургуч Великий. Мужа у нее к 28 годам не случилось, а имелись: мама Тоня, папа Сергей Николаевич, боеспособный сыночек Геничка, маленькая квартирка в старом доме на шумной улице, жених восточной национальности, да работа по специальности, настолько узкой, что учили ей лишь в одном Лжедмитриевском политехе. Елена Сергеевна проектировала…
— Унитазы для самолетов.
— Почему это? — обиделся Тролль.
— Что ей, мужскую косметику продавать?
— Ладно, пусть унитазы. Дело она знала отлично, заказчики с пол-Сибири слетались. Особенно нравилось ей унитазировать гидросамолеты. Деньгами Лена не особенно интересовалась, отдавала большую часть папе-коллекционеру. Сергей Николаевич собирал картины, вернее, одну картину. Как автомобилист: купит машину, подкопит денежек, продаст и приобретет новую, более престижной модели.
Сейчас у них в туалете висел Айвазовский.
— Провинился?
— Наоборот, удостоился. В туалете подходящие условия для хранения старых полотен. Этим папа продемонстрировал маринисту, как он его ценит. В туалете Айвазовский пребывал давненько, пора бы его уж и поменять, да Сергей Николаевич на сей раз на Рембрандта нацелился, а тот стоил о-го-го!
Работал ленин папа дворником, помахивал метлой да помалкивал большую часть времени.
Мама Елены Сергеевны с некоторых пор из обыкновенной женщины превратилась в бабушку и засуществовала с единственной, но благородной целью: устремить человечество на путь служения внуку Геничке. Внук тоже был не прочь попользоваться человечеством, и вместе они составляли страшноватую парочку.
Лена все вышеописанное любила. Правда, слегка. Немножко родной Малый Сургуч, чуть-чуть — престижную работу, кое-как — жениха-коммерсанта, что-то перепадало на долю семейства, самая капелька доставалась себе и теплому морю. Последнее она любила, в основном, заочно.
— Скучновато получается, — А зевнула, почесала нос о плечо Стасика. — С ней что, никогда ничего не происходит?
— Может и происходит, да она не замечает. Слушай дальше. Однажды Лена поехала в гости через полстраны на совершенно дурацкую вечеринку в город своей Альма-матер — Лжедмитриевск. В Москве ей пришлось задержаться.
— Она встретила Долли?
— Конечно. Долли работала звездой эстрады. Юная, рыжая, чертовски талантливая, с кучей звездного мусора в голове.
— Как ему там не накопиться, мамочка ее в 5 лет на сцену определила.
— Вот именно. Долли как раз было ужасно хреново. Лена ее прижалела чуть-чуть, на свой обычный манер. А та возьми да и привяжись.
— У них случилась любовь?
— Ничего у них не случилось. Разъехались в разные стороны и зажили по-старому.
— Неправда! Может, твоя Елена Сергеевна зажила, а Долли сорвалась. Пропускала репетиции, проваливала концерты, ее почти выгнали из группы, она пошла по рукам, запила и, в конце концов, заболела. Русский вирус.
— Черт! Она позвонит Лене?
— Не скажу.
Аделина поднялась, тряхнула кудрями, отбрасывая их назад, прошла на кухню. Вода зло загремела о дно чайника.
— Эй, А! Так нечестно! У Долли хоть телефон-то ленин есть?
— Есть, — ответила А через паузу, и грохнула чайником по плите.
26
Зима текущему году досталась снежная. Отвратительно снежная, как сказал бы папа Сергей Николаевич. Я гребла по утрам белую дрянь вместе с ним, а она валила, валила… Дрянь, то есть. Снег.
Старый противник, давно изученный до последней гадкой крупинки, и стабильно непобедимый. Отец дворничал лет этак двадцать, и каждую зиму, исключая годы учебы на специалиста, я вместо зарядки помогала ему, махала лопатой. Разогнав врага по сугробам, мы направились домой пить чай с мятой и традиционными субботними блинами матушки. Простите, забылась! — Бабани Тони. К блинам, кстати, прилагался демобилизованный из садика по случаю выходных Геничка. Так что застольная пастораль отменялась.
Мы с отцом устроили в углу утомленные лопаты и разделись. Шипели наливаемые на сковородку блины, утробно урчал сыночек, выгрызая в лицах их готовых собратьев дырочки-глазки. Зазвонил телефон. «Рановато», — подумала я и подняла трубку.
— Городской морг слушает.
— Значит, по адресу. Ленка, у меня R-вирус. Тебе нужно провериться, ты могла заразиться.
— Нет у меня никакого вируса. Недавно кровь сдавала, проходила городская акция «Не возьмешь!»
Прямо на улицах народ ловили, брали анализы и мораль читали. У меня все в порядке, — тут я заткнулась.
Она тоже молчала. Я тупо соображала. — Погоди, если у нас сейчас 8 утра, то в вашей дурацкой Москве — пять. Ты что не спишь?
— Пять? Утра?
По башке, наконец, стукнуло: у Дольки R-вирус. Она умрет. Она очень скоро умрет. Сердце взбеленилось, взбесилось, лопнуло и тысячью кусочков сползло вниз по клетке ребер. Лишь эхо взрыва гудело гулко: «Бумм…», «Бумм…» Только эхо.
— Когда ты узнала?
— Сегодня. То есть вчера, если уже пять.
— Ты там одна? Ты вообще откуда звонишь-то?
— Из дома звоню, и никаких сопливых утешителей звать не собираюсь.
— А меня?
Она молчала.
— Слушай, Долька, у тебя красный карандаш и бумага есть?
— Зачем? — она слегка удивилась.
— Я так люблю красных слонов, представить не можешь. Нарисуй, пожалуйста, для меня 500 штук.
— Почему не триста?
— Триста мало, доехать не успею.
— Правда приедешь? — спросила она чуть слышно.
— Прилечу. В этой Сибири столько аэропортов понастроили, в какую деревню пальцем ни тыкни — самолеты под кустами прячутся. Что им простаивать?
— Я встречу. В какой аэропорт?
— Не скажу. Не дергайся, сиди дома, рисуй слонов. Адрес помню. Все, побежала. До встречи.
— Ленка!
— Да?
— Побыстрее, ладно?
— Ага.
«Ум-рет», «ум-рет» стучало сердце. Смазались и уплыли назад озадаченные лица родителей, Геничка с блином в зубах, лестничный пролет, вражина-снег под ногами, витиеватый таксист с «извольте пристегнуться, сударыня», пустой аэровокзал. Погода, слава Богу, оказалась летная. Я сидела в «Ту», а перед глазами маячила картина: бледная Долли смертью мчит по Москве в аэропорт, сбивая доверчивые афишные тумбы и расползающихся по норам ночных маньяков. Слоны ее надолго не удержат.
27
Я ошиблась. Никто не встречал меня у трапа с военным оркестром и корзинками роз. По дороге от Внуково до долькиного дома я маялась, пытаясь закончить фразу: «Если эта зараза во что-нибудь врезалась, то…» Что «то…» никак не придумывалось. По сравнению с R-вирусом четвертование, расстрел через повешение, публичная порка и прочие неприятности казались блошиными укусами.
У подъезда я отпустила взмыленного частника, пешком поднялась на 8-й этаж и застыла у нужной двери. Было страшно. Хотела позвонить, но вдруг просто толкнула дверь. Оказалось, не заперто. Вошла.
Повсюду горел свет. Ярко сверкали люстры, тихо тлели туманные ночники. Великолепная иллюминация детально освещала такой великолепный бардак, какого не возникало в нашем доме даже после набега приятелей Генички. Впрочем, бардак был довольно организованный: ковры аккуратно свернуты и расставлены по углам, снятые со стен картины высокооплачиваемых мазил сложены в кучи, ботинки, туфли, пальто, шляпки высовывались из шкафов и шкафчиков, как пассажиры из окон троллейбуса в часы пик. Кругом валялись пустые тюбики из-под помады и шелуха от источенных карандашей. Повидимому, косметических. Все освобожденное таким решительным образом пространство устилали, усеивали, загромождали, украшали собой силуэты красных слонов. Слоны красными глазками глядели со стен, красными крепкими ножками упирались в паркет, они залезли на потолок и трясли красными ушами сверху, качали красными хоботами с полированных поверхностей шкафов. Один, маленький, но очень красный, являл себя миру с валявшейся под ногами телефонной трубки. На круглом пузике каждого зверика стоял аккуратный номер.
— Ленка! — крикнула Долли из гостиной, — у тебя помада есть?
— Есть!
— Неси сюда!
Прошла в гостиную. Здесь тоже царили беспорядок и слоны. Долли в испачканном белом трико стояла на четвереньках и крупными мазками писала на полу очередной шедевр.
— Давай, — она, не глядя, протянула руку.
Я подала тюбик, мысленно объявила слонам благодарность с занесением в личное дело и отправкой поощрительного письма родителям в Африку, и стала ругаться, попутно избавляясь от верхней одежды:
— Такая-рассякая, ешки-матрешки, гудроном по тромбону! Чего ты, пакость рыжая, двери не запираешь посреди, можно сказать, ночи? Может, это не я вовсе пришла, а Феня Крюгер с мясорезкой, может, у меня погода нелетная, и я грызу с досады чемодан в Сургучевском аэропорту?
— Я же знаю, что это ты. Смотри, какой симпатичный вышел. — Она присела на коленки, привычным движением руки отвела назад волосы. — На, немножко еще осталось. — Долька подала обмылок помады, пальцы наши встретились, она отдернула руку и глянула мне в глаза. — Заразиться не боишься?
— У тебя ведь не чесотка. А насиловать меня ты, надеюсь, не собираешься. Помнишь уговор?
Никакого секса, — умно пошутила я.
— Договоры соблюдаю. Как тебе тут, нравится?
— Ужасно. Спасибо. Кажется, я опоздала на 132 слона, — на пузе последнего зверя алела цифра 632. — Извини?
Я примостилась рядом на свернутый ковер, притянула ее голову, поцеловала в лоб. Долька обняла меня, сказала: «Все, больше не могу» и заплакала. Я гладила ее пушистые волосы, худые вздрагивающие плечи и ненавидела весь мир. Красные слоны на стенах ничем не могли нам помочь. Горло сжало, щеки обожгли слезы. Извини, Долька. Я тоже не могу.
Мы довольно долго ревели, вцепившись друг в друга, потом просто сидели, обнявшись, как памятник сиамским близнецам. Долька тяжело навалилась на меня, спина от напряжения заныла.
— Долька, блины любишь? Правда, в них Геничка глазки проел.
— Попозже, ладно? Ты устала? Хочешь, пойдем на кровать?
Пошли на кровать в будуар. Долли сложилась на меня, закопалась лицом в разрез блузки. Кажется, у нее опять была температура.
— Ты должна поспать, — посетила меня гениальная мысль.
— Как? Пыталась уже.
— Закрываешь глаза — и спишь.
Мудрый совет почему-то помог. Долька послушно закрыла глаза, пощекотав мою шею ресницами, и заснула. От ее волос пахло чем-то родным. Чувствовала я себя кошкой, пропущенной через мясорубку.
Было тошно, и страшно хотелось убить кого-нибудь. Себя, например. В дверь позвонили. Очень кстати!
Потенциальный труп. Осторожно выбралась из-под Долли и пошла открывать.
Деваха какая-то. Крашеная блондинка, волосы сардельками в стороны торчат. Ростом с меня, если с каблуков снять. Одета в соболью шубку до пояса и кожаные штаны. Глазищи зеленые, косые. На-аглые-е.
Значит, из «Бергамота». Примета верная. Очередной талант. Посмотрела сквозь меня. На слонов.
Кажется, пробрало.
— Что это?
— Красные слоны, — ответила я с готовностью.
Она изволила меня заметить.
— А ты кто?
— Вожак стаи.
Девица задумалась. Лицо ее на миг приобрело человеческое выражение.
— Точно, ты — Лена. Долли рассказывала. Она где?
— Спит.
— Пьяная опять. Прибью засранку, — и дернулась было в комнату. Не вышло.
Я положила руки на ее соболиные плечи, резко нажала вниз, и ее пухлый зад хлопнулся о телефонный столик. Богатый опыт общения с Геничкой не прошел даром.
— Сядь и заткнись. У Долли русский вирус.
Заткнулась она надолго. Сидела на столике, частично подмяв под себя телефон, трубка которого так и валялась на полу, и хлопала наклеенными зелеными ресницами.
— Уже можно говорить. Только негромко, — поощрила я.
— Мны?..
Большего добиться не удалось. Лучше бы ее выставить, но девица могла пригодиться. К тому же, убить кого-нибудь все еще очень хотелось. Эту было не жалко. Сходила на кухню, принесла ей водички из-под крана. Подала стаканчик. Она отшатнулась. Я понюхала, пожала плечами, отпила и подала ей снова.
— Спасибо, не нужно.
Заговорила-таки.
— Успокойся, — сказала я довольно злобно, — болеет Долли, а не ты. Ты с ней спала?
— Нет!
— Вот и не трясись. Как тебя зовут?
— Кэт.
— И все?
— Самсонова.
— Умница. Осталось вспомнить фамилию и телефон продюсера. Ты ведь из «Бергамота»?
— Самсонов Илья Тимофеевич.
— Отец?
— Муж.
Какой полезный экземпляр! А я ее чуть было не выставила.
— Что он сейчас делает?
— Суп ест… Гороховый.
— Далеко?
— В соседнем доме.
— Неси его сюда вместе с миской. Поговорить нужно.
— О чем?
— Авторские хочу получить. За «Бедную Лизу». Не придет — в суд подам.
Она оторвала зад от телефона, положила на рычаг трубку, ее передернуло — вспомнила, знать, про заразу, прытко выскочила в раскрытую дверь, неся на весу подвергшиеся опасности растопыренные пальцы и исчезла в направлении мест дезинфекции и, надо надеяться, гнездовья любителя супа.
Довольно скоро опять позвонили. Открыла: два голубочка (второй низенький и лысоватый).
— Кто тут меня… — довольно-таки спесиво начал он, зашагивая в квартиру, но заткнулся. Слоны действовали безотказно.
— Она сошла с ума? — осторожно извлек из себя муж-продюсер.
— Нет. Она справится. А мы ей поможем.
— Кто это «мы»?
— Я и вы с великолепным «Бергамотом», — услужливо разъяснила я.
— Да? Нам это надо?
— Надо, — ответ мой прозвучал очень твердо. Хотелось надеяться.
Продюсер Самсонов глядел иронически. Он смахивал на юркого хитрого воробейчика, готового в любой момент склюнуть крошку прямо из-под носа более важной птицы. Меня он, конечно, не убоялся.
Но и менять планы из-за такой мелочи, как болезнь солистки, было, похоже, не в его стиле. Он пожал плечами.
— Ладушки. Вы нам пишите пару-тройку песен для нового альбома и все тексты. А я оставляю Долли в команде. Кстати, она нам «Уличную мразь» напела, идет на концертах с большим успехом.
Поздравляю, Лена, у вас несомненный талант. Вас ведь Лена зовут?
— Елена Сергеевна, — огрызнулась я. — Похоже на шантаж.
— Джентльменский договор! Вы — нам, я — вам. Меня не касаются ваши с Долли отношения, но мы от нее порядком натерпелись. Должна же существовать на свете справедливость? Ваши новые песни послужат приятной компенсацией. Мне, знаете ли, семью кормить надо.
Семья в лице Кэт морщила носик за мужниной спиной и голодной не выглядела.
— Ладушки, — согласилась я снисходительно, про себя перекрестившись ногой от облегчения — выгнать Дольку из ансамбля значило бы убить ее, не дожидаясь официальной кончины организма. И нагло добавила: — Обычно я работаю на процент с дохода. Мои двадцать, десять скидываем за Долли, десять процентов мне в валюте.
Господин продюсер открыл было пасть, но неожиданно встряла доселе молчавшая Кэт:
— Мы согласны.
Челюсть продюсера, причавкнув, захлопнулась. Дело решилось.
— Ленка, с кем ты тут? А, отец-командир пожаловали. Ты сказала?
— Да.
— Мне полагается выходное пособие, или еще должна останусь? — спокойно обратилась она к г-ну Самсонову.
— Никто тебя не увольняет, — сообщил тот.
— Я ложусь на обследование в понедельник.
— Понимаю. Мы подождем.
— С чего бы такая доброта?
— Мы тебя любим, — вместо мужа ответила Кэт. Почти нежно.
— Иначе давно выгнали бы за твои художества, — добавил продюсер для убедительности.
— Конечно, то, что ты здорово поешь, в расчет не принимается, — проворчала я. — Иди надень на ноги, простынешь.
Долька пошла искать тапки, Самсонов удалился доедать суп. Катюха задержалась.
— Слушай, — спросила она, помявшись, — я могу чем-то помочь?
— Можешь, совершенно ничем не рискуя, сходить в магазин за продуктами. В доме только блины, и те с дырками.
Осчастливленная поручением Кэт поскакала за кефиром и булками. Хорошо все-таки, что я ее не убила.
28
Сгинул вечер субботы. Как колесо по собаке прокатилось воскресенье, ознаменованное истеричными воплями доллиной мамы и поджатыми губами интеллигентоподобного четвертого доллиного отчима. Через каждые полчаса приезжала кардиологическая неотложка. Долька смотрела в окно, молчала, пальцем выводила на стекле слона. Стекло скрипело. Мамочка металась по гостиной, взвизгивала, взывала к Господу, стонала про позор и про «за что ей такое», клеймила нас научным словом «лесбиянки», многократно хваталась за сердце и падала на грудь сильному мужчине, прихваченному с собой исключительно с этой целью. Больше он ни на что не годился. Потом я их-таки выставила, несмотря на сочувствие ее материнскому горю. Прибегала Катюха, принесла бананы и огурец.
В понедельник Долька пошла сдаваться в больницу. Я провожала. Больница попалась навороченная, в приборах и дизайне. Мы стояли в сияющем чистотой коридоре (Долли — уже в халате), держались за руки. Было невыносимо стыдно оставлять ее здесь одну, но жаждущие унитазов клиенты, наверное, уже топтали моего начальника.
— Обещали через две недели выписать, — сообщали она.
— Я приеду.
— Иди, опоздаешь на самолет, — сказала она, не отпуская моей руки.
— Пошла, — ответила я и пошла, потом обернулась. Долька в слишком коротком для нее халате светилась среди белых стен рыжим одуванчиком в сугробе. Я это запомнила.
29
Почти через две недели, в пятницу, во Внуково меня встретила Кэт. На сей раз волосы ее блестели никелем, круглый зад обтягивало ужасное серебристое мини (крашеная кожа павиана), перламутровые сапоги тянулись к нему изо всех сапожиных сил и почти касались. Шубка была знакомая, по пояс.
Катюха нетерпеливо переминалась у турникета.
— Бежим скорее! — схватила она мою руку, как только дотянулась. — Долли в палате сидит, никуда, говорит, не пойду, пока Ленка не приедет. Места платные, следующая пациентка в коридоре квитанцией трясет, негритянка, грозит международным скандалом. А Долли к врачу надо идти на собеседование: результаты обследования должны сказать, и все такое. Она, видно, трусит, — на бегу тараторила «бергамотка» по пути к машине. — Все равно она молодец, я бы сразу умерла, если б такое о себе узнала, — последнюю фразу она проговорила, перейдя на шаг, потом совсем остановилась и рухнула мне на плечо — порыдать.
— Будешь реветь при Долли — убью, — ласково успокоила ее я, похлопав по пушистой спинке. — Пошли, она ждет.
Кэт взрыднула еще разок и с новыми силами поволокла меня на стоянку. Мы вскочили в оранжевый «BMW» и припустили к больнице. Нервная музыкантша браво рулила одной рукой, выдергивала из пачки сигарету за сигаретой и давила на газ. Пару раз мы кого-то переехали, не обошли вниманием и нас. Сигареты не выдержали темпа и закончились. Мадам крепилась, грызла «Орбит», потом тормознула у мини-рыночка. Я сидела в машине и наблюдала, как она несет свои шикарно обутые ноги к ближайшему киоску, не обращая внимания на трепет местного мужского контингента и завистливое восхищение женского. Она склонилась к окошку, оттопырив минизированный зад, ткнула длинным ногтем в стекло, показывая нужный сорт, и тут на нее какнул голубь. Прицельно. На голову. Он мимо по делам пролетал, торопился. Но какнул точно. Кэт ощутила нежное прикосновение к волосам, машинально провела рукой, понюхала влажные волосы. Посмотрела вверх. Летать она, видно, не умела, а достать обидчика иным способом было невозможно. Отмщенные красотки более местного масштаба ехидно хихикали. Мадам купила-таки пачку, гордо развернулась и понесла добычу и обиду в машину.
Села за руль, зашипела яростно и принялась тереть оскорбленную шевелюру носовым платком, поглядывая в зеркальце.
— Еще есть? — она нагнула голову мне под нос.
— Порядок. Серебристое на серебристом не заметно. Мы едем?
Кэт вдруг уронила обкаканую голову мне на колени, затряслась и забормотала:
— Нет, не могу, не могу, не пойду с тобой, не выдержу, ты иди одна, а? Я тебя доведу, покажу, куда, они ей что-нибудь страшное скажут, а я так люблю эту дурочку, пусть это не при мне случится, а?
Подожду в машине, покурю, потом вместе к Долли поедем, а?
Меня тоже стало потряхивать. Чтобы не пропасть, взяла валяющуюся под ногами бутылку с остатками газированного «Нарзана», открутила пробку, отхлебнула. Холодный! Остатки вылила Катюхе на голову. Та взвизгнула, вскочила, треснулась макушкой о крышу «BMW», пала на сиденье, выпучила косые глазищи.
— Ты чего?
— Смываю помет. Давай без истерик? Ты нужна Долли, и ты пойдешь. И будешь вести себя как следует. Закуривай и жми на газ.
Кэт коротко вздохнула, запалила сигарету и рванула. Вместе со мной и автомобилем.
Когда приехали в клинику, выяснилось, что Дольку выставили-таки из палаты, она сидит у лечащего врача в окружении заботливой мамочки и отчима. Не тратя времени на посещение гардероба, мы влетели в кабинет в верхней одежде. Им владел (кабинетом, а не гардеробом) симпатичный такой доктор, Айболит, а не доктор. Седоватый, в очках, невозмутимый и добрый. Как кольцо с бриллиантом. Он сидел за столом. Родственники обладали двумя венскими стульями. Долька, являющаяся центром композиции, скорчилась на диванчике, склонив голову к коленям и демонстративно заткнув уши — протестовала. Мы поздоровались с публикой, я в шубе протопала к Долли, присела, заглянула в лицо. Ее глаза для верности были зажмурены. Чмокнула ее в нос, погладила по косичкам.
— Ты? — спросила она, не открывая глаз. Пальцы, правда, из ушей достала.
— Красный слон.
— Опаздываешь, — укорила Долька, открывая-таки громадные глазищи, красные и измученные, с достоинством разогнулась, снисходительно развернулась в сторону доктора и вежливо объявила, — Я готова вас выслушать.
Доктор слегка усмехнулся и предложил:
— Дамы могут раздеться и присесть.
Дамы избавились от верхней одежды (надеюсь, мы правильно поняли смысл предложения) и втиснулись по обе стороны от больной. Места на диванчике чуть-чуть не хватало на троих. То, что надо.
Кэт наклонилась к уху Долли и зашептала виновато и громко:
— Извини, что опоздали, по дороге сигареты кончились, выскочила купить, а подлец-голубь на голову нагадил. Пока оттерлась да отмылась, — она в доказательство поболтала мокрой головой.
Долька ткнулась мне в шею и прыснула. Умница-Катька делала глупую морду, хлопала блестящими ресницами. Доктор сообразил, что пора начинать доклад.
Вначале была изложена самая современная концепция русского вируса, от истории его появления и распространения, до существующих методов лечения. Оказывается, сия подлая разновидность, в отличие от европейской и африканской сосестер, развивается с рядом особенностей и в более сжатые сроки, но тоже в две стадии. Было констатировано, что, судя по результатам обследования, Долли находилась в начале второй стадии болезни. Имелось: повышение температуры до тридцати восьми градусов, обильное ночное потоотделение, стойкое увеличение размеров лимфатических узлов, расстройство деятельности кишечника, похудание. Доктор забросал нас цифрами анализов, тыкал пальцем в графики, диаграммы.
Короче, вкалывал на полную катушку. Мы впали в легкий транс и ритмично кивали головами, одобряя проделанную работу.
— Что меня ждет? — нетактично прервала извержение медицинской премудрости Долька, когда светило сделало в рассказе паузу для закачки в легкие порции воздуха.
Набравшееся воздуха светило окинуло взглядом аудиторию, оценивая степень нашей готовности получить в морду. Видимо решив, что публика достаточно загипнотизирована, оно изрекло:
— Знаете, современная медицинская школа считает, что больной должен все знать о себе, чтобы бороться за жизнь вместе с врачами. Поэтому мы говорим пациентам правду. У зараженных R-вирусом развиваются вторичные инфекции и опухоли, такие, как саркома Ренчи, появление которых связано с дефицитом клеточного иммунитета. У разных больных отмечают преобладание тех или иных симптомов: у одних поражаются легкие, у других — нервная система, третьих мучает водянистый частый стул и др. Не могу пока сказать, что достанется конкретно вам. Я буду вести вас, вы будете аккуратно соблюдать мои требования и…
— Да поможет мне Господь, — закончила Долли.
— Вынужден предупредить, что вы несете уголовную ответственность за распространение R-вируса.
Вам необходимо изменить отношение к себе, не допустить заражения людей по вашей вине. Теперь вы для них — источник опасности. Помните — кровь, влагалищные выделения, рвотные массы, которые тоже могут содержать кровь — яд. Следите, чтобы сексуальный партнер пользовался презервативом. Женские гигиенические пакеты, перевязочный материал обязательно складывайте в герметичный контейнер. Раз в неделю будет приезжать утилизатор из специальной службы и менять контейнер. Если кровь попадет на белье или одежду, необходимо прокипятить вещи в течение 20 минут. Вот брошюрка, тут подробно описаны меры безопасности.
— Все? — спросила Долли, принимая книжицу.
— Вам нельзя беременеть.
— Еще чего!
— Просто предупредил. Не представляете, сколько людей пыталось увековечить себя подобным образом.
— Вряд ли найдется псих, желающий сделать мне ребенка.
Она обернулась ко мне.
— Ты уже написала песни для нашего альбома? Кэт шепнула по секрету о вашем договоре с Ильей Тимофеичем.
— Придумала парочку. Сегодня покажу.
— Мне ведь следует спросить у него, — она мотнула подбородком в сторону Айболита, — сколько я проживу? Я хочу записать альбом, я должна рассчитать силы и время. Спросить? — она ждала решения.
— Валяй. Понимаешь, реальная ситуация от этого не изменится: не станет ни хуже, ни лучше. Ты просто будешь знать.
— На сколько я могу рассчитывать, доктор? — спросила она, глядя по-прежнему на меня.
— Точно не скажу. Думаю, шесть-восемь месяцев могу гарантировать. Большую часть этого времени вы проведете в стационаре. Активную деятельность планируйте на первые три.
Мама Долли наконец-то забилась в истерике. Муж и эскулап галантно вились вокруг нее, булькая водой из графина и распространяя резкий запах корвалола. А на мою долю выпали: белое лицо Долли, полуоткрытый рот с синими губами, черные, почти без радужки глаза, во тьме которых плескался безграничный, всевластный ужас. Я сжала в руках ее ледяные пальцы, выгребла из пяток упавшие туда остатки мужества и наглости и рассмеялась.
— Фу ты! — надеюсь, прозвучало с облегчением. — Слава Богу, думала, эти скряги пожмотятся, дадут месяца два, а они ничего, молодцы. Восемь месяцев — прорва времени, можно Землю на камешки разобрать, не то что альбом состряпать. Мне бы кто пообещал, что я столько проживу, я б тому золотой унитаз бесплатно сваяла, а то хожу по улицам и только озираюсь — непременно кирпич норовит по макушке тюкнуть, или машина переехать, — несла я всякую чушь, лишь бы закидать бездонную черную пропасть в глазах Долли. Из-за ее спины выглядывала ошарашенная моей наглостью бледная Катюха. — Пойдем скорей, надо это дело отпраздновать по полной программе.
— Ты правда так думаешь? — долькин голос звучал недоверчиво.
— Честное унитазостроительное! — убежденно солгала я. — Сейчас заедем к тебе, переоденемся и рванем кутить, или как это теперь называется? Где у вас отдыхают такие придурки, как мы? Совсем Москву не знаю.
— Найдем местечко. Но сильно напрягаться не стоит, завтра с утра репетиция, вечером работаем в «Хромом льве», — несколько охладила мой псевдо-пыл дисциплинированная жена продюсера.
Мы взяли, да и ушли, бросив мамочку — рыдать, отчима — хлопотать, доктора — наблюдать за ними.
Уже в коридоре я вспомнила, что забыла перчатки на диванчике, оставила Долли на Кэт, вернулась, прикрыла дверь. Мизансцена не изменилась. Спектакль продолжался.
— Попрошу внимания! — рявкнула я командирским голосом. Мамочка, икнув, заткнулась от неожиданности, отчим присел. — Можете в отсутствии Долли выть, грызть вены, выбрасываться с горя из шкафа — ничего не имею против. Но если какая крашеная сука лет примерно сорока взрыднет при ней в ее адрес — выпотрошу к чертям на мелкие кусочки.
— Что вы себе позволяете! — исторг вдруг из себя культурный защитник отдельно взятой замуж дамы.
Ишь ты, разговаривает!
— Спасает рассудок вашей дочери, — ответил за меня доктор. — Вы же не хотите, чтоб она последние полгода жизни провела в психиатрической лечебнице?
— Не хотим.
— Тогда послушайте умный совет — заткнитесь.
Я подмигнула Айболиту и выскочила за дверь. Пора было начинать кутить. Часики тикали, долькино время убегало.
30
Кутеж запомнился весьма смутно. Видимо, мы надрались-таки, несмотря на здравые рассуждения Кэт, и пошалили. Почему-то мерещится ресторанный столик, на нем — лохматая Долли на четвереньках воет по-волчьи и голосит частушки. В памяти застряло что-то очень народное, про березу, вроде:
Стоит во поле береза, у нее четыре ветки, а на них висят конфетки от педикулеза.Муж-продюсер не выдержал, приехал, поскидывал гуляк в машину и свез по назначению. Утром мы с Долькой, кряхтя и дыша перегаром, отправились на репетицию. Великий и ужасный «Бергамот по средам» базировался в некоем окраинном ДК, не то пищевиков-надомников, не то учителей-наемников, не то газовиков-паломников, не суть важно. Он арендовал чахлую комнатенку на втором этаже и страшно гордился собственным помещением. Я была представлена обделенной ранее моим вниманием части коллектива. Со мной познакомились: Вано Ведулов, восточного вида хиппи, он же ритм- и сологитара, Павел Загоняев, синеглазый херувим с лицом серафима (или наоборот?), владеющий басом, Эдуард Бройлер, ударник, субъект трудноописуемый в силу чрезвычайной подвижности. Не успеешь зафиксировать нос, глядь — на этом месте уже мочка уха или, хуже того, нога. Бойкий экземпляр. Катюха лупила по клавишам, сидя на бэке, Илья Тимофеевич звукорежиссерил. Эта наивная компания собиралась заработать денег на моих песнях! Я им заранее посочувствовала, и мы пустились в творческий разгул. Ознакомленная накануне с будущими хитами, Катюха встала за клавесин (интересно, когда она сядет на бэк?), Долька взяла текст и начала вытрясающим душу голосом балладу:
Мне снится сон: я где-то сверху, подо мною — город. Надгробья крыш, зовущие провалы площадей… Я красный слон, не стар я, но, однако ж, и не молод. Не спи, малыш, сегодня ночь как будто бы людей…Меня скрутило, подхватило вихрем и рвануло. Долькин голос тянул вверх, вверх против воли, вопреки страху. Дело было, пожалуй, не столько в конкретной песне, сколько в сочетании трех сил: мелодии, стихов и голоса. Они, не имея поодиночке особого смысла, сливаясь, образовывали качественно новое явление. Это ломало сознание и тут же спасало его, собирая из кусочков нечто другое, прозрачное, свежее и чистое.
— Ма-ама дорогая… — тихонько протянула Кэт, когда Долли допела. — Что же мы такое получили, а?
Тут надо очень аккуратно сделать, если испортим — нам Бог не простит. Давайте-ка так, — она стала отдавать распоряжения музыкантам, тоже еще не вполне перешагнувшим на эту сторону бытия.
Поработали. На мой взгляд, стало хуже, и слава Богу. Г-н продюсер помалкивал, наверное, подсчитывал: хватит ли доходов с альбома на длинную шубу Катюхе? Любил он ее, это было видно, Катюху-то.
Вечером «бергамотцы» выступали в «Хромом льве». Меня закинули за свободный столик недалеко от эстрады, сунули фиолетовый коктейль и посоветовали наслаждаться. Увидев одиноко сидящую даму приятной наружности со следами порока в виде опухшей после вчерашней попойки физиономии, и признав верную добычу, на каноэ подгребли местные аборигены. Небольшое двучленное племя — золотая, судя по коронкам, молодежь лет сорока-пятидесяти.
— Коньяк? Бренди? Потанцуем?
— Ассортимент бедноват.
— А Вы что предпочитаете?
— Кефир «Золотой вымень» и принца Чарльза.
— Чарльз, — скромно представился один.
— Майк Тайсон, — присел в реверансе второй.
— Мария Медичи, — пожала плечами я. — Садитесь, коли жизнь не дорога. Гарсон, яду!
Пареньки гнусно захихикали и втиснули зады в кресла, видимо, фирменного дизайна клуба: кресла напоминали льва, присевшего по некоей надобности.
— Давно ли на фронте, батенька? А, главное, есть ли жена, дети, московская прописка? — картаво поинтересовалась я у устроившегося неосмотрительно близко принца Чарльза, крутя его пуговицу.
Чарльз отчего-то заробел. Пуговица оторвалась. Я бросила ее в коктейль и обратилась к Майку, — А вот вы, товарищ негр, почему вы такой белый? Тоже волнуетесь? Или чтоб белогвардейцы на снегу не заметили? Тогда вам лучше бегать голышом. Кстати, у меня первый разряд по боксу. Здесь ринг есть гденибудь? Перчатки у меня в сумочке. Пойдем, поспаррингуем? По апперкоту?
— Женщины не боксируют, — фыркнул Минька Тайсон. Думал, шучу.
— Ты отстал от жизни, малыш. Лет на пятьдесят. Я в двадцатке лучших спортсменок регионов Сибири и Дальнего Востока. Пойдем скорее, я уже часа три не тренировалась. Это вредит форме, гасит спортивную злость, она переходит в неспортивную. Могут пострадать невинные.
Мальчонки опять заржали. Я им нравилась, но зря они мне не поверили. Сейчас-то я, конечно, никому морду не била, но разряд имелся, честно заработанный еще в школе разряд. Принц Чарльз изволили отбыть за выпивкой, Минька нес что-то про культуру. На маленькой сцене клуба «Бергамот» устраивался петь. Не знаю как аппаратура — не разбираюсь — а костюмы на ребятах были что надо.
Правда, неизвестно — кому надо. Дольку обтягивал блестящий белый комбинезон в черных и зеленых пятнах. Она смахивала на гепарда, больного ветрянкой. Кэт сшибала с ног очередным заоблачным мини и лохматущей кофтой стального цвета, плавно переходящей в прическу. А мальчики! Божечки, никогда не видела таких нарядных мальчиков. В предсмертном сне клоуна-шизофреника не вынырнут из подсознания столь стильные сердцу образы. Слава имиджмейкеру, он свое дело знал: великолепный «Бергамот» не походил ни на один существующий вид безумной материи. О! Он отличался. Однозначно.
Катюха что-то объявила, кушающие гости слабо поныли, пошлепали дланями, и телега концерта понеслась по ухабам с оглушительным грохотом. Долли, тряся кудрями, металась по крохотной сцене горящей белкой. Ее властный и упрямый голос шутя пролетал сквозь шум, создаваемый группой, возбуждал чахлые эмоции пьющей толпы, подымая их до уровня энергии. Были ему нипочем безумная россыпь клавишных, завывание соло, яростное гуканье баса, фанатичное «бум-бум-бац», «бум-бум-бац» ударных. Где-то снизу неожиданно в тему альтово тянула Катюха.
Самцы мои, завидя «бергамоток», сразу подсели.
— О-о-о! — протянул Минька-боксер.
— Гы! — восхитился великосветский Чарли.
Челюсти их отвалились и надежно устроились на груди. Они сползли к самому пузу, когда в перерыве между песнями ко мне прискакала мокрая Долька.
— Не скучаешь? — спросила она.
Плейбои бешено замотали плешивыми шевелюрами, убеждая Долли в полной неспособности кого бы то ни было соскучиться в их остроумном обществе, и предложили свои неотразимые услуги, особенно по части послеконцертного развлечения очаровательных дам. Глаза Дольки заблестели, она присела к Чарльзу на колени, взяла за щеки его слегка обрюзгшую морду и сказала хрипло и страстно:
— Милый, ты так мне сразу понравился, представить себе не можешь! — милый завилял в штанах хвостом от радости, а звезда продолжала, — Ты меня просто спасаешь. В последнее время мужики какието голубые пошли, переспать не с кем. Просто измучилась.
— Не может быть, чтоб у такой классной девчонки парня не было! — истекая слюной, бормотал ошалевший Чарли.
— Да парни-то находятся, слова приятные говорят. А как до постели дойдет — в кусты.
— Значит, гомики, — авторитетно изрек завидующий счастью приятеля Минька.
— Наверное. А может, не надо им рассказывать, да доктор велел. Иначе, говорит, уголовная ответственность. До пяти лет. Ну, я как скажу, так член сразу бац! — и упал. Наверное, гомики попадались, — доверительно делилась звезда, все крепче прижимаясь к Чарли.
— Что же вы им такое говорите? — насторожился тот.
— R-вирус у меня, любимый, R-вирус. Встретимся после концерта? — последнюю фразу она прокричала с пола, куда ее сбросил испарившийся в облаке дыма искуситель. Пахло не то серой, не то чем попроще. Приятель его исчез тоже.
— Опять гомик попался, — подымаясь, констатировала Долька со вздохом.
— Ты зачем кавалеров распугала? Думаешь, на меня еще кто-нибудь клюнет?
— Пусть попробует! — весело ответила она и убежала на сцену.
«Бергамот» снова взыграл, а я слушала и размышляла на тему неисповедимости господних путей.
Вот назвали группу «Бергамотом», плохого не хотели — слово красивое, понравилось. А оказалось — это груша такая. Груша, как известно, слабит, и музыка у ансамбля ресторанная получается, способствующая пищеварению. Чтоб пища в кишечнике не задерживалась, насквозь пролетала, повышался доход заведения. А говорят еще: что тебе в имени? В нем самая суть и есть.
31
Ночью, когда мы возвратились после выступления домой, Дольку внезапно стало рвать. Фонтаном.
Она даже до туалета добежать не успела, перевозила шубу, пол и стены в коридоре. Я ткнулась было помочь ей раздеться и вытереться, но она вдруг заорала:
— Пошла вон отсюда, убирайся, не прикасайся ко мне, катись ночевать к Кэт! — и так далее. Потом запал кончился, она опустилась на пол в блевотину и закрыла глаза. Я разделась, сходила в спальню, достала из дорожной сумки перчатки, надела, вернулась в коридор. Долли сидела, бессмысленно раскачиваясь. Сил у нее не было даже чтобы заплакать.
— Долька! — она не пошевелилась. — Открой глаза, фокус покажу.
Открыла. Я помахала у нее перед носом руками в перчатках:
— Так я тебе больше нравлюсь? — и стала ее раздевать. Она не сопротивлялась. Я ее помыла по возможности, положила спать. Почистила вонючей дрянью шубу, протерла пол и стену с хлоринолом.
Совершенно никакая от усталости упала рядом с Долькой на кровать, в момент выключилась и увидела знакомый с детства сон.
Обязательно зима. Дом в деревне. Ночь. Оконным светом режет глаза. Двор. Крыльцо, ступени черные. Дверь не на замке. Но мне не туда. Напротив дома — сарай. Промороженный и темный. Снег.
Луна. Надо идти.
Обхожу сарай. За ним — высокий забор. Над забором — небо. Раздирая пальцы, лезу наверх. Стою на ребре забора, пытаюсь удержать равновесие. Отчаянная судорога проходит через тело. Тяжесть.
Напрягаюсь. Легкие рвутся в клочки. Господи, скорее бы!.. Лечу. Низко-низко, почти задевая землю.
Извиваюсь червяком. Подымаюсь выше. Выше. Выше.
Внизу — город. Обычный ночной город: бездумные надгробья домов и холодные фонари. Уже близко, потерпи.
Крыша. Здесь ждут. Я тут живу. Кто еще? Два нечеловека вроде меня. Мы умеем летать.
Я проснулась. Сопела в ухо привалившаяся к плечу Долька. Мама дорогая, как говорит Катюха, неужели я все это выдержу?
32
Бомж Никитич разливал по стаканам водку. Хоть он и звался бомжем, но место жительства имел определенное: обширный гулкий подвал заброшенного по ветхости и невозможности сдать в аренду особняка графьев Задунай-Передволжских. Ни графья, ни их потомки после смены режима на руины не воспретендовали, знать, сгорели в топке революции. Такие шикарные апартаменты одному Никитичу были великоваты, и он время от времени пускал жильцов за мзду — бутылочку утешительного. Сейчас у него в постояльцах состояла усердно ширяющаяся компания наркоманов. Молодежь резвилась по своим телам и к старшим не совалась. Никитич поднял стакан:
— За что пьем?
— Как обычно, за дона Педро, — пожал плечами Тролль. Ухнули. Заели принесенной Стасиком лососиной.
— Вот ты, конечно, Тролль, вечное существо, — продолжал старик прерванную беседу, — а многого в современной жизни не знаешь. Думаешь, к примеру, что такое «баян»?
— Кнопочный музыкальный инструмент.
— Не-ет. По-теперешнему, шприц это наркоманский. Я вот от жизни не отстаю, хоть и старик. За молодежью поспеваю.
— Сколько ж тебе лет?
— В июле пятьдесят будет, аккурат через месяц. Совсем старик. Вижу худо, кости от сырости ломит.
Надо бы в Сочи переехать, климат сменить. Там зимы теплые. Да, говорят, турагенства подвалы и теплотрассы в гостиницы переделали. Теперь туда за валюту пускают. А на улице ночевать и в Сочах, поди, несладко.
— Может, у тебя дети есть? К ним бы заселился.
— Есть, поди, и дети, как не быть. Повспоминать — найти можно. Да я один привык. Живу свободно, как блоха на Жучке. Скачу, куда хочу. Что встаешь, торопишься куда?
— Аделина ждет, поздно уже.
— Сожительницей обзавелся? А я думал, мы с тобой одной породы, оба блохи. Давай-ка по последней, за дона Педро. Будет время — заходи. Рыбка у тебя больно вкусная.
Выпили. Попрощались. Тролль подымался наверх, в уличную жизнь, по скользкой лестнице, а сзади тянулись тусклые голосья наркоманов, решивших порадовать квартиродателя искусством вокала:
Крысы — они крысы и есть. Ну, чего с них возьмешь? Кого-то хотят они съесть, а кого — не поймешь. Вот они дружно идут из дома в дом. Вот они дружно поют о том, что: «Крысы — мы крысы и есть. Ну, чего с нас возьмешь? Кого-то хотим мы съесть, а кого — не поймешь».Песня шелестела, многократно отражаясь от изгибов свода и разнонаправленных плоскостей стен, создавая эффект шуршания крыльев сорвавшейся на ночную охоту стаи нетопырей.
Над городом висели низкие летние звезды, и Аделина, наверное, в пятнадцатый раз подогревала издерганный чайник.
У дверей в квартиру Тролля маялся в ожидании драный котище устрашающей масти.
— Привет, Квас. Не впускают?
— Мау, — пожаловался тот.
Стасик открыл двери. Аделина сидела на коврике в прихожей и читала «Молот ведьм».
— Шлялись, — констатировала она.
— Мау, — честно ответил Квас.
— Ошибки в тексте ищешь? — попытался увильнуть Тролль.
— Память освежаю. Оказывается, у нас в хозяйстве многих предметов недостает.
— Каких? — услужливо подыграл Стасик.
— Дыбы, например. Завтра в мебельном посмотрим. Или в спорттоварах? Такая хорошая растяжка!
А в случае чего и по прямому назначению пригодится. Информацию вытрясать.
— Мау! — струсил кот.
Тролль вдруг расхохотался:
— Нет, не могу больше! Помнишь физиономию герцога Дюренваля?
— Когда мы на дыбе висели, а он с куропаткой в подвал скатился? — Аделина прыснула. — Ладно, с дыбой подождем. Идем на кухню, перед чайником извинишься: полночи пыхтит без передышки. Завтра купишь ему новый свисток с пятью мелодиями и толстую ватную женщину.
— А тебе? Только не дыбу!
— А мне расскажешь, что было дальше с Леной и Долли.
— Прямо сейчас?
— Разве ты опять куда-то торопишься? Будешь пить чай и рассказывать. Квас, в последний раз предупреждаю: уйдешь на неделю без разрешения — сама твою кильку съем, не помилую.
На кухне Квас получил временно помилованную А кильку, Стасик — здоровенную кружку с крепким индийским напитком и полный ассортимент домашних пирожков с чем только не.
— А, в какой стране мы впервые чаю напились? В Египте или Китае?
— Тролль, — сказала А строго, — Долли умрет?
— Да, — грустно ответил он. — Все, как обычно. Она всегда умирает. R-вирус, знаешь ли, неизлечим.
Можно, я расскажу тебе другую сказку?
— Не можно. Я жду.
А стучала ногтем по тельцу пустой чашки. Та зло звенела. Сытый кот спал мордой в миску, из пасти торчал рыбий хвост. Тролль поерзал на удобном стуле, набрал воздуха, и утлый кораблик сказки козликом заскакал по пупырчатой глади беспокойного океана жизни.
— Долли, конечно, позвонила Лене. Та приехала на пару дней. Потом уехала: ее ждали унитазы.
Потом опять приехала…
— Да, потом уехала и так далее. Очень содержательно и поучительно.
— Что я могу поделать, если все так и было? Мысль о том, что Долли доживает последние месяцы, кнутом гнала Лену по дороге Сургуч-Москва-Сургуч, наполняла бешенством, жестко скручивала ритм жизни, ведь никто, в первую очередь она сама, не освобождал ее от обычных обязанностей, как реальных, так и разной мишуры. Она чертила в самолете, сочиняла тексты в конструкторском бюро, пела Геничке колыбельные по междугороднему телефону, бесконечно налаживала отношения с женихом, начальством, родственниками, почти не спала. Но тяжелее всего ей приходилось в Москве, с Долли.
— А твоей Лене не пришло в голову уволиться и полгода пожить в Москве? Взяли бы ее потом обратно, великую специалистку.
— Нет, — честно ответил Тролль, подумав, — не пришла. Ты помнишь, она все делала наполовину. А может быть, она не выдерживала рядом с Долли слишком долго, кто знает?
— Уж, конечно, не ты. Ну-ка давай поподробнее про эти шесть месяцев.
— Поподробнее вряд ли получится. События мелькали, как пролетающие мимо вагоны опаздывающего курьерского поезда. Только свист в ушах да слезы в глазах от ветра и пыли. В памяти Елены Сергеевны осели лишь отдельные картинки, бессвязные, а порой и бессмысленные. Например, сидит она дома на кухне, срочно доделывает чертеж, а в гостиной Геничка беседует с ее женихом, коммерсантом Махмудом, новым русским и восточным принцем в одном лице…
33
— Видишь — шрам? Клеим его на щеку. Вот эту гноящуюся рану — на руку. Нарыв — на язык.
Махмуд объясняет сынульчику, что делать с наклейками от жвачки «Напугай»; ее целая коробка.
Вечер субботы, я творю чертеж унитаза, родители умоционили с ночевой к тетке Дарье, дорогой гость достался Геничке на сладкое после ужина.
— А паука куда?
— Это не паук, это скорпион, ядовитый гад. Его надо на ладонь. Подходишь к приятелю, говоришь:
«Эй, братан, хочешь конфэтку?», и протягиваешь кулак. Дурачок соглашается: «Давай», ты пальцы разжимаешь, а там звэрь. Мальчик боится и писает в штаны. Когда станешь мужчиной, мы с мамой отдадим тебя в Гарвард.
— Зачем? — не улавливает связи Геничка.
— С таким дипломом будешь в Малом Сургуче самый крутой, тебя враги и без скорпиона станут бояться.
— А ты — крутой?
— Крутой.
— Враги в штаны писают?
— Как поливальная машина! Но с дипломом было бы проще.
Я плюю на чертеж и являю себя публике. Геничка, для пущей крутизны одетый в концептуальный изумрудный пиджак Махмуда, сидит на паласе и лепит на тело одну мерзость за другой. Махмуд устроился рядом, он глядит на меня нежно тремя глазами. Третий — во лбу, наклеенный и кровавый.
— Они неделю не смываются! — в восторге возвещает будущий дипломированный пугатель врагов, демонстрируя голые ноги, усеянные разнообразными кожными повреждениями — от банальных бородавок до трофических язв. — Хочу в Гарвард! — добавляет он с воодушевлением.
— Утром. Сейчас ты хочешь спать.
— Да? — не верит Геничка.
— Выполнять!! — ласково убеждаю я.
Когда ангелочек, наконец, укладывается, пыль оседает часа полтора. Мы с принцем удаляемся в другую комнату и полночи чрезвычайно заняты. Потом у меня появляется необходимость посетить ванную. Путь туда лежит через гостиную, где сегодня спит Геничка. Привычно делаю пару мягких шагов по паласу и замираю: во мраке гостиной парит над полом некое мерцание. Пугаюсь, стучу зубами, бухаю сердцем, крадусь поближе. Замечаю знакомые детали: открытые раны, витиеватые рвы шрамов, полыхающие вулканчики язв — в центре погруженной по тьму мирной домашней вселенной на спинке стула собакой Баскервилей фосфоресцирует густо залепленный светящимися наклейками шикарный новорусский пиджак. Мой мудрый сын не поверил в страшность Махмуда и решил помочь крутому дяде пугать врагов без диплома.
34
Спи, мой мальчик, засыпай: солнце наземь село. Спит за печкою трамвай. Свечка догорела. Волосатая сосна ветру строит глазки. Нудно плачет фея сна — выгнали из сказки. Полусонная метель за окном в природу елкой наряжает ель к Новенькому году.35
— Эдик, погоди стучать. Здесь нужен другой ритм, разве ты не чувствуешь?
Подхожу, беру палочки, показываю рисунок. Он кивает, повторяет, доводит до нужного темпа. Мы, остальные, пока он разучивает, выходим в буфет чаю попить, кричим сквозь грохот: «Догоняй!» Через полчаса, удивленные его отсутствием, возвращаемся. Эдик четко выводит на барабанах новый ритм, бесконечно повторяя одну и ту же фразу. Лицо бессмысленно, глаза остекленели, в углах рта — пена.
Вырываю палочки, бью по щекам, даю водички. Он приходит в себя, плачет. Да-а…
— Ладно, Эдик. Играй-ка ты лучше по-старому.
36
В коридоре затопали отец и Геничка. Что-то быстро нагулялись.
— Мамочка! Смотри скорей! — ликующий сынуля влетает в комнату в шубе, в валенках и в снегу, и бросает на пол зверя. Зверь ощетинивается крыльями и злобно орет: «Карр!» Геничка скачет вокруг бродячей твари, визжит в аффекте, бьет в ладоши — радуется. Ворона выскакивает из описываемого им круга, прыгает ко мне, клюет в тапок. От неожиданности верещу и лезу на стол. Птичка смотрит снизу, раскрыв клюв, шипит. Вурдалак, а не животное.
— Мамочка, она будет жить у нас, — безапелляционно заявляет новоиспеченный вороновладелец. — Ее собаки ели, мы с дедом отбили. У нее крыло сломано, надо лечить. Дай таблетку!
— Фиг, — отвечаю. — Сначала посади ее на цепь, надень намордник, а то так и буду целый день сидеть, не слезу.
— Геничка, лапочка, — заискивающе просит бабаня, устроившаяся на спинке дивана, а это при ее комплекции непросто, — убери птичку.
— Сначала дайте слово, что ее можно оставить.
— Честное пенсионерское! — клянется бабаня, цепляясь за обои.
— Клянусь носками деда! — отзываюсь я со стола.
Дед гнусно хихикает в коридоре. Геничка бесстрашно подходит к зверюге, спокойно берет ее под мышку, уносит и запирает в туалете.
— Геничка! — стенаю я. — Я писать хочу!
— Потерпишь, — твердо заявляет сын. — Сначала мы с дедом ей ящик сколотим. Кстати, зовут ее Крак, она так сказала.
37
Перед выступлением. Долли, Кэт и я в гримерке. Звезды переодеваются, я, примостившись на ручке вращающегося кресла, травлю байки про геничкину ворону: — …Кормит сырым мясом, кладет с собой в кровать, на подушку, на прогулку тварь ездит у него на плече. Такая любовь! Одна неприятность — в садик птичку не пускают, так она приспособилась на улице ждать…
На этих словах Долька с воем кидается ко мне, глаза безумные, морда перекошена. Сшибает с насеста на пол, падает сверху и сжимает на манер шимпанзенка, месяц не видевшего мамку — руками и ногами. Ее колотит.
— Долька, у тебя что, воронофобия? Так бы и сказала, — бормочу сквозь ее волосы, забившиеся в мой открывшийся от неожиданности рот, вытаскиваю откуда-то снизу руки, глажу все, до чего достаю.
Долька, наконец, разжимает судорожно стиснутые зубы, мотает головой, стонет:
— Не застегивается…
— Ну-ка слазь, сейчас разберемся.
Сидим на полу. Верх ее концертного костюма представляет собой френч с двумя десятками пуговиц.
Шея Долли распухла в последнее время за счет разросшихся лимфатических узлов, ворот не сходится.
Оставить его раскрытым нельзя, это конструкцией сего шедевра не предусмотрено.
— Катюха, ножницы есть?
— Маникюрные.
— Сойдут.
Сгребаю шикарную рыжую гриву, задираю кверху, стригу поперек стоячий воротник пиджака и далее — по спине. Получается довольно аккуратно. Кэт ахает:
— Знаешь, сколько он стоит?
— Неужели! — огрызаюсь я, освобождая долькины кудри. Они резво ссыпаются вниз и уверенно скрывают разрез. Спокойно застегиваю пуговки.
— Еще проблемы?
— Порядок, — отвечает Долли и смущенно улыбается. — Не ушиблась?
— Ни за что! — гордо возвещаю я, растирая болящую «туловищъ».
38
Поздно вечером расходимся по домам после записи очередной песни. Басист Пашка Загоняев остается в студии, тащит из угла спальник. Интересуюсь:
— Ты что, тут теперь живешь?
— Да, понимаешь, такое дело, — шепчет он почему-то виновато, — жена попросила. Говорит, за детей боюсь. Вот умрет ваша Долли, ты проверишься и вернешься, мы тебя любим и ждем. — Он добавляет, — Мне без «Бергамота» никак, и за семью страшно. Ты смотри, Долли не ляпни, она думает, с женой-то я поругался.
Уж как-нибудь не ляпну.
Однако ну и Пашка!
39
— Лена!
Мы с Махмудом лежим на кровати у него дома.
— Да, милый?
— Когда мы, наконец, поженимся?
— Осенью.
— Я не могу ждать осени, я хочу, чтобы ты была со мной уже сейчас.
— Я с тобой, — глажу его по щеке.
— Не так! Чтобы ты жила в моем доме со своим активным сыном, готовила ужин, разбрасывала везде юбки и колготки. Хочу просыпаться по утрам и нюхать твои волосы, раскинувшиеся по моей подушке. Я люблю тебя, Лена.
— Махмуд, — говорю я осторожно, — посмотри на меня повнимательнее.
Он приподымается на локте и послушно обозревает открывшиеся с высоты просторы. Продолжаю:
— Ты видишь белокурые, — да черт с ними! — хоть какие-нибудь локоны, гибкий стан, пышную грудь, длинные стройные ножки?
— Нэт, — честно отвечает он.
— Не за что тебе меня любить. Ты не люби, а? И все будет в порядке, осенью сыграем свадьбу, нарожаю Геничке чернявых братиков…
— Люблю! — упирается он и бросается целовать во что попало.
Выпутываюсь из его рук, одеваюсь и убегаю. Прощай, Махмуд, я тебя предупреждала. И прости.
40
Дурачок свистит в свисток. С неба падает листок. На востоке есть восток. Дурачок свистит в свисток. С неба падает листок. Бедный ржавый водосток — мокрый ветер так жесток. С неба падает листок. Где тут запад, где восток? Дурачок свистит в свисток. Жмется щупленький кусток — мокрый ветер так жесток! Дождь не хочет в водосток. Мысли робкий лепесток: Где-то должен быть исток… Дурачок свистит в свисток. Дурачок свистит в свисток…41
Мне снится.
Помещение. Далеко ли стены и потолок — не чувствую. Может быть, их нет. Это помещение от слова «помещать». Мы тут вдвоем — я и высокое мрачное зеркало. В него нужно смотреть, таков порядок.
Справа и слева жмутся к ногам две свечки. Другого света нет, и ничего больше нет. Только я и мое напряженное отражение. Стою и гляжу себе в глаза. Где-то в них, внутри, то, за чем меня послали сюда.
Я вижу на дне их ветер, пыль, бесконечные вереницы лиц, крошечные звездочки мыслей, не рожденных желаний, кочки запретов, вездесущую паутину страхов… Стоп! Вот оно. Вглядываюсь. Оно замечает меня и резко бросается навстречу. В панике разворачиваюсь, рвусь обратно из глубины, но поздно — оно накидывается сзади на плечи, обнимает нежно, впитывается через кожу. Оно во мне.
Вот я уже снаружи, перед зеркалом. Отражение начинает плыть, плавиться, я-та теряю человеческие черты, раздвигаюсь в стороны, становлюсь огромной, безобразно огромной, лицо исчезает, вместо лица — чернота. Я-та смеюсь, от звука зеркало лопается, и я-эта вместе с ним. Меня больше нет. Те, кто ждали снаружи, вбегают, падают ниц и молятся новорожденному существу. Хэппи энд.
42
— Мама спит. Давай поговорим, птица Крак.
— Всегда к твоим услугам.
— Как думаешь, она догадывается?
— О, да! И бежит от этого со всех ног.
— Не понимаю. Это же так весело!
— Она боится.
— Чего?
— Перемен, ответственности, мало ли чего.
— Но ей придется! Выбора-то нет. Может, помочь?
— Пока не стоит. Время есть.
— Время тварь лживая, не заметишь, как обманет.
— И все же подождем. Лучше, если она справится сама.
Открываю глаза: лицом к окну стоит Геничка, на его плече сидит ворона. Схожу с ума?
43
Стряпаю пироги. Геничка кричит из комнаты:
— Мамочка! Тетю Долли показывают!
Выглядываю в гостиную: по телевизору идет очередной «ток», паренек-ведущий сыплет общие слова об R-вирусе, в студии за столиком в качестве живого экспоната — моя Долька. «Прошу задавать вопросы гостье», — заканчивает бой. Устраиваюсь на диване. Интересно, что это еще за стрип-шоу?
Послушаем.
— Вас волнует дальнейшая судьба группы?
— Нет. Они не пропадут.
— У вас есть мечта?
— Хочу лежать в Мавзолее.
— Это правда, что вы решили заморозить мозг?
— Кому нужен мой мозг? Я бы заморозила голосовые связки, если б была возможность.
— Во что вы верите?
— Не знаю. Может быть, в одного человека.
Показывают крупным планом лицо. Под толстым слоем косметики надежно прячутся долькины эмоции. Прочесть ничего невозможно. Камера отъезжает, не вижу ее рук, они под столом, похоже, пишет что-то на коленях.
— У меня тоже R-вирус. Наверняка у вас возникли проблемы с половой жизнью, предлагаю себя в любовники.
— У меня проблемы просто с жизнью — Хотите что-то сказать человеку, который вас заразил?
— Ему уже апостол Павел все объяснил.
— Долли, какую книжку вы сейчас читаете?
— Красную. Все-таки приятно быть в компании.
— Что вы посоветуете молодежи?
— Стерилизацию.
— Как не стыдно! Зачем вы ее показываете на всю страну? Сидит тут, гордится, по телевизору выступает. Обычная шлюха, это у них профессиональный риск, в нагрузку к баксам…
Не договорил, микрофон отобрали. Брызжет слюной, как лейка, соседи утираются.
— Иди сюда, милый, бесплатно обслужу! — Долька вскакивает, обрывает пуговку микрофона, с колен сыплются на пол листочки. Лезет по головам наверх, обыватели шарахаются, кое-кто одобрительно свистит, владелец высоконравственного сопрано срочно вспоминает, что забыл выключить свет в сортире, и утекает. Камера наезжает на разбросанные по полу студии листочки. Крупно, во весь экран, — красный слон. Подлец, Самсонов! Враг бежал, Долли возвращается вниз, берет у ведущего микрофон:
— Послушайте, вы! Надоели дурацкие вопросы. Это ведь меня сюда пригласили, не вас. Вы сами явились, значит, узнать что-то хотели. И пришли на встречу с больной R-вирусом, а не с заслуженной гимнасткой или умирающей сердечницей. Почему же вас интересует, что я читаю, есть ли у меня мечта?
Черт дери, спрашивайте по существу! Чего вам хочется? Остренького? Грязненького? Как я заразилась?
Много трахалась! Боюсь ли умирать? Писаюсь по ночам от страха! Почему тут раздеваюсь перед вами?
Думаете, перед смертью славы захотела? Да насрать на нее! Я денег хочу заработать! На шикарные президентские похороны: чтоб гроб с позументом и открытые лимузины с оркестром Чагиани. Найму статистов, будут изображать скорбящие толпы поклонников. Проеду на руках по всей Москве. Машина у меня есть, шуба соболья не нужна — до следующей зимы не дотяну. А похороны — это да! У вас таких не будет.
Долька бросает микрофон пацану-ведущему и выскакивает из поля зрения камер. Шоумен бойко трещит мораль. Ах, ты, Самсонов, лысая лисица, трюкач рекламный! Быть Катюхе вдовой. Звоню Долли — трубку никто не берет.
Вечером она звонит сама.
— Ну, как тебе?
— Долька, какого хрена ты на это подписалась?
— Не подписалась, а вызвалась. Хочу успеть новый альбом в руках подержать. Знаешь, сколько денег в него надо вбухать? Не журысь, обычная реклама.
— Все равно убью Самсонова. Ради удовольствия.
— У меня пятнадцатого День рождения, приезжай, заодним и убьешь.
— Что тебе подарить?
— Придумай!
44
Одичалые вены дорог, погодите, не рвитесь! Может быть, размотает клубок заблудившийся витязь? Он бежит и бежит в никуда — только б снам его сбыться. Он встречает Любовь иногда лишь затем, чтоб проститься. И Любовь умирает одна на обочине грязной. Вновь и вновь наступает весна чередой неотвязной. И однажды Любовь оживет, чтобы ждать и молиться… Через тысячу лет он придет, скажет: «Дай-ка водицы». На дороге оставит копье, выпьет за возвращенье, поцелует в ладони ее и попросит прощенья.45
Прилетаю в Москву заранее, вечером четырнадцатого апреля. Сюрпризом. К тому же, план убийства гада Самсонова, разработанный Геничкой, надо прикинуть на местности, а это требует свободы маневра. Открываю двери в долькину квартиру (код мне известен), в прихожей посторонние одежды — у Долли гости. Забавно, обычно она никого не впускает, кроме меня и Катюхи. Тихонько раздеваюсь, прохожу в гостиную — сидят лицом ко мне на софе мамочка и отчим. Меня пока не замечают, Долли тоже меня не видит, она в кресле, стоящем спинкой к дверям. Родственнички пялятся друг на друга и молчат.
Между ними — небезызвестная каталка имени братьев (или чего похуже) Синих, утыканная посудинками.
Все ясно: Долли впала в амплуа хозяйки дома. Мамочка краем глаза зрит-таки постороннее шевеление, вздымает очи, утыкается в отвратительно знакомую физиономию. Даму неэстетично передергивает. Я раскланиваюсь:
— Добрый вечер, Аморизада Глебовна, Лев Панкратович.
Долька визжит, катапультируется из кресла, прыгает на меня. Падаем на пол.
— И тебе привет, — добавляю задушенно, но вежливо. — Ты слазить собираешься?
— Нет. Плати выкуп. Где мой подарок?
— Ничего не знаю. День рождения завтра — и подарок завтра. Заранее не дарят.
— А мне дарят. Мама, например. Давай, а то не отпущу.
— Ничего не выйдет. Я его специально в камере хранения оставила, в аэропорту. Завтра заберем.
— Хоть скажи, что это? — Долли разочарованно скатывается с меня, подымается, подает руку.
— Сама не знаю, — отвечаю я, почти не покривив душой. — Вручу — ты и разбирайся.
Долька усаживает меня в кресло, втискивается рядом, обнимает, кладет голову на плечо, гладит мое колено. Мамочка синеет, но терпит. У отчима бурчит с голодухи под полосатым пиджаком — у Дольки не разъешься. Рушу стену молчания:
— Надо же! Вломилась на семейный праздник, расстроила идиллию. Как там? Традиционный именинный пирог, бутылочка винца, трогательные сюрпризики, добрые лица любящих родственников и прочая пасторальная чушь? Покорнейше прошу простить!
— Долли! — шипит мамочка, — уйми свою… Лену? или как ее там…
— Отнюдь! — перебивает Долли, отвечая мне. — Две любящие пары, дети и родители за одним столом — что может быть прекраснее? — Она принимается целовать мою шею, ухо, нос и прочие детали организма, не имеющие слизистой оболочки. Это, конечно, нарушение договора, но я молчу — надо так надо. Отчим кривится, Долька довольна.
— Что, Левушка, не уважаешь женскую любовь?
— Какой он тебе «Левушка»! — заводится родительница. — Не смей так говорить, развратная девчонка, он тебе в отцы годится!
— Ах да, Лев Панкратович, совсем забыла, мамуля-то права — не имею я права Левушкой вас называть, не переспала я с вами, пока здоровенькая была. А теперь уж вы не захотите, побрезгуете. Ну да ничего страшного, зато остальные успели, не погнушались.
— Какие еще остальные? — дергается мамочка.
— Как! Ты уже их забыла? Иван Петрович, Ванечка то есть, потом Колюня и предпоследний твой шедевр — Аркаша Перепугов, все обожаемые папочки, кроме неизвестного мне родного.
— Что ты несешь?! Да тебе десять лет было, когда мы с Иваном Петровичем развелись!
— Неужели? Значит, я со младенчества такая развратная. Конечно — артисточка, богемочка малолетняя. Развратила к чертям твоего Ванюшу, а ты, бедняжечка, как раз в нервном санатории лежала, не подозревала, что тебе рога наставили. Помнится, Иван Петрович меня на кроватку аккуратно так уложил на спинку, под попку — подушечку, ножки раздвинул и откупорил, да неудачно, кровищи много было. Хорошо, что он доктор, сам справился. А то пришлось бы тебе передачи в тюрьму носить. Правда, я ему, кажется, не понравилась — больше он меня не трогал, только все просил тебе не говорить, мол, мамочке волноваться вредно, умрет, мол, тогда мамочка. А с остальными папочками я уж по собственной инициативе трахалась. Из любопытства: ужасно интересно было, что ты в них нашла? Так и не поняла.
Потом они, конечно, об этом жалели, у меня много к ним просьб появлялось. Да поздно — иначе я ведь могла и тебе рассказать, а то и — не приведи Господь! — прокурору. Вот Льва Панкратовича упустила, ты уж, Левушка, прости, не до тебя было. А ты, мамочка любимая, спасибо за Леву скажи, а то сейчас втроем бы в очередь на кладбище стояли. Да! Тебе же тоже спасибо полагается, за подарок. Босоножки модные, дорогие. Если до лета не доживу — обратно заберешь, износишь за упокой.
Долька высказалась и вновь уткнулась в меня — целовать. Мамочка почему-то забыла про сердце, в обморок не падает. Сидит молча на софе, ста-арая-а… Потом ее пробивает:
— Ты… всю жизнь мою изломала, подлая, грязная, неблагодарная сучка. Я старалась для тебя, таскалась на репетиции, концерты. Как я переживала, когда первое место не тебе дали, а этой толстухе! В больницу попала! Переписывала ноты, гладила костюмчики… Тостер твоему руководителю подарила на День клубного работника, чтоб он тебя не затирал! Я была хорошей матерью, правда, Лева?
— Ты забыла упомянуть, что любила меня, — отвечает вместо него Долли. — Все, банкет закрыт. Гости выметаются по домам.
Аморизада Глебовна и промолчавший доступный моему вниманию кусок вечера Лева послушно поднимаются и уползают в логово зализывать душевные раны. Долька идет в туалет блевать, потом мы пьем чай с блинами. На этот раз у них есть ротик.
— Долька, сейчас одиннадцать. Ты когда завтра родилась?
— В два часа ночи.
— Поехали в аэропорт за подарком? Как раз к двум доберемся.
— Поехали!
Срываемся, скатываемся по лестнице, начхав на лифт, машина у подъезда, мчимся, добрались, стоим у нужной ячейки, ждем двух.
— Долька отвернись! Повернись! — командую я.
Долька крутится, счастливо смеется и прижимает к себе здоровенную, мягкую, кремовую зверищу несуществующей разновидности.
— Кто это?!
— Геничка сказал, зовут его Титус. А порода? Сама видишь — мутант. Помесь мыши, медведя панды и кофе с молоком.
— И тебя. Спасибо.
46
Лежу и сплю, как уродка, а уже день давно, а у меня вагон дел… Солнышко царапает веки, скребется, просит впустить. Открываю глаз, второй, рот, зову:
— Долька! Ты дома?
— Дома!
— А где дома?
— На кухне дома!
— Что меня не будишь?
— Спи давай, хоть здесь отдохнешь! В вашем Малом Сургуче на тебе, видно, рельсы возят, худая стала и черная. Как бегемот после сафари!
— Не ври! Я ужасно красивая!
Съезжаю с кровати, плетусь на кухню. На паркете сидит Долька, азартно, прядь за прядью, отрезает роскошные кудри большими портновскими ножницами. Рыжая куча на полу подрастает, шевелится недовольно от резких долькиных движений.
— Они что, покусали тебя ночью?
— Выпадают. Лезу, как облученная кошка. Чиститься надоело, — объясняет она. — Я парик купила, такой же рыжий. Показать?
Долли встает. Обрезки волос ссыпаются с плеч. Через южное окно в спину ей светит апрельское солнце. Сейчас она еще больше похожа на одуванчик. Только на облетевший, и с ушками.
47
Вечер кончается, весна догорает. Боженька спускается, меня обнимает: «Что, устала, доченька, по земле плестися? Хочешь этой ноченькой ко мне вознестися? Не грусти, красавица, завтра быть лету…» Утро начинается, а меня уж нету.48
— Ленка, такое дело, — звонит Катюха из Москвы, мнется, — Долли сорвалась.
— В больнице? — куда-то проваливаюсь.
— Да нет, как раньше: сидит дома, пьет. Работа стоит, концерты горят. Не знаю, что делать. Ты бы приехала, а? Илья бесится, ребята на нервах.
— Не темни, Катюха! С чего бы ей срываться? Я ж неделю как от нее, Долли как Долли, ненормальная, конечно, но это входит в образ. Что случилось?
— Да это все после того ток-шоу пошло, помнишь? Про R-вирус.
— Помню-помню! У меня к твоему Илюшеньке счетец неоплаченный имеется по этому поводу.
— В общем, у нее неприятности начались. Подонки разные цепляются, соседи шарахались. Какие-то идиоты митинг во дворе устроили за чистоту расы. Она не рассказывала?
— Мы с ней на такие темы не разговариваем.
— Да-а?! А на какие разговариваете? Про погоду? — Катюха вдруг завелась. — Что ты вообще про нее знаешь? Сидишь в своем Малом Сургуче, а Долли здесь одна бьется. Явишься — гостья великая, Елизавета Английская! Долли счастлива, пару дней летает: все может, все получается! Тебя нет — она тусклая, больная. Сколько раз с концертов на скорой увозили? Врач постоянно за сценой дежурит. Я стараюсь помочь, да она тебя в солнышки выбрала, от меня ей не греется! Лучше б ты совсем не ездила, чем так!..
Плачет в трубку.
— Кэт, послушай! Не реви. Я не оправдываюсь. Наверное, виновата. То есть, конечно, виновата. Со всех сторон: и перед Долькой, и перед семьей. Ладно, это мои проблемы, ты права. Спасибо тебе. Ты молодец. Я приеду. А теперь вытри быстренько сопли и объясни, что конкретно случилось. Знаешь, какой счет вам пришлет телефонная компания? Давай, я слушаю.
— Нечего особенно объяснять. Мы в клубе выступали, жарко было. Устали, нервничали. У Долли от напряжения рвота началась, прямо на сцене. И еще кровь носом пошла. Публика завизжала, в штаны наложила. Стали вопить, что Долли всех заразит, что ее изолировать надо. Побежали из клуба, как тараканы. Ей получше стало, домой поехала, в больницу не захотела. Так дома и сидит с тех пор, четыре дня. Трубку не берет. Я к ней сходила, хотела поговорить. Она открыла, пьяная, в руке бритвочка.
Говорит, уйди лучше, а то полосну по пальцам и в глаза брызну.
— Ты и ушла?
— Не ушла бы, да она полоснула. Горсть крови набрала и стоит, улыбается: «Хочешь со мной?» Я заревела, на площадку выскочила, вниз побежала. А она кричит из дверей: «Счас догоню!» и хохочет.
Я представила, как разряженная Катюха на огромных каблучищах скатывается по крутой лестнице, а моя Долька свистит сверху и улюлюкает: «Ату ее!», и чуть не фыркнула в трубку, но сдержалась.
Жутко это было, а не смешно.
— Когда это случилось?
— Во вторник. Может, она уже умерла там? — Катюха снова завсхлипывала.
— Погоди ты! У нас договор — когда умирать будет, я ее за руки подержу, чтоб ей не так страшно было. Долька договоры соблюдает, раз меня нет — не умрет, дождется.
— Может, тебе лучше тогда совсем не приезжать? — съязвила Кэт.
— А вот это фиг. Я все равно завтра в Москву собиралась, отпуск на работе оформила.
— Значит, зря я на тебя наехала?
— Ничего и не зря. Об одном жалею — надо было пораньше и танком. …Бедный папа! Не видать тебе Рембрандта…
Чему ж я не сокол? Летала б бесплатно.
49
Снова Москва, грязная, шумная. Кто бы знал, как я ненавижу эту тварь! Она мне представляется монстром, вампиром, присосавшемся к ни в чем не повинной и ничего не ведающей, по-детски наивной России. Москва проталкивает жадные щупальца дальше и глубже в податливое тело страны. В каждой, самой крохотной домушке торчит на почетном месте голодный отросточек: обаятельный, открытый, зубастый, сосущий роток — телевизор. Он льет и льет в души сладкий дурман изощренной бредятины, отупляет, отучает наблюдать и думать, манит надежностью определенности и ложной любовью, сочиняет нам жизнь, а взамен вытягивает энергию, силу и свободу. Острые, упрямые корешки полуправды легко вспарывают дряблую кожицу старинных верований и обычаев. Чудесное, настоящее и стоящее уходят рука об руку в прошлое. По сонным улицам селений тупо бродит несуществующее, но агрессивное и наглое Придуманное. Москва разбухает, жиреет и чтит себя благодетельницей.
А еще я ненавижу этот город за то, что здесь обижают мою Дольку.
Во дворе долькиного дома новые элементы дизайна: похожие на увечных пауков хромоногие транспаранты, светящиеся надписи гнусного содержания на деревянных сооруженьицах детской площадки. Стены подъезда загажены листовками: «Здесь живет вирусаноска», «Очистим Москву от мрази», «Не забудь пригласить на похороны — обожаю вечеринки» и тому подобные извращения воинствующего идиотизма. Подхожу к долькиной квартире. Уже на площадке меня встречает ужасная вонь: характерный запах больного человеческого тела, обслуживать которое хозяин перестал. Трупом не пахнет — на том спасибо.
— Заходи, не заперто! — слышен из-за двери хриплый голос.
Толкаю ее, стараясь не измазаться: дерматин извожен какой-то пакостью. Не то деготь, не то что похуже. Заглядываю. Почти впритык к дверям, только-только чтобы дать им возможность открыться, откинувшись на стену, в луже человеческих выделений и засохшего вина полулежит Долька. Лицо распухло, губы в коростах, глаза не фокусируются. По полу разбросаны длинные ноги и пустые бутылки.
Она глядит на меня (вернее, пытается глядеть) и улыбается.
— Как ты долго! Жду, жду, все выпила, сижу трезвая, как дура.
— Катька позвонила, я сразу вылетела.
— Позвонила Кэт? Забавно. Она тебя не жалует. Погоди, не проходи, тут грязно очень. Хотя, как это — не проходи? Наоборот, забирайся сюда скорее, только обувь не снимай. Перчатки взяла?
— Вот, — достаю перчатки, халат, резиновый фартук.
— Вымой меня, ладно? Что-то я раскисла.
Переодеваюсь, помогаю даме подняться. Удалось! Обнявшись, плетемся в ванную, стараясь не поскользнуться и не рухнуть: пол уделан основательно. Добрались. Пускаю теплую водичку, пытаюсь Дольку раздеть. Как бы не так! Блевотина на одежде засохла. К тому же Долли мучил понос. До туалета дойти она не смогла, а, может, не сочла нужным. Теперь вся эта кака надежно спаяла одежду с кожей.
Пытаюсь оторвать — Долли шипит от боли.
— Ну-ка лезь в ванну так. Отмачивать будем.
Загружаю ее в емкость, поливаю из душа.
— Что морщишься?
— Щиплет.
— Сейчас, уже почти отклеилось. Вот, можно снять. Куда это?
— Выбрасывай сразу в ящик, у меня тряпок много.
Складываю грязную одежду в контейнер. Принимаюсь непосредственно за Дольку. Всегда худенькая, теперь она просто скелетообразная. Кожа туго обтягивает кости, к тому же она в мелких ссадинках и гематомах. Кое-где экзема и язвочки. Стриженые волосы на голове местами выпали совсем, образовался рельеф: лысинки озер и нетронутые массивчики лесов. Шея распухла. Неделю назад это был еще человек.
— Ленка, — Долли задирает кверху мокрую пятнистую рожицу, — ты ведь не уедешь больше, правда? Я уже совсем не могу без тебя.
— Не уеду. Видела, какая у меня сумка? Огромная! Туда все-все шмотки влезли, книга скандинавских саг и горнолыжные ботинки.
— И ведро перчаток.
Долька вылавливает из воды мою руку в перчатке и целует мыльную резину. Щекой прижимаюсь к ее плешивой макушке. Я больше не уеду, не бойся хотя бы этого.
После помывки почти отношу ее на кровать. Там, заботливо укутанный одеялом по самую развеселую в мире морду, расположился Титус. Постель, как ни удивительно, чистая. Под простыней шуршит клеенка. Долли устраивается рядом со зверем, гладит нежно, чешет за ухом, шепчет: «Соскучился, малыш?» Титус глупо улыбается — рад.
— Погоди обниматься. Дай-ка я тебя смажу сначала.
Обрабатываю ранки, кое-что приходится забинтовать. Долька держит Титуса за лапу, терпит. По окончании процедуры спрашиваю:
— Наденешь что-нибудь?
— Не стоит. Так тебе удобнее будет, возни меньше. И стирки.
Опять переодеваюсь. Долли, обхватив пушистого мутанта, следит за мной. Даже через одеяло видно, какая она тощая. Надо попытаться ее накормить.
— Есть хочешь?
— Да меня рвет постоянно. И дома шаром покати.
— Там, где есть я, еда всегда найдется.
— Блины с дырками от Генички?
— Нет, суп от курочки. А от Генички несъедобный привет. Куриный суп любишь?
— Люблю. Только все равно вырвет.
— Пусть попробует! Не отдадим, — вынимаю из сумки средних размеров канистру, — Надо подогреть, остыл по дороге, — отправляюсь на кухню.
— Ты куда?! — Долька дергается, пытается встать. — Я с тобой! — сползает на пол, заваливается.
Бросаю судок, поднимаю ее, складываю обратно, сажусь рядом, успокаиваю:
— Что скачешь, как кенгуру на ринге? Думаешь, в двух комнатах заблужусь?
— Я должна тебя видеть, — она в панике.
Мухи на брюхе! Достаю паспорт, открываю страницу с фотографией, сую ей под нос.
— Это я?
— Ты.
— Смотри сюда и считай вслух до двадцати. Принесу кастрюльку и тарелки с ложками. Подогреем тут, у меня кипятильник есть. Идет?
— Один, два, три… пятнадцать! — она облегченно передыхает, увидев в дверном проеме нечто, идентичное изображению в паспорте и увешанное посудой.
У меня здесь свои: чашка, тарелка, стакан и прочее. Хозяйка никогда не пользуется ими на всякий случай, хоть я и говорю ей, что это ненаучно. Она не очень-то жалует науку. Подогреваю суп, чай, кормлю Долли с ложечки, у нее руки дрожат от слабости.
— Тошнит?
— Нет, — смотрит удивленно.
— Давай, я в коридоре приберу. Запах не гастрономический.
— Просто закрой дверь поплотнее и падай рядом. Будешь сказку рассказывать, — она пододвигает игрушку, переползает на середину широкой кровати. — Ложись поверх одеяла, а то из меня разная отрава сочится. — … В некотором царстве…
— Нет! Не эту. Про Тролля. Помнишь, как он встретил А? Я все думаю: что-то там не так в этой сказке. Не могла А уйти. Может, ты конец с другой сказкой перепутала?
— Наверное. Или она просто пошла прогуляться, а вернуться не удалось, кто знает? Я новую историю про Тролля расскажу, хорошо? Через много-много лет, в средние века, он в очередной раз нашел свою А.
Теперь ее звали Адель, и им обоим было уже совершенно ясно, что она Душа Тролля. Старухи не солгали юной рыжей дикарке, в древнем предании имелось зернышко правды. Итак, в маленьком, недавно народившемся вокруг герцогского замка городке ремесленников и торговцев Корде, что на юге Франции, жили-поживали искусный кузнец Пьер и его жена, высокая, гибкая веселая Адель. Их скромный домишко стоял недалеко от городских ворот. Снаружи казался он не особенно уютным, да и изнутри был темноват и холодноват, но даже в самую мрачную или квелую погоду полыхали там ярче солнца и грели Тролля огненные кудри хозяйки…
Долька внимательно слушает, дышит хрипло. У нее жар. Через все проложенные между нами тряпки пробивается и жжет меня ее боль. Надо завтра попросить у Айболита морфин. Ее, конечно, пора положить в стационар, но я пока не могу. Не могу!
50
«Хватит, пожалуй!» Невысокий, но жилистый и ловкий Пьер клещами вытащил из горна кусок раскаленного докрасна железа, шмякнул его на наковальню. Застучал-забухал-затюнькал молоток, придавая форму будущему лемеху.
В незакрытые по летнему времени двери кузни влетела Адель. Одета она была вполне по моде того века: в полотняную белую камизу-рубашку, сверху — в тунику-котту с длинными узкими рукавами и тунику-сюрко, подпоясанную по бедрам поясом. Рыжие кудри А полностью спрятались под белым круглым платком с отверстием для лица. Адель пару секунд с удовольствием наблюдала за пьеровой стукотней, потом по-разбойничьи свистнула. Отшвырнув молот с клещами, кузнец кувыркнулся в воздухе, оказавшись лицом к «врагу». Шерсть на голове встала дыбом, зубы оскалились. А захихикала:
— Обожаю прытких мужчин! Повторить можешь?
Тролль обиженно засопел:
— Вся работа насмарку! — он выудил откуда-то погнувшийся лемех, сунул обратно в горн. — Чего пришла-то?
— Да там этот опять, я видела, на заднем дворе со щита герб отковыривает, чтоб повод был зайти.
— Кто — «этот»?
— Корнеплод какой-то, кажется.
— Наверное, Свеклольд.
— Точно!
— Заказ готов, тащи сюда коробку.
— Уже принесла.
Адель выкопала в плетеной коробке нужный кусок пергамента с мадригалом и пометкой «для Свеклольда» и пожала плечами:
— Не пойму никак, зачем идти в трубадуры, если стихов писать не умеешь?
— Нам-то что? Платят — и прекрасно.
— Вон он топочет! — А юркнула в уголок и приняла пристойный вид, подобающий жене уважаемого ремесленника.
В низенькую дверь кузни втиснулся великолепный трубадур. О! Он пленял. Весь в шлеме, весь в кольчуге, весь в плаще. Ноги восхищали обывателей ярчайшими, супер-стильными, самыми красными в мире штанами. Испачканными навозом. На поясе болтался меч в ножнах. В руках рыцарь гордо держал покалеченный щит и обиженный расставанием с ним герб: двуглавого беременного козла в туфлях. Внеся данные предметы в помещение, сиятельный воин изрек:
— Повелеваю: почини!
Его блудливые глазки обнырнули кузню, наткнулись на скромницу А, и он завел:
— О, это был великий бой! Я стрелой скакал навстречу чудовищу на могучем Брыкунсе, подлый дракон рыгал огнем, скреб землю когтями и испражнялся со страха. Мой огромный меч снес его богомерзкую голову, но как раз в сей торжественный миг победы коварный выродок откусил герб с моего щита. Такая досада! Пришлось освободить герб из зловонной пасти и направиться в ближайший город к кузнецу. Не могу же я припасть к туфлям возлюбленной в столь неполноценном виде!
— Значит, навоз на ваших штанах принадлежит дракону? — спросила, чуть дыша, хозяйка.
— Ему!
— Ах-х! — Адель восхищенно закатила хулиганские очи почти под платок.
— А какие стихи я посвящаю своей даме сердца! — распетушился клиент.
«Готово?» — шепнул он Троллю. Тот молча сунул листок и забрал изуродованный доспех — чинить.
Рыцарь подкатил чурбан, взнес на него правую ногу, припал к листку и завыл:
О, Лаврампия, дева! Красы незакатный рассвет! Твоя прелесть превыше лазури палаты небесной! Возгорелся в глазах моих верности вечный завет расчудесный! Я жую, и пою, и воюю во славу Твою, о, прекрасней любови! алмазней сверкающей броши! Сладкой негой стиха с головою тебя оболью и дракона убью, и другого дракона убью, и вообще, я весь род их противный на мах перебью, обрати только взор на простую персону мою — я хороший!Адель захлопала в ладоши. Рыцарь, стоя одной ногой на чурбане, поклонился, пал, кряхтя, поднялся, принял прежнее положение и завыл сначала: «О, Лаврампия, дева!..»
Тут он вдруг икнул и застыл с открытым ртом. Думать он не умел, но пытался. Беспомощные извилины трепыхались, корчились в конвульсиях, бестолково бились изнутри о шлем. Шлем звенел.
Хотя нет, звенел молоточек Тролля, приколачивающего герб на место. Процесс думания закончился, вопреки ожиданиям, и трубадур заорал на кузнеца, тряся пергаментом:
— Подлый, жалкий писака! Червекоподобный отросток пятой конечности вепря! Недоношенный крот! Мою даму сердца зовут Магридия! Прекрасное, сиятельное, любвевозбудительное имя! Какая еще такая гадкая Лаврампия? Не хочу мерзкой, тошнотворной уродки Лаврампии! Пусть сожрут ее драконы Черного ущелья! Пусть вывалится из окна замка эта глупая старуха Лаврампия!..
Он неожиданно заткнулся, квакнул и снова пал на земляной пол. Но крик не прекратился:
— Кто в столь гнусных выражениях поносит мою несравненную, ангеловидную, убедительно превосходящую прочих божественную даму сердца Лаврампию?! Не жить тебе на белом свете, дурак!
Увлеченные тирадой поклонника Магридии, Адель и Пьер не заметили, что в кузню вошел еще один трубадур. Взъяренный непочтительными выражениями, сыплющимися по адресу его богини, он мощной рыцарской ногой поддал под зад первому рыцарю. Пока тот барахтался внизу, новый заказчик вырвал у него лист пергамента, впился в текст, забормотал: «О, Лаврампия, дева…», перевернул листок, прочел:
«Для Свеклольда» и снова пнул приподнявшегося было магридиофила:
— Некультурная скотина! Как смел ты прочесть начертанный моей возвышенной рукой мадригал?
Назови свое жалкое имя, пусть небеса услышат его в последний раз!
— Да будет тебе ведомо, ношу я вовсе не жалкое, а славное и достойное имя Брюквольд, а твое неизвестное имя так никто и не узнает!
— Это еще почему?
— Я сражусь с тобой и свалю насмерть три раза, прежде чем ты один раз успеешь его произнести!
— Не хвались! Я — Свеклольд, Свеклольд, Свеклольд! Что, слабо меня свалить? Крыса палестинская!
— Черт! — шепнула Адель Троллю, они забились в уголок и наблюдали, как грозные рыцари, звеня кольчугами и бряцая зубами от ярости, ходят по кругу, лая друг на друга. — Как я могла ошибиться? Ведь помнила же — корнеплод. А их вон два таких овоща. Теперь поубивают один другого, а нам отвечать…
Брюквольд подхватил отремонтированный Троллем щит, вынул из ножен меч, затянул: «За Магридию-у-у!» и звезданул Свеклольда по шлему. Свеклольд вконец обиделся: «Нет, за Лаврампию-уу!» и тоже треснул Брюквольда. И пошла потеха! Неуклюжие в условиях мастерской рыцари падали, сшибали задницами и лбами утварь и инструменты, тюкали друг друга мечами, азартно пинались и ругались. Нанести сколь-нибудь серьезное увечье было невозможно — места для богатырского замаха фактически не имелось, но с кузней вояки разобрались основательно. «Тролль! — зашипела А. — Сделай же что-нибудь! Если их не остановить, они все разнесут!» «Чтобы мне железякой по шее стукнули? Я уж лучше тут посижу. Ставлю на Брюквольда, а ты?» «Иди к черту!» А выскочила из укрытия, подхватила бадью с помоями, прыгнула к понравившемуся Пьеру Брюквольду и, крякнув, надела бочонок поверх шлема. «Эй, А, так нечестно!» — подал голос Тролль. Ослепленный Брюквольд бестолково тыкался, водил мечом, бубнил чего-то. По его прекрасным красным штанам шаловливо стекали на туфли юркие струйки помоев. Свеклольд торжествующе хохотал, наслаждаясь столь неожиданным и полным упаданием чести противника. Потом получил клещами по шлему и упал: Тролль вступился за возлюбленного Брюквольда; который, впрочем, тоже времени не терял, за что-то запнулся и рухнул. Очень удачно, надо заметить, рухнул, бадьей угодил на наковальню, доски рассыпались, но поздно: рыцарь уже не хотел биться. Он сказал: «Гы» и потерял сознание. Как и его коллега.
Пьер положил клещи, освободил Свеклольда от шлема. Вмятина на последнем была хорошенькая, но шлем выдержал. «Кто такие делает?» — заинтересовался кузнец, царапая ногтем металл.
— Тьфу на тебя, — грустно сказала Адель. — Чепуха одна в голове. Дом порушен, украшен двумя трупами, а тебе железяка понравилась.
— Живые они, не переживай. Дышат. Давай-ка их свяжем от греха, не то очнутся — будет нам опять морока.
Тролль и А сложили упакованных вояк лицом друг к другу и уселись решать их судьбу. Убивать агнцев не хотелось, отпускать было опасно.
— Смотри-смотри! — Пьер развернул подружку к виновникам дебатов. — Кажется, и делать-то ничего не придется.
Рыцари пришли в себя. Они составили диалог:
— Гу? — рыжий Брюквольд вопросительно тыкал пальцем в глаз Свеклольда.
— Агу! — радостно отзывался толстый Свеклольд, колупая в носу Брюквольда пальцем в рыцарской перчатке.
— Знаешь, А, — Тролль улыбался, — по-моему, у них ретроградная амнезия.
— Что?
— Память от удара отшибло. Мы их оденем, почистим, закинем на лошадей и отпустим на четыре стороны.
— На четыре не надо. — Адель подошла к паренькам и нежно похлопала их по жирным ляжкам. — Вот что, шалунишки. Вы — братики. Брюквольд, узнаешь брата Свеклольда? А ты, Свеклольд, узнаешь брата Брюквольда?
— Гу? — удивились они.
— Агу! То есть, ага! Вы едете к бабушке Милетине в Жакре. Запомнили?
— Агу!
— Повторите.
— К бабушке Милетине в Жакре, — послушно проскандировали новообретенные братья.
— Везете ей пирожки от вашей матушки. Повторите!
— Пирожки!
— Мы с дядюшкой Пьером посадим вас на коников, и вы весело зацокаете отсюда. Цок-цок. Ясно?
— Весело? — не уловили братики.
— С песенкой.
— Агу! — радостно согласились парнишки.
На том и порешили.
Песенка-то их и подвела. У городских ворот народу в это время суток не случилось. Двое сторожей от нечего делать плевали на дальность. Более пожилой и опытный выигрывал: передние зубы у него сгнили под корень, и слюна вылетала в дырку как стрела из арбалета. В переулке показались Брюквольд и Свеклольд. Переулок был так себе шириной, метра полтора, но бравые рыцари исхитрились ехать рядышком. Они чинно держались за руки и хрипло голосили «Матушку-гусыню». «Отойди, придурок!
Затопчут!» — старший сторож отбежал в сторону и отчаянно махал новичку. Но в том со скуки взыграла служебная рьяность. Юнец ухватился за конец алебарды и браво перегородил дорогу укротителям драконов. «Ох-ох, убьют мальца», — тихонько подвывал беззубый из безопасного места («малец» приходился ему племянником). Рыцари же послушно остановились. «Чьих будете? Куда путь держите?» — строго поинтересовался пацан-привратник. «Братики мы, Брюня и Свеля. Едем к бабушке Милетине в Жакре», — хором и чинно ответили вояки. «Проезжайте», — снисходительно позволил тот, ошалев от собственной наглости, и повел плечом в сторону ворот. «Стой, ребята! — неожиданно взревел опытный сторож, подбежал, шепнул юнцу, — Я их задержу, а ты беги к герцогу, зови народ — в городе колдовство.
Рыцари так себя не ведут, опоили их, порчу навели». Молодой привратник сиганул вверх по улице к замку.
Когда прибыли арбалетчики герцога и призванный на помощь священник-дьяволоборец, рыцари, спустившись с коней, плясали и на два голоса исполняли «на бис» «Матушку-гусыню». Над будкой привратника клубилась летняя жизнерадостная пыль, поднятая часто топавшими туфлями трубадуров. Но выше ее подымался и плыл над городом мелодичный серебряный звон, издаваемый кольчугами. Те, кто ковали их, знали свое дело, хоть и не предполагали возможности столь странного применения ратного доспеха.
Священник, потрясая крестом и крича что-то очистительное, ринулся к братьям. Арбалетчики еле поспевали за ним. Рыцари, в отличие от священника, держались благопристойно, аки собаки не лаяли, на крест не кидались, дали себя обыскать и вообще выказывали крайнее расположение ко всему шевелящемуся. Служитель церкви чесал бородавчатый нос и пребывал в задумчивости: с одной стороны, братья были явно безопасны, — может, вывели, наконец, породу смирных трубадуров? С другой стороны, чтобы высокочтимые рыцари стали голосить простонародную песню вместо мадригалов — это уж слишком. «Нет, дело нечисто. Они заколдованы. Зуб дам», — постановил священник. Ему протянули свиток пергамента, изъятого из крепко сжатого кулака Свеклольда. «Дьявольские письмена? — заинтересовался носитель рясы и прочел, — „О, Лаврампия, дева…“ Писать умеете?» — обратился он к рыцарям. «Нет! Только читать» «Вот и я — только читать. В нашем городе читают пять человек, а пишут лишь два, герцог и кузнец. Герцог стихов не сочиняет. Кузнеца работа! — вычислил он и спросил у трубадуров, тыча листком им в морды, — Пьерова работа?» «Дядюшка Пьер! Хотим к дядюшке!» — заканючили те. Священник распорядился: «Жертвы колдовства должны быть доставлены в Собор. Кузнеца — в пыточную».
План тотчас исполнили, даже с перевыполнением: вместе с Пьером прихватили жену, бросившуюся на стражу с мутовкой.
День погружался в Лету, из грязных вонючих домишек на не испорченные канализацией девственные улицы лились помои и темнота. Кто-то обрызгал небо звездами: на город насела ночь.
Городские ворота недовольно закряхтели, распахнулись, впуская богатую карету рыцаря Ордена Далматинцев и вереницу крытых повозок. К герцогу Альбрехту заехал погостить знаменитый дядя, адепт, герой походов, крестоносец-диссидент и гурман, герцог Дюренваль. Вообще-то он рвался в Палестину, карать безбожников, но Корде был почти по пути, а у племянничка отлично кормили. Ворота, проглотив процессию, сомкнулись. Ночь победила.
На следующее утро, вкусив изысканный завтрак, родственники решили размяться. Герцог Альбрехт повел именитого дядюшку в подвал замка — хвастаться пыточной. Прихватили экскурсоводом священника:
— Мы, конечно, не парижане какие-нибудь, люди сугубо провинциальные, — без устали вещал тот, первым спускаясь по винтовой лестнице, ведущей в подвал, — церковные указы в Корде года через два доходят, а необходимую аппаратуру нам и вовсе не присылают, достаем по знакомству списанное оборудование, но еретиков и ведьм жучим в хвост и в рыло, только дым стоит! Какой у нас костерок бывает на лобном месте, если еретика словим, любо-дорого! Предмет моей особой гордости. Из других городов посмотреть отъезжают семьями, вино пьют, гуляют, одно слово — праздник, отдохновение души!
Кстати, тут двух ступенек нет, не упадите… Кувыркаться недалеко уже, но несолидно. Опаньки! Пришли.
Стойте-стойте, сначала — налево. Тут у нас кунсткамера, музей в некотором роде. Храним изъятые у еретиков богопротивные предметы: сатанинские книги, алхимические дьявольские сосуды, орудия полета — метлы разных конструкций и прочее. Да Вы сами поглядите, потрогайте, Вы человек высокорелигиозный, гигант духа, Рыцарь Ордена, к Вам чертовство не прилипнет, испугается. Между прочим, может быть, как магистр дадите консультацию специалиста? Вечером вчера колдуна поймали, столько лет в городе жил, кузнецом прикидывался, а двух трубадуров взял да и околдовал, те теперь смирнее агнцев. Чисто по человечески, всем остальным это даже и удобнее. Но ведь непорядок — среди бела дня на достойных рыцарей порчу насылать! Раньше они с драконами бились, у каждого на мече по три зарубки — по три зверя завалили, значит, а теперь у герцога, Вашего племянника, на кухне сидят, тюрю хлебают. От мяса отказываются. И песни народные поют вместо мадригалов. Жуткое зрелище!
Значит, кузнеца-то взяли, вещи дьявольские изъяли, а что именно — понять не могу. По необразованности и удаленности от источников церковной мудрости. Видите, писульки какие? То ли рисунки, то ли буквы изуродованные, нечеловеческие. Может, рецепты колдовские? Покойник-то будущий в кузне по ночам, видно, еще и алхимией занимался, сосуды имел непонятного назначения. Но ясно, как Божий день — дьявольские все как есть! Страсть Господня.
Священник продолжал трещать, время от времени осеняя себя крестным знамением. Магистр взял в руки обрывки пергамента со странными надписями. Нет, такого и он раньше не видел. Вот сосуд, определенный богослужителем в дьявольские, магистру попадался. Такие он у арабов встречал, те в них листья ароматные заваривали — чай. Рыцарь попробовал напиток: ничего особенного, но забавно. Бодрит. «Надо бы эти записки Никогданеврамусу отнести, пусть разберется. Вдруг кузнец золото из свинца готовил?
Напечем золота, на нужды Ордена пойдет. Что-то братия в последнее время пообносилась, пообтрепалась…» Он прикрыл плащом дырку на расшитой котте и быстро сунул за пазуху кусочек пергамента.
— Не видели, значит, такого? Жаль! Хотя — чего жалеть? Войду в анналы церкви как открыватель нового вида колдовства. Ах, кузнец, шельма! Я-то его в гости на следующей неделе звал, думал — верный католик, посидим, Писание почитаем по ролям, отдохнем культурно. Жена его тоже ведьма рыжая. На пару колдуют, — решительно закончил обвинительную речь священник. — Теперь в пыточную пройдемте.
У нас главпалач намедни загулял, уж не обессудьте, только-только работу сегодня начали, еретики не воют пока. Лучше б попозже сюда прийти, когда процесс в силу войдет, да лестница больно длинная, мне ее два раза в день не одолеть, а вы без меня тонкостей не уловите, упустите самое наслаждение.
Священник заливался весенним соловьем, ведя герцогов Альбрехта и Дюренваля по закоулистому, вонючему, темному и склизкому подземелью. Приступившие к труду под руководством отгулявшего начальника палачи гремели щипцами, разминая мускулы, разжигали огни, грели масло, топили свинец.
Работа налаживалась. Кое-где уже раздавались отдельные стоны, жалобные крики, проклятия и прочая обычная музыка сего экзекуциария. Экскурсовод пел:
— Это «Железная дева», совсем от крови заржавела. Никак новую не достану, беда, да и только.
Очень еретичкам пользительна, до кишок пробирает. Башмачки, опять же, железные, ножку сжимают.
Сжимай сильней, оболтус! Видишь ведь: не больно ему богомерзкому! — заорал он на палача, примеряющего железный сапог на ногу какого-то грустного огромного алхимика. Нога высовывалась из сапога. — Тьфу, балбес! Отрастят лапу, не лезет никуда… Не видишь разве — не по размеру обувь, ты его на огне поджарь, больше толку будет… На чем мы, стало быть, остановились? Сбил, дубина! А! Сейчас перед нами откроется дыбная. Еретик с нее обычно начинает, а мы закончим. Тут у нас новенькие, кузнец с супругой. Кузнец уже в работе, жена пока ждет, наблюдает, получает моральные муки. А это наш главный палач. Гвидо! Пьер сказал что-нибудь интересное? Как он трубадуров искурочил?
— Пока не выведал. Он только назвал сто сортов вин в алфавитном порядке, спел про какую-то Магридию и восемнадцать раз сругался.
— И все? Ты ему груз к ногам привяжи, пусть проникнется. Жена-то молчит?
— Как не молчать? Молчит, конечно — ей рот заткнуть пришлось, верещала непотребное про его светлость герцога. И про вас тоже. Связать еще пришлось — дерется. Может, ей виску для начала прописать, чтоб не рыпалась? Только рот лучше не развязывать — другие клиенты разволнуются, мысли им разные в головы полезут, непедагогично получится. Не до раскаяния им будет.
— Подвесь-ка ее рядышком. Пусть друг на друга полюбуются, голубочки. Ишь, какие стойкие!
Ничего, через недельку в ногах ползать будут. Если смогут. А потом и праздник устроим — костерок.
Двойной, жаркий, долгий. Вы, магистр, недельку у нас погостите?
— Нет, дела зовут. Со своими еретиками вы и сами хорошо управляетесь. А мне в Палестину пора, тамошних жечь. Братья заждались, волнуются. Что, племянничек, может, пойдем обедать? Славные у тебя люди работают, душой за дело болеют. Оборудование, конечно, устарело, с этим я помогу породственному, у меня в церковной мастерской свои люди есть в отделе распределения, подкинут парочку новинок. Но кое-что вы и сами можете улучшить. Вот кровь с еретиков у вас куда, между прочим, стекает? Ага, под ноги, на пол прямо. Не модно это сейчас, не современно. Продвинутые инквизиторы желобочки специальные в полу прорубают, наклонные такие, кровь по ним из всех помещений в один резервуар бежит. Канализация, называется. Очень удобно: ноги не скользят, обувь чистая. Да, и колпаки на служащих Богу — черт знает, что такое, а не колпаки. Теперь другой фасон носят: верхушка длинная, вытянутая, на конце узелочек завязывается. А так — по-деревенски получается. Я-то ладно, знаю, что главное — содержание, а не форма, а кто другой приедет — оконфузитесь. Покушать бы, а?
Отправились покушать. Староватого священника оставили покорять подъем, сами бодро, повоенному, вползли наверх. В зале уже ждал обед. Отъев, удалились вздремнуть. Пока хозяин честно вздремывал, гость спустился во двор проведать личного алхимика и астролога, а также (в первую очередь) чудесного повара, тешащего в тяжких походах утонченный вкус магистра ярчайшими образчиками яств покоряемых народов. За долгие годы путешествий с герцогом старикашка-алхимик здорово поднаторел в готовке, набрался тщеславия и наглости, научился лихо прятаться от инквизиторов — короче, приобрел массу полезных навыков. Единственное, что у него никак не получалось — а очень хотелось! — сделать золото из чего-нибудь другого. Что только не закидывал ученый муж в послушные колбы, с чем только не смешивал! Цветочную пыльцу с тиной, лягушек со свинцом, алмазы с навозом — золото не появлялось. А хозяин и покровитель требовал результатов. Орден хотел кушать и одеваться, безразлично на каким способом добытые деньги.
Магистр Дюренваль подошел к ничем не отличающейся от других кибитке. Лишь он и алхимик знали, что это не только кухня, но и походная лаборатория. Рыцарь задумался, вспоминая чудное имя ученого. У того был пунктик: на все другие имена он не отзывался. Хоть жги. Дюренваль пробовал.
— Никомунедамус! — тихонько позвал дядюшка. Нет ответа.
— Необижумамус! Недогаудеамус! — нет ответа. Вздорный алхимик господский зов игнорировал. Вот тщеславная тварь! Магистр озлился.
— Черттебяпобрамус! Ногиобломамус! Кожуобдирамус!
— Козанострадамус!!! — визгнул старикашка в черной камизе, вылезая-таки из повозки. Он лязгал зубами, с уголков губ стекала красная пена. Обиделся, что ли?
— Пусть твоя бабушка помнит это глупое имя! Кто только его придумал мне на горе? Делать больше нечего — абракадабру всякую разучивать! Я и так за тебя тружусь, мало того, что от инквизиции спасаю, так еще и твои обязанности выполняю, рецепты достаю! Рецепт философского камня кто принес? Я!
Мало ли, что свойства не те, камень-то образовался, что еще надо? Вот еще рецепт. Как золото приготовить. Наколдуешь два фунта этого к утру! — рыцарь сунул трясущемуся от злости алхимику пергамент, украденный в кунсткамере. — Понял?
— Этого? — желчно переспросил старикашка, проглядев листок.
— Вот именно! — поставил точку начальник, раздосадованный тем, что ученый опять вывел его из себя, развернулся и ушел к племяннику продолжать наслаждаться ролью гостя.
— Будет сделано! — крикнул вдогонку вредный дед и скрылся под навесом.
Недолгой летней ночью рыцарь грезил, крутясь на огромной пышной кровати. Его верное Ордену тело грызли клопы, но не они беспокоили его верную Ордену голову, гнали робкий, ненавязчивый сон.
Мысли ели душу, мысли. Сделает Боганепродамус золото, принесет Дюренваль презренный металл Великому Магистру и скажет: «Жертвую на нужды Святой Церкви!» А Великий Магистр прижмет его к груди (вместе с золотом), утрет слезу и растроганно шепнет на ушко: «Ай, молодец!», а потом отодвинется, посмотрит вдаль, на страны, стонущие под копытом дьявола, и крикнет: «Держись, ребятушки! Скоро и вас спасем!» И вздохнут, окрепнут надеждой будущие христиане и возблагодарят Господа и слугу его Дюренваля.
Тут на слугу Господа рухнул балдахин со всеми клопами и тараканами, нападавшими на него за ночь с потолка. Мечты растаяли. К тому же, просыпалось утро. Дюренваля ждали вредный старикашка и два фунта золота. Для начала.
Магистр опустил стылые конечности (надо полагать, нижние) в туфли, вздел на себя рыцарское облачение, выгреб из немытой гривы клопов. Воняли те гадостно. «Создал Господь этакое непотребство!
Терпению учит», — догадался он и втер мерзость обратно в прическу. Клопы радостно зазавтракали.
Дюренваль бойко зашлепал по холодным каменным плитам залов и виражам лестниц к выходу наружу.
Дорога пролегала через кухню. Замковая челядь еще спала — герцог-племянничек пробуждался не ранее полудня, и кухня, так чтимая магистром, ждала, безлюдна и холодна, аки желудок доброго католика в страстную субботу. Но откуда-то извне, из неведомых райских трапезных кущ просачивался в возбужденный нос пса-рыцаря и, конечно, являлся знамением, чудный, наивосхитительнейший амбр.
Ближе к выходу во двор аромат усиливался — Господь указывал слуге, что товарищ идет правильной дорогой. Так, следуя усиливающемуся запаху, герцог и проследовал к повозке… как его? Имя снова вылетело из головы. В нетерпеливом мозгу возникало гастрономическое: Куроощипамус?
Свинозажарямус? Гусеосожрамус? все не то! Герцог плюнул, перекрестился и бухнул наудачу:
«Козанострадамус!» — и попал. Бог в беде не оставил. Занавесь повозки заколыхалась, отодвинулась, амброзиоподобный запах вынырнул из глубин походной лаборатории, свалил рыцаря на привычные к чудесам колени, старикан-ученый возник в проеме в клубах дыма и аромата, держа в руках блюдо с… С колен было не видно, чем.
— Готово?
— Сделано! Точно по рецепту. Язык древний, ирландские руны. Еле прочел. Здесь ровно два фунта.
Полфунта перетягивало, крылышко пришлось самому съесть, — немного смазав концовку, торжественно изрек дед, суя под нос Дюренвалю блюдо с куропаткой. Запах достиг апогея, скрутил магистра, поднатужился и кувыркнул рыцаря в незапланированный восторженный обморок. «Что ж! — подумал герцог, уносясь из реальности, — с золотом опять прокольчик, так хоть позавтракаю». Очнувшись, он так и сделал. И сделал бы еще и еще, но птичка кончилась. Тут он вспомнил нечто, заставившее желудок тревожно заныть: автора рецепта сего чуда еды в настоящий момент доламывают на дыбе, или — о, ужас! — он уже вовсе помер, и ничего столь же восхитительного больше никогда не создаст. Ноги вдруг ожили, распружинились, понесли, из глотки хлестанул крик: «Сто-ой!» Кому следовало стоять, было не ясно.
Сам магистр, наоборот, бежал — и пребыстро — в сторону пыточного подвала, маша огрызком птичкиной ляжки. Сейчас его не остановил бы и сам Господь, не то что Архангел Гавриил. Золото из грез пожало плечами и скрылось в мире снов, скорбя о собственной несъедобности.
В дыбную гурманоборец вкатился. Он, конечно, забыл о двух несуществующих ступеньках на лестнице, ведущей в пыталище. Достоинство было смято, раздавлено и отпущено в увольнительную, но не пыл. Экзекуторы, работавшие вторые сутки сверхурочно в связи с накопившимися за время загула начальника несознанцами, растерялись и не воспротивились, когда набарахтавшийся на немодном скользком полу магистр встал, наконец, и заявил, что конфискует двух особо закоренелых колдунов, кузнеца и его жену, для нужд Ордена далматинцев. Они, якобы, будут образцово-показательно замучены высококлассными специалистами с последующим сожжением предпоследних. Главпалач энд сослуживцы почесали провинциальные колпаки и посмотрели на висящую парочку. К этому времени над ними изрядно потрудились. Адель болталась на перекладине, привязанная за кисти завернутых назад рук и выглядела крайне неаппетитно. Из одежды на себе она имела только красный от крови кляп, попрежнему затыкавший не в меру непочтительный рот. По ее голому телу бежали с разной скоростью несимпатичные жидкости, начиная от пота и крови и кончая менее эстетичными. Длинные красные глаза злобно сверкали. Каяться данная ведьма явно не собиралась. Пожалуй, одолеть настолько закоренелую клиентку провинциальным экзекуторам и правда было не под силу. Кузнец, напротив, висел смирно, как агнец после заклания. Его фиолетовые глазки сочились мудростью и боголюбием. Пожалуй, этого уже пора было бы и сжигать, но для гарантии к нему применили усиленное дыбление: ноги связали в щиколотках, в образовавшееся таким образом живое кольцо просунули толстенное бревно, повисшее вместе с колдуном метрах в полутора от камней пола. За один конец бревно придерживал здоровенный палачище, на другом, свободно плавающем в воздухе, палачишко пониже и половчее танцевал джигу.
Процедура называлась «виска со встряской». Кузнец от нее изрядно удлинился и совершенно раскаялся в чем-то. В чем, значения ни для кого не имело. Игра была старая, и все прекрасно знали правила. От него, как и от Адель, преизрядно воняло.
Дюренваль, узря такое небережливое отношение к источнику кулинарной информации непередаваемой ценности, просто взбеленился. Он заорал, что Гвидо-де узурпировал права на особо опасных колдунов, исконно принадлежавшие Ордену, что Господь не простит ему самодеятельности и местнической самонадеянности, а Великий Магистр лично выпотрошит его с подчиненными, а после срежет им головы по самые пятки. Пьяноватый по причине вечного опохмела Гвидо мыкал и пукал со страха и, стеная, собственноручно снимал Тролля с Аделиной с дыб. Пьер ласково улыбнулся ему, а Адель ногой выбила три передних зуба и один коренной. Главпалач терпел и молился Господу, чтоб пронесло. Супругов возложили на носилки и направили наверх, к солнышку. На прощание Гвидо шепнул кузнецу, брызгая кровью: «Ты того, парень, не серчай, что мы тебя этому извергу отдаем. Наше дело подневольное: откажемся — сами тут повиснем. Я знаю, ты мужик хороший, мы с тобой сегодня бы уж и закончили к общему удовольствию, а в воскресенье сожгли бы, как человека. А этот зверь как начнет мучить — у-у-у! Одно слово — садюга столичная. Прощай, братец! Не поминай лихом». Сердобольный палач ласково похлопал Пьера по ноге. Тот завыл. Так и удалились: впереди диссидент-магистр, пошедший против Ордена на поводу желудка, за ним, привязанные к носилкам, вертикально подымались по крутой лестнице с помощью недавних экзекуторов ужасные колдуны: воющий Тролль, полюбившийся начальству, плыл вверх головой, а вредная А — вниз, подметая рыжей гривой ступени.
Ценную в кулинарном отношении парочку загрузили в повозку, Дюренваль свистнул срочный сбор, дисциплинированные средние братья, младшие братья, подбратья и кандидаты в подбратья похватали кресты и то, что успели нагрести в городке за тридцать часов, и погрузились в кибитки. Свистнули, гикнули, осенили тех, кто попал под руку, крестным знамением, заскакали, затряслись по камешкам к городским воротам. «К чему такая спешка?» — подумал старый осторожный привратник, но ничего не спросил. Крестоносцы были воспитаны еще хуже трубадуров, могли и сжечь ненароком. Если же вы, уважаемый читатель, поинтересуетесь необходимостью столь быстрого и полного исчезновения Дюренваля с братией из Кордо, я сжигать никого не буду, а отвечу вежливо и откровенно. В те дикие времена герцог, хозяин замка, являлся полновластным владетелем как городка, так и любой твари, его населяющей. Вряд ли Альбрехту понравилось бы, что у него из-под носа увели дармовое развлечение, и намеченный праздничный костерок не возгорится. Конечно, дядюшка мог попросить дорого племянничка подарить нашу парочку Ордену для нужд. А если б Альбрехт заартачился? Нет, магистр не хотел рисковать. Кушанье, изготовленное по рецепту Тролля, произвело на рыцаря впечатление более сильное, чем первое причастие. По жизни Дюренваля влекли за собой две идеи, две лошади везли его энергичную карету по кривым ветвистым дорожкам бытия: религия и кулинария. Иногда они мирно скакали бок о бок, иногда разбегались по разным проселкам, и тогда более сильная в тот момент лошадь тащила за собой и рыцаря, и подругу послабее. На этот раз кулинарная коняга утянула из Корде всю компанию.
Ничего, потерпит Церковь, поносит еще земля парочку нехристей во благо верному слуге Господа, едущему, кстати говоря, отстаивать его, Господа, интересы в Палестине. Там трудно, там тяжко, там жарко, там опасно. Так пусть будет хотя бы вкусно.
Тролль и А, доедавшая кляп, катались по дну повозки, не зная еще об уготованной им милости судьбы. Они не подозревали, что едут не на усиленное пытание, а в Палестину, что за время долгой дороги старичок-алхимик вылечит их подпорченные дыбой тела, что они подружатся, и Пьер даже подарит лекарю рецепт изготовления золота из навоза, для конспирации написанный древнеирландскими рунами.
— Козанострадамус! — скажет кузнец, и сердце старика растеплеется от того, что нашелся человек, запомнивший его имя. — Дарю тебе это. Можешь состряпать пару фунтов Дюренвалю, если очень уж пристанет. Но лучше не надо. Он ничего себе мужик, но бывают заскоки на почве религии. Начнет на твое золото нехристей обращать в трупы. В общем, думай сам. Ты его дольше знаешь.
Речь сию Тролль произнесет месяца через два, а пока попрощаемся за него и за А со спящим городом: до свидания, Корде! Взрослей, Корде! Может быть, встретимся через пару веков, когда ты подобреешь к вечноживущим поэтам и рыжим хулиганкам.
51
Сочиняю сказку для Долли о печальном маленьком Тролле. Он меняет века и роли, дурой-смертью не обнаружен. Он тебе отчаянно нужен. А вокруг кружат вереницей Полублизкие полулица… Он, конечно, тебе приснится. И, конечно, уйдет с рассветом. Только ты не забудь об этом, заедая кефир омлетом. Не ругай себя идиоткой — жизнь бывает забавной теткой: шлак реальности разметает, в ткань банальности сны вплетает. Вдруг с рассветом Тролль не растает?Во сне Душа моя забыла про свою великую заразность, привалилась и привычно засопела в ухо. Мы с Титусом лежим по обе стороны от нее бесполезным караулом. Мы не в силах защитить Дольку от смерти и не в силах Дольку смерти отдать.
«Сочиняю сказку для Долли, чтоб она забыла о боли…»
Что я еще могу сделать? Впрочем, знаю: полы помыть и квартиру проветрить.
Хорошо было Гераклу: перегородил речку, направил поток воды в авгиевы конюшни, все само собой рассосалось. Повезло мужику — клиент на первом этаже жил, не на восьмом. Даже если Аида с сослуживцами в подвале и промочило, то он, как свидетельствуют легенды, претензий не предъявил и в гражданский суд заявления не подал. О долькиных соседях я знала только то, что они есть и с ней не здороваются, поэтому обострять отношения не решилась. Способ Геракла, несмотря на техническую простоту и доступность получения из крана водяного русла любого напора, толщины и даже температуры, не подходил. Пришлось применить дедовские методы: ведро и тряпку. Это меня здорово задержало, несколько часов провозилась. Не успела закончить — в дверь позвонили. Может, соседи замокли? Открываю — Катюха. Волосы окрашены двухцветно, спирально. От макушки развивается к периферии синяя спиралька, ее оттеняет внутренняя фиолетовая. Кончики волос искупаны в золотом.
Пособие по оптическим эффектам, а не женщина. Спрашивает:
— Как она?
— Как покойник, отпущенный с кладбища на побывку, — врать не хочется, и щадить кэтовы нервы тоже. Наплевать-ка на нее для разнообразия.
— Работать может?
— Экспонатом в анатомическом театре. Ты за этим пришла? До свидания. Топай к Илюшеньке.
— Передай Долли, она еще не видела, — Кэт лезет в сумочку, достает компакт, протягивает мне. На компакте — картинка: концерт давно закончен. Очень давно: белый атласный занавес заледенел, сцена запорошена снегом. На сцене — белый рояль. На его заснеженной крышке по-турецки сидит Долли в великолепном перламутровом платье. Плечи голые, но ей не холодно — она захвачена книгой, которую держит в руках. Книга яркая, цветная, огромная, на обложке — заглавие «Сказки». Белые софиты, белые цветы, сверкающие сосульки. Долли — часть натюрморта, его холодной, снежной чистоты. Даже упрямые рыжие кудри сдались: их закатали в култышку, и они больше не горят, не греют. Им не растопить льда.
Может быть, это удастся книге? Долли здесь новая, не та, она отстраненная и далекая. Персонаж, идея, а не живой человек. Я не хочу такую Дольку. Она не имеет права становиться такой. Мелкими синими буквами тонет в снегу название группы: «Бергамот по средам». Яркими красными пылает, прожигая белизну, имя альбома: «Сказки Тролля». Мне становится нехорошо.
— Почему вы его так назвали? — спрашиваю.
— Долли предложила, — пожимает плечами Кэт. — Илье понравилось, ребятам тоже. Ты разве против?
Молчу, потому что реву. Катька меня обнимает, гладит по голове, объясняет виновато:
— Ты не думай, я понимаю, что мы сволочи безнадежные, заездили ее совсем. Но ведь она сама этого хотела, Илья бы за альбом ни за что не взялся, если б вы не настояли. А теперь уже почти все сделано, осталось чуть-чуть. Мы и концерты отменили, чтоб ее не мучить, и презентации не будет. Но клип! Его обязательно нужно снять, без него никак. Все подготовлено, оператор на камере сидит, режиссер сценарий доедает. Павильон ждет, декорации смонтированы. Долли только полденечка поработает — и ладушки. Можно, я с ней поговорю? Она успокоилась, не будет больше меня пугать? Она спит? Да что с тобой такое!
Продолжаю рыдать. Катюха вдруг пугается, бросает меня в прихожей, скачет в комнату к спящей Долли. Через пару секунд выходит. На доброй круглой морде ужас и растерянность.
— Кто это там? А Долли где? — в голосе Катюхи безнадежная мольба. Ничем не могу помочь, подруга. Ты и сама все понимаешь.
Омерзительная штука смерть, правда, Кэт?
52
Гример отказалась работать с Долли. Та взялась за дело сама. Сидим в гримуборной, через полчаса — съемка. Долька перед зеркалом, в ее распоряжении сотни две баночек, тюбиков, коробочек, кисточек и других приспособ для обдуривания зрителей. Она орудует ими страстно и довольно ловко. Накануне, налюбовавшись обложкой компакта и до тошноты наслушавшись божественных звуков, изливающихся с его поверхности, она решительно заявила, что не упустит возможности сняться в клипе. Сегодня утром встала, почти не шатаясь, залезла в какую-то одежду, созвонилась с продюсером и потащила меня в павильон.
— Долька, можно спросить одну вещь?
— Тебе все можно.
— Зачем нужен клип? По-моему, это лишний труд. Альбом получился чудесный, он в момент разойдется и без рекламы. Люди ведь не глухие идиоты, хоть иногда так и кажется.
— А почему родители стараются отдать талантливых детей в хорошую школу? Если по-твоему рассуждать, то их и вовсе учить не надо, сами все сообразят. Я вложу в нашего детеныша то, что успею.
Пока могу, я буду с ним, — она сосредоточенно красится. — И ты увидишь этот клип лет через десять в передаче «Ретро-шлягер» и вспомнишь, как какая-то рыжая зараза заставила тебя научиться писать хиты.
Смотри, так хорошо?
Долька закончила рисовать лицо. Я уже, оказывается, забыла, какая она красивая. Так и говорю:
— Ты самая красивая зараза в мире!
Долли встает, гордо встряхивает буклями парика, небрежно хлопает ладонью по несуществующей кобуре на бедре и цедит:
— Пойдем, приятель, сделаем этот клип!
Она его сделает.
53
О, ты, Вечерняя Верхняя Салда! Летняя, умиротворенная, комариная. Верная маленькая речка Салдинка, перегороженная плотиной в год твоего рождения, накопила среди тебя огромный прудище воды, вечной, как время и грязной, как сплетни. По сравнению с веком воды, задерживающейся на минутку в городском теле и следующей далее, в куда-то, верхнесалдинские два с половиной века кажутся сопливыми наивными угланами, но все же и ты, моя домоватая подруга, кое-что повидала. Топтал когдато новенькие мостовые дядька Демидов, парил черный дым юного бюстозавода, проезжал в нерастаможенном мерсе первый на Урале новый русский. Время порядком облупило штукатурку на физиономии города, но добавило крепости и букета его уральской самости. Верхняя Салда стала личностью, с чем нельзя поздравить множество молодых, навороченных городов. Она обрела душу, не зависящую от мимолетных поползновений желающих видоизменить ее людей. Держись, подруга, крепче за старинную землю! Они скоро помрут, а ты — нет. Впрочем, ты уж, небось, и привыкла.
Тролль и А чинно проветривались вдоль набережной пруда. Здесь вечерами выгуливались те, кто считал себя местной элитой: банковские клеркши, директор среднего лицея с супругой и секретаршей, батько салдинского казачьего войска с нагайкой, гениальный художник Повойко в поисках натуры, голубые друг с другом, зеленые с красными, и случайно заблудившийся в России австралийский турист.
Почтенная публика вкушала мороженое, вдыхала комаров, впирала очи в туманные поверхности пруда, несла интеллигентную чушь, была благообразна, мила, фальшива, пуста и ярко наряжена. Тролль знал ее такой всегда. Если что и не менялось в мире, так то гуляющая публика. Стасик с удовольствием ощущал себя законным стеклышком общего витража. Правда, немного и как всегда подкачала Аделина. В этом веке ее внешность неожиданно совпала с идеалом женской красоты. Мужчины лизали глазами ее ноги и прочие составные прелести. Аделина забавлялась, Тролль злился. Выделяться он не любил, а А была его частью.
— Пойдем отсюда, — он не выдержал.
— Куда? — небрежно бросила А, не прерывая утонченнейшего развлечения: она отрабатывала походку манекенщицы после второго стакана спирта. Получалось неплохо: самцы клевали.
— К Никитичу. Я совсем старика забросил.
— Бедный дедушка! А он кто?
— Увидишь.
Парочка догуляла до конца набережной, прихватила водку в киоске и свернула с густо избрызганных рекламным неоном улиц центра культурного в центр исторический. Здесь не сверкало, веяло затхлостью, забвением и дощатыми туалетами. На облезлых домах красовались таблички и надписи: «Здесь безвинно творил и прозябал измученный самодержавием великий местный поэт Исписалово-Страницин», «Супермаркет», «Губернатор, давай поменяемся квартирами! Доплачу натурой», «Цой и Ленин — вечноживые близнецы-братья», «Рокер Федя съел медведя», «Да здравствует партия национал-эксгибиционизма!», «Макдональдс», «Люся! Я вернулся. Твой лапуся». Разнообразно пьяные аборигены отмечали кончину очередного дня массовыми игрищами, состоявшими в наставлении на тела соседей синяков, фонарей, бланшей, слив и прочих украшений. Потом кончился и исторический центр, раскинулся под ногами пустырь, бывший графский сад. Над ним царил некогда одушевлявший его цветочно-кустовую плоскость, а ныне разрушенный особняк Задунай-Передволжских. Второй этаж некогда гордого здания полностью канул в Лету, первый, униженный старостью, дурашливо хлопал вертикальными веками чудом сохранившихся ставен, был темен, свистел щелями в стенах, тоскливо разевал бездверые дверные проемы, зазывая случайных прохожих хотя бы пописать с удобствами. Если бы путник, оправившись, дал бы себе труд оглядеться и пошарить потщательнее, он нашел бы и другие следы посещения этого места людьми, помимо испражнений и запаха. В помещении, бывшем сотню лет назад кухней, имелся в полу люк, ведущий в когда-то кладовую, а теперь просто — подвал, каменный, добротный, крысиный. Под самым сводом подвала почти по верхней границе стен имелись маленькие окошечки, порой, в особенно солнечные дни, довольно сносно освещавшие его внутренности. Сейчас укоренился поздний вечер, и Тролль и А, спустившиеся внутрь по лестнице, могли бы не увидеть вообще ничего, если б не другой источник света, бодро справлявшийся с затхлой тьмой костерок жильцовнаркоманов. Костерок, помимо освещения, работал еще и кухонной плитой, на нем жарилось мясо, капая жиром в огонь и шипя. А принюхалась и определила:
— Собака. И жирная, хозяйская наверно. Мы к ним? Что-то есть хочется.
— Нет. Эй, браток, — обратился Стасик к оборотившемуся на голос А наркоману, — Никитич дома?
— Спит хозяин. Вон там, в шифоньере, — «браток» вяло мотнул острой мордой в темный угол.
Гости отправились туда, благо ориентировались в темноте неплохо. В углу Тролль обнаружил лежавший на спине старинный резной шкаф из толстого дуба, А по запаху нашла свечи, спички, запалила огонек, подала Стасику. Он подергал прикрытые дверцы шкафа — заперто. Ключ не торчит, похоже, заперто изнутри. Постучим.
— Никитич! Мы выпить принесли. Вставай.
— Всегда готов.
Дверцы распахнулись, волосатый и измятый Никитич восстал из шкафа. Вернее, воссел в нем.
— О! Здесь дамы.
— Всего одна, — пунктуальная сегодня А присела в реверансе. — Аделина. — Каблук подвернулся, она завалилась к Никитичу в руки, доставив старику немалое удовольствие. Тролль чувствовал, что они понравились друг другу, глубокий старик пятидесяти лет и девушка, прожившая этих лет не одну тысячу.
Почему-то стало грустно. Когда А находилась рядом, его часто прошибало на немотивированные эмоции.
Аделина выбралась из ящика, подала тонкую руку Никитичу. Тот щедро облобызал нежную длань, потом тяжело оперся на нее, выкарабкиваясь из сейфокровати. Быстренько накрыли на ящик, попросили взаймы у жильцов пару собачьих шашлыков на закусь, разлили по емкостям и выпили за дона Педро.
Потом жахнули за знакомство. После тяпнули, зюзюкнули, вмазали, шарахнули, хапнули, шибанули, опрокинули, залили по самое горлышко и сверху насыпали горку. Принесенная бутылка давно закончилась, Никитич выкопал трехлитровую банищу самогона, купленную на заработанные попрошайничеством бабки у знакомой бабки. Банка стояла на каменном полу, блестела загадочно и влажно. Имела полное право — жидкость, переливавшаяся из нее в собутыльников, действовала на манер волшебного эликсира. Резковатые черты Аделины слегка расплылись, разгладились, из-под обычной агрессивно-развеселой маски высунули грустные умные морды тревога, неуверенность и безнадежность.
Никитич скинул десяток-другой лет, неустроенность и неухоженность и глядел Гоголем, юным и наглым, у которого вся слава впереди, и он об этом знает. Тролль… Что Тролль? Он не изменился.
Разговор с тем проходных перебрался на философские. Или житейские? Впрочем, это одно и то же.
Вел беседу Никитич.
— К примеру, зачем человеку бессмертие? Ты знаешь, сколько твоему приятелю лет? — обратился он к Аделине.
— Примерно, плюс-минус несколько веков. Я сама вроде него.
— Тоже бессмертная?
— Смертная. Но вечная, — усмехнулась А.
— Не может быть! Ты баба нормальная, настоящая. Не то, что он, — Никитич пренебрежительно ткнул пальцем в живот Стасику. — Зря ты с ним связалась. Разве ж это человек? Неладно с ним.
— Что ж со мной неладного? — полюбопытствовал Тролль, ничуть не обидевшийся на старика. — Вроде все на месте, все как у других.
Никитич тяжело развернулся к нему ревматическим туловищем. Хлипкий ящик под ним затрещал.
Бомж долгонько смотрел на Тролля, потом вздохнул:
— Не понимаешь. Конечно, где тебе. Ты оттого и вечный, что ни живой, ни мертвый. Наблюдаешь, себя не тратишь. С чего бы тебе умереть? Через все века целенький проходишь. Сколько тебя знаю, ты ничему по-настоящему не обрадовался, не удивился, не огорчился. Кирпич по башке стукнет — только улыбнешься да плечами пожмешь. На Аделину погляди: такая красавица, любит за что-то, ей виднее, за что. Порадуйся, люби ее тоже, будь счастлив! Ан, нет, бережешь себя, боишься потратиться. Нет в тебе жизни. Так, видимость одна. Голограмма, — ввернул Никитич ученое словцо.
— Ты тоже так считаешь? — Тролль посмотрел на А. Она напряженно глядела на огонек свечи, не собираясь отвечать. — Ладно. Как нужно жить? — обратился он к Никитичу. — Извини, но и ты не особенно похож на счастливого. Стоило ли огород городить ради такого финала?
— Дурак бессмертный! — плюнул бомж. — Разве живут с какой-то целью? Глупости это. Бред. С какой целью можно любить? Работать, если работа по душе? Детей рожать? Думаешь, ради того, чтобы спокойную старость обеспечить? Что старость — несколько лет маразма. Имею право так говорить: был и молодым, и старым. А ты не будешь, нет. Не дано тебе. Ни то, ни другое.
— Какой ты был в молодости, Никитич? — спросила вдруг А, подняв глаза от свечки. В них еще не погас ее отблеск.
— Тоже дурак, конечно. Но искренний, — старик усмехнулся. — Многое имел: работу, семью. Дочку.
Влезет на руки, прижмется крепко, волосы младенчиком пахнут. «Папка мой!» — говорит. — Он замолчал, щурился, вспоминая.
— Где же она теперь? — прервал Тролль бомжевы грезы. Аделина зло зыркнула на вечного скептика.
— Случай все испортил. Я в молодости спортсменом был, лыжником. Мастер спорта международного класса. Загранпоездки, слава, деньги. Дома семья ждет. Я их не обижал, любил. Приеду с подарками, в доме радость, праздник. Бац — травма. И все. Из спорта ушел, конечно. Запил, озверел. Опустился. Семья пробовала поддержать, да я тогда любого врагом считал. Так казалось. Короче, расстались мы. После тоже женщины встречались, и дети рождались, но уже не то, не так, как в первый раз. А я так устроен — либо на полную катушку, либо рваную дерюжку. На серединке не держусь. Вот и живу один.
— Может, легче ничего не иметь, чем все потерять? — сказал Стасик.
— Врешь парень! Страх в тебе говорит, а не сердце. Я любые свои три года, даже теперешние, на твои триста не променял бы. — Тролль улыбнулся, пожал плечами.
— Сам видишь, — с жалостью констатировал седой бомж, — нечего тебе сказать. Я-то потерял, да не совсем: память осталась. А тебе за тысячу лет ни вспомнить нечего, ни забыть. Не нужна мне такая вечность, пошла она к чертям. Давайте-ка лучше выпьем за дона Педро, царствие ему небесное, да топайте домой. Не те мои годы, чтобы по ночам кутить.
Тяпнули на посошок, гости встали. Согреваемый снизу мерцающими огоньками свечей лохматый старик, сросшийся со стулом-ящиком, сам казался троллем, но не тем, нашим, а настоящим. Древним существом из скандинавских саг. Маленьким утесом, поросшим елками и опятами, потрескавшимся от времени, ужасно каменным и удивительно живым одновременно.
— Заходи, дочка, — сказал он А. — Хлебнешь ты с этим сфинксом.
— Не такой уж он и сфинкс, больше прикидывается, — Аделина нагнулась, поцеловала старика в немытую физиономию. — Мы зайдем.
Тролль и А поднялись наверх, в ночь, оборачивающуюся утром, и влились в редкие ряды придурков, бороздящих в сию нелюдскую пору спящие улочки Верхней Салды. Домой не хотелось.
— А, помнишь, как мы впервые встретились?
— Конечно.
— Почему ты исчезла тогда? Что случилось?
— Умерла, как обычно. Ты ушел на рыбалку, я заскучала и решила развлечься: поглядеть, как там мое племя поживает, может, с голоду подохло. Я у тебя многому научилась. Дай, думаю, поймаю оленя, им подкину, а потом вернусь. Пусть пообедают раз в жизни по-настоящему. Оленя убила, да, видно, неосторожна была, я ж тогда топала, как бегемот. Подошла слишком близко. Они меня и поймали и порезали на ленточки за Бубен. То есть, наверное, порезали. Как убивали — помню, а потом — извини, не могу твое любопытство удовлетворить. Интересно, — А замолчала.
— Что?
— Раньше ты об этом не спрашивал. Ты изменился. Может быть, спасешь меня, наконец? Я ужасно устала умирать.
— Ты уверена, что хочешь этого? Вдруг мне придется измениться настолько, что мы не сумеем остаться вместе? И ты больше уже не родишься, проживешь длинную, но одну жизнь?
— Пусть так, пусть эта бесконечная гнусная чехарда хоть чем-нибудь закончится, — А заплакала.
— Слушай сказку, — Стасик на ходу обнял подружку за плечи и продолжил историю Лены и Долли с того момента, когда рыжая певица окончательно слегла в больницу помирать.
54
Конечно, клип ее доконал. Долька работала азартно и рьяно, как новопожалованный старшина, дотошно воплощая в жизнь великую маразматину, что накропал в ночи придурок-сценарист, и пропускала через себя многословные указания сбежавшего из психушки (делившего там одну койку со сценаристом) режиссера. Последний, наконец, натворился, изрек с апломбом: «Снято, всем спасибо!», силы Дольки разом кончились, она стала задыхаться, просела на пол, легла, горлом хлынула алая кровь. Сидящий в засаде конный полк медиков в инфекционных костюмах от Зайцева захватил съемочную площадку. Часть медиков несла за спиной ранцы, из коих по шлангам немедленно и шипя полилась, смывая в никуда, смертельную красную жидкость, вонючая пена. Другие, вооруженные носилками, склонились над падшей актрисой, застучав тупыми щитками, прозрачными, но надежно хранившими их врачебные очи от случайных брызг хлеставшего изо всех ее дырок яда. Недолго думая, вирусоборцы похватали бессознательную звезду за конечности и скоренько сгрузили в стоящую под парами машину. Я, ошалев от происходящего, успела, однако ж, впрыгнуть следом, и все помчалось мимо нас, мигая и воя: светофоры, авто, дома, прочая пестрая заоконная мазня. Я забилась в уголок, заткнула уши, засунула нос в колени, читала «Отче наш», чтобы ничего не знать, чтобы не со мной, не с Долькой, а — параллельно тряслась в «скорой», неслась по кривым коридорам стационара, норовившим сжаться, раздавить нашу кавалькаду, не пустить туда, где могут помочь…
Хотя помочь было нельзя.
Свистела, рассекая воздух, больничная каталка, толкаемая привычными руками медиков, я скакала следом, оставляя в цепких лапах поворотов вырванные с мясом кусочки реальности происходящего. Беспощадно сверкали плитки пола, неравномерно стучали мои каблуки (медики неслись бесшумно), напоминая не то ужас сердца перед инфарктом, не то — бой сошедших с ума ходиков. Ассоциация со временем вызвала тошноту. Я выскочила из туфлей и побежала было в тишине, но вместе с ней пришел и конец дороги. Долька с эскортом пышно въехала в дверь реанимации, а меня туда не впустили. Я села на пол и завыла, как дурочка, разлученная с грезами. Проявились мудрые белые сестры, окружили заботой, запахом корвалола, пели в уши про хороший конец (разве бывает хороший конец?), спрашивали, качая тяжелыми головами, кем прихожусь больной. «Всем», — глупо и правдиво ответствовала я и взревела с новым усердием, от горя потеряв бдительность. Тут же ловкие сирены вкатили укол. Успокаивающий, как стало ясно из воспоследовавшего сна.
Когда глаза, наконец, открылись, они уперлись в нависшую над кроватью громаду самой толстой из сирен.
— Долли очнулась, хочет вас видеть. Идемте, провожу.
Я злобно вскочила, крыша мигом съехала, и я тяпнулась носом в заботливо поставленные кем-то рядом с койкой отверженные туфли. Тьфу ты! Распылю гадость на микроны. Сначала на четвереньках, после, как нормальные приматы — на нижних конечностях вслед за сестрой босиком добрела до долькиной палаты. Они поместили ее в бункер строгого режима. Передняя стена была прозрачной, но сути это не меняло. Охрана в спецкостюмах, запрещающие знаки на дверях: мою бедную девочку надежно изолировали от остального, пока здорового мира. Будто боялись, что опасная больная как выскочит, как начнет всех заражать! А она лежала за толстым стеклом, и сил ее хватило только на то, чтобы слегка загнуть острую рожицу в мою сторону и улыбнуться. Я дернулась от прикосновения — толстая сестра предложила обрядиться в инфекционный скафандр.
— Зачем? Долли не станет плеваться кровью.
— Ваши микробы для нее смертельны.
Неужели! А собственные не смертельны! Но логика здесь присутствовала. Ладно, надену. Через шлюз меня запустили в палату. Статуей Командора дошаркала до кровати.
— Привет, — голос из-под щитка зазвучал глухо и до мерзости безразлично.
Долька, покорно лежавшая на больничной койке, как приготовленная для глажения юбка, утыканная иголками, обвитая гибкими шлангами и проводками, подключенная к бойко подмигивающим и щедро отмеряющим что-то аппаратам, молчала и глядела с укором воспаленными глазами. «Она думает, я ее боюсь!» — хлестанула по щеками, приводя в чувство, жесткая мысль. Остатки навязанного сна и врожденной тупости улетучились, морда вспыхнула: стало ужасно стыдно. Моя Долли умирает, а я тут играю по чьим-то дурацким правилам. Я довольно шустро вылезла из пошлого карнавального костюма, хотела было обнять ее, но началась потеха: заскочили в бокс два здоровенных санитара, один держал шприц (ну уж нет!), и ринулись в бой — изымать с доверенного объекта нестерильный предмет. То есть им казалось, что ринулись. На деле же парочка напоминала в своих доспехах братиков Брюквольда и Свеклольда, пытавшихся козырнуть рыцарской доблестью в условиях мастерской Тролля. Мне с давно не репетированным первым боксерским в два хука удалось нейтрализовать героев в нокаут. За стеклом шла отчаянная суетня, собирались свежие силы. Богатыри ровно дышали на гостеприимном полу, мои кулаки, стосковавшиеся по ратному труду, нетерпеливо зудели, ноги пружинили в стойке. За спиной слабо кудахтала Долька. К сожалению, побиться вволю не удалось. Явился к всполошенному персоналу наш старый союзник — главдоктор Айболит, и все утихло. Видимо, он скомандовал разрешить меня в палате в натуральном виде. Зашли лишь безоружные (без шприца) санитары пожиже прежних, сделали успокаивающие пасы, прогудели беззлобно: «Порядок, оставайтесь», выволокли раненых с поля битвы.
Я, наконец, повернулась к Долли и присела на кровать.
— Извини, что задержалась. Еще раз привет?
— Теперь привет, — прохрипела звезда. — Ничего, главное — ты здесь. Стало почти не страшно. Почти весело. И спектакль понравился.
Я осторожно взяла Дольку за чудом оставленные медиками на свободе кончики пальцев, горячих, как галька на берегу пересохшего от жажды моря, наклонилась к ее лицу, но целовать не стала: Геничка ждал возвращения здоровой мамочки. Кожа ее воспалилась, покрылась красными мокрыми пятнами.
Губы напоминали гноящие куски мяса — кожа их покинула. Изо рта шел трупный запах. Я здоровой, без единого прыщика, щекой на мгновение прижалась к какому-то влажному и жаркому сегменту долькиной рожицы, стараясь дышать микробами в сторону, потом вернулась в вертикальное положение. Щеку, прикоснувшуюся к лицу Долли, жгла ее боль.
— Вот и все, да? Как быстро, — Долька попыталась улыбнуться. Трубки в носу шевелились. — Хочу сказать спасибо, пока еще могу. Не прыгай, знаю, что уже конец. Обидно, правда? Только начала жить, научилась чуть-чуть. Последние полгода — так здорово! И альбом, и ребята, — она сделала паузу — задыхалась. — И ты. Спасибо тебе. Все ничего, но так жаль расставаться! Как думаешь, мы встретимся с той стороны?
— Обязательно. Ты ведь меня подождешь? Не улетай далеко.
— Конечно. Не торопись.
Ее пальцы поцарапали мою ладонь и замерли: Долли отключилась. Она еще приходила в сознание, но говорить уже не могла, ловила меня взглядом, найдя, успокаивалась и опять проваливалась, уносилась на ту сторону, в боль и ужас умирания. Потом она и глаза открывать перестала, лежала тихонько не металась, не бредила. Долькина хулиганская жизнь покидала тело без пошлой суетни, чинно и благопристойно. В палату прикатили для меня кушетку, но я не могла спать, глядела на Долли, гладила ее жгущие пальцы. Плакать не смела, почему-то знала, что она почувствует. Есть не хотелось, а умывальник и туалет обнаружились тут же, в боксе. Выходить из него необходимости не было. Счет времени я потеряла, сжалась в точку в самом укромном закутке собственного существа. Что было довольно сложно, между прочим. Меня постоянно дергали, сгоняли с законного места рядом с Долькой.
К ней, как к святым мощам, паломничали все, кому не лень. Проходной двор, объединенный с музеем, а не палата. Если б посетителям продавать билеты, артистка заработала бы на двойные усиленные похороны королевского масштаба, а не на ту ерунду, о которой мечтала в телевизор. Студенты с любопытством, сестры с процедурами, профессора с научными амбициями в сюрреалистических одеждах вились над пациенткой, как мухи над помойкой. Приходили и просто гости. Осчастливили мамуля с отчимом, но в палату почему-то не зашли. Постояли за стеклом и удалились. Может, меня забоялись?
Забрела на ватных ногах Катюха, покосила горестно глазищами из-под щитка, потом сбежала. Явился однажды пожарник проверять технику безопасности. Выяснилось, однако, что это замаскированный журналист из желтой газетенки. Мне посоветовали дать гражданину в морду. Я дала, но по шее — на морде болтался пластик. Псевдопожарника выволокли наружу. Запомнился еще один субъект. Высокий, ловкий даже в спецкостюме, блондин, слишком молодой, чтобы вызывать к себе то уважение, даже поклонение, которое выказывал ему персонал во главе с Айболитом. Сей красавчик спрашивал о состоянии больной, а сам глазел на исключительно меня, будто на Мадонну какую эстрадную.
Естественно, я была дивно хороша: неделю не мытая, не етая, не переодетая. Злая, как сто чертей. Его откровенно любопытствующий, совершенно не к ситуации мужской взгляд разбудил во мне вместо законной женской гордости притихшее было от усталости чудовище тревоги и напряжения. Долькин лечащий врач, Айболит, между тем воодушевленно гудел сквозь каску, адресуясь к дорогому гостю:
«…Уникальный случай!.. Полгода без поддерживающей терапии!.. ложиться категорически отказывалась!.. естественно, вторичные инфекции… нарастающая сердечная недостаточность… может быть, но маловероятно… несколько часов…» Гадкие медицинские слова соляной кислотой прожигали мои годами возводимые защиты. Голодная зверюга паники ринулась в образовавшийся проем, обдирая мощные жирные плечи обломками кирпичей псевдо-покоя (не со мной, не с Долькой!), рухнула в берлогу сознания, накинулась, выкусывая сочные и дергающиеся в агонии клочки разума и логики. Странный гость чему-то улыбался, кивал удовлетворенно, посматривал на меня, будто радовался: «Ух ты, как ее перекосило! А еще гримаску? Вот-вот! И побольше пены в уголках рта!» Я бы его убила от полноты ощущений, но чувствовала, что это по какой-то причине невозможно. Нельзя — и все. Без вопросов.
Ладно, на нет и суда нет. Пусть тогда убирается из палаты к своим чертям, Мефистофель белобрысый!
Будто поняв, что от него здесь хотят, мерзкий доктор прервал излияния Айболита, построил того в колонну по четыре и вывел из бункера. Разоблачившись, фамильярно помахал нам, дамам, из-за стекла и, вконец распоясавшись, послал воздушный поцелуй. Тьфу, нечисть! Сгинь, сгинь!
Я водрузилась на любимое место, взяла Дольку за руку, попыталась расслабиться. Поко-ой! Где ты?
Ау! Нет ответа. Тихо, зубы, не стучите. Все пока в порядке, девочка моя жива, слышите, как дышит?
Хрипло, конечно, но дышит ведь. Еще рано сходить с ума, еще можно подождать метаться, нужно отвлечься, ведь она непременно почувствует этот черный страх, запереживает. Успокоиться, расслабиться, вспомнить о хорошем, светлом: лете, детстве, теплой щечке Генички у груди… Где ты, Геничка? Помоги маме!..
Изорванное сознание, не в силах больше управлять телом, покинуло его вожделенную некогда территорию, смылось то ли в психсанаторий лечиться, то ли в астрал летать. Но верная Душа осталась и прикрыла осиротевшие останки одеялом сна. Я отключилась, как была: сидючи столбиком на койке, схватившись за лапу некогда рыжей хулиганки.
Кто мне приснился?
Правильно, Тролль.
Он был я.
55
Средневековье. Город. Утро. Мор. Разложение. Чума.Выворачивающий сознание сладкий аромат смерти. Крысы и птицы активно пожирают трупы, с удобствами гниющие в разнообразных позах на улицах и в домах. Адская для этих мест жара. Тролль потерянно бродит между мертвецами, тупо тычется в их достойные физиономии, в низкие окошки, заглядывает под дощатые столы рыночных рядов, топчет тонкие веточки переулков — ищет свою Душу.
Она непременно где-то здесь, но ее нет. Тролль начинает волноваться, суетится, нарушая мудрый покой людей, вернувшихся в естественное состояние — состояние небытия. Он принюхивается, нахохливается, дыбит остатки шерсти, вспоминая звериные приемы поиска. Ничего не помогает — среди трупов А нет.
Может быть, она еще жива и прячется? У нее это здорово получается. Тогда нужно удвоить усилия и тем более отыскать ее. Ведь А, конечно, уже заразилась, а умереть ей полагается у него на руках, таковы законы сказки. После он похоронит и оплачет ее. Зачем Душа умирает? С этим всегда столько хлопот!
Сам Тролль никогда не болеет, разве что ломает иногда какую-нибудь ногу.
Наш бессмертный — не единственный живой субъект в городе. По узким улочкам изредка проползают открытые повозки. Мрачные крестьяне в сером вилами закидывают в них гниющие останки.
С трупов, как серьги с модницы, свешиваются тельца свирепых крыс, не желающих по чьей-то глупой прихоти потерять облюбованный на завтрак кусок. Крестьяне знают, что заразятся, но будут делать свою работу — таков приказ Герцога. За ослушание Герцог непременно заколет вместе с семейством, а Чума вдруг да и помилует по-королевски. Правда, жалость у страшной королевы особая: Черная Смерть может оставить заболевшему жизнь, но разум отнимет непременно. Вон они, помилованные, прыгают по мостовой, тревожат достоинство усопших: подкидывают вверх трупы, орут восторженно и бесперебойно, насилуют более или менее сохранившихся покойниц и другими нечеловеческими способами нарушают общественное уныние и торжественность. Воображают себя сверхсуществами, фаворитами страшной королевы — как же, им сама Смерть не страшна. Приходится вилами от них обороняться. Может быть, и слава Богу, что выживших — единицы.
Мор. Разложение. Чума. Вопят безумные придурки…Ай, Ангел Сна! Ты что, издеваешься? Я-то рассчитывала на скучноватую пастораль: цветочки, птички, пастушок с нагайкой, беременная пастушка с маргарином. Покой и отдохновение. Долго еще предполагается смотреть глазами Тролля сей низкопробный триллер? Возьму и проснусь!
«Подожди!! — стонет во мне Тролль. — Я должен найти свою Душу!» Ладно, черт с тобой. Только быстро. Пожалуй, помогу для скорости. Подключаюсь к его нервной системе, счищаю дремотную паутину с эмоций. Где центр-то? Ну и хлам! Веками порядок не наводили. Собираю, что могу, в комок, вырываюсь в астрал. Расплываюсь над крышами, как нефть по заливу. Сканирую поверхность под собой, обширной. Вот и А, в каморке на чердаке. Ее насилует придурок из выживших. Концентрируюсь обратно в точку и возвращаюсь в Тролля. Беги, парень, спасай подружку! Совсем она не прячется, наоборот, зовет тебя, сигналит SOS по всем частотам, как тонущий радист. Не слышишь?! Говорят тебе, лети мухой, недотепа!
Гнусный фильм ускоряется. Тролль в панике несется к цели, бьется в паутине переулков, врывается в нужный дом. На чердаке, на скрипучей кровати — беспомощная А, над которой измывается переболевший садист. Он страшно доволен, что обнаружил в городе живую женщину. Насильник — так себе шварценегер, тщедушен и голоден, но страх его забрала Чума, и он стал опасен. Впрочем, Тролль справлялся и не с такими. Безумец вскоре оказывается на полу, прижатый к доскам уверенным коленом защитника дамы, но даже в столь беспомощном положении умудряется кусаться и подвывать. Тролль жалостливо вздыхает, — опасную тварь придется убрать, — и ловко ломает насильнику шею. Тот, естественно, умирает, но до конца не может поверить, что это случилось. Последний проблеск разума в неестественно развернутом лице — недоумение и ужас, что Смерть взяла-таки свое.
Победитель выкидывает труп на лестницу (мягкие, тяжелые, шмякающие звуки удаляются вниз), обнаруживает в комнате стул. Правда, предмет меблировки уже занят: на спинке висит аккуратно расправленный саван. А приготовила новое платье на последнюю вечеринку. Тролль бережно переносит мрачный наряд на подоконник, тщательно расправляет складки и, забыв про стул, присаживается к даме на кровать. Теперь он, наконец, решается на нее посмотреть.
А уже очень больна. Изуродована недугом. Голое тело разбухло, кожа натянута. Впервые за тысячу жизней она стала толстухой. Прямо на глазах кожа покрывается бубонами, те тут же с треском лопаются, разбрызгивая фонтанчики гноя. Поверхность будто кипит. Шея вздутая и синяя, лицо в пятнах. Из кратера полуоткрытого рта веет тленом. В щелочках глаз — злость и мольба. Чтобы не видеть их, Тролль наклоняется и целует больную в губы. Но А не хочет его губ, она хочет говорить.
А: Вылечи меня!
Тролль (будто не слышит): Здравствуй, любимая! Не могу смотреть, как ты мучаешься.
А (желчно): Не смотри! Закрой глаза и вспомни, в каком уголке своего существа похоронил великую силу, с ней ты сможешь меня спасти.
Тролль: Не умирай, любимая! На этот раз мы были вместе совсем недолго. Ужасно нечестно!
А: Вспомни и вылечи!
Тролль (причитает): Не уходи, худо одному! Ох и худо! Пло-охо-хо! Останься, а?
А: С удовольствием, если вылечишь, дурак бестолковый. Поторопись, уже почти поздно!
Тролль: Забыл, навсегда забыл… Как это делалось? Нет-нет-нет! Не стоит. Бесполезно и пытаться, зряшные надежды. Забыл навсегда… О-о-ой! Не помирай (громко рыдает, пытаясь заглушить голос А).
А (кричит): Больно! Страшно! Помоги!
Тролль (воет): Люблю, люблю!.. Люблю-люблю. Но все забыл (трясет немытой гривой в театральном отчаянии).
А: Врешь.
Тролль (скулит): Такая тоска… Все забыл… Все-все!
А: Стань собой, жалкая тварь! Хватит прятаться за стенами бессилия и предавать нас! Да как ты только смеешь опять прогонять меня через смерть? Сам бы разок попробовал! А если я не вернусь больше? Носись тогда один со своей возлюбленной тоской и никчемной вечностью!
Тролль (будто прислушиваясь): Ты что-то сказала, Душа моя? Нет, показалось. Где уж тут говорить, с такой-то шеей… Если б только мог, да разве б я не?.. Буду ждать, разумеется.
Шея А за время дружеской беседы, действительно, еще более распухла. Лимфатические узлы до того разрослись, что наверняка передавили горло. Возникает сомнение: а говорила ли Душа на самом деле?
Тролль нежно берет ее горячие руки в свои, искательно заглядывает в серые заплывшие глаза, будто хочет найти там слова прощания. Или прощения. Больная с презрением и жалостью смотрит на него. Она до судорог похожа на мою Дольку. То есть, я думаю, что если бы Долли умирала от чумы, а не от Rвируса, она выглядела бы так же. Часть черного отчаяния, бурлившего во мне, хлестанула через край и брызнула на крепкую броню Тролля. Он такого не ожидал, а если б и ожидал — что в том проку? От боли такого калибра защита не спасет. Прошибло мужика. Главное, он и понять-то ничего не может: что происходит? Так плохо оттого, что уходит А? Но она умирала и раньше. А черная боль нарастает, заглатывает Тролля целиком, уже одни пяточки торчат из смрадной пасти… Вдруг внутри него в ответ на насилие просыпается новый источник силы, да какой! Струя энергии вот-вот пробьет тонкую корку табу и смахнет к чертям, размажет изнутри по коже самое вечное существо вместе с атрибутами: взлелеянной веками личностью, тщательно оберегаемым полупокоем и приевшимся бессмертием. Моя боль, поджав хвост, с удивлением отступает перед силой-соперницей и возвращается в исходное сознание, но Троллю от этого не легче. Он пытается совладать с новым старым монстром, навсегда, как он думал, запертым в глубинах естества. Пока наш Геракл, скрипя зубами, борется с сим проявлением собственной природы, А незаметно отходит и сразу начинает разлагаться: жара. От бедняжки несет тухлятиной. Жужжат мухи.
Монстр, готовившийся пожрать хозяина, передумывает, сдается, покорно мявкает и ныряет в берлогу подсознания досыпать. Вулкан энергии стихает, на склонах, как напоминание, остается пепел жгучей, но привычной тоски. Тролль вздыхает с облегчением: пронесло. Виновато шепчет покойнице: «Прости, не могу. Люблю тебя». Целует в лоб. В ее глазницах свиваются в тугие лоснящиеся клубки белые черви, кожа начинает отслаиваться. Ползают жирные мухи. Он деловито пакует возлюбленную в приготовленный саван, выносит из дома. Снаружи мало что изменилось, но солнце поднялось повыше, телеги-труповозки разделились по цвету на черные и белые. Крестьяне-ассенизаторы куда-то пропали, мертвецов грузят на повозки Ангелы и Черти, бесплотные, но здоровущие, как культуристы. Они раскланиваются, обмениваются трофеями. В поисках добычи проходят сквозь стены домов. Нигде нельзя укрыться несчастному трупу! Ангелы и Черти роются в кучах людских останков, выискивая своих: одни — праведников, другие — грешников. Ведут себя с усопшими крайне бесцеремонно: тащат за отрывающиеся конечности, перекидывают друг другу. Беззлобно бранятся по поводу принадлежности конкретного экземпляра к категории плохих или хороших. Они — хозяева на улицах. Тролль, крадучись вдоль стен домов, несет на плече толстое тело А и боится, что Они отберут ее, пристроят на одну из телег. Но тех не интересует мертвая А, будто ее и нет вовсе. Она из другой сказки. Мухи и птицы, пожиратели падали, не столь разборчивы, вьются над головой, желают кушать. Им безразлично, кого жрать: возвышенного эльфа или замороженного мамонта. Мясо есть мясо. Одна чересчур наглая ворона, возмечтавшая на лету отъесть кусочек А, длинные нижние конечности которой торчат из савана, промахивается и шлепается под ноги Троллю на мостовую. Ей грустно. К тому же она получает пинок под зад, а это еще и обидно.
Вам не доводилось испробовать? Ворона, кувыркнувшись, с неудовольствием и странно знакомо склонив голову, глядит на взмокшего бессмертного, но он больше не отвлекается на мелочи. Спешит за город хоронить свою А. Неотвязная птица летит следом. Мало ей здесь трупов?
Вот и редкий лесок. Это полянка довольно мила, не правда ли, Душа моя? Тебе тут понравится.
Ноша спускается наземь, роется могилка. Лопаты, конечно, нет, но сухая почва будто сама расступается под руками. А уже в яме земля смыкается. Образуется холмик, покрывается травой и рыжими цветочками. Печальный, но удовлетворенный завершением важного дела, Тролль садится на зарастающую могилку и чувствует, что злые ростки толкают его снизу, щиплют за зад через штаны, спихивают с холмика. Теперь это их место, их законная добыча. Но он не встанет, он намерен ждать целую вечность, пока Душа вновь не вернется к нему. Упрямая ворона каркает где-то поблизости.
Цветочки, птички, мирный тлен, тихая грусть — я дождалась-таки желанной пасторали… …и тут же поняла, что у меня нет вечности, а у Дольки — другой жизни. Рванулась из вязкой паутины эмоций Тролля, сон задергался, пошли волны, помехи, «кину» — конец. Последним кадром четко проступил неожиданный здесь и строгий Геничка с вороной. Та сидела на его плече уверенно, как на толстой ветке дерева. Понятно, почему зверюга казалась знакомой — это птица Крак. Геничка улыбнулся ободряюще и мягко приказал: «Пора». Меня вышибло из остатков сна. Оказывается, я так и просидела столбиком все это время, держа Долли за руку. … а она умирала.
Долька, не уходи! Ты нужна мне.
А Душа его с ним играет и в руках всегда умирает.… Лети на небко…
Может, порыдать?
56
Хоть кто-то в этой долбаной больнице собирается спасать мою Дольку? Я отчаянно застучала по кнопкам вызова от «хочу пописать» до «мамочки, пожар!» На пульте, расположенном за стеклом бокса, лампочки замигали, как подвыпившая новогодняя гирлянда, но никто к нам не заспешил. Где эти сраные медики, спят что ли? Какое сейчас время суток, мне было неведомо: в отсутствие окон в палате постоянно горел ровный бесстрастный свет. Как на ринге. За стеклом же в настоящий момент было темновато, и видно хреновато, что там творится. Кажется, в тумане сумерек роились-таки смутные тени. Ага, одна отделилась от компании и ткнулась носом в невидимую стену. Знакомая образина! Со стороны отгородившегося от нас человечества насмешливо пялился на агонию больной и мое бессильное отчаяние суперкрасавец, лучезарное светило от науки и недавний посетитель в одном флаконе — чересчур белобрысый для черта Мефистофель. Взгляд его холодных очей внушал твердую уверенность в отсутствии поползновений врачей исполнить свой долг. К чему? Больная все одно помрет, рано или чуть позже. Лишние минуты бестолковой долькиной жизни нужны были только мне. Я, как обещала, опять схватилась за ее руку и приготовилась встречать вместе с ней гнусную гостью — Смерть. Я чувствовала, что похожу на Тролля из недавнего сна: ты помирай, а я провожу, поплачу, цветочки на могилку положу.
Не нужно было придумывать такую сказку, слишком она смахивает на правду. Между прочим, что там стонал главный герой? Кажется, «ужасно нечестно». Вот именно. И еще было: «Забыл, все забыл!» Интересно, о чем забыл?
Эта простая и вроде бы нейтральная мысль вдруг выскочила из сознания и пыточным колесом прокатилась по телу, ответившему невыносимой болью. Меня трясло, будто к каждой клеточке подсоединили персональные электроды. Самое забавное состояло в том, что я могла с этим справиться, но втыкать палки в пыточное колесо не стала. Боль работала на меня, она была необходима мне и, какимто образом, Дольке. Я это чуяла. Я что-то забыла, и я вспомню. Прятаться от себя и дальше на манер Тролля не представлялось достойным. Боль нарастала, подоспел на помощь где-то подзадержавшийся было ужас, парочка весело набросилась на бедное самодовольное некогда, а теперь смачно хрустевшее на зубах, сознание, пожрала, и родилась, наконец, истинная Я.
57
Правильнее сказать, проснулась. Поскольку была всегда. Блаженно потянулась (боль прошла), с восторгом расправила прежние, зачаточные ощущения, стряхивая остатки кокона. Бутончики новых возможностей с хлопком развернулись, демонстрируя броский аромат звуков, твердое стаккато поверхностей, мягкие дуги магнитных полей, жесткие капли квантов света, цветную мешанину салата людских эмоций и прочую мельтешню, густо заселяющую пространство. Все слоилось, накладывалось, агрессивно выпирало, куражилось, кружилось, поочередно высовывалось на первый план, оглушало, пугало, дико восхищало, вопило: «А вот еще я есть! Гляди-гляди, какое красивенькое» и хватало острыми зубками за полы одежд в ажитации, что нашелся некто, способный оценить безумную мистерию. Я в обалдении зажмурила уши, заткнула глаза и откусила нос. Не помогло. Жизнерадостное пространство лезло внутрь прямо через кожу. В отчаянии я скомандовала мирозданию: «Цыц!», и пространство подуспокоилось, умерило прыть и поступило на службу. Частично, разумеется.
А Долька моя тем временем умерла.
Я знала это наверняка, как и то, что могла в своем новом качестве ее вылечить. Требовалось проникнуть в ее организм через сенсоры — выходы нервной системы, — а те уже закрылись. Долька все еще находилась где-то там, в отказавшемся работать теле, но добраться к ней не представлялось возможным. Не пускали внутрь ее закрытые глаза, уснувшие чувствительные окончания на кончиках пальцев, на барабанных перепонках, в промежности. Не реагировали на раздражение рецепторы вкусовые и обонятельные, болевые и тактильные. Опять вспомнился сон. В астрал, что ли, выйти? Я раздвоилась: большая часть превратилась в энергию, языками протуберанцев облизывала остывающий Долькин труп в поисках контакта, меньшая, человекоподобная, продолжала держать покойницу за руку и поплакивать в духе Тролля «Ой, не помирай. Такая тоска!», а потом вдруг попросила: «Открой глаза, а?»
И моя уже минут пять как мертвая Долька открыла глаза.
Язычки энергии рванулись к сетчатке. Что-то там еще светилось, Долли ждала, непонятно какими усилиями сохраняя угольки жизни на донышке серых уснувших озер. Оттуда, с их дна, несколько приличных нервных дорог будто бы приглашали в путь, ведущий к пещере дракона смерти, с которым мне необходимо сразиться. Интересно, откуда она знала, что мне понадобится именно это?
Я нырнула.
58
Неизвестно, как я там себе воображала человека изнутри, но точно не так. Видимо, подсознание извернулось и, оберегая мозг от сумасшествия, представило дело аллегорически. Нервный путь действительно оказался обычной плохонькой дорогой века, быть может, восемнадцатого, просвещенного, но исключительно гужевого и верхового. Ни тебе асфальтобетона, ни монорельсового вагончика. Лошадь, к счастью, тоже поблизости не паслась (боюсь я их). Ладно, Долька, не смущайся. Знаю, ты старалась.
Спасибо, идти довольно удобно. Забыла сказать, я оказалась не сгустком энергии, а собой, любимой: дамой средних лет и атлетических наклонностей. На мне были: красный камзол, бархатные штаны с позументом, шляпа с павлиньим пером и — о, Боже! — алые ботфорты с широчайшими раструбами. Снять их я не решилась: вдруг здесь так принято? Шпаги не было. Щита, меча и миномета — тоже. Думаю, аллегорический дракон смерти, завидя столь скудно вооруженную и столь пышно разряженную рыцаршу, радостно запотирает лапы, решив, что к нему пришел праздничный именинный пирог. «Сожрет», — констатировала я и зарысила вперед. По счастью, ботфорты не мешали бежать.
Прыткие прутья кустов, толстые спины стволов постепенно сжали дорогу в узенький ручеек. Сбереженный Долькой путь исчезал, как только каблуки ботфортов отрывались от его поверхности. Она зарастала яркой и юркой травой. Интересно, обратно-то я как вернусь? Побежала быстрей. Замелькали по сторонам, возвышаясь над деревьями, крыши старинных зданий, ветхие, зеленые, замшелые. Иногда на полянке удавалось разглядеть какое-либо жилище целиком: ущербное, кособокое, безлюдное. Надо полагать, так выглядели в интерпретации местного декоратора изъеденные болезнью органы. Попадались реки — кровеносные сосуды, когда-то полноводные, а ныне заболоченные и мелкие, пескарю по щиколотку. Потом лес пропал. Остались позади изуродованные замки и избы. Путь, превратившийся в звериную тропу, вполз в сухой туман. Впрочем, это мог быть и дым. Вещество, сквозь которое вела тропа, не имело вкуса, запаха, цвета, влажности, плотности, температуры и прочих отличительных качеств, но оно было. Чувствовалось его странное прикосновение, равнодушное и неизбежное, точно взгляд рептилии. Порой окружающее пространство будто ежилось, бугрилось, подергивалось. Волнилось.
Бежать становилось то легче, то труднее, словно по или против течения. Неприятное ощущение: светлая живая пустота, дрожащая жилка тропки под ногами. Ни звуков, ни расстояния.
Последнее, впрочем, все же имелось: туман закончился. Похоже, я прибыла на место.
Ой, мамочка! Забери меня назад.
59
Допускаю, что раньше данная местность напоминала рай. Отчего б не допустить? В настоящий момент она больше смахивала на ад после веселого налета махновцев. Геничка называет подобное расположение предметов «небольшой беспорядок». Ветер, шорох, шелест, скрежет, скрип заполняли открывшуюся передо мной горную долину. Бесспорно, украшало ее отсутствие растительности, воды и нагромождение шевелящихся камней, срываемых некоей силой со склонов гор, и летящих и ползущих с разной скоростью (в зависимости от размеров) в темное, мрачное отверстие в скале, дыру в холсте творца безжизненного пейзажа. «Пещера дракона смерти», — догадалась я. Кажется, хозяин пещеры как раз делал вдох, попутно, вместе с воздухом, засасывая в ненасытные легкие окружающий мир. Обозримое пространство на глазах съеживалось, сдувалось, приближалось к отверстию. Меня почему-то не очень туда тянуло, как морально, так и физически. Но идти было нужно: я чувствовала, что Долька уже там.
Побрела ко входу, подталкиваемая в спину услужливым ветром. Какой-то прыткий камешек треснул меня по темечку, пролетая по своим делам в неприятную дыру. Его собрат покрупнее отдавил ногу в ботфорте. У входа я на миг задержалась, для чего-то засучила рукава камзола и, еще раз пожалев об отсутствии миномета, осторожно заглянула сбоку в отверстие.
Биться было не с кем. Сказочного дракона не существовало. Пещера оказалась туннелем. Прямо от входа, из каменной плоской скалы, фактически из ниоткуда, вытекал поток, медленный, тягучий, как кисель, беспощадный. Он занимал пространство туннеля от стены до стены (двигаться посуху вдоль него было невозможно), каменный свод потолка нависал метрах в двух от поверхности жидкости. Выход просматривался плоховато, но чувствовалось, что там, куда он выводит, черно, звездно, страшно и чуждо. А ближе к середине туннеля светились собственным светом рыжие волосы моей звезды. «Она ведь их остригла. Или нет?» — озадаченно подумала я, сняла шляпу, сапоги и шагнула в кисель.
Чтобы догнать рыжий огонек пришлось усердно грести. Конечности вязли в жидкости, несущей вместе со мной разнокалиберные камни-осколки здешнего мира. Независимо от размеров плыли они с равной скоростью, как айсберги, большая часть — под поверхностью, и не собирались тонуть. Может быть, плотность вещества, составлявшего поток, была выше их плотности, и камни выталкивало на поверхность, но, скорее всего, законы земной физики здесь не существовали: тело мое, теоретически существенно легче горной породы, де-факто погружалось в жидкость примерно в той же пропорции: голова и плечи над киселем, остальное изнутри. В свободное время я бы, конечно, всласть поэкспериментировала над удивительными свойствами потока, но сейчас мне предстояла другая задача: добраться до Дольки и вернуться назад с добычей. Если удастся.
«Привет. Я знала: ты успеешь», — проговорила она, когда я ее догнала, и заглянула мне в глаза. Лицо ее плыло. Глаза то сливались в одно длинное озеро, то рассоединялись. Нос гнулся, меняя форму, раздваивался. Рот то пропадал, то прорезывался вновь. Мерцающие волосы вились, шевелились, жили собственной змеиной жизнью. Кожа в здешнем стереоосвещении (дневном — со стороны входа, звездном — выхода) сияла мертвенной матовой белизной. По ней ползали серые и красные трупные пятна. Моя Долька умерла. Что ж? Разве я этого не знала? Я поскорее прижала ее странное лицо к своему уху, чтоб было не так страшно, обвила ее одной рукой, а второй стала грести обратно ко входу, подальше от пугающей черноты. Какое-то время мы продвигались вперед, или нас, во всяком случае, не несло к выходу с прежней скоростью, так как камни из попутчиков превратились в коварных врагов. Они неслись навстречу, стараясь разъединить нас, подмять под себя, вытолкать в космос. Я бултыхалась что есть мочи, даже рычала от усердия, шлепая свободной рукой по густому желе, отпихивая его ногами.
Странная Долька только нежно и молча прижималась ко мне, не делая попыток помочь. Может, у нее не осталось сил, а может, ей было неважно, по какую сторону туннеля обнимать меня — со стороны жизни или со стороны смерти.
Я выдохлась. Камни опять заскользили вровень с нами. Бороться дальше не имело смысла — то была дорога с односторонним движением. Что ж, пусть так. Я перестала брыкаться, мысленно попрощалась с чем-то, и мы покорно поплыли в бесконечную звездную пропасть. Она ждала уже совсем рядом, разинув жуткую пасть. Долька прижималась все крепче, так крепко, что тело ее постепенно стало просачиваться в мое. Больно не было, наоборот, более всего это смахивало на секс, но гораздо круче. Несмотря на приз, поджидавший в конце купания, я испытывала нечто вроде оргазма. Полный восторг! Мои руки начали проваливаться в ее шею и спину, живот проник в живот, губы в губы, нос слился со щекой. Мы соединялись, как две дождевые капли на стекле, стремились друг в друга, впадали, как две иссохшие и немощные в своем одиночестве речонки, образуя вместе полноправный и самодостаточный поток. Мысли наши, объединившись, составили узор невиданной красоты и сложности, чувства, по щенячьи визжа от радости, бросились знакомиться, торопясь до конца познать друг друга и слиться…
И тут экстаз прекратился: я вспомнила Геничку. Сынуля возмущенно взирал на происходящее из потустороннего теперь далека. Если б он дотянулся, то, пожалуй, врезал бы мне по морде невинной детской ручкой. На его ангельском лике явно читалось: «Вот уж фигушки! Ты в первую очередь — мама. Нарожала — обязана взрастить». Что-то властное (может, совесть?) уверенно потащило нас с Долькой друг из друга.
С чавкающим звуком тела рассоединились и разочарованно приобрели первоначальную форму. Я, держа свою звезду теперь только механически, руками и ногами, снова включила голову. В космос нельзя, Геничка не велит, назад, вдвоем не выгрести. Отпустить Долли, пусть уходит? Ни за что!
В отчаянии я взглянула в ее странное лицо.
И удивилась.
Лицо — как лицо: четкое, живое. Совершенно человеческое. Даже веселое. Здоровое такое, как у кота из рекламы «Китикета». Без привычной за время болезни мертвенной худобы и пятен. И волосы потухли, свисают липкими сосульками, а не ползают червяками. Долли погладила меня по щеке и заявила:
«Домой хочу. В свое законное тело. Поплыли?»
Я счастливо икнула, кивнула, и мы вновь поплыли против течения. Вдвоем биться с потоком оказалось значительно легче. Кисель вроде бы разжижился, стремящиеся в космос валуны будто огибали усердно гребущую парочку. Похоже, вселенная отпускала нас. До поры до времени. До новой смерти…
Вот и выход. Выползли на берег. Сиротливо шевелились от ветра пощаженные космосом шляпа с пером и алые ботфорты. Почему-то их не засосало в туннель.
— Твои? — Долька захихикала. Тело ее бинтом обматывала грязная скользкая тряпка. Сари, что ли?
Желе, испаряясь на ветру, потрескивало.
— Мои, — солидно ответствовала я.
— А рукава камзола почему загнуты? Собиралась набить морду вечности?
— Набила же!
Мы все еще держались друг за друга. Долли ощутимо тащило назад, в туннель. Я служила якорем.
Она перестала смеяться и чуточку грустно сказала:
— Тебе нужно уходить. И поскорее. Иначе рискуешь остаться здесь насовсем.
— Как я уйду? Если мы расцепимся, тебя тут же затянет обратно в этот пылесос! Пойдем вместе!
— Не могу. Это мое место. Дом.
— Дом?
Я растерялась. Долька такая теплая, живая, настоящая. Она живет здесь? В нечеловеческом, свихнувшемся ущелье? Тут нет элементарных удобств! Пособие по стереометрии, а не мир.
Взбесившиеся камни и ветер. И жуткая дыра в космос… Рыжая звезда успокаивающе улыбнулась и чмокнула меня в перекошенную физиономию.
— Я же Душа. Я должна быть здесь, иначе Долли умрет. Ты не гляди на беспорядок, я приберусь. Давай-ка лучше закроем ворота, вон подходящий валун, — она указала на средних размеров гору, с удобствами расположившуюся неподалеку от отверстия.
— Хочешь сказать, мы это сдвинем?
— Придется. Знаю, ты устала. Еще чуть-чуть поработай на меня, ладно?
Мы «это» сдвинули. Не без помощи ветра. Подтащили, держась друг за друга, впихнули в дыру.
Завязло намертво. Ветер сразу стих. Летящая мелочь посыпалась на землю, ползущие булыжники остановились. Мир замер. Долли больше ничего не угрожало, и я отпустила ее руку. Неохотно. Потом спросила:
— Почему ты назвала дыру воротами?
— Потому что она ворота и есть. Каждая Душа когда-то приходит через них и через них уйдет. Да ты и сама в свое время узнаешь. А сейчас тебе пора идти. Не думай, что выгоняю, и все такое. Просто тебе нужно в родное тело торопиться, оно на пределе уже. Передай ему спасибо от меня.
— За что?
— За то, что так надолго тебя отпустило.
— А мне кто «спасибо» скажет? Той, что здесь.
— Долли поблагодарит, без «спасиба» не останешься.
Душа снова захихикала и затрясла рыжей гривой. Меня осенила, наконец, трезвая мысль.
Происходящее, естественно, являлось чистой воды бредом свихнувшего от потери близкого человека существа. Наверное, меня, чтобы не убивалась по покойнице, накачали наркотиками. Но это было не так уж важно. Я не хотела уходить от Дольки, пусть воображаемой. Я осталась бы с ней такой, если настоящая умерла. Но Душа Долли, как она себя называла, была непреклонна. Решительно развернула избушку к туману лицом, а к здешнему миру задом и слегка поддала под вышеозначенный зад коленом.
— Иди давай! Встретимся еще.
— А дорога-то! — с надеждой застопорила я поступательное движение, приданное некоей известной особе долькиной худой коленкой. — Она зарастала за спиной, я помню!
— Дорога будет. Хорошая, ровная. Смотри.
В самом деле, прямо под ногами начиналось асфальтированное шоссе. Я встала босой ступней. Поверхность ласково грела кожу. Делать нечего! Буркнула «до свидания» и потащилась в туман. У его границы оглянулась. Долли, нахлобучив на подсохшие кудри шляпу с пером, весело махала рукой.
«Счастливого пути! — крикнула она. — Заходи! Наведу порядок, разведу цветочки!» Я окунулась в бесплотное тело странного вещества (или существа?), отгораживающего мир Души от мира организма Дольки, и больше ничего не помню.
60
Среди моих знакомых, особливо коллег по КБ, имеются презабавные экземпляры: откроют утром глаза, встанут, умоются, на работу заявятся, трудятся что есть духу, зарплату получают, а проснуться не удосуживаются, спят самым подлым образом. Совершенно не включая сознания. Я же, напротив, сначала проснусь, в голове приберусь, приготовлюсь ко встрече с миром, прислушаюсь, а потом уж и глаза открываю. Если нет срочной необходимости вскочить, разумеется. Вот и сейчас, когда данная необходимость отсутствовала, я, по обыкновению, покинувши царство Морфея, не поднимая век, завела мозги и достала мокрую тряпку и веник, чтобы их слегка прочистить. Итак, что мы имеем? На конец квартала. То есть обозримого отрезка запомнившейся бредятины. Долька умерла — это еще реальность.
Тссс!! Эмоции потом. А дальше? А дальше уже глюки. Туннели, Душа, астралы какие-то… Алые ботфорты! Тьфу, нечисть. Чистой воды бред. Бедная я, бедная! Свихнулась-таки. Шизофрения с мистическим уклоном. Долли померла, а я с горя чокнулась. Собственно, дело давно к этому шло.
Поступки абсурдные, сны потусторонние, постоянное напряжение. А долькина смерть меня доконала.
Открою сейчас глаза — а на окнах решетки. Психушка. Не-ет, полежу еще немного с закрытыми. Пусть надежда поквохчет, прежде чем доктора ее на суп ощиплют. Закивают умными седыми головами, забормочут: «Господи! Такая молодая, интересная женщина, а совсем-совсем больная. Дура дурой. Экая жалость!» И пропишут таблетку.
Лежала я, размышляя на данную тему, лежала, пока не поняла, что в ухо сопит некто. Спокойно и довольно. Спит, знать, человечек. Ну, точно — в психушке. Коек в палате не хватает в связи с тяжелой экономико-психиатрической обстановкой в стране, больных по двое на одну кладут. Интересно, сосед или соседка? Кошкин йод! Женщина, конечно, что я — совсем съехала? Это ж не средневековая баня. Ой, а вдруг она буйная? Проснется и укусит за ухо. Не открывая глаз, с опаской отодвинулась. Соседка по кровати придвинулась, не прерывая сопения. Я снова отодвинулась. Она опять привалилась, закинув на меня ногу для гарантии, чтоб я не сбежала. «Добычу охраняет», — с некоторой тоской сообразила я, лежа на краешке. Отползать дальше было некуда, изрядная часть туловища уже свешивалась с койки, грозя утянуть его на пол. Сопение прекратилось.
— Ты куда? — с интересом спросила соседка голосом, которого не могло существовать.
Глаза пришлось-таки открыть. Долька, приподнявшись на локте, счастливо любовалась моей неумытой физиономией. Она была почти лысая, но нежный золотистый пушок отрастающих волос покрыл проплешинки и, в свете яркого летнего солнышка, заглядывавшего в палату из незарешеченного вопреки ожиданиям окна, фосфоресцировал маленьким нимбиком. В недавнем сне-бреде про туннель Долли-Душа была абсолютно волосатая. Явь ли это? Или снова глюк? Помещение, по крайней мере, не потустороннее. Похоже на больничную палату.
— С добрым утром! — голос точно долькин.
— Что мы тут делаем? — спросила я осторожно, ожидая в ответ что-то вроде «скрываемся от марсиан».
— Лежим, — сказала соседка, по-хозяйски убирая челку со лба. Мою. — Ты неделю без сознания была, ух тебя и лечили! И лекарствами, и экстрасенсами. А я здорова, как бык-производитель. Валяюсь за компанию, отъедаюсь.
Она рухнула с локтя на подушку и зашептала:
— Они постоянно наблюдают за нами, подслушивают. Каждый пук анализируют. Знаешь, сколько вокруг камер понатыкано? Пока ты без памяти была, я развлекалась, отмечала их крестиками на обоях. Так хитро спрятаны! Потом покажу. Ну да насрать на них. Главное, мы вместе. Меня сначала в другую палату отправить хотели, в отдельную. А я в тебя вцепилась и завизжала. Голос-то у меня — о-го-го! На крик доктор прибежал, красавчик, видно, он у них главный. Вступился, спасибо ему. Пусть, говорит, вместе долечиваются, им так нужно. Нас обеих сюда и положили. Ничего, что я к тебе залезла? Мне одной тоскливо.
— Ничего. Доктор белобрысый?
— Как моль. Ты меня тогда здорово напугала. Я ж в конце совсем плохая стала, смерть на колесиках, а не звезда эстрады. А тут вдруг просыпаюсь от того, что прекрасно себя чувствую. Сажусь на кровати, ноги спускаю — и прямо на тебя. Валяешься на полу, не дышишь почти. Не смей так больше делать!
Долька судорожно всхлипнула и сердито укусила меня за плечо. Боль была настоящая! Долька тоже — хулиганка рыжая. Последние сомнения в реальности происходящего, помахивая крылышками, упорхнули в вентиляцию. По телу прокатилась волна облегчения, и я с удовольствием присоединилась к долькиному счастливому реву. Слезы текли рекой, но минуты через три стало ясно, что всех проблем с переизбытком в организме жидкости они не решат. Я торопливо, но аккуратно вылезла из-под обретенного сокровища и встала. Удивительно! Меня даже не качало. Хорошо здесь лечат! Рядом с кроватью стоял стул, на его спинке висела пара полосатых халатов. Один я надела. Долли к этому времени перестала всхлипывать и ревниво наблюдала мою самостоятельность.
— Куда?! — подобралась она, как только я сделала шаг по направлению к одной из двух дверей, находившихся в помещении. — Я с тобой!
Кажется? Или ситуация повторяется?
— Пописать.
— Ладно, — ответила Долли, помолчав, — можешь одна идти. Там другого выхода нет, не сбежишь.
Она показала пяткой на правую дверь. С чего она взяла, что мне придет в голову сбежать? Видно, девочка от переживаний малость тронулась. Почему она жива все-таки? Нет, лучше об этом не думать, сразу начинает затылок ломить. Смотри-ка, какие стены-то развеселые! Не то что в предыдущей палате.
Здесь у нас обойчики салатненькие с пейзажиками и бытовыми сценками из жизни огородных культурок.
Лучок, горошек, огурчики в привлекательных позах. Оч-чень, оч-чень гастрономич-чно!..
Далее созерцать настенную аппетитность помешало катастрофическое состояние мочевого пузыря. Я толкнула дверь в туалетную комнату. Кроме изысканнейшей формы (зависть профессионала!) толчка имелось нечто вроде мини-душа. Немытая кожа азартно зачесалась. Я испробовала стильный унитаз, завела тепленький дождик, разделась и шагнула через розовый бордюрчик. Хилые струйки робко потекли по телу, смывая культурный слой.
— Долька, полотенце есть?
Она принесла полотенце, повесила на крючок. Скинула халат и белье. Тело ее все еще было страшно худым, но она заметно поправилась по сравнению с последними днями болезни. Кожа очистилась от экземы и нарывов. Кое-где после особенно глубоких ранок остались темные следы и шрамики. Долли перелезла ко мне. Она встала так близко, что твердые кнопки ее сосков уткнулись в мои плечи, спокойно обняла, стала целовать в глаза, уверенно отправила руку мне между ног. Ноги я машинально сжала и, кажется, покраснела. Долли чуть отстранилась.
— Ну что ты? — спросила она бесконечно нежно и слегка укоризненно. — Это ведь я, твоя Долька. Я тебя люблю, а ты любишь меня, — объяснила она мне, как ребенку.
Вот тебе на! Почему-то мне и в голову не приходило определить в словах наши отношения. Она была права: я ее любила.
— Давно ты знаешь? — спросила я в смятении.
— Всегда.
— Могла бы и поделиться информацией.
— Сначала ты не хотела знать. А потом я уже не могла сказать — ты бы стала спать со мной и непременно заразилась бы, — просто ответила Долли. — Может быть, тебя смущает то, что я женщина?
Сделаю операцию, роста хватит, хвост пришьют. Но разве это важно?
Она опять была права. Я до обморока и колотья в конечностях любила и хотела сей лысый длинный скелет, и было хорошенько насрать, к какому полу фауны или роду флоры он относится. Будь Долька даже красным слоном или кактусом, я все равно бы ее любила. Только ее.
Долька провела чуткими губами мне по виску, по влажным волосам, шепнула нетерпеливо:
— Уже можно?
— Ага! — хрипло выдохнула я, подняла, наконец, недогадливые руки и погладила свое сокровище там, где ей хотелось. Я точно знала, где. Она радостно муркнула, нежно цапнула меня в губы, мир закрутился, потерял значение, исчез к чертям. В бескрайней, пустой доселе вселенной трепыхалось единственное понастоящему живое, абсолютно новорожденное, счастливое своей цельностью существо.
Очухались внизу. Мы свились в клубок и переплелись, как прутья в корзине, лежа в дурацком розовом сливном корытце. С больничного неба брызгал неутомимый грибной дождичек, и пялился укоризненно отчетливо видимый из этой позиции глазок телекамеры, замаскированный под плафон.
— Долька, ты — зеленая.
— Въелось, никак не отмоюсь.
Мы расцепились. Глаза наши встретились: ее — серые и длинные, мои — ярко-фиолетовые. Мы расхохотались. Мы мокли, смеялись, и совершенно никуда не торопились. Впереди неожиданно оказалась целая жизнь.
— Ленка!
— Да?
— Спасибо.
61
Они заняли желтую деревянную скамейку, отгородившуюся от ветра лохматым кустом сирени.
Тролль разглядывал царапину на блестящей коже новеньких ботинок, А интеллигентно колупала асфальт каблуком.
— Тролль.
— …?
— Это конец сказки?
— …
— Скажи, что конец. Пожалуйста! Что тебе стоит?
Тролль оторвался от царапины. Сейчас ему можно было дать все его тысячелетия, да еще парочку веков сверху накинуть.
— Конец, — ответил он неохотно. — Почти.
— Я спать хочу. И есть. Пойдем домой?
А поднялась, сделала пару шагов по аллее.
— Нет. Сядь! Ты дослушаешь, — слова, сказанные тоном приказа, в устах Тролля, говорившего обычно мягко и деликатно, прозвучали, как ругательство.
А растерянно вернулась на прежнее место.
— Ладно, — согласилась она. — Послушаем до конца. Только начну я. Лена и Долли были ужасно счастливы вдвоем…
— Какое-то время, — жестко прервал Тролль. — Дня два или три. Пока Лена еще оставалась человеком.
62
Мы с Долькой ни на секунду не разлучались. Мы наплевали на нормы приличия и вели себя, как две крысы, которых постоянно стимулируют через электроды, подключенные к центру удовольствия.
Казалось, мы вот-вот начнем сливаться в одно существо, как в том сне. К сожалению, не только она обрадовалась, что я очнулась. Истомившиеся в ожидании медики ринулись меня измерять, дифференцировать и откармливать. Медсестры, приходящие с процедурами и едой краснели со страшной силой, но в покое нас не оставляли. Нацедили литра два анализов, посчитали пальцы на ногах, поискали вшей, проверили болевые пороги. Похоже, ничего компрометирующего, кроме поведения, не обнаружили, и, к исходу вторых суток бодрствования, я была торжественно выпровожена с дорогостоящего койко-места. Вместе с Долькой. По традиции нам предоставили возможность побеседовать на прощанье с лечащим врачом. Кэт, не допущенная в палату и сидевшая внизу в машине, передала нам одежду. Дольке по совету Айболита была куплена новая, я воссоединилась со своими тряпками, взятыми из квартиры Долли, и выглядела в них, как коза под верблюжьим седлом.
В кабинете Айболита мы уселись на знакомый диванчик и уставились на нечто белобрысое, укоренившееся за столом кабинетовладельца. Привычный и даже немного полюбленный хозяин отсутствовал.
Произнести напутственную речь желал никто иной как…
— Свен Игоревич, — представился «Мефистофель».
О, черт! Я зажмурилась. В предыдущие, коротенькие встречки я не пыталась его разглядывать и правильно делала. Мало того, что опять заломило затылок, так еще и новая напасть: я ведь и раньше встречала этого засранца, и точно помню, где. Во сне. Чуть ли не подростковом. И даже сон вспомнила: мы любили друг друга в воздухе над ущельем. Горели закатом облака, а ветер гладил мое пылающее тело почти так же нежно, как прохладные руки Свена. Я покраснела и отожмурилась. Терпеть не могу гадкой мистики! Может, сбежать?
— Елена Сергеевна, мне хотелось бы поговорить с Вами наедине, — каждое слово он произносил невыносимо аккуратно и правильно. Иностранец, что ли? Имя какое-то глупое — Свен.
— Обойдетесь, — буркнула я, крепче прижимая Дольку. Доктор глядел иронически.
— Хорошо. Как пожелаете. Бывает и так.
— Как — так?
— Бывает, что муты оставляют при себе людей, — вежливо разъяснил доктор. Оказывается, и доктора бывают психами. Я попыталась встать, потянула Дольку. Но у нее были другие планы на вечеринку. Она желала продолжить беседу:
— Что вы хотите сказать?
— Я хочу сказать, милая леди, что Елена Сергеевна не человек, а мут. Мутантка, то есть. Следующая ступень развития на эволюционной лестнице.
— У меня все в порядке! Не уродка, руки-ноги на месте, хвоста нет. Не смейте обзываться! Сами вы мутант, — обозлилась я.
— Конечно, мутант. И, как можете убедиться, физиологически тоже ничем от человека не отличаюсь.
Мутация связана с изменениями в мозгу, а не с появлением хвоста. У вас она проявилась в умении лечить. Теперь, когда мут в вас проснулся, процесс пойдет дальше. Раз начавшись, он не остановится, пока не исчерпает возможностей уровня. Скоро станете другой, всемогущим совершенством с точки зрения обывателя.
— Сами-то понимаете, что несете? Доктор называется, — скривившись, процедила я. Затылок разламывался, вдобавок начало тошнить. — Долька, — попросила я, — пойдем домой? Голова болит.
Но Долька уперлась:
— Нет. Тебе лучше послушать дядю. Помнишь, сама-то что говорила? Не станет ни хуже, ни лучше.
Просто будешь знать. В том, что он говорит, есть смысл. Может быть, ты забыла, а я помню и туннель, и как ты меня вытащила. И даже шляпу с перьями. Ты — особенная.
С ее стороны удара я не ожидала и сдалась. Если этим двоим приспичило свести меня с ума — будь по тому. Умываю руки.
— Обычно специфические способности выявляются вскоре после рождения. Мы таких детей находим, забираем и обучаем в специальных школах. Но — необычайно редко! — и среди взрослых людей встречаются муты, так сказать, потенциальные. Им, в силу каких-то внутренних причин, трудно проснуться, необходим внешний толчок, «яблоко».
— Как Ньютону? — спросила я. — Чтоб по макушке — бац — и осенило?
— Примерно. Вообще-то, имеется в виду библейское яблоко. Пока Адам и Ева не вкусили от плода древа Познания, они не стали настоящими людьми. Жизнь, энергия в них спала. Ваша энергия находилась в плотной скорлупе. Сильнейшие эмоциональные переживания, связанные с Долли, сделали скорлупу тоньше, а потом вам и вовсе пришлось сломать ее, чтобы спасти Долли от смерти. Долли — ваше «яблоко».
— Как вы меня нашли? И зачем?
— Нам сообщают обо всех странных случаях в области экстрасенсорики, прорывах в науке, творчестве. Ваш совместный с Долли альбом очень необычен. Это еще не прорыв, но уже близко.
Сначала мы подумали, что мут — Долли, но потом разобрались, что к чему. Когда она умерла…
— Умерла?
— Ты же помнишь, — мягко сказала моя девочка, успокаивающе поглаживая мои дрожащие джинсы.
— Когда Долли умерла, и оболочку, сдерживающую вашу энергию, прорвало, волной выбило стекло в боксе. Слава Богу, никто серьезно не пострадал, кроме меня. Но на мне заживает быстро. Мы, знаете ли, регенерируем. Чрезвычайно удобная особенность. К сожалению, я не видел, что было потом — лежал без сознания в соседнем помещении. Когда персонал пришел в себя настолько, что смог вспомнить о больной, та уже спускала ноги с кровати. А вы лежали без чувств на полу и светились. Не буквально, разумеется. Человеческий орган зрения не улавливает излучения такого рода, но специальным приборчиком обнаружить свечение довольно просто. Люди, которые на нас работают, и не подозревают о его подлинном назначении: обнаружение мута на первых стадиях развития. После муты научаются управлять энергией и не теряют ее без необходимости. Скоро и вы перестанете светиться.
— Вы так и не сказали, зачем я вам понадобилась. В качестве подопытного кролика? Но вы знаете обо мне больше меня самой, если не валяете дурака, конечно, Что вы от меня хотите?
— Вы — мут, желаете того или нет. И принадлежите нам. Мы — цивилизация внутри цивилизации и, чтобы выжить, держимся друг за друга, как вы с Долли. Почти физически. Нас мало, но у нас собственная история, медицина, наука, этика. Традиции. Приятной традицией является помощь «новорожденным». Получите два миллиона долларов и особняк в любом уголке земного шара. Где бы вам хотелось жить?
— Дома. С Долькой, Геничкой, мамой и папой. Спасибо за беседу. Я почти поверила в то, что услышала. А может быть, и не почти. Не важно. Меня такие вещи не интересуют. Будем считать, что я ничего не поняла. Пойдем, Долька. Катюха, наверное, все сигареты искурила и опять «Орбит» грызет.
Свен! Извините.
— За что?
— Как же! Не оправдала надежд. Прощайте.
— До свидания. Позвоните, когда передумаете, — Свен иронически скривил губы и протянул визитку.
— Вы так в этом уверены?
— Люди боятся чужаков. Вам придется постоянно таиться, скрывать свои способности, выкручиваться, оправдываться, что вы не такая же дурочка, как окружающие. Ваше присутствие будет унижать их. Нет, каждый должен жить среди равных.
— Счастливо оставаться, — снова попрощалась я и зачем-то взяла визитку. Наверное, из жалости: очень уж глупо смотрелся лощеный доктор с протянутой рукой. Мы вышли из кабинета. Долька держалась странно тихо. Я остановилась, развернула ее к себе:
— Послушай. Поверь мне, пожалуйста, ты же всегда раньше верила. Я не знаю, что с нами будет дальше, но это будет с нами, а не с тобой или со мной по отдельности.
— Да, конечно. Просто мне не по себе. Извини.
Она нагнула голову, и мы стали целоваться. Накренившаяся было тарелка земной тверди вновь прочно устроилась на спинах слонов, хоть и не красных. То, о чем поведал доктор Свен, не имело ни малейшего значения.
63
— Ночью, когда они любили друг друга, Долли вдруг вскрикнула и отпрянула. «Я сделала тебе больно?» — встревожилась Лена. «Твои руки», — растерянно сказала Долли, натягивая на себя одеяло.
Лена поглядела на ладони — они нежно сияли во тьме розовым и теплым, и потянулась было к Долли, чтобы успокоить, но та отстранилась и, стараясь не глядеть в глаза, попросила: «Не надо. Не сейчас.
Пожалуйста». Лена вышла на кухню, просидела там до утра, а утром забрала вещи, постояла возле спящей Долли и ушла. На улице она из автомата позвонила Свену. «Да», — ответил тот ровно и приветливо, будто делать ему больше было нечего, только ждать звонка в шесть утра. «Это Лена. Вы упоминали про особняк. Что, если он будет в Англии?» «Никаких проблем», — улыбнулся Свен в трубку.
Сказка закончилась. Тролль и А по-прежнему сидели на скамейке. Они крепко держались за руки, словно боялись, что гипотетическая великая сила прямо сейчас начнет отрывать их друг от друга.
64
— Чайки нет.
— Сам вижу, — буркнул Люс.
— Это все из-за тебя! Целую неделю дома просидели, как сосунки. Конечно, ей надоело на пустой берег прилетать. Зачем ты Щуньке хвост откусил?
— А что она дразнится? Я ж не виноват, что у меня крылья рано начали расти. Папа говорит, я в него пошел. Погрызи спинку!
— Чешется? Ладно, ложись.
Люс упал на песок пузом, раскинул в стороны лапы и раскрыл пасть, предвкушая удовольствие.
Брита принялась слегка покусывать его голубоватую шкурку между лопатками. Под зубами гордо топорщились два горбика. Люс тарахтел от наслаждения.
— Скоро прорвет, — сказала Брита со знанием дела. — Будешь взрослый грифон.
— Ты Щуньку видела, как хвост-то у нее?
— Обратно прирастили. Она им вчера уже в бейсбол играла.
— А я вчера в дупле скучал наказанный. Нет на свете справедливости! И чайка улетела.
— Ты же перед уходом тюленью ногу съел! И зубы опять не почистил.
— Думаешь, мне рыба нужна? Это я так, для порядка с нее требовал. Чтоб знала, кто царь природы. Я сказку хочу послушать.
— Так ведь сказка-то закончилась.
— Ты уверена?
Над морем кружили незнакомые чайки, бесстрашные и совершенно не говорящие. Бесстрашные они были потому, что знали: львята не летают. Но через пару оборотов Люс и Брита объяснят им без переводчика, кто хозяин на планете. На уединенной, укрытой уютными лесами планете грифонов.


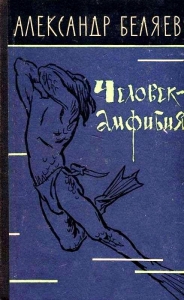

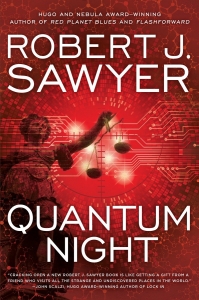
Комментарии к книге «Яблоко для тролля», Наталья Володина
Всего 0 комментариев