Время учеников Выпуск 3
Писателям, мыслителям,
УЧИТЕЛЯМ
БРАТЬЯМ СТРУГАЦКИМ
посвящается эта книга
Думать — не развлечение, а обязанность.
Аркадий Стругацкий, Борис СтругацкийАндрей Чертков АНИЗОТРОПНОЕ ШОССЕ Предисловие от составителя
Все на свете имеет свое начало — и все на свете имеет свой конец. Вот так и Проект «Время учеников» — задуманный в 1991 году, еще до смерти Аркадия Натановича и до того, как обрушился лживый, душный и несправедливый мир, которому братья Стругацкие противостояли всем своим творчеством, он начал реализовываться в бумажной плоти в середине 90-х, когда контуры даже ближайшего грядущего были еще неясны, а завершается уже на рубеже новой эпохи — то ли в последний год предыдущего века и тысячелетия (по мнению одной половины человечества), то ли в первый год следующего века и тысячелетия (по мнению другой). Если оценивать этот рубеж в координатах российской фантастики, то впереди у нас уже даже не время «учеников», а время «учеников учеников». (Правда, многие из героев этого наступающего времени будут, похоже, учениками совсем других учителей; но стоит ли особо переживать по этому поводу?)
Разумеется, все сказанное мной отнюдь не означает, что больше никогда не будет появляться произведений, созданных по мотивам и в продолжение текстов братьев Стругацких, — это означает лишь то, что антологий под общим грифом «Миры братьев Стругацких: Время учеников» более не будет. Таково мое решение как автора идеи, инициатора и составителя всех трех мемориальных антологий, последняя из которых сейчас перед вами, уважаемый читатель. Мы, участники настоящего Проекта, сделали все что могли — и теперь перед нами «кирпич»: анизотропное шоссе, обратной дороги нет.
В отличие от своих комментариев к первому сборнику, я не буду рассказывать здесь о том, как шла работа над последним томом. Скажу лишь, что в чем-то эта работа оказалась гораздо более непростой и неожиданной. Не в смысле технологии и не в смысле творчества, а скорее психологически. Психологически как для меня самого, так и для многих людей, принимавших участие в Проекте.
В отличие от своих комментариев ко второму сборнику, я не буду вдаваться здесь в анализ отобранных мною произведений (среди которых, как вы наверняка отметите, есть и весьма даже спорные), а также в общую композицию книги. Надеюсь только, что внимательный читатель отметит ее отличие от композиции двух предыдущих книг и, может быть, попытается понять поспудные мотивы и логику составителя.
Финал есть финал; все что можно было сказать — уже сказано.
И поэтому я хочу лишь поблагодарить читателей, которые отнеслись к нашему Проекту благосклонно. Но также я хочу поблагодарить и тех читателей, для которых Проект оказался неприемлем в принципе — споря с нами, возражая нам, они, тем не менее, все же прочли эти книги.
Я хочу поблагодарить всех писателей, принявших приглашение участвовать в Проекте, — перечень этих людей вы найдете в конце этого тома. Я хочу поблагодарить всех авторов, приславших нам свои вещи, которые я по тем или иным причинам был вынужден отклонить. Лично я буду только рад, если эти произведения увидят свет где-то еще — в журналах ли, авторских книгах или, наконец, в сети Интернет, где «каждый, право, имеет право…» Хочу лишь извиниться перед теми из них, кому я не сумел ответить лично и отвечаю теперь этими типографскими строчками.
Но прежде всего я безмерно признателен Борису Натановичу Стругацкому, разрешившему всем нам — составителю, авторам, художникам, читателям и критикам — принять участие в этом, не побоюсь этого слова, поистине уникальном литературном эксперименте. Эксперименте, который лично для меня подтвердил то главное, ради чего, собственно, он и задумывался: миры братьев Стругацких по-прежнему дороги людям, для которых «думать — не развлечение, а обязанность», и, можно надеяться, будут дороги еще очень и очень долго — все то время, которое нам предстоит идти вперед по анизотропному шоссе в наше непредсказуемое будущее.
Андрей Лазарчук СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ДВУХМЕСТНОЙ МАШИНЕ ВРЕМЕНИ (Время и герои братьев Стругацких)
Этого я все-таки не ожидал. Было больно, но не очень, и тем поразительнее оказался вид глянцевой синевато-малиновой кожи с вдавленным в нее рисунком грубых обмоток и верхней части ботинка. На ощупь кожа была горячая и липкая. Повторяю: боль была вполне терпимой, но от одного только прикосновения к опухоли меня начинало мутить. И, чтобы отвлечься, я стал смотреть по сторонам.
Лиловые лбы выпирали из склона напротив, и в тенистых ложбинах еще лежал снег. Елки казались игрушечными. Вершины, плоские, срезанные доисторическим морем, устилали заросли карликовой березы и багульника. Левее и ниже, видимое едва только на треть, чернело озеро в полукружии обледенелых базальтовых скал; сверху падала тонкая замедленная струя — там было второе озеро, верхнее, вровень со мной, а потому недоступное взгляду; а за ним было третье, у самой пяты ледника. Ледника Черышева. Названного так в честь Леонида Черышева, моего пра-прапра-прадеда. Пра-пра-пра-пра-прадеда Дашки.
Но он-то дошел до него. И не в мае — а в марте. Когда здесь еще снег и ночью минус двадцать с ветром. И вместо палатки у него был лишь кусок брезента… Я же — совершенно точно — не дойду.
Ну, не повезло… Бывает.
Здесь, на плоском широком гребне, царила карликовая береза — пока без листвы. И несколько завязанных узлами горных сосен. Японцы любят выращивать такие в горшках. Они называют их «бонсай». Одно деревце живет у меня дома. Деревцу больше лет, чем мне. Его привез отец моего друга Канэко. Я видел мало отцов, которые настолько не походили бы на детей. Отец был на голову выше сына и раза в два тяжелее. Лицо у него было совершенно неподвижное. Очень твердое лицо. Он ездил по всей Земле и развозил его друзьям такие деревья.
Я не догадался сам, а потом кто-то из ребят сказал мне, что отец прилетел на Радугу сразу же после катастрофы, с первой волной спасателей, нашел остатки глайдера, в котором, наверное, сгорел его сын, и собрал то, что могло быть пеплом. И подмешал этот пепел в почву, к корням маленьких деревьев. Вполне возможно — какая-то частичка Канэко живет сейчас в моем доме в виде деревца, которое старше нас обоих…
Почему бы нет? В этих древних верованиях — своя немалая прелесть.
Послышался шорох осыпающейся каменной мелочи, и внизу показалась задранное Дашкино личико. Оно совсем осунулось и почти исчезло, остались веснушки, глаза и зубы.
— А ручей рядом! — крикнула Дашка. — Там только трудно дотягиваться, потому что камни! Поэтому я долго! А еще там лопух растет! Он опухоль снимает!
— Это замечательно, — сказал я. — У меня будет компания. А то обидно быть единственным лопухом в округе. Спасибо, дщерь.
— Как ты меня обозвал?! — обиделась она полушутливо. Она обижается полушутливо всегда: и когда шутит на полторы тысячи оборотов, и когда сердится по-настоящему.
— Дщерью, — сказал я. — Что по-старорусски значит «дочь». В конце концов, не на машине ли времени мы странствуем? А значит, надо соблюдать условности. Но если тебе это обидно…
— Дщерь, — сказала она. — Дверь и щепа. Дверь в щепки. Или: дверь и щель. Склонность к незаметному исчезновению.
— Это точно, — сказал я. — Они такие. Только отвернись, а их уж нет…
Я распаковал аптечку. Вот: настоящие хлопковые бинты, обваленные в настоящем гипсе. Надо сложить из них что-то вроде полотенца, потом смочить водой и примотать к ноге. И — довольно долго сидеть, пока все это просохнет.
Короче, о теплой ночевке сегодня придется забыть.
Я с тенью сожаления посмотрел на Дашку, потом — на браслет. Достаточно лишь активировать его…
И через пятнадцать минут здесь будет кремового цвета коптер с вежливыми киберами или даже вполне живым врачом-стажером, дежурящим на горноспасательной базе. Но тогда цель наша с Дашкой останется не достигнутой — а скорее всего, и вообще недостижимой…
Это не перелом, сказал я себе твердо. Это никак не может быть переломом. Потянул связки — и все.
Сделаем лишнюю дневку. А потом — доковыляем потихоньку.
И следующие полчаса, пока я складывал, смачивал, обкладывал, накручивал и оглаживал, я повторял себе строго: не перелом. Не перелом.
Дашка смотрела на меня и страдала. Но молодчина — страдала она молча.
Потом она сбегала вниз еще раз и вернулась с несколькими сухими сучьями то ли сосны, то ли арчи. Сопя, разделала их топориком, сложила костерчик и с первой спички разожгла. С этим у нее все было в порядке.
В тепле костра гипс затвердел до звона — ногу же стало дергать и давить, пока еще терпимо, но с намеком на трудную ночь.
Хорошо бы все же спуститься к воде и траве…
Ботинок пришлось распластать и подвязать снизу — шнурком и обмоткой. Потом, опираясь на альпеншток, я встал. Перенес тяжесть на больную ногу.
Уф-ффф…
Впрочем, я ожидал худшего. Боль ударила вверх, до колена — но тупая, темно-красная. Можно терпеть.
Можно терпеть и можно шагать.
И я пошел. Шаг, два, десять… Поворот. Обратно. До рюкзака.
Дашка молча выгребала из него банки и перекладывала в свой.
— Э! Мы так не договаривались!
— Ну и что?
В два приема — зло — закинула свой рюкзак на плечи и встала, вызывающе меня рассматривая. Полтора конопатых метра железного упрямства.
— Да, действительно… Обстоятельства изменились…
Я привел в порядок темную разворошенную обитель банок, сухарей и запасных носков, прикрепил сверху палатку и спальники. Вздел сооружение на спину, стараясь при этом не терять равновесия.
— Веди, Тенсинг.
— Кто-о? — с величайшим подозрением прогнусила Дашка.
— Чему вас только учат. Тенсинга не знаешь.
— Нас хорошо учат! А ты, может быть, неправильно произносишь. Ну кто это, кто?
— Первый человек на вершине Эвереста.
— А кто же тогда был сам Эверест?
Действительно…
— Кажется, это был какой-то английский…
— Смотри, — сказала вдруг Дашка и остановилась, показывая вниз. — Тропа. Наверное, козья, да? Козы ходят к ручью…
— Возможно.
Я прикинул направление. И так и сяк выходило, что тропы этой нам не миновать. А здесь к ней, похоже, спуститься достаточно легко.
В горах надо ходить по тропам. Какими бы извилистыми они на первый взгляд ни казались, а всегда являют собой кратчайший путь от точки А до точки Б. Если, конечно, путь измерять расходом сил.
Это так. Но когда я ступил, наконец, на эту тропу, в глазах моих было черным-черно, а пот тек струями по спине и бокам. Чудом, нелепым чудом дошел я… преодолел сто метров — вниз по склону…
Но в то же время я понял вдруг, что дойду.
Главное — пореже останавливаться.
Дашка топала гордо, и чувствовалось, что ей стоит больших сил не жалеть меня вслух.
Так прошел час. Потом — два и три. Тяжелее всего было начинать движение после отдыха.
Потом мы — вместе с тропой — стали пересекать снеговую линзу, и я провалился. Удача еще, что успел выдернуть альпеншток и, перехватив за середину, упасть на него грудью. Палка да рюкзак за спиной сработали как тормоз. Ноги, однако, болтались над пустотой, и сколько там — полметра или пять метров — сказать я не мог…
Если больше полутора — я не вылезу.
— Дашка! — предостерегающе крикнул я, и она обернулась. — Стой на месте! — когда она уже бросилась ко мне.
И все же реакция ее была хорошей, и здравый смысл оставался где надо: она успела затормозить.
— Отойди чуть назад, — скомандовал я, и она отошла. — Сними рюкзак. Достань веревку. Свяжи петлю на конце. Кидай мне. Еще раз. Не замахивайся так сильно. Молодец.
Стараясь делать как можно меньше движений, я продел в петлю правую руку.
— Теперь разматывай веревку до сухой земли. Там вобьешь кол и закрепишь конец.
Стал мокнуть и мерзнуть живот. При моем провале полы шинели распахнулись…
Вещный консерватизм предков изумлял меня все время, сколько я занимался внераскопочной археологией. Никак нельзя сказать, что они не понимали своего удобства и комфорта. Но покрой и конструкция мужских панталон восемнадцатого-девятнадцатого веков — это нечто. Или флотская офицерская фуражка девятнадцатого-двадцатого — со всеми ее планками, пружинами и ватными вставками. Или солдатская шинель восемнадцатого-девятнадцатого-двадцатого-двадцать первого…
Современники писали, что это гениальное изобретение. Видимо, я просто чего-то еще не понял.
Дашка помахала мне рукой. Быстро она… Я присмотрелся и увидел, что там торчит пенек. А-атлично…
В пару движений выбрав слабину, я попытался вытащить себя.
Через десять минут я оставил эту затею…
Видимо, я вклинился в дыру так плотно, что сдвинуться мог только вместе с тоннами окружающего меня ужасно мокрого и тяжелого снега. Все попытки как-то расшатать себя в этой дыре приводили только к тому, что я проседал чуть глубже. Это было унизительно и страшно.
И — жарко. Пар от меня бил струями, и пот жрал глаза. И еще громко пыхтело и стучало в ушах.
Может быть, поэтому я не сразу понял, что Дашка уже не одна. Кто-то в черном стоял рядом с нею, подняв руку вверх — привлекая мое внимание.
Я кое-как проморгался, помахал рукой в ответ.
— Держитесь крепче! — повторил черный человек. И я стал держаться крепче…
— Извините, — мягко проговорил спаситель, разглядывая мое запястье. — Трудно рассчитать силу в такой ситуации.
— Да о чем речь, — сказал я. — Просто ссадина. Затянется. Все заживает, и это заживет. Ерунда.
— Давайте я вам помогу. Тут идти еще с километр.
— Докуда?
— Там мой дом. Надеюсь, вы не откажете мне — побыть моим гостем?
Дашка дернула меня за рукав. Я взглянул на нее — она быстро-быстро кивала.
— Спасибо. Только, видите ли…
— Не беспокойтесь. Дарья мне уже все объяснила. У меня нет ни линии доставки, ни порта связи, ни нуль-Т. Так что вы никак не нарушите свой… обет.
Он сказал это с неуловимой заминкой, а у меня вдруг словно открылись глаза. Мой спаситель, высокий, широкоплечий, загорелый и по виду очень сильный человек одет был в черную монашескую рясу. На груди его висел грубый крест из темного дерева.
— Пойдемте, — с легкой усмешкой (или мне показалось?..) он забросил на одно плечо мой рюкзак, подхватил Дашкин — и зашагал по тропе. И мы, переглянувшись, тронулись следом, и вновь вначале я плавал в собственной боли, а потом будто бы вышел из нее, а она волоклась за мной следом, цеплялась и канючила…
Мы спустились к речке, перешли ее по простому крепкому мостику — и оказались у входа в неширокое ущельице; из ущелья катился ручей, прозрачный настолько, что казался дрёмой. Дном его были белые камни.
А через несколько минут ущельице расширилось, превратившись в маленькую долину, окаймленную зеленью. На этом берегу ручья прятался в соснах стандартный полевой модуль «Домбай», совсем как в полевых лагерях Юнны — только на крыше вместо обязательных антенн топорщились черные панели древних фотовольтов. Возле дома лежал, припав на брюхо, элегантный серосеребряный глайдер. А напротив, через ручей, я увидел стоящие в ряд невысокие каменные плиты — десять или двенадцать…
Может быть, сказалась усталость. Может быть, я слишком отвлекся на пейзаж и перестал смотреть под ноги… В общем, подвязанный ботинок мой несчастный разболтался, ослаб — и соскользнул с какого-то невидимого камушка в невидимую ямку. Вспышка боли была настолько яркой и резкой, что я не просто рухнул — а еще и заорал вдобавок.
Сознания я не терял, но несколько минут просто не мог ничего замечать кругом и ни о чем думать, кроме как о ноге, проклятой чертовой ноге…
Монах внес меня в дом на руках — это при моих-то без малого ста — и уложил прямо в прихожей (по совместительству — кухне) на жесткий топчан, крытый шерстяным одеялом. Дашка, подозрительно сопя, стянула ботинок со здоровой ноги, а потом стала помогать монаху высвобождать меня из шинели; стыдно, но я чуть сам не разревелся тогда и от боли, и от растроганности чувств. А потом монах решительно пресек все мои неуверенные возражения и разрезал повязку.
Что сказать? Гипс раскрошился и не держал. Сине-багровая опухоль выросла еще больше, стопа теперь формой своей напоминала коровье вымя.
— Прошу извинить… может оказаться больно…
Куда уж больнее, хотел сказать я, но подумал, что это будет враньем. Вполне может быть и больнее. Впрочем, руки монаха оказались бережными. Он не столько ощупывал, сколько слушал руками. Или смотрел — судя по его же реплике:
— Я вижу по крайней мере два перелома… вот — лодыжка, а вот — плюсневая…
Потом он поднял лицо, улыбнулся и сказал:
— Что я говорил, Леонид Андреевич?.. и новые гости пожаловали…
Я запрокинул голову. В дверях, ведущих в одну из двух комнат «Домбая», стоял высокий худощавый мужчина с котом на плече. Свет падал на него сзади, рисуя лишь силуэт. В следующую секунду кот мягко оттолкнулся, спрыгнул на пол, а с пола — мне на грудь.
— У-ух! — сказала Дашка. — Как его зовут?!
— Наполеоном, — ответил монах. — Но отзывается и на Бонни.
Кот сунул морду мне под мышку и мощно заурчал.
— Как тщательно он сегодня намывал гостей, — сказал человек в дверях знакомым голосом и вышел из пятна света, так что теперь я уже без сомнения узнал его.
— Здравствуйте, Леонид Андреевич. Мир тесен и странен…
— Простите… Я вас знаю?
— Вряд ли. Меня зовут Петр Черышев. Мы встречались дважды — при довольно бурных обстоятельствах. Но — в толпе. Когда была утечка в лаборатории Галати. И еще на Радуге…
— Вы были на Радуге?
— Ну… как сказать… Я был на «Стреле». Так что самое интересное я пропустил.
— Черышев… Простите, не могу вспомнить. Тогда… тогда все было так… нервно.
— Да, конечно. Мы сразу улетели на юг…
— На те сигналы… Да-да. Помню. Не поверите, но — этот эпизод помню. Так, значит, это были вы?
— Не только я. Нас было два десятка.
— Конечно, конечно… — он стал всматриваться в меня, и я понял, о чем он думает. Но помогать не стал.
Дашка обошла его и положила мне руку на плечо.
— А вы — тот самый Горбовский? — спросила она вздрагивающим голосом.
— Да вроде бы я, — ответил он. — А как вас зовут, сударыня?
— Дарья. Дарья Петровна.
— Очень приятно…
— А уж как мне-то приятно! — заявила Дашка.
Я накрыл ее руку, прижал. Спокойно, сказал про себя. Она хотела выдернуть руку, но услышала меня и удержалась.
И вдруг Горбовский все понял. Я видел, как изменилось его лицо.
— Мир полон странных перекрестков, — почти повторил я.
— Леонид Андреевич, — сказал монах, — раз уж вы встали — сходите, пожалуйста, за льдом. Вы знаете, куда.
— Мм… да. Знаю. Конечно, знаю…
Он подхватил стоящее в углу ведро и вышел наружу. Мембрана сомкнулась за ним.
— Я плохой врач, — сказал монах. — Вернее, я совсем не врач. Так, эмпирик…
Он замолчал. Кот распластался по мне, тяжелый, мягкий, горячий. Казалось, он впитывает мою боль.
— Если использовать методы двадцатого века, вам придется задержаться у меня недели на две-три, — продолжал монах. — Или же — можно прибегнуть к активатору. У меня есть полевой бета-активатор. Тогда вы сможете ходить уже завтра. Что из этого меньше противоречит вашим принципам?
— Если всерьез — не годится ни то, ни другое. Как ты считаешь, Дарья?
— Может быть, — сказала Дашка невпопад. Потом она включилась: — Не знаю, папа. Это уже не игра.
— Это и не было игрой.
— Ты делаешь вид, что не понимаешь меня. Я ведь о другом.
— А ничего другого нет. Понимаешь, просто нет, и все. Тебе показалось.
— О чем вы? — спросил монах.
— О Леониде Андреевиче!..
— Дашка, прекрати, — сказал я. — Прекрати. Простите, у вас есть гипс? Я не хочу выходить из того времени, но и трех недель у меня нет. Если сделать более прочную повязку…
— Не получится, — сказал он. — Во-первых, у меня просто нет гипса. Конечно, за гипсом можно слетать в Абакан… это не будет противоречить вашему обету?.. впрочем, не важно. Самый прочный гипсовый сапог не защитит ногу от холода, будет отморожение и после — гангрена. Да и размокнет он на второй день… Поверьте, в двадцатом веке у вас здесь была бы четкая альтернатива: отлежаться в тепле — или умереть. В лучшем случае — потерять ногу. При такой вот пустячной травме. Весело, правда?
Я молча кивнул. Он был прав. Хотя признавать эту правоту не хотелось.
— Сейчас Леонид Андреевич принесет лед, обложим опухоль льдом, потом забинтуем. А вы пока подумаете… В каком году ваш предок был здесь?
— В тысяча девятьсот пятьдесят седьмом.
— И что, неужели он был один?
— Вдвоем. Он и мальчик-подросток. Они выжили после катастрофы маленького самолета и больше двух недель шли по горам.
— И сколько же ему тогда был лет?
— Пятьдесят шесть.
— А-а! И вы решили повторить его маршрут — в ваши-то годы? Извините, что об этом напоминаю, но… кости уже не те, да и силы, наверное…
— За что же тут извиняться? Все нормально… Знаете, я подумал вот как: будем активировать… Представим себе, Дашка, что мы отлежались с месячишко в пастушеской хижине? Ты охотилась на коз…
— Нет, я охотилась на диких горных ежиков. Все хорошо, папка. Ты правильно придумал… — и она вдруг шмыгнула носом.
— Что такое?
— Да я вдруг… Понимаешь, я вдруг представила, что прапра-пра вот так же подвернул ногу… и не дошел. И некому было его вылечить…
— Вся жизнь состоит из таких моментов, — глухо сказал монах. — Иногда мы их замечаем. Очень редко. Но именно из них по-настоящему и состоит жизнь.
Вошел Горбовский с ведром. Неловко потоптался у входа.
— Вот… я лед принес…
— Поставьте в уголок, пусть тает. Надобность отпала, Леонид Андреевич. Мы решили применить бета-активатор.
— А-а… Ну, понятно. Конечно. Да, это правильно. Вам еще чем-то нужно помочь, Роберт? Я чувствую себя бездельником.
— Вы гость. Но, если хотите, можете приготовить ужин. Нас, как видите, стало больше.
— Я приготовлю, — сказала Дашка.
— Но вы же еще больше гостья, — запротестовал Горбовский.
— Готовить буду я!..
— Лучше не спорьте с ней, — сказал я. — Во-первых, она действительно умеет, а во-вторых, вам ее не одолеть. Девочки в таком возрасте неодолимы.
Дашка просверлила меня взглядом и, вздернув короткий нос, повернулась к маленькой плите и продуктовому шкафу-стерилизатору.
— Мужчины, — презрительно сказала она, роясь в пакетах и коробках. — Одни консервы…
Ночью я сквозь тяжелую дрему услышал шепот. Не помню, что мне померещилось: какой-то зловещий заговор, наверное, — но я стал настороженно прислушиваться, одновременно всячески подражая спящему человеку. Но нет, это был не разговор, шептал один человек, монах, и я не мог разобрать слов. Будто бы угадывались имена: Ирина, Маргарита, Фатима, Анна-Мария… Герман, Игорь, Денис… Впрочем, я не уверен. Я лежал и вслушивался, а потом вдруг уснул.
К утру опухоль спала, и я даже смог, почти не опираясь на палку, пройти до нужника и обратно. Потом — вышел на крыльцо.
Солнце еще не показалось над хребтом, но небо было дневное. Длинные нервные облака летели высоко и стремительно, что-то предвещая. Но что именно, я вспомнить не мог. Именно по утрам я чувствовал, как сильно сдал за этот проклятый год… Но воздух был сладок, и ручей — пел. Я стоял, чувствуя что-то глубокое и настоящее. А потом подошел Горбовский и встал рядом.
— Дурацкая ситуация, — сказал он тихо. — И надо бы попросить прощения, но знаешь, что будет еще хуже…
— Нет, — я вдруг засмеялся; смех был скрипучий. — Хуже уже не будет.
— Ох-хо-хо… — протянул он горестно. — Так вот всегда и бывает. Бросаешься помогать, не думая ни о чем. И главным образом о том, что с тобой побегут другие люди и что они тоже — люди…
— Нас заворожило название, — сказал я. — Надежда… Надо же было такое придумать.
— Я знал эту Надежду, — сказал он. — Ну, в честь которой… Надежда Моргенштерн, балерина. Поплавский был влюблен в нее всю жизнь, планету назвал… а она в его сторону даже не смотрела. Странная была женщина… Сколько вам лет, Петр?
Он спросил это — будто в ледяную прорубь прыгнул…
— Тридцать шесть. Плохо выгляжу?
Он не ответил. Из домика вышел кот Бонапарт и стал тереться о мою больную ногу. Уже не такую больную…
— Интересное вы затеяли путешествие, — сказал Горбовcкий очень не скоро. — Значащее. Я вот размышляю… Наша нынешняя жизнь — все всерьез, но очень часто так: подойдешь к самому краю, а там — барьер, а там — страховка, спасатели дежурят. И вот — раз от раза — становимся слишком храбрыми, что ли. Наглыми. А когда вдруг — ни барьера, ни спасателей, и сделать уже ничего нельзя, и не отменить сделанное, и снова не начать…
— Да. — сказал я. — Это была авантюра. Но теперь-то уж… не бросать же на полпути. Дойдем.
— Я не об этом… — с тоской сказал он.
— А я — об этом. Только об этом.
Мы помолчали, переглянулись и пошли в дом.
Владимир «Воха» Васильев ПЕРЕСТАРКИ Рассказ по мотивам
— Тирьямпампация, — пробормотал Кондратьев.
А. и Б. Стругацкие. Полдень, XXII векМаврин, конечно же, надулся. Умеет он дуться — лицо сразу делается до невозможности презрительным, уголки рта опускаются, взгляд становится надменным. Сквозь прищур. Выстрел, не взгляд.
Капитан терпеливо вздохнул.
— Ну хорошо. Что ты предлагаешь?
— Ответить! — Маврин даже удивился. Словно бы говоря: «А что тут еще можно предложить?»
Капитан усмехнулся. Ответить! Словно у них энергии — пруд пруди. Или он сначала замедлиться предлагает?
Связь с Землей они утратили шесть лет назад. То есть теоретически, они могли получить сигнал с Земли, теоретически могли даже отправить ответный… но после этого «Форвард» вряд ли бы сумел завершить очередную пульсацию. Завис бы навеки неизвестно где, в душной щели между нормальным пространством и… пространством ненормальным. Нелинейным. В общем, застрял бы, как монетка за подкладкой.
— Ладно…
Капитан еще раз переспросил. На всякий случай:
— Тебе точно не померещилось?
Маврин опять надулся, но теперь капитан не обратил на это внимание.
— И за аппаратуру ты ручаешься?
— Ручаюсь, Как за себя.
Капитан фыркнул. Это звучало слишком двузначно: либо Маврин правдив до конца, либо свихнулся на пару со своим хваленым фар-спикером.
— Пошли, поглядим… Кстати, сигнал дешифруется?
— Не знаю. По-моему, он вообще не шифрован. Кто-то шпарит открытым текстом — в записи, скорее всего. На фар только самое начало прорывается, я прослушал, и сразу сюда.
Капитан уже более-менее отошел от экстренного пробуждения. Он натянул синий комбинезон, морщась, выпил стакан какой-то дрянной микстуры, поднесенный услужливым диагностером, пошел вслед за Мавриным. В рубку.
Как всегда после пробуждения, зверски хотелось есть. По коже бродили стада мурашек с иголочками вместо лапок, и капитан то и дело массировал затекшие мышцы рук и торса. До которых был в состоянии дотянуться. Очень хотелось — не меньше, чем есть — помассировать и ноги тоже — но не на ходу же? А останавливаться капитану не хотелось вовсе — Маврин опять, наверное, надуется. Нервный он стал какой-то…
«Все мы стали нервные, — подумал капитан. — Все. Черт бы побрал этот Космос! Зачем он такой безграничный? Летим к одной из самых близких звезд, давно летим, двадцать лет уже, и только-только подползаем к середине пути. Или к четверти, если обратный путь тоже считать…»
Маврин что-то говорил, оживленно жестикулируя, оборачивался, заглядывал в глаза капитану, и капитан машинально кивал, поддакивал, шевелил бровями, когда было нужно, но думал совсем не о выходках фар-спикера. Думал он обо всем сразу — и ни о чем конкретно.
«Нервные. Станешь тут нервным — „Форвард“ прет сквозь пространство, а на экранах ничего не меняется. Ни-че-го. То есть ничего и не должно меняться, и все это прекрасно знают. Но что-то внутри протестует. Вот, проснешься к очередной смене — и первым делом на обзорники в галерее. Жадно, словно от этого что-нибудь зависит. И наблюдаешь ту же картину, ту же паутинистую сеть звезд, рисунок которой успел заучить еще на поза-позапрошлом дежурстве. Только алая точка на диаграммере смещается дальше от условного знака Солнца. Единственная перемена в рубке…»
— …не может быть и эхом, потому что ближайшее скопление… — вещал Маврин, и капитан согласно кивал. Солидно так кивал, по-капитански, и глаза Маврина теперь становились значительными и даже чуть-чуть торжественными. Маврин любил, когда его хвалили. А, впрочем, кто этого не любит?
Двадцать лет. С лишним. Восьмая звездная стартовала и ушла к Сальсапарелле — в долгий, почти нескончаемый путь сквозь световые годы — и, увы! — сквозь годы обычные. На Земле прошло уже больше семидесяти. Три поколения, черт побери! Три поколения успело смениться! А они только полпути к Сальсапарелле одолели.
Может быть, правы те, кто считал звездные экспедиции преждевременными? Кто считал их трагическими шагами в бездну? Самарин, например.
Тогда, двадцать лет назад… хотя нет, не двадцать. Меньше — ведь большую часть времени капитан и остальные из экипажа «Форварда» провели в гиперсне. Но иногда капитану казалось, что он действительно постарел на двадцать лет. И — соответственно — стал смотреть на многие вещи немного иначе. Тогда, перед стартом, он презирал всех, кто высказывался против звездных. Считал их перестраховщиками и где-то трусами. И лицо, наверное, при этом у капитана делалось, совсем как у Маврина, когда тот недоволен.
Капитан вздохнул. Маврин осекся на полуслове, вопросительно заглянул капитану в глаза. Нескончаемый коридор вел в головную часть «Форварда» — коридор длиною в полтора километра.
— Может быть, стоило взять велосипеды? — озабоченно справился Маврин. — А?
— Ничего-ничего, — капитан бодро расправил плечи. — Пройтись после сна даже полезно. Сам, что ли, не знаешь?
Маврин смолчал, но взгляд у него теперь сделался подозрительный. Наверное, он воображал, что капитан не умеет читать его взгляды. Хотя Маврин, скорее всего, так же научился читать чужие взгляды…
Восемь человек в огромном корабле. Восьмая звездная. Они изучили друг друга, как узники-соседи по камере, приговоренные к пожизненому заключению.
Полтора километра от жилого блока до рубки. Это еще что — от жилого до реакторного кольца — шесть. Шесть километров. И еще столько же от кольца до дюз, но там коридора, естественно, нет. Там длинные сужающиеся трубы векторных ускорителей и пузатые нашлепки инжекторов на каждой трубе. Людям за реакторным кольцом нечего делать — да и не выживет там человек. Скафандр высшей защиты превратится там в излучение в миллионные доли секунды. Но все же чуть позже, чем человек внутри скафандра. За дюзами оставались обширные области искореженного, изломанного пространства, и никто, даже физики, не могли внятно представить, что там, во-первых, творится и когда, во-вторых, возмущения сгладятся и пространство придет в норму. А уж почему все это происходит… это вообще вопрос отдельный.
Впереди вставала овальная переборка с овальной же створкой шлюза. Маврин подошел к створке первым, откинул панель и бодро настучал код. Створка медленно провалилась внутрь, освобождая проход. Едва она закрылась, как ожила другая створка, напротив.
Кольцевая галерея, опоясывающая рубку, имела прозрачные стены. То есть, строго говоря, стены были непрозрачные — просто внутренняя поверхность стен представляла собой сплошной панорамный экран. И изнутри галерея выглядела, как гигантский прозрачный бублик, зависший между звездами.
Капитана всегда раздражало, что на части экрана, обращенной к корме, где полагалось быть коридору и могучим тягам-станинам, беззаботно сияли звезды. В том числе родное наше солнышко. Отчего-то все время казалось, что рубка оторвалась от корабля и летит себе не пойми куда, в межзвездную пустоту, не в силах ни замедлиться, ни ускориться, ни даже сманеврировать.
Какой психолог это просмотрел? Его бы сюда, да после шестимесячного дежурства… В голос бы взвыл! Едва миновали еще один шлюз, из галереи в рубку, капитан свернул налево. В сортир. Организм просыпался после долгой спячки. Маврин тактично покосился и ушел в рубку, где сразу же уселся у пульта фар-спикера.
Капитан вернулся спустя несколько минут.
— Вот! Вот! Глядите сами! — заорал Маврин, едва капитан вошел в круглый, как монета, зал. Мозг «Форварда», если угодно. Самое главное помещение на звездолете.
Но капитан первым делом взглянул, конечно, на диаграммер. Алая точка сместилась, но не так далеко, как он ожидал. Конечно, ведь разбудили его раньше, чем предполагалось…
На рисунок звезд капитан взглянул еще в галерее. На знакомые до отвращения очертания созвездий.
— Глядите! Опять принимает! — не унимался Маврин. Приемник фар-спикера мигал глазком индикатора. Он действительно что-то умудрялся вылавливать из окружающего эфира. Немного — всего шестьдесят четыре символа. Шестьдесят четыре байта. Одну-единственную строку. Остальное обрезал странный и не разгаданный пока закон фар-связи в режимах пульсации.
форвард прекратите пульсацию экстренно объяснения после земля
Шестьдесят один символ, и три пустых в конце.
Капитан тупо глядел на монитор. До сих пор он не мог поверить, до сих пор надеялся, что все как-нибудь просто и естественно объяснится, что все окажется не более чем неожиданным и приятным приключением, отвлекающим от рутины нескончаемого полета к Сальсапарелле.
Но все оказалось не так. Маврин ничего не напутал и ничего не приплел. Ничего ему не померещилось, и он не сошел с ума. Хотя оставался шанс, что они оба сошли с ума и что у них сходный горячечный бред.
До завершения очередной, семнадцатой, пульсации оставалось еще полтора месяца. Потом — короткое пребывание в обычном пространстве, придирчиво-тщательная ориентировка, расчеты и очередной прыжок за подкладку мироздания, когда четырнадцатикилометровый корабль-песчинка замирает посреди бесконечного ничто, и только далекие и равнодушные звезды видны из-за подкладки. Вблизи же не видно ничего. Да и нет ничего вблизи, кроме осколков пространства.
Но кто тогда посылает сигнал? Осколки пространства? Капитан с трудом подавил желание длинно выругаться.
— Надо тормозить! — без обиняков сказал Маврин. — А, капитан? Раз ответить не сумеем — тормозить надо.
«Дьявол! — подумал капитан. — Представляю, что начнется, когда придет Самарин, штатный циник восьмой звездной!»
Капитан наперед знал, что тот скажет, потому что Самарин уже тысячу раз говорил это. При всех. Еще на Земле, перед стартом.
Что они не долетят до Сальсапареллы. Что за годы полета на Земле пройдет уйма времени — и люди научатся прыгать к звездам. Прыгать, а не тащиться годами. И что все их мучения окажутся напрасными.
Капитан знал даже, какие именно слова скажет Самарин. Способ быстрого полета к звездам он назовет тирьямпампацией. Он будет говорить о музее Самарина в Вологде, сплошь мемориальных досках и о рогатом шлеме, который якобы носил Самарин в детстве. И о нехороших ассоциациях, связанных с бюро Вечной Памяти. И о моложавых потомках еще что-то скажет. А участников восьмой звездной назовет перестарками.
— То-то Самарин раздухарится, — проворчал Маврин, косясь на капитана.
Капитан слабо пошевелился.
— Мысли ты, что ли, читаешь?
— Только учусь, — отозвался Маврин с неожиданной тоской в голосе. — Капитан, неужели он прав?
— Как видишь, не совсем, — капитан пожал плечами. — Он прогнозировал веселье по возвращении из полета, а потомки, похоже, оказались гуманнее. Они решили предупредить нас еще по пути туда.
— Предупредить? — не понял Маврин.
— Предупредить, — холодно пояснил капитан. — Что Сальсапарелла давно изучена, что они туда летают на уик-энд и что там теперь искусственная планета-курорт размером с Юпитер. Или как там в книге-то?
— А-а-а, — дошло до Маврина. — И на том спасибо. Сколько лет мы сэкономим? Шестьдесят, что ли?
— Около того, — отозвался капитан. Мрачно отозвался. Очень мрачно.
— Зося не выдержит, — вздохнул Маврин. — Столько лет коту под хвост? Нет, точно не выдержит.
форвард прекратите пульсацию экстренно объяснения после земля
— Буди экипаж, — устало сказал капитан и поднял глаза на Маврина. — Слушай, где ты коньяк прячешь?
Маврин покраснел.
— Вы действительно знали?
— Сережа, в моем экипаже идиотов нет. Просто мой коньяк нашел Шапиро и, конечно же, выдул. А в каюту идти мне лень.
Маврин вздохнул и полез под кресло, в зип фар-спикера. Извлек початую бутылку «Юбилейного», сбегал на кухню и притащил пару стаканов. Дунул в них зачем-то, налил на два пальца каждому.
— Может, еще и бутербродики сообразишь? — попросил капитан. — Чес-слово, шевелиться не хочется… Ноги дрожат.
— Момент, Михалыч! — Маврин засуетился, поставил стакан с коньяком на пульт, отпихнул ногой раскрытый чемоданчик зипа и вскочил.
— Побудку-то все-таки включи. Время идет… — проворчал капитан.
Маврин торопливо заколотил по клавишам дежурного терминала. В полутора километрах отсюда вспыхнул ослепительный свет, выдергивая медблок из темноты, зацокали диагностеры, поднялись колпаки камер гиперсна. Пятеро звездолетчиков начали двухчасовой путь от небытия к жизни. А Маврин зайцем ускакал на кухню и чем-то там зашуршал, чем-то зазвенел. Там Маврин чувствовал себя хозяином. Почти как за пультом фарспикера.
— Кстати, — спросил капитан, повысив голос. — А где Маша?
— Спит! — прокричал Маврин с кухни, заглушая ровное гудение микроволновки. — Я на нее наорал, и она обиделась. Неделю уже.
— В смысле — гиперспит? — удивился капитан; одним глотком выпил коньяк и болезненно поморщился. — Осел ты, Серега. Разве можно так с женщинами?
Маврин виновато шмыгнул носом, опять громче микроволновки.
«Гиперспать» — это слово Маша же и изобрела. «Пойду-ка я погиперсплю…» Остальные на «Форварде» радостно подхватили это громоздкое словечко и употребляли его к месту и не к месту.
Маврин вернулся с подносом; увидел, что стакан капитана пуст, и вновь плеснул на два пальца «Юбилейного».
— Между прочим, — едко сказал капитан, — коньяк принято пить из бокалов. Пузатых таких бокалов, — он показал, каких. — На кухне в шкафу стоят, мог бы и отыскать. А ты — как студент, из гранчака.
Глаза у Маврина сделались наполовину виноватыми, наполовину озорными; сочетание было на редкость забавным. Капитан даже фыркнул. От выпитого коньяка по жилам растекалось приятное тепло, и отступала противная пустота в груди.
Пустота, порожденная боязнью, что Самарин окажется прав. Что дело, которому они посвятили всю жизнь, уже сделано другими людьми, сделано лучше, проще и надежнее.
И что они вернутся на чужую Землю, Землю будущего века, вернутся в качестве живых ископаемых, в качестве беспомощных-экспонатов исторического музея.
Они чокнулись и выпили — капитан восьмой звездной Виктор Сперанский и кибернетист восьмой звездной Сергей Маврин. Выпили и взяли по бутерброду с изящного, разрисованного диковинными цветами, подноса.
— Кстати, — сказал Маврин с набитым ртом. — А пульсацию прервать? Время-то идет, как вы изволили выразиться…
— Не раньше, чем проснутся остальные и мы обсудим этот вопрос, — спокойно отозвался капитан. Так спокойно, что Маврин даже жевать перестал.
— То есть — обсудим? Вы же капитан!
— А вдруг я сумасшедший капитан? А? — спросил Виктор, стараясь говорить спокойно. — А ты — сумасшедший кибернетист-связист-дежурный?
Маврин только глазами недоуменно хлопал. Капитан развивал тему:
— Вдруг это просто галлюцинация двух сумасшедших звездолетчиков? Навеянная, скажем, бутылочкой-другой «Юбилейного»?
Маврин немного обиделся:
— Я сегодня не пил… А даже если и пью иногда, то уж не до галлюцинаций… К тому же сходных галлюцинаций у разных людей, по-моему, не бывает.
— Много ты знаешь о галлюцинациях, — проворчал капитан. — Вот придут все, тогда и поглядим. Одинаковые галлюцинации сразу у восьмерых — вот это действительно маловероятно. А у двоих…
Капитан неопределенно пошевелил пальцами.
— Да ты наливай, наливай, — добавил он негромко. Маврин подчеркнуто четким движением взялся за бутылку.
Коньяк они допили. Бутерброды доели. Промолчали минут пятнадцать, и тут шлюз тихо пропел, открываясь. Вошел Герман Шапиро, физик, химик… и обладатель еще дюжины специальностей, как это принято у звездолетчиков. Велосипед Герман зачем-то протащил сквозь шлюз и прислонил к стене рядом с дверью в кухню.
— Что случилось? — ровным голосом спросил он и натолкнулся взглядом на бутылку из-под коньяка, по прежнему стоящую на краю пульта. Брови Германа поползли на лоб.
— Да, вот, — небрежно сказал капитан. — Кто-то мой коньяк выпил, пришлось Серегу раскручивать. Ты не знаешь — кто?
Шапиро замялся. Кончик носа у него предательски покраснел.
— Я думал, это коньяк Самарина…
— Самарин коньяк в библиотеке прячет, — сообщил Маврин со знанием дела. — На второй полке, слева. За «Железной башней» Строгова. Она как раз толщиной с бутылку, и высотой тоже.
Шапиро мельком взглянул на диаграммер и вздохнул.
— Так что случилось-то?
— Полюбуйся на фар-спикер, — посоветовал Маврин. Единственная строка все еще тлела в кубе монитора. Шапиро взглянул и насупился.
— Что это еще за новости?
— Это значит, — жестко сказал капитан, — что Самарин, кажется, прав.
Шапиро не успел ответить — снова пропел шлюз и в рубку ворвался расхристанный, как всегда, Леша Самарин. Комбинезон у него был застегнут косо и не на все пуговицы, ботинки — не зашнурованы, а кепка надета задом наперед. Он единственный из экипажа носил кепку — никто не знал, зачем или почему. Может быть, мерз?
— Что Самарин? Что Самарин? Самарин всегда прав!
Он задержал взгляд на диаграммере.
— Ух! Всего-то! Я думал, дальше отползли. Какое число сегодня? Я часы забыл. И месяц какой заодно?
— Десятое апреля, — не задумываясь ответил Маврин.
— Девчата где? — осведомился капитан. Самарин пожал плечами:
— Прихорашиваются, где же им быть? Это мы, балбесы, чуть гиперпроснулись — и в рубку…
Самарин улыбнулся, но тут взгляд его упал на монитор фар-спикера и улыбка медленно сползла с его губ.
— Да, — сказал капитан. — Похоже, мы-таки дождались.
Он внимательно глядел на Самарина, и Серега Маврин внимательно глядел на Самарина, и невозмутимый Шапиро тоже. А Самарин, штатный циник «Форварда», вдруг впервые за много лет полета стал растерянным — у него даже губы задрожали. Он молчал. И продолжал неотрывно глядеть на единственную строку на мониторе.
— Леша, а Леша? — ласково сказал умница-Шапиро. — Где ты прячешь коньяк? А то кэп с Серегой все выпили…
Капитан мрачно пропел панихиду экспедиционной дисциплине. Про себя пропел, конечно, не в голос.
— Коньяк? — отозвался Самарин нетвердо. — В библиотеке… Сейчас принесу…
И он уныло поплелся к шлюзу. Его бутылка оказалась непочатой.
Они приканчивали ее, когда вошли девчата — все, как одна, свежие, подтянутые и благоухающие.
— Привет, звездные волки! — радостно поздоровалась Марина, жена капитана. Увидев тару с коньяком и без, она удивленно округлила глаза.
— Ничего себе! Пьянка на рабочем месте? Мы что, уже прилетели? Досрочно?
— Вот именно, — буркнул Самарин. — Прилетели.
Самарин снова становился циником. Жена его, Тамара, мельком взглянув на диаграмму, немедленно принялась по-людски застегивать и одергивать его комбинезон и тихо что-то выговаривала ему.
— Фар-спикер принял сообщение, — официальным тоном объявил капитан. — Попрошу ознакомиться и высказаться.
Для ознакомиться понадобилось меньше минуты.
— Значит ли это, — вздрагивающим голосом спросила Зося Симушкевич, жена Германа, — что наш полет досрочно завершен по сценарию Алексея?
— По форсированному сценарию Алексея, — поправил Самарин.
Зося повернулась к нему.
— По форсированному сценарию Алексея, — согласилась она и вопросительно поглядела на капитана.
Капитан почему-то обрадовался возвращению Самарина в роль штатного циника. Самарин с дрожащими губами нравился ему куда меньше — как капитану восьмой звездной. А вот как человеку… Впрочем, вздор! Ты — капитан, Виктор. Сейчас ты капитан, и отвечаешь за них всех. В том числе за собственную жену.
— Ребята, — сказал капитан терпеливо. — Я знаю не больше вашего. Я видел ту же строку на мониторе, что и вы. А Сережа Маврин ее принял — только и всего. Я сижу здесь, — капитан взглянул на часы, — уже полтора часа. И полтора часа пью коньяк. Потому что боюсь: все окажется именно так, как расписывал Самарин, и нам ничего не остается, как вернуться на Землю средствами наших далеких потомков и вместо того, чтобы стать первоисследователями одной из звезд, сделаться историческим курьезом эпохи досветовых полетов.
У нас есть два пути. Путь первый: плюнуть на все и не прерывать пульсациию. И, скорее всего, стать курьезом, бессильным в своем упрямстве и упрямым в своем бессилии. И путь второй: замедлиться и узнать, в чем дело.
— Вдруг окажется, что все не так уж плохо, — вставил Шапиро. — Вдруг они просто догнали нас, потому что научились летать немного быстрее. И хотят просто сэкономить нам пару лет.
Самарин поразмыслил и немедленно возразил:
— А если окажется, что это какие-то необъяснимые глюки фар-спикера? Тогда мы потеряем несколько лет на прерванной пульсации.
Все невольно взглянули на Маврина, повелителя пульссвязи.
— Ну, — спросила Маша, простив, наверное, уже своего непутевого мужа. — Могут у твоей шарманки случиться глюки?
Маврин неопределенно пожал плечами:
— До сих пор не случались. Но кто поручится?
Некоторое время все переглядывались.
— Я с трудом могу представить себе человека, который в подобной ситуации протестовал бы против решения замедлиться и выяснить, в чем дело, — осторожно сказала Марина, и украдкой переглянулась с мужем. Капитан мысленно поблагодарил ее.
— Я тоже, — присоединился Шапиро.
— Два, — подытожил капитан. — Точнее, три, я тоже за остановку. Остальные? Я не тороплю. Можете подумать.
— Что тут думать! — воскликнул Маврин. — Я чуть сразу не остановил пульсацию. Но потом все-таки решил посоветоваться с нашим уважаемым капитаном! — Маврин картинно поклонился в сторону Виктора.
— Спасибо, — серьезно сказал капитан. — Уважил!
Зося мучительно улыбнулась. Именно мучительно. Капитан тотчас пожалел, что решился шутить в такой неприятной ситуации.
— Ну что, Зося? — участливо спросила Маша. — Просоединимся к мужьям? Не допустим в семьях разногласий?
Зося зябко передернула плечами.
Капитан хотел сказать: «Итак?», — но вспомнил, что пообещал никого не торопить.
— Да что там, капитан, — взмахнул рукой Самарин. — Верти рубильник. Лучше быть неудачниками, чем идиотами.
— Есть возражающие? — осведомился капитан, прикрыв глаза. Ответом ему была мертвая тишина. Капитан выждал добрую минуту.
— Маврин, — скомандовал он потом. — Ты дежурный. Приказываю: ввести программу на прерывание пульсации.
И на душе сразу стало легче. Все, решение принято… а там — хоть в омут головой. Это легче, чем стоять на бережку и мучительно выбирать: прыгать? Не прыгать?
Только бы вода оказалась не слишком холодной.
— Мальчики, — тихо спросила жена капитана. — А мне коньяку нальете? Немножко…
— Попроси Серегу, — невозмутимо посоветовал Шапиро. — Он ведь дежурный. Или даже нет — не попроси, прикажи.
Марина улыбнулась. Натянуто, напряженно, но улыбнулась.
И капитан в который раз порадовался, что ему достался хороший экипаж. Лучший.
Возвращение из-за подкладки мироздания в обычный космос всегда проходило незаметно. В какой-то момент пространство за кормой «Форварда» просто перестало сминаться и крошиться, скорость стала просто скоростью, не дотягивающей до светового барьера процентов десять, и продолжала стремительно падать. Система искусственной гравитации работала теперь в режиме компенсации, гасила перегрузки отрицательного ускорения. Запустилась вся аппаратура обычной ориентировки; Маврин, сидя в кресле дежурного, обшаривал мегаметры окрестного пространства. Искал тех, кто отправил те самые шестьдесят четыре байта. Строку, которая одним махом убила восьмую звездную.
— Вот он! — выдохнул Маврин, на миг прекратив яростно колотить по клавиатуре. Локатор высвечивал на экране крошечную точку. Пылинку. — Какой крохотный!
Вскоре точек стало две — их встречал даже не один корабль.
«Надо же, экая помпа! — подумал капитан с раздражением. Целых два корабля!»
— Давай связь, что ли… — поторопил он Маврина. Хотелось побыстрее покончить со всем. Выслушать заранее известные слова и понуро идти собирать вещички.
«Интересно, — отстраненно подумал капитан, — а что станет с „Форвардом“? Как они его назад к Земле гнать будут? Или бросят здесь? Вряд ли бросят, все-таки бездна труда в неге вгрохана. Сколько оборудования, сколько сырья… Хотя все оборудование, понятно, устарело, причем безнадежно. Что до сырья… Наверное потомки изобрели какой-нибудь синтез. Не смирятся же они с недостатком сырья? А сырья всегда не хватает…»
Капитан потряс головой, отгоняя назойливые и никчемные мысли.
В тот же миг ожил экран перед пультом — установилась связь. На них взглянул потомок. Очень, надо сказать, моложавый потомок, на вид ему трудно было дать больше двадцати лет. Капитан невольно покосился на Самарина.
Самарин был мрачен, но глядел на потомка с неприкрытым интересом.
— Сейчас нам расскажут о легенных ускорениях, к которым нам не следовало прибегать, а мы, тем не менее, прибегли… — буркнул он. Капитан с неодобрением покосился на Самарина, но тот умолк и капитан ничего не стал говорить.
— Фу-у! — облегченно выдохнул потомок. — Наконец-то! Четвертый день за вами гоняемся…
У капитана что-то оборвалось внутри. Четвертый день. М-да. Они уродовались в этом гигантском металлическом гробу годы. Двадцать лет в общей сложности.
И — «четвертый день». Масштаб просто убил капитана. Уничтожил на месте. Распылил и развеял по всему космосу.
Можно было готовиться к участи музейного экспоната.
Потомок улыбался. Открыто и дружелюбно. Он ничего не понимал, наверное. Кому в двадцать лет доводилось пережить крушение мечты?
— Здравствуйте, восьмая звездная! Для вас есть хорошие новости!
— Не сомневаемся, — ядовито ответствовал Самарин. — А какие именно?
Потомок подобрался, принял официальный вид и заявил:
— Говорит Тарас Вознюк, курсант школы космогации. Малый поисковик «Клен сто семь». Первым делом: ваше локальное время? С момента старта.
— Виктор Сперанский, капитан восьмой звездной. Бортовое время: двадцать первый год, сто двадцать шестые сутки полета, время — семь тридцать… уже тридцать одна.
Вышло чересчур сухо; капитан вдруг подумал, что зря он так. Ведь этот паренек ни в чем не виноват.
Другое странно. Все-таки капитан надеялся, что разговаривать с ними будет кто-нибудь из правительства, из космического ведомства, наконец. А тут — какой-то веснушчатый кадет…
Странно. Очень странно.
— Ага… Понятно, — протянул Тарас, кивая. — Жаль, вчера мы не перехватили вас на входе в пульсацию. Вы года три лишних потеряли…
Тут кадета кто-то, похоже, пихнул в бок. Он повернул голову и переглянулся с кем-то за обрезом экрана.
Самарин с леденящей душу вежливостью осведомился:
— А нам позволено будет поинтересоваться — какой год сейчас на Земле? Или никаких вопросов — сразу в карантин?
— Карантина не будет, — так же вежливо ответил Тарас. — А на Земле сейчас две тысячи триста сорок второй год, июль, двадцатые числа. Плюс-минус два-три дня, я не уточнял девиацию. Теперь полеты и время связаны не так, как раньше, вы, наверное, уже догадались.
— Несомненно, догадались, — процедил Самарин. — Ты, давай, давай, рассказывай кадет. Об участи нашей неизбежной. Сразу нас на помойку выбросят или сначала историкам отдадут?
— Самарин! — жестко предупредил капитан. — Полегче!
Самарин вздохнул. «Вряд ли он угомонится», — подумал капитан с безнадегой. Но кадета, похоже, смутить было трудно.
— Как вы уже поняли, на Земле выполняется программа перехвата звездных экспедиций на досветовиках. Мы пришли за вами, восьмая. Виктор Михайлович, я представляю ваши чувства, но поверьте: все обстоит совсем иначе, чем вы думаете. Конечно, полет «Форварда» будет прерван, потому что досветовики себя изжили и ломиться к Сальсапарелле еще двадцать лет нет никакого смысла. Я не знаю, чего вы ожидали первым делом — психологов или земных лидеров, — знаю только, что не меня вы ожидали увидеть и услышать, не курсанта-практиканта.
Незачем вам психологи, ничего страшного не произошло и не произойдет, мы все работаем и будем продолжать работать, каждый будет заниматься своим делом…
К удивлению капитана никто Тараса Вознюка не перебивал, даже Самарин. Все слушали. Затаив дыхание.
— И вы продолжите свое дело, просто немного поменялись условия. Только и всего. Поговорить, конечно, надо, и не следует воображать, что разговор предстоит особенно долгий. Но, полагаю, вы не станете возражать, если мы поговорим живьем? Гасите скорость до стыковочной, к вам сейчас подойдет «Февраль» — это парный звездолет, и «Форвардом» займутся специалисты-шаттехники, он свое отслужил. Вы погрузитесь на «Февраль», пройдете курс реабилитации и продолжите экспедицию. Все в порядке.
Тарас просто обязан был сейчас улыбнуться. И он улыбнулся.
— Простите, — переспросил Шапиро с легким недоумением. — Что значит — продолжим экспедицию? Нас что — не снимают? Мы еще на что-то годны по-вашему? Или на Земле все годы после нашего старта прогресс стоял на месте?
— Нет, не стоял, и наша встреча лучшее тому подтверждение. Решен вопрос межзвездных перелетов, как нетрудно догадаться. У Сальсапареллы будете через две недели, как раз реабилитацию успеете пройти. Техническую реабилитацию, вы ведь все специалисты и, соответственно, вам нужно скорректировать профессиональные навыки в свете современной науки. Современной нам. Надеюсь, вы понимаете, что наука с момента вашего старта несколько продвинулась?
— И что, кто-нибудь полагает, что нас можно переучить? — недоверчиво протянул Самарин. Яда в его голосе уже не было. Испарился. Остались удивление и некоторая растерянность.
— Не полагает, а точно знает. Методика отработана. А чтобы было понятнее, знайте: перед вами человек, который снял с трассы четыре звездных. Вы — пятые.
Тарас говорил не без гордости, но капитана мало интересовали достижения кадета. Другое его интересовало.
— Пятые? А кого уже сняли?
— Я снимал десятую, двадцать седьмую, тридцать седьмую и сорок четвертую.
— Десятую? Которую вел Харченко?
— Нет, — помотал головой Тарас. — Харченко вел двенадцатую. Спустя девять лет после вашего старта.
К тому моменту «Форвард» уже разогнался и утратил связь с Землей. Значит, что-то изменилось, и Харченко не попал в десятую. «Впрочем — о чем я? Отвлекаюсь…» — подумал капитан.
— А что, — осторожно поинтересовался Маврин. — Сальсапарелла еще не изучена?
Тарас помотал головой, так что рыжая его шевелюра заволновалась, как трава на ветру.
— Нет, конечно. Когда? Мы строим новые звездолеты всего четыре года, и первая программа, которую утвердили к выполнению в совете космогации, — это программа снятия звездных экспедиций с досветовых кораблей. К тому же на Земле не хватает космонавтов. Они все в космосе, в звездных. Я курсант, и первый выпуск в нашей школе только в этом году. Через пару месяцев. Собственно, я буду в первом выпуске, а сейчас у курсантов практика. Очень интересная практика!
Тарас расплылся в улыбке.
— И, кстати, — добавил он вскользь. — Никто не строил у Сальсапареллы искусственных планет, а в Вологде не создавал музея. И бюро Вечной Памяти у нас нет.
Восьмая звездная поражение замерла. Восьмая звездная затаила дыхание, так что стало отчетливо слышно тикание сильдокорректора. Семеро из восьмой звездной дружно поглядели на ошеломленного Самарина, а ошеломленный Самарин — на своих коллег.
А Тарас громко и заливисто расхохотался. И пояснил:
— Нет, не думайте, что мы научились читать мысли. Просто все космонавты очень любят эту книгу. И десятая, и двадцать седьмая, и сорок четвертая.
И мы ее тоже любим. Не слишком странно, правда ведь?
9–10 октября 1997 г. МоскваАлександр Щеголев ПИК ЖИЛИНА
Прощальные стихи на веере хотел я написать, в руке сломался он.
Басе, сын самураяГлава первая
— Консервы, — с сожалением констатировал таможенник. — Зачем они вам?
— Странный вопрос, — улыбнулся я. — Угадайте с трех раз.
Он укоризненно взглянул мне в глаза, вздохнул и ничего не ответил. Мой чемодан лежал перед ним на столе. Крышка чемодана была откинута, незамысловатый багаж одинокого путешественника выставлен напоказ. Я ощутил легкое раздражение.
— Надеюсь, мясопродукты не подлежат у вас повсеместному изъятию?
— Нет, конечно, — снова вздохнул таможенник, взял тонкими длинными пальцами одну из пластиковых банок и принялся ее брезгливо разглядывать. — Вам, наверное, опытные люди посоветовали взять это с собой?
Я развернулся на сто восемьдесят градусов и огляделся. Другие пассажиры, прибывшие тем же рейсом, свободно проходили через турникеты, не задерживаясь возле барьеров дольше обычного. Предъявить вещи к досмотру попросили меня одного.
— Вы тот самый Иван Жилин? — спросил он тогда меня в спину.
— В каком смысле «тот самый»?
— Вы указали в анкете, что по профессии писатель…
— Ах, вот из-за чего по отношению ко мне проявлена такая строгость.
— Честно говоря, да, — согласился таможенник, смутившись на секунду. — Я почему-то подумал, что вы — тот самый Жилин. Простите, если ошибся.
Понять, шутит он или нет, было непросто, поскольку взгляд его сосредоточенно шарил по моему чемодану, не участвуя в разговоре. Нормальный с виду парень, лет двадцати пяти. Форма очень шла его честному лицу, как и этот белый барьер, как и вся эта ситуация. Некоторые люди рождаются, чтобы быть стражниками, и ничего тут не поделаешь. Закончил училище, конечно, с отличием. И, конечно же, не пьет и не курит, и с девушками, надо полагать, у него тоже все в порядке. Вот только мясные консервы почему-то невзлюбил.
— Что же вы памятку невнимательно прочитали? — укоризненно спросил он, не поднимая глаз. — Алкоголь ввозить запрещено. Мне очень жаль.
— У вас многое изменилось, — сказал я, пытаясь показать, что эта новость ничуть меня не потрясла. — Здесь что, сухой закон?
— Нет, спиртные напитки разрешено продавать и даже производить. И, тем более, их можно употреблять.
— Еще бы! Что же тогда нельзя?
— Только ввозить.
— Всего две бутылки, — подмигнул я ему. — Друзьям. Они на меня обидятся, если я заявлюсь просто так, можно сказать, без повода. Они знают, что я никогда не заявляюсь без повода.
Он придвинул ко мне чемодан и произнес, испытывая явную неловкость:
— Можете сдать водку на хранение, а на обратном пути получите ее в целости. Прошу вас, товарищ Жилин. Вы только не волнуйтесь…
Волноваться не было причин, ведь порядок — он порядок и есть. Я собственноручно вытащил несчастные бутылки «Скифской» и поставил их на стол перед суровым таможенником. Анджей, конечно, не обидится, озабоченно думал я, даже полвопроса не задаст, ему достаточно меня самого, но, ей-богу, даже как-то стыдно, я ведь этой водкой просто хотел сделать ребятам приятное, показать, что до сих пор помню их вкусы, ведь мы семь лет не виделись, а семь лет назад, когда заварушка закончилась нашей общей победой, мы пили именно «Скифскую», именно Курского розлива, и Анджей с Татьяной, хоть и были принципиально непьющие, нагрузились до полного непотребства…
— Дарю, — сказал я таможеннику. — На обратном пути мне это уже не понадобится.
— Сейчас, — засуетился он, — я выпишу вам квитанцию.
— Лучше выпей за мое здоровье, дружок. Как я догадываюсь, ничего, кроме здоровья, ты в этой жизни не ценишь.
— И еще я обязан предупредить вас о том, что в анкете следует указать истинную цель визита, а также истинный род занятий. — Он оправил форму, хотя оправлять там было решительно нечего, он стряхнул с себя неловкость, как стряхивают прилипшую к пальцам паутину, и объявил: — У нас не лгут. Любая ложь в анкете — это основание для высылки, — и вдруг улыбнулся. — Если вы, к примеру, шпион, так и напишите — шпион…
Мы оба посмеялись, потому что теперь точно была шутка.
— А вы, значит, никогда не лжете? — спросил я — Вы лично?
— Даже по долгу службы.
— Как интересно. Сами не лжете, а другим не доверяете.
Я взял чемодан под мышку и пошел в коридор, а он с улыбкой произнес мне вслед:
— И все-таки вы похожи на памятник, товарищ Иван Жилин.
— Что? — я приостановился.
— Я уверен, что вы захотите жить иначе. Как и большинство людей, которые приезжают к нам. На площади стоит памятник, вы его обязательно увидите. Желаю вам здоровья.
Не люблю таможенников, думал я, преодолевая кондиционированное пространство вокзала. С их внешней правильностью, которая, как правило, только внешняя. Хотя здоровья он мне пожелал, по-моему, искренне. Какая сказочная наивность, думал я, проходя сквозь аркаду на привокзальную площадь. Нормальный человек не может всерьез воспринять обещание, будто бы за правду ничего не будет, какая бы она ни была, так на кого же они тут рассчитывают? Или сюда теперь ездят только ненормальные? Поистине, здешний рай для туристов сильно изменился, думал я, вдруг ощутив себя старым и даже устаревшим…
Невероятно пахло морем — как только и может пахнуть на привокзальной площади курортного города, продуваемого всеми ветрами, и запах этот есть первое, что обнаруживает странник, вернувшийся сюда после многих лет разлуки. Уже к вечеру я перестану его замечать, но сейчас, вытряхнутый из комфортабельной клетки скоростного поезда, я был именно таким странником. И еще пахло пылью… Некоторое время я тупо принюхивался. Разладились уличные фоноры? Я удивлялся, пока не сообразил, что каменная мозаика пешеходной зоны, равно как и асфальт в центральной части площади, почему-то не были покрыты статиком. Южное солнце свирепело с каждой минутой, нагревая Землю, и пыль устремлялась с потоками воздуха вверх, в сторону Космоса. Прошла поливальная машина, освежая асфальт банальной водичкой. Пробежал сосредоточенный молодой человек, шумно дыша носом, за ним — девушка. Красивые загорелые тела, широкие шорты и майки. Роскошный старик, обнаженный по пояс, делал на газоне гимнастику. Кроме этих чудаков, народу было мало. Город еще просыпался, пестрые группы людей наблюдались только возле стоянки кибер-такси и вертолетной площадки. Жизнь вокруг была вялой, блеклой, совсем не такой, как потоки бриллиантовых брызг из кранов поливальной машины.
Я осматривался, тщетно пытаясь разжечь в себе хоть искру сентиментальности. На крышах домов в противоположных концах площади имели место две гигантские надписи, которые, надо полагать, по вечерам горели огнем и которых, разумеется, раньше не было и не могло быть. Одна гласила: «ЦЕНА ЗДОРОВЬЯ — ЖИЗНЬ. ВСЯ ПРЕЖНЯЯ ЖИЗНЬ», другая: «МЫ — ДЕТИ ПРИРОДЫ». Над домами торчала игла нового телецентра, который семь лет назад лишь начинали строить. Как прежде, радовал глаз неугомонный фонтан, в изобилии стояли пальмы, цветастые тенты и павильоны. Скучали без дела механические носильщики. И не было никакого памятника. Где же памятник, призвал я к ответу всех таможенников разом, но не было мне ответа…
Таможенный офис также оказался на прежнем месте и в прежнем виде. И вот это как раз было самым удивительным, если вспомнить, какая участь его постигла. Я мстительно повспоминал. Мерзкое было сооружение: три этажа бетона, металла и стекла. Половину его занимал собственно офис, а во второй половине размещался вычислительный центр, обеспечивавший контроль туристических потоков. Единственной выступавшей частью был широкий козырек под крышей, предохранявший окна начальников от прямого солнечного света. Анджей ударил ракетой точно в сейсмический шов, в первый этаж, с расстояния не больше ста метров, и железобетонная коробка начала складываться внутрь себя, дома-то в городе ставят без нормального фундамента, кому охота забивать сваи в скальную породу, но Анджей не пожалел вторую ракету, добив ненавистный символ прежнего порядка. Сотрудников в здании давно уже не было, люди из этого района разбежались сразу, едва мэрия огласила список объектов с особым порядком управления. Анджей тогда чуть не попал под трибунал, но дело ограничилось временным выводом его из состава Совета… В тот день зарезали сестру Анджея. Сделал это один из слегачей, перепутавший свой грязный сон с реальностью, и когда безумца скрутили, им неожиданно оказался начальник таможни. Психоз, незримо тлевший в голове чиновника, вспыхнул адским пламенем, и слегач пошел развлекаться на улицу, одолжив у своего садовника секатор для подрезания ветвей…
Вот оно, передо мной, уничтоженное таможенное управление. Словно дубликат здания привезли со склада и поставили на то же место. Или нет, не так — рухлядь торжественно достали из захламленного чулана и, наспех сдув пыль, объявили ее чистой, а пыль повисла над городом, медленно отравляя воздух… Ага, у писателя заработала фантазия. Включился генератор пафоса. Это не страшно, это мы выключим. Просто ребята из местного Совета всерьез были уверены, что настало время жить без границ и таможен, без запрета на иммиграцию и так далее. Планировали, что разместят здесь электронную библиотеку, в которой под патронажем Университета откроется международная школа юных программистов. Где они, эти мечты?
Я развернулся, потому что за моей спиной кто-то стоял. Не люблю, когда ко мне молча подходят со спины, — у меня начинает чесаться между лопатками и хочется сделать что-нибудь резкое. Привычка, выработанная годами бурной жизни.
— Здравствуйте, Ваня, — сказал человек тихим голосом, и сказал он это на чистейшем русском языке. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Очевидно, он ждал, что я его узнаю. Я его не узнавал, и тогда человек с явным облегчением улыбнулся:
— Вы не меняетесь, Ваня. Такой же громадный, такой же жуткий, как и были. Где ваша знаменитая клетчатая рубашка?
— Привет, — откликнулся я. — Рубашку я не надел, потому что прибыл инкогнито. Мы что, знакомы?
— Это я вас вызвал.
— Вот как? — я вежливо удивился. — А я, наоборот, никого не вызывал. Вы, надо полагать, гид? Обслуживаете туристов?
— Я всех обслуживаю, даже тех, кто об этом не просит.
— Нетрадиционный подход. Но мне, большое спасибо, провожатые не нужны. Только не обижайтесь. Еще раз спасибо.
Я поднял с земли чемодан, решая, куда двинуться. Собеседник меня не заинтересовал, как бы обидно ему ни было. Что-то знакомое и вправду чудилось в его простоватом лице, что-то крепко забытое, какие-то запахи, голоса, и теснота, и жара, и холод, но прошлая жизнь давно уже не вызывала во мне никаких чувств, кроме досады. Никаких чувств. Пробудить мое любопытство способно было одно лишь будущее и, в некоторой степени, настоящее.
Сразу отправиться к Дим Димычу, в Строгий Дом, размышлял я, и исполнить то, ради чего, собственно, весь сыр-бор… Или начать следовало с другого? Можно было пойти в отель и попытаться разыскать кого-нибудь из наших. Можно было с ходу, не сходя с этого места, позвонить местным, тому же Анджею Горбовски. Или усесться вот здесь, под тентом крохотного уличного ресторанчика, и позавтракать, жуя вместе с вегетарианским шницелем столь же нелепые воспоминания? Больше всего мне хотелось стряхнуть внезапно возникшую блажь, вернуться в здание вокзала и уехать обратно.
— Не хотите отойти? — предложил незнакомец, обогнув меня сбоку. Незнакомый знакомец. Почему-то он был еще здесь, никуда он не делся, настырный малый.
— Зачем?
— На нас смотрят.
На нас действительно смотрели, я и сам это уже заметил. Вернее, заметил не я, а тот мнительный и крайне неприятный во всех отношениях человечек, который поселился в моей голове как раз со времен славного боевого прошлого. Уличный ресторан, рядом с которым я остановился, не был пуст. Под широким полотняным навесом возле входа, почти касаясь затылком зеркальной витрины, сидел единственный клиент. Это была пожилая дама. Симпатичная такая старушка, крохотная, но довольно пышных форм, в вязаной панаме кораллового цвета, прикрывающей жидкие седые кудри, в льняных брючках и парусиновых туфлях. Дама потягивала что-то безалкогольное и делала вид, будто не нужны мы ей вовсе. Кого она хотела обмануть? Человечка, прогрызшего дырки в моей голове?
Чистейшая паранойя. Профессиональная болезнь всех бывших агентов, ушедших на пенсию писать мемуары. Цыц, шуганул я человечка, пошел вон… И мы с ним пошли по аллее, в сторону второго точно такого же ресторанчика, размещавшегося метрах в двадцати от первого.
Знакомый незнакомец зашагал рядом.
— Я не гид, Ваня, — застенчиво сообщил он. — Вы, наверное, не поняли. Это ведь я во всем виноват.
— В чем?
— Хотя бы в том, что вы приехали в эту страну. Это я вас сюда вызвал.
Я приостановился. Сумасшедший? Или они здесь так развлекаются?
— Разумеется, — приветливо кивнул я ему. — Все в порядке, дружок, я же не против.
Он избегал моего взгляда.
— Смеетесь, Ваня. Правильно, я бы тоже на вашем месте смеялся. Жаль, что у нас почти не осталось времени поговорить… — Собеседник внезапно прервался и остро взглянул вверх. — Они прилетят на вертолете, — он показал пальцем. — Оттуда.
— Вертолет тоже вы вызвали?
— Нет, вертолет вызвали те, кто нас сейчас подслушивает.
Ого, подумал я. Еще и мания преследования. Забавно началось утро, нельзя не признать. Впрочем, этому человеку, вероятно, нужна помощь, а я тут шутки шучу вместо того, чтобы снять с пояса радиофон и срочно позвать более компетентных собеседников… На всякий случай я переложил чемодан из правой руки в левую. Правая у меня ударная.
— Да вы не волнуйтесь, — сказал он, — все кончится хорошо. Запомните, пожалуйста, главное. То, что предназначено для вас, находится в камере хранения. Пароль ячейки совпадает с названием бара, в котором мы с вами когда-то познакомились, а номер ячейки — это номер в гостинице, куда вы меня тем же вечером отправили. Ну как, припоминаете что-нибудь? Только не произносите, пожалуйста, ничего вслух.
Ничего я не припоминал, хотя его лицо и было мне знакомо. Если человек с тобой здоровается, а ты не можешь понять, кто он такой, значит, он в твоей жизни не значил ровным счетом ничего. В твоей прошлой жизни…
— Кто вы такой? — спросил я.
— Не узнаете? Надо же, как сильно я изменился. Это хорошо. Когда вы меня вспомните, Ваня, прошу вас, не бегите сразу в камеру хранения, дождитесь момента истины. Вы межпланетник, вы все поймете правильно. То, что предназначено для вас, — ваше и только ваше, но я хочу, чтобы вы не торопились. Не торопитесь, Ваня.
— Если честно, я очень тороплюсь, — возразил я, — а мне еще от «хвоста» надо избавиться. Показать, как межпланетники избавляются от «хвоста»?
Он странно улыбнулся. И наши взгляды наконец встретились. В глазах его была смертельная тоска.
— Вы все поймете правильно… — успел повторить он, прежде чем разговор кончился.
Звук возник резко, внезапно, заполнив собой мир, и пришел этот звук с неба. И еще — ураганный ветер. Рев двигателя. Я поднял голову — на аллею, едва не срезая лопастями пальмы, опускался могучий штурмовой «Альбатрос». На пятнистом корпусе не было ни опознавательных знаков, ни номера, была только невразумительная буква «L». Очевидно, геликоптер подкрался, используя новейшую акустическую и оптическую защиту. А потом что-то произошло, словно искра соскочила со лба винтокрылой машины, оставив в воздухе невесомую паучью ниточку, и земля под ногами дрогнула, и стало невероятно свежо, именно так, как всем хотелось в это насыщенное солнцем утро, порыв ветра сделал изображение расфокусированным, плоским, свет разъедал глаза, как кислота, но не нашлось сил, чтобы просто прикрыть веки, зато звуки приобрели очерченность, контрастность, и еще было странное ощущение в горле и в груди, потому что вдруг оказалось, что я перестал дышать, и тогда я вспомнил, что все это со мной уже случалось, когда в Маниле наша группа поймала импульс диверсионного парализатора. Мысли текли медленно, как клей из опрокинутой банки. Эти тоже сбросили парализатор, медленно подумал я. Кто «эти»? С борта геликоптера один за другим спрыгивали безликие пятнистые фигуры, их прыжки были такими же тягучими, как мои мысли, как все вокруг. А потом я упал.
Мир повернулся набок, и стал виден гарпун антенны, воткнувшийся в газон, — ровно посередине между киоском мороженщика и цветочными часами, символизирующими единство непостоянного и вечного. Ага, вот откуда в пространство ушли вибрации, заморозившие любое живое движение в радиусе десяти метров! Мороженщик лежал, как и я, боком — вывалившись из двери своего киоска. Лежал старик, занимавшийся на газоне физкультурой. И только мой знакомый параноик, которого я не успел сдать дежурным психиатрам, удирал прочь. Он бежал нестерпимо медленно, высоко задирая локти. Неужели есть люди, неторопливо размышлял я, на которых парализатор не действует? Чудеса. Такому бы в антитеррористических отрядах служить, а не развлекать туристов в этом провинциальном рае… Одна из безликих фигур отработанно присела на колено, прицеливаясь из вакуум-арбалета. Сверкающая черта бесшумно пронзила воздух. Бегущий по площади человек взмахнул руками и опрокинулся на спину.
Движение еще замедлилось, хотя, казалось бы, куда уж больше. Кто-то уносил подстреленное тело с асфальта и затем грузил его за руки за ноги в геликоптер. Кто-то вынимал из земли антенну, кто-то обыскивал, переговариваясь по радиофону, лежащего на земле свидетеля и его багаж (свидетелем был я), наконец — прощально взревели моторы, и все звуки разом стихли, как будто штепсель из розетки выдернули. И все вокруг остановилось. Не осталось ничего, кроме моих слабо шевелящихся мыслей, а потом остановились и они.
— Я читал роман одного русского, по фамилии Жилин, — сказал лейтенант. — Он над нами немножко посмеялся. Вы имеете к этому писателю какое-то отношение?
— А вы подозреваете всех русских, — уточнил я, заставив деревянные губы двигаться, — или только тех, кто с фамилией Жилин?
— Ну что вы! — расцвел он улыбкой. — Русских я обожаю, сумасшедшая нация. Когда ООН сняла блокаду, к нам приехало много добровольцев из Советского Союза и большинство здесь осело. И, между прочим, не одна молодежь. Вы читали Строгова?
— Да как вам сказать…
— А я люблю его книги, жаль только, ничего нового он давно не издавал. Так вот. Строгов теперь живет у нас. Поселился основательно, купил дом, и лично мне кажется, что этот факт знаменует собой некую глобальную закономерности… Нет, нет, сумасшедшая нация! И Жилин ваш был сумасшедший, я о романисте, иначе не принял бы участие в нашей революции. Он, говорят, уже умер. Вы помните, как он описал наш город?
— Я не читаю путеводителей. Семь лет назад прочитал один, и с тех пор больше не хочется.
— Путеводитель! — хохотнул полицейский. — Это вы хорошо выразились, надо будет рассказать ребятам на активе…
В боксе я лежал один, да и во всем госпитале, насколько я понял, больных было мало. В этом городе не любили болеть. Полицию к пострадавшим допустили только часа через два после событий на вокзале, когда полностью был выполнен комплекс нейромодулирующих мероприятий, так что разговаривать и даже мыслить я мог уже вполне свободно. Слух, нюх и прочие чувства вернулись, и вместе с ними вернулось чувство полной ненужности происходящего. Не знаю, кто допрашивал остальных свидетелей, но меня развлекал вот этот вот начитанный толстяк. Или, наоборот, я его развлекал?
— Хорошо, что вы не читали ту книжку, — продолжал лейтенант. — Я говорю о «Двенадцати кругах рая». Иначе у вас сложилось бы неправильное мнение о работе местной полиции, вернее, сложилось бы мнение, что никакой полиции здесь нет вообще. И не помогли бы никакие ссылки на то, что дело было до революции. А полиция, кстати, и тогда неплохо работала, только рук на все безобразия не хватало.
— Вредная книжка, — согласился я. — Мне становится стыдно, что я тоже Жилин.
Он опять хохотнул.
— Шутите? Это признак здоровья.
Я не шутил, а иронизировал, причем не над собой. Вероятно, офицер не видел разницы. Завидное свойство психики. В дверь просунулось маленькое веснушчатое лицо, утонувшее в краснозеленой форменной панаме, и сообщило неожиданным басом:
— Товарищ лейтенант, сюда едет Бэла. Бэла передает привет Ивану. Иван — это он?
— Это он, — откликнулся я.
Мой офицер привстал и поправил форму.
— Вот и начальство проснулось. Вы что, знакомы с Бэлой?
— С кем только я не знаком на этой планете.
— Тогда, не сочтите за бестактность… — несмело проговорил он. — Думаю, вы все-таки имеете отношение к тому человеку, который столько сделал для нашей страны.
— А сам вы, кстати, не имеете отношения к одному знаменитому авиатору? — поинтересовался я у него. — Ваш тезка. Тоже был русский и тоже давно умер.
— Какому авиатору?
— Который, помимо прочего, изобрел вертолеты. Вашего прапрадедушку случайно не Игорем звали?
Лейтенант носил звучную фамилию Сикорски и был, вероятно, неплохим мужиком, хоть и не знал ничего про своего знаменитого тезку Игоря Ивановича, создателя вертолетов. Мы с ним обязательно сдружились бы, сведи нас судьба в других обстоятельствах и для решения других задач. Был он упитанным, улыбчивым и разговорчивым. Но главной его достопримечательностью были круглые большие уши, торчащие в разные стороны — как ручки у сахарницы.
— Мои прапрадедушки торговали маслинами, — с сожалением ответил он. — И дед, и отец. И сам я продавал маслины, пока друзья не уговорили меня превратиться в полицейского…
Наша беседа началась уже давно, и довольно любопытным образом. Я с такой тактикой ведения допроса до сих пор не встречался. Лейтенант Сикорски не стал пугать свидетеля агрессивной тупостью, а также не стал оплетать добычу паутиной пустых вопросов, среди которых спрятаны важные для следствия узелки, лейтенант Сикорски принялся делиться воспоминаниями о своих болячках. Оказывается, он всю жизнь чем-нибудь болел и к тридцати годам приобрел полный джентльменский набор — остеохондроз, гипертония, гастроэнтероколит, холецистит и что-то еще, во что мне вникать не захотелось. Как вас вообще в инспектора-то взяли, с ужасом спросил я, не понимая, к чему он клонит. В том-то и штука, торжествующе объявил полицейский, что теперь я здоров! Я научился жить иначе, сказал он, и в этом мое счастье. Мы все научились жить иначе. Я знаю, вы все стали вегетарианцами, поддержал я по мере сил эту неловкую беседу. Он отмахнулся: секрет в другом. Здоровыми становятся не постепенно, а в один миг, в один счастливый миг. Секунду назад ты был болен, а через секунду уже здоров. Понимаете? Нет, ничего я не понимал, и тогда мой гость посоветовал: вот когда выползете отсюда, сразу отправляйтесь на холм, а то давайте патрульную машину вызовем, пусть довезут вас до места. Зачем? Он удивился: ну так вы же хотели понять? Все в ваших руках, и нечего, нечего раскисать. Сам ты раскис, подумал я. Что ты можешь знать о том, как люди раскисают, что нового ты можешь рассказать об этом бывшему межпланетнику и бывшему шпиону, но вслух произнес только одно: к чему вся эта преамбула? А к тому, объяснил он мне, что, если кто-то начал жить иначе, невозможно представить, чтобы он пожертвовал тем счастьем, которое имеет. Захотев дурного, человек нарушает гармонию своего же мира. Жители этого города ясно увидели зависимость того, что они получили, от собственных ощущений и, тем более, от поступков. Вот почему в этом городе почти не совершается преступлений. В самом деле, получив однажды здоровье и ощущение счастья, узнав разницу между здоровьем и нездоровьем, кто захочет променять их, к примеру, на какие-то там деньги? Нет, невозможно представить… «Я к тому вам это рассказываю, — терпеливо вдалбливал мне страж порядка, — что у нас здесь давно не случалось ничего похожего, и мы думали, что ничего похожего у нас теперь быть не может…» Меня разбирал смех. Неужели они боялись, что без этакого душераздирающего вступления я не стану помогать расследованию? Невроз, принявший эзотерические формы. И они еще называют себя здоровыми? «Дело было так, — ответил я офицеру, — записывайте мои показания». — И он послушно включил магнитофон на запись…
— Значит, все ваши предки были торговцами? — спросил я. — А вы, получается, сломали вековую традицию. Не является ли это вопиющим нарушением гармонии вашего мира?
Он встрепенулся.
— Типичное заблуждение новичка. Гармония вовсе не во внешних обстоятельствах жизни, а в том, как эти обстоятельства воспринимаются человеком. Мой вам совет, Иван — разрешите мне вас так называть? — побывайте хоть раз на холме.
— А как мне вас называть, лейтенант Сикорски?
— Рудольф. Руди.
— Я обязательно побываю на холме, Руди, — пообещал я. — Я даже готов под землю спуститься, если мне вдруг приспичит что-то понять. Однако признаюсь вам, что не вижу связи между здоровым образом жизни и отсутствием в городе преступлений.
— Вы подозреваете, что я солгал? — искренне удивился полицейский.
Некоторое время мы оба молчали.
— Ни в коем случае, — сказал я. — Один чудак сегодня уже убедил меня, что даже служебный долг не заставит его изменить своим принципам.
Он поморщился.
— Не надо упрощать, Иван. Работа в полиции невозможна без определенного рода компромиссов, поэтому я отвечу так: хочешь жить иначе, начни с малого.
— Разве не лгать — это малое? Некоторые всю жизнь пытаются научиться жить не по лжи, а подыхают по уши в дерьме.
— И все-таки приходится с чего-то начинать. Есть задачи, для решения которых главное — начать.
Я попробовал поднять руку и посмотреть на часы. Получилось. Жизнь возвратилась в обездвиженное тело.
— Впрочем, я не ответил на ваш предыдущий вопрос, — спохватился лейтенант. — Во-первых, вы путаете здоровый образ жизни и здоровый образ мыслей. А связь между здоровым образом мыслей и здоровой криминогенной обстановкой, согласитесь, очевидна. Во-вторых, порядка в нашей стране действительно прибавилось, если сравнивать, скажем, с тем, что описано в мемуарах вашего однофамильца. Единственный вид нарушений, который остался, — это, пожалуй…
— Нарушение правил полетов? — предположил я. — Штурмовыми геликоптерами?
Лейтенант засмеялся навзрыд, трясясь вместе со стулом. Странный он был полицейский, этот лопоухий толстяк Сикорски, похожий на кого угодно, только не на полицейского. Он безнадежно махнул на меня рукой:
— Я пытался всего лишь сказать, что большая часть нарушений не выходит за рамки Естественного Кодекса. Вы ведь читали на таможне памятку насчет Естественного Кодекса?
— Не сморкаться, не плеваться, не чихать в общественных местах, — покивал я. — Мусорить и гадить только в специально отведенных местах. Не ручаюсь за точность цитаты.
— Да нет, все правильно. Настоящие эксцессы, к сожалению, тоже иногда случаются, но они редко носят преднамеренный характер. Если кто-то и накуролесит в нашем маленьком королевстве, то потом обязательно выясняется, что несчастный пребывал в состоянии аффекта. Например, на почве ревности. Ревность, это такой бес, которого так просто не изгнать из человеческой души, и особенно страшно, когда ревность имеет основания. Рождается ненависть, направленная против мира в целом. Рвется ниточка, соединяющая нас с природой, с Богом.
Неужели все это было сказано сотрудником полиции? Сыщиком? На секунду я потерял чувство реальности. Здоровенный смешливый мужик, философствовавший возле моей кровати, был ненастоящим, неправильным, он и не мог быть иным, потому что в мире, который он вокруг себя творил, отсутствовала гармония. Я должен добиться соответствия, понял я, иначе… Что — иначе? Иначе мне опять станет плохо…
— Продолжайте, — прошептал я, закрывая глаза. — Слушаю вас очень внимательно.
Ты должен быть другим, думал я, и ты будешь другим. Я исправлю тебя, я сделаю из тебя героя, достойного твоей великой фамилии… Привычно включился мозг, возникла картинка. Герой был поджарым и сухим — никакой вам полноты! — лысый череп, растопыренные уши, маленькие злые глаза. Ни капли обаяния, лишь фанатичная нацеленность на результат. И чтобы никогда не улыбался. И чтобы мало говорил. Хищник, профессионал, щука… Лабиринт мертвых коридоров, думал я, черные стены и душная тьма. Вот тебе гармония, сыщик Сикорски, вот оно, соответствие, наслаждайся. Теснятся анфилады бесформенных залов, мелькают зыбкие контуры каких-то предметов, вздыхает паркет под ногами. Ты — в этих роскошных декорациях, неслышными прыжками мчишься вперед, отыскивая путь во мраке. Угловатый, нескладный, согнутый и вместе с тем стремительный, неудержимый, страшный, горят глаза, нос к полу, огромные уши стелются по комнатам — что еще? — ага, любимый десятизарядный «дюк» в руке, чудовищное оружие профессионалов, начиненное смертью пятьдесят второго калибра. Никогда ты не достаешь оружие, чтобы напугать, только чтобы убивать. Сегодня как раз тот случай. Реликвия, способная погубить человечество, спрятана в подземелье древнего замка, и нужно опередить Зло, пока не пробил час истины, пока когтистая лапа не коснулась платка на крышке саркофага… Боже, какая пошлость, думал я. Почему мне опять плохо? Неужели я смогу и, больше того, захочу когда-нибудь изобразить такого героя на бумаге? Где же врач?
— …В конце концов человек теряет то, что заслужил всей предыдущей жизнью, — втолковывал мне неправильный полицейский. — Он теряет свои ночи. Попробуйте представить себе этот позор — человек разучился видеть сны…
— Сны? — вяло переспросил я его. — Причем тут сны?
Говорить было трудно, во рту скопилась слюна. Много-много слюны, имевшей подозрительно гадкий вкус.
И в этот момент вошел врач. Лейтенант Сикорски вскочил со стула. А следом вошел Бэла Барабаш, начальник полицейского управления, обмахиваясь форменной панамой. Врач был совсем еще молоденькой девушкой — она и заговорила первой:
— Ну вот и все. Что-нибудь почувствовали?
Я приподнялся на локте.
— Вы меня спрашиваете, целительница?
— А разве здесь есть еще кто-то, кто нуждается в моей помощи? — Она почему-то посмотрела на лейтенанта. Тот стоял с каменным лицом, уже не улыбаясь. Бэла тоже посмотрел на лейтенанта и неожиданно подмигнул ему. Затем Бэла подмигнул мне:
— Привет, бортинженер.
— Комиссар, — обрадованно сказал я. — Хорошо, что ты пришел. Они меня подозревают в нездоровом образе мыслей.
Девушка подошла к кровати, на которой я лежал, и отключила оба генератора — в изголовье и в ногах.
— Так вы что-нибудь чувствовали? — повторила она вопрос. — Несколько минут назад.
Я чувствовал себя, как никогда, хорошо — стих гул в ушах, и странной дурноты в помине не было. Наваждение прошло.
— Несколько минут назад? — наконец-то догадался я. — Значит, это было ваших рук дело? Товарищ комиссар, я выражаю официальный протест. Тайные эксперименты на людях запретили еще в прошлом тысячелетии.
— Я проверяла вашу эндокринную систему, — строго возразила девушка. Серьезный она была человек, полная противоположность здешним полицейским.
— А я решил, что меня отравили, — сообщил я ей. Тут она наконец улыбнулась. Улыбка у врача была плотоядной, совсем не вегетарианской. Я бы спрятался от такой улыбки под кроватью, будь помоложе годов на сорок пять.
— Наш гость попал в опытные руки, — произнес со странной интонацией лейтенант Сикорски. — Думаю, я ему больше не нужен. Я подожду тебя в коридоре, Бэла, хорошо?
— Присядьте, — скомандовала девушка, придирчиво рассматривая меня. — А теперь погримасничайте. Попробуйте меня напугать или рассмешить — разиньте рот, выпучите глаза, высуньте язык. Не стесняйтесь, я и не такое в жизни видела.
Я постарался не стесняться.
— Вы уверены, что реабилитация прошла, как надо? — озабоченно спросил Бэла, понаблюдав секунду-другую за моим лицом. — Меня тревожит состояние его психики, доктор. Психика тоже должна восстановиться?
— Сделайте, пожалуйста, несколько круговых движений головой, медленно, — последовала новая команда.
— А меня тревожит жара, — сказал я, осторожно ворочая шейными позвонками. — Молоко скиснет. Или что вы там едите вместо мяса?
— Вместо мяса употребляют сою, — откликнулся Сикорски уже от двери.
— Ты не волнуйся, Иван, — бодро сказал Бэла, — Твои консервы положили в холодильник, употреблять сою от тебя не потребуют.
— Нет, я теперь буду есть только сою, — капризно возразил я. — Товарищ лейтенант убедил меня, что больным быть вредно для здоровья.
— У вас отличное здоровье, — вдруг сказала врач. — Для вашего возраста, конечно.
Она присела на стул, на котором раньше сидел лейтенант Сикорски, и смахнула со лба прядь волос. С исчезновением одного из мужчин девушка необъяснимым образом изменилась — словно стальной стержень из нее выдернули, словно ослабло поле, защищавшее ее от неблагоприятных условий среды. И стало заметно, что красавица гораздо взрослей, чем была мгновение назад. Что никакая она не девушка, а взрослая, много повидавшая женщина. Ведьма, потерявшая свою гипнотическую силу…
— Ваше лицо кажется мне знакомым, — смущенно призналась хозяйка кабинета, по-прежнему обращаясь ко мне. — Даже не столько лицо, сколько… Не поймите неправильно. Вы у нас, случайно, не лечились?
Бэла предположил, отвернувшись к окну:
— Возможно, ты видела его на площади?
Она помолчала, рассеянно глядя на мой шрам.
— На площади? На какой площади? — Женщина измученно вздохнула. — Я сегодня очень мало спала и шуток не понимаю. Сейчас наш уважаемый товарищ, которому не терпится одеться и удрать отсюда, попробует пройтись от кровати до стены.
Я взял с тумбочки свои шорты.
— Опять она плохо спала… — задумчиво продекламировал Бэла. — Опять ее предали сны…
Ведьма-целительница внезапно встала, закусив губу, сделала два легких шага и закатила начальнику полиции хлесткую пощечину.
Терраса закончилась спуском к бульвару, и вот тут-то, перед самыми ступеньками и немного в стороне, расположились эти чудаки. Мужчина и женщина, оба седоватые, оба дрябловатые, они стояли, подставив солнцу свои лица, и размашисто поворачивались — влево, вправо, влево, вправо. Туловище поворачивалось вместе с головой. Один глаз был прикрыт ладонью, а второй — бесстрашно открыт. Эти двое смотрели на солнце, ловили единственным открытым глазом прямые солнечные лучи, но как бы украдкой, лишь на мгновение погружаясь в море слепящего пламени. Мы молча проследовали мимо, и только потом я полюбопытствовал:
— Их что, тоже из какой-нибудь больницы отпустили?
— Это вампиры, — пояснил мой собеседник.
— Настоящие? — обрадовался я.
— Боюсь, что нет. Приклеилось к этой группе такое название, я уж и не помню, из-за чего.
— А зачем они смотрят на солнце?
— Расслабляются. Ритуал называется «соляризация».
Было одиннадцать с чем-то утра, но пекло так, будто пробило уже все двенадцать. Мы спустились по ступенькам и вновь оказались в тени. Идти налегке, без вечного чемодана, было как-то непривычно.
— Черт знает что, — сказал я. — Не думал, что здесь все так переменится. Надеюсь, хотя бы море осталось прежним.
Вокруг было много цвета, много пространства и мало шума, бесчисленные пальмы и живые изгороди, и почти никаких автомобилей. Пестрые беззаботные люди ходили по праздничным улицам — в точности, как раньше. Но люди эти неуловимым образом изменились. Были они теперь спортивными, бодрыми, они именно ходили, а не бродили, смотрели на солнце живыми блестящими глазами, беспрерывно улыбались друг другу, почти никто не носил очков, и трудно было понять, кто турист и кто местный. Возникали и исчезали безликие фигуры бегунов, прочие физкультурники безо всякого стеснения упражнялись на газонах — в этом царстве здорового образа мысли, очевидно, предрассудков стало еще меньше, чем было. На глаза постоянно попадались лозунги, установленные на домах, на щитах, висящие поперек улиц: «РАЗРУШИЛ? ВОССТАНОВИ», «СЧАСТЬЕ ВСЕГДА С ТОБОЙ», «ЛЕКАРСТВО ОТ НОЧИ — СОН». Столь оригинальные образцы социальной рекламы, витавшие над этим красивым миром, заставляли размышлять не только об их содержании, но и о созидательной силе печатного слова в целом. Так что зря я ворчал, да и не ворчал я вовсе. Я приехал сюда вволю потосковать, а мне предлагали начать жить иначе. Почему бы нет?
— Мне у вас нравится, — твердо сообщил я Бэле. — Вот только пыль… Я понимаю, что вы привыкли к этой вечной тяжести в воздухе, но я предпочитаю чистоту. Почему бы не покрыть асфальт статиком? Или у Совета денег хватает на одни плакаты?
— Состав воздуха контролируется, — возразил он, — и жестко. Ты отвык от природных запахов, Иван. Правда, если бортинженеры под чистотой понимают абсолютный вакуум…
— Бортинженеры ненавидят вакуум ничуть не меньше, чем бывшие комиссары МУКСа, зато очень любят здравый смысл.
— Смысл в том, — охотно объяснил Бэла, — что Естественный Кодекс — это закон. Никаких статиков, антивлагов, летучих абсорбентов или растворителей, а также всяких там ароматических бензинов.
— Может, у вас и фоноры запрещены? — сострил я.
— В зависимости от типа наполнителей.
— Ну, не знаю… — сказал я. — Это еще вопрос, что вреднее — пыль или статик…
Двенадцатый круг рая, пройденный мной семь лет назад, явно оказался не последним, и оттого мне становилось все веселее. Вот только слегка покачивало, и пока еще слезились глаза, мешая принять старт в круге тринадцатом. Интересно, разрешены ли Естественным Кодексом отрицательные эмоции?
— Кстати, куда ты меня ведешь, комиссар?
— Не бойся, — загадочно усмехнулся он, — недалеко.
А ведь товарищ Барабаш тратит на меня свое рабочее время, неожиданно подумал я. У него дел других нет? Начальник полицейского ведомства, даже такого маленького государства, — это хлопотная, суетливая должность. Тем более, когда случаются подобные ЧП. Или я как раз и был его делом, только он умело это скрывал? Поганый человечек, живущий в моей голове, с готовностью высунулся наружу, анализируя обстановку. Нет, старушки за мной не подглядывали и вертолеты в небе были сплошь мирные. Не сходи с ума, бодро сказал я себе. Здесь люди живут иначе, что ты в этом понимаешь? Начальник, возможно, заподозрил, что отставной агент все-таки наврал в их анкете, и теперь намерен проверить «легенду» гостя на прочность… Фу. О чем ты думаешь, старый капризный осел…
Мы ведь, к сожалению, не были с Бэлой друзьями. Бывшие соратники, бывшие товарищи. Я знал его историю, он знал мою, и не больше. Давным-давно, в одной из прошлых жизней, когда я еще бортинженерил на межпланетных грузовиках, комиссар Барабаш в эти же годы следил за порядком на астероиде Бамберга, получив полномочия от Международного управления космических исследований. Космос маленький, там все друг друга знают, но по-настоящему мы познакомились, только удрав из Космоса. Бэла Барабаш пришел в структуры Совета Безопасности позже меня, когда рудники на Бамберге наконец отобрали у «Спейс Перл Лимитед», преобразовав этот объект в каторжную тюрьму — первое, между прочим, исправительно-трудовое учреждение в космическом пространстве, — и таким образом должность комиссара была упразднена. За порядком на астероиде стали следить другие, а ему предложили новую интересную должность, причем уже на Земле. Однако он предпочел вовсе уйти из МУКСа, решив продолжить борьбу за полное закрытие рудников. Он полагал Бамбергу самой страшной язвой на теле Солнечной системы (и совершенно справедливо), писал разнообразные рапорты и открытые письма, в которых доказывал как дважды два, что если заменить наемных рабочих заключенными, то станет только хуже. Таким Барабаш пришел к нам в отдел — бьющий копытами землю, непримиримый в своей ненависти к МУКСу. Здесь ему в конце концов объяснили, почему рудник на Бамберге не может быть закрыт ни при каких условиях, и только тогда, узнав всю правду, только пропустив эту горечь сквозь свое сердце, коммунист Барабаш стал истинным оперативником — холодным, спокойным, веселым. Последний раз мы с ним виделись, кажется, в Ленинграде, уже после того, как меня вышибли из Совета Безопасности. Меня вышибли с треском, со снопами красивых искр, и даже заступничество Марии не помогло. Барабаш ушел из отдела сам, посчитав, как и я, что настало время в очередной раз заменить одну жизнь другой. Он собирался ехать в эту страну добровольцем, готов был служить рядовым инспектором, и вот теперь оказалось, что мой бывший коллега сделал здесь карьеру.
— Как тебя угораздило попасть в начальники? — спросил я его. Он пожал плечами.
— Никто из местных семь лет назад не хотел занимать такие должности. То ли боялись, то ли из-за лени. Ты не представляешь, какая здесь поначалу была апатия.
— Как раз это — очень хорошо представляю, — сказал я. — Все-таки не зря я тот самый Жилин. В каком ты звании?
— Штатский. Подчинен непосредственно Совету.
— Через голову правительства, — покивал я. — Мечта любого отставника. Быть главным полицейским в раю и при этом никому не подчиняться, кроме Святого Духа. Знай себе следи, чтобы яблоки кто попало не срывал.
— Что ж ты сам здесь не остался? — вспыхнул Бэла. Он приостановился и коротко взглянул на меня. — Был бы сейчас главой правительства. Тебе предлагали, я знаю, тебя даже просили.
— У меня были другие планы, — ответил я.
Не было у меня тогда никаких особенных планов. Было одно желание, одна маниакальная цель — поскорее разнести служебную тайну по всему свету, сорвать фиговый листок секретности с той беды, которая касалась всех и каждого. Жаль, что этого не поняли мои же товарищи.
— Если ты действительно тот самый Жилин, — сказал Бэла, сжав кулаки, — то должен помнить, что здесь творилось в первые месяцы после переворота. Райские яблочки, говоришь? А самосуды над менялами помнишь? А кровавые гулянья, которые устраивали мутировавшие меценаты?
— Мы что, ссоримся? — на всякий случай уточнил я. — Хоть что-то человеческое в этом цветочном царстве.
Бэла искренне и с удовольствием рассмеялся.
— Человеческое, оно же животное… Вот ты, Иван, удивляешься, почему в нашей стране так остро реагируют на простую русскую фамилию Жилин. Но, может, это и есть слава? Разве не этого ты хотел, когда писал свою книгу?
— Слава не такая, мне кто-то рассказывал.
Он возразил:
— Когда стены сортиров оклеивают голограммами с твоей рожей, — это тоже слава. Я вот что хотел сказать. Ты, Иван, стал писателем…
— Именно писателем! — обрадовался я. — Спасибо, начальник. Раньше, когда мой литературный дар был неудачной «легендой», мне почему-то верили, а теперь, когда его наличие подтверждается изданиями и переизданиями, никто не сомневается, что я всего лишь шпион. Обидно, ей-богу.
— Не перебивай. Шутки в сторону. Конечно, ты писатель, и еще какой, ведь ты создал культовую книгу. Но, видишь ли, в чем неувязка. Ты думал, что пишешь обо всем человечестве, а написал на самом деле вот о них, — Бэла обвел широким жестом ослепительное пространство, заполненное движущимися тенями. О них, о конкретных живых людях. Мало того, ты написал об их родине, а это понятие, как неожиданно выяснилось, для них не пустой звук. Ты был первый, кто написал об их родине с такой достоверностью, но теперь, когда здешняя жизнь совершенно переменилась, твоим героям стало казаться, будто раньше все было не так. И сами они якобы были совсем не такими. А я думаю вот о чем — что, если писатель Жилин ошибся, отказав этим людям в наличии души?
— Ну, ты загнул, — восхитился я. — Речь обо мне, да?
— Конечно, трудно согласиться, — спокойно сказал Бэла. — Но ведь это они, парикмахеры, разносчики пиццы, лоточники кормили осажденный Университет, прятали семьи любимых тобой интелей во время погромов, а потом, когда ситуация начала стабилизироваться, поддержали Революционный Совет в борьбе против бандитов, нанятых мэрией.
Я поднял вверх руки, показывая, что сдаюсь:
— Вы, ребята, в самом деле молодцы, чего уж там. Мне до сих пор непонятно, как эту чертову ситуацию вообще удалось стабилизировать, да еще так радикально, что оторопь берет.
Начальник полиции ответил не сразу. Молча шел рядом, подлаживаясь под мой шаг. Но все-таки ответил:
— Если честно, то сам я тоже мало что понимаю. С определенностью могу сказать одно — ни я, ни мои подчиненные, ни даже министр не имеют к этому чуду никакого отношения. Спокойствие и порядок настали как бы сами собой, без видимого участия правоохранительных структур. Вскоре после того, как был организован Национальный Банк и проведена денежная реформа.
— Подожди, подожди. Не вижу связи.
— Были выпущены банкноты нового образца, — неохотно сказал Бэла. — Был принят закон о денежном обращении… Знаешь, надо пожить у нас, чтобы привыкнуть. И твои вопросы исчезнут. Вот, кстати, здание Совета.
Крытая часть бульвара закончилась широким перекрестком, и вновь мы оказались на солнце.
— Нам направо, — щурясь, сказал Бэла. — Сюда, по проспекту Ленина.
Здание походило скорее на санаторий, чем на главное государственное учреждение, и было ниже остальных окружавших его строений. Впрочем, может так и надо? В карликовом государстве и цель, которую ставили перед собой руководящие органы, была соответствующего масштаба… Пять этажей. Архитектурные формы, не нарушающие традиций. Стены, отделанные каменными плитами нежного розоватого цвета, со вставками из ослепительно белого ракушечника. Светозащитные окна-хамелеоны, отбрасывающие розовые блики — в тон стенам. Красиво, было просто красиво…
— Красиво, — признал я вслух. — Люблю розовое, о маме почему-то вспоминаю.
— Ереванский туф, — сразу же откликнулся мой спутник. — Так называется материал, из которого сделаны плиты.
Он не скрывал своей гордости. Забавный человек.
— Роскошествуете?
— Не в этом дело. При постройке здания использовались только природные материалы, а ереванский туф, между прочим, дешевле мрамора, и притом долговечнее. В Ленинграде, насколько мне известно, половина домов облицована этим камнем. Я думал, тебе будет приятно. Ты ведь родом из Ленинграда?
— Кажется, да. Впрочем, можно посмотреть анкету.
Здание Совета гармонично включало в себя ротонду с источником. Люди входили в нее, наполняли чашки и медленно пили. Дальнейший путь этой воды был бережно, с любовью выложен природными камнями: ручеек утекал в сторону моря. И еще здание Совета, как и все в этом городе, украшало мудрое изречение. Неброская каменная табличка крепилась непосредственно возле главного входа, по левую руку, и выбито на ней было: «Я — не Я, пока Я без покаяния». Слово «покаяния» было написано так: «покаЯниЯ». То ли призыв ко всем горожанам, то ли вечное напоминание сотрудникам, работающим в этом учреждении. И почему-то на русском языке.
— Хочу местную прессу взять, — сказал я, двинувшись к торговому мини-комплексу. — Газетку какую-нибудь…
Возле киоска с кристаллофонами стояла в одиночестве красивая молодая девушка. Очень красивая. Безжалостно, как говорил один мой опытный приятель, рано состарившийся. Струилась медленная музыка, на крыше киоска рождались объемные движущиеся картины, зазывая меломанов. Девушка делала вид, будто изучает обложки кристаллов, на самом же деле она поглядывала на меня. Безжалостно красивая… Спокойно, Жилин, остановился я, береги себя. Психика твоя изменена нейроволновым взрывом, так что не верь глазам своим. Какая же это молодая девушка? Такая же ведьма без возраста, как и врач в больнице. Терпи, Жилин, это ведь и есть слава… Красавица неожиданно подмигнула мне — едва поймала мой взгляд. Я подмигнул ей в ответ. Мальчишество.
Я выбрал газету с характерным названием: «ДЕТИ ПРИРОДЫ. Хроника добра» — и направился обратно к Бэле.
— А вы, это… — оторопело позвал меня парень, стоящий по ту сторону прилавка. — А деньги?
— Деньги? — Я посмотрел на Бэлу. — Разве это не бесплатно?
— Два дуата и сорок сантимов, — виновато ответил продавец. — Простите, я не хотел вас обидеть.
Я пошарил по карманам.
— Вот тебе, бабушка, и новый круг рая… Знаешь, дружок, тут такое дело. Сколько это будет в копейках? Я, признаться, не разбираюсь ни в ваших дуатах, ни, тем более, в сантимах.
— У вас нет при себе денег?
— Копейки — это не деньги? — озадачился я. — Тогда как насчет центов? Или счет идет на доллары?
Он брезгливо покрутил в руках предложенные ему монеты. Было ясно, что нормальных денег среди них так и не обнаружилось.
— Ну, ладно, — легко решил продавец, — берите так. Ерунда все это. Желаю вам здоровья.
— Межпланетники помнят свои долги, — успокоил я его. — Даже став культовыми писателями.
Прежде чем покинуть это место, мне вздумалось попрощаться еще и с девушкой-меломаном, на которую моя внешность произвела столь сильное впечатление — а может, наоборот, я хотел с ней поздороваться? — но той возле музыкального киоска уже не было. И возле других киосков ее не было. Жаль.
Свернув с бульвара, мы продолжили путь. Проспект Ленина, бывший когда-то тесной, заполненной транспортом улицей, оказался решительно преображенным. Теперь он был на удивление широк, тих и зелен. Проспект был достоин своего имени.
— Как устроишься, зайди в отделение Национального банка, — посоветовал Бэла. — Не откладывай в долгий ящик. Никто здесь не возьмет у тебя денег, если они не местные, имей это в виду.
— Прежде всего — к Строгову, — вздохнул я. — Ради этого, собственно, и приехал. Как там Дим Димыч, что слышно?
— Говорят, плох. Я, к сожалению, с ним лично не знаком.
— Что плох — и без того известно. — Я вздохнул.
— Много вас, писателей, понаехало, — подмигнул мне Бэла. — И все к Строгову. Вы что, сговорились?
— Разумеется. Операция под кодовым названием «Время учеников».
Хорошее настроение куда-то вдруг пропало. Наверное, потому, что в разговоре не было больше искренности. Я чувствую такие вещи, как замужняя баба, — ценное качество для профессионального шпиона. Бэла Барабаш давно и прочно думал о чем-то, о чем не решался или не желал заговорить вслух, он смотрел на меня и видел вместо бывшего соратника всего лишь источник информации. Теперь я в этом не сомневался.
— Так ты ведешь меня в гостиницу?
— А куда же еще?
Я смерил взглядом оставшееся расстояние.
— А ты успеешь рассказать, о чем вы с лейтенантом Сикорски шептались в коридоре, пока девчонка проверяла мои рефлексы?
Он не сбился с ноги, не изменился лицом. Он улыбнулся краешками губ:
— Нашел девчонку! По моим сведениям, Рафе тридцать семь. Хотя кое-кто уверен, что ей только тридцать пять, я имею в виду, конечно, ее мужа.
— Рудольфа Сикорски?
— Ага, догадался! Да, это несчастный Руди. У них с Рафой довольно сложные отошения, я стараюсь в эти дела не соваться… — Бэла потер щеку. Ту самую, которая, возможно, до сих пор побаливала. — Ты прав, тебя мои проблемы тоже касаются. В конце концов, человека на твоих глазах похитили.
— Похитили? — удивился я. — В парня стреляли из вакуум-арбалета. И попали, между прочим.
А еще он получил точно такую же порцию нейроволнового излучения, как и его ни в чем не повинный собеседник, подумал я. Как и шестеро других свидетелей. Все свидетели дружно упали, но ему хоть бы что. Черепная коробка, надо полагать, у него свинцовая. Или под черепной коробкой нет ничего, что можно было бы возбуждать и тормозить.
— Есть основания надеяться, что похищенный жив, — веско произнес Бэла. — Это было похищение, Иван, а не убийство. Поэтому постарайся понять мой следующий вопрос правильно: все ли ты рассказал лейтенанту Сикорски?
Я прикрыл глаза. Я мысленно застонал. Спокойно, сказал я себе, есть люди, которые не лгут, и есть люди, которые следят, чтобы другие не лгали. Я открыл глаза и постарался быть очень терпеливым:
— Мы обменялись с этим парнем семью-десятью репликами, большей частью на тему — были мы в прошлом знакомы или нет и по чьей воле я здесь оказался. К записи, которую ты, наверное, знаешь наизусть, можно добавить только одно — я ни секунды не сомневался, что имею дело с психически нездоровым человеком, каких немало бродит по улицам любого города мира. Или у тебя есть основания надеяться, что меня действительно забросило сюда чьей-то волей?
— Боже упаси, — ответил Бэла, кажется, искренне. — Ну, так как? Тебе удалось вспомнить, где и когда состоялось ваше с ним знакомство?
Я напрягся. Сейчас меня спросят про номер в гостинице, где, по мнению сумасшедшего незнакомца, мы провели наш первый вечер, а потом меня спросят про название бара, где мы с ним якобы познакомились, и таким незамысловатым способом будет определен номер и пароль ячейки в некой камере хранения…
— Когда же вы все поверите, — рассердился я, — что Жилин только литератор, дорогие вы мои современники?
— Похищенный подошел именно к тебе. Это не может быть случайностью.
— В нашем мире все может быть случайностью, — возразил я. — Вы установили его личность?
— Что касается личности этого человека… — сказал Бэла задумчиво. — Личность его, Иван, не удается установить уже долгие годы. Тайна, покрытая мраком. Никто не знает ни имени его, ни фамилии, только кличку, которую дали ему еще интели. Мы рассчитывали, что ты поможешь с этим делом разобраться, но…
— И какая кличка?
— Странник.
— Ага, — сказал я, — понимаю. Теперь понимаю…
Площадь перед отелем была такая же просторная, как и прежде, но теперь она вовсе не напоминала аэродром. Та ее половина, которая примыкала к отелю и где раньше была гигантская автостоянка, превратилась в регулярный парк, то есть в систему газонов, изрезанных пешеходными дорожками. В центре пешеходной зоны размещался бассейн, в котором купались, на бортиках бассейна сидели в обнимку влюбленные парочки и болтали в воде ногами, и над всем этим возвышалась пятнадцатиэтажная громада «Олимпика» — красное с голубым. Ленточная галерея спиралью закрутилась вокруг здания, позволяя всем желающим подняться с земли до самой крыши, не заходя внутрь. Над входом сверкала надпись: «С ДОБРЫМ УТРОМ!»
И еще на площади был памятник…
Памятник стоял на привычном месте — по другую сторону парка, как бы в противовес зданию гостиницы, — но изображал он, разумеется не Владимира Юрковского, планетолога. Мраморного Юрковского меценаты взорвали еще при мне, пользуясь неразберихой и безвластием, — под выстрелы шампанского, оставив потомкам лишь изуродованный постамент. Чуть позже меценатами занялись студенты исторического факультета, вычислили их идеологов, а боевиков перестреляли. Нынешняя скульптура, в отличие от прежней, была цветной, телесного цвета, и являла собой парафраз на тему знаменитого «Давида» Микеланджело. Мускулистый здоровяк стоял в характерной позе, повесив на плечо клетчатую рубашку — вместо пращи. Совершенно голый. Обнаженный, как принято выражаться.
— Вот это мне и хотелось показать, — сказал сбоку Бэла. — А ты думал, чего ради я провожал тебя, как любимую девушку?
Я пошел, стараясь не сорваться на бег, прямо через площадь и возле монумента остановился. На постаменте стоял, демонстрируя миру величие собственного торса, не кто-нибудь, а я, Иван Жилин. Каменный атлет имел поразительное со мною сходство, не только портретное, но и анатомическое, вплоть до некоторых интимных мелочей. Вплоть до особых примет вроде шрамов и родинок. Подпись на постаменте гласила: «ИДЕАЛ. Автор — В. Бриг. Год Змееносца». Бывают в жизни моменты, когда смеяться над шутками не хочется, и эта был именно такой момент, именно такая шутка.
— Что за В. Бриг такой? — спросил я Бэлу. — Он что, в бане со мной мылся? Хоть бы портупею мне оставил, подлец.
— Фигового листка тебе недостаточно?
— За фиговый листок, конечно, спасибо. И все-таки хотелось бы понять, каким макаром все это здесь воздвиглось?
Довольный комиссар на секунду потерял уверенность.
— Если честно, я просто забыл подробности, давно это было. А впрочем… Точно помню, что автор — женщина. Да какая тебе, вообще, разница?
Я повернулся, твердо намереваясь исчезнуть. Даже шаг успел сделать, однако разговор, оказывается, еще не закончился. Товарищ Барабаш ровным голосом произнес мне в спину:
— Сегодня утром на взморье был сбит вертолет. Штурмовик класса «Альбатрос» без опознавательных знаков, если не считать литеры «L» на брюхе. Тебе это интересно?
Он обошел меня кругом и посмотрел снизу вверх.
— Продолжай, — сказал я. — Долго же ты рожал эту новость, комиссар.
— Вертолет был атакован из плазменного сгущателя «Шаровая молния», какие уже лет двадцать не производятся. Оружие, запрещенное Цугской конвенцией. Кем атакован — неизвестно. Летательный аппарат упал в море. Все, кто находился на борту, вероятно, погибли.
— Почему «вероятно»? Есть сомнения?
— Когда водолазы обследовали вертолет, то выяснилось, что корпус уже кем-то вскрыт. При помощи молекулярного резака. Кто-то успел поработать до нас. Внутри, само собой, было месиво трупов, но нашего Странника среди них не обнаружилось.
— Не уверен, что все это меня касается, — осторожно возразил я.
— Почему он подошел на вокзале именно к тебе? — спросил Бэла. — Вот главный вопрос, который касается тебя и прежде всего тебя, — он усмехнулся, — как литератора.
Мы вошли в тень, отбрасываемую зданием, и на душе сразу посвежело. Пожелание доброго утра над входом в гостиницу неуловимым образом сменилось новой красочной надписью: «УДАЧНОГО ДНЯ!», — что соответствовало, по-видимому, двенадцати часам.
Полдень.
Глава вторая
Чемодан стоял в прихожей, возле двери, опередив мое появление на пару часов, — его доставили из больницы прямо в номер отеля. К ручке чемодана была привязана какая-то бирка, на которую я не обратил поначалу внимания. Это был глянцевый картонный ромб, изображавший герб города (золотая ветвь омелы на красно-голубом фоне), на обороте которого имелся текст: «В четыре часа на взморье. Поможем друг другу проснуться».
Записка.
— Кретины, — сказал я в сердцах. — Развлекаются.
Текст был написан не от руки, а оттиснут клишеграфом, стеснительный попался автор, побоялся оставить образец своего почерка. Я сорвал картонку с нити и бросил ее на ковер. Потом отключил оконные фильтры, впуская в полутемный зал настоящий свет, и прошелся по другим помещениям номера. Слева была спальня с библиотекой и ванной, справа — спортивная комната с тренажерами и сауной. Туалеты были в обеих половинах. Прекрасное жилище для холостого межпланетника, ненавидящего тесноту и искусственный свет, уставшего от людей, но при том имеющего здоровую половую ориентацию.
С запиской что-то происходило. Я присел и поднял картонный ромбик с ковра. Прежние слова исчезли, зато на их месте появились новые: «И пусть Эмми не ревнует». Я перечитывал фразу до тех пор, пока не исчезла и она, и мне было ужасно обидно, потому что теперь сомнений не было — записка оказалась в моем номере не случайно. Хорошо они тут развлекаются, любители всего естественного, — с использованием гелиочувствительных чернил, а также новейших достижений в области фотохромного программирования… Распаковывать багаж или продолжать осмотр номера не было желания. Думай, просил меня Бэла Барабаш, но думать тем более не хотелось. О чем тут, черт побери, было думать? О том, знакомо ли мне имя Эмми? Знакомо, черт побери, глупо отказываться. А может, о том, какому времени суток соответствуют «четыре часа»? Или о том, что взморье тянется на добрых два десятка километров?
Человек возле вокзала опасался, что за ним прилетит вертолет, и вертолет-таки прилетел; он же был уверен, что разговор прослушивается. Каков вывод?.. Я взял с тумбочки радиофон и приладил его к правому уху. Волоконные держатели нежно обхватили ушную раковину. Пультик с цифровым десятиугольником я оставил у себя на ладони и на секунду задумался. К Строгову следовало являться без звонка, чтобы старик не смог увильнуть от встречи. Поэтому для начала я выставил номер справочного и узнал нынешние координаты Анджея Горбовски. Координаты, как выяснилось, не изменились, тогда я позвонил ему домой и застал Татьяну. Сам Анджей был на работе. Покачавшись минуту-другую на волнах искренней женской радости, я испросил разрешения нанести дружеский визит сегодня же вечером и попрощался. Люблю все искреннее. У ребят, похоже, дела шли прекрасно. Следующий звонок был еще короче. Я переключился на гостиничную линию и вызвал Славина: «Привет, это я». «Приехал?» — спросил он меня. «Да». «Тогда заходи, мы оставим специально для тебя на донышке…» Славин был на удивление трезв и про донышко, помоему, здорово прихвастнул. Надо вставать и идти, сказал я себе, закрывая глаза. Вставать не хотелось, и я вдруг поймал себя на том, что пытаюсь вспомнить, откуда мне знаком чудак с привокзальной площади. Чудак, которого то ли убили, то ли варварски похитили другие чудаки. Которых, в свою очередь, сожгли из «шаровой молнии» третьи… И я вдруг понял, что ни на мгновение не прекращал этих тщетных попыток, едва местные целители вернули мне возможность мыслить, что я только тем и занимал свой мозг последние несколько часов — вспоминал, вспоминал, вспоминал…
Человек, безусловно, был прав, удивляясь моим реакциям. Я должен был в первую же секунду нашей встречи воскликнуть: «Ба, кого я вижу! Ба, так это же!..» Что-то мешало. Дерево, упавшее поперек дороги. Театральный занавес, застрявший на раздвижных тросах. Профессиональная память странным образом отказала бравому агенту, оставив мучительное чувство старческой несостоятельности. Но если предположить (ха-ха), что я прибыл сюда по чьей-то высшей воле, так, может, и печать на мою память была наложена не случайно? Неприлично тужась, я вытягивал из дыры прошлого ответ на вопрос и получал в награду размытые кадры из фильма, в которых, к сожалению, не было смысла.
Мало того, Бэла Барабаш назвал его Странником. Это уж точно ни в какие ворота не лезло… Я рывком встал.
Картонная бирка с гербом города упала с кровати — я поймал ее на лету. На оборотной стороне вместо бредовой записки была теперь надпись: «Бог — это счастье. Агентство „Наш Путь“». Еще один образец социопсихологического творчества. Судя по всему, фотохромная программа отработала свое и открытка вернулась к стандартному состоянию. Я бросил этот мусор в утилизатор. Радиофон я оставил у себя на ухе, а цифровой пультик сунул в нагрудный карман, после чего покинул свой номер.
Коридор упирался в просторный зал с лифтами. Здесь же был выход на внутреннюю лестницу, а также на ленточную галерею, под открытое небо. За стеклянной стеной был спортзал: в углу на матах кто-то отрабатывал задние кувырки, кто-то стоял на борцовском мосту и даже на игровой площадке кидали мячики в баскетбольную корзину. А на скамеечке, увлеченно наблюдая за юными атлетами, сидела давешняя старушка с вокзала. Блуза с попугаями, брючки, седые кудри — не спутаешь. Вот только на ногах у нее теперь были кружевные тапочки, созвучные вязаной панаме. Ага, сказал я себе, повеселев. Случайная встреча. Люблю случайности, именно они не позволяют умным людям почувствовать себя умнее Господа Бога; жаль только, что эта изящная сентенция не имеет к нынешней ситуации никакого отношения.
Коридорный сидел на стуле, положив ногу на ногу, и читал книгу. Он был одет в форменные красно-голубые одежды и был молод, потрясающе молод. Розовощекий, с юношескими усиками, коротко стриженный. Когда я подошел к нему, он с достоинством встал и первым сказал мне: «Здравствуйте!», и тут выяснилось, что коридорный к тому же высоченного роста, почти с меня, да еще прекрасно развит физически. Любопытно, что может читать этакий боец? Приключения? Космические ужасы?
— Здравствуй, дружок, — сказал я ему. — Тут такое дело… Кто доставил багаж в мой номер? В двенадцатый-эф?
— Я, — скромно ответил он.
— Прямо из больницы?
— Из какой больницы? Нет, я только поднял чемодан снизу. В отель его доставило агентство «Наш Путь».
— К чемодану было что-нибудь привязано? Что-нибудь необычное?
— По-моему, нет, только путевка. Ее менеджер внизу выписывает. А что случилось, товарищ Жилин?
Он захлопнул свою книгу, которую положил на стул, готовясь немедленно принимать меры. На обложке значилось: «Шпенглер. Закат Европы. Том 2».
— Ничего серьезного, дружок, кто-то глупо пошутил. Откуда ты знаешь, как меня зовут? Мой портрет был на бирке?
Парень улыбнулся.
— Вы меня не узнаете?
Второй раз за день мне задали этот вопрос, и снова я ничего не мог ответить. Лицо розовощекого красавца и в самом деле казалось мне знакомым… Плохой признак, подумал я. Симптом.
— Ого, что ты читаешь! — сказал я. — Шпенглер, Фукуяма, Ницше… Я в детстве, помню, читал что угодно, только не философские монографии. Первый том, очевидно, ты уже одолел?
— Я в детстве тоже читал что попроще, — возразил он. — Агриппу, Анкосса, доктора Нэфа и так далее. Пока не понял, что книги по оккультизму очень вредны. Не только тексты, но и сами книги, из бумаги и картона. Их создатели вовсе не делились своими знаниями с людьми, а преследовали иные цели.
— Да, забавно, — покивал я ему. — Можно полюбопытствовать, что ты еще читаешь, кроме Шпенглера?
Он пожал плечами.
— Джойса, Строгова, Жилина…
— Достаточно, — сказал я. — Мне нравится твой список. Поразительный литературный вкус, даже оторопь берет. И какие произведения последнего из названных авторов ты успел освоить?
— Да все, наверное. «Двенадцать кругов рая», конечно. Потом — «Генеральный инспектор», «Главное — на Земле»… Вы ведь приехали Строгова навестить, правда?
— Тебе и это про романиста Жилина известно? Еще немного, и я начну бояться здешних коридорных.
— Я просто с вашими друзьями случайно разговорился. Не запомнил их имен. С учениками Дмитрия Дмитриевича, вы понимаете? Я не рискнул их попросить кое о чем…
— У меня много друзей, — согласился я. — И все, как на подбор, ученики Строгова. Ты о чем-то хотел попросить меня?
Мальчик помялся секунду-другую, зачем-то оглянувшись на свою книгу, смирно лежащую на стуле, и сказал:
— Простите, но я, пожалуй… В общем, ерунда все это.
— Ну, тогда расскажи мне, кто вон та пухлая пенсионерка, которая перепутала спортзал с клубом для одиноких дам?
Он посмотрел.
— Фрау Семенова?
— Честно говоря, не знаю, как ее зовут. Боюсь, конфуз может получиться, потому что мы с ней где-то уже встречались. Она кто, местная?
— Фрау Семенова, она из Австрии, — сказал коридорный. — Супруга председателя земельного Совета.
— Ого! — сказал я. — Мы соседи? Тоже с двенадцатого?
Мальчик остро взглянул на меня и сразу отвел взгляд. Наверное, заподозрил вдруг, что мои расспросы имеют другую, неназванную цель. И, наверное, с ужасом подумал, как и все они тут, правдивые и правильные, что писатель Жилин — отнюдь не только писатель. Ну и пусть его. Взаимная симпатия, по счастью, не исчезла из нашего разговора.
— Я не знаю, с какого она этажа, — вежливо ответил он. Двери лифта, всхлипнув, раскрылись. Выкатилась кругленькая женщина, затянутая в красно-голубую униформу. Очевидно, тоже сотрудница гостиницы. В руках ее был роскошный букет желтых лилий. Окинув меня взглядом, полным кокетливого интереса, она неожиданно остановилась.
— Это вы? — восторженно спросила она.
— А как бы вам хотелось? — не сплоховал я.
— Вас только что показывали в новостях.
Я повернулся к коридорному.
— Спасибо за все, дружок, но мне пора. Ты уж извини, что я так и не вспомнил, где мы с тобой раньше встречались.
Он промолчал, ничего не ответив, он подождал, пока я войду в кабину лифта, и только потом уселся на свой стул, положив на колени Шпенглера, том номер два.
— Меня зовут Кони, — успела сообщить женщина, прежде чем двери сомкнулись.
Я вознесся на два этажа выше, в номер Славина…
Братья-писатели, похоже, не скучали. На журнальном столике, и под столиком, и на подоконнике, и на ковре под ногами теснились бутылки разных форм, размеров и расцветок. Великая китайская стена. И все были откупорены, опробованы, но ни одна не допита даже до половины. Пахло кислым — в гостиной явно что-то проливали. Еще пахло консервированной ветчиной, вскрытая банка стояла здесь же, на столике. Одна из разинутых дверей вела в спальню — к несобранной постели, к мятым простыням и раскиданной одежде… Неряшливость, как известно, это признак постоянной концентрации на чем-то гораздо более существенном, чем ничтожные подробности окружающего мира. Евгений Славин в этом смысле приближался к просветленным йогам. В смысле концентрации, естественно. И я с сожалением подумал, стараясь не озираться, что никогда мне не быть похожим на настоящего писателя. По крайней мере, в быту. Потому что привычки бывшего межпланетника — они как животные рефлексы, не дающие особи погибнуть, с ними не поспоришь. Никакой алкоголь не поможет, сколько ни пей.
— О, еще один классик, — сказал Славин, подняв на меня тусклый взгляд. Похоже, хозяин номера был и в самом деле трезв, несмотря на бутылки. Чудеса.
— Здравствуйте, — встал Банев, приветливо улыбаясь. Болгарин был высок, черен и носат — настоящий южный красавец.
— Общий привет, — сказал я. — Где бы мне разместиться, чтобы ничего не пролить?
Это я опрометчиво спросил, и Славин не упустил случая ответить. Он что-то выискивал, перегнувшись через подлокотник.
— Не обращайте внимания, — посоветовал мне Банев, усаживаясь обратно. — На вопросы «где» и «куда» он всегда реагирует одинаково, особенно если трезвый.
— Я тоже, когда вижу Славина, всегда реагирую одинаково, — по секрету сообщил я ему. — Мне хочется немедленно написать правдивую книгу о писателях. Волна вдохновения накатывает.
Славин отвлекся, ткнув пальцем в сторону опрятного и гладкого Банева:
— Если ищешь источник вдохновения, классик, хватай лучше этого чистюлю, не упусти шанс. Эпицентр.
— Он же не пьет. Какой из него источник вдохновения?
— Зато жадный, как габровец. Тебе нужна правдивая книга? Слушай. Товарищ Банев сумел протащить через таможню бутылку ракии — настоящей, не то что местное дерьмо! — и теперь прячет ее где-то в своих чемоданах, среди манжет и галстуков.
Евгений с ненавистью толкнул ногой столик. Оглушительно зазвенело, стеклянный строй распался, нечто пахучее выплеснулось из горлышка на ковер.
— Что ж ты делаешь, свинья? — спросил я его.
— Не слушайте его, Ваня, — сказал Банев спокойно. — Нет у меня в чемоданах ни ракии, ни манжет.
— А почему он, кстати, не пьет? — продолжал Славин. — Да только потому, что печень у него начала пошаливать, вот тебе и вся мораль. Он и приехал-то сюда, чтобы вылечиться. Здесь, как известно, немые начинают ходить… и даже писать правдивые романы… В самом деле, классик, почему бы тебе не обессмертить кого-нибудь из нас? Мне понравилась эта идея. Самого себя сделал литературным персонажем — позаботься о товарище.
— Беру вас обоих, — принял я решение. — Одного поместим в светлое будущее — пусть они там знают, что алкоголики неистребимы, а другого — в мрачное прошлое, чтобы было из кого выбивать проклятую интеллигентность.
— Где же ситро? — с отчаянием в голосе сказал Евгений. — Куда же я его сунул?..
В номере ненавязчиво работал телевизор — на пониженных тонах. Горел стереоэкран, из фонора выползал запах нагретого асфальта, по комнате метались сюрреалистические краски. Шел экстренный выпуск новостей, прямо с улицы, с места событий. Кто-то солидный, потеющий от ответственности, торжественно обещал, что нанесенный ущерб будет возмещен всем пострадавшим без исключения. Кто-то рангом пониже едва не бился в истерике, доказывая, что такого безобразия в здешнем раю просто быть не может, ибо даже в досоветские времена, во времена животной анархии, подобных издевательств над здравым смыслом не случалось. Сначала — откровенно бандитская вылазка на площади перед железнодорожным вокзалом, от которой общественность до сих пор не успела оправиться, и вот теперь нападению подвергается уже сам вокзал. Заколдованное место. Как хрупок, оказывается, сложившийся порядок вещей — нам всем ни на секунду нельзя об этом забывать…
— Тебя на таможне тоже потрошили? — вдруг спохватился Славин, вывернув на меня бледное лицо. — Водку отняли?
— Подожди, дай послушать, — попросил я его.
Послушать было что. В самом деле, редкостный выдался денек. Снова вертолет упал с небес — огромный, десантный, жуткий. Ровно в полдень. Высадилась свора неопознанных подонков, по-другому их и не назовешь, одетых в форму местной полиции, оцепила вокзал, ворвалась в камеры хранения, — пришельцев-оборотней, похоже, интересовали именно вокзальные камеры хранения и ничто другое, вот такой странный объект для атаки, — багажные ячейки были вскрыты все до единой, а хранившиеся в них вещи изъяты и погружены в вертолет, попросту говоря, украдены. Грубо и нагло.
— Они тут все утро твоей мордой телевизор украшали, — позлорадствовал Славин. — Свинья грязь найдет. Кстати, хочу тебя огорчить, Жилин, ничего из твоей затеи не выйдет.
— Из которой?
— Чтобы написать правдивую книгу о писателях, надо стать, во-первых, старым, во-вторых, занудой. Считай, что это комплимент.
Очевидно, он уже понял, что вожделенной водки от меня тоже не дождется, и оттого был желчен. Человек потерял всякую надежду. Жалкое зрелище.
— Бога ради, Виктор, объясните, — обратился я к Баневу, — почему этот урод трезвый? При таком-то изобилии?
— «Бога ради»… — скривился Славин. — Лексикон. Коммунисты хреновы… Межпланетники…
Виктор Банев ответил:
— Все алкогольные напитки местного производства в обязательном порядке содержат аналептические нейтрализаторы. Обратите внимание на рекламу на этикетках… — Он взял первую попавшуюся бутылку и отчеркнул что-то пальцем. — Угнетающее действие на центральную нервную систему значительно ослаблено. Кроме того, присутствует целый букет ферментоидных присадок, специальным образом корректирующих обменные процессы.
— Специальным образом? — спросил я.
— Метаболизируется до девяносто восьми процентов этанола, а не девяносто, как обычно. Неокисленные метаболиты выводятся практически полностью, в мозг не попадают. Вы, конечно, знаете, что эта пакость откладывается именно в мозгу и держится там до двух недель, загромождая сознание…
— Профессора, — с отвращением сказал Евгений. — Все знают. Ненавижу.
— Он не успокоился, пока все не перепробовал, — улыбнулся мне Банев.
Я подошел к окну и выглянул. Вид отсюда был ничуть не хуже, чем из моих апартаментов. Фантастическое нагромождение цветных пятен — точно, как на картинах экспрессионистов.
— К Дим Димычу торопишься? — подал голос Славин. — К нему сегодня Сорокин пошел, имей в виду.
— Нет, в банк, — сообщил я в стекло.
— Ага, денежки менять, — обрадовался он. — Могу дать один адресок. Там, в отличие от ихнего банка, тебе обменяют на рубли столько местных денег, сколько унести сможешь. Правда, по полуторному курсу.
— Зачем? — удивился я.
Они переглянулись.
— Он еще ничего не знает, — сказал Банев Славину.
— Ты думаешь, не стоит лишать его невинности? — Евгений откинулся на спинку кресла (нога на ногу, руки за голову) и оценивающе оглядел меня сверху донизу. Долгий это был процесс, я даже заскучал. — Я все-таки скажу, — решил он. — Когда вам, классикам, захочется насовать себе под подушку мятых банкнот местного образца и вкусить свою порцию кайфа, бегите в район площади Красной Звезды. В одном из тамошних переулков прячется штаб-квартира партии Единого Сна. Адрес я не помню, но ищущий да найдет. Обратитесь непосредственно к председателю по фамилии Шершень, и вам помогут обрести долгожданное счастье…
Приятно было наблюдать, как в человеке прорастает интерес к жизни. А то ведь совсем было человек зачах. Я вопросительно посмотрел на Банева, но тот лишь подмигнул мне в ответ.
— Владислав Шершень? — спросил я их обоих.
— Какая разница? — фыркнул Славин, потягиваясь. — Мы ходили к нему не по имени-отчеству величать, а незаконную финансовую сделку совершать.
Непонятно было, шутят они или нет. А если шутят, то почему мне не смешно. Со Славина что взять — он самого себя в перьях вываляет на потеху благодарной публике… Владислав Шершень, подумал я. Еще один знакомый в этой сказочной стране. Еще один призрак, явившийся из прошлой жизни, чтобы в который раз напомнить о неразрывной связи мертвого и живого…
Очень не хотелось покидать эту академическую компанию, но пора было и честь знать. Взгляд мой случайно упал вниз, на площадь перед отелем. И я вдруг с удивлением обнаружил, что дорожки и газончики, если посмотреть на них сверху, складываются во вполне осмысленные фразы.
НЕ МОЖЕШЬ КУПИТЬ — ПОПРОСИ. НЕ МОЖЕШЬ ПРОДАТЬ — ПОДАРИ.
Вот что там было написано.
Отделение Национального банка занимало отдельное помещение на первом этаже. Войти можно было как с улицы, так и прямо из гостиничного холла. Если не ошибаюсь, именно здесь располагалась когда-то парикмахерская, которую я (невозможно представить!) почтил много лет назад своим присутствием. Или озорничала так называемая фантазия, превратившаяся у некоторых писателей в ложную память? Как бы там ни было, но банк оказался закрыт на проветривание, о чем извещала вежливая табличка на стеклянных дверях.
Холл впечатлял. Живая изгородь высотой в половину моего роста разделяла пространство на зоны отдыха, а также указывала путникам кратчайшие проходы — к лифтам, к стойкам администрации, к бару. Центральную часть украшал компактный бассейн — с фонтаном и кувшинками (очевидно, выполнял функцию увлажнителя). Плетеная мебель причудливых форм подчеркивала растительный характер дизайна. Пол был уложен метлахской плиткой, какую еще в Древней Греции использовали при возведении дворцов и храмов, причем мозаичный узор был настолько тонок, что вставший на пороге гость замирал на мгновение, полагая, что под ногами расстилаются гигантские роскошные ковры…
Менеджер находился на посту, излучая готовность решать любые проблемы. Я посмотрел на него, размышляя о том, кто выписывает бирки к чемоданам постояльцев. А также о том, кто отправляет чемоданы по номерам. Спросить? Мимо как раз прошли два носильщика с бэджами «Наш Путь» на груди — загорелые, молодые, в ослепительно белых одеждах. Они были увешаны багажом, как рождественские елки.
— Ты сегодня опять к хрусташам в гости? — интересовался один.
— Энергетика должна быть энергичной, — отвечал второй, посмеиваясь.
— Почему на своем горбу, парни? — сказал я им в спину. — Где пневмотележки, где треножники?
Носильщики остановились на минутку.
— Вы не беспокойтесь, мы дозируем нагрузку, — оглянулся один. — Желаем вам здоровья.
Они пошли дальше, сосредоточенно дыша через нос, и с каждым шагом они, очевидно, набирались все большего и большего здоровья, и мне вдруг стало завидно и немножко стыдно, ведь это так здорово: ты укрепляешь свой дух и тело, а тебе еще и деньги за это платят. Или они корячились бесплатно? Я отошел в сторону, чтобы не стоять на пути «Нашего Пути», и сел на один из плетеных диванов. Сиденье, как ни странно, было упругим.
— Вы знаете, что сегодняшней ночью по городу опять намечается шествие бодрецов, — едва слышно, но вполне отчетливо произнесли за моей спиной. Я оглянулся. Сзади как раз была живая изгородь, разрезавшая холл на геометрические фигуры.
— Когда же примут закон о тишине? — горестно вопросил второй голос.
Наверное, там был точно такой же диванчик, что и здесь. Люди отдыхали, скрашивая минуты светской беседой.
— Слышали, что сюда Жилин приехал?
— Который всю эту кашу заварил?
— Он, он. В новостях показывали.
— Воистину, нет предела человеческой наглости…
Мне отчего-то захотелось привстать. Или, к примеру, раздвинуть кустики и посмотреть в щелочку. Простое любопытство, ничего личного. К счастью, меня отвлекли, а то бы не выдержал, ей-богу.
Кругленькая пухленькая симпатяшка в комбинезоне красноголубых тонов подкатилась к дивану.
— Я — Кони, — заговорщически сообщила она и присела рядом. — Кони Вардас. Помните меня?
Я помнил, но скорее не ее, а букет желтых лилий. Это была та самая сотрудница отеля, с которой я столкнулся полчаса назад у лифта, только сейчас женщина несла не лилии — что-то иное, что-то совершенно удивительное. Тоненькие изломанные стебли были усыпаны нежными белыми цветочками в столь большом количестве, что растение в ее руках походило на облако, на кружевную дымку, на воздушное платье невесты.
— Вы, пожалуйста, не сердитесь, — попросила она. — Я, наверно, помешала? Понимаете, около часа назад я услышала… Случайно, когда в оранжерее была. Оранжерея — это на крыше. Жаль, я сразу не сообразила с вами поговорить, а тут увидела, что вы отдыхаете, и подумала: если не сейчас, то когда?
Слова сыпались из нее, как фасоль из дырявого пакета — неудержимо и звонко.
— Я работаю аранжировщицей цветов, — объяснила она.
— Вот оно что. — Я наклонился и понюхал чудо природы в ее руках. Пахло свежескошенной травой. — Красивая у вас работа, Кони. Как вы сами.
Она покраснела и затеребила рукой кулончик на своей шее: это была Молящаяся Дева, вырезанная из черного дерева и подвешенная на тонких кожаных тесемках.
— Спасибо. Так вот, насчет тех двоих. Я была не в самой оранжерее, а в кондиционерной…
— Вы аранжируете цветы в кондиционерной? — догадался я.
— Нет, там я… — Она потупила взор, отчего-то засмущавшись. — Вы никому не скажете?
— Смотря что. Если, например, речь о тайном изготовлении самогона из лепестков черных орхидей, то ничего не могу обещать.
Женщина улыбнулась. Хорошая у нее была улыбка, искренняя. Упоминание о неких «двоих» мгновенно разбудило омерзительного человечка в моей голове, задремавшего было от райской скуки, но я пока не давал ему слова.
— Никак не получается бросить курить, — шепотом призналась толстушка. — Глупо, правда? Прячусь в своей норе, чтоб никто не видел. — Она печально покивала сама себе. — Удержать здоровье позволяет только норма, спасительная норма. Но все-таки гораздо важнее — это готовность человека. — Она постучала пальчиком по своему лбу. — Понимаете? Если человек готов, у него получится.
— И у вас… — я задохнулся от восхищения. — Получилось?
— Посмотрите на меня, — сказала она и выгнула спину на манер профессиональных фотомоделей. — Вы не поверите, но за последние годы я невероятно похудела. Страшно рассказывать, какая была раньше. Что меня спасло? — Женщина перекрестилась двумя перстами — слева направо, как истинная католичка. — Благодарение Богу, у меня получилось.
— Стало быть, в кондиционерной курить не возбраняется, — вернул я разговор в исходную точку.
И женщина вспомнила, что подошла ко мне неспроста. И лицо ее, освещенное внутренним светом, сразу погасло. Она тихо сказала:
— Я думаю, эта парочка выбрала оранжерею, потому что днем у нас никого не бывает. Встали за стойкой с клематисами, чтобы их не видно было. А там как раз одно из окон воздуховода спрятано. Весь их разговор по трубе дошел до кондиционерной, тем более, я же аппаратуру выключила…
— Вот что, милая, давайте-ка мы с вами тоже отойдем, — прервал я ее.
Впрочем, кого обманываю? Давно уже разговаривал не я, а мой изголодавшийся напарник, прогрызший лабиринты у меня в голове. Голова была подземельем, из которого тянуло сыростью и смрадом, там жил уродливый карлик, имя которому — навыки оперативно-розыскной деятельности. Это маленькое коварное существо функционировало по своим правилам, независимо от воли и желаний большого Жилина, поэтому еще вопрос, кто из нас был больше.
Я неторопливо встал. Цветочница послушно поднялась следом. Встав, я посмотрел назад, как бы ненароком заглянул за растительную изгородь и обнаружил по ту сторону кустов двух старичков в форме национальной гвардии, смирно лежащих на топчанах. Форма была летняя, но давно устаревшего образца. Поймав мой взгляд, ветераны дружно улыбнулись мне в ответ. Наверно, не узнали меня. Или, наоборот, выдержка старых вояк не подвела.
— Они что-то против вас затеяли, — совсем неслышно сказала Кони. — Что-то очень плохое. Сначала ругались шепотом, торговались о чем-то, а потом… — На секунду женщина зажмурилась от ужаса. — По-моему, они хотят вас похитить.
— Кто — они? — спросил я.
— Первый — сеньор Ангуло. Кстати, наша кастелянша — его племянница. Он регулярно употребляет наш фирменный кислородный коктейль. Вы знаете, что здесь в баре готовят лучший в городе кислородный коктейль?
— А второй? — напомнил я.
— Не знаю, — огорчилась она. — По-моему, я его уже видела в отеле. Как вы думаете, мне заявить в полицию?
— Я заявлю сам, не волнуйтесь, — сказал я ей. — Все будет хорошо, chiquita[1]. Когда вы заканчиваете работу?
— Оранжерея закрывается в восемь.
— Я найду вас. Этого второго в лицо сможете узнать? Или по фото?
Она молча кивнула. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга. Женщина еле-еле доставала мне до груди. Ей было жалко уходить.
— Последний вопрос, с вашего позволения, — сказал тогда я. — Что это такое у вас в руках?
— Гипсофилы, — сказала она кокетливо. — Никогда не видели? С белыми цветками, потому что однолетние, а бывают еще многолетние, с розовыми цветками. Идеальный компоновочный материал. Вы точно меня найдете?
Я тяжело вздохнул.
— А куда денешься? Иначе, я подозреваю, вы поднимете на ноги Мировой Совет.
По-моему, она была удовлетворена, если позволено так выразиться. Она ушла, не оглядываясь, бережно неся свои гипсофилы. Я проводил взглядом аппетитную фигурку, затянутую в красноголубую униформу. Посмотреть женщине вслед — хороший способ проконтролировать окружающую обстановку, однако ничто не изменилось в холле, не сместилось как бы случайно с мест. Не дрогнули ничьи головы, не задвигались ничьи губы. Если за мной и следили, то делали это на высоком техническом уровне, в чем лично я не видел никакого смысла.
А потом я заметил Марию.
Мой бывший начальник спускался по главной лестнице, напряженно глядя под ноги сквозь толстые стекла очков. Мария Ведовато собственной персоной, директор Юго-Западного отделения, служебный позывной «Дуче». Вечная трость, вечная седина. Живот, едва не выпадающий из брюк. Двигался он так, будто боялся упасть, и вообще был он какой-то придавленный, сгорбленный, нездоровый. Эк его согнуло, моего несгибаемого шефа, с жалостью подумал я… Итак, Мария тоже оказался здесь. Это было потрясающе. Человек, стоящий на краю отставки, приезжает в рай за утешением. Или у него командировка? Или опять Планета проявляет интерес к этому оазису, бывшему когда-то Страной Дураков, а теперь перепаханному под новые посевы? И где Оскар, где их вездесущая тень, накрывшая с некоторого времени весь оперсостав Совета Безопасности? Нет, потрясающим было не это, это как раз было банальным — сплетение интересов, подлый расчет, благородное недомыслие, — не то, не то. Но что тогда?
Было ощущение, будто кто-то выдернул всех моих прошлых знакомых за шкирку и нарочно закинул сюда, чтобы меня потешить. Вот и Строгов сюда переселился. Зачем? Бред, как известно, заразен, переносчиками являются простые человеческие слова. Тот сумасшедший возле вокзала, который тоже был моим знакомым, сказал: «Я во всем виноват», тем самым втянув меня в этот спектакль, ибо чужую вину я принимаю только в доказанном виде; он же сказал мне: «Вы межпланетник, вы все поймете правильно», но пока я понимал лишь то, что всякая потеха имеет свои границы и что теперь я не смогу успокоиться, пока не выйду за эти границы…
А потом Мария увидел меня.
И ничего не произошло. Он направлялся в ресторан, поэтому наши пути никак не могли пересечься. Мы не подошли друг к другу, не пожали друг другу руки, не пожелали здоровья. Обменялись короткими взглядами — и все. Он был из тех, кто пытался оставить меня в Совете Безопасности, вернее сказать, он был единственным, рискнувшим вступиться за предателя. Не знаю, чего это ему стоило. Да вот хотя бы того, что начальником над ним сделался Оскар, а не кто-то другой. Впрочем, Оскар сделался бы начальником и без той истерии. Мария, как передали мне позже, считал меня лучшим своим сотрудником, хотя никогда не говорил мне этого в глаза. И вот теперь мы даже кивка друг друга не удостоили. Очевидно, старик так и не смог Тине простить, что я оказался не таким, каким он меня придумал. А я? Чего я не мог им всем простить?
Банковское отделение уже открылось, внутри был народ. Я повернулся и прошел сквозь вертушку внутрь. Внешне офис ничем не отличался от тысяч похожих заведений, разбросанных по всему свету. В одном из окошечек я получил документ, озаглавленный: «Закон о денежном обращении» — вместе с просьбой ознакомиться и подписать, — а также совет изучить материалы на стендах. Я начал со стендов, в результате чего выяснил, что суммы, подлежащие обмену, строго ограничены. Причем все зависит от статуса клиента. Судя по специальной таблице, я подходил под определение «турист первого дня». Подобная практика была, по меньшей мере, странной, ибо каким образом, черт возьми, они тут добиваются устойчивости собственной валюты, если ограничивают ввоз чужой? Любопытно, что наивысшим приоритетом при обмене наличных денег пользовались инвалиды, а также лица, страдающие тем или иным хроническим заболеванием, чей недуг был подтвержден соответствующим документом.
— Справочку и купить можно, — пробормотал я. — На что они рассчитывают?
— Вы новенький, — тут же последовал отклик. Мне в спину пристроился некто в гавайке и шортах — выписывал что-то из таблиц. — Вы еще полны надежд, это очень трогательно. Законную силу имеет только справка, подтвержденная в одном из местных лечебных учреждений. Никакую другую банк не примет.
— И что это меняет? Купим у местных.
— Когда врачи избегают врать даже по долгу службы, даже из чувства сострадания к пациенту, неужели вы думаете, есть шанс, что они сделают это за мзду?
— Надеюсь, у вас с надеждами тоже все в порядке, — сказал я ему.
Возле окошка с надписью «Кассир» разгорался маленький скандал. Клиент требовал, чтобы ему выдали положенную сумму непременно мелкими купюрами. «Имею право,» — тупо повторял он. Очевидно, это был турист НЕ первого дня.
— Глупец, — меланхолично произнес борцовского вида крепыш, оторвавшись от созерцания своей чековой книжки. — Думает, чем больше бумажек под подушку положит, тем красивее сны увидит.
— А на самом деле… — подбодрил я его.
— На самом деле, сэр, все наоборот. Хочешь хапнуть больше — значит, алчный, значит, ничего у тебя не получится. — Глаза собеседника гневно сверкнули, выдав истинные его чувства. — Алчность, сэр, ничем не исправишь. Хотите знать первое имя дьявола? Алчность, сэр.
Ага, подумал я, в их рай, оказывается, не только лжецам путь заказан. Но при чем здесь красивые сны? И, в особенности, при чем здесь деньги под подушкой?
Я прилежно прочитал выданную мне бумажку. Закон о денежном обращении, как выяснилось, сводился к одному-единственному требованию: местные деньги в наличной форме нельзя было вывозить из страны. Причем за нарушение наступала не административная ответственность, а уголовная, высылкой дело не ограничивалось. Это ограничение казалось еще более нелепым, чем трудности с обменом валюты. Я, конечно, подписался в графе «ознакомлен», не стал капризничать. После чего вернулся к окошку. Там уже стоял посетитель, брезгливо обмахиваясь точно такой же подписанной грамотой. Он проворчал, легко распознав во мне товарища по несчастью:
— Они тут сумасшедшие.
— Я обратил внимание, — нейтрально сказал я.
— Ввели свои деньги, — воодушевился он. — Какого черта? Вот раньше, до заварушки, — плати, чем хочешь. Вы бывали здесь раньше? Хоть драхмами плати, хоть крузадо. Райское было местечко. Но теперь мне выбирать не приходится, полиартрит совсем замучил, засыпаю, вы не поверите, только с грезогенератором в люстре. А здесь, говорят, просто чудеса творятся. Ни одного чуда, правда, я пока не видел, если не считать того, что доллары наши им почему-то не нравятся…
— Рубли тоже, — вставил я.
Он изменился в лице.
— Вы русский?
— Если в роддоме не наврали.
Он отвернулся.
— Кругом русские, куда ни плюнь, — сказал он как бы сам себе, но так, чтобы все услышали. — Что ж они всюду лезут? Уже превратили свой Верховный Совет в Мировой, и все мало. Мир спасают, просто мания какая-то, от них бы кто спас. Такая была страна — опять же изгадили… — Он сунулся головой в окошко и спросил у операторши: — Вы не обидитесь, милая? Я пережду где-нибудь в уголке, пока помещение не очистится от свиней.
Некоторое время этот несчастный, переполненный злостью человек пребывал в сладком ожидании ответных чувств с моей стороны. Когда он удалился, со скрипом волоча свои плохо гнущиеся мощи, барышня по ту сторону стекла улыбнулась мне:
— Вашу гостевую карту, пожалуйста.
Девчушка, отошедшая от другого окошка, бегом торопилась к выходу, открыто целуя зажатую в пальцах купюру.
— У детей тихий час, — отчетливо произнес кто-то.
Очевидно, это было остроумно, потому что кругом засмеялись, дав бегунье дорогу.
— Совсем стыда не осталось, — сердито сказал пожилой охранник, прогуливающийся вдоль стоек. — Хрусташи, отбросы помойные. Скоро начнут прямо под дверями укладываться.
Формальности не отняли много времени. Я быстро получил свою порцию денежных знаков и сунул пачку в карман, не пересчитывая. В этот момент радиофон запищал у меня в ухе.
Звонил Бэла.
— Подожди, — сказал я ему. — Сейчас на улицу выйду…
Возле охранника я на секунду притормозил.
— У вас что, не получается? — спросил я со значением. — Может, не так питаетесь?
Не люблю, когда детей обижают, есть у меня такое уязвимое место. Я пошел себе дальше — к солнцу, к пальмам, к открытому настежь городу, — а задетый мной старый дурак послал мне в спину с неожиданной тоской:
— Ну причем здесь питание-то?
Центральный вход вывел меня, по счастью, с противоположной от памятника стороны. Здесь было море — наконец-то я его увидел. Город спускался к морю широкими террасами, лежал под ногами, как макет, и казалось, достаточно было шагнуть, чтобы раздавить гигантской сандалией этот игрушечный мир… Оказавшись снаружи, вне зоны действия любопытных ушей, я сказал Бэле напрямик:
— У меня алиби, имей в виду. В момент нападения на камеры хранения я гулял с тобой по проспекту Ленина.
— Остришь, — неодобрительно сказал он. — Рад за тебя. Тут такой вопрос, Иван. Тебе знакомо имя Рэй?
— Кто это?
— Значит, опять я зря на тебя понадеялся… Странная история, бортинженер. Мне передали анкету. Ну, ту, которую при въезде в страну заполняют, помнишь? Она пришла не из таможенного управления, ее просто подбросили. Украли где-то бланк строгой отчетности… но это не важно. Там было написано имя: Рэй. В графе «профессия» значилось: шпион Совета Безопасности, а цель приезда указана следующая: перестать лгать. И приписка: «Надо же с чего-то начинать, не так ли, агент Жилин?» Про агента Жилина — это не мои слова, это было в анкете.
— В вашей уютной стране есть сумасшедшие, — сдержанно отозвался я. — Ты не замечал? Почему-то их особенно много среди поклонников литератора Жилина. Не знаю, что тебе ответить, Бэла.
Я не знал, что ответить, поскольку имя Рэй и вправду было мне знакомо. Если, конечно, речь шла о том человеке, о котором я подумал. Начальник полиции помолчал.
— Раскрываю тебе служебную тайну, Иван, — устало предупредил он. — Из упавшего в бухту вертолета мы вытащили кое-какие документы, но даже не успели их восстановить. Дело опечатано и увезено представителями Управления внутренних расследований Службы безопасности при Совете Безопасности. Зеленые галстуки все изъяли, подчистую. Так что шалость с анкетой не кажется мне смешной и, тем более, случайной.
Бэла был очень зол. Не мог просто взять и утереться.
— Знаешь, что означает буква «L» на борту? — сменил он тему.
Их татуировочка.
— «Light Forces», — сказал я.
— Я думал, это легенды.
— Может, провокация? — спросил я с сомнением. — Кто-то камни по кустам кидает, чтоб все в сторону побежали.
— Камни по кустам… — сказал он. — Красиво звучит. Сразу видно, что ты писатель.
— Ваши камеры хранения тоже буква «L» ограбила? — поинтересовался я у него.
— Да, — ответил он. — А сами бойцы были одеты в форму нашей полиции. Знаешь, Иван, даже оторопь берет от такой наглости. Теперь у них было время на подготовку, не то, что утром. Правда, они ведь не знали, в каком номере и в какой гостинице агент Жилин имел несчастье познакомиться с неким существом по кличке Странник, поэтому ячейки были вскрыты все до единой…
Он сказал все это со скрытым смыслом, который вовсе не собирался скрывать, и у меня пропала охота изображать из себя постаревшего весельчака, готового язвить по любому поводу. И я начал всерьез подумывать, не закатить ли мне в качестве ответа показательную истерику, но решил повременить, пока не исчерпаю собственные вопросы, например такой: известен ли местной полиции некий сеньор по фамилии Ангуло?
— Мигель? — удивился Бэла. — Полковник Ангуло — это крупный чин в Бюро антиволнового контроля. Есть в стране такая спецслужба, осталась со времен борьбы со слегом. А что?
— Ничего противозаконного. Он курит в оранжереях и путает многолетние гипсофилы с однолетними.
Начальник полиции сердито хрюкнул.
— Минуту, комиссар, — попросил я. — Не прерывай контакт. Что в ваших краях делает Мария? Тоже турист?
— Ты про бывшего шефа? — догадался он. — Мария разыскивает своего ребенка, так честно и указал в анкете. Мол, чадо удрало от папаши и скрылось где-то здесь.
— И вы ему поверили, — констатировал я.
— Как и тебе. А что? Кстати, раз уж ты заговорил, — добавил Бэла странным голосом. — Твой Мария написал в анкете, что его ребенка зовут Рэй. Рэй Ведовато. Тебе в самом деле нечего мне сообщить?
«Ведовато» в переводе — что-то вроде «вдовца», подумал я. Вдовец Мария, оказывается, имел отпрыска, которого Господь не наделил родовой дисциплинированностью и ответственностью. Печальная история. Отцы и дети. Шум и ярость, жизнь и судьба…
— Пошел к черту, — сказал я.
С некоторыми подробностями дела меня ознакомили позже, и совсем другие люди.
Ибо ничто не сгорает бесследно, если оно сделано из металла и мезовещества. Например, накопительная камера от «шаровой молнии». Или останки трейлера с раздвижной крышей и специальной станиной внутри, приспособленной как раз для транспортировки и наведения плазменных сгущателей. Все перечисленное было обнаружено на вилле, которую неустановленные лица арендовали у городского департамента собственности. Вилла стояла далеко на взморье и была покинута арендаторами, однако времени им не хватило, чтобы уничтожить все. Так что Z-локатор, установленный на крыше и культурно замаскированный под башенку обсерватории, уцелел.
Осталась и карта слежения, привязанная по времени точно к утреннему рейду штурмового «Альбатроса». И даже программа асимметричного наведения не была стерта. Участок вокруг виллы был оборудован системой рассеивателеи, защищавших локатор от обнаружения (в качестве ложного ориентира выдавались координаты диспетчерского пункта аэропорта). А в ангаре, среди всевозможного подводного снаряжения, обнаружился молекулярный резак с полностью разряженной батареей. Этакий консервный нож в кармане любого уважающего себя диверсанта, которым очень удобно, скажем, вскрывать рухнувшие на морское дно вертолеты…
Жаль, что ничего этого Бэла мне не рассказал. Я бы значительно раньше понял, с кем имею дело.
После разговора с начальником полиции я на минуту поднялся к себе в номер — специально для того, чтобы положить радиофон обратно на тумбочку. Таким образом, связь с миром была оборвана. Мне вдруг перестали нравиться блага цивилизации, дающие кому-то возможность в любой момент призвать меня к ответу. И я отправился, черт побери, гулять по городу, ибо я, черт побери, был свободным, одиноким, при деньгах.
Десантные операции среди шезлонгов и минеральных источников, думал я. Похищения людей, расстрелы вертолетов, нападения на вокзалы. «Шаровые молнии» и прочие изыски. Ясно, что власти были растеряны от такого нагромождения событий, посыпавшихся в один день — В день моего приезда. К хорошему привыкаешь быстро, а местные правоохранительные органы, как я понял, вот уже несколько лет сидели без дела. Угораздило же меня, думал я, испытывая острое чувство досады. Я был туристом, просто туристом, и вмешиваться в происходящее никак не входило в мои планы. «Ну и что с того, что в день моего приезда… — спорил я непонятно с кем. — Положительно не вижу связи…»
Некоторое время я размышлял о будущем. О ближайшем будущем. В том смысле, конечно, куда мне теперь направиться. Я люблю размышлять о будущем, обманывая себя тем, что в этом и состоит работа писателя. И я понял, что должен немедленно идти к Строгову, поскольку если не сейчас, то когда? Славин, правда, предупреждал, что кто-то из наших сегодня к нему уже намылился, но, в конце концов, никакой очереди мы не устанавливали. Зачем, спрашивается, я сюда приехал? Я приехал проститься с Учителем, который умирает, который умирает вовсе не от старости или болезней, и никто не вправе откладывать нашу встречу, водя указующим пальцем по клеточкам невидимого плана-графика.
Принявши решение, я пошел к Строгову.
Если ты Учитель, у тебя обязательно должен быть Ученик, думал я, спускаясь по бесконечной лестнице к набережной. Иначе какой же ты Учитель? Именно наличие Ученика делает из незаурядного человека нечто большее. Если продолжить эту мысль, то неизбежно получишь следующую: эстафетная палочка передается из рук в руки только кому-то одному. Иначе говоря, свой Дух ты вряд ли сможешь поделить между всеми желающими. (И это слова межпланетника, скривился бы Славин. Позор коммунисту, атеисту Жилину!) Так к чему мои патетические размахивания руками? К тому, к тому! Хоть и не я придумал операцию под полусерьезным названием «Время учеников», призванную спасти нашего Дим Димыча (а кто ее, кстати, придумал?), я с готовностью принял эту безумную идею. Хоть я и прибыл в этот город, откликнувшись на зов своих друзей по писательскому цеху, в окончательный успех дела я все равно не верил. Хоть и не верил я в возможность вернуть Строгова к жизни, однако ж на что-то надеялся…
Вот и набережная, а лестница все текла и текла вниз по склону, увлекая меня к морю. Это была центральная пляжная лестница — мраморная, с башенками. Невозможно было представить, чтобы взять и сойти с нее в сторону.
Мы спасали Учителя, забыв, что спасти сначала нужно себя. Мы все поголовно назвались его учениками, не понимая, что ему нужен только один — Ученик. Нет, каждый из нас в глубине души это понимал, но опять же каждый втайне надеялся, мол, я — тот самый и есть. А кто-то был в этом уверен. Тогда как настоящий Ученик, вполне возможно, пропадал где-нибудь в Пырловке и был со Строговым не знаком, потому что ложный стыд мешал ему высунуть голову, и нам бы взять да разыскать этого парня, да привести его к Дим-Димычу за ручку, вместо того, чтобы дружно слетаться сюда со всех концов Ойкумены. А может, настоящий Ученик еще только учился читать по слогам? А может, Строгов вообще не хотел быть ничьим Учителем? И, кстати, насчет стыда, который на самом деле не бывает ложным. Интересно, кто-нибудь из нас испытает ли потом это чувство? Например, беллетрист Жилин?
Бриз, вдруг задувший с моря, очень вовремя проветрил мою голову. Сандалии увязли в песке, пришлось их снять. Я с изумлением обнаружил, что мраморная лестница давно закончилась, а передо мной — пространство без конца и без края. Дом Строгова остался где-то наверху и гораздо правее. «Строгий Дом». «Дом На Набережной»… Вокруг кипела жизнь. Веселые голые люди азартно играли в пляжный волейбол, другие голые люди зарывались в песок, ласточкой бросались в набегавшую волну, перекрикивались, общались, не обращая внимания на различия полов, и я понял, что попал на пляж натуристов. Это в исторической-то части города? Остроумно. Никто ни с кем не целовался, здесь были настоящие натуристы. Что ж, я люблю все настоящее, поэтому я закатал штаны, разделся до пояса, поддал ногой откатившийся ко мне мяч, а затем побрел кромкой прибоя, останавливаясь и с наслаждением наблюдая, как волны слизывают оставленные мною следы.
Неужели мне не хочется к Строгову, спросил я себя. Неужели я боюсь? Тогда какого рожна я сюда притащился? Повидаться с алкоголиком Славиным я мог и в Ленинграде, заглянув как-нибудь вечерком в ресторан Дома писателей, а мрачного, болезненно серьезного Сорокина я мог легко отловить в Москве, в его роскошном рабочем кабинете.
Раскинув руки, я подставил грудь морскому бризу.
— Моя любовь? Она седа, — нежно пропел кто-то, — глуха, слепа и безобразна…
Я на всякий случай оглянулся. Одна из валявшихся на песочке девушек, сняв с головы солнцезащитный шлем, помахала мне рукой и вспорхнула с места.
— Ты сегодня точен, — сказала она нормальным голосом. Это была та самая безжалостная красавица, которую я видел утром возле киоска с кристаллофонами, это была та самая любительница музыки, которая с первого взгляда запала в мое подержанное сердце. Увы, она была в купальнике. Зато улыбалась — персонально мне.
— Я просто вежлив, — возразил я. — Как король.
— Я тебя знаю, — сказала она, — ты король из моего сна. Я позвала, и ты пришел.
Я посмотрел почему-то на часы. Меня позвали, и я пришел, мысленно согласился я, вспомнив записку на рукоятке чемодана.
Шутки шутками, но было как раз четыре пополудни. Вернее, без пяти, но это дела не меняло. Мне назначили свидание на взморье, и вот я здесь. Я был сегодня точен. Случайно ли ноги принесли меня на центральную лестницу и заставили спуститься до самого дна? Кто руководил движением моих ног?
— Поможем друг другу проснуться, — пробормотал я. — Бог — это счастье. Носильщики хреновы…
— Ты веришь в Бога? — тут же спросила девушка.
— Скорее нет, чем да. Впрочем, в какого?
— Он — один. Не понимаю, как писатели могут не верить в Бога, просто болезнь какая-то, особенно среди фантастов. Надеюсь, ты не фантаст?
— Как можно, — укоризненно сказал я.
Она долго смеялась, кокетливо грозя мне пальцем, и тогда я повернулся и побрел дальше, поддевая пену ногами. Я решил проверить ситуацию на прочность, и красавица не обманула моих надежд, легко и естественно присоединившись ко мне, а может, она подтвердила тем самым худшие мои подозрения, — просчитывать варианты мне пока не хотелось. Похоже, она в самом деле знала, кто я такой, оттого и веселилась. Ну, Жилин, держись, сказал я себе, молоденькие поклонницы тебя все-таки зацапали. Дождался на старости лет. Впрочем, молоденькие ли?
— Хорошая у тебя легенда, — заговорила она, отсмеявшись. — Нет, я серьезно! К ребятам из Советского Союза здесь по-разному относятся, но писатель Жилин — это имя. Жаль, конечно, что ты не веришь в Бога, есть тут какое-то несоответствие, это сразу настораживает.
— Имя, а также фамилия, — ответил я. — Но я никогда не говорил, что не верю в Бога.
— Значит, веришь?
— Этого я тоже не говорил.
Девушка закатила глаза и глухо молвила:
— Он спросил страшным голосом: водку пьешь? Нет. В Бога веруешь? Нет. Истинно межпланетная душа!
Это была цитата. Из меня цитата, из кого же еще.
— Все очень мило, — сказал я ей, строго оглядев красавицу сверху донизу. — И ты очень мила. Вот только насчет «легенды» я не понял. Легенд я не пишу, не тот жанр.
Или не тот возраст, подумал я. Не тот азарт, не те зубы. Самое время было спросить у прелестницы, кто она такая, этак невзначай перевести стрелку разговора с моих анкетных данных на ее, самое время было разобраться в правилах игры, которую со мной затеяли, но…
— Легенду про слег создал ты. — Она чувственно провела пальцем по моему животу, дойдя до шрама и остановившись. — А сам-то знаешь, что такое слег? Наплел в своих мемуарах про волновую психотехнику, про воздействие на центры наслаждений в крысиных мозгах… — Она вдруг запрокинула голову и снова засмеялась. — При чем здесь, вообще, мозг? Странно, что ты — ты! — в этом не разобрался.
— Я разобрался, — обиделся я, — Может, мы сначала познакомимся, а уже потом поссоримся? Вы кто будете, прелестное дитя?
Незнакомка вела себя так, будто мы были с ней давно и хорошо знакомы, будто мы были близко знакомы. Нет, не так. Будто нас связывало нечто большее, чем близкое знакомство. Это немного шокировало.
Она пропустила мой вопрос мимо ушей.
— Ты хорошо помнишь свое последнее задание? — неожиданно спросила она.
— Которое? — Я напрягся.
— В этой стране. Под кодовым названием «Двенадцать кругов рая».
— А ты много читаешь, девочка. И что я, по-твоему, не понял про слег?
— Подожди, это несущественно. Говоря о бездуховности, ты не признаешь наличие души, и в этом все дело. Я о другом. Слег заталкивает душу человека в мир, созданный его подсознанием, делает этот мир реальным — для него одного, конечно. Бессмертная душа сворачивается до размеров смертного мозга, а настоящая, Богом данная реальность сменяется ложной, в которой Бог — ты сам. Назови это энергетическим коконом, если терминология не нравится. Осознал ли ты тогда, что достаточно всего лишь раз дернуть за веревочку, чтобы дверь в истинную реальность закрылась навсегда? Всего один раз!
— Смотри, какое море, — восхитился я, положил руку девушке на плечо и притянул ее к себе. — Смотри, какое небо. А ты мне тут о слеге. Сколько тебе лет?
В ответ она обняла меня за талию.
— Я половозрелая и совершеннолетняя.
— Спасибо за предупреждение. А что за песенка у тебя была? «Моя любовь седа…»
Она послушно спела:
Моя любовь? Она седа, глуха, слепа и безобразна. Как счастье — несуразна. Не оттого ль, что навсегда.[2]Спев один куплет, она объяснила:
— Это лучший в городе инструктор сочинил.
— Инструктор чего?
— Ты еще не был на холме, — поняла она. — Обязательно сходи…
Некоторое время мы молчали. Было просто хорошо, и ни о чем не хотелось говорить, не хотелось также думать и что-то там анализировать. Да, я вел себя безобразно. Потому что девчонка мне безобразно нравилась, и если она предпочитала напустить таинственности, так и пусть ее, всему свое время, к тому же на нас поглядывали, я ловил заинтересованные взгляды других пляжных мальчиков и девочек, что, в общем-то, было мне привычно, ведь за свои полвека я отлично сохранился, никакой «Идеал» работы скульптора В. Бриг не мог тягаться со мною, сделанным из плоти и крови, а божественное создание, прижимавшееся сбоку, было полно искренности, так какого черта, спрашивал я себя, какого черта я должен быть не тем, кто я есть? А потом моя безымянная подруга решительным образом заявила:
— Так вот, о слеге. Помнишь ли ты, как семь лет назад, решив испытать все на себе, ты погрузил свое тело в ванну и включил эту чертову штуку, стоявшую на полочке? Возникает естественный вопрос. Уверен ли ты, что проснулся тогда? Не плод ли твоего подсознания все то, что ты с тех пор видел и испытал?
Я даже споткнулся. Как выяснилось, рано я расслаблялся.
— Ложная реальность тоже дана нам в ощущениях, — заключила она. — Ты хотел поприжать тупиц и карьеристов из Совета Безопасности, ты очень хотел предупредить человечество о слеге, чтобы спасти мир в целом и эту страну в частности. И ты победил, но только в мечтах. Ну что, нравится тебе такая версия?.. — Опять она захохотала. — Памятник самому себе поставил! Блеск!
Как реагировать, было непонятно. Как достойно отреагировать. Есть все-таки страшные вещи на свете, которые в первые мгновения могут вывести из равновесия даже самых устойчивых и крепких. Я снял руку с плеча спутницы, она также отпустила меня, отстранилась, и нашей красивой пары не стало.
— Семь лет назад я, КОНЕЧНО, проснулся, — максимально спокойно ответил я. — И уж, КОНЕЧНО, ты — не продукт моего воображения.
Мы остановились. Она смотрела на меня, не мигая.
— Я сказала не «воображения», а «подсознания». Предположим, после первого раза ты проснулся, но неужели успел забыть, как вместо честного и профессионального рапорта ты отправил своему начальнику небылицу и снова залез в ванну, на этот раз включив подогрев воды? И сразу все стало, как надо. Ты героически сражался со слегом, а твой начальник не мог простить тебе, что в известной книге ты раскрыл публике его имя. Но существует ли эта книга где-нибудь еще, кроме как внутри твоего кокона? Уверен ли ты, что и во второй раз проснулся?
Это было слишком.
— Хватит, — сказал я. — Уже не смешно.
Очевидно, я рассвирепел отнюдь не понарошку, что случается нечасто.
— Не было второго раза, — произнес я с расстановкой и вдруг осознал, где мы, кто мы и о чем говорим.
Наваждение прошло. Нужно было брать чертовку за ноги, переворачивать вниз головой и вытряхивать из нее правду.
— Значит, с твоим подсознанием все о'кей, — терпеливо сказала она. — Но, если ты сейчас бодр, психически здоров, трезв и все такое, почему тогда ты потерял способность чувствовать боль?
Я замер. О чем она опять?
— Хочешь проверить? Подержи, пожалуйста.
Красавица отдала мне свой солнцезащитный шлем. Затем, не спрашивая разрешения, захватила мою левую руку, оттянула пальцами кожу в районе предплечья и медленно, с усилием проткнула это место… спицей.
Спицей? Откуда взялась спица, что за фокусы?! Инструмент прошил мне кожу насквозь, как в цирках показывают, затем был рывком выдернут. Боли не было. Крови тоже. Рука двигалась… Все это происходило как будто не со мной.
— Вот видишь, — сказала ведьма голосом, полным материнской заботы. — Реальность дает сбои. От скуки ты придумал себе новое задание и очень хочешь его выполнить, но ведь теперь ты еще кое-что захотел. Ты ждешь, когда я разденусь, правда?
Я молчал и рассматривал свою руку. Ранки были, а боли не было. Совсем.
— Пойдем вон туда, для двоих там хватит места. — Она показала на одичавший парк, раскинувшийся по прибрежным склонам. Заросли акации начинались сразу, где кончался пляж. Далее шли магнолии, каштаны, дикие смоковницы и прочая зелень. Парк намеренно и с любовью сохраняли в одичавшем состоянии, но помимо растительности в нем имелось множество романтических гротов, в которых легко и приятно было прятаться от посторонних глаз.
— В мире, где ты Бог, исполняется даже то, о чем ты не просишь, — кивнула мне незнакомка.
Она развернулась и пошла к зарослям, вылезая на ходу из купальника. Она не сомневалась, что я, как голодный пес, поползу следом. Я сделал за ней шаг, еще шаг, и заставил себя остановиться.
— Как насчет Эмми? — позвал я ее. — Эмми не будет ревновать?
Она не обернулась. Лифчик она взяла в одну руку, в другую взяла трусики, и принялась крутить эти предметы над своей головой, изображая винт взлетающего геликоптера.
Глава третья
Пространство вокруг Государственного Совета нисколько не изменилось. Тот же перекресток, та же система крытых аллей; ротонда с минеральным источником, киоски, лотки и закусочные. Ноги принесли меня сюда без участия моей воли, дав отставному агенту время прийти в себя.
Дурацкий солнцезащитный шлем, оставшийся мне от сгинувшей ведьмы, я сообразил наконец сунуть в один из уличных утилизаторов, после чего направился к лотку с прессой.
— Здравия желаю, дружок, — сказал я продавцу, отвлекая его от процесса чтения. — За мной долг, если вы не забыли. Сколько вот эта газетка стоила? — Я ткнул пальцем в нужное издание и насыпал на стол горстку мелочи. — Примите мои извинения.
Честь межпланетника была восстановлена. Когда с расчетами покончили, я спросил:
— Не подскажете, как отсюда попасть на холм?
Парень оживился.
— Вы правильно решили, — сказал он.
— Что я решил?
— В первый же день — на холм.
— Это за меня решили, — вздохнул я. — Ну, так как?
— Вам надо в Университет. Знаете, где Университет?
Я знал, где Университет. Еще бы мне не знать этого! Впрочем, насколько я помнил, рельеф там был ровный, как блин, никаких вам холмов, курганов или горных кряжей.
— Придете и сразу увидите, — успокоил меня продавец. — Это перед главным корпусом… — Он со значением заглянул мне в глаза. — Я рад, что вы будете с нами.
Я придвинулся к нему поближе и спросил вполголоса:
— А кто еще с нами? Если не секрет, конечно.
Парень задумался, как будто здесь было над чем думать. Очень серьезный человек, трудно с такими разговаривать.
— Все население, — ответил он с плохо скрываемой гордостью. — Так что трагедия Ташлинска у нас не повторится.
— Население чего?
— Пока страны. Но, я уверен, проблем не возникнет и за ее пределами. Кому не хочется быть здоровым, жить фантастически долго и всю счастливую жизнь видеть… не сны, нет! Не поворачивается язык назвать это снами.
— Новая реальность, — подсказал я, вспомнив почему-то о слеге.
— Вот именно, очень точно вы сказали! А цена так мала. Чуть-чуть изменись, пойми, что преграда — это твоя алчность и твоя агрессивность…
— Значит, трагедия не повторится? — прервал я его. — Отлично, я больше люблю комедии.
— Ах, вы же вряд ли слышали, — спохватился он. — Ташлинск — это городок в России, далеко отсюда. Однажды люди там пытались зажить по-новому, слиться с природой. Они приняли мученическую смерть. Дикая страна. Ошибка была в том, что они с самого начала противопоставили себя всему остальному миру.
Под Ольденбургом, мысленно добавил я, перетряхнув в голове архивы. Начало века. Материалы следствия, оставленные потомкам, рассказывали о ничем не мотивированных погромах, спровоцированных сбрендившими лицеистами. О провокаторе в лице директора лицея, которого потом судили и расстреляли… Что тут было возвышенного?
Я не выдержал, засмеялся.
— Ничего-то у вас не выйдет, друзья, — доверительно сообщил я этому симпатичному пареньку. — Сколько таких было до вас, которые собирались человека менять! Но я — с вами. Я с вами, честное скаутское.
Возможно, я бы еще что-то сказал, прежде чем удалиться, возможно, мне что-то ответили бы, но тут с неба слаженно упали микролеты класса «колибри» — три аппарата, три точки, образовавшие равносторонний треугольник, — и в центре этой фигуры оказался наш лоток. С кожаных сидений поспрыгивали пилоты в костюмах и галстуках. Не теряя темпа, они двинулись упругим шагом к нам, а чуть поодаль сел четырехместный «кузнечик», из которого почему-то никто не вылез. Судя по звукам, где-то ктото продолжал садиться, но другие летательные аппараты были мне не видны.
— Это за мной, — всхлипнул продавец, посерев лицом. Он схватил со стола электронный блокнот и выдрал дрожащими пальцами кристалл из гнезда. Блокнот умер мгновенно, без мучений. Кристалл был брошен на асфальт и раздавлен каблуком — в крошево: мальчик наивно полагал, будто этаким образом что-то уничтожает. Не подозревал, бедняга, что опытный эксперт прочтет всю его информацию не то что с обломков — с пыли.
Когда к нам подошли, он торопливо собирался, бросая газеты и журналы на пневмотележку. Однако ему сказали: «Да вы не волнуйтесь», а мне сказали: «Ну ты, спокойно!», а потом ему сказали: «Счастливо оставаться», а мне сказали: «Добро пожаловать», и я понял, что впервые за несколько минувших часов у меня есть хоть какой-то план действий.
Подошедшие, увы, не представились.
— Не могу идти, сандалия порвалась, — поспешил я заговорить — прежде, чем в воздухе мелькнут наручники.
Один непроизвольно посмотрел вниз, и этого было достаточно, чтобы я его выключил. С двумя другими дело обстояло сложнее, они сразу отскочили — зубы стиснуты, разрядники наизготовку, — но из «кузнечика» высунулся некто и каркнул что было сил: «Не стрелять!» Очевидно, это был старший, ответственный за операцию. Я и сам догадывался, что стрелять они не станут ни при каком раскладе, разве что ампулой со слонобоем, да и то сомнительно, ибо номер ячейки в неведомой камере хранения был только в моей голове. Как моя драгоценная голова отреагирует на слонобой, особенно после утренней нейроволновой атаки? Рисковать они не могли, вряд ли им годился для беседы клинический идиот. И я пошел.
Это была непростая работа, но все же легче, чем в Маниле. После Манилы никакая работа не покажется трудной. Было даже любопытно, каким образом эти двое меня остановят, и вскоре ответ был получен — в виде разодранной на мне рубашки. Одному я сломал руку, второй поймал зубами собственный разрядник, а слева набегал еще кто-то, и справа — еще кто-то, и оба неудачно упали, и потом, уже за моей спиной, долго пытались подняться. Меня трудно остановить, если я куда-то иду. Сандалии мешали: их я сбросил; лохмотья, оставшиеся от рубашки, осыпались сами. Сказать, что план действий был прост, значит ничего не сказать, — он был единственно возможен. Знал я их методы, сам не раз брал таких мерзавцев, какого сделали нынче из меня. Бежать куда-либо в сторону, прорываться, прятаться было глупо, кольцо вокруг наверняка уже замкнулось. Интересно, думал я, нашли они что-нибудь в вокзальных камерах хранения? Или это вовсе не ОНИ вздумали сейчас меня похитить? Тогда кто?
Сзади и сбоку мчалось подкрепление, которое явно запаздывало. Я двигался прямо на «кузнечик», одолевая плотный, как стена, воздух. Вертолет крутил лопастями с видимой неохотой, однако эта вялость была обманчива: аппарат с импульсным взлетом исчезает с места практически мгновенно. Лишь бы пилот не ударился в панику, молил я, лишь бы не нажал на кнопочку. Навстречу мне вылезал старший, надсаживая голосовые связки:
«Стой, дурак, полиция!» Он был такая же полиция, как я — культовый писатель, поэтому я не стал вступать с ним в прения, я дернул его за галстук вниз, себе под ноги, и, удобно оттолкнувшись от его спины, как от трамплина, запрыгнул в салон вертолета. «Ты сам или помочь?» — поинтересовался я у пилота. Тот оказался сообразительным малым, а может, человека просто напугали мои шрамы вкупе с босыми ногами, — он канул из кабины прочь, и больше мне никто не мешал.
Управляться с разными типами летательных аппаратов нас учили еще на первом курсе разведшколы. Мне, бывшему космопроходцу, было это не сложнее, чем отфокусировать фотонный реактор. Я включил пневмоускоритель и взял рычаг на себя. Небо резко придвинулось, уши заложило, город остался глубоко внизу. Мгновенно сориентировавшись, я пошел обратно к земле, превращая параболу в спираль. Вряд ли кто-то успел полюбоваться моим полетом и, тем более, «схватить за хвост» траекторию посадки. К Университету, безмятежно мыслилось мне, куда же еще. Что за холм образовался на ровном месте, что за кочка такая?..
Я сел на набережной, возле конечной станции фуникулера. Дом Строгова прятался метрах в тридцати — среди шелковицы и диких абрикосов. Виден был только стеклянный теремок, откуда старик любил смотреть на звезды, и был виден фрагмент высокого крыльца, ступеньки которого спускались прямо к мозаичной мостовой. Смелее, это же Учитель, подбадривал я сам себя. Если не сейчас, то когда? Дадут ли мне такую возможность позже?
Я спрыгнул на мостовую и сразу увидел Славина с Баневым. Братья-писатели стояли у парапета, опираясь локтями о гранит, и смотрели вниз, на купающихся. Меня они не замечали. Я подошел, промокая носовым платком ссадину на плече (один из падающих бойцов проехался по мне своей кобурой). Ссадина кровоточила.
— А я просто хотел его навестить, — цедил сквозь зубы трезвый Славин. — И все, понимаешь? Все! Не прощаться, не салютовать у гроба! Или ты тоже думаешь, как и эти ваши классики с современниками, что русский медведь уполз в берлогу умирать?
— Ты прекрасно знаешь, во что я ставлю мнение генералов от литературы, — отвечал Банев напряженным голосом. — Но ты никогда не задавал себе вопрос, зачем он здесь?
Судя по всему, сложный был у них разговор.
— Избушка, избушка, — позвал я, — повернись к морю задом, ко мне передом.
Они мельком глянули на меня.
— Откуда ты такой? — равнодушно спросил Славин.
— Из морской пены.
— Я же тебя просил, не надо к нему сегодня.
— Не было такого, — возразил я. — Открою страшную тайну. В этом мире вообще ничего не было и нет, кроме моих больных фантазий.
Виктор Банев молчал. Теперь он смотрел не на море, а на крыльцо, ведущее в дом Строгова.
— Ты от местного психиатра, что ли? — посочувствовал Евгений.
— Нет, одна знакомая богиня рассказала.
— Все мираж, в том числе одежда, — задумчиво произнес Банев. Очевидно, он имел в виду мой внешний вид. — Послушай, Славин, мы не договорили. Так почему, по-твоему, Дим-Дим здесь поселился?
— Дим-Дим — в Дим-Доме… — усмехнулся Славин. — Не надо усложнять, Виктуар. Во-первых, Строгов привык жить вне России, вернее, успел за долгие годы отвыкнуть от России; во вторых, ответ ясен. Он спрятался от мира. В том числе от нас, между прочим. Написал все, что мог и что хотел, и теперь думает, что сказать людям ему больше нечего. Разве не для того мы здесь, чтобы переубедить его?
— Только кретин может стараться переубедить писателя, который все написал, — с неожиданной резкостью отозвался Банев. — Писательская жизнь, как известно, редко совпадает с человеческой, потому что гораздо короче. Лет десять, пятнадцать, от силы двадцать, в течение которых пишутся основные книги. Ты что, не понял вопрос?
— Не глупее некоторых, — обиделся Славин. — Я тебе, Банев, вот что скажу. Строгов полсотни лет выстраивал нового человека, Хомо Футуруса своего, представлял, каким человек будет и каким должен быть. И разочаровался. Посчитал, что все зря, что человек будущего — это фантастика. Он ведь не фантаст, наш Димыч…
Друзья сцепились крепко, забыв о моем существовании. Хорошие они были ребята, я любил их обоих. И дружили они хорошо, на зависть. Литераторы по призванию, а не по обстоятельствам, в отличие от меня. Как и все остальные птенцы литературного Питомника, организованного и брошенного Строговым, они были всерьез озабочены проблемой Будущего. Я вошел в их круг позже всех, когда Питомника, собственно, уже не стало, но я был озабочен тем же.
— Ошибаешься, — сказал Банев. — Именно как фантаст он и почувствовал, что отсюда, из этой маленькой страны все начнется. Он должен был увидеть это собственными глазами, потому и приехал. Вот что я пытаюсь вам втолковать. Неужели ты сам не чувствуешь того же?
— «Чуйствуешь», — передразнил Славин. — А может, как раз отсюда все кончится? Почему наш затворник никогда не покидает свой дом, если нашел в этой стране смысл жизни? Чувства часто выдают желаемое за действительное, превращают минус в плюс, о чем, по-моему, писатель Строгов знает куда лучше бывшего врача Банева…
И мучились они, как видно, тем же, чем я, — оттого и спорили, пытаясь убедить не друг друга, а самих себя. Ведь что, собственно, происходило? Благодарные ученики, сговорившись, осадили крепость, в которой их Учитель спрятался от мира. Птенцы по очереди залетали в священное гнездо с единственной целью — поспорить с хозяином, наговорить заведомых гадостей, и все это специально, холодно, просчитанно. Зачем? А вот зачем: чтобы зацепить уставшего от жизни старца, чтобы тому захотелось хоть что-то опровергнуть, чтобы дать погибающему заряд злости. Спасительной злости. И тем самым ученики опровергали Учителя по-настоящему, уже не словами, а своим поведением. Ибо его мечты о преобразовании движущих сил общества, его психологические модели нового человека разбивались в щепки об этот простенький рецепт, имя которому «спасительная злость»… Кто-то убеждал Строгова, что воспитать Хомо Футурус можно только с помощью гипнотронного излучения, кто-то доказывал как дважды два, что его знаменитая формула радости: «Друг-Любовь-Работа» является на деле формулой горя и подлости… Был ли в этом хоть какой-то смысл?
— …О будущем известно только одно: оно окажется абсолютно не таким, каким мы его представляем, вот главное его свойство, — вещал Славин. — Ты помнишь, чья это цитата, или напомнить? Нет никаких оснований видеть в здешних диковинах ростки чего-то там зеленого и раскидистого, потому что в конце концов все это может оказаться… ну, скажем, неизвестной формой наркомании.
— Тебе просто нажраться не дали, ты и кривишь морду, — отвечал культурный, изысканный Банев. — Что ты можешь знать о наркомании, бывший историк?.. Кстати, он бросил пить, — по секрету объяснил мне Банев. — Когда выяснил, что пустые бутылки не принимают, а за их утилизацию нужно заплатить отдельной строкой в счете.
Я люблю вас обоих, думал я, наслаждаясь своим молчанием. Дикости и странности прошедшего дня временно отпускали разум. Возможность просто стоять и смотреть на живых, увлеченных друг другом людей, возвращала покой в мою душу, — в душу, существование которой и впрямь вызывало у меня серьезные сомнения, права ты была, девочка. И я беспечно отпустил руль, разрешив сознанию плыть, куда вздумается, и меня привычно потащило, потащило в соленую бездну… Какие же вы у меня разные, умилялся я, и какие вы при том одинаково прекрасные. Два лебедя, вылетевшие из Питомника. Два прекрасных лебедя, черный и белый. Ты, Славин, очень хороший писатель, без дураков, романтик, оттого и пьяница, оттого и прикидываешься циником, а ты, популярный Банев, гораздо менее мне понятен, хотя бы потому, что на дух не переносишь спиртное, и это даже интересно, потому что я возьму и поменяю вас местами, герои. Ты не будешь у меня болгарином, Банев, я отберу у тебя национальность вместе с твоей вежливостью и жесткостью, ты станешь у меня веселым хамом, пропойцей с горячим сердцем поэта; тебя же, надменный Славин, мы выбросим с земли в космос, и окажешься ты в обществе новых людей, где все как один будут Хомо Футурусы, так что развлекаться тебе не придется, ибо сказано: «Межпланетники не пьют ни капли!», конец цитаты…
Когда я всплыл, моих друзей совсем своротило набок. Оказалось, они уже обсуждали проблемы наркомании, легкомысленно перепрыгнув с темы на тему.
…Пусть наркоманами не становятся, а рождаются, азартно соглашался Славин, пусть каждый десятый изначально предрасположен к нейрохимической зависимости. Это, конечно, большой процент, но речь-то о другом… (Забавно было слышать подобное от шалопая, который зависел от алкоголя напоказ, не скрываясь по подсобкам.)…Речь о том, что внутренняя тяга, потребность бежать из реальности есть у каждого человека! И заглушается она чаще всего страхом. Если зелье дает желаемый кайф, но при этом наносит непоправимый вред организму, то применение его связано с неизбежным стрессом, поскольку человек, в отличие от подопытных крыс, знает о последствиях. А теперь представим, что наркотик перешел в своем развитии на следующую ступень: стал почти безвреден и не вызывает никакой иной толерантности, кроме психологической. Это, дорогие товарищи, нынешний этап, гвоздил он. Психоволновая техника и все такое… Не так уж грезогенераторы безвредны, как кому-то хотелось бы, квалифицированно возражал Банев, потому что никакое излучение не бывает безвредным, и не знают об этом разве что спившиеся историки… Ну пусть, пусть, отмахивался Славин. Теперь представим, что найдено средство, которое не просто дарит кайф, но при этом оздоравливает организм. Осознали, представили? Это будет третий и последний этап — наркотик, который продлевает жизнь. В условиях, когда сдерживающий страх превращается в свою противоположность, что может остановить подсознательное стремление к кайфу? Человек с нормальной эндокринной системой тоже хочет прожить долгую здоровую жизнь. А то, что платой будет наша осточертевшая реальность, разве это плата, разве это не дополнительный приз? Разум, увы, проголосует «за» и, тем более, инстинкт самосохранения…
— Ты сгущаешь краски, — спокойно сказал Банев. — Игра ума, не имеющая отношения к здешним странностям. Ты ведь про этот город говорил, правда? Кстати, Ваня, вам хочется снова испытать слег? — неожиданно обратился он ко мне. — Простите, конечно, за глупый вопрос.
Они оба посмотрели на меня. Выдохлись, говоруны, вспомнили, что не одни на свете.
— Почему глупый? — сказал я. — Раньше хотелось.
— А если бы слег продлевал твою бесценную жизнь? — тут же кинул Славин.
Я пожал плечами. В чем-то он был прав, по крайней мере в отношении сдерживающего страха. К счастью, миф о том, что слег можно сделать безвредным, не подтвердился. И к той, без ложной скромности, панике, которую мне удалось вызвать своей книгой среди обычных людей (по Славину — людей со здоровой эндокринной системой), быстро добавилось вполне рациональное отторжение чисто медицинского свойства. А если бы нечем было подкрепить взошедшие в обществе побеги страха?
— Ты валюту обменял? — спросил Славин.
— Да.
Он подмигнул Баневу этак хитро:
— Тогда пожелаем товарищу хороших снов.
Тот не отреагировал. Виктуар опять смотрел на дом Строгова, и во взгляде его было что-то больное, жалкое. Я тоже посмотрел. Некто в белом костюме медленно спускался по ступенькам крыльца; шляпа на тесемках потерянно болталась за спиной. Ноги человека словно веревкой были опутаны, и словно тяжеленное бревно тянуло его плечи к земле, и держался он руками за щеки, а щеки-то пылали, украшая мраморное, лишенное загара лицо… Я не сразу его узнал. Это был Сорокин, председатель европейского Союза Писателей. Добрел до мостовой, постоял, раскачиваясь, и двинулся прямо на нас, никого вокруг не замечая.
Мы тактично отвернулись. Славин чуть слышно пробормотал:
— Однажды став зрелей, из скучной повседневности ты входишь в Строгий Дом, как в кабинет рентгеновский…
Веселиться было не над чем, впрочем, Славин и не веселился. Не знаю, о чем в эти неловкие минуты думали мои братья-писатели, я же думал о том, каково оно — спускаться по этой лестнице. Жалко было Сорокина, жалко было Строгова, но больше всего — себя; и я отчетливо понял, что сегодня туда не пойду. Завтра. Сделаем это завтра… Сорокин проследовал мимо, однако дружеская болтовня больше не возобновлялась. Бессмысленная пауза тянулась бы вечно, если бы с неба не явился характерный звук, а на набережную не опустился бы полицейский вертолет, распугав дружную компанию чаек. Из кабины выбрался лейтенант Сикорски.
Офицер увидел «кузнечик», брошенный под финиковой пальмой, и потемнел лицом. Потом он обнаружил меня. Его роскошные уши встали торчком, как у кота. Он приблизился враскачку и спросил, показывая на «кузнечика»:
— Чей это аппарат?
— Откуда нам знать? — на редкость честно удивился Банев. — По-моему, эта штука давно тут стоит.
Не поверить ему было невозможно. Сикорски расстегнул ворот форменной рубашки и вытер ладонью взмокшую холку.
— Я был почти уверен, что найду вас, Иван, — сказал мне лейтенант. — Мы вас повсюду ищем. А я им говорю: он у Строгова, у кого же еще…
Это был конец. Я мысленно застонал, потому что сомневаться не приходилось: именно здесь, именно сейчас мой незадавшийся отпуск развалился окончательно.
— Что случилось, Руди? — кротко поинтересовался я.
Он осмотрел меня с ног до головы, обратив особое внимание на разбитые костяшки пальцев:
— Я вижу, вы спорили о литературе. О, это небезопасно.
— Итак, — напомнил я.
— Не поймите превратно, — сказал он, — но мы снова вынуждены снять с вас показания. Половина «Олимпика» видела, как вы разговаривали с Кони Вардас. Это сотрудница отеля, припоминаете?
— Ну и что с того? — возразил я.
— Мы ведь не спрашиваем вас ни о чем другом, Иван, — сказал он с упреком. — В конце концов, это ваше дело, какими приключениями скрашивать свой досуг. Проблема в том, что вы, вероятно, были последним, с кем разговаривала эта женщина.
Я молча ждал. В груди у меня вдруг что-то разболелось.
— Сеньорита Вардас убита, — объяснил лейтенант Сикорски, испытующе глядя мне в глаза. — Зарезана в массажном кабинете. Пройдемте, пожалуйста, в вертолет.
Он жестом указал путь и через силу улыбнулся.
Надпись над входом в гостиницу опять сменилась. Теперь там горело: «ПРИЯТНЫЙ ВЕЧЕР!», для того, видимо, чтобы никто не перепутал. Бассейн, подсвечиваемый изнутри, сверкал, как гигантский бриллиант; воздушные светильники, удерживаемые невидимыми нитями, парили над головами; и по углам фасада, во всю высоту здания, переливались жемчугом вертикально размещенные лозунги, «СПОКОЙСТВИЕ» — справа, «УВЕРЕННОСТЬ» — слева… Я уселся в парке на площади, прямо возле памятника, и принялся ждать. Было у меня ощущение, что мне есть чего ждать, и я решил перестать прятаться. Если Жилин все еще кому-то нужен, этот кто-то обязательно появится, потому что лучшее место для свиданий трудно подыскать.
Изменения, произошедшие с этой карликовой страной, потрясали. Не то чтобы она стала еще более цветущей, в этом смысле как раз, скорее, наоборот — я знал чертову уйму мест на планете, где комфорт был несравнимо выше. Странным образом изменились люди. Конечно, попадались и привычные, назовем их так, экземпляры, но погоды они не делали. Слова «ложь», «алчность» в самом деле превратились в худшие из ругательств, причем подшучивать над этим мне больше не хотелось. Люди желали добра каждому встречному, и не по принципу «турист всегда прав, лишь бы платил». Они не притворялись, вот что было самым странным. Или я ошибался? Кто же вас подменил, удивлялся я, устраиваясь поудобнее на жесткой парковой скамейке, что за эксперимент по выведению нового человека? Может, и впрямь мудрый Строгов что-то увидел в местных метаморфозах? Тогда почему ему так плохо?
Отвечать мне никто не торопился.
Все бы ничего, но при чем здесь, собственно, деньги? Я вытащил из кармана смявшуюся пачку и нашел один динар. Купюры имели несколько необычный цвет: соломенный с зеленоватым отливом. Это был цвет золота — настоящего, без примесей, в котором отсутствует какая-либо рыжеватость. И точно такую же окраску принимает омела, когда высыхает (оттого, кстати, эти шары и зовутся золотыми). Символ города в виде высохшей омелы плюс золотой динар — они удачно дополняли друг друга. Что это, совпадение или тонкий художественный расчет? На обратной стороне купюры в диаметрально противоположных углах размещались стилизованные рисунки двух молекул, словно взятые из школьного учебника: одну я узнал сразу, аш-два-о, вода. Вторую узнал тоже, напрягши воображение и эрудицию, — углекислый газ, це-о-два. А на лицевой стороне, в центре композиции, было голографическое изображение хрустального шара с загадочной дымкой внутри, сквозь которую угадывалась человеческая ладонь. Что ж, у авторов местных денег амбиций было не меньше, чем у первопоселенцев Нового Света…
Полицейское управление, откуда меня только что выпустили, больше напоминало обитель добродетели, чем суровое силовое ведомство. Никакой вам жесткости, сплошное пожелание здоровья всем и каждому. Одежду мне доставили прямо туда, взяв ее из моего гостиничного номера (я разрешил полисменам разобрать свой багаж), в кабинете я переоделся и переобулся, опять став импозантным красавцем средних лет. Говорили там, не повышая голоса, слушали там участливо, о правонарушителях там заботились, полагая их больными людьми, и невозможно было представить, чтобы кто-нибудь когда-нибудь совершил резкое движение. Поэтому я не очень удивился, когда, попытавшись встретиться с Бэлой Барабашем, услышал, что шеф еще не вернулся из костела. А что случилось в костеле, испугался я. Нет, ничего. В костеле — месса, что же еще. Шеф старается не пропускать такие вещи… И вот теперь, сидя на скамейке возле памятника самому себе, я горестно вопросил у сверкающего огнями Неба: неужели коммунист Барабаш, неужели межпланетчик Барабаш стал верующим? Какова причина столь масштабных превращений?
Кто-то спускался по ленточной галерее, опоясывающей тело гостиницы. Я заметил этого человека с минуту, примерно, назад, пока он еще не скрылся на той стороне здания. Другие люди стояли, наслаждаясь городскими видами, или весело бродили по этажам, ведя себя непринужденно и шумно, этот же целенаправленно и быстро шел вниз. Был он в строгом темном костюме, что тоже выглядело нетипично, но рассмотреть какие-либо иные детали не представлялось возможным… Что-то мешало мне сидеть. Я сунул руку и обнаружил торчащую из заднего кармана газету, про которую начисто забыл. Обрадовавшись находке, я расправил бумажных «Детей Природы» на своих коленях, демонстрируя всем, кого это могло задеть: вы Жилину безразличны, господа. В газете был еще подзаголовок: «Хроника добра», а сбоку прилепился девиз: «Жизнь человеку дается. Николай Островский».
Дальше девиза я читать не смог.
Кому-то дается, у кого-то отнимается. Кони Вардас была найдена в массажном кабинете, который она любовно обставляла цветами. Именно туда, как оказалось, женщина несла букет нежных гипсофил. Она работала одна, без помощников, поэтому хватились ее не сразу, и по той же причине защитить ее никто не мог… Разве моя в том вина, уговаривал я себя, что волей обстоятельств, а больше из-за собственного неравнодушия женщина оказалась втянута в грязные игры, правил которых не понимаю я сам? Нет, не помогало. «Вы были последним, с кем она разговаривала», — с легкостью бросил мне лейтенант Сикорски, упустив из виду, насколько тяжело эти слова носить. Возможно, Кони Вардас кричала, но в подобных помещениях очень хорошая звукоизоляция. Кто-то зажал ей рот салфеткой, взятой рядом из стопки, и всадил нож точно под левую грудь, а потом аккуратно уложил умирающую на массажный стол. Преступление выглядело, по меньшей мере, странно. Если аранжировщица цветов встала поперек дороги кому-то большому и страшному, если в игру вступили профессионалы с отбитой совестью, зачем было убивать так сложно, так необычно — ножом? Орудие убийства осталось в теле. Нож был из тех, которые продаются в любом строительном супермаркете, то есть никакой зацепки. Одежда на жертве была цела, признаков насилия не замечено. Равно как не замечено и выделений физиологического свойства, какие в подобных случаях можно обнаружить либо на жертве, либо где-нибудь поблизости. С шеи исчез кулон, изображающий Молящуюся Деву, зато на безымянном пальце левой руки появилось кольцо — дешевка, эрзац-золото. Впрочем, с кольцом ясности не было: то ли женщина сама его купила, то ли преступник надел в знак уважения. Погибшая была не замужем, жила с родителями, жениха или постоянного друга не имела, даже ухажеров не держала. Сыщики активно рыли землю в поисках сексуальных мотивов (ревность как источник вселенского зла — ау, лопоухий Руди, привет супруге!) и, по-моему, зря теряли время.
Что касается содержания нашей с Кони беседы, то я поделился с полицией всей информацией, однако мое заявление не приняли всерьез. Эти бараны тут же связались с полковником Ангуло — при мне. Наверное для того, чтобы я не подумал чего плохого. Тот выразил удивление и встревоженность, затем он выразил озабоченность состоянием дел в стране, а затем выяснилось, что в момент убийства он присутствовал на оперативном совещании в Бюро антиволнового контроля. Это алиби, товарищи. Я видел по селектору его лицо, оно производило очень благоприятное впечатление. В «Олимпик» дон Мигель сегодня, да, заходил, но в свой законный перерыв и только для того, чтобы выкушать в баре кислородный коктейль. В оранжерею, разумеется, не поднимался, здесь какая-то ошибка, недоразумение, глупая шутка…
Путник на галерее, между тем, спустился до второго этажа, все ниже был, все ближе. Краем глаза я следил за его движением, одновременно просматривая прессу на своих коленях. Я уже понял, кто это, да и кем еще, собственно, он мог быть?.. Фразочка насчет того, что жизнь человеку дается, напоминала читателям о высшей предопределенности в их судьбе, с чем можно и должно было спорить. Но не сейчас, не сейчас. Местными ароматами дышала каждая строка газеты. Доктор Опир начинал новый цикл лекций по теме: «Макробиотика на современном этапе». Партия Единого Сна в лице ее председателя Шершня решительно требовала пересмотра закона о денежном обращении. Статья под названием: «Как смотреть стереовизор» разъясняла, что дело это небезопасное: перед включением следовало проветрить помещение, расположиться от экрана на грани четкости, причем, не сидя на ковре и не лежа, чтобы голова не запрокидывалась вверх, рекомендовалось также часто моргать и отводить взгляд в те моменты, когда изображение на экране не вызывает интереса. В криминальном уголке с возмущением сообщалось о разгоне очередного сборища Юных Натуралистов, презрительно именуемых в народе «хрусташами», которые, прикрываясь издевательским лозунгом «Энергетика должна быть энергичной», извращают саму идею спасительного счастья.
Человек, спускавшийся с гостиничных высот, в последний раз обогнул здание и вскоре должен был появиться на площади.
Мысли сбивались в кучу. У киосков перед Госсоветом меня хотели похитить. Спасибо за предупреждение, милая Кони… Или я преувеличиваю собственную значимость? Дело было, конечно, не во мне, а в том типе возле вокзала, которого чуть раньше умыкнули по-настояшему. На него бросили куда более мощные силы, чем на отставного агента Жилина, было даже как-то обидно. А результат? Похитили его или все-таки нет? «Альбатрос» — на дне морском, а жертва? Мой неузнанный друг пользовался популярностью, нельзя не признать… Я разозлился. Мало ли сумасшедших бродит по этому городу, специально существующему, чтобы напоминать всем желающим об иррациональности бытия; разговаривать с каждым серьезно — не хватит ни души, ни простого терпения. С другой стороны, не каждый сумасшедший выживает после атаки из вакуум-арбалета и вдобавок не-горит-не-тонет в подбитом геликоптере. Ясно было одно: я так и не мог вспомнить, кто он такой. Не мог, и все тут. Более того, в полиции меня попросили составить голопортрет этого парня, и я опозорился, как котенок в теплых руках. Ни одного образа, ни единой детали! Меня успокаивали: мол, обычное дело, с этим Странником все всегда не по-людски… Я прекрасно понимал Бэлу. Герой местного масштаба Жилин, стоявший у истоков революции 27 июня, обязан был опознать своего соратника, ибо невозможно представить, чтобы два героя не встречались во время заварушки. И попробуй объясни им, что с интелем по кличке Странник попросту невозможно было встретиться, что сию удивительную личность берегли, как святыню, как главную ценность революции. Само его существование было тайной, в которую сотрудники алектро-динамической лаборатории посвятили только высшее руководство Совета. И такие меры предосторожности были оправданы, ведь именно этот гениальный ученый догадался глушить слег с помощью помех, спектральные характеристики которых он же и предложил.
Говорили, что он погиб, когда диверсанты взорвали старый телецентр. Странник, как и я, не был интелем в общепринятом смысле этого слова, и сотрудником Университета он также не являлся, он пришел в организацию со стороны, как раз когда высоколобые умники творили от отчаяния всяческие глупости, оттого и получил свое романтическое прозвище, и вообще, нельзя с уверенностью сказать, кто на самом деле нашел методику нейтрализации слега, ведь она появилась сразу в готовом виде, причем загадочный чужак все делал сам, никого не посвящая в подробности, круглые сутки просиживал в передающем центре Университета, а потом, когда Университет разбомбили, его перебросили в телецентр. И о том, что он погиб, говорили далеко не единожды, он много раз якобы погибал, прямо-таки дурная привычка какая-то… В конце концов, твердо сказал я всем сомневающимся, ваш несчастный культовый писатель не подозревал до сегодняшнего дня даже о том, что Странник — русский по национальности! Какие могут быть претензии? Конечно, конечно, покорно кивал головой Бэла. Все правильно, вот только нюансы, Иван, нюансы…
А это что? Я перескочил взглядом на другую колонку газеты и поднял брови. Еще один знакомец? Восторженно комментировался приезд известного шахматиста Измайлова. Этот гроссмейстер так и не смог стать чемпионом мира, зато написал лучший за всю историю шахматный учебник «Транзит Белого Ферзя», и он же, как ни странно, написал издевательский памфлет по следам моих «Двенадцати кругов…», что никоим образом не повлияло на нашу дружбу. Маэстро специализировался на четырехмерных шахматах, честь создания которых почему-то приписали мне (еще когда я учился в Высшей школе космогации), — не это ли его бесило? Что касается моей книги, то честность ее нередко ставилась под сомнение. Но оппоненты мои в большинстве были пешками, двигаемыми злобой, недомыслием или собственным косноязычием; я не обращал на них внимания…
…В мешок дырявый ночи Сквозь дыры льется мрак. Решить в том мраке хочет Загадку звезд дурак…[3]Отлично сказано, как будто специально для моих оппонентов, успел подумать я, прежде чем тень легла на прочитанные страницы.
Возле скамейки стоял Оскар Пеблбридж. Костюм цвета старой сковородки плюс кислотно-зеленый галстук. Изумрудные запонки и лиловые манжеты. Торчащий из нагрудного кармана блокнот.
— Только побеседовать, — обезоруживающе улыбнулся Оскар, подняв кверху лапы. — Пожалуйста, не надо меня калечить.
— И сошел Владыка на землю с гор, — сказал я, — и протрубил Владыка общий сбор. Почему пешком, почему не на лифте, босс? Плоскостопие лечите?
Навстречу ему я не встал, не дождется. И на «ты» общаться не собирался, прошли те времена. Он присел на краешек скамейки.
— В холле слишком много людей, моих в том числе. Не хотелось привлекать внимание.
— Внимание — к кому? — саркастически сказал я. — Или это не вы послали своих левреток на площадь Совета? Только побеседовать, да? Каюсь, я был невежлив, — подмигнул я ему, — но ведь и они не назвали себя.
Оскар дернул щекой.
— Капитана я уволю, без пенсии останется, убожество. Конечно, мне надо было просто к вам подойти, именно мне и никому другому. Как в старые добрые времена… Иван, я сейчас дам весь расклад, чтобы больше к этому не возвращаться, и на том покончим, хорошо?
— Меня что, вели? — спросил я.
— Вас вели еще от больницы. А на пляже случилось кое-что странное. Судя по всему, к вам кто-то подошел… Или их было несколько человек? — Он выждал, наблюдая мою реакцию. Таковой не было. — И вы тут же оказались накрыты «зонтиком».
— Зонтиком? От дождя?
— Не знали? — удивился он. — Малоформатный квантовый рассёиватель, новейшая разработка, не вышедшая за пределы наших лабораторий. Наблюдателям невозможно получить ни картинку, ни звук. Что скажете?
— У меня было любовное свидание, — пожал я плечами. — Никаких зонтиков над собой не заметил.
— Ладно, не хотите говорить, кто это был, не надо. Я и сам догадываюсь. Просто мы на пляже вас надолго потеряли, а снова обнаружили уже возле здания Совета. Ну и решили сразу брать. Маскировочное устройство было обнаружено в уличном утилизаторе неподалеку, вернее сказать, то, что от устройства осталось. Однако я не об этом хотел поговорить.
Солнцезащитный шлем, вспомнил я. Вот так девочка, вот так ведьмочка. Всех обвела вокруг пальца. Меня — ладно, я лопух, писатель, голубоглазый атлет со стограммовыми мозгами. Но — Оскара, всесильного начальника Управления внутренних расследований службы безопасности при Совете Безопасности! Один его галстук кого хочешь напугает, не говоря уже о должности. Бывший мальчик с вечным блокнотом, педантичный, основательный и очень ответственный, не пропускающий мимо себя никакую мелочь. («Но ведь таких не ставят боссами», — пожаловался мне как-то Рэбия, зять генерального секретаря ООН. «Значит, он на самом деле не такой», — ответил я тогда.) Спору нет, мистер Пеблбридж сделал фантастическую карьеру, ибо какой бы маской он ни прикрывался, у него на лбу было отпечатано: я иду, а вы тут толпитесь. Но сегодня он крупно лопухнулся, и сознавать свою причастность к этому событию было дьявольски приятно.
— Я хотел поговорить о более важных вещах, — продолжал Оскар. — Прекрасно зная о ваших отношениях с Эммой…
— Наши отношения чисто платонические, — вставил я.
— Тем не менее. Вы не можете не видеть сложностей, которые возникли вместе с объединением всех парламентов в Мировой Совет. Социалисты с пеной у рта кричат, что Совет — он и есть Совет, то есть орган, не предназначенный управлять, однако ваши друзья именно в решении текущих задач раз за разом подменяют ООН. А Эмма на своем посту делает все, чтобы усилить эти тенденции и укрепить позиции.
— Для того Эмму и выбирали, — сказал я, складывая газету.
— Это путь к двоевластию, Иван, — сказал Оскар с неожиданной горячностью. — Забыли, чем заканчиваются такие сюжеты?
Я улыбнулся:
— По-моему, прецедент, на который вы намекаете, как раз в пользу двоевластия. Побеждает не просто сильнейший, но и тот, за кем историческая правда.
— Вы шутите, Жилин, — содрогнулся он. — Вы не можете так думать.
— Мне кажется, Пеблбридж, это вы шутите, — ответил я, откровенно скучая. — Сначала администрация вашего Совета Безопасности обзавелась собственной, никому не подотчетной бухгалтерией, потом собственной армией, потом тайной полицией в нашем с вами лице, и наконец штат ее распух настолько, что в несколько раз превысил администрацию ООН. Так кто кого подменил, спрашивается? Мировой Совет в этих условиях просто не мог не возникнуть, потому что пустота враждебна человеку. Заявляю вам, как космолетчик.
— В очередной раз сталкивать человечество лбами — аморально, — упрямо произнес Оскар. — Я мягко выражаюсь.
— Кто-то здесь заговорил о морали? — осведомился я, даже оглянулся на всякий случай. — О морали — это вы сказали?
— А в чем проблема? — встревожился он.
— Да уж не в том, конечно, что меня ни с того ни с сего посадили под колпак. Проблема в букве «L». В безобидной буковке «L» на бортах некоторых летательных аппаратов.
— Мы здесь в том числе из-за этого, — быстро ответил он. — Не надо фантазий, Иван. С буквой «L» мы разберемся.
Может, и фантазии, подумал я. Оскар Пеблбридж лично докладывал первым лицам в администрации совбеза, что организации под названием «Light Forces», то есть «Силы Света», в природе не существует, а существуют только легенды о ее подвигах, большая часть которых основана на вылазках тех или иных сект. Легенды же гласили, будто некоторые из отставных и даже штатных сотрудников всевозможных земных спецслужб, включая оперативные подразделения Совета Безопасности, основали тайное братство по защите Земли от нашествия космических бесов. Якобы отсюда — теракты на кораблях, которые показались кому-то охваченными тьмой, отсюда — необъяснимые исчезновения грузов, космолетчиков и их детей, и так далее. Проблема была не в том, кто сегодня намалевал устрашающий знак на борту геликоптеров, истинные защитники Света или их беспринципные адепты; и не в том, какими словами Оскар утвердит передо мной свою непричастность к событиям на вокзале; а в том, что мне осточертела ложь — вообще. Под видом борьбы с терроризмом они создают разветвленные агентурные сети, непонятно кем руководимые и какими целями питаемые, а потом они просят не фантазировать и вдобавок вспоминают о морали. Мне понадобилось десять лет работы на них, чтобы прозреть, и еще семь лет, чтобы попытаться забыть об этом. Старый слепой дурак.
— С цветочницей уже разобрались, — покивал я.
— Как вам не стыдно, — скривился Оскар, будто в зубе у него стрельнуло. — Связывать нас с убийством Кони Вардас — просто глупо. Жаль, что ваша личная неприязнь ко мне принимает такие уродливые формы.
— Вы о чем-то собирались поговорить, — напомнил я ему. — Публика ждет.
— Разумеется. — Он собрал в кучу реденькие белесые брови, сосредоточиваясь. — Вот вы, Иван, столько сил потратили на борьбу со слегом, сломали себе карьеру, приобрели известность в качестве писателя, и неужели все это зря? Как же вы допустили, что слег благополучно сменился суперслегом?
— Что? — спросил я. — Что ты сказал?
Мой голос стал чужим. В груди затрепетала вдруг ржавая струна, натянутая между скрипучими колкбми. Струна вошла в резонанс с прозвучавшим словом.
— Суперслег, — повторил Оскар без улыбки. Оскар никогда не улыбался. Слово прозвучало, жестко поделив разговор на то, что было до, и то, что будет отныне…
Только не надо прикидываться барашком, сказал Жилину Оскар. Все о чем-то догадываются, но никто не говорит вслух. Иначе зачем бы ты сюда ехал, Жилин. Нам известно, что непосредственно перед отбытием ты говорил с Эммой, значит, ты ищешь то же, что и мы. Разве не показалось тебе, что с этой страной не все в порядке? Разве не знаешь, что Эмма хочет распространить здешний опыт на всю планету? Умница ваша, гениальный ваш стратег. Вы у себя в Мировом Совете первыми поняли уникальность того, что здесь происходит, первыми заметили, что вместо жалкого слега наконец родилось нечто настоящее. А мы, к сожалению, опоздали. Вечно мы опаздываем, Жилин, с горечью признался Оскар, и собеседник попытался его утешить: может, вы у себя в совбезе просто дураки? Может, дураки, легко согласился он. Столько лет тупо наблюдать, как местная валюта вытесняет в этой стране все прочие, и не насторожиться, не заняться делом. Лишь совсем недавно сообразили вывезти отсюда образцы банкнот и подвергнуть их лабораторным исследованиям. Никаких результатов, увы, кроме одного — при пересечении границы деньги напрочь теряют свои биокорректирующие свойства, так что пытаемся теперь организовать исследования здесь же, на месте… Мы отвлеклись, встряхнулся Оскар. Есть сведения, что найдено устройство, созданное внеземной цивилизацией, и это устройство сейчас пытаются привести в действие. Кто пытается? Коллега Жилин знает этого, с позволения сказать, человека. Некто Странник. Знакомый позывной? Увы, до сих пор не удалось его сфотографировать или получить изображение иным способом, аппаратура как бы не видит эту тварь. Но, кстати, благодаря самой возможности подобных чудес спецы Совета Безопасности и смогли распространить эффект квантового рассеивания на весь спектр излучения. В результате получился… да, именно «зонтик». Но мы отвлеклись, вспомнил Оскар. Итак, нельзя допустить, чтобы подарок от, прямо скажем, сверхцивилизации прибрал к рукам какой-нибудь фанатик, будь он хоть трижды гениальным стратегом. Потому что с более сильным средством влиять на земную историю человечество еще не сталкивалось. Если слег позволял человеку уйти в мир, придуманный им самим, и там же сдохнуть, то суперслег, подброшенный нам черт знает кем, воздействует уже на реальный мир, делая его придуманным, подвластным фантазии одного человека. Ты понял, Жилин? Поменялся объект воздействия: не твое сознание, а весь окружающий тебя мир. Это не просто наркотик, Жилин, это прежде всего оружие…
Оскар уже не сидел на краешке скамейки. Оказалось, он придвинулся ко мне на расстояние пощечины, и тогда я стряхнул с себя очарование чужого бреда. Видеть себя в третьем лице, думать о себе в третьем лице — привилегия вождей и шизофреников.
— Во-первых, не «ты», а «вы», — напомнил я, восстанавливая дистанцию. (Он тут же отодвинулся.) — Во-вторых, суперслег внеземного происхождения — это как-то непривычно. Кстати, если машинка еще не собрана, с чего вы взяли, что обязательно получится суперслег, а не, положим, стереопроектор?
Оскар пригладил жидкие рыжие волосенки на голове. Веснушчатое лицо его стало абсолютно непроницаемым.
— Значит, вы все-таки знаете, — произнес он с без выражения.
— Что я знаю?
Он погрозил пальцем.
— «Машинка не собрана». Проговорились. Да, надеюсь, эта дьявольская штука и вправду еще не собрана, потому что когда они найдут третье звено, будет поздно.
Ага, подумал я. Раз, два, три, солнышко гори. До трех мы считать умеем. Нечто, состоящее из трех (или более?) деталей, в настоящий момент расчленено и закопано в райских кущах, и злые дяди носятся по саду с саперными лопатами, мечтая сложить эту головоломку, а другие злые дяди пытаются схватить и допросить главного змия-хранителя, и попутно все крушат друг друга. Увлекательный роман. Третья деталь не найдена, но где в таком случае остальные две? И что в действительности зарыто в камерах хранения? И при чем здесь турист Жилин, который ничего толком не знает? И что нужно было от Жилина тому русскоязычному чудотворцу, который умолял: «Пойди и возьми»?
Какая дичь, говорил в таких случаях один охотник.
Напарник, запертый в моем черепе, исступленно колотил ногами в кость: нельзя верить! Это же Оскар, вопил он. Нельзя верить им всем, прилизанным и опрятным. И холодным, как межпланетное пространство. Хотя, зачем обижать космос такими сопоставлениями? Я бросил наугад:
— А что у вас с Рэй? Опять у кого-то нервы сдали?
Оскар неловко взмахнул ресницами. По лицу его скользнула досада — словно юркая змейка проползла.
— В каком смысле?
— Я не знал, что Мария — счастливый отец. Потому и спросил.
Оскар закаменел.
— Счастливый отец, — повторил он. — Когда лучший сотрудник оказывается предателем, не хочется вспоминать про его отца. Скорее про мать.
Наверное, метил он в том числе и в меня. Измена, как известно, не имеет срока давности. Мне были безразличны кипящие в нем чувства, которым не дозволялось выплескиваться наружу (впрочем, в ипостаси большого начальника Оскар растерял изрядную часть своей выдержки), но зато мне не было безразлично все, что касалось Рэй. Личность, известная в определенных кругах, почти легендарная, хоть и очень, очень молодая. Вундеркинд, можно сказать. Именно усилиями этого агента, на тот момент стажера Совета Безопасности, была остановлена крупная контрабанда сингонических метаморфоров из каторжной тюрьмы на Бамберге. Преступная группа состояла из офицеров надзорсостава и их жен. Космический жемчуг, который добывали на астероиде Бамберга, был вовсе не тем, из-за чего рудники не могли быть закрыты ни при каких условиях. Все дело было в так называемой пустой породе, содержащей астроуглерод. Этот уникальный минерал легко изменял свою кристаллическую модификацию в зависимости от плотности окружающей среды — от алмаза (кубическая форма решетки) или лонсдейлита (гексагональные сингонии) до совершенно немыслимых образцов. Его открытие позволило не только перевернуть лазерные технологии, создав первые образцы промышленных скорчеров, но и, что было главным, измельченный астроуглерод резко замедлял разрушение и деформацию кристаллической решетки мезовещества в фотонных реакторах. А без фотонных реакторов, сами понимаете, по космосу не полетаешь. Иначе говоря, закрытие копей означало для человечества уход из межпланетного пространства, потому что Бамберга пока оставалась единственным местом в Солнечной системе, где обнаружились подобные метаморфоры. Компания «Спейс Перл Лимитед» была в свое время только ширмой, которую сменили затем другой ширмой, и все — ради поддержания жесточайшего режима секретности. Так что мириться с контрабандой и прочими шалостями деловых мерзавцев было никак невозможно… После той истории, насколько я знаю, вундеркинда-стажера внедрили уже непосредственно в МУКС, в результате чего было предотвращено покушение на директора, вызревшее, как ни странно, в недрах службы личной охраны, а нашего героя вынесло в число самых приближенных к директору лиц. Я много чего знал про агента по имени Рэй, за исключением того факта, увы, что Рэй — это подлинное имя…
— Отчего ж сразу предатель-то? — вознегодовал я. — Может, человек просто захотел жить иначе. Перестать лгать.
Оскар сказал ровным голосом:
— Это вы для Марии оставьте, утешьте старика. Совершена кража. Из подземного хранилища МУКСа, подчиненного лично директору, исчез экспонат, назначение которого долгое время оставалось загадкой. Лет пятнадцать назад этот предмет был обнаружен на одном из астероидов небезызвестным вам Пеком Зенаем и доставлен им же на Землю. Но теперь мы знаем, что это такое. Это была одна из частей суперслега. Улыбаетесь? Зря. (Я вовсе не улыбался.) Украденный экспонат привезли сюда — специально для вашего друга Странника, так что два звена от машинки ими уже собраны. И все благодаря Рэй. Не понимаю…
Вновь что-то человеческое, что-то мелкое проступило в лице большого босса Пеблбриджа (обида? растерянность? страх?), но лишь на мгновение, на короткое мгновение слабости.
— Что это, если не предательство? — поинтересовался он. — Так и передайте Рэй.
Мне не понравились его намеки. Мне вообще не нравится, когда делают вид, что играют в открытую, держа в каждом из карманов по запасной колоде, поэтому я глянул на часы и встал, решительно сказавши: мне пора, мне еще переодеться надо успеть. Оскар тоже встал. Еще пару минут, попросил он, никуда ваши друзья не денутся. Ему было отлично известно, где и во сколько меня ждут, — это мне совсем не понравилось. Он застегнулся на все пуговицы, тщательно уложив зеленый галстук под пиджак, и произнес завершающий спич. Мы не призываем вас занять нашу сторону, сказал он, очаровывая меня тусклыми бесцветными глазками, мы вообще не хотим, чтобы вы занимали чью-нибудь сторону. Оставайтесь таким же независимым и самостоятельным, каким вы были в пору борьбы со слегом. Эмма рвется к власти: мы это знаем, и вы это знаете. Нам вы не доверяете — это ваше право. Поэтому мы просим: если вы всех опередите, что вполне вероятно, то подумайте десять раз, прежде чем мчаться с находкой к Эмме. Отдайте ЭТО — нет, не Совету Безопасности! — всему человечеству, в любой приемлемой для вас форме…
— Перестаньте за мной подглядывать, — зло сказал я. — И подслушивать. Я не кинозвезда, на «Оскар» не претендую.
— Оскар? — не понял он.
— Премия такая была. Вас разве не в память о ней назвали?
— Наблюдение снято, — тут же и очень убежденно сказал он. — Слово офицера.
Оскар Пеблбридж всегда был уверен в том, что говорит, даже если через минуту менял свое решение.
Глава четвертая
Коттедж был оформлен в скандинавском стиле, ничего лишнего. Стены, покрытые тонированной штукатуркой цвета топленого молока. Настоящая деревянная мебель, не какая-то там. Обшитые мореным дубом пол и потолок; по словам хозяев, этот материал специально заказали из Союза, с родины Татьяны.
Ровно в девять включили стереовизор, так уж было заведено в этой семье. Одна из привычек, складывающихся годами. Чета Горбовских была из истинных интеллигентов, за что я и любил их. Включили новости, наивно полагая, что сдобренный картинками бубнеж не слишком обременит наше общение. О, sancta simplicitas! Интели мои милые…
— Ну и дела, — оторопело сказал Анджей после минуты общего молчания.
Новости были сплошь местными. Одновременно в двух точках, в аэропорту и в морском вокзале, неизвестные злоумышленники совершили на редкость дерзкую акцию. Устройства управления камерами хранения были переключены в режим «Аварийный сброс». Мало кто знает, что такой режим существует, и уж тем более им никогда здесь не приходилось пользоваться. Эта возможность в обязательном порядке закладывалась в программы еще со времен борьбы с терроризмом, из соображений безопасности, когда экстремисты представляли серьезную угрозу, но с тех пор минуло слишком много лет. Обслуживающий персонал размяк, раздобрел и потерял память. Программная имитация чрезвычайных обстоятельств привела к тому, что все до единого боксы в камерах хранения раскрылись, наплевав на всякие там права личной собственности, после чего шустрые ребята, очень кстати оказавшиеся поблизости, без лишнего шума собрали урожай, погрузились и разъехались в разные стороны. Эта схема действий сработала безотказно — и в аэропорту, и в морском вокзале. Полиция, судя по ее заверениям, была готова к нападению, но внешнему — с воздуха, с моря, из-под земли. Увы, вместо нападения был предложен мягкий, культурный вариант. Свидетелей не тронули, пострадала только негласная охрана в залах с боксами — их безошибочно вычислили и усыпили… Жалко было Бэлу, не везет ему сегодня.
В комнату вплыла Татьяна, заняв своими габаритами половину помещения (первую половину занимали мы с Анджеем). Хозяйка поставила на стол кувшин с чем-то прозрачным, искрящимся, и подсела к нам.
— Чер-те что на свете творится, — тихо произнесла она… У нее был низкий голос, под стать ей самой. Когда она говорила громко, дребезжали стаканы на столе.
— Всем спокойно, — объявил я, разглядывая кувшин. — Муть осядет, никуда не денется.
Мне вовсе не было спокойно, поскольку события, судя по новостям, не стояли на месте. Единственное, что если не радовало в этой ситуации, то хотя бы вызывало пошлое злорадство, было вот что: в камерах хранения железнодорожного вокзала явно ничего не нашли, раз уж пошли на новое нападение.
— Что сидишь? — толкнула Татьяна мужа. — Разливай.
Жидкость из графина переместилась в рюмки.
— Что это? — нехорошо возбудился я, распробовав.
— Арака, самогон из фиников, — подмигнул мне Анджей. — Домашний, без аналептических нейтрализаторов.
Я тут же вспомнил Славина.
— А на вынос можно?
— Дадим, дадим, не ерзай.
— Я вез вам «Скифскую», — признался я, — но таможня лютует. Что же вы, ребята? Говорили, никаких таможен. Говорили, весь мир должен быть открыт, говорили, что страна с охраняемыми границами — тюрьма…
— Остров, — подсказал Анджей.
— Ну, остров. Обитаемый. Быстро же вам надоела свобода.
— Главным препятствием была не таможня, а закон о запрете иммиграции, — возразил он. — Ты же знаешь, эти правила мы первым делом спустили в утилизатор. Причина вырождения была в обособленности. Чтобы страна перестала гнить, понадобилась новая кровь, новые люди, и они сюда приехали. А вы все набрасываетесь да набрасываетесь на бедного господина Брига.
— Кто таков?
— Начальник таможенного управления. По имени Пети Бриг.
Фамилия показалась мне смутно знакомой.
— По-моему, мы отвлеклись, — строго сказала Татьяна, звякнув ложечкой о рюмку. — Давайте-ка за встречу.
— Некая В. Бриг случаем не его родственница? — спросил я.
Анджей затруднился с ответом, и тогда я опрокинул в себя обжигающее рот зелье, а потом схватил что-то с ближайшей тарелки. Это оказался кусок фасолевого торта.
— Почему в вашем городе не разрешают пить араку? Хмельной-то сон лучше, чем никакой, — блеснул я остроумием. — А утром опохмелиться для гармонии.
Супруги Горбовски переглянулись. Очевидно, я выразился неуклюже. Русский медведь, тоже мне. Алкоголь стремительно всасывался в кровь, наполняя жизнь иллюзией смысла.
— Раз в год все можно, Ванюша, — сказала Татьяна, будто тяжелобольного утешала. — Норму свою только знай. В конце концов, постоянно сдерживаться тоже вредно для здоровья. Попробуй, пожалуйста, вот этот пирог.
Я попробовал. Чтобы понять, из чего это сделано, одного куска, оказалось мало. Хозяйка довольно улыбнулась.
— Мука из морской капусты, — открыла она страшную тайну. — Внутри — одуванчики на меду.
— Запить, — простонал я, хватая воздух пальцами. — Отравили.
Странный шум раздался за спиной, и я оглянулся. Из соседней комнаты задом выползал некто в коротких штанишках и фланелевой маечке, сосредоточенно таща за собой на редкость диковинное сооружение.
— Леонид Андреевич Горбовский, — с гордостью представила Татьяна третьего члена семьи, сделав это почему-то на русский манер.
Мальчик, впрочем, не обратил на нас никакого внимания, поскольку был чрезвычайно занят. Улегшись на бок, он подправлял что-то в своей игрушке, напоминающей то ли монорельс, то ли жуткую кибернетическую змею. Монорельс медленно и беззвучно перемещался по полу, а другой его конец (хвост? голова?) тянулся в соседнюю комнату, поднимался по лестнице на второй этаж и там терялся. Мальчику было лет шесть-семь на вид. Надо полагать, ровесник революции. Помнится, Анджей делал тогда прозрачные намеки насчет положения своей супруги и, как выясняется, вовсе не выдавал желаемое за действительное. Что ж, мои поздравления, хоть и сильно запоздавшие.
— Почему Андреевич? — поинтересовался я.
— Не «Анджеевич» же! — фыркнула Татьяна.
— А что муж? Не обижается?
Она по-матерински обняла меня за плечи и поднесла к моему лицу огромный натруженный кулак.
— Мужья у нас вот где, — по секрету сообщила она. — Я, кстати, рожала в Торжке, когда мы с Анджеем к моему отцу ездили. Леню в честь отца и назвали…
Кулак ее мог потягаться размерами с моим, будто и вправду в кулаке кто-то находился. Анджей только улыбался, поглядывая на супругу; был он очень спокойным, медитативным человеком.
— Зайчик, — сказала она вдруг совершенно другим тоном. — Спустись в погреб, достань Ванюше бутыль, пока помним.
Тот послушно встал. «Зайчик». Татьяна ослабила хватку, и я смог снова оглянуться на мальчика.
— Пан Леонид, — позвал я. — Что мы такое строим?
— Это самодвижущаяся дорога, — оскорбился он, так и не повернувшись. — Сама себя строит, разве не видно?
— Ух ты, — сказал я. — Движется тоже сама?
— Квазиживая система, — откликнулся он после паузы. Очень увлечен был делом, некогда ему было языком молоть. Но я не отставал:
— А как насчет безопасности для землян?
— Это же фитопластик, — объяснил он мне, несмышленышу. — Насыщает воздух отрицательно заряженными ионами и поддерживает баланс углекислого газа. Большая польза.
Нешуточный попался собеседник.
— Кто делал экспертизу? — осведомился я с максимальной солидностью.
— Мастер Будах.
— Это один из студентов Анджея, — сказала мне Татьяна. — Агасфер Будах, иранец… Прекрати валяться на полу! — вдруг прикрикнула она на сына. — Сколько можно просить! Вечно он валяется, — пожаловалась женщина. — Нет чтобы вел себя, как человек. Либо носится, либо лежит задницей в небо.
Вернулся Анджей, прижимая к груди стеклянную емкость внушительных размеров. Очевидно, подарок для гостя. В глазах его светилась гордая уверенность, что, по крайней мере, до завтра гостю этого хватит. Татьяна посмотрела на часы и решила:
— Пора в кровать. Ты не против, Леонид Андреевич?
Она встала и легко вскинула детеныша себе на плечо (тот укоризненно вякнул: «Ну, мама!»). Самодвижущаяся дорога, оставшись без хозяина, тут же замерла…
Было хорошо, тепло, спокойно. То ли обстановка тому способствовала, то ли финиковая водка, просочившаяся шпиону Жилину в мозги. Ты пей, пей, напомнил Анджей, подливая мне еще, бери от жизни все, друг, пока здоровым не стал — как в старые добрые времена… Под спаржу с сухарями молча помянули старые добрые времена. Ручеек воспоминаний юркнул под воротник рубашки (или это капелька пота была?), вызвав секундный озноб. События семилетней давности начались двадцать седьмого, а не двадцать восьмого, как ожидали полумертвые, ни во что не верящие горожане. Совет решил ударить с упреждением на день. Стас, помнится, сказал, гордясь удачно найденной формулой: «Вчера было бы рано, а завтра — поздно», а я жестоко разочаровал его:
«Где-то мы это уже слышали, дружок». Интели не хотели стычек и крови, даже революции, собственно, не хотели, их единственной мишенью был слег. Через университетские антенны (мощная всеволновая станция) запустили генератор шума, который подавил проклятые приемники, завывающие возле ванн с бесчувственными телами. И никакой репеллент, растворенный в теплой водичке, не способен был отныне вернуть слегачам утраченные фантазии. Приемник со вставленным в него слегом — это ведь все равно приемник, просто усилитель высокой частоты приобретал несвойственные ему функции дешифратора. Откуда слег принимал передачи, осталось неизвестным (принимал, это было доказано), что, впрочем, не имело большого значения, потому что главным было другое: если имеет место передача сигнала, значит, есть и возможность помешать, поставив заслон из помех. Дело это оказалось непростым, функция смены частот была третьего порядка, но появился загадочный некто и принес функцию в готовом виде. Некто, получивший именно за свою общую странность романтическое прозвище — Странник, естественно, какое же еще… Когда включили генератор помех, тут-то все и закрутилось. «Ломка» у слегачей протекала в форме психозов с бредовыми состояниями, которые сопровождались жутким двигательным возбуждением. Миры, в которых они прятались, вторглись в реальную жизнь, безумцы вышли на улицы, и обнаружилось среди них большое количество родственников местного начальства, да и само начальство было представлено, как говорится, в полный рост, и ситуация мгновенно вышла из-под контроля… Причину всех бед мэрия нашла без труда. Осадили Университет, разбомбили передающую антенну. Тогда интели захватили телецентр. Воевать, как выяснилось, они умели и ничего больше не боялись. К ним присоединились все рыбари, что, конечно, не удивительно, однако самым неожиданным итогом противостояния было то, что интелей поддержали многие другие, казалось бы, субтильные общества и клубы — Трезвости, Нравственности, Общество Знатоков и Ценителей, За Старую Добрую Родину, и даже, что особенно странно, яростно соперничавшие меж собой «Быки» и «Носороги». Как ни назови эту ситуацию: путч, бунт, переворот, революция, результат все равно был один — страна разделилась. Одни взяли верх над другими. Но после этого — что случилось после? Каким образом удалось за столь короткий срок преодолеть глубокий общественный раскол? Загадка… Да и со слегом не все обстояло просто. Едва настал хрупкий мир, страну захлестнул наплыв туристов — не иммигрантов, рвущихся строить новую жизнь, а именно туристов, желающих хорошенько отдохнуть, несмотря на возможные беспорядки, несмотря на вопиющий развал системы обслуживания. В чем дело, сразу не разобрались и, тем более, не воспрепятствовали процессу. «Туристы — это наше все», как сказал кто-то из местных любителей поэзии, читавший, видимо, Аполлона Григорьева в подлиннике. Причем здесь слег? А при том, что совершенно неожиданно открылось одно любопытное свойство этого зелья. Во всех других городах и странах классическая схема слега (обычный приемник плюс вспомогательный генератор, вытащенный из фонора) работала как высокочастотный психоделик, и не больше того. Не больше того! Пусть чудовищно сильный, вызывающий почти мгновенную зависимость, но все-таки обычный психоделик. И только в одном месте планеты наркотический сон взлетал до божественных высот. Только находясь в этом городе, ты мог погрузить ненужное тебе тело в ванную и отправиться во Вторую Реальность, ставшую для тебя единственной. Реальность, в которой ты Бог. Только в этом городе… Вот чем объяснялось нашествие любителей острых ощущений, торопившихся попробовать настоящий слег до того, как его задавят окончательно. Еще одна загадка в ряду прочих. Или Оскар Пеблбридж с товарищами сумели разгадать ее? Не зря же он упоминал про деньги, которые теряют некие свойства при пересечении границ, — в точности, как семь лет назад это было со слегом…
Соленые капли воспоминаний высохли, оставив на душе едкий след. Я неожиданно для себя расчихался — верный симптом того, что с рюмками на сегодня пора кончать, иначе следующими симптомами вполне могли стать фортели со зрением, с ногами, с желудком.
— Аполлон — красивое имя, — сказал я, уткнув нос в платок. — Ахиллес, Харон, Артемида…
Анджей оторвал голову от стола и глянул на меня одним глазом. Сидел он сгорбленный, обмякший, положивши голову на локти; вспоминал он что-то свое, что-то невозвратимо хорошее.
— Предположим, назовем мы этаким заковыристым именем обычного, ничем не примечательного работягу, каких тысячи вокруг нас, — продолжил я, увлекаясь. — Аполлон Иванов. Нет, не надо фамилий; просто — Аполлон. Просто — Феб. Станет ли он после этого античным героем? Или хотя бы героем романа?
Если кто-то с моими физическими данными начинает заговариваться и вести себя неадекватно выпитому — это страшно. Но вдруг оказалось, что Татьяна уже вернулась, уложив ребенка спать, что она плотно сидит сбоку от меня, подперев подбородок кулаком, сочувственно заглядывает мне в лицо, и я пояснил обоим хозяевам свою мысль:
— Я, собственно, о том, что туристы — это ваше все. Не спорю, раньше так и было. А что есть «ваше все» теперь, горожане?
Анджея, похоже, тоже повело от выпитого, поскольку он, поблескивая учеными глазками, пустился в рассуждения насчет средств, восстанавливающих контакт человека с окружающим миром, а вернее будет сказать — исправляющих взаимоотношения человека с мирозданием, «…потому что это главное, отцы, без этого невозможно не только вернуть здоровье, но и сохранить его, потому что, если ты отвергаешь мировой порядок вещей, то и мироздание неизбежно отвергнет тебя, мало того, чем искреннее, чем глубже ты недоволен своей жизнью, тем нездоровее будет твоя жизнь, это ведь спираль, по которой наше подсознание гоняет нас до самой могилы, и вот тут-то отчаявшемуся, глупому или просто ленивому человеку приходят на помощь психокорректоры — не какие-то там грубые гипноделы, а тончайшие, естественные средства, не лекарства, упаси Боже, а система, смысл которой в том, чтобы приоткрыть разум (снизить критику? — удачно поддел я оратора), чтобы в образовавшуюся щелочку вошли специальные тексты, примеры которых повсюду — в виде лозунгов, газет, случайных разговоров, — таким образом, весь город приобретает свойства огромного психокорректора, и качество туризма теперь совершенно иное, это ведь невооруженным глазом видно, отцы…» А потом Татьяна, как главный из присутствующих отцов, вставила Анджею в зубы сочный плод нектарина, временно заткнув брызжущий умом гейзер, и с грустью сказала мне, что счастье не бывает долгим, и я сказал, что она единственная поняла, о чем был мой вопрос… а потом я спросил, оттолкнувшись от темы, на кой ляд нужно по ночам класть деньги под подушку? И еще — что позорного сокрыто в простом слове «сон»?! И друзья мои почему-то замялись, спрятали глаза, и повисла над столом тягостная пауза…
Посиделки, так складно начавшиеся, достигли точки, когда гости встают, внезапно вспомнив про улетающий через полчаса самолет, а хозяева провожают их до такси, держа на лицах положенные по случаю улыбки. Татьяна переключила каналы стереовизора, торопясь найти что-нибудь бодрящее, а муж ее спокойно повернулся ко мне:
— Ты не думай, Ваня, — сказал он, словно извиняясь, — никаких табу. Ну, просто какой же герой, даже с именем Аполлон, готовый умереть за счастье всего человечества, признается, что сны его убоги и серы. Что же ты хочешь от обычного, скучного бюргера?
«Готовый умереть… — эхом отозвалось у меня в голове. — За счастье всего человечества…» Как скаут. Готов? Всегда готов. Красиво умереть. Готов красиво умереть… Что?! О чем я сейчас подумал?
О ЧЕМ Я СЕЙЧАС ПОДУМАЛ?!
Все было чудесно, все было, как прежде. Я находился среди друзей, стол ломился от экзотической, непривычной советскому человеку еды, какой-то умник излагал по стереовизору два универсальных правила здоровья (первое: «Не Нервничать Из-за Пустяков»; второе: «Все Пустяки»), и я захохотал, как ребенок, и все подумали — над передачей, но я не стал их разубеждать; просто голова моя отныне принадлежала мне и только мне. Лопнул громадный радужный пузырь, разлетевшись тысячей шикарных брызг. Я вспомнил. Это было, как сладкий опийный толчок, как горячий укол в вену. Я вспомнил того человека, который остановил меня утром возле вокзала. Я вспомнил…
Но ведь он, кажется, погиб? Я ведь своими глазами читал отчеты по той катастрофе! Что за сказки?
А потом я шел по залитому искусственным светом переулку, сжимая в руках бутыль с финиковой водкой. Окончание вечера встречи не имело какого-либо значения. Друзья вывели меня за ворота и долго смотрели мне вслед; я часто оглядывался и махал свободной рукой, чтобы сделать им приятное. Я отказался от кибер-такси, и также не стал вызывать вертолет, решив совершить пешую прогулку. Писателю Жилину срочно нужно было охватить мыслью новые обстоятельства, а думал он обычно ногами. Где-то неподалеку рвалась пиротехника, нестройно звучали какие-то музыкальные инструменты, слышалось то ли пение, то ли вопли, иначе говоря, население безудержно веселилось, звуки приходили волнами и отступали, не мешая моим раздумьям… Итак, человек на вокзале и впрямь был мне знаком, хоть и порядком подзабыт за давностью лет, однако какой из него, к черту, Странник? Что за остряк сделал из наивного русского мальчика, готового красиво умереть, настоящего Героя, ломающего зубы силам света и тьмы? Который к тому же и впрямь давным-давно умер, если есть хоть, какая-то правда в похоронках. Наконец, что за шалун, безнаказанно играющий людскими судьбами, помешал нам встретиться во времена моих «Двенадцати кругов»? А кто вылепил героя из тупого и одичавшего межпланетника, то есть из меня самого, резонно возразил я себе. Кто заставил меня спрыгнуть с небес на землю? Правильный вопрос был не «кто виноват», а «что делать»…
Все-таки подумать писателю Жилину не дали. Переулок вывел меня на улицу, полную людей. Очевидно, здесь что-то праздновали, во всяком случае, происходящее сильно смахивало на карнавальное шествие, только без масок и без живых кукол. Шум стоял страшный: кто-то самозабвенно лупил в медные тарелки, кто-то трубил в трубы, кто-то бухал в барабаны, и все это несинхронно, вне мелодий и ритмов. Запускались ракеты, с душераздирающим воем улетавшие в небо, швырялись петарды на газоны. Демонстранты откровенно хулиганили. У многих в руках были пустые жестяные ведра и черпаки, которыми они дружно громыхали, перемигиваясь и перекрикиваясь, некоторые шли с детьми, и дети не отставали от взрослых, вовсю пользуясь дудками, свистульками, пищалками, гармошками. Одеты все были обыкновенно, и только на голове у каждого был напялен ночной колпак — вот такой потешный опознавательный знак.
Случайные прохожие с одинаково каменными лицами шагали вдоль заборов и стен. Я приостановился, чтобы окликнуть одного из таких полуночников:
— Эй, друг, кто эти весельчаки?
— Бодрецы, — гадливо сказал он, словно червивое яблоко надкусил.
В основании колонны медленно полз электромобиль с открытой площадкой вместо кузова. На площадке стояла женщина, царственно возвышаясь над всеми, — она делала руками движения, будто дирижировала, а к одному из ее запястий был пристегнут гигафон. Женщину я, безусловно, знал: это была Рафа, жена лейтенанта Сикорски. Повинуясь команде прелестной дирижерши, электромобиль остановился и вместе с ним остановилась толпа. Очевидно, место было выбрано не случайно. Рафа развернулась к трехэтажному особняку, на котором помаргивала изумрудная надпись: «Узел Мировых Линий», и поднесла гигафон к губам. Страшный нечеловеческий голос потряс воздух: «Сон — лучшее лекарство! Покупайте в аптеках города!» Неужели это произнесла милая целительница Рафа? Кто-то запрыгнул к ней на электромобиль с собственным гигафоном на запястье и вдохновенно проревел: «Летаргический!!!» Толпа вдохновенно заревела в ответ. Люди в ночных колпаках рассредоточились, обступили особняк и принялись колотить в неприступный камень своими ведрами. Несколько полицейских стояло поодаль, но они ни во что не вмешивались.
— Разбудим гадов! — толкнул кто-то меня локтем, обратив ко мне искаженное восторгом лицо. — Осиновый кол им в узел!
Бедный Рудольф, подумал я вдруг о нашем лейтенанте. Хороший ведь парень, и так влип. Понятно теперь, почему он любит философствовать, а учитывая, что его всерьез тревожат проблемы ревности, за человека становится просто страшно…
Выспрашивать, кого здесь намеревались будить при помощи осинового кола, было, на мой взгляд, небезопасно. Держись подальше от барабанов и гигафонов — вот главное правило здоровья, номер ноль. Только отдалившись метров на пятьсот, только вытряхнув из ушей этот оглушительный звуковой мусор, я почувствовал облегчение и я почувствовал, что сильно напряжен, а также готов — к чему? Да ко всему! — как скаут, как добрый знакомый по кличке Странник… в общем, заряд этой напряженной готовности и спас меня.
Натренированный организм все сделал сам, без участия разума. Шерсть на загривке почувствовала постороннее движение за спиной, уши уловили едва слышный металлический звук, и ноги тут же увели тело вбок и вниз, с возможной линии огня. Как выяснилось, не зря: хлопнула спущенная пружина, капля света неуловимо мелькнула мимо. Удар приняло на себя дерево, стоявшее прямо по курсу; что-то звучно шлепнуло о ствол, брызнув стеклянными осколками. Это была ампула. Если бы не мои рефлексы, влепили бы мне склянку с иглой между лопаток. Я обернулся, успев пожалеть о том, что писателям оружие не полагается.
Сзади, за узкой полосой подстриженного кустарника идеальных прямоугольных форм, прятался стрелок. У нас есть свои убийственные склянки, с холодной яростью подумал я, вот вам асимметричный ответ, получите! Я вытолкнул бутыль самогона с разворота, как ядро, ни мгновение не колеблясь. Попытка была удачной.
Олимпийский рекорд не был побит, но сегодня от меня требовалась не дальность, а точность. Снаряд попал в подставленное лицо, опрокинув врага на землю, тот не ожидал ничего подобного, даже не вскрикнул, но еще две темные фигуры маячили возле въезда в большой школьный комплекс, поэтому оставаться на месте было нельзя, равно как и просто бежать, петляя среди уличных скамеек и утилизаторов: на это, возможно, и рассчитывали. В два прыжка я одолел расстояние до кустов и продрался на ту сторону. Человек корчился на траве, держась руками за голову. Разлитый алкоголь восхитительно пах. Я обшарил страдающее тело, однако не нашел ни кобуры, ни того, что в ней могло храниться, и тогда я принялся ползать на корточках по траве, стараясь не порезаться о свои же осколки. Чем защититься простому писателю? Здесь было гораздо темнее, чем на улице, ни черта не было видно, но я все-таки отыскал пукалку, с помощью которой меня пытались выключить. Затвор, ясное дело, оказался пуст, а дополнительными ампулами охотник почему-то не запасся. Обстановка осложнялась. Снаружи слышался грозный топот, и я, наконец, выглянул…
Черные фигуры бежали вовсе не в мою сторону. Они бежали прочь. Они давали деру! Секунда — и не стало их, исчезли за школьной оградой.
Обыскивать кого-то в темноте, прямо скажем, весьма неудобно, тогда я взял тело под мышки и выволок его через кусты на тротуар.
— Ты кто такой? — спросил я.
— De monies! — сказал он и заплакал.
Лицо его было в крови, — что, впрочем, не мешало понять: перед нами афроамериканец. А может, афроевропеец, я их путаю. В общем, темнокожий крепыш, красавец, каких мало. Я взялся обыскивать парня, а тот все пытался приподняться, бормоча что-то в прижатые к лицу ладони, что-то насчет Extrano, которого мне не видать, как своих ушей. В карманах у него не нашлось документов или иных предметов, по которым можно было бы установить его личность, зато лежала пухленькая пачка денег, и лежало что-то еще, упрятанное в плоский контейнер со скругленными углами. Однако изучить трофеи мне не позволили: со школьного плаца выскочил автомобиль. Кибер-такси леопардовой расцветки. Очевидно, стоп-система его была нейтрализована, потому что мчался этот зверь, стремительно набирая ход, не по проезжей части, а по тротуару — прямо на нас. Раненый наконец встал на колени, жутко улыбаясь: он грудью встречал смерть. Наезд был неизбежен. Я ушел в сторону, пытаясь утянуть чудака за собой, но лишь снова опрокинул его, и ничего не оставалось («О себе подумай, Жилин! О себе!»), кроме как бросить обреченную куклу на асфальте. Я укрылся за деревом. За миг до неизбежного машина вильнула в кусты и встала. Камень, думал я, обыскивая взглядом газон, кирпич мне в руку! Или выдрать из земли утилизатор — главное оружие советских писателей? К счастью, фигурное вождение затевалось вовсе не ради меня. Еще миг потребовался пассажирам такси, чтобы втащить товарища в салон, и машина рванулась прочь — с торчащими из дверцы ногами. Кто сидел за панелью управления, было не видно…
Все кончилось.
Кончилось ли? — спрашивал я себя, возобновляя путь. Ответ был ясен, поэтому двигался я, стараясь держаться поближе к деревьям и, по возможности, не попадать на освещенные участки. По пути я рассмотрел изъятые у горе-охотника деньги. Это были местные деньги, а пачка была заклеена бумажной лентой с печатью. Печать была цветной: рисунок в виде подсолнечника, центр которого украшен буквами «ЕС». Иначе говоря, упаковка мало походила на банковскую. Что касается коробочки-контейнера, то разобраться с ней не составило труда, поскольку кто как не я служил в свое время консультантом при лабораториях Бромберга! Я заранее знал, что обнаружу внутри, и не ошибся. Мощнейший стимулятор с управляемым психотическим эффектом. Внешне напоминает игрушку для меломанов: два наушничка, соединенные с крошечным пультиком. На языке наших оперативников — «отвертка» или «бес». Идеальный инструмент для допросов, пробивающий любую психическую блокировку. Психоволновое средство, не изменяющее толерантность и, по-видимому, совершенно безвредное для подследственного. Помнится, появление у Бромберга опытного образца подозрительно совпало по времени с завершением всех экспертиз по слегу, — что, кстати, подвело меня к окончательному решению порвать с так называемым служебным долгом, допускающим подобные тайные исследования… Я внимательно осмотрел контейнер. На внутренней стороне крышки имелся цифро-буквенный код, а в специальном гнезде уютно устроился армейский вакцинатор с некой гадостью… Все эти удовольствия, надо полагать, предназначались для меня; и леопардовое такси, таившееся в засаде, готово было принять не чье-то там, а именно мое бесчувственное тело. В очередной раз кто-то пожелал задать мне вопросы — на сей раз с помощью волновой «отвертки»…
Один из ответов я и в самом деле уже имел. Донести бы теперь его до гостиницы.
В приморском городе трудно заблудиться, главное, не потерять направление ветра. Сейчас ветер дул к морю. Где-то гремели трубы и ревели гигафоны — все громче, все ближе. Вероятно, наши с бодрецами пути снова должны были пересечься. Но в целом город был пуст, закрыт шторами и ставнями, запахнут в черную листву деревьев, в городе не работал ни один магазин, ни одно кафе, ибо город спал. Вокруг неожиданно пошли знакомые места; улицы распрямились, тени оформились, романтические воспоминания заполнили вакуум. Семь лет назад ноги уже носили агента Ж. в этих краях, — подтверждения возникали на каждом шагу, будоража старческую сентиментальность. Ноги носили, глаза смотрели. А вот и дом, в котором агент Ж. тогда квартировался, — он самый, вне всяких сомнений! Два этажа, белое с голубым, яблоневый сад… Возле дома, точнее возле решетчатых ворот, хозяйски опираясь о почтовый ящик, стоял коридорный из «Олимпика».
Я даже приостановился. Это был он — юный культурист, увлекавшийся Шпенглером и Жилиным. Такого красавца трудно спутать. Меня он якобы не замечал, взгляд его был устремлен к перекрестку, где уже бурлила шумная толпа с ведрами, петардами и духовыми инструментами. Опять случайная встреча? Бог ты мой, как я устал от этих хорошо организованных случайностей, коими щедро был обставлен весь мой нескончаемый день. Я окликнул парня:
— Изучаем жизнь приматов, дружок?
Он увидел меня и обрадовался:
— Вам тоже эти кретины спать не дают?
— Отчего же кретины? — сказал я, — Люди выражают свое отношение, не знаю, правда, к чему. Их право.
— Перебудить весь квартал — большого ума не надо, — сказал он запальчиво.
— Отчего же квартал, — возразил я. — Может, их планы на весь мир распространяются. Неспроста же они атаковали «Узел Мировых Линий», я сам это видел.
— А-а, вампиров, — понял коридорный.
— Пардон?
— Ну, гостиницу, которую вампиры содержат, — он коротко глянул на меня. — Вампиры — это просто система оздоровительных клубов, ничего такого. Учат курортников сберегать и умножать энергию. Солнце — первый энергоноситель. Земля — второй, и так далее. Воздух, вода, еда, сон. Смотрят на солнце, ходят по мокрой траве босиком…
— Очень интересно, — вежливо сказал я. — В ваших домах теперь что, нет акустической защиты? Трехслойной, с памятью на пятьдесят тысяч звуков?
Он пожал плечами:
— Естественный кодекс не рекомендует.
Мальчик держал себя несколько иначе, чем в отеле, что объяснялось, по-видимому, сменой обстановки. Там он был на боевом посту, в броне и каске, там он играл во взрослого, а здесь он ощутимо помолодел. Легкая рубашка на голое тело, завязанная узлом на груди, бермуды, мокасины, подтянутый мускулистый живот, устрашающих размеров плечи, и плюс щекастая голова, набитая всякой умной всячиной. Мальчик был мне, черт возьми, симпатичен. Очень не хотелось думать о нем плохо, поэтому я спросил напрямик:
— Что ты тут делаешь?
— Что, что! Живу я тут, — сказал он кокетливо, показав незаурядное знание русского фольклора. И снова засмеялся. — Вы меня так и не вспомнили? Вы у нас как-то гостили.
Я посмотрел на бело-голубой дом за его спиной. Что-то шевельнулось в моей памяти.
— Лэн! — воскликнул я. — Сын генерал-полковника Туура!
Симпатия превратилась в нежность.
— Лэн, — сказал я. — Дружище, как я рад.
— Вы в отель? — басовито спросил он, расправив плечи. — Разрешите вас проводить?
Некоторое время я размышлял, можно ли считать меня безопасным попутчиком. И в особенности — собеседником. Лепестки желтых лилий, настоянные на крови Кони Вардас, стучали мне в сердце. Сомнения проступили на моем лице, но мальчик посмотрел на меня с такой надеждой, что язык не повернулся отказать ему, ведь он, возможно, все последние годы ждал эту нашу встречу, ведь он так и не решился в гостинице попросить меня о чем-то… Мы постояли на Второй Пригородной, пережидая шествие, а потом двинулись дальше, через перекресток, мимо парка Грез, к центру города.
Кто они такие, поинтересовался я, махнув рукей в сторону исчезнувших бодрецов, что за зуб у них на Мировые Линии? Они — это никто, был решительный ответ. Те, у кого не получилось, и этим все сказано. Пытаются бросить вызов, то ли всем нам, то ли Господу Богу. Секта Неспящих — официальное название. Переползают по ночам из квартала в квартал, от вампиров к копам, от банкиров к хрусташам. К хрусташам? А к кому же еще! Сломают юным натуралистам энергетику, зальют отравой их «растительный секс». У них сегодня тайная сходка, у коммунаров хреновых, такая «тайная», что весь город в курсе — где, когда, и за сколько… Все это хорошо и весело, согласился я с Лэном, но сам-то ты как? Мать как, сестра? (Честно говоря, я забыл имя его сдвинутой мамаши, в чем признаваться было не обязательно.) Оказалось, что Лэн в этом году закончил школу и решил летом поработать, как он всегда делает в каникулы, а через месяц планирует подать документы на факультет подземных коммуникаций. Когда выучится, будет проектировать Новое Метро. Городу позарез нужно Новое Метро, город задыхается без Нового Метро. Матери дома нет, она в море, на яхте. Яхтсменкой стала, видной активисткой яхтклуба. В пятьдесят-то лет! Больше не пьет — ни по праздникам, ни по будням, вот такие метаморфозы. Вузи вышла замуж, работает дизайнером, живет у мужа, так что Лэн в доме — полный хозяин… А потом я спросил его, что это за эмблема такая: подсолнечник с буквами «Е» и «С» вместо семечек?
— «Е-эс» — это партия Единого Сна, — ответил он и тактично замолчал, ожидая, о чем этаком я еще спрошу.
И я бы обязательно спросил еще о чем-нибудь этаком, если бы мы не вышли на Театральную площадь. Брошенное кибер-такси стояло возле пустых мертвых касс — с раскрытыми дверцами, с погашенным тавро на крыше салона. И мне временно стало не до вопросов, потому что это было то самое такси. Я сразу его опознал. Для кого-то все серийные автомобили на одно лицо, но я не из таких. Я мог ошибаться в людях, в женщинах, в словах — во всем, кроме того, что ездит или летает.
Ни внутри кабины, ни снаружи никого не было, и вообще, мир был удручающе пуст и тих. Пока я обыскивал машину, Лэн терпеливо стоял рядом. Он не задавал мне вопросов, он молча ждал. Панель управления была вскрыта, как я и ожидал. Заднее сиденье было заляпано чем-то очень похожим на кровь. Пластик отказывался ее впитывать, и кровавые кляксы еще не успели застыть. Багажное отделение было пустым, и только на коврике под ногами водителя я обнаружил использованную спичечную упаковку. Вероятно, здесь курили. Не те ли, кому понадобилось устроить засаду ничего не подозревающему прохожему? Оно и понятно, ведь ожидание — процесс нервный. Оторвали последнюю спичку и бездумно выпустили мусор из пальцев, а потом, когда пришло время уносить ноги, забыли про такую мелочь… На спичечной упаковке имелась красивая реклама. Солнце освещало золотыми лучами надпись, выложенную из огромных камней: «Семь пещер».
— Знаешь, что это такое? — спросил я Лэна.
— Семь пещер, — прочитал он. — Фирма, торгующая антиквариатом. Довольно крупная.
— Где это, тоже знаешь?
— Само собой, — ответил он напряженным голосом.
— А не прогуляться ли нам туда? — предложил я. — Или это далеко?
Лэн мужественно кивнул стриженой головой:
— Идемте.
— Нет, сначала в отель, — сказал я.
Опять он ни о чем меня не спросил. Похоже, на парня можно было положиться. Вот так дети и вырастают в героев, подумал я растроганно, а мы все про учебу с ними, а мы все копим советы, как им надо жить, и готовим для них будущее, которое они делают себе сами…
Единственное, что может развлечь двух героев, шагающих по спящему городу, это разговоры о том о сем.
Как писатель может не верить в Бога? — риторически вопрошал собеседник, словно сговорившись с давешней ведьмочкой. Многие наши этого не понимают. Кто это — «наши»? Ну, те, ради кого писатели существуют в природе. Вот вы, Иван, сказал он, не верите в высшие силы, потому что вы межпланетник, это понятно. Хотя на самом деле это совершенно непонятно, если вдуматься… («…Перед кончиной своей, надеюсь, безвременной, — процитировал Лэн, — возблагодарю бога, которого нет, что он создал звезды и наполнил мою жизнь…» «Ты забыл, дружок, что я не только межпланетник, но еще и коммунист», — царственно осадил я дерзкого юнца.) Ладно, о присутствующих либо хорошо, либо ничего. Так вот, те самые писатели, которые истово НЕ верят в Бога, отчего-то пытаются найти Ему заменителя — дружно, упрямо, соревнуясь друг с другом в изобретательности. То в виде, скажем, «Разум-Социо», рожденного человеческим сознанием, то в виде колоссального транспланетного чудовища по имени Плазмон, то в виде парочки маньяков, вырастивших в котле-автоклаве нашу Солнечную систему. Примерам несть числа. С какой целью это делается? («По-твоему, наш писатель понимает, что „ваш“ читатель не простит ему вульгарного атеизма? — предположил я. Правильно, конъюнктуру общественных заблуждений творец должен чувствовать зад… пардон, спинным мозгом».) Конъюнктура? Вряд ли. О какой конъюнктуре речь, если некоторые писатели — из больших, из настоящих — вообще дьяволопоклонники! Создают Евангелие от Сатаны, назвав своего хозяина каким-нибудь мудреным именем вроде Воланда, чтобы нормальную публику не отпугнуть… («Булгакова не тронь, — строго заметил я. — Не нам судить о его вере.») Отлично, едко засмеялся юный наглец, священных коров резать не будем. Ограничимся, Иван, вашими друзьями, сказал он, вдруг перейдя на правильный русский язык. Теми, кто состоит в террористической организации «Время учеников»… («Откуда такая осведомленность? — резко бросил я. — Эта информация совершенно секретна!») Да просто подслушал, смутился Лэн. Случайно, конечно. Он ведь коридорный, его ведь не замечают, когда выползают под утро из лифта, размахивая бутылками, консервами и пластиковыми стаканами, у него даже не спрашивают разрешения, когда обнаруживают пустой полутемный спортзал и вваливаются туда всей толпой, предварительно попытавшись войти в зеркало, а затем облегченно падают на маты и начинают громко пировать — во славу литературы и лично товарища Строгова, — попутно обсуждая, кто кому что сказал, и бесконечно сравнивая местный алкоголь с кефиром. Пикник на обочине… (Эх, мужики, мужики, с досадой подумал я, когда же мы перестанем быть свиньями? Ничто нас не меняет, ни смена эпох, ни старость, ни близость к Учителю.) Возвращаясь к теме. Почему писатели, старательно поддерживающие свою репутацию материалистов, раз за разом вводят в книги что-нибудь надчеловеческое? Разгадка, по мнению начитанного мальчика, была проста. Вовсе не неверие будоражит их души, а другое чувство — ненависть…
Как же нужно ненавидеть Его, чтобы выдавать свою ненависть за неверие! И как это по-человечески — без устали повторять, что ты не веришь в Его существование, но при этом тратить столько фантазии, столько труда, чтобы доказывать из книги в книгу, какой Он плохой и как плох Его промысел. («…Я скакала за вами трое суток, чтобы сказать, как вы мне безразличны…») Вот один писатель выводит аршинными буквами, мол, нет подлости, которую люди не совершили бы во имя Бога, забыв добавить, что точно так же нет подлости, которую не совершили бы во имя безбожия. Фанатизм — это проблема психологии, а не теологии. А сколько подлостей совершается во имя любви — к женщине или к мужчине, к детям или к Родине? Вот другой писатель («Знал ведь его фамилию, но забыл», сокрушенно сказал Лэн) с бесконечной горечью оповещает мир, что Длань Господня бьет только нравственных людей, делая их несчастными, а безнравственные, все как один, живут себе припеваючи, и причина этой вселенской несправедливости в том, что праведники — это та сила, которая способна дать человечеству божественное могущество, пусть даже через миллиард лет. («Славин» — подсказал я. — Его пунктик.) Хотя, прежде чем обвинять высшие силы в подавлении всякой конкуренции, стоило бы задуматься: а верна ли исходная посылка? Не взята ли она по принципу «это же всем известно»? Подбор примеров, показывающих, что у нравственных людей жизнь якобы не складывается, всегда будет тенденциозен; с другой стороны, найдется ровно столько же примеров того, что злодеи наказаны еще при жизни. И вообще, если праведник чувствует себя несчастным, — какой же он праведник? Вот третий писатель… ну да Бог ему судья. Незаурядные люди, гордость строговского Питомника, доказывают и доказывают что-то — ожесточенно, в меру своей талантливости. Зачем, если НЕ ВЕРЯТ? Если бы не верили, писали бы о земле, а не о Небе. Значит, все-таки верят. Во что? В кого? Ответ: в Плохого Бога. Так добро ли они несут в мир? Лучше бы и вправду не верили…
— Ну ты, брат, загнул, — восхитился я. — Надо бы тебя с нашими старичками познакомить, а то чего я один за всех отдуваюсь.
— Не надо, — сразу сказал он. — Лучше вы, это…
— Ты хотел о чем-то попросить?
Лэн сильно покраснел.
— Я знаю, зачем ваши товарищи сюда приехали. Мне тоже очень жалко Строгова… и я даже хотел, чтобы вы рассказали ему правду про его учеников. Про их культ Плохого Бога, ну, вы понимаете. Я — вам, вы — ему. Строгов ведь и сам…
— Что — сам? — спросил я с интересом. — Проштрафился?
— В психологическом гомеостазисе, который он назвал «новым человеком», не нашлось место такой важной системе, как Бог, — сказал мальчик, с каждым словом возвращая себе уверенность. — Это большая ошибка, ведь Бог не где-то наверху или сбоку, а в голове каждого из нас. Участочек мозга, частичка организма. Никто из вас эту ущербность не замечает, вот и плодите калек, думая, что продолжаете традиции великого писателя.
— Серьезное обвинение, — покивал я. — Банда четырех и примкнувший к ним Лэн Туур.
— Они не имеют права, — сказал он со злостью.
— Что?
— Делать человеку больно.
— Это иллюзия, — сказал я ему, — будто Строгову можно сделать больно. Строгов перестал чувствовать боль, в том-то и дело.
— Были бы они учениками, жили бы рядом, а не наезжали раз в семь лет, — упрямо сказал он. — И вообще…
— А я? Ученик или нет?
Лэн взглянул искоса и опустил глаза, ничего не ответив. Я предложил ему:
— Давай-ка, дружище, отправимся к Строгову вместе. Повторишь старику все, что мы тут с тобой нагородили.
Лэн стал совсем пунцовым и вымучил:
— Спасибо, я подумаю.
Так и дошли до места.
Приветственная надпись на отеле в очередной раз обновилась. Приятный вечер закончился безвозвратно, теперь горело слово:
«НОЧЬ». Просто — ночь, без лишних эпитетов. «И только ночь ему подруга, и только нож ему господь…» Спокойно пересечь холл мне не позволили: лифт спустился с небес, едва я появился в дверях, словно в засаде ждал, словно почуял, что вот он я, здесь; и чавкнули створки, вываливая наружу Марию. Странным зигзагом мой бывший шеф двинул ко мне, целенаправленно смыкая наши траектории. Галстук торчал у него из кармана брюк, белая шелковая рубашка, расстегнутая до пупа, хранила отчетливые следы падения, а по пятнам на его одежде можно было составить примерное представление о том, что высокопоставленные сотрудники Совета Безопасности едят на ужин. Все это было так странно, что я остановился.
— Жилин, я тебя любил, — произнес Мария и закашлялся. — Как сына.
Удушливая волна ударила мне в нос. Мария был пьян. Он был пьян до непотребства, я никогда его таким не видел, а я всяким его видел: голым, небритым и даже без очков.
Вот и сейчас он сжимал очки в левой руке, нелепо взмахивая ими, как эквилибрист противовесом.
— Да, я мерзок! — объявил Мария с вызовом. — Зато ты, Жилин, страшен. Это комплимент, детка.
— Что стряслось? — спросил я по возможности терпеливо.
— Я знаю, ты с ней уже встречался. Ты приехал сюда из-за нее, правда? Не надо лгать, детка, лучше помолчи. Я тебе кое-что расскажу про эту красотку… — Он все пытался посмотреть мне в глаза, но каждый раз промахивался. — В четырнадцать лет она победила на школьной олимпиаде по космогации, заняла первое место на Аппенинах. Добилась права поехать в Москву, на европейский сбор. Но сначала нужно было пройти медкомиссию, иначе ее не включили бы в команду. И тут выяснилось, что четырнадцатилетняя девочка беременна…
Мария снова закашлялся. Только это был не кашель. Вот этого мне как раз и не хватало, озабоченно подумал я, озираясь. Что делать, если ему срочно приспичит опорожнить желудок? Куда тащить тело, где тут ближайшая опорожниловка? И как, черт его побери, он умудрился так назюзюкаться, если весь алкоголь в здешних барах — ненастоящий, бутафорский? У него что, тоже нашлись друзья из интелей? Мария совладал с собой.
— Девочка была беременна, Жилин, — с горечью сказал он. — Олимпиада сорвалась, но я о другом. Мать у нее к тому времени померла, а отец у нее был дурак, настоящий старый дурак, вот в чем суть. Я ненавижу его, Жилин, если б ты знал, как я его ненавижу… Чтобы избежать позора, он устроил своей малышке тайные роды. Ребенка она захотела назвать Пьером. О'кей, Пьер так Пьер. Наградила старого болвана внуком. Некоторое время мальчик рос у чужих людей, но очень недолго, потому что в итоге его отправили в Аньюдинский детский комплекс, как можно дальше от матери… Ты хоть что-нибудь понял, Жилин?
— Зачем вы так нагрузились, шеф? — спросил я.
— Так нужно, — строго сказал Мария.
— А водочкой где разжились?
Он водрузил очки на мясистый нос и погрозил мне пальцем. Я дернулся было, чтобы подхватить пожилого человека, но равновесие он удержал сам — при помощи апельсинового дерева.
— Взял из конфиската. И ни один «товарищ» (это слово он выговорил с хищным сарказмом) не посмел возразить. А ты, детка, никогда не отличался уважением к начальству, и правильно делал. Но все-таки окажи мне последнюю в этой жизни услугу. Когда ты с ней снова встретишься, а ты обязательно с ней встретишься, передай ей, пожалуйста, что Пьер сбежал из интерната. Неделю назад. И до сих пор не нашелся. Может, хотя бы тогда эта кукушка задумается, что же она такое вытворяет.
Блуждающий взгляд пьяного наконец нашел мое лицо.
— Знаешь, почему маленький Пьер сорвался в бега? Кто-то ему сообщил, что отец его работает в Управлении космических сообщений и что зовут этого человека — Рэй. Как ты понимаешь, Жилин, это ложь! Это даже не смешно, это бред, просто бред… — Мария повернулся и героическим усилием послал свое тучное тело прочь.
Помочь ему дойти, с сомнением подумал я. Опять сверзится ненароком… Хотя, так ли уж Мария пьян, каким хотел бы казаться? Суженные зрачки — нетипичная реакция на алкоголь, а зрачки его были сужены, я обратил внимание. Что еще? Связная компактная речь на фоне двигательной разбалансировки. Был продуманно растрепан и неопрятен. Что он на самом деле сказал мне своей эксцентричной вылазкой? Очевидно, то, что и вправду ждал моего возвращения. Показал мне себя сразу, как я вошел в отель. Зачем? Чтобы предупредить: за тобой наблюдают, Жилин, какие бы обещания тебе ни давали, какими бы словами об офицерской чести тебя ни кормили. Ты что, Жилин, нашего Оскара не знаешь, вот что пытался сказать мне Мария. Ты клоун, Жилин, на арене цирка под лучами прожекторов, маленький и смешной, развлекаешь молчаливых скучающих зрителей, и если мы не вмешались у школы, то оттого лишь, что рано было раскрывать себя… Спасибо, Мария, все-таки ты честный человек, хоть и обидчивый.
Он скрылся в кабине лифта, а мы с Лэном пошли пешком по лестнице. Главный вывод, который следовал из давешнего разговора с Оскаром, был таков: меня весь день прослушивали и просвечивали.
Да, конечно, возникшее вдруг словечко «суперслег» тоже меня зацепило, еще как зацепило; Оскар отлично знал, на какие крючки цепляется отставной агент Жилин; но главной все равно оставалась тема тотального контроля. И вот теперь Мария с его мелодраматической чушью, которую мы тактично пропустим мимо ушей, дал мне ясно понять: НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.
В номер мне идти решительно не хотелось. В номере моем водились насекомые. Много-много «клопов», в каждой из роскошных комнат. «Клопы-говоруны», как называли эти примитивные подслушивающие устройства в двадцатом веке. Или я давал волю своей злости? Вряд ли контроль осуществлялся при помощи устаревших технических средств…
Нужно решение, встряхнулся я. Что такое «камера хранения», знаю пока я один. Разгоряченные охотники жестоки, но вовсе не тупы и невежественны, своры аналитиков кормятся на их псарнях. Только ведь они до сих пор не выяснили, кто такой Странник, кем был этот мальчик до того, как решил повзрослеть. А я — вспомнил. Чары упали. «Вы межпланетник, — сказал он мне утром возле вокзала, — вы поймете…» Однако, чтобы понять, мало быть межпланетником самому, нужно еще держать в голове, что автор ребуса — тоже человек Пространства… и что стальное брюхо «Тахмасиба» становилось однажды его домом… и что скучный капитан Быков терпеть не мог гостиниц, а планетолог Юрковский, этот воинствующий сибарит, именовал гостиницу в Мирза-Чарле, как и любую другую, не иначе как «камерой хранения»… Какой из местных отелей был выбран в качестве «камеры хранения»? Очевидно, «Олимпик», где у меня был заранее заказан номер. Что такое «ячейка»? Один из номеров, надо полагать. Иначе говоря, оставалось мне только свернуть на площадке нужного этажа… Я терпеливо брел вверх. Решение не было принято. Безумие висело в воздухе… Что за клад, думал я, спрятан у него в «ячейке»? Составные части суперслега? Во что ни играй, все равно играешь в кубики, говорил один палач, специализировавшийся на четвертовании… Кстати, о палачах. Когда мертвецы воскресают, это не только дарит людям веру в чудо, но и говорит о чьей-то профессиональной непригодности. Милый мальчик, которого интели прозвали Странником, более десятка лет числился в погибших, и не оттого ли вершители чужих жизней до сих пор не смогли определиться с его анкетными данными?
Был такой проект под названием «Сито», придуманный в Управлении космической минералогии. Увы, гигантская конструкция, дрейфующая в поясе астероидов, не была достроена, где-то что-то сдетонировало, и пошла цепная реакция, пожравшая металл огнем «холодной аннигиляции». В пустоте всякое бывает, особенно если кому-то поперек горла встают разведочные работы, способные нарушить их монополию по добыче сингонических метаморфоров. Все, кто находился внутри комплекса, погибли мгновенно, им повезло, а вакуум-сварщиков, работавших в пространстве, разбросало кого куда. Среди этих несчастных оказался и он, мой знакомец по спецрейсу «Тахмасиба». Бригады спасателей в течение года выискивали в космосе скафандры с задохнувшимися и закоченевшими людьми. Каким образом он выжил?
Однако вернемся в наши дни. Перед тем, как в очередной раз погибнуть и воскреснуть, товарищ Странник ясно сформулировал свою последнюю волю: «То, что предназначено для вас, ваше и только ваше». «Ваше» — это мое. Не Оскару оно принадлежит, не Эмми и даже не всему человечеству, а мне. Что из этого следует?.. «Клоп-говорун отличается умом и сообразительностью, — вспомнил я давнюю присказку. — Отличается умом, отличается сообразительностью…»
Решение было принято.
Я лежал в ванной и брил голову. Я сбривал свои и без того короткие волосы под ноль, под минус, превращая голову в коленку с ушами, и бодро напевал, изображая отличное настроение. Снятые волосы я тщательно складывал в полотенце, чтобы, упаси Бог, ничего не пропало. Я проделывал все это, напустив столько пару, что самого себя в зеркале еле видел. Жалко было тех ущербных ребят, которым выпало подглядывать за мной, но в таких экстремальных условиях их аппаратура вряд ли была полезна.
Избавляться от волосяного покрова в остальных частях тела не было необходимости. Пометили меня, очевидно, еще утром, в то самое время, когда валялся я, чушка чушкой, на вокзальной площади. Но при этом не раздевали, значит, будем надеяться, только прическу и попортили. Есть такое средство: «пылевой резонатор». Сверхлетучая жидкость без цвета и запаха, которая, испаряясь, оставляет на поверхности невидимые глазу микрочастицы, не смываемые и не счищаемые обычным способом. Технология позволяет слышать все, что говорится вокруг обработанного таким образом объекта, и ежесекундно отслеживать его местоположение.
Наверняка они обработали и мою одежду, причем всю целиком — и ту, что на мне, и ту, что в чемодане, включая белье. Так что чемодану отныне доверять тем более нельзя. Прическу мы, конечно, сейчас исправим (ну и портрет получается, жуть!), а вот с одеждой… Не настолько здесь экстравагантные нравы, чтобы бродить голышом по отелю и остаться при этом незамеченным. Вот и получается, что без Лэна проблему не решить, сказал я себе, справляясь с очередным приступом сомнений. Очень не хотелось втягивать мальчика в игру до такой степени, но… Закончив с бритьем, я надел на голову фирменную гостиничную кепочку и только затем покинул ванную. Полотенце с волосами, завязанное узлом, я положил себе на плечо; никуда мне теперь нельзя было без этого нелепого атрибута, без этого подлого маяка, без этого крючка, на котором водили меня невидимые рыбаки. Я взял электронный блокнот, взял стило и вышел из номера.
Лэн ждал меня возле лифтов; он общался с новым коридорным, который сменил его сегодня на посту, рассказывая скучающему юнцу про большого писателя Жилина. Это было хорошо. Пусть коридорный знает, что нас с Лэном связывает давнее знакомство: тогда в нужный момент не возникнет никаких вопросов… Они с секундным замешательством оглядели меня. В номере я переоделся, был теперь, как Лэн: в такой же укороченной рубашке, в таких же мокасинах, только вместо бермуд я надел шорты. Не нашлось в моем гардеробе бермуд. Зато все в точности совпадало по цвету. Чем хороши изделия из стереосинтетика? Цвета своего не имеют, полностью зависят от минутного каприза владельца. А Лэн красовался точно в такой же фирменной кепочке: я позаботился.
— Пошли, побросаем мячик, — сказал я, увлекая его в спортзал.
Включили свет, собрали мячи в центре и минут десять разминались под кольцом. Точнее, разминался один Лэн, а я скромно руководил процессом. С маяком на плече не очень-то размахаешься. Юный герой ничего не понимал, оттого был красен, но терпел, даже старался показать мне класс. Потом я скомандовал:
«Все, пора остыть немного» и отправился прямиком в мужскую раздевалку. Лэн не удержался, бросил последний разок (попал) и поскакал за мной. Судя по его виду, остыть ему было затруднительно, поскольку именно возникшая пауза наконец-то разгорячила героя. И чтобы не ляпнул он лишнего, я сунул ему под нос зеленый экранчик блокнота. Там было заготовлено слово: «Молчи!» Лэн обиженно поджал губу. Тогда я включил стило и быстренько вывел: «Пишем одно, говорим другое». Он медленно кивнул, ставши ужасно серьезным. Он окинул подозрительным взглядом потолок, затем стены раздевалки и вопросительно посмотрел мне в глаза. Я кивнул в ответ.
— Почему вы дышите ртом? — светски осведомился Лэн.
— Разве? — сказал я рассеянно, начав работу над новой запиской. — По-моему, я носом дышу.
Он заглянул в блокнот сбоку, вывернув шею.
— Вы, дядя Ваня, ртом такую узенькую щелочку делаете, наверно, чтобы самого себя обмануть.
— Носом — это важно?
— У меня в детстве начиналась астма. Помните, каким я доходягой был? Климат у нас слишком влажный, а тут еще наследственность. Так вот, когда я начал дышать носом и всегда следить за тем, как дышу, астма вскоре и прошла.
Я повернул блокнот, чтобы ему удобнее было читать: «Меняемся одеждой, дружок, раздевайся».
Мальчик хмыкнул, но протестов не заявил. Раздевалка на то и раздевалка, все естественно. Он только слегка изменился в лице, когда обнаружил, что под шортами у меня ничего нет. Так и было задумано, меченые трусы я снял еще в номере, чтобы не заставлять хорошего человека натягивать на себя чужое белье, ведь не всякому это будет приятно. Поощряется ли Естественным Кодексом хождение без трусов? Не знаю, не знаю. Мальчик со скрытым уважением поглядывал на мои шрамы.
— Муж нашей Вузи — тоже весь такой… — вдруг сообщил он. И тут же испуганно покосился на потолок. — Я говорю, муж у нее весь больной был, еще до того, как начальником таможни стал. Ранили его в заварушку, когда телецентр штурмовали… дырка в легких была, пневмоторакс… короче, когда стал следить за своим дыханием, тоже довольно быстро в строй встал. Пить бросил, как и моя мать. Он ведь сначала знакомым матери был, только потом они с Вузи… это… Он даже медкомиссию прошел! А то как бы его начальником таможни поставили?
Мы быстро покончили с переодеванием, и я написал Лэну:
«Теперь — ко мне. Ты останешься в номере, а я исчезну. Ты — вместо меня.»
Долго он читал эту записку, но я не торопил парня с решением. Понятно было, какие вихри проносятся в его стриженой голове. Наконец он взял у меня из рук блокнот и стило.
— Значит, я со своей щелочкой из губ неправильно живу? — заговорил я, пока он пишет. — А вы со свояком, значит, носом смерть попрали?
Лэн дописал записку и показал мне: «Я у вас в номере почитаю, можно?» Ответ мой был таков: «Свет зажигать запрещается! При свете ты — не я». «Что мне придется делать?» — деловито уточнил он. «Ложиться и спать». Пока он переваривал информацию, я дополнил картину последним штрихом: «Это — регистрирующая аппаратура. (Я переложил ему на плечо полотенце со спрятанными внутри волосами.) Ее нужно носить с собой даже в туалет. Разворачивать нельзя.» Лэн хотел было потрогать ношу на своем плече и не посмел прикоснуться. Там точно не бомба? — читалось в его растерянных глазах.
На этом наша переписка иссякла. Когда мы выходили из спортзала, я вдруг сообразил:
— Погоди, твоя сестра замужем за начальником таможни? За господином Пети Бригом?
— Ну, — с удивлением сказал он. — А что?
Вузи Бриг. Дизайнер и скульптор В. Бриг. Заурядная провинциальная дурочка, оказавшаяся на деле не такой уж заурядной и вовсе не дурочкой. За что она мне отомстила, за какие из своих несбывшихся надежд? Кто-нибудь когда-нибудь поймет этих женщин? Мы с Лэном вошли в мой номер, не зажигая свет и продолжая светски беседовать. Собственно, как выяснилось, Вузи изваяла не столько Жилина, сколько безымянный эталон мужественности. Фамилия натурщика не очень интересовала заказчиков. «Идеал» — так назывался конкурс, устроенный популярным дамским журналом «Услада Сердца», — вскоре после того, как я покинул эти места. И по опросу многочисленных читательниц победили именно мои виды. Особенно дамам понравились шрамы, с удовольствием отметил Лэн… Мальчик хорошо держался, не трясся и не переигрывал. Выйдем на балкон, проветрим мозги, предложил я ему. Мы вышли на балкон и посмотрели на подсвеченную, словно светящуюся фигуру, гордо торчащую в центре сквера. Разве вы не чувствуете, сказал Лэн, что это было неизбежно. Памятник вашему другу Юрковскому должен был исчезнуть, а на его месте должен был появиться новый. Кому? Конечно, вам! Не зря же все авторы фельетонов на темы вашей книги обязательно обыгрывали этот несчастный монумент. Только я не вижу здесь ничего смешного, воскликнул он. Спасибо, дружище, растрогался я, хоть кто-то понял мои чувства… Да, но каким образом твоя милая сестричка смогла изготовить такую анатомически достоверную копию?! (Я возмущенно указал пальцем в нужном направлении.) И опять мальчик не увидел ничего смешного. Оказалось, их с Вузи мама в определенных вопросах была немножко ненормальной: например, она скрытно снимала всех постояльцев мужского пола, живших когда-либо в доме. Здоровенный альбом даже завела, наподобие семейного. Где снимала? В ванной, понятно. Или в спальне. Она и послала в журнал те из снимков, которые можно было показать приличным людям, а всеми остальными воспользовалась Вузи, когда работала над заказом…
— Ну, спасибо за вечер, — сказал я, сворачивая разговор. — Тебе, наверно, пора домой.
Лэн оторвал руки от заграждения и распрямился. Мы посмотрели друг на друга.
— До свидания, — сказал он. — Желаю вам здоровья.
Я подмигнул ему и перебрался по мостику на галерею. Лэн остался на балконе. Когда я оглянулся, он уже скрылся у меня в номере, понятливый, непростой мальчик. Без единого лишнего слова. Ему ужасно хотелось почитать перед сном, но, когда я оглянулся в последний раз, свет так и не зажегся… Пользоваться лифтом было неразумно; я спустился до третьего этажа пешочком. «…Номер ячейки — это номер в гостинице, куда вы меня тем же вечером отправили…» Я скверно помнил «тот вечер», один из десятков одинаковых вечеров, убитых мною в Мирза-Чарле, однако номер в гостинице, где останавливались Быков с Юрковским, забыть было невозможно. Они всегда останавливались в одном и том же — в триста шестом. На третьем этаже. Сейчас там мемориальная доска. А гостиница, помнится, носила название: «Спокойная плазма», обычное для городов, построенных при ракетодромах… Здесь, в «Олимпике», нумерация комнат была совсем иной, с использованием букв, так что помимо ног пришлось мне загрузить работой и голову. Третий этаж — это понятно, но куда идти дальше? Апартаментов, обозначенных цифрой шесть, был целый ряд: от «А» до «F», значит, лобовой вариант не годился. Здравый смысл подсказывал воспользоваться не числовой аналогией, а пространственной, то есть перенестись мыслию в портовый отель в Мирза-Чарле… Отлично. Миновав кресло со спящим коридорным, свернув от лифтов налево, я пошел отсчитывать двери: с цифрой ноль, потом с двумя нулями (это были люксы), потом «один-А»… и так далее. Следить за нумерацией было совершенно не нужно. Возле шестой по счету двери я остановился. Если не эта, то какая еще? Был ли другой ответ у задачки?
Открыла пожилая дама… И это был сюрприз! Конфуз, фиаско, штопор: я не смог совладать со своим лицом. Опять она. Симпатичная толстушка, любительница привокзальных кафе и спортзалов с юными атлетами; была она в батистовой кофте и во все тех же льняных брючках, а вязаная панама была теперь песочного цвета.
— Фрау Семенова? — спросил я, едва удержавшись, чтобы не рассмеяться. Хозяйка номера отступила на шаг, заставив меня войти, и подняла вверх пальчик, заткнув таким нехитрым способом мне рот.
— Вам тоже не спится, молодой человек? — осведомилась она на чистейшем русском.
В другой ее руке появился приборчик, которым она быстро и ловко обследовала и мою одежду, и меня самого. Лицо ее отразило полное удовлетворение результатом. Она пригнула мою голову, сняла с меня кепку и, завершая наше знакомство, огладила своим приборчиком мою ослепительную лысину.
— Хорош, хорош, — энергично сказала старушка. — Чист, как младенец.
Мы прошли в гостиную. Я помалкивал, я вообще предпочитаю молчать, если есть такая возможность. Хозяйка, несмотря на возраст, ступала легко и бесшумно; на ногах у нее были очаровательные мягкие тапочки в форме кошачьих голов. Она расстегнула дамскую сумочку, лежавшую возле стереовизора, затем что-то сделала, и сумочка развалилась по швам, открыв еще один прибор, побольше. Внешняя антенна стереовизора была вставлена в этот прибор. Несколько секунд пожилая дама наблюдала за разноцветными волнами, бегущими по экрану, и констатировала:
— Снаружи тоже тихо. Никого мы с вами не интересуем, молодой человек. — Она повернулась ко мне. — Так что можете здесь остаться и отдохнуть. — Она показала на приоткрытую дверь.
— Сударыня, — возразил я. — Мне кажется, я здесь по другому поводу.
— Сейф там же, в спальне.
— Сейф?
Она промокнула вспотевшее лицо кружевным платочком. Все-таки испытывала она, сердешная, некоторое напряжение, с каким бы достоинством ни подавала себя гостю. Наверное, трудно быть агентом в стране, где запрещено лгать, а людям преклонного возраста — и вовсе вредно.
— К чему нам в прятки играть? — укоризненно сказала она. — В номере мы одни, можете проверить. Вы ведь за буквами пришли? Знали бы вы, как я вам завидую. Буковка к буковке, и будет слово, и слово будет у вас.
— Сколько букв я могу взять? — буднично спросил я, словно речь шла о дармовом пиве.
— Обе.
— А третья?
Бабуля высморкалась в свой платочек, культурно отвернувшись.
— Вас что, плохо инструктировали? — неприятно удивилась она. — Третью-то вам искать. Ради чего вас, милый, вызывали? Предназначение свое забыли?
Я вспомнил о суперслеге, о частях внеземного оружия. Теперь к этому ряду добавились буквы и слово. «Вначале было Слово, и было Слово у Бога, и было Слово — Бог…» Где правда? Кому верить? И верить ли кому-нибудь вообще?
— Три буквы, три буквы, три буквы!.. — пропел я. — В русском языке много слов из трех букв, вы знаете об этом? Привести примеры?
— Например, «СОН», — ответила она и скрипуче засмеялась. — Или у джентльмена есть другой вариант?.. И я попрошу вас, — произнесла она строго. — Слово следует произносить с прописной буквы, чтобы отличить Его от простого набора звуков, которыми мы с вами сотрясаем сейчас воздух. СЛО-ВО. Состоит Оно не из букв, а из Букв. Поняли разницу? А теперь о деле. Если вам понадобится в город, воспользуйтесь машиной. Другим способом покидать отель не рекомендуется, иначе опять всякая грязь поналипнет. Машина, о которой я говорю…
— Накрыта «зонтиком», — нетерпеливо закончил я чужую мысль. — Все понятно. Вы что, уходите?
Хозяйка номера уже упаковывала прибор, возвращая своей сумочке первоначальный вид. Она повернула голову:
— Ключи от автомобиля — в тумбочке возле кровати. Спуститесь в гараж на лифте, минуя холл. На брелке написаны все данные, так что не промахнетесь.
— Вам больше нечего мне сказать? — обиделся я.
Она повесила сумку себе на плечо.
— Открывать сейф, молодой человек, дело сугубо личное. Никто не имеет права вам мешать, даже я.
Она уплыла в коридор — маленькая, пухленькая и очень домашняя.
Я тщательно осмотрел тылы, прежде чем войти в спальню, меня и впрямь оставили одного! Кровать была огромной, свежей, аппетитной, впрочем, таковы были местные стандарты. И сейф был стандартный, из тех, какие имелись в каждом номере отеля. Располагался он во встроенном платяном шкафу, на месте одной из полок. Я ввел в сторожевую систему сейфа: «Your old Micky Mouse», что означало в переводе с английского: «Ваш старый Микки Маус». Именно так назывался бар в Мирза-Чарле, где мы со Странником имели счастье завязать наше знакомство, вот только случилось это даже не в прошлой — в позапрошлой жизни…
Глава пятая
«Наверное, это очень скучно — все знать,» — пожалел как-то мыслитель дурака. (Голый мыслитель лежал на столе прозекторской, а дурак был патологоанатомом.) Я все знал. Сегодня — Я все знал. Я стоял на сцене, я объяснял людям мировой порядок вещей, а Буквы в моих руках сияли, как звезды. Золотой светящийся жгут, излучаемый одной звездой, уходил вниз, к центру Земли; вторая, выпустив сноп зеленых игл, словно на стропах парашюта, удерживала Небо надо мной.
Как выяснилось, на самом деле это было очень весело — все знать. Взять, к примеру… ну, скажем, Будущее. Что может быть проще? Будущее — оно как Настоящее, только лучше. Будущее — это когда ничего не меняется в принципе. Появляется несколько крупных новинок в области науки и техники, которые по пальцам можно пересчитать, а быт остается прежним. Подотритесь — вы, прыщавые нигилисты, грозно бряцающие дорогостоящим интеллектом, уверенные, что в мире Будущего изменится буквально все, вплоть до самых мелких мелкостей. Ваши штаны полны несбывшихся прогнозов. Быт вечен, это нам и нравится. Кому? Нам, нормальным людям. Зрителям, слушателям и, не побоюсь этого слова, читателям. «Такое Будущее означает, всего лишь конец прогресса!» — кричат мне из партера. Ну и что? Я хохочу. Кому он нужен, этот ваш прогресс, вставший вертикально, как вагон поезда в эпицентре крупной катастрофы. Технологическая мясорубка, которая меняет человека через быт, еще не прогресс. Долой! Пусть будут коттеджи, прямоугольные двери и протертые ковры на полах. А также столы, стулья, ложки, телефоны, штаны и юбки. И книги. Без книг нам никак, факт. Пусть останутся утилизаторы, радиофоны и стереовизорм — этих удобств вполне хватит. И, пожалуй, ароматический бензин… Что еще нужно для долгой счастливой жизни? Добавим кабинки нуль-Т и сказочные летательные аппараты. Феерическая картина: на площадь Красной Звезды садятся не грязные вертолеты, а чистенькие бесшумные флаеры, птерокары и глайдеры. Памятники Строгову — по всей Земле. В Мировом Совете вымерли все юристы и экономисты, их кресла заняли врачи и учителя. С простыми распространенными фамилиями — вроде Иванова или Сидорова. К счастью, не будет в Мировом Совете и гениальных стратегов с именем Эмми. И пусть человек распространяет свой простой и понятный быт в Космос, чтобы Космос был таким же простым и понятным, очень человеческим, а вовсе не таким, каков он на самом деле… Остановись, мгновение, ты прекрасно. Ничего больше не нужно. Мы отлично обойдемся без электронных блокнотов, клишеграфов, пневмотележек, летучих абсорбентов и гелиочувствительных чернил. Долой словесный мусор! И уж, конечно, никаких вам «зонтиков» или Z-локаторов — замри, прогресс на потребу спецслужбам! Вернемся в прошлое. Никаких вакуум-арбалетов, плазменных сгущателей и прочих спецчудес. Из оружия — только скорчеры. Или скорчеры — тоже лишнее?
И вообще, может быть, я не прав в главном, подумал я, осторожно спускаясь со сцены. Ступеньки были устрашающе круты. Буду ли в этом мире я? В мире, который виден так ясно и отчетливо, — найдется ли мне место?.. Почему бы нет. Герой Иван трижды крутанулся, да и стал каким-нибудь Ивановским. Впрочем, это нескромно. Ростиславским? Гм. Ладно, фамилия не так уж важна, важнее имя… Ив АН. Дим Дим. Биг Баг… Так что я прав! Пусть я буду прав, решил я — и споткнулся, все-таки споткнулся. Люди склонились надо мной. Как я радовался, заглянув в их лица, — в счастливые лица одураченных людей. Как я смеялся, когда… когда проснулся! И неожиданно я подумал, просыпаясь: Душу не поставишь на щербатую лесенку эволюции — по той простой причине, что Она, Душа, все-таки существует…
Я очнулся.
Вскочить, подумал я, открыть жалюзи и подставить свету лицо; почему-то эта идея сильно меня рассмешила. За окном по-прежнему была ночь. Настроение бурлило, выплескиваясь через край, и кружили сумасбродные мысли: вроде той, что к чужой спальне полагается ласковая, все понимающая хозяйка. Я вспомнил давешнюю старушку и расхохотался в голос. Потом взглянул на часы. Поспать удалось всего несколько минут, не поспать даже — отключиться, упав спиной в кресло. Я взглянул на свои руки. В руках у меня и вправду были…
Нет, никаких «Букв» там, разумеется, не было! А были два каменных обломка, изъятые мной из сейфа; один на вид — просто кусок горной породы, второй — похож на черный обсидиан, осколок вулканического стекла. Если кому-то было угодно называть эти камни Буквами, то не нам и не здесь идти против воли владельца, да и не в названиях, собственно, дело… Дело, собственно, было в том, что содержимое сейфа предназначалось не Оскару с его сворой. Возможно, и не мне тоже, но уж не им и не таким, как они, — точно. Нельзя было им всем брать ЭТО в руки, никому из тех, кто в любой вещи видел прежде всего оружие, будь то кирпич, выпавший из китайской стены, или булыжник внеземного происхождения.
Внеземного происхождения? Я посмотрел на предметы, лежащие в моих повернутых к небу ладонях. Каменный обломок номер один, подумал я. Весом сто восемьдесят шесть грамм. Обычный минеральный состав, сложен из оливина и набора безводных силикатов. Минералов, неизвестных на Земле, не обнаружено… Сведения всплывали в моей голове сами собой, без участия воли, вставали перед глазами в виде показаний масс-спектрометра, и было это исключительно забавно. Вещественный состав: кислород, кремний, железо, магний, никель, и еще куча других элементов в ничтожных количествах. Я все знал! Передо мной был типичный образчик так называемого космического вещества, которое я вдоволь повидал на астероидах. Возраст, определенный по радиоактивному элементу калию, — примерно один миллиард лет. Калий, распадаясь, образует аргон. Изумительное зрелище, если у вас есть художественный вкус… Обломок номер два. Обсидиан глубокого черного цвета. Камень-Учитель, неожиданно подумал я, помогающий управлять Силой духа. Строки из древнего трактата вспыхнули и погасли: «…когда эта высшая Сила нисходит в мир форм, становится возможным изменять жизнь на Земле…» В одной моей руке покоилась овеществленная энергия Земли, в другой — энергия Космоса…
Опять я очнулся. Страха не было, был только смех. Имею ли я право ЭТИМ владеть? Есть люди, которые задают себе подобные вопросы. А хорошо все-таки, что я писатель, засмеялся я. Писатель — это тот, кто изучает самого себя, делая вид, будто изучает окружающих, так что я способен задать себе любой вопрос и получить честный ответ. Итак, имею ли я право?
Не знаю…
Я встал. Смех одолевал меня, как насморк, и тогда я перестал сопротивляться, положил камни на трюмо, среди косметики и маникюрных принадлежностей, затем вытащил из кармана деньги, швырнул их, хохоча, в потолок, и разлетелись по комнате волшебные бумажки цвета сухой омелы. Я огляделся. Разнообразные предметы интимного, дамского свойства стесненно помалкивали. Разоренный сейф прятался в платяном шкафу, там оставались еще ожерелье и серьги из космического жемчуга, однако драгоценности меня не интересовали. Делать мне здесь было больше нечего. Где-то в мониторной неспокойно дремал Оскар, топорща белесый пушок над губой: он конструировал во сне будущее, в котором был Начальником Всего; жаль, что я не мог присутствовать при его пробуждении. Сфотографировать бы взглядом перекошенную морду взбесившегося подлеца… что я несу, подумал я, какой вздор, человек просто выполняет свою работу, и ежели у него руки по локоть в дерьме, так не в крови же?
В душе моей высохла злость — до капли! — и хотелось почему-то всех простить. Что за болезнь, что за ночь такая? Душа у меня, оказывается, была. Я взял камни с трюмо. От них исходили токи, электризуя все тело, попадая в мозг, и я поспешил избавиться от этих кусочков Неведомого, спрятавши их в широких штанинах. Решив не торопиться вынимать их впредь. Мне ведь настоятельно советовали не торопиться… Не «решив», а «решивши», опять засмеялся я. «Отложивши», «сообразивши», «спрятавши». Какими сочными, исконно народными речевыми вывертами ты оперируешь, культовый писатель Жилин, как это ценно — в каждом деепричастном обороте, в каждом абзаце на каждой странице протаскивать шаловливое окончаньице «ши»…
— Что-то вы побледневши, — участливо произнес я, обращаясь к своему отражению в зеркале.
Карманы у меня оттопыривались, как у запасливого мальчишки; я постарался замаскировать это дело складками. Ногам было горячо и странно. Точно такие же ощущения я испытал, когда вынул сокровище из сейфа и когда упал, растерявшись, в кресло, — такое же тепло и магнетизм. Однако никакой опасности я не чувствовал. Хотелось действовать. Несмотря на одолевшую меня младенческую радость, несмотря на полное нежелание драться, я чувствовал, что сил во мне теперь — на два Жилина, а реакции мои — как у хорошо отлаженного автомата. Не долгожданное ли это время истины? Сможет ли писатель отдать жизнь — не за Слово даже, а за часть его, лишенную какого-либо смысла?
Я перегнулся через кровать и достал из тумбочки ключи от машины…
И ничуть не удивился, когда обнаружил, поднявшись к себе на двенадцатый, Банева со Славиным. Неразлучная парочка стояла на площадке возле лифтов и оживленно общалась с молодежью. Молодежь была представлена также двумя особями: коридорным и долговязой нескладной девицей.
— О! — дружно обрадовались братья-писатели. Славин сказал:
— Улыбка до ушей, глаза блестят. Ты чего такой? Дедушкой стал?
Странно, что они меня вообще узнали.
— Напитал исстрадавшееся тело пьянящим батидо, — похвастался я. — А может, это было октли, там этикетка отклеилась.
Лицо Славина приняло неестественный, неприятный вид.
— Грязные намеки, — сказал он грубо. — Я глубоко адекватен.
От него разило так, что хотелось немедленно закусить. Судя по всему, жаждущий классик нашел свой родник. Чтобы Славин, да не нашел? Мне стало стыдно, что я сомневался в таком человеке.
— Сначала он прочесал всю пригородную зону, — принялся рассказывать Банев. — Самогон ему так и не продали, зато пошутили, что местные винокурни будто бы тайно разливают вино в экспортном варианте, без этих присадок. Он поперся в порт, ползать на брюхе перед агентами по снабжению и штурманами, а вернулся уже на полицейской машине. Тогда он потащил меня в яхт-клуб…
— Зачем в яхт-клуб? — не понял я.
— На каждой приличной яхте есть запас спирта. Но со всякой шпаной там разговаривать не станут, поэтому он взял меня.
— Хрустящий воротничок, — сказал Славин с вызовом.
— Ради кого я старался, свинья? — спросил Банев.
— Ну, вы поняли свою ошибку? — нарочито громко обратился Славин к барышне.
— «Одеть» можно только кого-то, например, человека, — ответила она, глядя на известного прозаика с восхищением и преданностью. — В родительном падеже. А предметы в винительном падеже только «надевают»: надела шляпку, надел кепочку… (Она кокетливо посмотрела на меня.)
Евгений внимал правильному ответу, приняв вид большого мастера (принявши!). Меж их склоненными головами трепетала рукопись, испорченная красными подчеркиваниями и ехидными пометками на полях. Девушка явно хотела взять Славина под руку, но не решалась, а рукопись, очевидно, была собственного ее сочинения. Мне стало жаль юное дарование. Коли речь зашла о разнице в написании слов «одел» и «надел», значит, разговор за литературу велся по крупному, ибо вопрос этот имел не просто важное, но принципиальное значение, особенно когда Большие Мастера вразумляли пишущую молодежь… Коридорный, как это ни смешно, тоже держал в руках рукопись и смотрел он с точно такой же преданностью, но только на Банева. Каждому ученику — по Учителю! Очевидно, я ненароком попал на летучее заседание творческого семинара.
Я обратился к коридорному:
— Лэн Туур все еще в моем номере?
— Не знаю, — сказал тот беспечно.
— Не могли бы вы позвать его?
Парень пожал плечами и, не задавая лишних вопросов, отправился в путь. Заходить в номер мне было совсем не обязательно.
Ни одна вещь, привезенная мной из внешнего мира, не стоила и секунды возможного риска, а документы и деньги всегда у меня с собой. Оставь материальный мир врагам и стань свободным. Вот разве что мясные консервы — жалко…
— …Если решили публиковаться на русском языке, на языке Чехова и Строгова, извольте освоить грамоту в совершенстве, — с ленцой вещал Славин. — Вот, пожалуйста, написали вы «отнюдь». Так нельзя, голубушка, после «отнюдь» не ставится точка. Это усилительная частица, которая самостоятельно не употребляется, а только в связке с отрицательной частицей «не» или междометием «нет». «Отнюдь нет», «отнюдь не гений». Даже дурной вкус не может служить оправданием безграмотности.
Голубушка благодарно принимала обидные речи, соглашалась решительно со всем. Тут и коридорный вернулся.
— Сейчас придет, — кивнул он. — Простите, я забыл вам передать. Звонил товарищ Строгофф, сказал, что весь вечер вас разыскивал, и просил навестить его, как только вы сможете.
Новость потрясла всех маститых литераторов. Включая меня. У Банева со Славиным вытянулись лица, и лишь молодежь спокойно поглядывала на нас, не понимая истинного значения случившегося. Учитель пожелал с кем-то встретиться, позвал кого-то к себе… неслыханное дело. Жаль, что обсуждать с коллегами варианты и версии не было у меня ни желания, ни времени, поэтому я молча сделал всем ручкой и вызвал грузовой лифт. Почему грузовой? Потому что он спускался до подвала, имея выход в подземном гараже. «Расскажешь потом, что да как», — вымучил Славин с таким видом, словно его рвать потянуло. Простодушный коридорный полюбопытствовал, что такое батидо и чем оно отличается от октли, и трезвенник Банев, думая о чем-то своем, пустился в объяснения — по инерции, все по инерции, — а Славин по инерции принялся растолковывать барышне, почему пожарные в прошлом веке обижались, когда их называли по безграмотности пожарниками, однако Лэн уже шагал к нам по коридору, и лифт как раз подъехал. Простите, братцы, подумал я, не скоро мы теперь увидимся. Они так и стояли с вытянутыми лицами, и каждый, наверное, видел себя на моем месте, и каждый страстно хотел бы оказаться на моем месте, но место это сегодня было занято. Простите, друзья мои, классики мои милые, но быть вам теперь, с вытянутыми лицами — на всю оставшуюся жизнь…
Площадь Звезды называлась теперь площадью Красной Звезды.
Всего одно слово добавили, а как все изменилось. Не было ни беснующихся толп, ни разгоряченных грезогенераторов на крышах, ни сигаретного дыма, стоящего над головами, как туман. Были спокойствие и порядок. То есть, попросту говоря, не было никого и ничего, кроме вертолетов с приспущенными крыльями, дремлющих в круге из красного кирпича, и только где-то неподалеку опять барабанила и горланила Секта Неспящих. Мы подъехали со стороны Музея земных культур, известного в Европе своей коллекцией татуировок. Там и оставили автомобиль.
Если машина и вправду была оборудована системой контрслежения, то орлы в зеленых галстуках давно упустили нас из виду. Мало того, перед тем, как вылезти наружу, я вернул Лэну его одежду, а сам надел штаны и рубашку, которые обнаружились в салоне. Размер был как раз по мне. Строгая бабуля, или кто там за ней стоял, проявила удивительное понимание ситуации, если не сказать — заботу. Сверток с волосами и меченую одежду я засунул под сиденье, и стали мы отныне чисты, прозрачны, невидимы…
Нужный дом прятался в начале одного из лучей-переулков. Вывеска «Семь пещер» не горела, но ее и так было видно. Я рукой остановил Лэна, который навострился было двинуть прямо через площадь.
— Зайдем-ка мы с тыла, — решил я. — А то, боюсь, здесь все простреливается.
Какими-то невообразимыми проулками, подворотнями, арками, тесными двориками, крытыми галереями, проходами вдоль темных каменных изгородей — глухими кривыми окольными тропами мы вновь вышли к свету. Вокруг был исторический центр города. Кварталы, укрывшие нас от возможных соглядатаев, были возведены не просто в прошлом или позапрошлом веке — в ушедшем тысячелетии. Их не так уж много осталось, этих фрагментов Прошлого, стимулирующих воображение человека Будущего. Здесь жили призраки, они бесцеремонно хватали меня за полы плаща… благородные рыцари, почтенные лавочники и презренные грамотеи, разбойники и монахи, бунтовщики и палачи… и стаи крыс, серых злобных крыс в человечьем обличье… и в эпицентре всего этого морока — Он, Хомо Футурус, скованный своей же мудростью, растерявший божественную силу в борьбе с самим собой и оттого особенно жалкий… воистину, если Господь хочет наказать за гордыню, он лишает не разума, а спасительной глупости, ибо нет худшей муки, чем все понимать… я справился с секундным помешательством. Призраки, готовые вот-вот материализоваться, обиженно вернулись в свои щели.
«Семь пещер» выходили на площадь углом. Дом был трехэтажным и довольно длинным, с фронтонами, пилонами, угловыми башенками и эркерами с куполами. Высший класс эклектики. Современные раздвижные ворота, вписанные в большой красивый портал, располагались ближе к площади, и они, конечно, были закрыты (ага, значит, внутри имелся дворик). В некоторых окнах горел свет, то есть хозяева не спали. Мы вышли к заднему фасаду. Здесь тоже горел свет — в одном-единственном окошке возле двери. Дверь была дубовой, с филенками, венчал ее изящный сандрик на консолях, а еще выше местные мастера установили флюоресцирующее рельефное завершение в виде подсолнечника. Точно такая же эмблема была на заклеенной пачке денег в моем кармане.
— Это штаб-квартира партии Единого Сна, — сказал Лэн вполголоса. — Антикварная фирма находится в том крыле.
Вот так совпадение, подумал я. Мне вдруг остро захотелось нанести кому-нибудь визит. И вообще, очень захотелось кому-нибудь что-нибудь нанести. Впрочем, жить пока тоже хотелось.
— Ну все, малыш, спасибо, — сказал я Лэну. — Иди домой, дальше я сам.
Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Потом он заговорил, словно бы не слышал моих слов:
— В этом здании общий технический этаж. В смысле — подвал. Я думаю, только так и можно попасть из одного крыла в другое.
— Не понимаю, о чем ты, — удивился я.
— Раньше здесь были Салоны Хорошего Настроения, — продолжал он. — Со стороны площади — для женщин, с этой стороны — для мужчин. Еще тогда внутри все перегородили, чтобы с женской половины на мужскую не бегали, а сейчас, я слышал, антиквары заперлись тут, как в крепости. У них же не только магазин. Галерея, реставрационные мастерские, багетная, даже запасники есть…
Похоже, молодой человек умел читать мысли. Мои — точно умел. Или он не мыслей, а книг моих начитался?
— Дядя Ваня, можно мне с вами? — отчаянным рывком завершил он речь.
Герой…
— Откуда ты столько знаешь? — спросил я.
— Про что? — не понял он. — Про Салоны? Так ведь здесь Вузи когда-то работала. Можно я останусь?
Не вижу, сказал я себе, почему бы двум благородным рыцарям не повеселиться вместе. Побряцать железом, выжечь огнем десяток-другой крыс… Не вижу и не вижу, старый слепой дурак. Он же еще мальчишка… Я притянул его к себе и прошипел, состроив зверскую рожу:
— Не боишься стать плохим?
— Я весь вечер смотрел новости, — серьезно ответил он. — Мне не нравятся такие новости.
Я его отпустил. Мальчишка был прав: сегодняшние новости касались его больше, чем меня, потому что это был его город и его мир. И был он, безусловно, прав в том, что в антикварные «пещеры» так просто не попадешь. Фирма, конечно, надежно укреплена, пусть она и организована в городе, где преступники всецело заняты своим здоровьем. Ну что ж, попробуем зайти с «черного» хода.
— Постой пока тут, — приказал я ему. — Если что, беги и зови полицию.
Дверь оказалась не заперта — в полном соответствии с местными традициями. Похоже, хранители Единого Сна не очень-то опасались незваных гостей, однако я все-таки нажал на кнопку сигнала. Подсолнечник над входом призывно вспыхнул, где-то внутри пропели начальные такты «Марша энтузиастов», а потом из-за двери показалась знакомая лысина.
— Ничего, что поздно? — вежливо начал я. — Вижу, у вас свет горит…
Владислав Кимович Шершень замахал на меня пухлой ручкой:
— Ну что вы, что вы! Какие церемонии?
Он был в домашнем халате с драконами. Человека будто бы только что вытащили из постели.
— Мы тут, понимаете ли, прогуливаемся, — сказал я, изображая легкомысленность и праздность.
— Понимаю, все понимаю, — улыбнулся бывший планетолог, заглянув мне за спину. Он увидел стоящего поодаль Лэна и прошептал. — Какой красивый мальчик. Просто чудо. Ваш друг?
Что он там внутри себя понимал, с удовольствием разглядывая моего спутника, меня совершенно не касалось. Я тихонько, в тон ему ответил:
— Мне рекомендовали сюда обратиться, если возникнут проблемы.
— Конечно, конечно, — сказал Шершень, отступая внутрь. — Милости просим.
Приветливая улыбка гуляла на его губах, как мираж на жарком асфальте. От его радушия хотелось куда-нибудь спрятаться. Он мало изменился с тех пор, как был выпнут под зад из Пространства, даже удивительным образом посвежел, окреп, подтянулся. Старость явно пошла ему на пользу. Мы прошли мимо комнаты с разобранным диваном («Простите», — сказал Шершень, отчетливо хихикнув) и оказались в кабинете. Хозяин повернулся, указывая на кресло.
— Присаживайтесь.
Похоже, он был в офисе один, что сильно облегчало дело.
— Вы меня не помните, Владислав Кимович? — спросил я.
— Как же мне вас не помнить, Ваня, — сказал Шершень. — Благодаря вашей книге я сюда приехал. Почитал, почитал, да и понял вдруг, что хоть где-то люди живут по-человечески. Правда, вы-то, наверное, хотели доказать своей книгой обратное…
Еще один благодарный читатель, удивился я. Использовать бы теперь это с толком.
— …Вот и ваш Юрковский думал, что ломает мне жизнь, Владимир ваш Грозный. Зеус ваш. Но, как видите… — Он развел руки. — Где я, а где Юрковский? Царство ему небесное… — Он улыбнулся так сладко, что впору было принимать инсулин. — Я очень польщен вашим визитом. Слышал о вас в новостях, однако свидеться не надеялся. Итак, чем могу?
— Видите ли, я новичок, — признался я. — Не знаю, как вам объяснить…
Хозяин запахнул потуже халат и сказал:
— Да вы не бойтесь, у нас все законно. Я добился определенных льгот от Национального банка. Вам напрокат или поменять?
— Что?
Он погрозил мне пальцем.
— Вам и вашему замечательному мальчику нужно много, это же так понятно. Чего тут стесняться? Здесь мы, конечно, деньги не храним, но я сейчас же позвоню в круглосуточную кассу… У вас с гостевой картой все в порядке?
— С гостевой картой у меня порядок, — подтвердил я. — Только я, признаться, пока не решил…
— Экие мы нерешительные стали, братья космолетчики. — Он хохотнул. — Не знаете, менять вам валюту или брать деньги напрокат, я угадал? Туристы обычно меняют, особенно русские, потому что это выгоднее, но вам, как старому знакомому, я советую не жадничать. Вы же не тратить их хотите, верно? Ради чего, как говорится, сыр-бор. Местные жители эту тонкость прекрасно понимают, поэтому они никогда не связываются с сомнительным обменом. Только напрокат. Вот хрусташи, например, целыми мешками уносят от нас эти чертовы бумажки — и ничего, все у них получается.
— А что, может не получиться?
Владислав Кимович опустил взгляд. Улыбка его стала жалкой, ненастоящей.
— Парадокс в том, Ваня… Деньги здесь никто не любит. Это ведь грязь, рассадник алчности. Любишь деньги — значит, любишь все, что с ними связано. При таком образе мыслей никаких снов, разумеется, не увидишь. Вы догадались, наверное, что я говорю о себе.
— Вот как? — медленно сказал я. — Не предполагал.
Улыбка его отвердела, закаменела.
— Я не из стыдливых, — сказал он. — Вы должны помнить это по Дионе. Да, я помогаю людям, хотя сам не способен воспользоваться чудом. Пока неспособен. Но какой кретин, простите за резкость, придумал сделать биокорректор именно из денег?! Да еще с такими ограничителями… Поистине дьявольская насмешка! Итак, что мы решаем?
Бывший планетолог присел на письменный стол и замолчал. Ноги его не доставали до пола. Маленький червячок, прогрызший себе в этом здании уютную дырку. Ссужает деньгами всех желающих, в том числе — соседей. Так что пачка денег, лежавшая в кармане похитителя, ровным счетом ничего не значила.
— Я вас хорошо помню, Владислав Кимович, — сказал я. — Потому и пришел, если честно. А то все кругом сплошь стыдливые, черт их побери, никто ничего объяснить не может.
Шершень слушал, благожелательно кивая.
— А тот мальчик на улице? — спросил он.
— Это коридорный из моей гостиницы.
— Да, правда, нехорошо перед коридорным идиотом выглядеть.
По-моему, он хотел мне подмигнуть, но сдержался. Впрочем, интерес бывшего астронома к красивым мальчикам меня даже не забавлял. Какие только привычки не привозятся из затерянных в космосе обсерваторий, обычное дело.
— Нет, проблема не в нем, — сказал я. — Просто мне как-то… в общем, не верится мне. Как я могу менять деньги, если до сих пор сомневаюсь?
— Хочу сразу успокоить, — удовлетворенно покивал он, — сомнения вовсе не являются помехой для процесса омоложения, скорее наоборот. Они, как ни странно, помогают настроить сознание должным образом. Вы обратили внимание, сколько здесь людей, которые молодо выглядят?
— Да уж, — согласился я. — Особенно женщин.
— И вас это не убеждает?
— В чем?
— Да боже мой! Ваня! В том, конечно, что омоложение — это реальность. И совсем не обязательно класть деньги под подушку, все мы понимаем, как это… м-м… неуклюже выглядит. Можно оставить их на подносе, а поднос пусть себе лежит на тумбочке в изголовье. Некоторые любят, чтобы было красиво: делают специальные шапочки, склеивают веночки или ожерелья, развешивают денежные гирлянды, некоторые вносят игровой элемент… Главное, Ваня, что эффект сохраняется и после пробуждения, то есть человек не стареет не только во сне, но и долгое время потом. Что мешает вам просто взять и попробовать?
— В ванну с «Девоном» нужно залезать? — уточнил я. Короткие спазмы смеха потрясли моего собеседника.
— Смешно, — согласился он. — Нет, если серьезно, то некоторые предварительные действия все-таки желательны. Например, можно почитать перед сном что-нибудь возвышающее, значительное. Кому-то поможет настроиться Библия или Коран, кому-то — Манифест коммунистической партии. Говорят, даже «Майн кампф» кое-кем используется. Редукцио ад абсурдум. Ну, да вам самому виднее, чем замедлить свои обменные процессы.
— А как узнать, получилось или нет? Чего ожидать?
— Вы сразу поймете, когда проснетесь. Будет очень весело, этакая шальная детская радость безо всякой причины. Если же вы ощутите подавленность, разочарование… что ж, значит, пока не готовы. Кстати, утреннее разочарование может быть довольно болезненным. Раз за разом — пустота, пустота, пустота. (Опять он заговорил о себе.) Надеюсь, вам не придется это испытать… Впрочем, через боль и приходит в конце концов желание измениться, — решительно подытожил он.
— Это вы-то не изменились?! — честно изумился я. — Да вас не узнать. Как будто не с вами разговариваю.
— Спасибо, — с чувством произнес Шершень. — Они думают, это так просто — лег и спи. Мыслить надо по-другому, хоть какой-то свет вот здесь иметь! — Он постучал себя по лбу. — Свет, а не мрак. Очень тонкий момент, очень небезупречный этически.
Владислав Кимович улыбнулся, легко став прежним. Было совершенно ясно, что этот человек никак не причастен к событиям минувшего дня, и тогда я попросил разрешения позвать моего друга с улицы. Пусть, дескать, и молодежь немножко мудрости на ус намотает. Хозяин оживился. Я кликнул Лэна в форточку. Пока Лэн шел, я задал председателю партии Единого Сна последний вопрос:
— Как от вас попасть в соседний корпус?
Улыбка исчезла.
— У вас будут неприятности, — сипло сказал он.
— У меня давно неприятности, — успокоил я его. — Давайте, показывайте секретные ходы.
— Какие ходы?! — испугался он. — Что за бред?
— А через подвал?
— Что вам нужно, Жилин?
Тут и Лэн появился. Шершень посмотрел на нового гостя бешеными глазами и сказал, стараясь сохранить достойный вид:
— Проход в подвале перекрыт.
— В том корпусе есть внутренний дворик?
— Да, — ответил Лэн. — С бассейном и гаражами.
— Сквозь какую щелочку бы в него заглянуть?
— Ни сквозь какую! — тоненько закричал Владислав Кимович. — У нас — только эта лестница, все окна — на улицу! Что вы хотите от меня?
Я вздохнул.
— Хочу ключи.
— В верхнем ящике стола, — сказал он, дыша с трудом. Там были две большущие связки. Металлические ключи! Поистине, старомодность этого человека не знала границ.
— Пойду осмотрюсь, — известил я Лэна. — Посторожи здесь, если не трудно. Главное, не поддавайся на уговоры. Этот человек очень опасен, когда улыбается и говорит приятным голосом.
Упомянутая лестница нашлась легко. Штаб-квартира партии Единого Сна занимала все три этажа: второй состоял из зала для заседаний и мини-типографии, на третьем размещались партийная библиотека и партийный спортзал, но ни по одному из этих путей в самом деле нельзя было попасть в глубь здания. Солидные, поставленные на века перегородки возбуждали агрессивное любопытство. Это чувство трудно поддавалось контролю. Хотелось патетически воскликнуть вслед за персонажем-идиотом из какой-нибудь идиотской комедии: «Кто так строит?!» Хотелось взять в руки пневматическую базуку… Лестница вознесла меня на самый верх — к армированной двери, закрытой на три замка. Для человека, вооруженного ключами и дерзкой решимостью, это не препятствие. Расправившись с дверью, я попал на чердак, дополз до угловой башенки и вылез через окошко на черепичную крышу. Скат был пологим. Я снял обувь и двинулся дальше, добрался по коньку крыши до основного корпуса, спустился к краю и заглянул за низкое ограждение, исполненное в виде затейливой чугунной решетки. Внизу действительно был дворик. Мелкая сетка, натянутая под самой крышей, прямо под водостоком, защищала внутреннее пространство от вертолетов, птиц и босоногих верхолазов вроде меня. Сетка зловеще поблескивала, отражая полную луну над площадью. Никаких надежд.
Тогда я спустился в подвал (он же технический этаж), подпер массивную дверь каким-то баллоном и быстро разобрался со светом. По стенам тянулись неопрятного вида трубы с растрепанным утеплителем, а в нише размещался здоровенный стальной бак, оборудованный датчиками, клапанами, вытяжкой, вентилями красного и синего цветов. Это была котельная, причем очень древняя. Наверное, такая же древняя, как и сам дом. Я поискал взглядом контейнеры с углем, поискал совковую лопату… нет, топка здесь питалась газом, значит, оборудование было все-таки не слишком старым, всего лишь из прошлого века, вовсе не из прошлого тысячелетия. Дом был с нижней разводкой, а котельная, надо полагать, обслуживала все здание целиком, централизованно. Подвал упирался в тупик — проход был замурован кирпичом.
Запустить котел в доисторической котельной — не сложнее, чем фотореактор планетолета, так что работа мне предстояла штатная. Для начала я нашел входной вентиль и наполнил бак водой. Потом продул клапаны, спустив воздух. Наконец, выбрал из шеренги баллонов, стоявших в начале подвала, тот, в котором сохранилось некоторое количество газа, и запалил пропановую топку. Котел разогревался хорошо, живенько. Чтобы согреть здание в холодную зиму, хватило бы трех атмосфер, но я нагнал давление до семи и открыл красный вентиль, пустив горячую воду в трубы. Натужный мучительный стон пронизал дом снизу доверху, в каменном брюхе болезненно заурчало; ничем хорошим это кончиться не могло.
Пришло время вернуться в главный партийный кабинет.
— …Зрелые, пожившие люди, милый вы мой, знают две вещи, — мягко говорил Шершень. — Во-первых, каждый человек — это центр Вселенной, во-вторых, каждый человек — это кусок дерьма. И когда мы вспоминаем о так называемой чести, на самом деле мы имеем в виду, насколько глубоко человек может спрятать внутри себя и первое, и второе…
Лэн восседал в председательском кресле, напряженно скрестив на груди руки, и переливался всеми оттенками красного. Очевидно, ему предложили лучшее в кабинете место, и он счел невежливым отказаться. Шершень сидел перед ним на столе, соблазнительно положив ногу на ногу. Увидев меня, Лэн вскочил.
— Вижу, наш друг ведет себя благоразумно, — кивнул я ему. — Ты только имей в виду, что эти мысли насчет дерьма и чести нахально позаимствованы у одного писателя прошлого века, который пытался выглядеть циником, хоть и был законченным романтиком.
Шершень не обернулся, изображая спиной высшую степень презрения.
— Эй, Владислав Кимович, — позвал я его. — Сейчас к нам придут. Но, может быть, сначала позвонят по телефону. Если они позвонят, вы ответите на звонок. Они спросят, какого черта здесь происходит, и вы сообщите, что сюда ворвалась группа сумасшедших бодрецов, которые закрылись в котельной и не желают уходить.
— Послушайте, Жилин, — сказал Шершень. — Вы очень непорядочный человек, Жилин.
— Послушайте, Шершень, — сказал я ему. — Все присутствующие вас отлично понимают, Шершень. Когда будете говорить по телефону, не нужно держать себя в руках и скрывать переполняющие вас чувства. Думаю, получится убедительно. Вы извинитесь и заверите, что немедленно, сию же секунду вызываете полицию.
— Я в самом деле вызову полицию, — пообещал Шершень сварливо. — Когда и если мне будет позволено… — Он непроизвольно взглянул на макушку Лэна.
— Полицию вызову я сам, — объявил я. — А вы, Владислав Кимович, не забудьте упомянуть о ней в телефонном разговоре. Уж постарайтесь. И когда-нибудь в вашу честь назовут планету. Планета Владислава, нравится? Надеюсь, этой чести вы удостоитесь не посмертно.
Круглое лицо председателя превратилось в сильно вытянутый овал. Временами у меня получается придавать словам вескость. В такие моменты люди думают, что я способен на все. Это не так, но репутацию не выбирают.
— Ты часто бывал в Салонах Хорошего Настроения? — спросил я Лэна.
— Вас проводить? — тут же откликнулся он с явным облегчением.
— Нет. Скажи мне лучше, где у них может быть пульт управления охранной системой? Подумай, не торопись.
— Там же, где запасники, — сказал он.
— Это где?
— В подвале.
Неожиданно вокруг запели птички. Это ожил телефон, сигнализируя, что кто-то хочет пообщаться. Как я и предполагал, хозяева «Семи пещер» решили выйти на контакт, прежде чем мчаться самолично, и Шершень не подкачал, исполнил свою партию без капризов. Вероятно, астронома вдохновила моя рука, которую я возложил на его дрябловатую шею. Громкая связь по моему повелению был оставлена, так что мы с Лэном незримо присутствовали в разговоре. Выяснилось, что в антикварной фирме рванула труба на третьем этаже, а также невесть каким образом сохранившийся радиатор на втором. Я был абсолютно прав, когда прописал ни в чем не повинному дому этакую горячую клизму. Система, не продувавшаяся несколько десятков лет и забитая воздушными пробками, не могла не рвануть. («А у нас? — искренне забеспокоился Шершень. — У нас нигде не протекло?») Прав я оказался и в том, что слово «полиция» наилучшим образом подстегнуло желание соседей вмешаться. «Зачем нам копы, Владислав? — спросил голос, отчетливо забеспокоившись. — Образумим бодрецов сами, охрана уже бежит к вам…» Мне бежать было необязательно, достаточно было занять позицию и подождать. Охранники ворвались без звонка, азартно и зло. Они думали, ночные хулиганы — это игрушки для настоящих мужчин. Не завидую людям, которым приходится так разочаровываться. Встретив гостей, я аккуратно положил их на паркетный пол — прямо тут же, в коридорчике. Шершень выглянул и вскрикнул. Лэн по обыкновению молчал, лицо его было непроницаемо. Что творилось в юной душе атлета, я не знал, но очень бы не хотелось, чтобы ему понравился подобный стиль поведения. Надеюсь, героический образ дяди Вани несколько поблек после увиденного. Откровенно говоря, мне было стыдно перед парнем… Я связал охранников при помощи их же галстуков, потом быстро обыскал бесчувственные тела. Разрядники в кобурах и магнитные ключи. И то, и другое могло пригодиться. Я сказал Лэну, пряча чужое добро в своих карманах: придется тебе, дружок, теперь приглядывать еще и за этими молодцами. Радиофоны, висевшие у них на поясе, я снял и стукнул друг о друга — как пасхальные яйца. Лопнули оба. Но прежде чем уйти, я наведался в спальню Шершня. Ночного колпака там не нашлось, зато была наволочка — ее я и надел на голову. За неимением лучшего сойдет. Чем глупее вид, тем меньше глупых вопросов. Взял также кофейник с тумбочки, вылив содержимое в большой горшок с неким забавным растением. Плоды у растения были кругленькие, толстенькие, ровненькие — как перламутровые монетки. Лунарий — таково научное название, а в народе — просто «денежка». Чертовски символично. Я вышел в ночь. Я побрел, качаясь, по ночной улице — вдоль стены дома; я завопил во все горло: «Сном забыться! Это ли не цель желанная? Уснуть и видеть сны! И знать, что этим обрываешь цепь…» Охранник, стоявший у приоткрытых ворот, смотрел на меня с нехорошей ухмылкой. Наверно, готовился поучить бодреца, отставшего от своей стаи, хорошим манерам. Я заколотил в камень кофейником, продолжая надсаживать голос: «Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят?» Охранник ждал, предвкушая. Не знаю, понравился ли ему импульс, пущенный из разрядника. Напишет об этом потом в своих мемуарах. Я втащил тело в ворота, забрав себе фонарик, наручники и магнитный ключ. Дворик был пуст, но это ничего не значило: меня наверняка уже увидели в пультовой и теперь все зависело от того, сколько у них тут людей. Впрочем, людей ли? В древних развалинах прятались обезьяны, хитрые и подлые твари, предпочитающие стрелять жертвам в спину. Что они могли сделать забредшему на их территорию леопарду? Я вдруг ощутил себя огромным неукротимым котом; я обожал котов, как и Строгов. Причем здесь Строгов? Мастер так и не узнал, что преданный ему зверь целый день выписывал круги вокруг его дома… Первый этаж был темен и пуст, обошлось без сюрпризов. Я попал в магазин через служебный вход (главный был с площади), и сразу — в букинистический зал. Ужасно хотелось здесь задержаться, но я двинулся дальше, помогая себе фонариком, а дальше была живопись, графика, скульптура, а потом был зал с мебелью, люстрами, подсвечниками, было невероятное количество всевозможных часов: напольных, настенных, настольных, каминных, каретных, карманных, наручных, они вразнобой тикали и скрипели, и вдруг по очереди забили четверть часа, заглушив этим звуком все, в том числе мои шаги, дав мне отличную возможность совершить последний рывок к свету… Свет горел на лестнице. Путь вперед упирался в закрытую наглухо дверь ювелирного зала, о чем сообщала строгого вида табличка. Вход этот, судя по всему, находился под спецохраной, независимой от местной службы. Ступеньки шли как вверх, так и вниз; и снизу, с технического этажа, спешили мне навстречу полуголые приматы в пятнистых, наспех надетых бронежилетах. Шерсть на их мускулистых лапах отливала металлом. Из-за боя часов они не слышали, как я подкрался, только успели заметить мои горящие в темноте глаза. Их было трое, они метнулись к стенам и присели, отработанно вскинув стволы, но я был уже рядом. Пятнистые обезьяны оказались неповоротливы, кто они против беспощадного, матерого хищника! Я стремительно скользнул сквозь застывшие секунды, оставив позади рефлекторно выгибающиеся тела, и бросил на пол полностью опустошенные разрядники. Лишь один из трех бойцов сумел выстрелить, ему больше всех и досталось. Вперед! Вернее, вниз — в подвал. Невзрачная, неприметная дверь в пультовую была, конечно, на запоре. Перебрав трофейные ключи, я нашел нужный: реле сработало, дверь отъехала. Внутри было еще одно существо — некто с перебинтованной головой и нашлепками биопластыря по всему лицу. «Jacuestate! — крикнуло оно по-испански и само же перевело: — Ложись!» Пистолет системы Комова был направлен мне в грудь. Я узнал этого убогого, ведь кто как не я покалечил его давеча бутылью с аракой. Горе-стрелок, бывший когда-то чернокожим красавцем, естественно, тоже узнал меня, то есть оружие в его руках вряд ли предназначалось для стрельбы, слишком уж ценной я был дичью. В таком случае предлагать мне лечь было ошибкой. Комната маленькая, а я большой, к тому же рефлексы у раненого не те, что у здорового. Я принялся послушно опускаться на пол, но время вновь замедлило свой ход, и через полсекунды лечь пришлось не мне. «Комов» тяжело брякнул о пластиковый плафон. Человек упал нехорошо, стукнувшись спиной об угол пульта, и настала пауза. Система охраны у них была стандартной. На экранах был виден, практически, каждый уголок здания. Пострадавшие сотрудники благополучно валялись там, где я их бросил — один во дворике, другие на лестнице, — не скоро они должны были выйти из шока, по себе знал. На втором этаже, в переходе между аукционным залом и художественной галереей, кто-то мужественно сражался с растекшейся по полу водой (место, где прорвало трубу, все было в пару). Какой же я варвар, подумал я с отвращением. Третий этаж занимали административные офисы… вот там полковник Ангуло и обнаружился. В комнате было темно, система давала изображение в инфракрасном свете. Дон Мигель ходил вокруг овального стола, раздраженно задевая стулья, и разговаривал с кем-то по телефону, а возле окна, выходящего на площадь Красной Звезды, прямо на полу лежал еще один человек… Так, подумал я, поняв вдруг, кто он, этот второй. Ну, вот и все. ВСЕ! А может я сказал это вслух? А может даже пропел, пользуясь отсутствием публики? Ощущение пойманной за хвост удачи наполнило кулаки воздушной легкостью. Помещение именовалось «комнатой Комиссии» — лети и клюй зернышки раскрытых тайн… Я вскрыл распределительный щит, вынул все предохранители (система умерла), после чего поднял упавший пистолет и расстрелял гнезда предохранителей. Затем, как водится, раздавил радиофон, лишая раненого последних надежд связаться со своим боссом. «Комов» — страшная штука, мощная (как и мой каблук): от щита мало что осталось. «Добей меня.» — очнулся пленник, когда я приковывал его наручниками к стеллажу. «Поживи, chiquillo[4], — попросил я его, — может, еще повзрослеешь…» Веселая история, думал я, взлетая вверх по лестнице. Впервые за мою насыщенную приключениями жизнь враждебные силы не имели права стрелять в меня на поражение. Работать при таком раскладе было как-то непривычно. Если оглянуться назад и трезво оценить сегодняшний день, то станет ясно, что соперники, каждый из которых был отнюдь не плох, с легкостью повергались писателем Жилиным по одной простой причине — руки их были скованы приказом. Вот и получается, что лучший способ выполнить тайную миссию, которой у меня нет, — это идти напролом, ни от кого не прячась… Я обнаружил перед глазами рельефную табличку «комната Комиссии», выключил фонарь и тихонько потянул дверь на себя. Автоматически зажегся свет.
— Это вы? — невольно вырвалось у дона Мигеля. Он был потрясен. Он выдал себя с головой. У него было широкое скуластое лицо, широкий приплюснутый нос и характерный цвет кожи. Мексиканец, каких обычно рисуют на карикатурах. Впрочем, почему бы ему не быть мексиканцем? Ау, мистер Джек Лондон, не ваш ли это герой?
— Это я. А это «комов». — Я направлял пистолет ему в голову. — Нет ни одной причины, которая помешала бы мне спустить курок. (Он замер на полусогнутых, хищно оскалившись и взявшись рукой за брючный ремень). Поэтому сбросьте-ка вы на пол то, что у вас на брюхе спрятано.
Бандаж был расстегнут, проводки от устройства наведения выдраны, и разрядник упал к ногам полковника. Я поднял брови. Разрядник был не простым, а квантовым.
— Теперь хорошо бы пристегнуться к этой штуке. — Я показал на стойку, на которой размещался комплекс аналитических весов, и перебросил мексиканскому брату наручники. — Только не к верхней, а к нижней. Ключики — мне обратно.
Стойка была жестко прикреплена к полу — надежное место для долгой стоянки. Гангстер, присев на корточки, принялся исполнять. Я обошел овальный стол и склонился над пленником. Легендарный Странник был жив, определенно жив, но выглядел он ужасно. Нет, ужасно — не то слово. Я содрогнулся, хотя мне всякого довелось повидать. А лежал он прямо на пластиковом полу: ковер в этом месте был откинут, очевидно, чтобы не запачкался. Этот брезгливо откинутый ковер впечатлял более всего.
— Боюсь, я не смогу идти, — произнес Странник остатками губ.
Почему его держали здесь, а не где-нибудь в бункере? Я коротко осмотрелся. Под панелями обшивки, похоже, был проложен экранирующий слой, и окна были непростые — как в залах судебных заседаний. Впрочем, все правильно: комнате Комиссии полагалось быть защищенной от всех видов излучения.
— Вы что, пытали этого человека? — приветливо поинтересовался я у прикованного к стойке животного. Полковник Ангуло хрипло хохотнул.
— Человека? Психотропные средства на него не действуют, психоволновая техника тоже. Боли он не чувствует, на вопросы не отвечает. И сдохнуть не может. Человека!
— Все это вы, конечно, выяснили опытным путем, — сказал я, радуясь своей сообразительности.
— Перестаньте, Ваня, какие там у них пытки, — прошептал пленник. — Вертолет горел… падение в бухту… это да. Вы, главное, не волнуйтесь, со мной все в порядке.
Он был прав. Напряжение во мне уступало место безудержной ярости, что было совершенно ненужно для дела. Я приблизился к стоящему на четвереньках дону Мигелю.
— С кем вы торговались в оранжерее?
Его смуглая физиономия стала сизой. Он промолчал, и тогда я спросил о другом:
— За что вы убили Кони Вардас, господа?
Вот с чего следовало начинать процедуру допроса! Вот что было сегодня главным, вот что заставило меня совершить безрассудный набег на антикварную фирму… Можно было бы спросить о том, откуда полковник Ангуло с его антикварами узнали, что некто Extrano, он же Странник, появится утром на вокзальной площади, откуда они узнали о планах тех бесцеремонных ребят, которые прятались под литерой «L»? Можно было выяснить, что за тайную войну развернул крупный офицер из службы антиволнового контроля с мифическими «Light Forces» — с использованием Z-локатора на побережье и передвижной «шаровой молнии»? Но мое ли это было дело?.. Благородный дон Мигель прикрыл глаза и шумно вдохнул. Отвечать он не торопился, а ведь время стремительно убегало, игриво показывая мне язык, и тогда я достал трофейный контейнер, отобранный у темнокожего стрелка. Приплюснутое лицо лже-мексиканца словно форму изменило, вытянувшись по оси ординат. Он внимательно наблюдал за моими действиями. Когда я открыл крышку и вытащил волновую «отвертку», он забился на привязи, как бесноватый пес, а когда я взвел пружину вакцинатора, он попросил изменившимся голосом:
— Не надо, я и так скажу…
Он сказал все, что мне было нужно. Спецсредства не понадобились. Профессиональных палачей, как известно, легко допрашивать: их трусость основана на хорошем знании последствий.
Потом я взял Странника на руки и понес к выходу, боясь не успеть. С такой ношей трудно оказывать сопротивление. Впрочем, он был ненормально легким — как тряпочная кукла.
— Вертолет, бухта… — ворчал я. — Достаточно было бы одного вакуум-арбалета. Почему ты жив, Юра? Ты стал бессмертным? Мальчик, готовый красиво умереть, становится бессмертным, какая ирония судьбы.
— Ну что вы, Ваня, — слабо улыбался он и придерживал грязные кровавые повязки на груди. — Я просто очень живучий. Вы даже представить себе не можете, какая это жизнеспособная система — наше тело. Оно не боится радиации, может подолгу обходиться без воздуха, не подвержено инфекциям. Да вы и сам все это хорошо знаете, только пока не вспомнили… — Он прикрыл глаза. — Вы ведь хотите, чтобы так и было? Значит, так и есть. Я, например, очень хочу.
Вероятно, человек бредил. С другой стороны — сгоревший вертолет, бухта, вакуум-арбалет… давнишняя трагедия с проектом «Сито»… трудно отмахнуться от таких фактов. Вот и думай, человек ли? Кого я вытаскиваю из грязного шпионского логова?
— Прежде чем что-то захотеть, представь, вдруг это исполнится, — примирительно сказал я. Юрий не откликнулся.
Возле ворот был припаркован автомобиль, на котором мы с Лэном приехали. Сам Лэн бежал ко мне от штаб-квартиры партии Единого Сна, а из автомобиля поспешно вылезала давешняя бабуля в брючках, так ловко обращавшаяся с миноискателем. Фрау Семенова. Опять случайная встреча?
— Что же вы транспорт далеко бросили, — сварливо сказала она. — Думаете, смогли бы его донести? — Она показала на раненого.
Тот приоткрыл на миг глаза:
— Здравствуй, Мария.
Мария? Я вздрогнул. Ей-богу, многовато собралось Марий на один отель. А старушка вдруг встала передо мной на колени… нет, увы, не мне предназначалось это проявление чувств: она поймала изломанную, безвольно висящую руку и коснулась ее губами.
— Ну что ты, что ты, — мучительно дернулся Юра.
— Владислав Кимович сбежал, — сообщил Лэн. — Пока я отключал в котельной горячую воду.
— Значит, сейчас здесь будет полиция, — объявил я. — Это хорошо. Спасибо, фрау Семенова, что подогнали машину.
Пожилая дама поднялась с колен и закричала:
— Да кладите же его!
Мы положили Странника на заднее сиденье. Ни единого стона от него я так и не дождался: неужели он и вправду не чувствовал боль? Хозяйка машины молча заняла место за панелью управления, а я, залезая, успел переброситься с Лэном парой слов.
— Что ты решил насчет Строгова? — спросил я. — Пойдешь со мной в гости?
— Спасибо, — ответил он. — В другой раз.
— Тогда прощай, дружок.
— А мы еще встретимся?
— Когда-нибудь я проедусь на поезде по твоему Новому Метро, — соврал я. — Готовься.
Торжественность момента была смазана. Мальчик с тоской смотрел нам вслед, он все понимал. Мы стартовали, как чемпионы авторалли, с визгом обогнули вертолетную площадку — и площадь Красной Звезды осталась в прошлом. Едем в больницу, распорядился я. Не надо в больницу, попросил пассажир, не открывая глаз. Если можно, к святому месту, с трудом закончил он просьбу, после чего надолго замолчал. Знаю, знаю, сказала старушка, туда и едем. Как выяснилось, я перестал быть главным, это радовало. Что ж, к святому месту, так к святому месту — нас, атеистов, этим не запугаешь. Тему для беседы выбирал также не я; впрочем, о чем можно и о чем нельзя говорить, было пока не вполне понятно. Поэтому я спросил напрямик: правда ли, что сокровище на астероиде откопал Пек Зенай? Она была в курсе, кто такой Пек Зенай. Она ответила ровным голосом: и первую, и вторую Буквы нашел не Пек, он только доставил находку на Землю. Тогда кто?.. Не сговариваясь, мы оглянулись. Пассажир на заднем сиденье спал, предоставив нам полную свободу сплетничать… Он? — заговорщически кивнул я. Вы гораздо лучше меня знаете этого человека, если так легко вычислили номер в отеле, поджала старушка губы. Я спросил, подумав: на каком из астероидов? Она усмехнулась: вам название? Элементы орбиты и регистрационный номер? Лететь туда собрались? Это мысль, обрадовался я. Плохая мысль, вздохнула она, потому что третьей Буквы, из-за которой весь сыр-бор, там нет. Ах, вот в чем дело, сказал я. Буква под номером три. Да, все дело в ней, согласилась дама, внимательно глядя на дорогу, не позволяя себе больше расслабиться ни на секунду… Как же вы все, такие предусмотрительные и осторожные, не боялись, что ваше сокровище будет захвачено?! — возмутился я. Очень боялись, сникла она. К счастью. Буквами, соединившимися в Слово, не так просто завладеть, их можно взять только вместе с автором…
— С кем? — спросил я.
— С автором, — повторила она. — С вами.
— Ух ты, — сказал я. — Со мной?
— А вас им не взять, милый мой, — уверенно сказала она.
— А что же ваш Странник? — напомнил я. — Он больше не «автор»?
Опять я непроизвольно оглянулся.
— Может быть, он исписался? — задумчиво предположила женщина. — С другой стороны — вы. Честно говоря, я до сих пор не понимаю, кто вы вообще такой, чтобы ЭТИМ владеть?
— «Честно говоря», — сказал я желчно. — Как-то не верится, что разговор стал вдруг честным… Послали человека на три буквы, да еще целым спектаклем это дело обставили.
Вместо ответа она пожала плечами. На меня так и не смотрела, все вперед, вперед. Мы пересекли проспект Ленина и поехали к парку Грез. Куда мы направлялись, было пока непонятно.
«Буквы, соединившиеся в Слово». Загадочно, но красиво. Разговор складывался, хотя из этой молодящейся бабули была такая же Семенова, как из пепельницы сахарница — в том смысле, что меня-то, в отличие от Оскара с его свитой, не могли обмануть ее напудренные щеки с ямочками и якобы небрежный русский говор. Однако пригвождать и разоблачать не было желания, да и необходимости тоже. Голосом светского льва я справился, взаправдашний ли у нее муж. Муж? Кое-что мы про вас выяснили, подмигнул я ей. О да, наставительно сказала она, при всем старании не найти более крепкого прикрытия, чем муж-начальник, особенно если брачные узы скреплены документально. И что же подвигло почтенного главу земельного Совета оказать агентуре такую услугу? Уж не личная ли просьба Эммы? Или фрау Семенова — не совсем агент? Она погрозила мне пухлым пальчиком. Мы уже подкатывали к главным воротам Университета. Быстро домчались, здесь было недалеко.
— Ах, вот куда мы ехали, — сказал я.
— Да, молодой человек, мы ехали туда.
Тогда я накрыл ее руку своей и задал настоящий вопрос, потому что пришло время:
— Долго ты будешь из меня дурака делать?
А потом я смачно, со вкусом смеялся. Она ждала. Ее рука была живой и теплой. Я сказал — с предельной честностью:
— Пока что я знаю одно, красавица. В своем натуральном виде, в том, в котором ты являлась мне на пляже или у здания Госсовета, ты нравилась мне гораздо больше. Худенькая и молоденькая, в самую точку. Жуть, как обидно наблюдать тебя в образе толстой старушенции, пусть и в брючках. Что за недоверие? О конечно, чудеса современной трансформации и все такое. Только зачем прелестной девушке себя искусственно старить, когда рядом такой деликатный мужчина?
Она улыбалась широко и агрессивно, как киноактриса с американского голопортрета. Четыре сантиметра между рядами зубов. Одним движением она поставила машину на стоянку, втиснувшись между фургоном и мотоциклом, а я тем временем закончил речь:
— Люблю сказки. Я от дяди Оскара ушел, я от папы Марии ушел. А дураком быть не люблю… Сознайся, колобок, это ведь ты стащила артефакт внеземного происхождения из подземного хранилища МУКСа? Некрасиво, прямо из-под носа у директора. Хоть «буквой» это назови, хоть «цифрой». Так что не пора ли тебе начать откликаться на свое природное имя, агент Рэй?
— Умный, — сказала наконец Рэй. — Ну, и как ты догадался?
На площади перед главными воротами было довольно много транспорта: автомобили, автобусы, мотоциклы, вертолеты, но особенно много было велосипедов. Несмотря на поздний (ранний?) час, жизнь в Университете, как видно, кипела. Народ не спал.
— И где ваш знаменитый холм?! — капризно воскликнул я. — Не вижу никакого холма.
Пока я вытаскивал из машины Юрия, Рэй не теряла времени: затемнив окна, она успела вернуть себе прежний облик, превратилась из пожилой толстушки в стройное и опасно юное создание. Была она теперь в шортиках, в кислотной маечке и теннисных туфельках. Царевна-лягушка. Сброшенную кожу она аккуратно разложила на заднем сиденье; я старался не смотреть, потому что зрелище было не из приятных. Словно труп мы оставляли — сморщенную, остывшую, высосанную человеческую оболочку, бывшую совсем недавно старушкой с седыми кудрями. Фильм ужасов. Уникальный был маскировочный комплект, если даже Оскар с его спецами не распознали обман и не бросились сдирать с ненавистной предательницы вторую кожу. Моей царевне-лягушке оставалось только подправить цвет глаз, навесить на себя бусы и браслеты, чтобы полимерные стыки в глаза не бросались, — и хоть в постель к Иванушке-дурачку, то бишь ко мне. Откуда такое техническое могущество у беглого агента? В общем, принцесса была не промах! С тех пор, как я увидел ее возле киоска с кристаллофонами, она не переставала меня удивлять. Это прелестное дитя все умело. Незаурядное актерское мастерство, умение изменять голос и прикус. Плюс ко всему — владение боевой суггестией… Я потрогал руку, которую вчера проткнули спицей; ранки, само собой, оставались на месте, однако больно мне так и не было. Не было мне больно, и все тут. Чему только их не учат в нынешних разведшколах!
Я снова взял Юрия на руки (иногда он разлеплял глаза, виновато посматривая на меня), и мы двинулись. Вход был рядом. Возле облицованной мрамором прямоугольной арки с колоннами дежурил молодой парень — в белой с золотом форменной рубашке, выдававшей в нем принадлежность к таможенному управлению. Был этот таможенник мне знаком: не кто иной как он обыскивал вчерашним утром мой багаж в поисках контрабандной водки.
— Граница на замке! — приветствовал я его. — Вы и здесь служите?
— Я здесь учусь, — вежливо откликнулся он. — На заочном.
— Досматривать нас будете? — кротко спросил я. — Если да, начинайте с нее. — Я показал на Рэй. В маечке она хорошо смотрелась.
Мы прошли сквозь турникеты. От шуток, если честно, меня уже тошнило, организм требовал хоть чего-то серьезного, и тогда я осведомился:
— Ты веришь, что есть на свете машинка, которая изменяет реальность уже не в твоей голове, а вокруг тебя?
— Суперслег, — она усмехнулась. — Единственная и настоящая игрушка Оскара Пеблбриджа. Он так печется о чистоте человеческой истории, что хочешь не хочешь, а задумаешься, зачем ему эта штука нужна на самом деле.
— Я спросил не про Пеблбриджа, — терпеливо сказал я.
— Да, бесспорно. Мне тоже не нравится словечко «суперслег», — энергично откликнулась Рэй. — Совершенная бессмыслица. Вроде «супермена». Возьмем, к примеру, Жилина, который вот уже сутки ведет себя аккурат как супермен и все-то у него при этом получается. Хотя отродясь он таким не был! И вообще, сам он всей душой ненавидит таких жлобов и хамов, мы-то с вами это хорошо знаем. Где здесь смысл?
Смысла не было. Меня на миг повело — как давеча на пляже. Потому что я давно уже думал о том, о чем сейчас услышал, потому что дурацкое чувство сделанности, фальшивой яркости прошедших дня и ночи становилось с каждым часом все болезненнее.
— Мне кажется, Ваня, кто-то сильно захотел увидеть тебя таким, — ответила ведьмочка на свой же вопрос. — А тебе как кажется?
— Так вот для чего понадобилась комедия на пляже! — сообразил я. — Для того, чтобы сейчас сказать мне все это. Вы пытаетесь свести меня с ума, сеньорита?
— Почему комедия? Рука болит, нет? Так что думай.
— Думать — тяжелая работа, — пожаловался я. — Мы ведь не про руку говорим. Про слег. Думать и говорить про слег — каторжный труд. В «Кругах рая» я уже высказался по этому поводу до конца, и вдруг появляешься ты, чтобы посеять в моей голове новый сорняк. На пляже, во время нашего бредового разговора, разве не снимали вы с меня рефлексограмму? Для чего возник жуткий образ ванны, из которой я так и не смог вылезти? Очевидно, чтобы проконтролировать в этот момент мои нейрохимические процессы. Я понимаю, вам нужно было знать, полностью ли отпустил меня слег. Но все-таки интересно: какой датчик ты ввела мне при помощи спицы?
— Блеск! — восхитилась она. — Абсурд пожирает своих детей.
— Тест, надеюсь, пройден?
— Тест? Удобная версия. У тебя хорошая психологическая защита, Ваня.
— Если на взморье был не тест, то что? — разозлился я. Рэй, прищурившись, посмотрела на небо.
— Абсурд — это форма доказательства, — неторопливо произнесла она. — Это способ заставить человека взглянуть на все иначе, в том числе на что-нибудь действительно важное. А что для Жилина в этом мире важнее слега? Жилин столько слов, пардон, затупил, чтобы счистить с мира коросту благодушия. Если вдруг выяснится, что причину наших бед он перепутал со следствием, как ему, горемыке, перестроиться?
— Абсурд крепчал, — объявил я. — Глупо врете. Крутитесь, как змея на сковородке, позор.
Она невозмутимо продолжила:
— Согласно придуманной тобой легенде, слег возник из ничего, из ошибки, из неправильного сочетания обыденных вещей, и в этом его главная опасность. Но ведь не так оно было! Даже если изобретение слега обошлось без участия конкретного изобретателя, все равно обязательно был кто-то, кто сначала захотел, чтобы эта штука появилась. Сначала было чье-то желание, а только потом началось движение, представляющее собой цепочку случайных событий. По такому закону все в мире и движется, к твоему сведению. Кем нужно быть, чтобы любое твое желание исполнялось?
— Супругой товарища председателя? — подсказал я.
— Творцом, — возразила она. — Вот о чем… о ком мы говорим.
Смеяться? Плакать? Я вовсе не был уверен, что мне врут; абсурд крепчал — единственно в этом я был уверен.
— Тест пройден, — внезапно подал голос калека, шевельнувшись в моих руках. Ему, похоже, стало лучше. — Маша вот удивлялась, почему Слово выбрало вас, Ваня… Вы простите, я слышал краем уха разговор в машине… Тест вы прошли не вчера, а семь лет назад. Причина вашего участия в этой истории — тот мир, который сотворило ваше подсознание под воздействием слега. Видите ли… Вы оказались единственным из всех, кто попробовал слег и не попросил у него счастья для себя одного, за счет других. Вы оказались единственным…
С каждым моим шагом Страннику становилось все легче.
— Счастье для всех… — произнес он с непонятной интонацией. — Это ведь была мечта Пека — счастье для всех. И моя. Было время, когда я точно знал, что хорошо и что плохо, еще до того, как меня забросило на тот астероид. Однако, видите ли, когда получаешь возможность коснуться даже самого крохотного рычажка божественной силы, почему-то пропадает уверенность. Пек придумал сделать сон реальностью, и возник слег, и эта сила смяла его же самого. Потому что надо было иначе — реальность сделать сном. Суперслег. Слово… Не хватает лишь одной Буквы, Ваня, всего одной. Не сердитесь, что пришлось вызвать вас сюда.
— Я не сержусь, Юра, — честно признался я. — Просто не понимаю, как реагировать на такие…гм… трактовки. Отчего бы, например, было не «вызвать» меня тогда же, семь лет назад?
Человек в моих руках бурно потел. Присмиревшая Рэй с любовью промокнула ему лоб платочком; она помалкивала, внимая речам оживающего мессии.
— Желания Ивана Жилина должны были вызреть, оформиться, — сказал тот. — Иван Жилин должен был стать писателем. Я подозреваю, что вы даже самому себе не признаетесь, как много писатель Жилин взял из того мира, который подарил ему слег. Ваши необыкновенные, излучающие счастье книги — и есть результат теста.
— Нагромождение несуразностей, — заявил я. — Предположим, Юра, ты здоров. Я имею в виду, психически. И к тому же не… гм… скажем, не фантазируешь…
— Фантазируешь! — с восторгом отозвался он. — Надо же, в самую суть попал! — Бедняга попытался засмеяться. Лучше бы он этого не делал. Мороз пробрал по коже. Или ночь была прохладной? — Вам не тяжело? — вдруг спохватился он.
— Нести тебя или слушать, что ты несешь? — уточнил я.
— Я понимаю, о чем вы думаете, Ваня, — сказал он. — Зачем было все усложнять, к чему все эти приключения, так? Заклятие, наложенное на вашу память, одно похищение, второе, третье… Конспирация, доходящая до абсурда… Наши противники вполне реальны, и они тоже тщатся сконструировать свои сюжеты, но я скажу о другом. Не у всех же такая фантазия, Ваня, как у вас! Конечно, вы бы обставили сюжет гораздо интереснее, чем я. У нас, к сожалению, таланта поменьше.
— Вот тебе, кстати, и холм, добро пожаловать, — сказала Рэй.
— Это — холм? — спросил я, потрясенный.
Мы пришли. Обогнув административный корпус, мы оказались на просторной освещенной прожекторами лужайке, к которой стекались аллеи и дорожки парка. Прямо за деревьями прятался кампус (темные ряды двухэтажных домиков), по левую руку располагались учебные и лабораторные корпуса, доходившие до самого Парка Грез с его знаменитой телебашней, а справа, метрах в двухстах, громоздились руины древнего замка, поставленного еще Ульрихом де Каза. Холм был в центре. Во всяком случае, ничего иного, похожего на холм, поблизости не наблюдалось. Словно кучу мусора сволокли на лужайку — огромную кучу мусора высотой в половину мачты, на которой каждое утро поднимали флаг Университета, — а потом залили ее стеклом, чтобы была она праздничной и гигиеничной, чтобы сверкала и радовала глаз паломника. Полуночники лазили по склонам этой пирамиды, сидели у подножия, лежали на траве, бесцельно слонялись вокруг; полуночников было много.
— Поставьте меня, пожалуйста, — с неловкостью попросил Юрий. — Спасибо. Вы очень сильный человек.
— Красивый, — добавила Рэй, кряхтя от натуги. — Умный. Эталон.
Она подхватила своего Странника, положив его руку себе на плечи; тот обвис, хватая свободной рукой воздух, однако на ногах устоял. Они заковыляли к пирамиде, не обращая внимания ни на меня, ни на окружающих.
— Погуляй тут, если хочешь, — оглянулась Рэй. — Серьезно.
Время вопросов закончилось, и я медленно побрел вокруг странного сооружения, чтобы рассмотреть его в подробностях. Стеклянная масса уходила вверх ступеньками-ярусами, а внутри, в прозрачных толщах, были похоронены вещи. Ковры, свернутые в трубку. Подушечки с рюшами и воланами. Репродукции в массивных багетах, модные когда-то семирожковые люстры, и еще хрусталь, фоноры, тоноры, стереовизоры, и еще теннисные ракетки, галстуки, трости… Специфический подбор вещей. Надо полагать, это и вправду был мусор. Хлам особого рода, который загромождает не столько дом, сколько сердце.
Вершину холма венчал большой фикус в кадке, отбрасывая четыре тени сразу.
Я смотрел на этот фикус и умилялся. Война закончилась, думал я, и люди пришли сюда, пришли ожесточенные и потерянные, чтобы выбросить прошлую жизнь на свалку, люди становились в очередь, тянулись нескончаемой вереницей, чтобы швырнуть в общую могилу трупы поверженных врагов, и возвращались домой — просветленные, с пустыми руками… и взлетал к небу огонь погребального костра, и восторженно ревела толпа… нет, не так было, никаких костров или толп! Люди шли семьями, с флажками и шариками в петлицах, торжествуя и гордясь собой, а вещи, проигравшие войну, были в руках победителей еще живыми, теплыми, они молили о сострадании и напоминали о совместном счастье, жизнь их питалась тем искренним обожанием, которое люди испытывали к своим бывшим друзьям, но Памятник Великой Победы тоже очень нуждался в любви… и массовая жертва была принесена, потому что торжествующая гордость всегда оказывается сильнее благодарности, сострадания и здравого смысла… Прекрати насмехаться! — сделал я себе замечание. Братская могила для вещей — всего лишь символ. Человек перестал быть зависимым. Это — символ освобождения.
Или человек просто сменил один вид зависимости на другой?
— …Я знаю, что ипохондрия не лечится, — с яростным напором произнесли у меня за спиной. — Я хочу знать, как ее лечить?..
Наверное, стеклянный холм возник вскоре после моего отъезда; хорошо помню, что здесь была здоровущая воронка, которую уже при мне превращали в котлован — собирались строить экспериментальную станцию космической связи. Эта чудесная поляна вся целиком была изуродована во время боев. Помнится, тогда Университет только-только начинали восстанавливать и начали, как видно, с того, что вместо станции космической связи организовали пирамиду с фикусом. Сейчас поляна, ясное дело, была обжитой и благоустроенной: фонтанчики для питья, беседки для занятий, искусственный грот с туалетом, декоративный водоем в форме сердечка… Я с наслаждением улыбался всем вокруг, и все вокруг улыбались мне; настроение оставалось прекрасным; и странные разговоры, в которых мне не было места, обтекали меня, как вода старую корягу…
— Сыроядение дает прекрасные результаты, но не отказываемся же мы на этом основании от голодания?
— Скажу больше: ошибки в выборе питания могут привести к слепоте.
— Я объясню, что такое покаяние, если ты до сих пор не включаешься! Покаяние — это так. Во-первых, попроси прощения. Во-вторых, сам прости. И в-третьих, в главных, попроси прощения у Бога.
— А правда, что узкое белье вредно для глаз?
— Если ты отвергаешь мироздание, оно отвергает тебя, вследствие чего и появляется болезнь. Включаешься?
— Что есть человек? Душа? Мозг? Или, может, руки?
— Человеку здоровый мозг вообще необязателен! Владимир Ильич, как известно, был анацефалом, то есть функционировало у него только одно полушарие, и, тем не менее, он был гением планетарного масштаба, который указал человечеству путь.
— Это какой Владимир Ильич?..
Люди отдыхали. Кто-то, сидя на траве, делал себе массаж ступней ног, головы, кистей рук, — кто-то сосредоточенно выискивал на теле соседа активные точки и воздействовал на них большим пальцем — словно клопов давил. Многие ходили или сидели с пиратскими повязками на одном глазу. («Кто это, корсары?» — озадаченно спросил я у дамы в сарафане. «Нет, вампиры», — ответила она, кокетливо поглаживая лямочки. «А зачем повязки?» — «Зрение обостряют».) Я все-таки ожидал чего-то другого. Я полагал обнаружить здесь групповые медитации, отправление неведомых мне ритуалов, хоровое пение мантр и шаманские пляски. Или, скажем, здесь мог быть психологический. практикум для алчных и агрессивных, или, того лучше, начальная школа здоровья, где прополаскивали мозги всем новичкам. А тут, оказывается, просто проводили время. Это было место, где общались, набирались энергии и оттачивали зрение…
«…Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце, — говорила девушка в блузе-распашонке. — Это, между прочим, из Библии. Так что смотреть на солнце — полезно! Причина солнцебоязни чисто психологическая…» Ее слушали. «…Выздоровление — это как включение, — говорила девушка в блузе с запахом. Что-то должно щелкнуть в голове. Щелк — и ты здоров, хотя секунду назад был еще болен…» Слушатели старательно включались. «Все дерьмо, кроме мочи! — кричал мужчина в бриджах. — Я понял это, товарищи, перейдя на интенсивные формы уринотерапии.» Крутом смеялись…
Итак, человек сменил один вид зависимости на другой, весело думал я. И нет, наверное, в этом ничего страшного, скорее наоборот… Но ведь любая медсестра знает, что для человека существует только один вид зависимости — нейрохимическая. Все остальное — наша безответственность или безволие. Более всего на свете человек зависит от равновесия в его нервной системе, которое поддерживается чудовищным коктейлем веществ, гуляющих между нервными клетками. Равновесие это на беду хрупкое, нарушаемое чем угодно: таблеткой, излучением, словом. Особенно успешно гомеостазис нарушается, когда мы хотим сделать, как лучше. В конце прошлого века был проведен эксперимент: крыс помещали в специальную среду, в которой продолжительность жизни клетки значительно увеличивалась. В результате крысы жили четыре-пять лет вместо обычных двух с половиной! Но при этом они большую часть своего фантастически долгого бытия спали. Они мало ели, неохотно двигались, редко давали потомство. За все надо платить, и за долголетие крысы заплатили несостоявшейся, проваленной жизнью. Эксперимент был повторен в Японии — уже на добровольцах из числа людей (когда это выплыло, скандал случился на всю планету; исполнителей потом судили). Последствия оказались иными: кто-то из подопытных, как и зверье, впал в спячку, но большинство сошло с ума. Психоз в различных формах — такова была человеческая реакция на долголетие. Опыты, конечно, свернули, и психическое состояние пострадавших в конце концов пришло в норму, однако некоторая общность в судьбе крыс и людей показала, что насильственное продление жизни прежде всего ломало личность… А какую цену готовились заплатить за вечную молодость в этом городе?
Звонкая, оглупляющая радость по утрам — это, знаете ли, симптом. Эйфория — вовсе не дар богов, а всего лишь нарушение психических функций…
Речь шла именно о решительном и бесповоротном замедлении старения — я склонен был верить Шершню. И всем намекам, стыдливым ухмылкам в кулак я также склонен был верить. Люди здесь стали другими, и те, У КОГО ПОЛУЧИЛОСЬ, и те, у кого пока нет, — вроде Рафы и Шершня. Вечная молодость поцеловала в морщинистый лоб их всех. Сон, якобы творящий чудеса… Почему, впрочем, якобы? Вещества, тормозящие старение, вырабатываются в организме человека ночью, во сне — как реакция на отсутствие света. Занимается этим расположенная в мозге шишковидная железа, которую еще именуют «эпифизом». Эпифиз — целая фабрика по производству волшебных биорегуляторов. Взять, например, мелатонин: удивительный гормон, обладающий огромным числом удивительных свойств. Или эпиталамин — еще более фантастическое вещество… однако не это важно. Их много, подобных веществ. Все ли они нам известны и все ли их действия нам известны? Почему бы не допустить наличие в организме внутренних соков, которые корректируют обменные процессы таким образом, что фаза сна остается вне старения? Почему бы также не допустить, что железы внутренней секреции могут и сами нейтрализовать свободные радикалы, накапливающиеся в клетках, стоит только направить процессы в нужном направлении? После пробуждения, сказал Шершень, эффект долго сохраняется. Эффект чего? Шершни нам не авторитет, но, предположим, нашлось такое средство, побуждающее мозг человека синтезировать эликсир жизни…
Деньги под подушкой. Смешно. Деньги, которые больше, чем деньги. Животворящая сила, исчезающая, едва пересекаешь границу… Понятно, почему у Странника земля под ногами горит. К товарищу Страннику есть настоящий вопрос: как сделать, чтобы целительными снами мог наслаждаться любой уважаемый, солидный человек? Независимо от того, пытается ли он мыслить по-новому и мыслит ли он вообще. Что за честь такая юродивым, которые носятся со своим покаянием и тем счастливы?
Неожиданно я уперся в лейтенанта Сикорски… Ушастый толстяк стоял ко мне спиной и внимательным взглядом изучал пространство, ограниченное кольцевой аллеей.
— И вы тут? — сказал я, постаравшись не напугать его. Он обернулся.
— Меня вызвали.
— Как, вас тоже вызвали? (Офицер, разумеется, не понял подтекст. Был он по-прежнему суров и неулыбчив — ночной вариант несения службы). Вы-то хоть зарплату за это получаете, — позавидовал я. — В денежном выражении. А мы за что страдаем?.
— Деньги, как вода, вкуса не имеют, — меланхолично сказал он. — Я к тому, что мы здесь по зову души, а не по обязанности. Хороших людей нужно защищать.
Он посмотрел на вершину холма. Я посмотрел туда же. Рэй дотащила Странника до самого верха и помогла ему усесться на стеклянную ступеньку. Это и были хорошие люди, которых надлежало защищать? Я вспомнил таможенника, непонятно зачем торчавшего возле арки главного входа. Тоже добровольный защитник? Сколько их еще? А я, подумалось мне, вхожу ли я в число хороших людей?
— Деньги, как вино, — возразил я полицейскому. — Их нужно выдержать, иначе они не приобретут целительной силы.
Теперь Сикорски внимательно посмотрел на меня.
— Спасибо вам, — с неожиданной теплотой сказал он. — Фройляйн Мария рассказала мне про вас. Я должен извиниться за свои идиотские подозрения.
— Бог с ними, с подозрениями, — сказал я. — Лучше объясни, Руди, зачем все это? — Я показал на уходящий к небу, усыпанный огнями амфитеатр города.
— Масштаб изменений? — участливо спросил он.
— Избирательность чуда, — ответил я. — Когда волшебство — не для всех, оно колдовство, и есть в этом что-то неприятное, несправедливое.
— Хорошим людям нужно помочь, слишком много здоровья у них уходит на поддержание душевного равновесия, — объяснил лейтенант. — Хороший человек должен жить долго.
— Хороший человек — всего лишь тот, кто не совершает дурных поступков, — сказал я. — Этого достаточно. И что там у него в голове, то ли гордыня, то ли просто глупость — никого не касается.
— Так точно, не надо никого насиловать, — сказал он раздраженно, — пусть у каждого будет выбор. Если хочешь жить долго — посмотри на себя в зеркало. Но, ей-богу, меня Рафа уже изгрызла этими разговорами, и теперь — вы… Стоит появиться хоть каким-нибудь результатам, обязательно возникает кто-то, кому подавай вселенскую справедливость.
— Опять ты меня с кем-то спутал, лейтенант, — развеселился я. — Тебя всего лишь о деньгах спрашивали. Почему, собственно, деньги? Во все века они были средоточием греха, в лучшем случае — всеобщим эквивалентом, а вы тут рождественские гирлянды из них скручиваете. Какой в этом скрытый смысл?
Он нечаянно подвигал ушами, размышляя над ответом.
— По-моему, никакого скрытого смысла, Иван. Деньги — самое удобное средство, у нас не было времени подыскивать другое.
— Абсурд на службе омоложения, — сказал я. — Средство от чего?
— Не «от», а «для». Представь себе уникальный механизм, где каждый элемент энергетически связан со всеми остальными. Это и есть деньги. Почему бы не использовать уже готовую систему, чтобы соединить с ее помощью и людей? В единый здоровый организм. Так уж получилось, что деньги — самый удобный посредник.
Все-таки они были изрядные выдумщики, мои новые друзья! Не мог я не подыграть им:
— А что? Пожалуй… Гигантский ретранслятор, выполненный в виде денежных россыпей… В каком спектре излучаем, товарищи?
— Излучение? — ужаснулся он. — Боже упаси! Биотроника пока не одобрена Мирздравом.
— Тогда запахи? — предположил я. — Специальная краска, содержащая летучие реверсанты… Феромоны, качественно меняющие гормональную регуляцию человека…
На его лице было отвращение. Он сказал с неохотой:
— Не проще ли допустить существование неизвестных науке полей и неоткрытых взаимодействий?
— Не проще, — сказал я. — Проще жить по Оккаму, не плодя новых сущностей.
— Энергетическое Поле Желания, — объявил Сикорски на всю лужайку. — Великая русская мечта — сделать реальность сном. Лампа Алладина, Золотая Рыбка, Золотой Шар. И вот теперь, когда появилась физическая возможность сцеплять кванты желаний в один всепобеждающий луч, мелкие государственные деятели вроде нас пользуются этим эффектом, чтобы излечить кого-то от энуреза. Смешно, товарищи.
Смешно мне давно уже не было. Я вдруг почувствовал неуверенность.
— Физическая возможность? — переспросил я. — В каком смысле?
— Многие люди мечтают… например, быть здоровыми и молодыми. Их тоскливые, несбыточные желания уходят попусту в пространство, не совершая никакой полезной работы. Жуткая расточительность, я как чиновник говорю. Хаос. Почему бы не упорядочить эту энергию и не сфокусировать ее в нужной точке?
Омолодиться, и вперед, осознал я. Они здесь веруют не просто в замедление или консервацию старения, а в омоложение. Но ведь это — невозможно… (Тпру, Жилин, осадил я себя. Ты не специалист, Жилин, пусть и знаешь ты про крыс-долгожителей и про шишковидную железу, пусть и владеешь кое-как терминологией. Ты увлекся медицинскими аспектами высшей нервной деятельности, чтобы понять, почему тебя так тянет обратно в эту проклятую ванну со слегом, ты, собственно, и писателем-то стал, чтобы заменить один вид зависимости на другой, но воздержись от выводов, Жилин, ты всегда был и остаешься только наблюдателем…) Если изменяется жизненный цикл клетки, подумал я, почему мы не сталкиваемся с массовыми душевными расстройствами? Или как раз это и имеем, стоит лишь осмотреться? Поле желания, кванты желания… Тпру, Жилин!
— И все-таки что-то в вашем раю сломалось, дорогие ангелы, — позволил я себе реплику.
— Каждому Бог посылает испытание, жаль только, примириться с этим очень трудно, — с горечью ответил Руди.
О чем он в действительности говорил? О судьбах мира или о своей супруге, быстрой на руку? Прощай и ты, хороший человек, подумал я, шагнул на ступени холма и прыжками двинулся вверх. Добравшись до фикуса, я злобно спросил у Рэй:
— Твой Странник, надеюсь, знает, где искать третью Букву?
— Никогда не спрашивала, — щурясь, сказала она.
— Поищите у себя, — посоветовал Юрий.
Я взглянул на свои оттопыренные штанины.
— Один, — сосчитал я. — Два. Хотите, чтобы я вывернул карманы?
Я присел на прозрачную ступеньку, упругую и прохладную.
— Мы хотим, чтобы вы поняли, — сказал он. — Будущее нужно сначала придумать. Для одного человека, например, для себя, придумать Будущее — это просто, но зато нет смысла. А для всех сразу… В общем, выбор за вами.
— Я выберу, — согласился я. — Когда ты объяснишь, зачем я тебе понадобился.
— Опять тот же вопрос, — устало сказал он. — Пек Зенай захотел слег, но ему, к счастью, не хватило фантазии охватить всю Землю. Я со своей вечной молодостью тоже жидковат оказался. Чтобы распространить фантазию за пределы одного города, нужен настоящий талант.
— Мой, — саркастически сказал я.
— Вы знаете, каким должно быть Будущее, и оно мне нравится, — сказал он.
— Сделаем, — сказал я. — Включим гипноизлучение, улучшающее человеческую природу, и все будет. Как советовал один юморист.
— Вашему удивлению, Ваня, меньше суток, — сказал он, помолчав. — А я вот уже пятнадцать лет не перестаю, как и вы, удивляться — почему я? Почему именно меня забросило на этот астероид? Вы помните, каким я был?
— Ты был образцом подрастающего поколения, — сказал я серьезно. — Ты жадно учился, перенимал опыт у старших товарищей, естественно, постоянно ошибался и был обуреваем всеми теми чувствами и иллюзиями, которые полагались тебе по возрасту.
— Иллюзии, — задумчиво сказал он. — Все правильно. Коммунистическое общество в целом построено, остались мелкие недоделки, технически легко устранимые… Я ведь и вправду так думал тогда. Та самая железная стена, которая отделяет благополучное общество от неблагополучного, — она была в моей голове.
— И какой же ответ? — живо поинтересовался я. — Почему именно ты?
— Спецрейс номер семнадцать, — тихо сказал он. — Космическое путешествие, которое свело нас вместе…
— Не понял, — сознался я.
— Неужели вы не чувствуете, что с того инспекционного рейса все и началось? Железные стены в наших головах поела ржа, иллюзии рассыпались в труху. Все, что было до уникального похода «Тахмасиба», — неправда, морок. Этот рейс — главное в истории нашего с вами мира. В другом мире он, возможно, не значил бы ничего, а в нашем он — отправная точка новой эры.
— У меня другое мнение, — сказал я вежливо. — Но это не важно. Я хотел узнать про астероид…
— А что астероид? — без интереса сказал Юрий. — Обычная малая планета. Двадцать километров в поперечнике. Название — Strugatskia… Впрочем, название вряд ли вам что-нибудь скажет.
Я порылся в своем мысленном каталоге. Название в самом деле ничего мне не говорило. Малых планет в Солнечной системе — несколько тысяч.
— Или вы спрашивали про мою историю? — продолжал он мертвым голосом. — Это тем более неважно, да и рассказывать долго. Если хотите что-то узнать, не бойтесь вытащить то, что у вас в карманах.
— Зачем? — сказал я тупо. Что-то со Странником происходило, но мне не до того было.
— Букв две, — сказал он. — Добавьте третью. Тест пройден, Ваня, и выбор за вами.
Прямо под нашими ногами застыл в стеклянной пустоте, прощально взмахнув оборванным шнуром, торшер в виде арапа, держащего баскетбольный мяч. Я смотрел вниз и с отчаянием думал о том, что спрашивать больше нечего. Не пора ли тебе, Жилин, собраться с духом и составить Слово — вот что мне тут пытались втолковать! Но имею ли я право? Даже если и есть у меня пресловутая «третья буква», даже если и догадался я, что сие означает…
— Можно, не сейчас? — бросил я в пустоту. Никто мне не ответил. Я поднялся. — И, кстати, меня давно ждет Строгов, — известил я общество.
Рэй остановила меня у подножия холма.
— Моя любовь седа, глуха, слепа и безобразна, — произнесла она с непривычной скованностью. — Оказывается, это про тебя… — Она посмотрела мне в глаза и тут же отвела взгляд. — В случае чего встречаемся на взморье, договорились? В тот же час.
Глава шестая
Лишь вершину Фудзи под собой не погребли молодые листья.
Бусон, старший брат ИссыКовер под ногами был как степь после пожара, с гигантской пепельной плешью в центре и жалкими остатками растительности по краям; как вырезанный кусок земной поверхности с высоты птичьего полета; тундра, уничтоженная гусеницами вездеходов. бразильская сельва, растерзанная лесозаготовителями, тунгусская тайга в июле 1908 года; он был, как брюхо мертвого зверя, расплющенного временем. Ковер на полу был ловушкой, скрывающей от незадачливого путника дыру в вечность.
Я сбросил мокасины, доставшиеся мне от Лэна, и осторожно прошел по краешку этого реликта, стараясь ступать по тем местам, где еще сохранился ворс. Бог его знает, по какой причине, но ковер, истоптанный тысячей ног, сопровождал Строгова повсюду, куда бы тот ни переезжал. Говорят, если перевернуть его обратной стороной — и если правда то, о чем шептал пьяный Сорокин в ресторане Дома Писателя, и если неправда то, о чем трубили трезвые ораторы со сцены Актового зала выше этажом, — тогда мы обнаружим там, сзади, огромную, вышитую бисером фигу, настолько огромную, что она не поместилась в кармане и ее пришлось прятать таким вот образом; и если в ночь на шестое июня — день рождения Пушкина — ровно в полночь водрузить табурет на этот повернутый задом ковер, установить на табурете горящую свечу, погасить прочий свет, поджечь лежащий на блюде скомканный лист бумаги, а затем, не теряя времени, поднести блюдо к свече и начать медленно его поворачивать, тогда тени, отбрасываемые сгорающей бумагой, явят на стене комнаты персонажи и сюжеты, которые подарят тебе мировую славу, сумей только ими воспользоваться; одно условие — театр теней должен быть устроен на той из стен, куда указывает молчаливая фига под твоими ногами; так вот Строгов, уже более полувека дописывая том за томом свою нескончаемую «Дорогу дорог», единственную свою книгу, все эти полвека якобы устраивал раз в год подобные мистерии, наедине с самим собой, разумеется, черпая из этого источника свои потрясающие истории, и не с таинственного ли дедовского ковра началась его собственная писательская дорога?.. Боже, какая чушь.
Табурет в кабинете был, одиноко стоял возле письменного стола. А стул громоздился у меня в руках: я принес его с веранды, оттуда, где остались мои мокасины. Дим Димыч всегда просил гостей не снимать обувь, ходить по ковру прямо так, и гости хозяина никогда не слушались. Стул был деревянным, в венском стиле, с гнутыми ножками и спинкой. Я поставил его на пол, задвинув табурет под стол, и сел, повернувшись в направлении ширмы. Мне очень хотелось тихонечко приподнять ковер за угол и заглянуть туда, пока никто не видит.
— На чем мы с вами остановились, Ванечка? — раздался негромкий голос. В голосе не было ни силы, ни желания говорить, лишь привычка и отчетливое понимание необходимости.
— Мы остановились на «трусить, лгать и нападать», Дмитрий Дмитриевич, — поспешил ответить я Строгову.
Ширма была резной, как в исповедальных кабинках, и состояла она из трех створок. Это сооружение закрывало довольно большую нишу в стене, в которой, судя по характерным звукам, располагался диван — того же возраста, что и ковер. Насколько старым был сам Строгов и как он изменился за прошедшие годы, не дано мне было лицезреть: не мог же я этак невзначай приоткрыть створку или, скажем, задеть ширму неловким движением, чтобы все это дело повалилось к чертовой матери! Если хозяину было удобней принимать гостя таким манером, стало быть, смирись, гость, и не брыкайся.
Остановились мы, собственно, на том, что Дим Димыч вдруг озаботился, в каких условиях пребывает его любимчик. Я был мягко согнан с табурета и послан на веранду — за нормальным стулом. А до того — родился дежурный вопрос «как ваши дела, Ванечка», из совместного ответа на который мы странными путями вышли на вчерашние городские катаклизмы (Строгов, оказывается, следил за новостями, что меня весьма порадовало), а когда мы вплотную подобрались к моей роли в этих событиях, я, вовремя почуяв неладное, вспомнил о целях и задачах «Времени учеников»; здешний замкнутый мирок, сказал я Строгову, как будто нарочно перестроили в соответствии со введенной вами максимой: «Хуже нет, чем трусить, лгать и нападать!», и вот закономерный результат — мирок этот в который раз жестоко лихорадит; так сказал я Строгову, пытаясь спровоцировать его на спор, однако он покорно согласился; ибо, если вдуматься, сказал я Строгову, то почему, черт побери, хуже нет, чем трусить, лгать и нападать?! Трусить-то почему? Страх — это здоровое, правильное чувство, а пугливый человек — совсем не обязательно подлец. И ложь так же естественна, это ведь в большинстве случаев всего лишь защитная реакция психики, инстинкт самосохранения в действии, как, например, ложь детей или стариков, и сколько угодно в жизни ситуаций, когда вранье — благо, а то и составная часть подвига. Что касается «нападать» — это просто чепуха. Или у Человека (именно так, с прописной буквы) не стало вдруг смертельных врагов? И опять Строгов со мною согласился… А до того он встретил меня заявлением, что хочет поговорить о моих книгах, потому и звонил в гостиницу, забыв про ночь на дворе… а до того, наплевав на ранний час, я вошел в незапертый дом, и ожил подвешенный к двери колокольчик, и знакомый голос тут же позвал:
«Это вы, Ванечка?», указывая мне путь — в кабинет с ширмой и сиротливым табуретом возле кабинетного письменного стола…
— Трусить, лгать и нападать, — механически повторил Строгов. — Ага, ага… Знаете, хватит о пустяках. Хорошие вы люди… и Славочка, и Витенька тоже. Приходите ко мне, о пустяках со мной говорите… Спасибо вам, ребятушки. Видите ли, Ванечка, вчера мне взбрела в голову страшная мысль, что вы отсюда не уедете. Очень страшная мысль.
Пустяки, подумал я. Пункт первый: не волнуйтесь из-за пустяков; пункт второй: все пустяки… Универсальный рецепт не помог оздоровить мысли. Сказать, что я был потрясен, значит ничего не сказать. Возникло странное ощущение, будто не на стуле я сижу, а на краю чудовищного обрыва, будто не лысый ковер расстелен под моими ногами, а влажная холодная бездна.
Учитель призвал меня, чтобы прогнать?
— Надеюсь, мой ночной звонок не доставил администрации отеля больших неудобств? — прошелестело за ширмой. Голос Учителя был, как внезапное движение воздуха в камере смертника.
— Когда мне нужно уехать? — шевельнул я деревянными губами.
— Подождите, Ванечка, вы меня не поняли, — жалобно произнес Дмитрий Дмитриевич.
В дверях появился Калям Шестой; постоял секунду-другую на пороге, подрагивая хвостом, и пошел по ковру, делая вид, что решительно не замечает меня. Где он был? Гулял в саду, прятался на веранде? Всех котов, живших когда-либо со Строговым, звали Калямами, и все они были беспородными дворнягами, короткошерстными, с крайне независимым складом ума. Этот был к тому же ярко выраженным крысоловом, то есть имел непропорционально большую голову с толстыми щеками, маленькие ушки и сильно развитые задние лапы — заметно длиннее, чем у других котов. Очевидно, в прошлой, человеческой, жизни он был боксером. Калям Шестой прошествовал мимо меня, по-хозяйски запрыгнул на письменный стол и демонстративно лег под настольной лампой, показывая, что лично ему здесь все позволено. Улегся он, понятное дело, за спиной гостя (на всякий, надо полагать, случай) и так, чтобы держать в поле зрения всю комнату.
— Давайте лучше вернемся к вашим книгам, — с заметным облегчением предложил голос за ширмой. — Ваши книги — это интересный феномен. И одновременно хороший пример к нашему разговору. Вон у меня на полочке лежат «Двенадцать кругов»… Я не уверен, что значение этой повести для вас, автора, открыто. Хотя сейчас, по прошествии времени, можно смело утверждать, что она изменила мировоззрение целого поколения, особенно у нас, в Советском Союзе. Люди поняли, что комфорт, просто комфорт — не так уж плохо. А вы что пытались людям сказать? Неужели что-то другое?
Я промолчал. Я почему-то вспомнил Шершня, который, если не наврал, сменил место жительства, едва дочитавши «Двенадцать кругов» до финальной точки. А может, и не дочитавши…
— Вот еще соображение, — продолжал Строгов. — Вы самоотверженно боретесь с тем, что для вас является главным. Родимые пятна социализма, мещанство, вросший в умы и души фашизм… и одновременно горение духа, безоглядный энтузиазм… не так ли? Но восприятие читателя целиком занимают красивые мелочи, побрякушки вроде марсианских пиявок или жуткой зоны, нашпигованной инопланетным мусором. Целиком, вот в чем беда. Читателю оказались нужны одни только побрякушки. Вас это не беспокоит?
Я самоотверженно молчал. Отрогов продолжал:
— Наконец, всем известно, что вы, Ванечка, не публичный человек, не любите вы всеобщее внимание. Тем не менее, помимо своей воли и вопреки своим мечтам, вы успели стать настоящим литературным персонажем. Появились апокрифы про вас, некие подражания… даже от первого лица… Вы видите, к чему я веду?
Пока что я видел только ширму.
Впрочем, если оглянуться, можно было обнаружить нескончаемые, в две стены, стеллажи с книгами — высотою до потолка, со специальной стремянкой, чтобы добираться до верхних полок; а если скосить взгляд влево от ниши, можно было увидеть модную в девятнадцатом веке «горку», то есть застекленный с трех сторон шкаф, на прозрачных полочках которого были расставлены фигурки и статуэтки кошек, котов и котят — с бантиками, с розочками, в полном соответствии с породой и шаржированные, белые фарфоровые и красные глиняные, миниатюрные стеклянные и большие меховые, а также хрустальные, бумажные, из натуральных камней, а также копилки в форме котов, коты-колокольчики, подушечки для иголок и свистульки, — здесь, очевидно, была выставлена часть знаменитой коллекции Строгова…
«Апокрифы от первого лица». Виноват ли я в том, что некоторые авторы страдают душевными расстройствами? Я вот, наоборот, все чаще думаю о самом себе от третьего лица, но беда эта — моя и только моя… Что хотел сказать мне Учитель? Когда-то мы с ним уже имели разговор насчет моих повестей. Это было в Ленинграде, холодный дождь стучал за окном, но мнение, высказанное мастером, было солнечным и теплым. Вы столько всего напридумывали, что глаза разбегаются, добродушно потешался он. И инопланетный город на Марсе, и блуждающий меж звезд зоопарк, и психодинамическое поле мозга на службе Родины. И люди у вас почему-то все такие хорошие, и меня классиком выставили, будто я давно уж как помер. Так и хочется пожить в вашем мире, развлекался он, душа так и рвется включиться в непримиримую, бескомпромиссную борьбу хорошего с отличным… а я, встав по стойке «смирно» и выкатив на него бессмысленные глаза, орал в ответ: так точно, господин капрал! нужно лучше! но некуда, господин капрал!.. а он благожелательно кивал, листая мой томик, и цеплялся взглядом за гладкие страницы: вот, например, в вашей мемуарной прозе более всего запоминается образ некоего Римайера, наверное, просто потому, что это реально существующий человек, в отличие от некоторых других персонажей, которые явно вымышлены, на что я обиженно возражал, мол, как раз Римайера я выдумал, не было никакого Римайера, и не по этой ли самой причине он получился, как живой… и мастер, исполненный бесконечного терпения, отбрасывал шутки в сторону, чтобы раздолбать автора по существу: «…некоторые ваши представления, милый Ваня, кажутся мне сомнительными. Эта ваша уродливая идея, будто Наставник или Учитель может заменить родителей в воспитании детей, а интернат будто бы может заменить семью… В интернате, друг мой, воспитывают воина, а не человека, и то в лучшем случае. Разделение воспитуемых по половому признаку не приводит ни к чему, кроме осложнений и в без того сложном пубертатном периоде, так что „нового человека“ мы вряд ли такими способами получим…»; на что я отвечал ему, что эта идея, собственно, не моя, а его, и открывал второй том собрания сочинений Строгова, и Дим Димыч с удивлением соглашался… он любил соглашаться с учениками, мудрый автор «Дороги дорог» — учитель учителей, писатель писателей и человек людей… вот такие у нас были встречи, такой стиль общения.
Но какого ответа он ждал от меня теперь?
— Вы преувеличиваете мои успехи, — сказал я. — Хотите, чтобы я раздулся и лопнул от гордости.
За ширмой кхекали, сморкались и скрипели пружинами, и длилось это довольно долго. Наконец Строгов снова заговорил:
— Успехи, Ванечка. Правильное слово нашли. Мы с вами знакомы давно, но ведь писательством вы увлеклись совсем недавно, да? И за такой короткий срок добились невероятных успехов. Вы всегда добиваетесь результата, каков бы он ни был… Теперь понимаете, примеры чего я вам приводил? Ставя перед собой одну цель, вы поражаете совсем другую. Я не утверждаю, что эта вторая цель недостойна такого стрелка, как вы, она просто другая.
Кот на столе звучно зевнул и вдруг поднялся. Я помнил этого последнего из Калямов еще молодым, еще по Ленинграду: тогда он был серо-голубым, но сейчас он был скорее серым, чем голубым. Постарел Калям Шестой, располнел. Коты, к счастью, стареют быстрее хозяев. А когда коты-крысоловы начинают вдобавок толстеть, то прежде всего толстеют щеки и хвост. Он примерился и прыгнул, взлетев на самый верх стеллажа, и пошел себе по верхам полок, снисходительно поглядывая на происходящее.
— Калямушка… — сказал Строгов. — Да. Так вот, Ванечка, вы стали литературным персонажем. Не обидитесь, если я дам портрет литературного персонажа Жилина?
— Погодите, только блокнот достану, — сказал я, не двигаясь.
— Жилин — человек действия. Старый космолетчик, прошедший через многое, видевший смерть друзей, вернувшийся на Землю для того, чтобы что-то делать, а не наблюдать. На Земле ему пришлось научиться стрелять в людей. И теперь он умеет как никто другой постоять не только за себя, но и за идеалы, которые у него есть.
Я заставил себя засмеяться.
— Портрет прекрасен, — сказал я. — Жаль, что прототип несколько отличается от персонажа.
— Конечно, конечно — сказал Строгов. — Вопрос в том, будет ли этот герой сидеть в кресле, когда каждая клеточка тела требует: вмешайся, включись, встань в ряды единомышленников. Служа своему идеалу, сможет ли он ограничить себя литературной работой?
— Нет, наверно, — сказал я.
— В том-то и дело.
— Мой идеал — счастье, — с отчаянием возразил я.
— Это и страшно…
Калям добрался по верхним полкам до противоположного угла кабинета и растянулся там, свесив щеки вниз. Устроился он прямо на одной из книг, положенных плашмя. Это был здоровенный подарочный фолиант, в коже и золоте (названия не было видно), хранившийся отдельно от остальной библиотеки. Любимое место, надо полагать, лежбище зверя. Теперь кот видел не только меня, но и хозяина за ширмой, и ради этого, собственно, была им предпринята смена дислокации.
Строгов сказал после паузы, тихо и безжизненно:
— Вы — сила, Иван.
Словно сургучом залили мой рот. Большой Круглой Печатью. Говорить стало не о чем и незачем. Строгов боялся, что постаревший космолетчик Жилин раззудит плечо и пойдет махать кулаками, если обнаружит вокруг своего идеала толпу плохих парней. Он боялся, что Жилин не усидит в кресле, а значит, непременно что-нибудь сломает, медведь этакий. Получается, в этом мире было, что ломать? Получается, постройка, увиденная Строговым, была слишком хрупка и могла рухнуть от ветра, поднятого незваными защитниками? Так что же это за постройка?.. Он с ужасом ждал, что все опять развалится, как это уже бывало, бывало, бывало, а я, мальчик, просто не понимал, что с миром происходит. Я думал, у нас с Учителем один и тот же идеал. Я думал, Учитель болен и нужно спасать его от абулии — от потери интереса к окружающему, от безволия. Никакой абулии у Строгова в помине не было, напротив, его воли хватило бы на всех нас. Он не видел ничего хорошего в силе, как в злой, так и в доброй, как в чужой, так и в собственной, и потому лишил себя слова. Его слово было силой. И Строгов не зря опасался на мой счет, он хорошо меня изучил, но прав ли он был?
Я что-то спросил, он что-то ответил, — это не имело никакого значения. «Может быть, я не прав…» — изрек великий старик, а я даже не улыбнулся, осознав масштаб его кокетства. Впрочем, встреча мастера и ученика продолжалась, не мне было ее заканчивать. Личность некоего Жилина, внезапно оказавшегося главным персонажем беседы, была тактично оставлена в покое, говорили мы теперь о людях вообще. В новом мире нужен новый человек, заявил Строгов. Но главный вопрос — как вырастить этого нового человека? — остается пока без решения. И я сказал ему, что его поиски в области иной психологии не имеют смысла, потому что человек с иной психологией — не совсем человек или не человек вовсе. Новый вид. Жуткий продукт науки евгеники. И Строгов, в который раз, со мной согласился. Наивные мечтатели, сказал он, восклицают: «Какими вы будете?», — устремляя взор в Будущее, тогда как ответ — вот он, рядом: точно такими же. А если нет, то придуманными. Но кем же тогда заполнится новый мир, откуда возьмется новый человек? Гипноизлучение и другие массовые технотронные воздействия — это насилие, а значит, устойчивого результата мы таким образом не получим. Воспитание? Оно в конечном счете то же насилие, только более изощренное, сродни тому, как с помощью тонких психотерапевтических приемов, в тех случаях, когда прямое внушение невозможно, управляют пациентами без их ведома. Так где же выход из тупика? По-моему, кто-то нашел выход, буднично сообщил мне Строгов. Эти изобретатели живут здесь, в карликовой стране, затерянной среди мировых колоссов. Попробуем встать на их точку зрения. Если взять за аксиому, что вложить в человека новое нельзя даже с пеленок, потому что все в него уже вложено на уровне инстинктов и генов, в том числе и нравственность, тогда выход откроется сам собой. Изменению поддаются только рефлексы, в рамках уже заданной системы, значит, нужно использовать в человеке человеческое, шкурное, а не придуманное кем-то. Нужно поставить его в ситуацию, когда ему ВЫГОДНО быть нравственным, ВЫГОДНО иметь правильное мировоззрение. Например, так: правильно мыслишь — будешь молодым и здоровым! Или так: хочешь жить долго — гони из своей души алчность и злобу! И получаешь награду в виде чуда. Не в следующей жизни, не на небесах, а прямо сейчас, сегодня, завтра. Ну, кто устоит против чуда, которое столь реально? Кто-то, конечно, устоит, особенно поначалу, однако не они определят результат селекционной работы. И когда чудо станет привычным, новый мир родится. Не для того ли затеяны здешние странности? Вот так Дмитрий Строгов понимал происходящее; впрочем, не об этом он собирался со мной говорить, совсем не об этом; ручеек его голоса, вытекавший сквозь створки ширмы, на глазах мелел, свинцовой тяжести фразы с трудом отделялись от тела…
— Не возвращайтесь туда, где вам было хорошо, Ванечка, — произнес он. — Теперь там все иначе, а значит — не для вас. Не достраивайте того, что начали другие. Там живет чужая душа, а значит успех снова ускользнет у вас из рук.
Громкость упала почти до нуля, словно батарейки иссякли. За окном вовсю уже рассвело. Кот спрыгнул с фолианта на стремянку, затем, цепляясь за перекладины, зверь спустился на ковер и канул в глубинах дома. Аудиенция, похоже, подошла к концу. Я вытащил из карманов оба загадочных камня — очень осторожно, один за другим, — положил их на письменный стол хозяина, не издав ни единого звука, и только после этого поднялся со стула. Есть люди, более достойные, чем ты, твердил я себе, есть люди, которые знают ответ до того, как задан вопрос. И в карманах, и на душе значительно полегчало. Мысль оставить ЭТО в доме Строгова явилась мне в ту секунду, когда Дмитрий Дмитриевич впервые прошептал слово «чудо», и решение было принято уже в следующую секунду. Так будет лучше для всех, убеждал я себя… или я думал тогда о другом? О том, что профессиональные охотники, бегущие по моему следу, отлично знают мои повадки: им в голову не придет, что я способен цинично втянуть Учителя в свои мужские забавы; то есть лучшей «камеры хранения» на случай непредвиденных обстоятельств мне не сыскать…
Он ничего не заметил и ни о чем не спросил. Откуда ему было знать, что малодушный ученик только что сделал свой выбор? Он сказал мне на прощание:
— Я очень рад, Ванечка, что вы зашли. И вообще, правильно, что вы приехали. Не забудьте только отсюда уехать, хорошо? Никакой трагичности. Сочувствие и усталость.
— А вы за это разрешите мне приподнять ковер? — нагло сказал я. Даже присел на корточки, готовясь выяснить наконец правду.
Дим Димыч ничуть не удивился, как будто с подобными просьбами к нему обращался каждый из гостей.
— Нет, — спокойно ответил он, — не разрешу.
Ширма так и осталась на месте: Строгов не счел необходимым показать мне себя. Перед тем, как удалиться, я приподнялся на цыпочки и посмотрел, что за книжку такую облюбовал Калям Шестой в качестве лежанки. Это была поэма «Руслан и Людмила», А. С. Пушкин.
Глава седьмая
Утро оказалось безлюдным, влажным и пустым, мое второе утро в раю. Наверное, потому, что было слишком ранним. Однако преследовало меня почему-то ощущение, будто ночь еще не кончилась. Иду спать, убеждал я себя, спать — это святое, до вечера, товарищи…
Бар в отеле работал с рассвета, как дежурная аптека, — на тот случай, если какого-нибудь несчастного постояльца, неспособного увидеть цветные сны, замучит утренняя тоска. Я подошел к стойке и сел на круглый табурет. Здесь были необычные табуреты, на гидравлической ножке, позволявшей качаться вверх-вниз. Табуреты-попрыгунчики — специально для тех, у кого шаловливое настроение. Мое настроение позволяло мне сказать с определенностью: плевать на вас господа, следите вы за писателем Жилиным или уже нет, взяли вы снова его на контроль или проспали. Писателю Жилину нужно было залить принятое решение хоть какой-нибудь жидкостью.
— Это правда, что у вас лучший в городе кислородный коктейль? — спросил я бармена.
— Аппарат уже отключен, — безучастно ответил тот. — Приходите попозже.
По-моему, человек смертельно хотел спать, жалко было дергать его по пустякам
Стойка также была весьма нестандартна. Строго говоря, это не стойка была, а длинный узкий аквариум: бокалы ставились прямо на стекло, под которым плавали рыбки. Попивай себе коктейль, или что они тут предпочитают пить, и любуйся на живую природу. На другом конце аквариума скучал еще один гость. Этот невысокий, но, видимо, очень сильный мужчина листал короткими пальцами глянцевый каталог, обкусывая виноградную гроздь, и странно при этом поглядывал на меня. Он начал дарить мне свое внимание, едва я появился в холле. Каталог, по-моему, интересовал его значительно меньше. Может, признал во мне знакомого, но имя мое забыл? По утрам бывает и не такое. Я вежливо улыбнулся ему, и он тут же, приняв это за сигнал, передвинулся вдоль стеклянной стойки и занял новое место — через одно от меня.
— А это у вас что, разве не запрещено? — громко позвал мужчина бармена, тыча пальцем в страницу. Тот посмотрел:
— «Де Сад и Шанель», режиссер Слесарек… Нет, конечно. Вам дать?
— Я думал, у вас все запрещено, — сказал гость. — Тогда дай мне еще вот это.
— «Детский де Сад», — прочитал бармен. — Того же автора. Обождите, пожалуйста…
Он скрылся в подсобном помещении.
— Предпочитаю русские порники, — сообщил мне мужчина. — С таким надрывом делают, как в последний раз. Загадочные люди.
— Вы искусствовед, — догадался я.
— Нет, я из другого полушария прилетел. Не заснуть никак, у нас разница в двенадцать часов. И потрепаться не с кем… Ненавижу марксистов, — неожиданно закончил он и запихал виноградную гроздь в рот целиком, вместе с черенком.
Дежа вю, с удовольствием расслабился я. Что-то подобное в моей жизни уже было — про марксистов. Не иначе, это провокация… Человек-Другого-Полушария профессионально работал челюстями, с хрустом перемалывая все живое, а на лбу его, озабоченно сморщенном, пылала одна-единственная мысль: в раю нормальным людям делать нечего.
— Казино прикрыты, — снова заговорил он. — Говорят, азарт, алчность, плохо. Местные не хотят этим бизнесом заниматься, а иммиграция вся поголовно с ума сошла. И еще — жуткая проблема с женщинами. Женщины здесь не продаются. Просто беда какая-то. Где это видано, чтобы женщины не продавались? А ведь какое было местечко. Я каждый сезон сюда приезжал, отводил душу.
Появился бармен, выложил перед ним два кристалла с заказанными стереокомиксами. Тот брезгливо ополоснул пальцы в аквариуме, смывая виноградный сок, и рассовал кристаллы по карманам.
Что-то выпало у него из кармана. Мужчина поспешно слетел с табурета и сгреб стукнувший об пол предмет. Так-так-так, подумал я, успев разглядеть, что это было. Ситуация становилась интересной.
— Пытался сегодня попасть в коммуну Юных Натуралистов, — сообщил любитель русских порников, возвращаясь на место. — Ну, то есть к хрусташам. Про растительный секс слыхали? Говорят, это что-то!.. — Он непроизвольно облизнулся. — Любовь на деньгах, на хрустящих банкнотах, волнующе шелестящих под тобой. В роскошном зале — все вместе, как волны в море… Так что бы вы думали? Всех желающих, оказывается, тестируют! Снимают психо-эмоциональные показатели, какой-то «групповой совместимости» добиваются. Как будто в дальнюю экспедицию отбирают, кретины.
— Вам отказали? — сочувственно сказал я, бездумно качаясь на табурете.
— Да, настоящие парни им не нужны. Я этому продавцу газет чуть рыло не начистил… а сначала деньги ему совал, интелю недобитому, и хорошие деньги…
— Какому продавцу?
Он хихикнул басом, окинув меня стеклянным взглядом.
— Что, тоже захотели попробовать? На площади возле Госсовета есть лоток с газетками и другой чушью. Продавец там — из хрусташей, посредник-координатор, к нему и обращайтесь. Только особенно губу не раскатывайте, юных среди этих «натуралистов» не так уж много, одно название.
Вот и еще тайночка раскрылась, мельком отметил я. Понятно теперь, почему тот симпатичный паренек, желающий слиться с природой, так перепугался, когда увидел серьезных мужчин в пиджаках, понятно, почему он изувечил свой электронный блокнот. В блокноте, конечно, были сведения об участниках ночного сборища.
— Вы, я вижу, тоже маетесь, — проницательно заметил мой собеседник. Он широко оскалился и вытер рот ладонью. Здоровенная у него была ладонь, рабочая. — Как насчет партии в нарды? Скучно здесь, приятель.
— Скучно-то оно скучно, — согласился я. — Марксисты проклятые.
— Я знаю, ты из Союза, — сказал он, разглядывая костяшки пальцев. — Русских я тоже ненавижу. Только без обид. Вы все марксисты, даже те, которые порники под полом снимают. Замусорили планету своими идеями.
По-моему, человеку ужасно хотелось подраться. Он уже слез с табурета, готовый, заряженный, увесистый, как ядро в пушке, но у меня на сегодня были другие планы.
— А как насчет французов? — поинтересовался я. — Свобода, равенство, братство. Или вот такая идея есть, кстати, исконно русская, что марксизм — это исключительно еврейская выдумка, от которой Россия больше всего и пострадала.
Он сморгнул.
— Я парень простой, простодушный, — сказал он угрюмо. — Не надо делать из меня расиста. Я спросил, что вы с этим городом сделали, а они мне тут… — Собеседник грозно набычился. — Сначала отняли Старое Метро, отняли дрожку и слег. Ну, это понятно. Ненавижу полицию. Отняли нормальную выпивку, кефиром у них скорее напьешься. Отняли нормальную жратву. Нормальные чувства заменили любовью к ближнему, а теперь пытаются отнять и деньги. Одно море и осталось…
— Зачем приехал, если ничего здесь не нравится? — послал я ему.
— Люблю ненавидеть. Хорошо ненавидеть в том месте, где все друг друга любят.
Он скверно засмеялся и пошел прочь, заметно косолапя. Он шел очень медленно. Явно не турист, ТАКИЕ туристы сюда больше не ездят: скучно им здесь… Я незаметно расстегнул в кармане контейнер со спецсредствами, отобранный мной у незадачливого террориста.
— Будете что-нибудь заказывать? — вяло напомнил о себе бармен. — Из напитков — ликеры, водка из шелковицы, водка из барбариса…
— Никакой водки! — взмолился я. — Мне бы что-нибудь для укрепления духа и тела.
— Ну и правильно, — с неожиданным облегчением сказал он. — Я-то заподозрил, что вы один из этих, — он проводил взглядом клиента, — из командировочных.
Похоже, мне удалось разбудить человека.
— Лично я тоже не очень верю в эти ферментоидные присадки, — оживленно продолжал он. — Поражающие факторы алкоголя слишком уж многообразны. В курсе ли вы, что от этилового спирта эритроциты склеиваются в тромбики, особенно в глазах. Склеиваются также нейроны в мозгу, а потом выводятся с мочой. Пьющий человек — мочится мозгами! Весь мозг склеивается, сохнет…
Это говорил бармен, я не ослышался? Тот, чей бизнес — спаивать зазевавшихся клиентов? На секунду сделалось страшно, как будто кошка рассмеялась мне в лицо. Бармены не знают таких слов, и даже мыслить подобным образом не могут, иначе какого рожна им торчать по ту сторону стойки, перекладывая бутылки с полки на полку… Я поймал его взгляд, я увидел его расширившиеся зрачки. И мгновенно развернулся.
«Командировочный» все сделал, как я ожидал. Он ведь не зря столько слов потратил, заговаривая мне зубы. Но и я был готов, встретил его, как родного: нырнул под взметнувшуюся руку и обхватил неуклюжую тушу за шею. В руке был нож. Обычный хозяйственный нож — из тех, которые продаются в любом строительном супермаркете… из тех, которым была зарезана Кони Вардас. И вдруг я увидел Бэлу Барабаша, который мчался по пустому холлу, что-то крича по-венгерски. Начальник полиции яростно рвал из кобуры табельный «комов», и тогда я закричал ему в ответ:
— Не стреляй!
Человек-Другого-Полушария и впрямь оказался очень сильным мужчиной, но я его удержал, пока вытаскивал трофейный вакцинатор и выстреливал ему в яремную вену лошадиную дозу седаформа. Когда Бэла подбежал, он уже сползал на пол, бессмысленно облизывая мясистые губы. Я едва успел отбить в сторону руку с пистолетом и снова прокричал:
— Не стреляй, все в порядке!
Глаза у моего друга были совершенно ненормальные, бегали, как шарик в игровом автомате. Бармен, наоборот, стоял, как каменный, забыв закрыть рот. Один я оставался вменяемым: мне и работать. Я усадил командировочного спиной к стене и спокойно вывернул его карманы. Порнокристаллы я положил на стойку, а все прочее показал Бэле.
— Что это? — спросил он, овладев собой.
— Молящаяся Дева, — сказал я. — Кулон, который носила покойная сеньорита Вардас.
Именно этот предмет выронил убийца несколько минут назад. Воистину, плохо быть кретином.
Затем, в присутствии свидетелей, я вытащил из коробочки психоволновую «отвертку». Наушники я вставил пациенту в уши, а цифро-буквенный код, тисненный на внутренней стороне крышки, набрал на пультике.
— Спокойной ночи, приятного сна, желаем вам видеть козла и осла, — пробормотал я, настраивая стимулятор. — Осла до полночи, козла до утра, спокойной вам ночи, приятного сна.
Бес вошел в мозг придурка, распрямляя капризные извилины. Допрос протекал стремительно, ибо не разрешил я пленному врать. Что это за кулон? Святая заступница всех незамужних женщин (неописуемое отвращение было в ответе). Где взял? У невесты. У тебя есть невеста? Невеста наказана (пациент сипло заплакал). За что она наказана? Так ты не знаешь (он удивился), что она со всеми крутила, с ур-родами, с такими, как ты, а со мной — проти-ивно! Со мной — даже словца поганого жалко… Зачем снял кулон с невесты? А зачем бабе, которая вышла замуж, нужна «заступница незамужних женщин»?! (Пациент сильно возбудился.) Как она вообще посмела носить такой амулет, если у нее был любящий жених! Так, значит, она вышла замуж? Вчера. За него, конечно. Если есть он — следовательно, за него. Он сам надел любимой обручальное кольцо, сам благословил, сам отнес ее на ложе… И так далее, и так далее.
Не было никакой охоты копаться в словесном мусоре, вытащенном из головы безумца. Бред, он и есть бред. Когда приступы неконтролируемого возбуждения участились, стимуляцию пришлось прекратить. «Бес» в ушах пациента переключился в нейтральный режим, и тот мгновенно заснул — обычная реакция, когда процедура заканчивается. Видел ли поганец при этом цветные сны?
— Пакуйте, — сказал я Бэле, отрываясь от бесчувственного тела. — Передаю в руки правосудия. Имей в виду, что, когда он очнется, первое время будет слушаться тебя, как японский мальчик своего отца. Трогательное зрелище, поглядеть бы…
— А ты куда? — прокричал Бэла мне в спину.
А меня с ними уже не было.
Прежде чем пойти к Оскару, я навестил свой номер. Ничего особенного мне там не нужно было: ни пистолета, ни бейсбольной биты, ни даже увесистой чугунной сковородки я не провез в двойном дне своего чемодана. А требовалась мне пара мясных консервов. Я разложил пластиковые банки по карманам штанов и отправился на последний этаж.
В каком номере расположился наш рыжий стратег, я знал. Командировочный с кухонным ножом, этот идейный противник женщин, которые перестали вдруг продаваться, не смог скрыть от меня и такую мелочь. Боссы любят последний этаж, это престиж. Диспетчеры разнообразных служб наружного наблюдения так же обычно размещаются на последних этажах, это традиция. Я встал перед дверью и подождал, ничего не предпринимая. Вероятно, внутри возникла секундная суматоха, но дверь все-таки открыли. Подвижные молодцы с каменными лицами быстро обследовали меня при помощи ручного томографа, детектора запаха и дозиметра, и пропустили, не обнаружив ничего опасного для здоровья начальства.
— Ну? — сказал Оскар неприязненно.
Я произнес одними губами, совершенно беззвучно: «Суперслег». Я многозначительно похлопал себя по торчащим в разные стороны карманам. Карманы оттопыривались, как щеки у хомяка; думаю, выглядело это не вполне прилично, если смотреть сзади, так просто смешно. Оскар изменился в лице. Он вдруг заволновался, как песик, услышав слово «гулять».
— Всем выйти! — скомандовал он.
А когда все вышли, я пальцами показал ему, что теперь неплохо бы покрепче запереть дверь. Он дернул рычажок на мобильном пульте, подошел-ко мне и нетерпеливо повторил:
— Ну? — И тогда я вытащил из карманов консервы. На одной банке было написано: «Boeuf a la mode», что приблизительно переводилось, как «Дорожная говядина», на другой значилось уже по-русски: «Язык телячий в брусничном желе». Лицо Оскара вторично изменилось. Я вложил банки в его напряженные руки (он послушно взял их), после чего ударил.
Первым ударом я сломал ему нос. На непривычного человека это очень сильно действует. Мне ломали нос десятки раз, я это давно уже и за травму не считал, но мистер Пеблбридж подобным опытом не мог похвастаться. Оглушенный, он упал на пустые коробки из-под аппаратуры. Консервы звучно покатились по полу. Музыка! Жаль, так и не успел я попробовать эти деликатесы. Он быстро оправился, завозился среди кучи хлама, затем включил что-то на своем галстуке и простонал: «Ко мне!». Тогда следующим движением я вырвал из пульта кабель. Дверь тут же была заблокирована.
— Я не приказывал вас убирать! — всхлипнул он, поднимаясь. Задние конечности у него разъезжались. — Какого черта! Благодаря вам мы нашли предателя, я даже собирался вас в наградной лист вписать…
Я его внимательно слушал. Да-да, полковник Ангуло был сотрудником Совета Безопасности, говорил он, держась рукой за лицо. Сквозь пальцы сочилась кровь. В каком смысле был? — задавался он риторическим вопросом, изображая великого и ужасного. В буквальном. Был — когда-то в прошлом. Теперь предателя нет. Вот так, без розовых соплей. Но вы, Жилин, вы нам оч-чень нужны… Я не вмешивался в его монолог, я слушал, хоть и знал, что мне отчаянно врут, по крайней мере насчет всего, что касалось лично меня. В дверь рвались, поймав по рации сигнал бедствия.
Когда Оскар закончил говорить, я ударил его в печень.
Их грязные игры меня решительно не интересовали, разве что потом посмеяться над всем этим. Но быть дураком я так и не привык. Вы следили за мной, господа, подумал я, вы ни на мгновение не выпускали меня из поля своего контроля, и все благодаря тому, что моя одежда была обработана. Кто это сделал? Известно кто — расторопные ребята с литерой «L» во лбу. А следили — вы. Получается, «L» и Оскар — одно и то же? Или, поднимай выше, «L» и Совет Безопасности — одно и то же? С другой стороны — полковник Ангуло с его головорезами, которым тоже понадобился Странник. За ними-то кто стоит? Молчите, господа? Вы любите подстраховаться, продублировать комбинацию. Вот и получили свое дублирование, доведя его до высшей точки, до точки абсурда, когда одна задача ставится двум террористическим группам, а те мочат друг друга, будто и не родные… Нет, не интересовало меня все это.
Удар в печень — хорошее средство заставить человека задуматься о своей жизни. Совершенно особенное ощущение, по себе знаю: всего пробирает, в каждой клеточке тела отдается, и тоскливо становится, и страшно, дыхание останавливается… Это не с чем сравнить. Я ударил коротко, почти нежно: я вовсе не хотел калечить человека, не наказывал его и даже не мстил. Все просто: долгие годы я мечтал об этой минуте, и вот она настала.
— Я не приказывал убирать Кони Вардас! — хрипел мистер Пеблбридж, согнувшись пополам.
Кони Вардас… Имя прозвучало. В этом было все дело — в подлом и бессмысленном убийстве. Раздавленные гипсофилы стучали мне в сердце; дух несчастной женщины бродил за мной по пятам, не давал мне успокоения, дух укоризненно молчал, не имея возможности заговорить первым, а сам я боялся что-либо сказать погибшей, да и нечего мне было ей сказать… Не расскажи мне Кони про тайное свидание в оранжерее, никто бы ничего и не узнал. Зато тот, кто контролировал меня, кто просунул свои уши, вооруженные спецтехникой, между мной и цветочницей, — тот как раз все знал. Мало того, он один все и знал. Впрочем, эти умопостроения, конечно, ничего не значат, пока не назван мотив. И мотив есть. Возникла опасность, что выплывет связь между знатным офицером из Бюро антиволнового контроля и… кем? Кто был с доном Мигелем в оранжерее? Сеньорита Вардас не знала, кто он, этот второй, ведь постояльцев в отеле много, а она была всего лишь цветочницей, но при случае могла бы этого человека опознать. Вот в чем загвоздка — она могла опознать.
Зато я знаю, кто он. Струсивший полковник Ангуло назвал его и по имени, и по должности. Вторым был начальник Управления внутренних расследований службы безопасности при Совете Безопасности мистер Пеблбридж…
— Зачем мне убирать твою Вардас, если она была нашим осведомителем?! — выхаркнул Оскар, собравшись с мыслями.
Опять ложь. Нокаутированный босс начинает громоздить явные нелепости, пытаясь спастись. Если бы Кони была осведомителем, то у нее не получилось бы, это очевидно. Будь она осведомителем, — не смогла бы похудеть. Зато Пеблбридж, окажи он мне хоть какое-то сопротивление, возможно, высек бы искорку уважения, возможно даже, что я бы остановился, пожалел подлеца. Нет, он словно был согласен с происходящим. Синдром кролика в чистом виде.
Дверь уже ломали. Следовало поторопиться. Я содрал с мистера Пеблбриджа штаны, бросил это животное на четвереньки, зажал его голову между своими коленями и взялся за дело. Я порол его тем, что под рукою нашлось, — кабелем от их же следящей системы. Прыщавый зад сразу закровил. Исполнение приговора проходило под нарастающий аккомпанемент: снаружи орали и били в дверь чем-то тяжелым. Оскар подвывал и плакал. Только я молчал, ибо нечего мне было сказать мертвой сеньорите Вардас. Преступная комбинация была сложнее, чем казалась, хоть длинноухие зверьки и принимали решение в явной спешке. Они исходили из того, что маньяк-одиночка предпочтительнее наемника, у которого обязательно есть заказчик. Они нажали на спуск, и безумие выстрелило. Параноидальная одержимость психопата, хорошо оболваненного, заранее подготовленного, вырвалась на свободу… Или ваш «командировочный» — это кадровый офицер? Понимаю, в работе всякое бывает. Не большая разница, кем жертвовать, если жертвуешь не собой. Эх, Бромберг, наивная душа, знаешь ли ты, чем заляпаны твои психоволновые игрушки?.. Я знал. «Отвертка», вскрывшая мозг придурка, позволила увидеть краешек картины. Сначала «командировочного» выводили на меня, готовились к тому, чтобы в случае нужды быстро и без скандала от меня избавиться. Он тупо торчал в баре, демонстрируя себя многочисленным свидетелям, и смотрел на меня, мило беседующего с Кони. Он не слышал наш разговор, зато слышали те, кто подвесил его мозги на ниточки. Таким образом, появилась новая мишень. Впрочем, убивая молодую женщину, кукловоды поражали две мишени сразу: они в том числе мотивировали следующее нападение. Что может быть понятнее, когда психически больной человек, блуждая в лабиринте своего бреда, сначала жестоко наказывает женщину, которая якобы принадлежит ему, а потом мстит ее воображаемому любовнику — то есть мне. Убьет маньяк Жилина — хорошо, не убьет — тоже хорошо. Главное, что психа нужно прикончить тут же, прямо на теле известного писателя. И концы в воду, жертва принесена. В номере обезвреженного преступника нашлись бы все необходимые улики, и дело было бы закрыто.
Маньяка должны были прикончить… Бэла, Бэла! Как же вовремя ты появился в отеле, с каким же задором ты выхватил оружие! Ненавижу случайности, из-за них мысли склеиваются в ленту Мебиуса. Как мне теперь относиться к тебе, несгибаемый комиссар?
Перед тем, как дверь пала, я повесил Оскара на вешалку, насадив его пиджаком на крючок. Самое удобное место. Ноги до пола у него не доставали, а натянуть его штаны на прежнее место у меня уже не было времени. Рыжий стратег дико задергался, пытаясь освободиться, но из такого положения выбираются одним способом — если пиджак вдруг лопнет или вешалка рухнет. Потом я поднял с пола свои консервы и приготовился к бою. Что было дальше — не запомнил…
Много позже, вороша в памяти эти неприглядные страницы, я испытывал досаду — за то, что поддался первому порыву души, не справился со внезапно вернувшейся молодостью. Не стоило мне избивать и, тем более, пороть ничтожную тварь по имени Оскар Пеблбридж, опустившись до уровня его же подлости. Дурной это вкус, товарищи. Я даже чувствовал некоторое подобие стыда, но лишь до тех пор, пока не вспоминал, что не сказал ему во время нашей последней встречи ни одного слова. Ведь он пытался со мной объясниться, понимая, что страдает по заслугам, он хотел увидеть во мне сорвавшегося профессионала, которого можно переиграть, но я так и не сказал ему ни одного слова. Ни одного слова. Ни одного.
Очнулся я на носилках.
Было время, я специально приучал себя к импульсам, пущенным из разрядника, это входило в мою профподготовку, поэтому никакой беды не случилось. К счастью, меня успокоили все-таки разрядником, а не пистолетом. Носилки с моим телом как раз выносили из лифта в холл, охраны не было, только сумрачный Бэла вышагивал рядом. Я присел, оттолкнув руку врача, спустил ноги на пол и встал. Суставы сгибались с трудом, но это скоро должно было пройти.
— С добрым утром, — съязвил Барабаш. — Ты со мной в Управление по доброй воле поедешь или за тобой санитаров прислать?
— А что случилось? — наивно удивился я.
— Черт тебя подери! — зарычал он. — Это переходит всякие границы! Кто дал тебе право калечить людей?
— Вы нашли Шершня? — спросил я. — Он жив-здоров?
Бэла помолчал.
— Шершень-то здоров. — Он взял себя в руки. — Шершня в Парке Грез нашли, забрался со страху в «кувшинку». Дюймовочка с волосатыми коленками. Ты мне лучше объясни…
— Вот видишь, — сказал я примирительно. — А ты говоришь — людей калечу.
— Впрочем, господин Пеблбридж заявил, что претензий к тебе не имеет, — проговорил Бэла уже совершенно спокойно.
— Опять он соврал, — огорчился я.
— Черт подери, что тебя понесло в его номер?
— Всю ночь не мог заснуть, — объяснил я. — Гипсофилы стучат мне в сердце. Знаешь, что это такое, когда в сердце стучат однолетние белые гипсофилы? Невозможно заснуть.
— Невозможно заснуть — это причина, да, — проворчал он. — Ты уж прости меня, но я вынужден тебе кое-что сообщить…
— Подожди, — попросил я. — Постой-ка.
Мы проходили (ковыляли, если говорить обо мне) мимо бара. Здесь работала бригада полицейских в количестве трех человек, которая занималась тем, что за стаканом кислородного коктейля опрашивала одного-единственного бармена. Очевидно, остальные работы были уже закончены. Опрос протекал легко и приятно. Сотрудники искренне постарались не заметить нас, поскольку Бэла был их начальником, а я — главным свидетелем и жертвой. Но кроме них в баре работал также стереовизор, вот он-то и привлек мое внимание. Передавали очередные новости. Ночью в Университете умер человек, рассказывал репортер. Где именно? На холме. Все ведь знают, где это — на холме. От чего умер? От телесных повреждений, несовместимых с жизнью, констатировали врачи. На глазах у многочисленных гостей Университета, которые пытались ему помочь. Так что правильнее будет сначала поинтересоваться, как несчастный до этого места добрался, и второй правильный вопрос: не «от чего», а почему он все-таки умер?
— Вот именно, — с нажимом сказал мне Бэла. — Ты ведь и там успел побывать, правда?
Я не ответил. Личность скончавшегося, рассказывал репортер, не была установлена. Неопознанный труп отвезли в городской морг. К моргу вскоре стянулись люди, людей были толпы, они стояли и молчали. А час назад приехали сотрудники Совета Безопасности, которые изъяли труп, отправив его в неизвестном направлении. Так что помолчим и мы, товарищи. Помолчим…
— Зеленые галстуки все-таки получили его, — гадливо добавил Бэла, не скрывая чувств. — Не живого, так мертвого.
Я стиснул зубы. Друзья уходят, остается молчание. Обсуждать это — с кем? С теми, для кого сочувствие — всего лишь элемент службы? С марионетками на ниточках? Но почему я не вернул камни Страннику?! Как это было просто — вернуть! И он был бы жив, он вновь сделал бы реальностью свое желание жить. Хотя… Сохранялось ли у него такое желание?
Я взглянул на затылки полицейских и спросил:
— Надеюсь, вы уже допросили нашего «жениха». Повторно, без «отвертки». Имей в виду, комиссар, через двадцать четыре часа волновой стимулятор можно снова применять, ведомственная медицина только «за».
Он саркастически хохотнул:
— Повторно! Кстати, кто дал тебе право применять спецсредства без санкции суда?
— Конечно, было бы справедливее и законнее расстрелять гада на месте, — сказал я зло.
Очень зло я сказал. Мы долго смотрели друг на друга, и он все понял. Он снял фуражку и протер ее изнутри.
— Я начал говорить, но отвлекся, — произнес Барабаш, глядя вбок. — Уполномочен поставить вас в известность, товарищ Жилин, что принято решение о вашей депортации. Основание: преднамеренная ложь в анкете. Вы — агент незаконного образования, называемого Мировым Советом, что подтверждено соответствующим запросом, а ваш работодатель — сам председатель, товарищ Эммануэл.
— А ты на кого теперь работаешь, комиссар? — спросил я его. — Неужели все на того же?
— Просто — работаю, — ответил он сухо. — Я всегда и всюду — просто работал, без всяких местоимений и предлогов. Все, что я могу для вас сделать, это оформить показания только по последнему инциденту, я имею в виду нападение в баре.
Здесь, по-моему, все ясно, мы отправим подследственного на психиатрическую экспертизу. Что касается других инцидентов с вашим непосредственным участием… Я придержу эти дела, пока вы не уедете. И это все, что я могу сделать.
Он выговаривал словечко «ВЫ», как будто специально готовился, репетировал. Непросто было человеку, пусть и продолжал он служить тайным структурам Управления внутренних расследований. Одно дело — на «вы» с врагом, с начальством, с предавшей женщиной, и другое дело — с боевым товарищем, который тебя любил. Как я мог забыть, что из Совета Безопасности просто так не уходят, разве что в слегачи или в скандальные писатели!
Мы двинулись дальше, а стереовизор между тем продолжал посылать мне в спину нервные импульсы новостей. Большая группа молодых планетологов, исследовавших полярные области Венеры, покорила высочайшую точку этой планеты, обозначенную на картах как высота 70. Герои, совершившие восхождение, предложили назвать вершину Пиком Строгова — в честь известного русского писателя, много сделавшего для формирования образа будущих космопроходцев, и только что пришло сообщение, что Планетографический Комитет принял положительное решение… Я остановился, не сделав и пары шагов. В голове моей закрутился вихрь. В голове моей взорвалась термическая бомба. Пик Строгова. Как это понимать? Что бы это значило — совпадение или… Надо бы присесть, подумал я, но тут меня заметил менеджер.
Менеджер помахал мне рукой, выбираясь из-за своей стойки.
— Как кстати, — подбежал он в полном восторге. — Вам недавно прислали… — Он протянул заклеенную коробку и неожиданно козырнул. — От товарища Строгова.
Вот еще совпадение, кисло отметил я. Специально ждал, пока я новость услышу? Кто же козыряет с непокрытой головой, мысленно ответил я ему, разглядывая почту. Хотя бы казенную панаму надел, дружок, хотя бы чепчик у мамы попросил… Управляющий исчез, не дожидаясь моего «спасибо» или иной формы благодарности. К посылке было подшито письмо. Одолеваемый нехорошими предчувствиями, я вскрыл пергамент. «Ванечка, Вы забыли у меня эти минералы. Вероятно, они нужны Вам для работы. ДД.» Забыл — это понятно, подумал я. Нужны для работы. Но почему именно сегодня на карте Венеры появился пик Строгова? Я сел на ближайший плетеный диван; я ощущал острую необходимость сесть.
— Слушай, Бэла, — сказал я умоляюще. — Ноги не слушаются. И вообще, ты же знаешь, какие у меня были день и ночь. Человек я не молодой…
— «Не молодой», — повторил он с сердцем. — Накуролесили в «Семи пещерах», как супермены какие-нибудь, и еще жалуются. Воображаю, какой иск они вчинят Советскому Союзу… Врача вернуть?
— Выживу, — сказал я. — Полковник Ангуло арестован?
— Полковник Ангуло исчез, Жилин.
— Комиссары не лгут, — сказал я. — Да ты не волнуйся, уеду я, уеду. Вот отдышусь, и тотчас на вокзал.
— Сначала — в Управление. — Он постоял в неуверенности, размышляя, как быть, и решился: — Я подожду вас на площади. Надеюсь, обойдемся без трюков?
— А как же утренняя месса, комиссар? — невинно справился я. — Разве не должно вам в это время сидеть в костеле?
— Да, насчет костела ТЫ правильно догадался, — произнес он с непонятным выражением. — Днем я специально сбежал из Управления, чтобы с одним засранцем не встретиться.
— Ты в самом деле веришь в Бога? Ты, бывавший в Космосе?
— Я не бывал в Космосе, — ответил он предельно серьезно. — Как и ты, не обольщайся.
Он ушел, не пожелав мне здоровья.
Прежде чем распаковать посылку, я осмотрелся. Это был тот самый диванчик, на котором мы с Кони Вардас беседовали вчера о проблемах похудания: живая изгородь, бассейн с кувшинками, метлахская плитка… Круг замкнулся.
Пик Строгова.
Как все это понимать? И что тут, собственно, понимать? Яснее ясного. Старик обнаружил камни на своем письменном столе, взял их в руки — и… Покорители Венеры ощутили острейшую потребность назвать величайшую вершину этой планеты в честь величайшего писателя. Если что-то исполняется, значит, кто-то это пожелал. Могут у старика быть маленькие слабости? И могут, и наверняка есть. Но дело, конечно, не в Строгове и не в его слабостях. Да, я пытался подбросить Учителю свои заботы, я трусливо перекладывал ответственность на чужие плечи, какими бы тактическими соображениями при этом ни руководствовался, но дело также и не в этом. Дело было именно в ответственности… Я ведь не хотел сюда ехать, отчетливо вспомнил я. Операция «Время учеников» не вызывала у меня ничего, кроме недоумения. Однако же — поехал. Зачем? Что-то вдруг потянуло меня в этот город, и Строгов — только повод, кстати подвернувшийся. Если бы не было Строгова с его абулией, я все равно бы сорвался с места. Чья-то властная рука вытянула меня из коробки с марионетками и бросила на эту сцену. «Вас вызвали.» Кому-то понадобилось, чтобы здесь появился писатель Жилин, жаль только, что фантазии у этого несчастного кукловода достало только на хорошо организованную глупость, — и закрутился вихрь телефонных звонков, созывающих учеников к одру угасающего учителя… Я ужаснулся, потому что сомнения исчезли. Все сложилось. У какого писателя так было? Что ни придумаешь, — сбудется, сложится в точности! Писатели, бывало, предсказывали будущее, причем довольно конкретно, с именами, названиями и местами действий: взять ту же катастрофу с «Титаником» или противостояние двух шахматных королей — Каспарова и Карпова. Предсказывали, и не больше! Но творить будущее самому? Как не сойти с ума, как не потерять голову от собственной власти? Реальность — это паутина, дернешь на одном конце, отзовется на другом. Возможно ли учесть все мельчайшие, невидимые взаимосвязи и взаимозависимости? Власть творца ограничена его фантазией. Недостающая буква в Слове — это и есть фантазия творца, вот почему солидные, рассудочные люди в галстуках обречены на проигрыш в своих отчаянных поисках…
А ведь писатель Жилин тоже брал камни в руки, подумал я. О чем ему в тот исторический момент мечталось? О том, что Будущее должно быть простым и понятным! Красивый сон. Чем он кончится? Увидит ли писатель Жилин результат? И не нужно ли закрепить один целительный сон новым, чтобы вылечить мир наверняка? Мир вылечит только чудо, это ясно. Только чудо… Или, якобы мечтая о Будущем, Жилин представлял на самом деле, как взглянет в глаза пойманному убийце? В испуганные поросячьи глазки. Он хотел взять зверя за горло — и взял. Желание сбылось. Может, черт возьми, у меня быть свой Пик Жилина, человек я или кто?.. Но имею ли я в таком случае право, подумал писатель Жилин. Имею ли я право быть творцом?
Нет, спорить с самим собой я не буду, это отнимает слишком много сил.
Посылка от Строгова была яростно разорвана надвое. Буквы упали на сомкнутые колени. Мир нуждается в чуде! Если имеешь возможность, значит, имеешь и право, сказал мертвый Странник. К двум Буквам добавь третью. Возьми Их в руки, и увидишь, как крутанутся вокруг тебя звезды…
Звезды вдруг крутанулись, и приходится включить маневровые капсулы, чтобы остановить беспорядочное вращение. Странник — жив-живехонек; собственно. Странником-то он еще не стал, просто трудолюбивый мальчик, один из тысяч мальчиков пространства, уверенных, что любимое дело — это единственная радость в жизни. Безмолвное пламя, в несколько секунд пожрав гигантскую атриумную конструкцию, перекидывается на все, что рядом. От титановой ячейки, которую бригада так и не успела доварить, остается только космический газ. Болезненно белый язык слизывает аппарат для вакуумной сварки, рвется и к нашему человечку в скафандре, но не достает, не достает, не достает… Космос слишком большой, чтобы быть настоящим, он кажется студийной декорацией — обычное чувство, одолевающее изредка даже опытных межпланетников. Маневровые капсулы на бедрах работают на полную мощность. Черный провал… Случайный астероид прерывает бессмысленное движение в никуда. 557 миллионов километров до Солнца (при средних 465), период обращения — 5 лет и 5,7 месяца. Эксцентриситет 0,198. В настоящий момент здесь астрономическая зима. Ничтожная пылинка в Космосе: если смотреть с Земли, блеск ее составит всего 16,6 звездной величины. Впрочем, обреченный мальчик, разумеется, не знает параметров этого небесного тела, знает он только то, что воздушной смеси остается всего лишь на сто тридцать три минуты. Этот крохотный мир и станет моей могилой, думает он, хватаясь за возникшую под его брюхом твердь. Ужасно обидно… Очередной провал длиною в месяц. Поиск тел, упавших в черную бездну: десятки спасательных шлюпок наугад прочесывают пространство. Спасатель Пек Зенай садится на астероид, поймав слабый сигнал аварийного маяка, вмонтированного в скафандр. Погибший вакуумсварщик лежит на спине, раскинув руки и сжимая гидравлическими перчатками два невзрачных каменных обломка. Манипуляторы переносят жертву в шлюпку, вскрывают скафандр, помещают труп в холодильник, а уже на подлете к кораблю-матке труп самостоятельно выползает из холодильника… Пек впервые в жизни нарушает служебный долг, умудряясь скрыть от всех невероятный факт спасения. Он прячет человека, обнаруженного на астероиде, потому что безоговорочно доверился ему, потому что таково было желание этого странного человека. Второй раз Пек нарушит долг уже на Земле, но позже, много позже. Чудом выживший мальчик, ставший в один жуткий миг мужчиной, живет в спасательной шлюпке Пека до самого возвращения. Пек изредка берет камни в руки, рассматривая их. Бог весть о чем он в эти моменты думает и мечтает. Там же, на планетолете, он относит один из артефактов в лабораторию, не в силах справиться с любопытством истинного космопроходца, и таким образом Буква попадает в МУКС… Что еще важного в этой истории? Странник тогда не стал еще Странником, не смог он уберечь первого из своих адептов. Пеку Зенаю многое в мире не нравилось, ох многое! Горячий и агрессивный, он видел для человечества только экстремальные пути выхода из тупика. Нужна селекция, твердил он. Маленькая и удобная машинка иллюзий, которая сильнее любого наркотика подчинит сознание подлецов и выродков. Даже не сознание, а подсознание, гарантируя избирательность действия. Чтобы убийца лег на диванчик, подключился трясущимися от нетерпения руками и отправился безнаказанно открывать новые грани жизни — в свою реальность, где он Дьявол. Чтобы душонка его не захотела возвращаться обратно. Чтобы все они, с больными душонками, ушли в свои сны и там тихо передохли. Запросто, радовался Пек, интересная идея! Человечество очищается от грязи, остаются только сильные духом, веселые и приятные во всех отношениях люди. Рождается Он, Человек Будущего… За все надо платить, в особенности за реализованные мечты. Пек Зенай заплатил…
Вы хотели увидеть, как оно все было, говорит Странник Жилину, и вы увидели. Не пора ли заняться делом? Вы знаете, каким должно быть Будущее, так скажите Слово. Вселенная ждет. Первая Буква — это Космос, вторая — Земля, а третья — то, что их скрепляет. Фантазия Творца… Что нужно сделать, чтобы человечество объединилось, озабоченно спрашивает Жилин. Нужно, чтобы кто-то этого захотел (приходит ответ), так же, как кто-то захотел, чтобы появился слег, а на Венере — пик Строгова. Разве трудно быть Богом, если вам дано Слово? Единое правительство и отсутствие войн, решает тогда писатель Жилин. Начнем с малого: покончим с двоевластием. Ау, господин Оскар! Ты слышишь меня, рыжий карлик? Мировой Совет должен быть руководящим органом всей Земли, это решено. Не хочется повторяться, но в Мировом Совете должны быть только учителя и врачи; к черту юристов и экономистов, которые знают что угодно, кроме людей! Потому что главным героем Будущего станут дети, это ведь так просто и понятно. Например, вот этот упорный и смышленый мальчуган, который ползает по всему дому со своей восхитительной самодвижущейся дорогой, который знать не знает, какую ему можно уготовить судьбу. Так что Новый Человек нам не понадобится, достаточно того, который есть. Рецепт прост: удовольствия, разрушающие мир, по одну сторону границы; вечная молодость — по другую. Жесткая система естественного отбора, прав был Строгов. Лучший стимул быть нравственным — это выгода. Далее: к пику Строгова на Венере мы все-таки прибавим памятники Дим-Димычу по всей Земле, зато памятников Жилину — чтобы ни одного! Ей-богу, это лишнее. И никаких гипноизлучателей, коллега Банев, оставим твой юмор висельника для книг прошлого века. И нечего рефлексировать, милый мой мальчик Юра, будто мы навязываем кому-то свои фантазии. Неуверенность в своем праве? Ату ее! Мы с тобой коммунисты или нет? Мы знаем, каким должно быть Будущее, это право дано нам Богом.
Это право дано нам Богом…
— Вам нехорошо? — участливо спрашивает менеджер, опять оказавшийся рядом.
— Главное, чтобы вам было хорошо, — отвечает писатель Жилин через силу. Он бережно прячет камни в карманы. Менеджер пятится, вежливо хихикая.
Радость, абсолютно ничем не мотивированная, комом стоит в горле. Эйфория — это, знаете ли, симптом, вспоминает Жилин и озабоченно думает: «Вот что, не сойти бы мне с ума». Когда человек подменяет себя героем, придуманным собой же, когда он покидает свое тело и смотрит на себя сверху, — это чревато потерей собственного Я. «Вот что, — озабоченно думаю я, — не забыть бы мне вернуться…»
Что я тут нагородил, с веселым ужасом продолжает думать Жилин. Неужели это мои были мысли — про монополию Мирового Совета на власть и про рецептуру создания Нового Человека? Про богоизбранность коммунистов — тоже мои мысли? Не может быть. Да, я коммунист, именно поэтому я знаю назубок: стоит только помянуть Бога, обязательно находится кто-то, возомнивший себя «богоизбранным», и начинает раскачивать мир, лишая его реальности. Реальность превращается в сон, и почему-то этот сон всегда оказывается кошмаром. Поставим вопрос ребром: придумать человеческую историю — цель благородного человека или фанатика?
Неужели это тоже мои мысли?
Жилин смеется в голос, пугая проходящую по холлу парочку. Что делать со Словом, вот о чем надо сейчас думать, строго напоминает он себе. Оставить камни в своих карманах? Подарить другому хорошему человеку? Сдать в литературный музей? Кому, собственно, они принадлежали до Странника, как оказались на астероиде?
Нет, все-таки попробуем серьезно. Вряд ли происхождение этих камней представляет хоть какую-то важность. Гораздо важнее то, что Слово существует, что бы Оно собой ни представляло. Кванты желаний, соединившись в одну страшную Волну, способны стереть с поверхности планеты все живое и точно так же способны дать счастье всем. Счастье — всем, и чтобы никто не ушел обиженным… (куда пошел? Сидеть по местам! Слушай мою команду: наслаждаться дармовым счастьем до поступления новой команды…) Мечта бездельника. Емеля на печи. Я, кажется, хотел серьезно? Это трудно. Давно люди голову ломают, как бы это им прожить без войн, всем вместе, одной семьей и тому подобное. Социальное объединение никак не получается, следовательно, самый очевидный путь, биологическое объединение. Общий разум. Человечество как единый организм. Однако нужна ли нам конвергенция в таких уродливых формах, останутся ли в результате люди — людьми?
Рассмотрим другой вариант. Человечество охватывается физическим полем чьего-то желания, то есть объединяется наподобие электронной схемы. Пусть кто-то станет в этом мире Богом. Кто-то один, разумеется. Если Бога нет, Его нужно позвать, но если Он есть, Его просто нужно найти! Не на Земле, так на Юпитере, не на Юпитере, так на астероиде с труднопроизносимым именем Strugatskia. И пусть мир станет чьей-то мечтой.
Таким образом, поле желания рождает не исполнение желания, а того, кто берется это желание исполнять. Поле желания рождает Бога.
Слово из трех букв… Из каких? Почему обязательно «Б», «О» и «Г»? Не может ли это быть случайным набором букв? Ну, скажем, «А», «Б»… что еще добавить?.. предположим — «С». Почему сразу — бессмыслица! АБС. «АБСолют», то бишь вечность. Наверняка есть и другие варианты разгадки, дело-то не в этих частностях. Так долго потерянные, забывшие счастье люди искали Бога! А Он оказался на крохотной малой планете с непонятным названием, которую не вдруг отыщешь в циркуляре. Возможно, там Его дом? Или перевалочный пункт? Или этот астероид и есть Бог?
Не ложный ли, спрашивает себя коммунист Иван Жилин. Сколько раз ложные боги бросали людям Слово, а в мире ничего не менялось…
Нескончаемые сомнения — плод болезненной веселости, ибо опять пришло время принимать решение. Что делать с сокровищем? Человек, убивавший других людей, — не совсем полноценный человек, острая заноза сидит в его рассудке, с которой ему жить (или, наоборот, как раз слишком полноценный?). Это он о себе размышляет, о бывшем агенте Иване Жилине; впрочем, агент не бывает бывшим, не так ли, товарищ Барабаш? Можно ли подобным людям доверять божественные рычаги?.. Вероятно, все это отговорки. Творцу просто стало стыдно — за свои мысли, которые почему-то не кажутся ему своими, за фантазии, которые он боится увидеть в реальности. К кому пойти, с кем разделить чудовищную тяжесть?
Название Strugatskia странным образом перекликается с фамилией Строгов. Значит ли это хоть что-нибудь?
У Строгова я уже был, думает он, этот путь пройден. Так не навестить ли снова семью Горбовских? Интересно, любит ли маленький Леонид Анджеевич играть с красивыми и необычными камешками, которые дарят ему знакомые дяди-межпланетники?.. Удачная, спасительная идея! С какой стати мальчик должен жить в мире, придуманном кем-то за него, тем более если этот кто-то — старый, желчный моралист…
Молодой, счастливый Жилин встает и шагает к выходу, ни на кого не глядя. Возвращаться в отель он не собирается.
Глава восьмая
— Давеча твой папа у меня на плече плакался, — сообщил Жилин. — Это правда, что ты в четырнадцать лет была беременна?
— Была, — ответила она, нахмурившись.
— Мария просил тебе передать, что твой сын сбежал из интерната.
— Я знаю.
— Может, ты сама это дело и организовала?
— Может…
На взморье было все, как и вчера. Решительно никаких изменений, дубль номер два. Вот только в беседе на этот раз отсутствовала благородная сумасшедшинка, которая так нравится молоденьким барышням и старым эстетам.
— Ты ведь у нас тоже в некотором роде Мария, — вспомнил Жилин. — Псевдоним в честь папы? Или, наоборот, в пику папе?
— Кто кому пики ставит, — хмуро сказала Рэй, помолчав. — Он целую интригу провернул, когда отдавал Пьера в интернат. Знаешь, как теперь зовут мать моего сына? Согласно документам — Марией Ведовато. Дедушка записал себя вместо меня, чокнутый извращенец!
— Ну уж, извращенец, — неодобрительно сказал он ей. — А ты, стало быть, сделаешь так, что мамой Пьера станет пышнотелая Мария Семенова. Сочувствую вам всем. Лично мне мама Рэйчел нравится больше.
— Тебе смешно, — вдруг рассердилась Рэй, — а у меня отец — бешеный, тупой солдафон.
Жилин погладил ее по загривку, по вставшей дыбом шерсти.
— Старик жестоко раскаивается, дитя мое. Зато ты, по-моему, просто кукушка. Подбросить птенца кому-нибудь в гнездо, чтобы спокойно порхать по лесу, — это, конечно, не тупо…
Очнулся он на газоне. Рэй протягивала ему руку, помогая подняться; она улыбалась, у нее опять было хорошее настроение. Попался, как школяр, с досадой подумал он. Обыкновеннейший бросок через бедро, классика, самое первое действие, с какого юные спортсмены начинают осваивать любой вид борьбы. Бросок был выполнен чисто, с отменно высокой амплитудой: если бы не защитный рефлекс, то своротил бы Жилин своими ножищами, красиво взлетевшими к небу, информационный куб со схемой пляжа.
— Вам следует быть учтивее с дамой, сэр, — назидательно произнесла девчонка.
— Так то с дамой, — прокряхтел он, отряхиваясь. — Бешенство, по-моему, ваша фамильная черта. Это не комплимент. Тоже мне, сосуд благодати, достойное дитя своего папаши. У Марии, по слухам, с твоими дедушкой и бабушкой был один сплошной конфликт, который, как я вижу, выродился в конфликт с собственной дочерью. А мне вот любопытно: какое будущее ты хотела бы для его внука?
— Для Пьера? Чтоб был подальше от людей, — ответила она, не задумываясь.
— Сделаем. — Он засмеялся.
Рэй остановилась и странно посмотрела на спутника.
— Не забудь, ты обещал.
Непонятно она вела себя, никакого траура, никаких слез над телом, которое к тому же утащило воронье в пиджаках. Обойдемся без иронии, подумал Жилин. У меня есть свой Учитель, но ведь и у нее был свой! Или неопознанный мертвец на холме — это ход, мистификация, высококлассная инсценировка?
— Странник точно умер? — спросил Жилин нейтрально. — Ошибки нет?
— Умер? — с совершенным хладнокровием удивилась Рэй. — Он давно уже был мертв, и ты прекрасно об этом знаешь.
Она взглянула на популярного писателя так, что не понять ее было невозможно: мертвецы эту женщину больше не интересуют. Только живые и настоящие. Только те, у кого есть будущее. Те, кто умеет строить из будущего складные бумажные фигурки. Иногда Жилин завидовал мужчинам, на которых ТАК смотрит женщина… Вот поэтому меня теперь интересует настоящее, подумал он с наслаждением. Будущее подождет. Я хорошо выспался в полицейском Управлении, подумал он, напрягши и отпустивши молодые мышцы плечевого пояса. В ведомстве Бэлы, как выяснилось, с особой заботой относились к лицам, подлежащим депортации: их искренне жалели. Была даже предусмотрена специальная комната психологической разгрузки — с психологом наготове, — чтобы снимать с нашкодивших гостей стресс, вызванный суровым решением властей. (Гость этого психолога вежливо послушал, улегшись на диванчике, и в результате проспал до трех часов дня, потому что никто его не будил.) А до того он мужественно принял постановление о высылке, зачитанное официально, подписал бумаги и прошел медкомиссию. Медкомиссия, как объяснили, понадобилась для всеобщего спокойствия, чтобы ни у кого никаких претензий. Очевидно, был печальный опыт. Затем Жилин оплатил билет на поезд, который ему тут же вручили (билет, а не поезд), а уже проснувшись, он благополучно покинул здание Управления — никто ему не препятствовал. Забавно здесь выдворяли. Расписался, получил билет и свободен. Не уедешь сегодня — завтра процедура повторится в точности, включая повторную оплату билета. Интересно, что случится, если ты и послезавтра не уедешь? Нет, не желал писатель Жилин думать о завтра и, тем более, о послезавтра, только о сегодня, только о сейчас…
— Сейчас ты мне заявишь, что мертвые бессмертны, — проворчал Жилин в унисон своим мыслям. — Хочешь сбить умного с толку — заговори, как клинический идиот. Так вас учили? А, агент Рэй? Она же дочь папы Марии, она же возлюбленная товарища Эммануэла… Мозги сломаешь, распутывая ваши шарады.
— Бывшая возлюбленная, — строго поправила его агент Рэй. — Быв-ша-я. Может, расскажешь наконец, как ты догадался?
— Бывшие возлюбленные очень ранимы. О чем, рассказать, солнышко?
На неуловимую долю секунды молодая женщина стала старушкой. Так-так, агенту хотелось знать, где был прокол, хотелось заняться разбором полетов. Отчего бы не помочь коллеге, подумал Жилин. Как я догадался? Рост. Запах… Рост я определяю с точностью до миллиметра, это да. С запахами сложнее, но главное, видимо, все-таки в другом. Я к ней неравнодушен, вот в чем разгадка. Неужели это правда, спросил он себя. Неужели впервые в жизни это правда?
— Все просто, — сказал он. — Твоя фрау Семенова держала ручной детектор точно такой же хваткой, как и юная ведьма, которая прокалывала мне руку спицей. Ты поджимаешь особым образом мизинец, забываешь контролировать это движение.
— Черт, — сказала она. — Надо работать над собой. Я-то спрашивала, как ты понял, что Рэй — это я?
— Еще проще, — улыбнулся Жилин. — Ты сама вчера проговорилась, здесь же, на пляже, помнишь? Сказала, что мой начальник на меня обиделся из-за того, что я раскрыл в известной книге его подлинное имя. С Марией так и было. Откуда ты могла это знать? Да только от самого Марии.
— А я думала, Эмми тебе мой голопортрет показал, — пошутила женщина.
Они брели вдоль моря. Оба были в солнцезащитных шлемах, непростых, разумеется. Автомобиль, также оборудованный системой квантового рассеивания, ждал в парке, на стоянке возле одного из гротов. На полуголого Жилина заглядывались, как никогда раньше, и сегодня это было для него почему-то важно. Будущего больше не существовало. Он медленно вынул из карманов штанов неземные камни, после чего, один за другим, закинул их далеко в воду.
Рэй застыла, ничего не понимая.
Так надо, твердо сказал он себе. Никакого суперслега — никому и никогда, ни взрослым праведникам, ни юным гениям. Живи спокойно, Леонид Анджеевич, никто не вложит в твои руки подобную тяжесть, — решение принято и исполнено. Все! Отдать ЭТО кому-то было малодушием. Впрочем, как и оставить себе. Выбрасывать ЭТО в море было куда большим малодушием, но… Существовал ли четвертый вариант?
Божественные Буквы красиво шлепнули о волны и ушли на дно, смешавшись с одинаковой, идеально отшлифованной галькой. Что же ты натворил, явно хотела крикнуть Рэй, однако сказала совсем другое:
— У тебя не осталось желаний?
Желал ли что-нибудь Жилин? Он знал, каким должно быть Будущее, и он воспользовался своим правом. Однако, избавляя случайного человека от соблазна стать Богом, не пытался ли он на самом деле обезопасить собственные сны? Кто скажет ответ? О чем еще Жилин думал и мечтал, когда сжимал камни в кулаках, — только ли о счастье для всех и даром?
Он оскорбился, пряча улыбку:
— У меня не осталось желаний?! Это теперь-то, когда я точно знаю, что ты была права и все придумано моим подсознанием?!
Он притянул ее к себе, морально готовый в любую секунду снова оказаться на земле. Впрочем, теперь мы еще посмотрим, кто кого. Его руки как бы сами собой легли на обманчиво хрупкие плечи: женщина изучила внимательным взглядом эти его руки… однако ничего не случилось, и тогда он прошептал:
— Я и правда хочу, чтобы ты разделась. А потом — чтобы раздела меня.
Когда Жилин тащил Рэй к зарослям акаций, она хохотала, как деревенская дурочка, и шаловливо задирала свою кислотную маечку, под которой ничего, кроме загара, не было.
«Экспресс-люкс» уносил его прочь из страны, где люди, не желавшие жить иначе, принялись вдруг думать иначе, и у них все получилось. Где деньги под матрацем воспитывали не алчность, а бескорыстие; где выгода стала двигателем нравственного перерождения. И где, наконец, доктор Опир читал лекции по макробиотике с той же страстью, что и призывал дураков семь лет назад быть веселыми.
В так называемом одноместном купе отлично разместились два человека. Фрау Семенова спала в гостиной на диванчике; милая была бабуля, совсем не обременительная для одинокого рефлексирующего супермена. Иван Жилин, увы, не спал, хоть и полагалась ему роскошная откидная полка, кстати, двуспальная. За окном мелькали неоновые стрелы направляющих линий. Бежать, думал он. Куда? Обратно в Космос? В том Космосе я уже был, хватит. Прав был Бэла, когда советовал мне не обольщаться. Вовсе не наш Космос, в муках осваиваемый героями пространства, управляет этими удивительными людьми и этой планетой, которая пока им не принадлежит. Да, Главное — на Земле. Но из этого, как ни странно, следует, что Главное все-таки в Космосе. В том, которого никто никогда не видел. А на Земле что ему делать? Какие еще цели может поставить себе человек, у которого было Слово? Если подняться к небу и взглянуть на все сверху, оставив внизу бессловесное тело, тогда не придется бежать. Однако не будет ли и это бегством? И не украдут ли тело вездесущие шакалы в зеленых галстуках?
Кофеварка возле бара слабо жужжала, выдавая эспрессо по капельке. Когда одноразовый стаканчик был почти полон, Жилин встал и остановил процесс. Других звуков, мешающих мыслям, не было, как не было и тряски: абсолютный комфорт. Естественный Кодекс на территории поезда пока не действовал.
Так какая у меня теперь цель, напомнил себе пассажир. Каков смысл? Смысл чего? Да всего! Боже упаси, только никакого пафоса, испугался он; это устройство, вживленное в мозг каждого писателя, вечно путает обертку с конфетой. Да выключите же пафос! Жилин сунул голову в гостиную и посмотрел на спящего агента Рэй. Дружище Эммануэл, узнав, что друг Иван направляется в эту страну, попросил навести справки о его возлюбленной, канувшей в здешнем соленом воздухе. Товарищ председатель, как выясняется, решал своей просьбой множество попутных задач, но пусть это останется на его пролетарской совести. Жилин выполнил и перевыполнил просьбу, да только Рэй уже не была возлюбленной Эммануэла. И чтобы похитить ее, не понадобились десантники и психоволновые игрушки. Она сама вошла в «Экспресс-люкс», сама спряталась в этом купе… Так какое желание я загадал, пристыдил себя Жилин. В придачу к тем масштабным сценам, где каждый человек грядущего получает свою порцию счастья, — что за тень мелькнула на заднем плане? Он смотрел на женщину. Честно ли это? Творя чудо, совмещать личное с общественным — достойно ли это богоизбранного коммуниста?
Но главное, главное — может ли стать Смыслом обычное купе со спящей в нем женщиной?
Жилин не решался произнести ответ. Есть все-таки вещи, которые сильнее твоей воли, — впервые Жилин узнал это. Он допил стаканчик кофе, седьмой по счету, и спросил непонятно кого: что дальше?
Сбежавший из интерната Пьер Семенов наверняка обнаружится на каком-нибудь планетолете. Обычное дело. Куда еще бегут искатели приключений, не вышедшие из мальчишечьего возраста? Рэй будет заниматься сыном, никуда не денется, кукушка хренова. Пока дети воспитываются без родителей — не ждите Будущего, и никакая фантазия вам не поможет… А я напишу новую книгу: ИВАН ЖИЛИН, «ТРИНАДЦАТЫЙ КРУГ РАЯ»… нет, только без слова «тринадцатый»! Межпланетники жутко суеверны, чего уж там… «РАЙ БЕЗ БОГА»… нет, такие двусмысленности не годятся, поди потом доказывай у каждого лотка, что рая без Бога не бывает… «НОЧЬ В РАЮ»… да и в названиях ли дело? Нет более острого чувства для все испытавшего человека, чем дописать в новой книге последнюю главу. Вот он — настоящий Смысл! Какой еще тебе нужен?
Жутко болела рука, как раз в том месте, где были следы от проколов. Наверное, это означало, что поезд давно пересек границу. «Экспресс-люкс» все отдалялся, все отдалялся от созданной кем-то реальности. Это означало конец иллюзиям.
— Зачем я возвращался? — невесело произнес Жилин.
Бежать…
Никак не получалось думать о счастье для всех, и будь оно все проклято, ведь теперь вообще ничего не приходило в голову, кроме этих его жестоких слов: «НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ТУДА, ГДЕ ВАМ БЫЛО ХОРОШО, ТЕПЕРЬ ТАМ ВСЕ ИНАЧЕ, А ЗНАЧИТ — НЕ ДЛЯ ВАС. НЕ ДОСТРАИВАЙТЕ ТОГО, ЧТО НАЧАЛИ ДРУГИЕ, ТАМ ЖИВЕТ ЧУЖАЯ ДУША, А ЗНАЧИТ, УСПЕХ СНОВА УСКОЛЬЗНЕТ У ВАС ИЗ РУК.»
Ленинград. 1960–1999 гг.Николай Романецкий БЕГСТВО ИЗ ОДЕРЖАНИЯ
Какое мне дело до их прогресса, это не мой прогресс…
А. и Б. Стругацкие «Улитка на склоне»На этот раз Созидалище оказалось похожим на старинное зеркало с потускневшим, но еще прочным покрытием. А лес вокруг — будто потрескавшаяся рама. С облупившимся лаком…
Откуда пришло такое сравнение, Нава не знала — в ее жизни никогда не было ни одного зеркала. Тем не менее, слово возникло в памяти. И не только слово… Следом явился образ: девушка увидела перед собой собственное лицо, столь же отчетливо, как прыгуна в пяти шагах слева. Прыгун был спокоен — дерево и дерево. И небо выглядело обычным, серо-непроницаемым, занавесившимся плотными тучами, ни малейших признаков того, что за ним прячется солнце.
А потом над Созидалищем начал сгущаться туман, и Нава поняла, что пора. Скинув хламиду, осторожно, утиным шагом, начала спускаться к блестящей субстанции. Сначала теплого и ласкового коснулись ступни, потом щиколотки, колени, бедра… Едва погрузился сразу ставший невесомым живот, Нава почувствовала, как дочь толкнулась изнутри, да так, что обмерло сердце.
В пояснице сразу возникла ноющая боль. Ступни сами собой оторвались от илистого дна, и Навино тело улеглось на поверхности озера.
Туман продолжал сгущаться, скрыл недалекий берег. Рядом раздался негромкий плеск — это приблизилась Кормилица.
Дочь шевелилась все энергичнее. Навины бедра расступились, освобождая дорогу той, кому пришло время покинуть материнскую обитель. Ноющий таз погрузился в животворное тепло, готовое принять младенца в свои объятия.
И тут Наве стало страшно — проснулся древний инстинкт, с которым в одиночку не могла справиться даже Славная подруга.
— Вдохни и тужься, — сказала Кормилица. — Во славу демиургу!
Ее торс прорисовался сквозь туман. Полные груди плавали на поверхности Созидалища, будто невиданные белые рыбы. Молока в них хватило бы на пятерых.
От Кормилицы мягким ветерком потянулся импульс желания помочь. Животворное тепло усилило его до жажды, потом до полновесной страсти.
Страх тут же исчез, сменился сначала спокойствием, потом слиянием.
Нава глубоко вздохнула, коснулась ладонями напряженного живота и принялась тужиться. Сразу же новая волна схваток, неведомой еще силы, обрушилась на ее тело. И Нава не выдержала — закричала.
В самый первый раз сравнить озеро с зеркалом Наве бы и в голову не пришло. Она словно бы спала, но все видела и замечала. Ведь в лесу нельзя иначе. Мама держала ее за руку, Наве оставалось только ноги переставлять. Она знала, что Молчун идет следом, и ей было совершенно не страшно. В случае чего он поколотит палкой толстую, которую Нава обозвала старухой, да и мама поможет, потому что это мама, хоть она сегодня и злая от жары, а то, что Наве показалось, будто мама с толстой заодно, так это просто показалось, мало ли что может показаться, когда не то спишь, не то не спишь, жаль только, что никак не повернуть голову и еще раз не сказать Молчуну, чтобы он не уходил, ведь он ее муж и должен защищать ее — хоть от воров, хоть от мертвяков, хоть от толстой толстухи…
Раздавались какие-то голоса, и, кажется, один из них принадлежал Молчуну, а другой — толстой, но Нава ни слова не понимала. Потом сон словно бы отпустил ее, и она сумела обернуться и сказать, чтобы муж не уходил. Рядом с Молчуном стоял новенький мертвяк, но тут, похоже, его бояться не стоило.
Маме и толстухе Навины слова не понравились, ее попросту поволокли в тростники, и это уже не понравилось Наве. Однако она чувствовала, что сопротивляться бесполезно, и лишь попросила, чтобы Молчун без нее не уходил. Пусть он ей не муж, раз этим не нравится, но она-то все равно его жена, выходила его, и он должен ее дождаться, даже Кулак бы дождался, а уж про Колченога и говорить нечего…
Тростники обступили со всех сторон. Молчуна с мертвяком стало не видно. А потом откуда-то появилась толстая.
— Снимай свою рухлядь, — сказала она, — и марш в воду.
Нава поняла, что женщина назвала рухлядью ее, Навину, одежду. И это ей тоже не понравилось.
— Сама ты рухлядь, толстая ты старуха, что ты цепляешься, как фиолетовая колючка, я с тобой и разговаривать не собираюсь, я с мамой разговариваю, а тебя бродилом полить…
Толстая вдруг расхохоталась:
— Боевая у тебя девчонка, милая моя. Славная получится подруга…
Похоже, это были первые слова толстой, которые обрадовали маму, потому что она тоже улыбнулась. Однако Наве толстая попрежнему не нравилась…
— Сама ты славная подруга, у тебя, наверное, ни дома не было, ни мужа, потому ты такая толстая и злая, и я слушать тебя не буду, я маму буду слушать, хоть ей Молчун и не понравился, но это от жары…
— Снимай одежду, — сказала мама.
Ее Нава послушалась.
Одежду мама бросила на землю. Нава хотела подобрать, потому что одежду просто так на землю не бросают, ее надо разрезать и посадить, только тогда вырастет новая…
— Оставь! — Мама взяла Наву за руку. — Идем!
Они вошли в озеро, сделали несколько шагов, пока вода не дошла Наве до пояса.
— Ложись! Во славу демиургу!
Нава легла. И поняла: вокруг не вода. Потому что вода не бывает такой мягкой и ласковой; и от нее становится хорошо, но не так, как сейчас, будто мамина рука стала вдруг большой-большой и касалась не только руки, а всего тела, и даже лица, которое в воде не купалось… А потом к Наве пришел сон.
Проснулась она другой.
Мир вокруг сделался совсем не страшным. Лес вокруг был теперь — не родной дом, где можно было выращивать горшки, кормить Молчуна и болтать о разных разностях, бесконечно, бессмысленно, увлеченно, будто двигаясь по замкнутому кругу. И не обиталище многочисленных врагов, от которых следовало прятаться, — опасного мха, о котором Колченог говорил, что это и не мох вовсе; бородатых воров, вооруженных громадными суковатыми дубинами; ломконогих неуклюжих рукоедов; мертвяков, окрашенных в желтый, синий и прочие цвета радуги, какой тут никто никогда не видел, но о которой Нава отныне почему-то знала. Лес теперь был не лес, а слуга, послушный, непривередливый и опытный, готовый выполнить любые указания новой хозяйки…
Нава приняла вертикальное положение, коснулась пальцами дна.
— Добро пожаловать! — сказала мама. Она уже не держала дочь за руку.
Вышли на берег бок о бок, как равные.
— Добро пожаловать! — сказала толстая, держа в руках желтое мешковатое одеяние. Впрочем, теперь она для Навы толстой не была, просто в чреве женщины зрела новая жизнь. — Меня зовут Аля… Поздравляю тебя, милая! — Это беременная сказала уже Навяной маме. — Во славу демиургу, для зачатой от козлика она сверстана весьма недурно.
Снова в Созидалище Нава оказалась через три года. В других-то озерах она купалась ежедневно, но в этом санитарно-гигиенических ванн не принимают.
За прошедшее время случилось многое. Каждодневная работа с Воспитательницами сменилась первыми попытками управлять. Из лилового тумана выходили полчища Навиных творений — лесных ос, рукоедов, гиппоцетов, волосатиков. Сперва они получались неказистыми и неработоспособными, их приходилось возвращать назад, обращать в исходную протоплазму и переконструировать. Воспитательница терпеливо ждала, советовала, подправляла. Постепенно дело пошло на лад.
В конце концов Нава прошла Испытание и включилась в общую работу.
Время шло. Она приняла участие в десятках операций, проводимых Славными подругами в рамках проекта по перестройке Мира. Слуховая Сеть сообщала лесовикам о новых Одержаниях, Заболачиваниях, Больших Разрыхлениях Почвы, Спокойствиях и Слияниях. Иногда Слухачи принимали эту информацию от Славной подруги, которую по-прежнему звали Навой. Девушка не пожелала откликаться на новое имя, данное ей Воспитательницами, и в конце концов с этим упрямством смирились. В конце концов, имя — это только имя, а характер в управлении, сами понимаете, не последний фактор…
Мама уже полтора года как отправилась в Южные земли, и Нава находилась теперь под руководством М-Али. Квалификация девушки достигла такого уровня, что Наву стали привлекать к операциям, проводимым в районе Белых скал. Сюда допускали далеко не всех, поскольку поля, генерируемые механическими творениями патернальной цивилизации, создавали большие сложности нормальным манипуляциям.
Здесь Нава познакомилась с Ритой. Та сделалась неофиткой еще несколько лет назад. Ей не слишком удавалась работа с привычными Наве созданиями, зато беспрекословно подчинялись патернальные механизмы. Порой у нее бывали странные речи.
— Чем отличается дерево от женщины? — спросила она как-то у Навы.
— Многим, — сказала Нава, — У дерева нет мозга…
— Дерево сначала пилят, а потом валят, — оборвала ее Рита. — А женщину сначала валят, потом пилят. — Она усмехнулась. — Это их юмор. — Она всегда называла обитателей Белых скал местоимениями — они, их, им…
Нава ничего не поняла. И спросила, чтобы молчанием не выдать свою тупость:
— А чем отличается дерево от Славной подруги?
Усмешка сползла с Ритиного лица, как туман с Холма.
— Ничем! — сказала Рита. И ушла.
Она была странной, но именно от нее поступала информация о «биостанции», одном из лесных форпостов, организованных людьми Белых скал. Именно из-за нее Нава в первый раз вспомнила о Молчуне — она неоднократно слышала от бывшего мужа слово «биостанция», хоть и не понимала тогда его значения.
Чуть позже девушка познакомилась и с Б-Алей. Б-Аля сумела проникнуть в самое сердце Белых скал, оседлав тело одной из местных женщин. Время от времени резидентша появлялась в лесу. Впервые Нава увидела ее в сопровождении М-Али и была потрясена внешним сходством женщин. Позже ей объяснили, что внешнего сходства никакого нет, просто это одна и та же Аля, живущая в разных условиях. А когда Нава заявила, что не понимает, как такое может быть, признались, что и сами не понимают. Есть М-Аля и есть Б-Аля — так решил демиург, создавший мир, к нему и обращайся с вопросами…
Информации, которую приносила в лес Б-Аля, цены не было. Резидентша делила постель с Директорами Управления (так люди Белых скал называли свое сообщество). Неудивительно, что все решения Директоров сразу становились известны Славным подругам, и те встречали козликов во всеоружии, обращая любые Искоренения, Изучения либо Инженерные проникновения в Разрыхление, Спокойствие и Слияние.
Слушать Б-Алю было интересно. В ее устах деятельность Управления была покрыта мистической тайной, которая к концу рассказа оборачивалась непроходимой тупостью и абсолютной бесполезностью, чего только и можно было ожидать от Белых скал с их распутством и привнесением порядка…
От Б-Али же Нава узнала, что значит — делить постель с Директором. Оказывается, проделывать это можно было, как правило, с козликом (хотя и не обязательно); все прочие деления Б-Але не нравились, хотя в «недрах Управления» и существовали…
Тогда Нава вновь вспомнила Молчуна. Правда, в деревне деление постели называлось по-другому.
…Ты почему не рожаешь? — спросил тогда старик. — Сколько с Молчуном живешь, а не рожаешь. Все рожают, а ты нет. Так поступать нельзя…
Б-Аля тоже не рожала. Вместо нее детей вынашивала М-Аля. Как это происходило и почему — тоже никто не знал. Спроси у демиурга, милая!
За три года М-Аля родила трех дочерей — козлики у Славных подруг не зачинались — и ходила с четвертой.
Потом Нава вдруг поняла, что детей вынашивают и другие подруги, те, кто никак не мог попасть на Белые скалы.
— Они что? — спросила Нава М-Алю. — В деревни ходят? Или к ворам?
— Ты хочешь ребенка, милая? — спросила подруга.
— Да.
Созидалище было еще более теплым, чем в первый раз. Теплым и упругим. Таким был Молчун, когда Нава спала у него под боком в деревне, а старик сидел за столом и ждал, пока они проснутся и накормят гостя…
На этот раз Нава даже не скидывала привычного желтого одеяния, улеглась на поверхности и закрыла глаза.
Вначале ничего не происходило. Потом погруженные в Созидалище ушные раковины стали вдруг различать невнятный шорох. Будто кто-то нашептывал Наве что-то ласковое и необходимое. Как теплый дождь после Разрыхления…
Вновь вспомнилась деревня. Там Наве никогда ничего не нашептывали — что возьмешь с Молчуна, который ее за дочку считал, а не за жену!.. Но теперь ей было ясно, что жизнь ее была лишена главного.
От мысли этой — и от теплоты снаружи — родилась теплота внутри, внизу живота, там, где сходятся бедра и куда открывается лоно.
Было странно, однако восхитительно. И всецело-восторженно. Это был не тот восторг, когда из ее рук впервые вышел полноценный рукоед, — это было нечто, сравнимое с тогдашним чувством по сути, но несравненное по глубине. Все равно что матерый прыгун рядом с грибом-мизинчиком…
А потом Нава почувствовала, как внешняя теплота проникла внутрь лона, соединилась с теплотой внутренней. Нельзя сказать, чтобы это было приятно. Во всяком случае, по рассказам Б-Али, с козликами получалось до наслаждения, до бурного содрогания, до растворения друг в друге… Здесь же если и было растворение, то сродни поливанию зеленого ползуна бродилом.
Потом все кончилось.
А через месяц дочь впервые шевельнулась у Навы под сердцем.
Когда раздался первый крик, Нава наконец расслабилась и затихла. Измученная плоть отдыхала. Но оказалось, что душе не до отдыха.
Оказалось, невозможность прижать ребенка к собственной груди доставляет не меньше страдания, чем сам процесс рождения.
— Дай мне ее! — прошептала она.
— Нет! — сказала Кормилица твердо. — Ты свою задачу выполнила. Теперь моя очередь, во славу демиургу!
Ротик обмытого ребенка уже терзал ее левый сосок.
Кормилица была права — дочь отныне матери не принадлежала. И лет через пятнадцать, встретившись, они даже не узнают друг друга. Каждый должен заниматься своим делом: одни рожать, другие выкармливать, третьи воспитывать. Так устроен мир, и все претензии, пожалуйста, к демиургу.
Наву закачали легкие волны — Кормилица уносила ребенка.
— Подожди! — прошептала Нава. — Дай мне посмотреть на нее…
— Нет, милая! — сказала Кормилица. — Дольше прощаться, больше плакать.
Она скрылась в тумане, и покачивающие родильницу волны постепенно угасли. Потом на свет явился послед, и ласковая теплота проникла в ее лоно, залечивая травмированную плоть. Ведь через неделю Наве предстояло снова погрузиться в Созидалище, а еще через девять месяцев сегодняшний процесс должен был повториться. Для освоения мира требуется много подруг…
Потом Навино тело всплыло, улеглось на поверхности, и это означало, что теперь можно выйти из озера.
На берегу ее встретила М-Аля.
— Поздравляю с первенцем, милая! Во славу демиургу!
В ее голосе не было радости и восхищения.
Нава не ответила. Она думала о том, что в деревне бы травмированную родами плоть залечивало время. Но зато можно было бы кормить ребенка собственной грудью. А Молчун, уже впущенный повитухой в дом и успевший взглянуть на сморщенное личико ребенка, суетился бы вокруг Навы, радуясь и восхищаясь.
Через три дня Нава ушла от Славных подруг.
Оранжевый серв нес ее на руках, оставляя за собой белесые полосы остывающего пара.
Вокруг шла обычная лесная жизнь. С гудением проносились мимо рои ос и пчел. Перебирая шестью лапами, проскочил голубой паук. В передних он нес личинку изварочника. Где-то ревел гиппоцет, отпугивал от творильницы кого-то из лесовиков. Через некоторое время путь пересекли ее питомцы. Цепочка белесых созданий, перебирая ложноножками, колонной направлялась к ближайшему озеру. Люди с Белых скал почему-то называют питомцев щенками. Как некоторых из своих детей…
А затем лес вокруг начал трансформироваться.
Со всех сторон серва обступили неактивные прыгуны. Обычные звуки затихали, сменялись негромким шелестом, но это шелестели не деревья. Потом шелест тоже увял, взамен донеслось однотонное гудение. Впереди справа возникло вдруг облако лилового тумана. Из него выросли бурые лианы толщиной с человеческую руку, переплелись, протянулись поперек дороги. Это было похоже на забор, созданный людьми с Белых Скал в том месте, где дорога, сбегающая от Управления, достигала леса…
Одну такую лиану серв разорвал бы легко, но их было пять.
Пришлось повернуть серва налево и заставить его перейти на скольжение.
Однако лианы были быстрее. Они умчались вперед, достигли высоченного крапоида, обвились вокруг ствола и поменяли направление роста под прямым углом.
Тогда Нава остановила серва, спустилась на траву и поднырнула под нижнюю лиану.
Тут же сзади послышался скрип. Прыгуны начали корчиться, собираясь перескочить вперед.
Нава заставила их утихнуть.
Тогда среди деревьев замелькали голубые, лиловые, алые фигуры. Скользящие сервы приблизились к Наве, взяли ее в кольцо. Она переключилась на управление, превратила в исходную протоплазму одного серва, второго, третьего… Но разноцветных фигур становилось все больше. В плотных облаках пара скрылись деревья и лианы, исчез родной оранжевый серв. С таким количеством противников не справилась бы и М-Аля.
И Нава сдалась, позволила ближайшему серву взять себя на руки.
Ее встретила не только прямая руководительница. Здесь же оказалась мама. И Рита с биостанции. И даже Б-Аля — наверное, на Белых скалах тоже была ночь, и очередной Директор спал.
— Что случилось, милая? — спросила М-Аля. — У тебя нет никаких заданий в районе Паучьего бассейна. Как ты там оказалась?
— Они часто оказываются не там, где надо, — сказала Рита, ни к кому не обращаясь.
Не будь здесь мамы, Нава бы соврала. А так — просто промолчала.
— Оставьте нас с нею наедине, — попросила мама, когда стало ясно, что ответа не дождешься.
Обе Али и Рита удалились в сторону Созидалища, скрылись в тростниках.
— Ты пыталась сбежать?
— Да, — сказала Нава.
— Почему?
— Хочу видеть Молчуна. Мой муж — Молчун. Ты сама говорила, когда он привел меня сюда, что потом я приду к нему.
— Я сказала: «Если захочешь…»
— Ну так я захотела!
— К этому козлику?! — Было видно, что мама растерялась. — Он же не защищен. Он скоро сгниет. Или растворится.
— Я защищу его.
Мама растерялась еще больше.
— Так нельзя. Это помешает очередному Одержанию. «Так поступать нельзя», — вспомнила вдруг Нава. Эти слова произнес старик накануне дня, когда мы с Молчуном ушли из деревни. «Так поступать нельзя. А что такое „нельзя“, ты знаешь? Это значит: нежелательно, не одобряется, значит, поступать так нельзя».
Она словно бы увидела перед собой старика. Как он шумно, с хлюпаньем, нюхает содержимое горшка… Настоящий козлик, грязный и вонючий. Но Молчун не такой. Он тоже иногда бывал грязным и вонючим, вот только у него все было можно… Впрочем, нет, не все! Но не важно! Просто он был Молчун, а не старик, не мама и не М-Аля! Эти чужие, а он был свой. Хоть и чужой…
— Ваши Одержания и ваши «нельзя» я видела в пасти у рукоеда!
У мамы отвалилась челюсть.
— Это не слишком вежливо по отношению к тем, кто тебя обучил.
— Я не напрашивалась! — Нава подошла к матери и дотронулась до ее руки.
Рука была холодной, как вода в Ключевом пруду.
— Мама, я хочу к Молчуну. Отпустите меня!
Тут же из тростников появились Али и Рита.
— Он же ненавидит всех нас, твой Молчун! — сказала М-Аля. — Он думает о женщинах как о толстых сонных равнодушных дурах…
— Неправда, он не мог так говорить.
— Он и не говорил. Он так думал.
— Подожди! — прервала двойняшку Б-Аля и повернулась к Наве. — Чем ты не довольна, милая? — В голосе резидентши послышались резкие нотки. — Славные подруги служат прогрессу. Старый мир разложился, исчерпал себя. На смену идет новый, избавленный от недостатков. Мы все стажерки на службе у будущего.
— Главный их недостаток — хотеть от будущего того, на что бы никогда не решились сами, — сказала Рита, ни к кому не обращаясь.
Нава вздохнула. Они ничего не понимали. Они ничего не хотели понять. Им доставляло удовольствие спать с кем попало — хоть с Директором, хоть с Созидалищем. И мама была не лучше, она давно уже все забыла. А ведь наверняка любила отца…
— Это не мое будущее! — сказала Нава. — Я не желаю быть стажеркой у такого будущего! Если любить, кого желаешь, и рожать от любимого — недостатки, я предпочитаю жить вдали от прогресса, в мире с недостатками.
— Не удастся, милая! — отрезала М-Аля. — Демиург не позволяет такого! От нас просто ничего не зависит.
— Где он? — Нава повернулась к маме.
— Кто?
— Демиург. Где его найти?
Мама онемела.
— Демиург везде, — сказала М-Аля. — В тебе, во мне, в каждом дереве.
— Когда они хотят невозможного, — негромко сказала Рита, — они молятся своему богу.
— Демиург везде, — повторила М-Аля. — Он знает обо всем. И если бы что-то было неправильно, он бы давно все усовершенствовал!
На этом разговор и завершился.
Нава сделала еще две попытки сбежать. Обе закончились ничем. Лианы, прыгуны, сервы… Бесед с нею больше не вели.
Тогда она решила утопиться. Бросилась в Паучий бассейн и попробовала захлебнуться. Не тут-то было — вода (вернее, то, что прикидывалось водой) всячески избегала ее рта.
На следующий день Нава вырастила тонкую и прочную лиану с очень гладкой скользкой кожицей, привязала один конец к толстому суку гигантского лапуна, сделала петлю на другом конце… Лапун не был прыгуном, это было неподвижное дерево, но монументальный сук согнулся под тяжестью ее тела с легкостью травинки, распластался по траве. Даже надеть петлю на шею не успела!
Творильница была последней надеждой. Это был безотказный организм, превращавший в протоплазму что ни попадя. Рита рассказывала, как на ее глазах одна из творильниц сожрала металлический «мотоцикл». А человеческое тело — не металл…
Нава специально выбрала момент, когда у творильницы заканчиваются роды. В этот момент организм наиболее активен, и надо только угодить в центр бушующей, истекающей соком плоти.
И она угодила.
Но за мгновение до этого творильница, странно хлюпнув, покрылась мягкой упругой травой, какую Славные подруги выращивали ночью для постелей, и трава приняла тело женщины в ласковые объятия.
Все было тщетно — лес не желал Навиной смерти. Вернее, ее не желал демиург. И потому умереть было невозможно.
Желая невозможного, они молятся своему богу, вспомнила вдруг Нава. Молиться она не умела, просто крикнула в кроны деревьев:
— Послушай, почему ты так жесток? Ведь ты все понимаешь и все можешь. Так помоги мне!
Ответом ей был привычный голос леса — шелест листьев, жужжание насекомых, прерывистый шорох, с каким удалялся к Паучьему бассейну выводок только что родившихся питомцев… В мире ничего не изменилось. Демиург ее не слышал или не хотел отвечать.
Пришло разочарование, потом печаль. И наконец — тоска.
— Послушай!..
Нет ответа.
— Помоги!
Молчание.
— Ты не должен так поступать со мной! Заставь их отпустить меня!
Лишь шорох леса…
— Помогите! — закричала Нава. — Хоть кто-нибудь! Хоть кто-ниб…
И осеклась — на нее смотрели.
Взгляд словно прожигал ее.
Нава оглянулась.
За спиной, рядом с заросшей творильницей, висел в воздухе козлик средних лет. Поза его казалась странной — он как будто бы сидел на чем-то невидимом. У него было крупное тело, седеющая борода и залысины на лбу. Он казался похожим на вора, потерявшего свою дубину, но Нава сразу поняла: это демиург. Ни один лесовик и даже человек с Белых скал не мог возникнуть здесь вот так, из ничего. Даже для управляющих Славных подруг требовался лиловый туман.
Как ни странно, Нава не испугалась. Чего пугаться? Что он ей может сделать? Убьет?.. Подумаешь! Так жить — все равно незачем!
Демиург молча смотрел на нее. Потом поднял руки и пошевелил согнутыми пальцами — будто проскакал ими по невидимой поверхности.
Рядом с ним возникла беременная женщина в странной одежде, подчеркивающей округлость ее живота. Подобную одежду — правда, более узкую — носила Б-Аля (она называла ее «платьем»). Платье было голубого цвета, а женщина ничем не напоминала резидентшу. И вообще не была Славной подругой, это Нава поняла сразу.
— Хау ду ю ду? — произнесла женщина. Замолкла, оглянулась в сторону демиурга.
Тот вновь пошевелил согнутыми пальцами.
— Здравствуй! — Незнакомка сделала шаг к Наве. — Не бойся! Меня зовут Гута.
— Здравствуй! — сказала Нава. — Я не боюсь… Ты — жена демиурга?
Гута улыбнулась:
— Нет. Я — его голос. Иначе ты ничего не услышишь. — Она замерла на секунду и продолжила совсем другим голосом: — Я услышал тебя, Нава. Чего ты хочешь?
— Я хочу к Молчуну! И не хочу жить с мамой и другими Славными подругами.
— Почему?
— Потому что они похожи на своих собственных сервов. — Нава вдруг вспомнила слово из той, деревенской жизни. — Похожи на мертвяков… Если ты поняла… понял, что я имею в виду.
— Я понял, — сказала Гута.
— А это правда, что демиург, создавший наш мир, запрещает мне жить, как хочется?
— Сомневаюсь… — Гута положила руки на круглый живот. — Я знаю вашего демиурга. Он добр к своим героям. Но, к сожалению, всякий демиург властен над своим миром лишь в процессе его создания. Потом мир начинает жить сам по себе. А обитатели его с удовольствием перекладывают свою вину на создателя. Это проще!
— Так измените мир вы.
— Я не могу менять созданное не мной.
— Не можете, потому что не способны?
Демиург явно хотел возмутиться. Но не возмутился.
— Не могу, потому что не могу, — проговорил он после долгого молчания. — Да простит меня твой демиург!
— А вы возьмите ее в мир, созданный вами, — сказала вдруг Гута.
Нава стояла на берегу озера, ничем не похожего на Созидалище. В песчаный берег плескались волны. Они были из воды. В таком озере было невозможно непорочное зачатие.
Справа берег был покрыт растениями, похожими на тростник, но с коричневыми шишками на верхушках. Слева росли высокие деревья, листья у них были похожи на зеленые иголки. На противоположном берегу смотрелись в воду разноцветные, взмывающие в небо здания. Над ними вились похожие на стрекоз машины, а еще выше висело ослепляющее солнце. От него в глазах рождались темные пятна.
— Здравствуй, Нава! — донесся сзади голос.
Нава стремительно обернулась, но никого не увидела: мешали темные пятна. Они прыгали и гонялись друг за другом.
— Как ты выросла! — На плечи Наве легли тяжелые руки.
Это была тяжесть, ради которой стоило бросить ласковую теплоту Созидалища.
А потом темные пятна перестали гоняться друг за другом, и Нава увидела лицо Молчуна. Глаза его радовались и восхищались.
— Здравствуй, Кандид! — Нава закрыла глаза. И, тая от нежности, всем телом прижалась к мужу.
Счастье длилось несколько секунд. Потом Нава почувствовала, как муж отодвинулся от нее. Удивленно открыла глаза. И отшатнулась: рядом с нею стоял не Кандид.
— Прости! — Демиург снял руки с ее плеч. — Я не должен был так поступать. Прости!
— В чем дело? — Нава сделала шаг назад. — Где Гута? И Молчун?
Хорош демиург, подумала она. Все они такие: лишь бы к чужой жене прислониться!..
— Гута нам тут не нужна, — сказал демиург. — Здесь ты меня услышишь и без Гуты… Я вовсе не хотел к тебе прислоняться. Я хотел помочь…
— Где Молчун? — В голосе Навы зазвенели льдинки.
— Его нет. — Демиург развел руками. — Он не желает покидать свой мир. И я над ним не властен. Я могу помочь только тому, кто хочет… — он замялся, — сбежать. А он не хочет…
— Не верю… — Нава запнулась и некоторое время смотрела бородачу в глаза. Пока не убедилась, что тот не лжет. — Что же мне делать?
— Не знаю, — сказал демиург.
Нава отвернулась, посмотрела на город за озером. За Созидалищем?..
Город был прекрасен. И вьющиеся над зданиями машины были красивы. Здесь, наверное, тоже был мир прогресса. Но и этот прогресс был для Навы чужим. Потому что не было Молчуна.
— Я могу отправить тебя назад, — сказал демиург. Нава обернулась:
— К Молчуну?
— Увы, нет. В твой мир. А уж к Молчуну… — Бородач не договорил.
Повисло тягостное молчание.
— Что это за машины? — спросила Нава, чтобы нарушить его. — Там, над городом…
— Джамперы.
— У людей с Белых скал такие же?
— Нет. У них пилящие комбайны искоренения.
Нава не поняла, но переспрашивать не стала.
— Что ты решила? — осторожно спросил демиург.
— А ведь вы способны, — сказала вместо ответа Нава. — Эта ваша Гута сродни мне…
— Славные подруги догадливы. — Демиург грустно улыбнулся. — Я не могу… Что ты решила?
Раздумья были сродни неподвижному прыгуну. Или беззубому гиппоцету.
Нава с сожалением посмотрела на город:
— Я согласна.
И тут же здания поплыли, размазались. Исчезли джамперы, погасло голубое небо, расплылось мутным пятном солнце. Кругом возникла серая пустота.
— Счастья тебе! — послышался откуда-то грустный голос демиурга. — И не отяготиться им!
Нава промолчала: этот тип был ей уже ненавистен. Не оправдавший надежд. Муж, объевшийся груш… Ошибка. Как неподвижный прыгун. Или беззубый гиппоцет.
— Все равно я добьюсь своего! — крикнула Нава в пустоту.
Ответа не было.
А потом пустота стала рассеиваться. Словно туман над Созидалищем. И когда рассеялась окончательно, рядом с Навой, источая полосы белесого пара, стоял и ждал приказаний голубой се… мертвяк.
— Все равно я добьюсь своего, — повторила Нава. — Да простят меня демиурги!
И превратила мертвяка в исходную протоплазму.
Елена Первушина ЧЕРНАЯ МЕССА АРКАНАРА
Стояли звери
Около двери.
Их ласкали,
Они убегали…
Стихи подросшего мальчикаПока дон Румата Эсторский пытался затеять потасовку (в седьмой и, вероятно, не последний раз на этой дороге), Киун, внук алхимика с Жестяной улицы, решил, что самое время уносить ноги.
Он отпустил холодное стремя и скользнул в кусты: вынырнул из облака запахов мокрой кожи, конского пота, незнакомых притираний (интересно, зачем бы они благородному дону — вроде никаких грязных сплетен про него не ходит, или, может, у южан подобная развращенность в крови?) и нырнул в мир прелых листьев, подрагивающих на ветру голых деревьев, пугливых ночных птиц. И прежняя жизнь захлопнулась за его спиной, как недописанная, брошенная второпях книга…
…Он прислонился к темному стволу и еще несколько мгновений плакал. Даже не от очередного унижения (такое слезы не смывают), а просто от бесконечной усталости. Потом открыл сумку и вытащил украденное сегодня из мастерской Священное Писание. (Книга была заказана доной Сандрой и должна была еще вчера оказаться в руках владелицы, ну да не суждено.) Блеснули напоследок золотом и кровавой киноварью миниатюры, Киун рванул на себя титул, с усилием выдрал полдюжины листов, бросил на землю — в мох и мокрую листву, — придавил каблуком и зашептал:
— Отрекаюсь от Тебя, Создатель мой и Вседержитель, и от милостей Твоих, и всех святых таинств, и от святых Твоих, и Церкви, и Властей, и Престолов, и жизни вечной, загробной…
Слова путались, застревали в гортани, словно им боязно было выходить в Божий мир, но Киун из последних сил драл неподатливый пергамент, всхлипывал и приговаривал уже в полный голос:
— И я обещаю Тебе, что я буду совершать столько зла, сколько я смогу, и что я приведу всех к совершению зла.
Свирепый рокот прокатился по лесу. Застонав, склонились деревья. Исполин-тяжелоступ шагал по их вершинам. Ближе, еще ближе. Киун ясно слышал его дыхание, но у него уже не осталось сил для того, чтоб испугаться. Бывший переписчик сорвал крестильный крест, плюнул в него, бросил наземь и замер, готовый встретить огненный взгляд своего ревнивого Бога.
Однако мгновения уходили, а исполин, все так же обиженно вздыхая, бродил где-то вдалеке, потом негромко, почти смущенно, заворчал и затих, и Киун понял, что Господь не счел его отречение слишком уж большой потерей.
Переписчик снова открыл сумку, провел пальцами по страницам других книг — его прекрасных дочерей, его единственных наследниц. Он растил их в неге и холе многие годы, мечтал, что они увидят весь мир, что станут любезными подругами достойным людям, что никогда не узнают горя. И вот теперь он должен их покинуть. Они стали слишком опасными спутницами, а вечный противник Господа не менее ревнив и любит, чтоб ему жертвовали самое дорогое. Киун попрощался с книгами, прошептав:
— Как вы не вернетесь ко мне, так пусть и душа моя никогда не вернется на небеса.
Затем повесил сумку на сучок и, не оглядываясь, зашагал в глубь леса.
Он всегда ходил по краю. Когда возишься с книгами, иначе не бывает. Даже если только переписываешь, даже если только разрешенные Святой Матерью Церковью. Каждый книжник всегда немного чернокнижник, даже если ни одна крамольная мысль не забредала в его голову. В каждой «говорящей странице» всегда есть немного магии.
Он даже семью не заводил, чтоб в случае чего легко было сняться с места и бежать. И не ошибся. Соседу показалось, что его, соседов, садик слишком мал. Он захотел построить беседку на берегу реки, посадить вокруг душистые цветы и по вечерам сидеть в этой беседке с друзьями за стаканом вина, смотреть, как солнце опускается за реку, за вершины далеких гор. Но на реку смотрел как раз дом Киуна. И сосед принял меры.
(А может, беседка была лишь поводом и выход к реке нужен был для чего-то совсем другого? И Киун пал жертвой не соседской любви к прекрасному, а каких-то темных бандитских происков? Кто ж теперь угадает?!)
Соседская служанка путалась с его, Киуна, подмастерьем, от нее-то они и узнали о надвигающейся беде заблаговременно. И Киун вдруг, неожиданно для самого себя, рассвирепел. Укладывая в суматохе вещи, он бормотал под нос, как одержимый: «Я не корова, чтоб меня водили на бойню. Я не корова, чтоб меня водили на бойню. И на черта мне такая жизнь, чтоб все время бояться?»
В какой конкретно крамоле изобличил его сосед, Киун так и не узнал. Для этого нужно было оставаться в городе, дожидаться Серых Братьев, они бы все разъяснили в точности. Но хоть он и храбрился на словах, жизнь была ему все же дорога. Но — в Бога, в душу! — НЕ ТАКАЯ.
Тогда-то и всплыли в памяти все осторожные шепотки, все сладкие обещания пьяненького священника в трактире. И когда, уже из-за городской стены, он увидел черный столб дыма над своей мастерской, он решился.
Пустая, заброшенная церквушка тонула в слоистом тумане. Киун отворил перекосившуюся старую дверь, и в лицо ему пахнуло жаром костра. Это была еще не преисподняя — просто огонь, разведенный прямо посередине церкви, вокруг которого копошились шестеро людей. Старенький седобородый священник, двое подмастерьев из города, бродячий студент с насквозь пропитой физиономией, молоденький монашек в серой рясе. Шестой была благородная дона в алом бархатном плаще, который иногда чуть распахивался, обнажая маленькую смуглую ножку. И Киун тут же нутром почуял, что под плащом у нее ничего, кроме нее самой, нет.
— Ну вот и собрались все ребятки, — заворковал священник, увидев Киуна, — вот и славненько. Ночка сегодня хорошая, нужно бы во славу нашего хозяина порадеть. Глядишь, и обогреет вас, голубков бесприютных.
Киун невольно поморщился. Он не нуждался ни в воркотне, ни в утешениях, он хотел видеть кровь Серых Братьев. Тех, что сожгли вчера его мастерскую.
По знаку священника все, кроме женщины, разделись и встали вокруг огня. Сам же священник запрыгнул на алтарь и, чертя левой ногой кресты, забормотал задом наперед молитвы. Студентик вытащил дудку и загундосил какой-то лихой кабацкий мотив.
Дама, сбросив плащ, поднялась на алтарь. И в это мгновение Киун узнал ее. Дона Керион Медовые Соты. Эсторка, любовница брата Абы. Он видел ее прежде на улицах столицы в портшезе, благоухавшем имбирем и мускусом. И она представлялась ему чем-то вроде еще одной книжной миниатюры: Блудница верхом на Звере. (Зверем, разумеется, был брат Аба.)
Но сейчас отблески костра прильнули к ее ладному телу, обрисовали по-детски хрупкие шею и ключицы, заиграли на пышных волосах, и Киун, как бы смешно это ни звучало, понял вдруг, что она — человек.
Священник нежно, с почти отеческой лаской провел ладонью по ее щеке и груди, уложил женщину на алтарь. Дона Керион раскинула руки, словно взлетающая птица, уперлась ладонями в неровные камни алтаря.
Студентик бросил в костер вязанку хвороста, языки пламени взметнулись вверх, дрожащий алый свет заметался по стенам храма, и с Киуном случилось что-то странное.
Не то чтоб эта картинка не возбуждала его, нет. Но кроме привычного напряжения, он вдруг почувствовал непонятный восторг, умиление перед этой женщиной, лежащей на холодных камнях тонким живым мостом над бездной смерти, перед ее щедрой и беззащитной красотой. Ему казалось, что ее тело безмолвно говорит: «Да, я — лишь мешок из мяса и костей, обтянутых кожей. Я пачкаю себя потом, салом и дерьмом, я приближаюсь к смерти каждое мгновенье. И все же я дерзаю быть прекрасной, дерзаю наслаждаться и дарить наслаждение и не думать о червях, которые меня с нетерпением ожидают». И Киун любил ее так же трепетно и отчаянно, как любил свои потерянные, брошенные ради мести книги. И тогда он подумал: «Бог любит людей потому, что сам их создал. Сатана — просто потому, что они есть».
Огонь погас. Слуг Сатаны поглотила тьма. Потом замерцала одинокая лампадка. Священник, как ни в чем не бывало, деловито расхаживал по церкви, похлопывал по плечам неофитов, ворковал что-то утешительное.
Дона Керион достала из-под алтаря медный поднос с маленькими черными пирамидками и стала обносить этим угощением притихшую компанию.
Люди с молчаливым поклоном принимали причастие дьявола и, в знак благодарности, целовали дону в зад. Ради этих черных просфорок они и пришли сюда, не побоявшись Серого Братства, ради них вытерпели пытку сладострастием. Если обмакнуть такую просфорку в кровь черного петуха, а потом в полнолуние закопать на перекрестке, исполнится любое желание. Каждый оделенный, поблагодарив Хозяина и его служителей, тихо подбирал с пола свою одежду и исчезал.
Когда церковь опустела, дона Керион подошла к Киуну. Он хотел было сказать, что черной просфоры ему мало, что он готов заплатить за более опасное, но быстродейственное колдовство, и тут увидел ЧТО ему протягивают.
Это был тусклый свинцовый кругляш величиной с ладонь. На его поверхности можно было различить старую чеканку: прихотливо изогнутую буквицу «А». Киун видел такие в инкунабулах и… кажется, еще где-то. На ощупь кругляш будет теплый. Киун понял это, прежде чем протянул руку. Осторожно он взял подарок с подноса. Изнанка была покрыта мелкими ворсинками, которые тут же затрепетали и стали льнуть к пальцам, будто соскучившиеся щенята. Почему-то он не испугался.
— А это — сюда, — ласково сказала дона Керион и приложила кругляш к правому локтю Киуна.
Глаза переписчика закатились, тело выгнулось дутой. Потом мышцы немного обмякли, он упал на пол и забился в судорогах.
Священник мгновенно оказался рядом, уложил голову переписчика себе на колени, кинжалом разжал ему зубы и поясом рясы прижал язьж. Дона Керион подоткнула под плечи Киуна свой плащ и исчезла в исповедальне.
Вскоре припадок прошел, Киун обмяк кулем, потом открыл глаза, сел, тряхнул головой.
— Где это я? — поинтересовался он, слизывая кровь с поцарапанной губы.
— Королевство Арканар, Икающий лес, — ответил священник.
— К черту подробности! — перебил его Киун. — Ради спасения вашей души скажите: это не Земля?!
— Ну и молодежь пошла! — проворчал священник. — Шагу не могут ступить без бородатого анекдота.
На рассвете Киун и прекрасная дама пробирались к дороге, поминутно чертыхаясь и путаясь в мокрой траве.
Бывший переписчик с головой погрузился в мрачные размышления о том, как ему, в его положении, исхитриться и выполнить задачу, поставленную лжесвященником: собрать как можно больше образцов для генетического банка этой планеты. Хорошо прекрасной даме, она может собирать сперму легко и не без приятности, а бедному мужику как быть? Сутенером заделаться, что ли? Или в цех к цирюльникам подмастерьем проситься? Так ведь не возьмут! Разве что дочку мастера обольстить. А есть ли она у него, дочка эта?
— О чем грустите, друг мой? — мягко спросила дона Керион, — Стало неуютно в Арканаре?
— Да нет, отчего же? — отозвался Киун. — Город как город, я к нему привык, жаль бросать. Хуже то, что я могу вас больше не увидеть.
— Это флирт?
— Это откровенное, наглое и ничем не прикрытое восхищение.
И тут их куртуазную беседу прервал рев проснувшегося за лесом великана. Взлетели и закружились над землей мертвые листья, в спины людям ударил холодный ветер.
Киун потянул женщину с открытого места под кроны деревьев, заслонил от разбушевавшейся стихии. Рев приближался, скоро стал слышен металлический лязг, будто великан то вытаскивал, то загонял в ножны ржавый меч.
Но на этот раз Киун своей новой памятью распознал звуки и спокойно проводил глазами пролетевшее над лесом стальное чудовище.
— Земляне? — спросила дона Керион, и голос ее задрожал.
— Не бойся, они нас не видели, — ответил бывший переписчик. Он вспомнил, как принял прошлой ночью вертолет за Господа Бога, вспомнил свой ужас и отчаяние, тихо рассмеялся и провел рукой по влажным волосам женщины, скользнул пальцами в ямку над ключицей.
— Ты что смеешься? — спросила она.
— Да ничего, так. Просто я понял, что мне делать дальше.
— Вот как? — дона Керион потянулась и легонько куснула его за мочку уха. — В таком случае, ты — чертовски догадливый парень!
— Я скоро помру, — сказал Будах.
Вид его, казалось, противоречил его же собственным словам: лицо раскраснелось от тепла и выпитого вина, глаза блестели. И только набрякшие нижние веки выдавали в нем смертника.
Будах перехватил взгляд Киуна и кивнул:
— Это днем отеки небольшие, а по утрам такое свиное рыло, что и смотреть не хочется. Будто я с осени пью, не просыхая. А от его пилюль толку уже немного. На день, на два воду сгонят, а там опять все сначала. Ваш дед, алхимик, не оставил на этот случай какого-нибудь рецепта?
— Нет, к сожалению.
«Знаю я рецепт, — подумал Киун. — При почечной недостаточности что два века назад, что сейчас, что еще два века спустя, лечение одно — гемодиализ. Но, если господина Будаха отправить на гемодиализ на Землю, вся Комиссия по Контактам запрыгает, как черти на горячей сковородке. Причем легко могу представить, кто будет под этой сковородкой разводить огонь».
— Противное это занятие — помирать, — сказал Будах задумчиво. — Вроде и терять уже нечего, и от надзора бесконечного наконец уйдешь, а все тоскливо. Вы простите, я ною, как скрипучее колесо. Самому противно.
— Ерунда. Я для того к вам и пришел. А дед? Дед бы, наверно, сказал так: «Вся наша жизнь вроде этого кабака. Мы приходим в него ненадолго, скоротать вечер. Сидим, тянем вино и эль, поглядываем по сторонам. Какой-то пьяница попытался затеять с нами драку, потом отвязался. Хорошенькая служаночка строит глазки. Можно дать пьянице в морду, можно переспать со служанкой, но это все мелочи, пена в кружке. Перед уходом приходится заплатить, но мы ведь приличные люди. А если это занятие вам не наскучило, можно перебраться в соседний кабак».
— Хорошо, если так. Как говорил один мой друг: мы оттого так крепко держимся за жизнь, что не знаем, куда попадем после смерти.
— Кабаков в городе много, — уверенно сказал Киун.
«Ну вот, — подумал он, — контакт установлен. Зыбкий еще, но и этого достаточно. Можно сосать кровушку».
Трактир «Золотая курочка» процветал. Поэтому дров здесь не жалели и топили по-зимнему жарко. А за окном бушевала своенравная и капризная весна Метрополии. Летели по небу тонкие серые облака, подмигивало бледное солнышко, хлюпала под копытами и сапогами молодая земля. На пороге стояла Лисон — здешняя служанка, сбегавшая только что в лавку за яйцами и приправами для какого-то занудного гурмана, пожелавшего курицу под соанским соусом. В светлых волосах девушки искрились водяные брызги — видно, попала где-то под капель.
Киун, взглянув на Лисон, улыбнулся. Не далее как вчера ночью он приготовил для нее приворотное зелье на крови и слюне. Теперь капля крови из точеного пальчика Лисон путешествовала по жилам Киуна. Ощущалки детонатора уже принялись за расшифровку генетического кода и молекул памяти, и бывший переписчик, а ныне черный маг, знал теперь все мысли девицы. Мысли ему нравились.
Лисон заметила, что Киун смотрит на нее, и подошла к их с Будахом столу.
— Мне для вас, господин, с утра посылку оставили, — сказала она, делая реверанс.
Киун принял из ее рук корзинку, потрепал девушку по щеке и снова повернулся к Будаху.
— Родня не оставляет без опеки, — пояснил он. — Но я не дослушал вас, простите.
— Да я даже не знаю, с какой стороны к своей просьбе подойти.
Будах помолчал, набрал в грудь воздуха и сказал:
— Я ненавижу их. Всей кожей ненавижу, всеми потрохами, всеми жилами. И боюсь. По ночам снится, что я снова вернулся туда, в тот подвал. И когда просыпаюсь, сначала не могу понять, кончилось все уже или нет. Он говорит: «Пишите! Ваши знания нужны этим людям!». А я знаю, что он прав, но ничего не могу. У меня в голове ничего не осталось, кроме ненависти. И все время боюсь, что однажды снова очнусь в подвале.
В корзинке в самом деле была снедь: головка сыра, маленькая связка кровяных колбас и деревянная коробочка с порошком из коры коричного дерева. Киун бросил щепотку порошка себе в вино, предложил Будаху, но тот отказался.
— Хорошо, — сказал Киун. — Они умрут. Быстро, легко, но — раньше вас. И они больше никого не будут мучать.
— Как вы это сделаете? — спросил Будах.
Киун пожал плечами:
— Как обычно. Восковые фигурки. Но мне будут нужны ваша кровь, волосы и ногти.
— Мои? Разве…
— Вы же говорили только что, что ненавидите их всей кожей, всеми жилами. Этого достаточно. А где я могу раздобыть кровь арканарских палачей? Сами посудите.
— Хорошо, — сказал Будах. — Я принесу вам все. Завтра?
— Да. Здесь же, в это же время.
— Хорошо.
Будах встал, взял со скамьи плащ и побрел к дверям. Киуну достаточно было увидеть, как он поднимался: не разгибаясь, оберегая почки, — услышать его осторожную шаркающую походку, чтобы определить, сколько медику осталось жить. Полгода, от силы — год. И, что самое несправедливое, Будах даже не узнает, что обрел бессмертие в генетическом банке Странников.
Ощущалки меж тем расшифровали молекулы памяти, примешанные к коричному порошку. И черный маг прочел послание из Арканара:
«Дона Керион убита по приказу брата Абы. Причина — любовное свидание доны Керион с доном Руматой Эсторским».
Теперь пришел черед Киуна скрипеть зубами от бессильной злости. Нелепая смерть. Несправедливая. Бес-смыс-лен-на-я. Она так боялась землян, что спуталась с ними на зло себе и всем. Захотела получить их сперму, их генокод. Глупая, отважная девочка. Своевольница. Дон Румата и брат Аба, словно два слепых слона, растоптали ее. И памяти всех жизней, что она успела собрать на этой планете, погибли вместе с ней. И виновных искать негде. Все по-своему правы, все слепы, все дураки.
И Киун вдруг понял, что выполнит обещание, данное Будаху. Еще не знает, как, но выполнит. Это не приворотное зелье Лисон. (Ни в каком приворотном зелье она не нуждается, в этом он убедился прошлой ночью.) Нет, палачи Серого Братства действительно умрут. Этого почему-то требуют его моральные принципы. А Киун, став из забитого переписчика книг сыном могучей межзвездной цивилизации, быстро привык потакать своим моральным принципам.
Его взяли в тот же вечер в переулке Колпачников. Киун вышел прогуляться, разогнать мрачные мысли и, возвращаясь домой, натолкнулся на трех грабителей: двух парней, одетых, как паломники, и рыжую девицу в мурисском платье с открытыми плечами. Парни прижали его к стене и принялись срезать кошелек, тщетно борясь с тонкой цепочкой и поясом, украшенным бронзовыми бляхами. Девица тем временем щекотала ему горло ножом и жарко шептала на ухо:
— Кошелек или жизнь?! Кошелек или жизнь, красавчик?!
— Да жизнь, жизнь, разумеется, — ответил Киун. — Подожди, я сейчас пряжку расстегну. Пояс тоже забирай, у тебя вон штаны скоро свалятся. А вы, прекрасная дама, возьмите мой плащ, иначе груди застудите.
И, увидев хлюпающие сапоги всей троицы, добавил:
— Ну, башмаки я свои отдать, к сожалению, не могу, на вас не налезут. Но, если дойдете со мной до трактира, может, хозяйка вам подберет что-нибудь из старого. Заодно и обновы обмоем.
— Да он блаженный! — изумился один из грабителей.
— Он, сучий потрох, издевается, — процедил сквозь зубы второй и поднес к лицу Киуна волосатый мозолистый кулак. Киун мгновенно надел на кулак свою шляпу.
— Он одержимый! — взвизгнула девица и ткнула пальцем кудато за спину Киуна. — Глядите! А вот и ангелы по его душу! Бежим!
Побросав добычу, грабители бросились прочь.
«Все же и в заповедях Господних есть свой смысл, — подумал Киун. — Дай ближнему все, чего он просит и требует, и ближний от неожиданности сомлеет и станет совсем беспомощным. Каких это ангелов она здесь увидела?»
И в то же мгновение он услышал шаги и дыхание за спиной. Обернуться и увидеть незваных гостей не успел, на него навалились, выкрутили руки (ангелы что ли?), а потом удар по голове надолго лишил его способности видеть, слышать и понимать.
— Имя, род, звание?
«Маска, я тебя знаю», — подумал Киун, укачивая свою многострадальную голову. Голова на шее пока еще держалась, но поворачиваться отказывалась наотрез.
— Твое имя, смерд!
«Ай-яй, зачем такой высокий стиль? Неужто так трудно догадаться, с кем разговариваешь? Для умного человека — пара пустяков. Вот, например, дворянин, а камзол носить не умеет, локти оттянул, рукава подвязаны кое-как. Ходит ровно, как на параде, земли ногой не чувствует. Когда хватается за меч или начинает ругаться, на лице растерянность. Кто такой? Понятно — землянин. Кто из землян толст, усат и ходит в каштановом парике? Дон Гут, постельничий герцога Ируканского. Вот и познакомились.»
— Твое имя, падаль!
— Киун с Жестяной улицы, благородный дон.
— Из Арканара?
— Благородному дону ведомо все.
— Это не твое дело. Отвечай на вопросы.
— Из Арканара.
— Давно в Метрополии?
— Третий месяц.
— Род занятий?
«Надо бы соврать что-нибудь, да не придумывается. С такой головой разве что придумаешь?»
— Черная магия, — ответил Киун.
Дон Гут хлопнул себя по ляжкам и расхохотался.
— А ты смелая падаль! Не боишься, что я сдам тебя властям?
— Чего бояться падали? — ответил Киун.
— Отвечай на вопросы, иначе познакомишься с дыбой! Что тебе было нужно от государственного преступника Будаха?
«Да он же в истерике, — понял вдруг Киун. — Застарелая истерика. Иначе не заговорил бы о дыбе. Что он, в самом деле пытать меня собирается? Квалификация не та. Ладно, что будем врать? Ох, снова ничего, кроме правды, в голову не лезет».
— Будах приходил ко мне за утешением.
— За утешением?
— Да, благородный дон. Он просил меня расправиться с его палачами.
— И ты?
— Я обещал ему сделать это за весьма умеренную плату.
— Каким образом?
— С помощью моей магии. Если вы, благородный дон, хотите испытать ее…
— Молчать!
«Поверь, что я — ничто, — просил Киун мысленно. — Глупый, ничтожный, сребролюбивый горожанин. Плюнь на меня и вышвырни за дверь».
— Кто тебя прислал в Метрополию?
«Не верит».
— Никто, господин. Но через границу мне помог перейти благородный дон Румата из Эстора.
«Съел?»
— Ты не слышал вопроса? Кто тебя послал?
— Никто, господин. Я бежал от Серых Братьев.
«Может, хоть это тебя проймет? Гуманизм, Культура, а?»
— Какого рода магией ты собирался воспользоваться?
«Нет, не отвяжется. Они слишком трясутся над своими „спасенными“».
— Вот этой.
Киун снял с шеи и кинул на стол свой крест. Не старый, крестильный, втоптанный некогда в землю. Новый, тот что подарил ему лжесвященник. Золотистая четырехконечная звездочка тускло засветилась на темной столешнице. Дон Гут протянул руку, осторожно дотронулся.
— Янтарин? — спросил он по-русски. Киун все понял по интонации и кивнул.
— Вы…
— Сейчас я не в состоянии отвечать на вопросы. Дайте мне одну из ваших «чудо-таблеток», и я удовлетворю ваше любопытство, благородный дон.
— Жил человек, по имени Киун Переписчик. В работе прилежен, в иное время нахален, любопытен, похотлив и трусоват. Любил дорогие книги, дешевых женщин, умные разговоры и безумные попойки. Жил и не ведал, что век его — лишь сырье для Грядущего Светлого Века. Впрочем, если бы и узнал, то не слишком бы расстроился. Давно уже привык свистеть в кулак за спиной у всего Великого и Светлого. И уж тем более не знал, что в его тело вживлены цепочки памяти совсем другого существа. Одного из тех, кого вы зовете Странниками.
— Цепочки памяти?
— Простите, я коряво говорю. Просто очень трудно перевести это на арканарский. Точнее, я знаю, как будет это звучать по-арканарски столетия спустя, но от этого не легче. Вы еще не знаете этого языка.
— Вы знаете будущее?
— Иногда — да.
— И можете влиять на него?
— Так же, как и вы.
— Но м-м… причины и следствия не страдают от этого?
— Страдают. Иногда ужасно. Но почему бы и нет? Вся наша жизнь — страдание.
— Простите, не понял.
— Это вы простите. Я вечно шучу не к месту. Вы сами нарушаете последовательность причин и следствий, но не желаете этого замечать.
— ?!
— Ваши корабли. Вы говорите: нижнее пространство, ноль-перевозки. Но это только слова. На самом деле вы летаете быстрее света. Вы изменяете и будущее, и прошлое, но не всегда можете это увидеть. И не всегда хотите.
— Да? Впрочем, здесь я не специалист. Но что вы делаете на этой земле? Улучшаете будущее?
— Ни в коем случае.
— Это противоречит вашей этике?
— Это противоречит логике. Если я отрежу вам ногу и вместо нее дам костыль, пусть даже божественный костыль, вы скажете мне спасибо?
— Но если народ болен?
— Вы знаете, что такое болезни роста? То, что происходит сейчас в Арканаре, называется Реформация. В сотнях и тысячах миров она начиналась так же. Церковная республика не продержится больше двух-трех лет. А лавочники не забудут своего неудавшегося бунта. И вскоре будет вам самая настоящая республика. Власть народа. Правда, не совсем такая, какую вы ожидали. Мерзкий способ, не спорю. Но другого природа еще не придумала.
— Природа — да. Но люди? Зачем разным народам повторять одни и те же ошибки?
— Вы пытаетесь просветить здешних людей силком или уговорами. Но, когда они начинают просвещаться сами, вы хватаетесь за голову и вызываете подкрепление. На самом деле, вы, лично, никогда и ничему не учились на своих ошибках. Только внимали благоговейно своим наставникам. Поэтому вам страшно.
— Вы можете равнодушно смотреть на страдания людей?
— Это провокация? Или вы ждете, что я отвечу на вопрос, который вам самому уже давно не дает покоя? Я, как видите, поторопился убраться подальше от будущей Арканарской республики. А вы? Вы никого не убиваете своими руками, но изо всех сил стараетесь, чтобы ваших врагов переехало колесо истории. Но, если повозка собьет прохожего, кто будет виноват — лошадь или возница? Из-за вас погибла… Впрочем, неважно.
— Но мы не вмешиваемся в ход истории!
— Конечно. Вас лишили и этого права. Вы можете сострадать нашим людям, но не можете отдать за них жизнь. Даже милосердие вы проявляете лишь к тем, кого сочтут достойным на небесах. Вы не можете спасти женщину, ребенка, старика просто потому, что они дороги вам. Наоборот, вы должны пожертвовать ими ради «несущих культуру». От такой жизни поневоле свихнешься.
— А вы?
— Я — человек этой земли. Я здесь родился, живу, здесь, наверно, и умру. Это — моя жизнь, и я люблю ее. Иногда — ненавижу. Я могу помогать своей второй родине, могу не помогать. Если я захочу кого-нибудь спасти — спасу. Убить — убью.
— Но тогда кто-то может захотеть убить вас.
— Уже хотят. И многие. Ну а вы, вы чувствуете себя в безопасности при ваших бескровных законах?
— А Странник внутри вас не вмешивается, не контролирует ваши решения?
— Этот Странник — тоже я. Я умер много лет назад там, на небесах. А сейчас я живу вторую жизнь — жизнь переписчика и черного мага из Арканара. Я учусь у него, учусь у этого мира. А любая судьба драгоценна и неповторима. Зачем ее корежить? К сожалению, мы можем долго рассуждать об этике, но я видел, что такое улучшенное будущее. Когда-то мы тоже пытались помочь одному народу. А потом сработали какие-то непонятные связи внутри. Теперь лишь кучка выродков ползает там среди поломанных машин. Вы еще найдете эту землю, найдете наши следы на ней. Увидите наше преступление, наш позор. Мы поняли тогда, что мыслящие существа во Вселенной так же связаны между собой, как растения, звери и птицы на одной земле. Нельзя подменять один народ другим. Нельзя приучать львов пастись вместе с овечками. Нельзя подгонять живое под шаблон даже ради милосердия и гуманизма. Оно, живое, все равно будет сопротивляться, пока не сдохнет. Ох, ладно, похоже меня понесло. Возраст, знаете ли. О чем мы с вами говорили до?
— О цепочках памяти. Но я уже сам догадался. Вы говорите о наследственности?
— Точно! И нас, и землян, и Странников, и многие другие народы объединяет одно: белок — как строительный материал и цепочки кислот как наследственная память. А дальше все просто. Когда ребенок растет в животе матери, его наследственность переводится с языка кислот на язык белка. Потом все, что он видит, слышит чувствует, запоминается и переводится обратно на язык кислот. Вы обнаруживали эти цепочки памяти, но считали их мельчайшими паразитами. Но у Странников есть механизмы, способные расшифровывать чужие частицы памяти. Вы назовете их позже «детонаторами». А коль скоро бесценна любая жизнь, любой опыт взаимодействия существа и мира, нет никакой причины обрекать другие народы на полную гибель и забвение. Вот Странники и трудятся в разных мирах, аки пчелки на лугах Господних. И уже более миллиарда ваших лет существует Библиотека Памяти.
— Но тогда ваша цивилизация должна быть чудовищно древней.
— Чудовищно древней, или очень молодой. Вы знаете, что такое близкие скрещивания?
— Конечно.
— На Земле вы можете скрестить лошадь и осла, но потомство их будет бесплодным. Большинство существ способны к размножению только в границах своего рода. Постепенно, через несколько миллионов лет, наступает вырождение, как у породистых собак или у лошадей. Сначала перемешиваются разные народы, потом — разные расы. А потом наступает взрыв наследственности, эпидемия. Такое случилось некогда в одном из миров. Точнее, по вашим измерениям еще случится. И мы, как и вы, «не смогли смотреть равнодушно на чужие страдания». Мы забрали людей этого мира к себе, в свое прошлое, и смешали их наследственность с нашей.
— А как быть с вашим принципом невмешательства в дела природы?
— Это был огромный риск, не спорю. Рассчитанный, выверенный, и все равно риск. Однако нам повезло. Почему-то мир устроен так, что добровольные жертвы чаще всего оправдываются. Мы избавили чужой народ от «бешенства наследственности», предотвратили подобную эпидемию у себя. И одновременно добились еще двух важных результатов: преодолели границы внутриродового скрещивания и создали детонаторы. Потом, в будущем, когда взрыв наследственности будет угрожать этому миру, мы предложим здешним людям вступить в наш союз.
— Хорошо, но почему тогда вы прячетесь от нас? Почему не хотите с нами говорить?
— Только не смейтесь слишком громко. Потому, что мы вас боимся.
— Вы — Убийцы Детей.
— ?!
— Через несколько лет мы попытаемся послать наших сборщиков памяти на вашу планету. Вы вовремя их распознаете, решите проявить милосердие, позволите им жить в вашем мире. Почти тридцать лет будете мучиться от неопределенности и страха, а потом убьете их, прежде, чем они окончательно себя осознают. И тогда испугаемся мы. И уничтожим все наши станции наблюдения в прошлом. И будем прятаться от вас по всей Вселенной. Потому что знаем, как бороться с болезнями наследственности, но не знаем, как бороться с пандемией страха.
— Но это будущее можно изменить?
— Наверное, можно. Но мы не можем исказить судьбу вашего народа.
— И поэтому вы все это рассказали мне?
— Мой Бог, не думайте, что мне кто-то поручил или хотя бы дал право рассказывать вам все это. Я попросту спасаю свою жизнь. Кстати, с того момента, как я достал распятие, ваш обруч не работает. Ваше начальство думает, что вы снова засунули его в стол. Мое начальство также ничего не знает и знать не будет. Считайте, что я просто захотел оставить след в вашей памяти. Не я — Странник, а я — Киун, черный маг из Арканара. Захотел согнать с вашего лица брезгливую жалость. Может быть, вы попытаетесь не только пожалеть, но и полюбить нашу землю, наше вино, наших женщин, раз уж вы застряли здесь надолго. А то, знаете ли, браки из жалости всегда не слишком счастливые. Ну и, кроме того, я надеюсь, что в награду за искренность вы меня все же отпустите.
Сломанное дерево за окном в сумерках напоминало истосковавшемуся прогрессору глайдер. Под порывами весеннего ветра оно постанывало, и казалось, что глайдер плачет, просит отпустить его обратно в небо.
Пашка постоял на крыльце, ежась, тайком дымя самокруткой, но муть и тоска не уходили. Все это было весьма законно и логично. О трудности адаптации прогрессоров к чуждому для них социуму защищались диссертации, и Пашка эти диссертации читал. На втором-третьем году одиноких землян одолевали «тревожно-депрессивные настроения в сочетании с метафизической интоксикацией», то есть печальные размышления о сущности добра и зла и участии человека в их вечной борьбе. Так что представь он сейчас доклад о своей беседе с чернокнижником-Странником, воспринято это будет соответственно. А если вспомнить недавний Тошкин провал — не только соответственно, но и однозначно. И базой на южном полюсе уже не отделаешься. Домой, домой, в объятия матери Земли. И что тогда останется? Играть с Тошкой по БВИ в «Arkanar-Revolution»? Он всегда подозревал, что Странники при встрече поставят человечеству мат; не думал только, что мат будет таким детским.
Он спустился в сад, подошел к стоявшей под скатом крыши деревянной бочке, зачерпнул холодной, с привкусом растаявшего льда, воды и плеснул на лицо. Потом закинул в рот ломтик селезенки вепря Ы, разжевал и несколько секунд стоял, хватая воздух ртом, смахивая выступившие слезы. Бюджет Института тощал с каждым днем, запасы спорамина таяли на глазах, приходилось переходить на местные средства. Они были поистине варварскими, но действовали исправно.
Вот и сейчас на Пашку снизошли наконец желанные ясность и покой. Он вдруг вспомнил, что такая же бочка стояла на даче у бабушки. Бочку сделал дед-историк (все без дураков, из настоящего дерева и железных обручей), а бабушка-гидробиолог показывала пятилетнему Пашке всякую мелкую живность, резвящуюся в дождевой воде. Вокруг здешней бочки летом так же собираются все хозяйские детишки. Странно даже думать об этом. Казалось бы, что может быть общего между бабушкой и дедом — профессорами Орского университета, интеллигентами в седьмом поколении, и здешними недолюдишками, «заготовками», «болванками», как называл их Тошка. А вот поди ж ты, отыскалась связь, и Пашка, интеллигент в девятом поколении, едва не впал снова в метафизическую интоксикацию на тему «А может, чернокнижник и прав?»
И тут он вспомнил. Селезенка вепря Ы встряхнула его мозг, и он вспомнил человека со смешными ушами, жестким лицом и мудрыми зелеными глазами, который как-то заговорил с ним в коридоре Института. И Пашка понял: он поверит его рассказу. Единственный на Земле, поверит без всяких документов и доказательств. Обязательно.
Ц.-Е. Наморкин (Цицерон-Елисей Наморкин) СУЕТА В БЕЗВРЕМЕНЬЕ (Палиндром)
Ля фам э ля компань да лем
Амвросий Выбегалло, доктор наукСтруей протекало время. Закольцовывалось пространство, сжималось.
Снова Выбегалло тревожился — тайм-рекогнсциратор-дупликатор клинило.
Дубель возник размытым пятном:
— Привет!
— Привет!
— Знаешь меня, а?
Обнялись.
Стелла фыркнула:
— Было…
— Одной нам мало, — сказал дубель, улыбаясь.
— Устроит, эта, дубельша?
— Нужен оригинал!
— Дубельша, эта, мне.
— Согласен!
Продублировали Стеллу. Цикл завершился. Запахло О2.
Стелла и дубель поцеловались.
Кайф!!!
Выбегалло ведьмочек перепутал:
— Которая, значить, моя?
Сжималось пространство, сжималось…
— Моя, значить, которая?
— Перепутал ведьмочек, Выбегалло?.. Кайф! — поцеловались дубель и Стелла.
Опять запахло.
Завершился цикл: Стеллу продублировали.
— Согласен, мне, эта, дубельша.
— Оригинал нужен?
— Дубелька, эта, устроит!
Улыбаясь, дубель сказал:
— Мало нам одной было!
Фыркнула Стелла. Обнялись.
— А меня, знаешь…
— Привет-привет! — Пятном (размытым!) возник дубель…
Клинило тайм-рекогнсциратор-дупликатор. Тревожился Выбегалло:
— Снова?!
Сжималось пространство. Закольцовывалось время, протекало. Струей…
Александр Хакимов ПОСЕТИТЕЛЬ МУЗЕЯ
Литературная редакция Андрея Измайлова
Глайдер пошел на посадку. Завис над плоской крышей длинного одноэтажного здания. Спикировал на большой красный круг и аккуратно сел в центр, обозначенный белым прямоугольником.
Человек легко выпрыгнул из кабины, хотя был, мягко говоря, немолод. Изобилие глубоких морщин и седые волосы до плеч. Но упругость движений сохранил. Сохранил, да… Одет был не по сезону, вернее, не для этих широт. Просторная легкая пятнистая куртка-универсал с уймой карманов, карманчиков, кармашков. Пятнистые же шорты. А вокруг до горизонта (впрочем, и далее) — серая, изрытая бороздами равнина, редкие скалы-«зуб дракона», подернутое ледяной коркой озерцо. Нудный то ли еще дождь, то ли уже снег. Адаптивная метеостанция с тарелкой-антенной на берегу озерца явно пустовала. Собственно, чем и объяснимы нынешние погодные условия. М-да, погода у нас всегда замечательная, только климат паршивый, как говаривали англичане.
Он поежился и в энергичном темпе «не догоню, так согреюсь» зашагал по крыше, изредка совершая отменные прыжки, чтобы не наступить на огромные, выложенные мозаикой буквы. Примета плохая — наступить на букву. Или, наоборот, хорошая? Он не был суеверен, просто согревался. Да и примета, опять же…
Совокупность букв — МУЗЕЙ. Там еще буквы, но дальше, дальше, дальше. А вход — уже вот он.
Вход — свободный. Полусфера (под раковину моллюска) послушно раскрылась перед человеком и послушно закрылась, стоило ему переступить порог. Внутри было сухо, тепло и светло.
Он ритуально сказал «Здравствуйте!», понимая и зная, что говорит в пустоту. Музейные экспонаты с некоторых пор перестали привлекать внимание любопытствующих масс. Если хочется побыть одному, приходи сюда. Пришел…
Он сплел цепкие длинные пальцы, похрустел ими — звук сухой и громкий, как выстрел. Пустота — это хорошо. Но тишина — это слишком. Он выудил из нагрудного кармашка две серьги кристаллофона, подвесил к мочкам ушей. Музыка — туш!
Туш не туш, но «Риенци» Вагнера. О вкусах не спорят. Кажется, кто-то из тиранов прошлого тоже предпочитал Вагнера — то ли Пиночет, то ли Чингисхан. Нет, не «тоже», а просто «предпочитал». Совпадение музыкальных вкусов есть совпадение лишь музыкальных вкусов. В конце концов, кто-то из тиранов прошлого млел от элегического Бетховена. То ли Сталин, то ли Лебедь. Беда с этой историей постсредневековья — тиран на тиране, тираном погоняет. Всех не упомнишь и тем более не выстроишь в последовательный ряд. Да и зачем ему? У него иная спецификация. Лишние знания умножают скорбь. Или это тоже кто-то из тиранов изрек?
Ладно, пустое! Начнем экскурсию, что ли?
Он был стрелком-межпланетчиком, и он был Стрелком. Полновесный век из своих ста двадцати он провел, не выпуская скорчера из рук — в иных мирах, под иными солнцами. Он возвел охоту в ранг высокого искусства, и был вне конкуренции. Конкуренты отсутствовали по определению. Стрелок он и есть Стрелок, единственный в своем роде и в роде человеческом также.
Спрос рождает предложение. Заказы сыпались наперебой — от кунсткамер, от лабораторий, от институтов. И он их выполнял, эти заказы, — на протяжении всего полновесного века.
А наступление века нового, встречу, с позволения сказать, он решил отметить именно здесь, на Лабрадоре. У этого музея экспозиция, конечно, не самая богатая. Уступает, допустим, бакинскому или, допустим, токийскому или, допустим, питерскому. Зато лабрадорские экспонаты, все и каждый, добыты им лично. Что ж, встреча так уж встреча.
Ита-ак, мы начинаем!.. С гарротского слизня, что ли?
На обширном низком постаменте — грузный, тускло поблескивающий мешок. Задняя, расширенная часть сбита в многочисленные складки. Но спереди — гладкая тугая выпуклость, не голова (у слизня — голова? ха-ха!), но выпуклость. И на ней — глаза. Вот глаза — да, действительно глаза, всем глазам глаза, почти человечьи… то есть такие, какие были у слизня за миг до выстрела, никакие не человечьи.
Первая добыча. И, пожалуй, самая легкая.
В болотах Гарроты слизень просто громоздился на валуне, грелся. Выпучил глаза на пришельца (сказать бы — с удивлением, но не со страхом), однако не шевельнулся.
Стрелок (тогда еще просто стрелок, а не Стрелок) долго месил грязь вокруг валуна, скрупулезно выбирая, куда именно выстрелить. Как бы так изловчиться — и конвульсий избежать, и шкуру не попортить. Ну не в глаз же целить, в са-амом-то деле! А вот, пожалуй, сюда! Разумеется, за отсутствием головы у гарротского слизня отсутствует и нечто противоположное, задница то есть. Но когда и если тот чем-то все-таки ест (головой, ха!), он и чем-то все-таки гадит (задницей, ха!).
После выстрела скорчера, всунутого по самый приклад в зыбкую плоть, слизень съежился почти вдвое, сложился гармошкой. Крови как таковой не было. Глаза подернулись пленкой и погасли. Вот и все. Никаких проблем!
Проблемы возникли потом — с консервацией добычи и доставкой. По прибытии на Землю Стрелок почти смирился с тем, что первый заказ провален бесповоротно. Вместо особи — капсула весьма смердящего жидкого холодца.
Честь и хвала Спецу, сотворившему тогда из холодца… мнэ-э… конфетку. Нет, право слово, как живой, как там, на валуне. Спец, знаете ли, это спец!
Они дружили с малолетства. Прозвища друг другу они приклеили тоже с малолетства — с тех пор, как один пацан срезал на взлете жука-«эльфа» из примитивной рогатки (нич-чего себе! скорость «эльфа» даже на взлете — за сотню кэмэ в час!), а другой пацан умудрился собрать «эльфа» по кусочкам в одно целое и неотличимое от «дорогаточного» периода (нич-чего себе! после прямого попадания от реликтового жука осталось… да нич-чего от него не осталось!). Так и откликались на «Стрелок!», на «Спец!».
Годы, годы, м-да. Великая Теория Воспитания в пору их малолетства еще не стала практикой, но экспериментально внедрялась, внедрялась… Основной тезис: найти в человеке природный талант и развить его. Благие намерения. Не практика еще, но теория уже. Еще не Теория, но уже теория. Теория без практики мертва…
С годами прозвище превратилось в звание: «О, Стрелок, о!», «О, Спец, о!».
Ладно, что у нас дальше?
А дальше у нас — бетонный пол, шершавая стена, два окна-бойницы. Декорация каземата. И троица ушастеньких. Ути-путиньки! И поясняющая табличка: «Семья голованов, планета Саракш».
Кто-кто, но Стрелок в пояснениях не нуждался.
Вот с ними, с голованами, пришлось повозиться! На редкость хитрые и осторожные псины! Стрелок выслеживал их в радиоактивных дебрях, среди развалин, в непроглядных тоннелях. Постоянно мутило от таблеток антирада, который приходилось есть горстями. Плюс риск подорваться на давным-давно заложенной мине или попасть под обстрел престарелого роботанка. Голованы же, подобно призракам, едва оказавшись в поле зрения, мгновенно исчезали. Стрелок не успевал среагировать и поймать на мушку, хотя что-что, а реакция у него еще та. Три недели, почти месяц — таким вот манером.
И, наконец, повезло — щенок-голованыш высунулся из заброшенного пулеметного дога. Несмышленыш еще, любопытство одолело, вероятно. Любопытство — не порок, но… Пли!
Скорчер практически беззвучен, но вот голованыш успел напоследок тявкнуть. И, разумеется, самка явилась на зов, выметнулась из-за контрэскарпа.
Вас-то, мамаша, мы и ждем! Он слезал ее в воздухе, в полете, в прыжке. Особо выбирать не пришлось, и заряд скорчера изрядно попортил шкуру на груди у самки. Будет Спецу непростая работа по возвращении Стрелка на Землю.
Так, но пока — где у нас папаша? Вот и он, здрасьте!
Самец-голован был великолепен, что касается стати и прыти. А что касается стратегии и тактики — отнюдь нет. Просто попер на противника — яростно и тупо, безоглядно. Будто нарывался на выстрел. Ну и получи! Хватило времени прицелиться. Получи — в глаз.
Все-таки слухи о голованах как о существах, отличающихся умом и сообразительностью, сильно преувеличены. А глаз — дело наживное. Вот ведь сидит папаша-голован в музейном интерьере и в оба глаза настороженно следит за приходящими-проходящими — не замай, дескать, мое семейство, самочку с голованышем. Да, у Спеца все-таки лучше всего получаются глаза — и не скажешь, что стекляшки…
Бывайте, ушастенькие. Никто вас здесь не тронет. Здесь — не тронет.
Кто следующий?
А следующий, если ему не изменяет память, леонидянин. Память не изменяет. Леонидянин — маленький, голенький, крепенький, росточком с пятилетнего пацана. А верхом на птичке и вовсе кажется миниатюркой.
Это уже после Саракша. Или — до? Нет, после. Попотел тогда Стрелок, попотел! В прямом и в переносном смысле. Три месяца без малого — по степям Леониды, сплошь поросшей высокой жесткой травой. Степь до степь кругом, и — ни намека на добычу. То есть как раз одни намеки — тонкие и толстые. Леонидяне были везде и нигде. Хлопанье крыльев — постоянно, и днем и ночью. А задерешь голову и — никого. Как издевались, право слово! Ну-ну, летуны-невидимки, в прятки вы играть умеете. Но кушать вам надо?
Стрелок подобрал наиболее крупную особь медоноса и, соответственно, подобрался к нему. Собственно, особого труда это не составило. Медоносы, эдакие полосатые бегемотины, флегматичны и покорны. Леонидяне их регулярно доят.
От одной эдакой полосатой бегемотины — три-четыре барреля в один присест.
Медонос лениво пасся в тенечке, отбрасываемом гигантским параллелепипедом. Подобных… мнэ-э… строений на Леониде — хоть заблудись в них. Другое дело, являются они действительно строениями или природными феноменами. Предмет для дискуссии.
Дискуссия длилась полтора десятка лет. КОМКОН послал полтора десятка астроархеологических экспедиций. Единого мнения так и не вызрело. Энтузиасты-любители еще какое-то время пытались, пытались рыться в параллелепипедах, стремясь докопаться до истины. Что есть истина? И они, энтузиасты-любители, остыли, отстали.
Стрелку древние дискуссии — до фонаря, как говаривали еще более древние. Он не астроархеолог, он Стрелок. Каждому — свое. Здесь и сейчас для него «свое» — заставить медоноса сглотнуть. Забавно, что про аналогичный метод он где-то у кого-то вычитал в незапамятном детстве. «Охота на курдля»? В принципе, читать не любил, не его это. А гляди-ка, прочел. И, гляди-ка, — пригодилось. Никогда не знаешь, что и когда пригодится. Только не мифический курдль, а реальный медоднос. И — не на медоноса охота. На леонидянина.
Медонос сглотнул…
Самым сложным оказалось даже не расслышать сквозь утробное бульканье и урчанье приблизившуюся добычу. Самым сложным оказалось элементарно удержаться. Медонос то и дело норовил срыгнуть или испустить газы. Все же Стрелок крупноват даже для такого медоноса. И представьте себе, представьте себе — двое суток в этом во всем! А ресурс маски-фильтра — трое суток, пропади все пропадом!
Ага! Вот! Бабочка крылышками — бяк-бяк-бяк-бяк. Уловил, расслышал. Не бабочка, само собой. Откуда на Леониде взяться бабочкам! К слову пришлось. Не бабочка, но птичка.
Потом — тишина. Потом — поршневые вдохи-выдохи в области вымени. Доись, бегемотина полосатая, доись. Значит, дояр — туточки-тут. «И животноводство!»
Стрелок проскользнул, почти проплыл к сфинктеру, сгруппировался и резко двинул напряженным локтем по расслабленной мышце медоноса.
Медонос оглушительно испустил газы. И не только газы. Двое суток запора — кое-что накопилось. Ну и Стрелок, разумеется, и Стрелок. Так что хрестоматийная присказка насчет «все кругом вовне, а я во всем белом» — но с точностью до наоборот. Стрелок оказался вовне, а леонидянин — вот он! вот он! — во всем белом.
Стрелок в полете сотворил полусальто и пальнул из скорчера, еще не приземлившись… мнэ-э… не прилеонидившись.
Присосавшийся к вымени дояр-леонидянин сразу перестал быть во всем белом — заряд угодил в затылок…
Браво! Стрелок сказал себе: браво! Возьми он на три миллиметра выше, и череп разнесло бы вдребезги. А здесь — аккуратное входное отверстие. Насчет выходного, правда, сомнения. Перевернул тельце на спину. Так и есть! Щеку вырвало напрочь! Но тут уж — за неимением гербовой, что называется. Иначе он бы просто упустил добычу. Секунда промедления, и — махну серебряным тебе крылом.
Вспугнутая характерным звуком птица, кстати, взмыла было ввысь. Но вернулась, запрыгала в нерешительности, хлопоча размашистыми крыльями. Выработанный или врожденный инстинкт — без седока никуда.
Цып-цып, птичка! Не будет тебе отныне седока-летуна. Стрелок, конечно, и сам бы с удовольствием ее оседлал, но неподъемная он тяжесть, неподъемная. Тем более, с добычей на загривке. Пристрелить, что ли, из жалости? Ну, пристрелить…
А, пожалуй, не зря он тогда потратил на нее заряд. С научной точки зрения птичка представляет нулевой интерес, но здесь, в музее, весьма к месту. Всадник и его… мнэ-э… транспортное средство. Воедино. Очень живописно!
Нет, Спец так-таки уникальный таксидермист!
Тьфу! При мысленном «таксидермист» Стрелок невольно хмыкнул. Ассоциация — «такси» и «дермист». Как он, однако, с места в карьер — из медоноса вовне… Приятно вспомнить. То есть неприятно вспомнить, но приятно. Главное — не процесс, главное — результат.
Результат налицо. И, что отрадно, ни входного, ни выходного отверстия в головенке леонидянина. Щечки налитые, розовенькие. Затылочек в кудряшках. Пупсик-серафимчик.
Уникальный таксидермист Спец, уникальный! Несколько раздражало, что «оне образованность свою хочут показать», но лишь несколько.
В частности, работая над леонидянином, друг-Спец постоянно бормотал-приговаривал странное:
— Ты вообще можешь живое делать мертвым? Не обязательно убивать. Убивать и рукоед может. Сделать живое мертвым. Заставить живое стать мертвым. Можешь?
— Могу! — с вызовом, неожиданным для себя, неожиданной запальчивой фистулой визгнул Стрелок. — Могу!
— Что же вы там делаете на Белых Скалах, если даже ты этого не понимаешь? Мертвое живым ты тоже не умеешь делать?
— Что значит — тоже?! При чем тут «тоже»?! — взбеленился Стрелок.
— А я — могу! — не слыша, вкусно процитировал Спец. — Мертвое сделать живым могу. Ага?!
По этому «ага?!» Стрелок и понял, что Спец кого-то из древних цитировал, априорно привлекая давнего друга в «ближний круг».
Извини, друг. Ты мне друг, но у каждого из нас — свой круг. Разный. Стрелок не читатель. Стрелок — стрелок. «Охота на курдля» — последнее, что он прочел. И то потому, что — «Охота…».
В общем, можешь мертвое делать живым, друг-Спец? Умница! «Двадцать копеек!» (Этимологически абсолютно недифференцируемый оборот речи, но уцелевший с незапамятности.) Но про «живое делать мертвым» — не заступай. Мое! И неча, понимаешь, странными цитатами угнетать. Не знает Стрелок, не читал.
У постамента с леонидянином Стрелок задержался гораздо дольше, нежели у слизня и голованов. С него-то, с пупсика-серафимчика, и пошло-поехало. Когда же это? Лет семьдесят тому? Семьдесят пять? Шумим, братцы, шумим… Уж больно внешность доставленной на Землю добычи того самого… «слезинка ребенка» и все такое. Внешность обманчива. При чем тут внешность!
В общем, экзальтированная орава из «Живого Мира» рьяно набросилась на тогдашний КОМКОН. Столь рьяно, что КОМКОН пошел на попятную. (Представьте себе, представьте себе: КОМКОН — и на попятную!) И любое живое существо (как земное, так и внеземное) получило статус неприкосновенности. Что до гастрономических пристрастий — от устриц до говядины — то пожалте: промышленный синтез белка.
А Стрелок?! Ему теперь как же?!
Со Стрелком у Экселенца был тягостный разговор непосредственно в КОМКОНе.
— Надо ждать, — единственно, чем утешил Экселенц, — ждать и надеяться.
Хорошо ему говорить! Вечный Жид ты наш! КОМКОНу не привыкать ждать, работа у КОМКОНа такая — ждать и надеяться. А у Стрелка — другая работа! И он ее лишился. Навсегда?
— Чего ждать?! На что надеяться?! Что изменится?! — сорвался он в первый и последний раз.
— И это пройдет, — утихомирил лысый хрыч, буравя Стрелка выпуклой зеленью глаз. То ли новоявленный вынужденный вердикт имел в виду. То ли неподобающее поведение Стрелка. И то, и другое, скорее всего,
— Виноват, Экселенц.
— Ты не виноват, — ободрил Экселенц.
И ведь прав оказался, провидец! Как в том, так и в другом.
Конечно, понадобилось четверть века.
Понадобилось, чтобы в Арканаре серая толпа растерзала благородного дона Мудахеза (он же практикующий историк-синоист Болеслав Фишер).
Понадобилось, чтобы пантианин задушил Изю Малая, непревзойденного мастера боевого барицу (вот ведь подлость — не просто задушил, а именно в обьятьях, в дружеских, надо полагать, — и профукал мастер, проморгал, не воспрепятствовал вовремя).
Понадобилось, чтобы на Саракше был тривиально расстрелян фельдшер Вит Май (он же блестящий врач Логвиненко) только за то, что его имя показалось подозрительным пьяному ротмистру.
И чаша терпения переполнилась. И всяко не «слезинка ребенка» эту чашу переполнила. Новый вердикт КОМКОНа, поддержанный львиной долей homo sapiens, гласил: представителям внеземных цивилизаций, как негуманоидам, так и мимикрирующим под гуманоидов, отказано в праве считаться существом разумным… со всеми вытекающими последствиями. Нелюдь — она нелюдь и есть. Даже если прикидывается люденом.
Большое искусство — утвердить подобный вердикт. Но КОМКОН и есть КОМКОН, чтобы владеть этим искусством в совершенстве. Искусство требует жертв.
Стрелок силен в ином искусстве. Оно тоже требует жертв.
Тот же гарротский слизень, те же голованы — из списка сапиенсов их вычеркнули, а в список животных не внесли. И леонидянин — да, похож, но разум отсутствует, так только — инстинкты, рефлексы, очень похожие на разум. Мимикрия, одним словом. И вполне все вышеперечисленные могут и должны стать добычей. И стали.
Единомышленников у него было немало, как он и подозревал. Но публично — всего один. Зато какой! Наш. Регулярно вещающий только от своего имени по одному из бессчетных спутниковых каналов. Каналов, да, без счету, однако сдается Стрелку, что Наш привлекал весьма обширную аудиторию, которая поощряюще кивала: этот — наш! Все-таки человек, по сути, агрессивен, несмотря на впечатляющие успехи действующей Теории Воспитания. Может, Стрелок и ошибается, но так ему кажется. И тот же Наш — живой пример.
— Я — Наш! — провозглашал с экрана паренек в допотопной куртке из искусственной кожи. — Я — ваш! — с надрывным пафосом.
И далее — угрюмая скороговорка-страшилка на четверть часа (в «четвертушке», как сам Наш иронично именовал ежедневный выход в эфир).
Стрелок, по чести говоря, относился к Нашему скептически. Называл его не иначе, как сопляком и дешевкой. Но не вслух.
Ладно, дурная слава — тоже слава. Это — о Нашем, не о Стрелке. Тому славы не надо — ни дурной, ни доброй. Была бы работа.
А работа была и, возможно, в какой-то мере из-за психологической накачки Нашим весьма обширной аудитории. Для нее, для аудитории. Стрелок стал «настоящим мужиком», как его окрестил Наш.
Лиха беда начало.
Следующий этап — КОМКОН вынес на обсуждение поправку: разумным существом считается лишь человек Земли; иные — как мимикрирующие под гуманоидов, так и являющиеся таковыми — нет.
Это после того, как на Сауле канул целый экскурсионный аэробус с ребятней-семинаристами.
Аэробус нашли через сутки — у подножия Утеса-Великого-и-Могучего. Весь в пробоинах и глубоких царапинах. Копьями его? Топорами? Копьями и топорами.
И семинаристов нашли — в трех километрах от Утеса-Великого-и-Могучего. Брошенные пустые сани. В упряжке — ребятня. Вповалку. Раздетые, нагие, смерзшиеся. Загнанные насмерть.
Вот вам и «слезинка ребенка»…
И поправка была принята. Не сказать «на ура» (инерция мышления, ничего не попишешь), но и не сказать «на увы». Так-то!
Нуте-с. Продолжим обход.
Далее кто у нас?
Далее у нас пантианин.
Угу, он.
Трехметровое чучело, великолепный экземпляр. Нечто вроде увеличенной копии апача. Похож, похож. Горделивая поза, мощное телосложение, головной убор из стоячих перьев, ожерелье из ракушек-побрякушек. Да, такого к себе на расстояние вытянутой руки (тем более пантианской) не подпусти, будь ты трижды мастером боевого барицу Изей Малаем.
Стрелок и не подпустил. На чужих ошибках учимся, почтенный Изя, на твоих ошибках, почтенный Малай.
Стрелок устроил засаду. И на таком солидном расстоянии, что пантианин при всем его легендарном обонянии не учуял.
Правда, накладочка чуть не случилась — из-за солидного расстояния же. Заряд скорчера настиг дикаря-гиганта уже на излете. Что поделаешь — расстояние, расстояние и расстояние. Потому пантианин, покинувший «вигвам» и словивший порцию смертоносной плазмы, еще долго катался по камням, извивался, грыз гранит. Но ничто не вечно. Успокоился. Упокоился. Шкуру, конечно, повредил в агонии, изрядно повредил.
Но Спец есть Спец! («Мертвое сделать живым? Могу!») Будто нет и не было никаких швов и заплаток. Ай, молодца!
Доставка и последующая демонстрация туши пантианина, само собой-таки вызвала неясный ропот среди энтузиастов «Живого Мира». Уж очень он походил на землянина. Ну, вылитый апач!.. Однако всего лишь ропот, всего лишь неясный.
Опять же — Наш в «четвертушке».
Наш сменил куртку из искусственной кожи на куртку из кожи леонидянина и с убедительным напором возвестил массам, что дикарь и есть дикарь, уже не животное и еще (и никогда) не сапиенс. Даже до элементарной спутниковой связи не дорос, не доразвился. А за одного Изю Малая дюжину таких положить мало! А Стрелок, по словам Нашего, не просто настоящий мужик, но героическая личность, пример для подражания. Dixi!
С Гигандой же промашка случилась. Очевидная промашка. Ну да очевидна она только Стрелку. Остальные, имеющие глаза да видящие, рассматривают экспозицию как должное. Во всяком случае, предложенное. Но Стрелок-то знает…
Он высадился на окраине Арихады впотьмах и до центра города прокрался беспрепятственно. Хотя вокруг царил ад кромешный, разгар войны Империи с герцогством Алайским.
Командующий имперской армией, пятизвездный генерал Грачу (полный придурок! нет, пустой! но придурок, придурок, придурок!), ввел на арихадские улицы колонну бронеходов, воображая устрашить противника одним ее видом. Расторопные алайцы, притаившиеся на этажах, забросали колонну гранатами и сожгли ее дотла — из ручных ракетометов, в том числе. Пятизвездный генерал Грачу рассвирепел до умалишенности и приказал поднять в воздух тяжелые винтокрылы. Те основательно проутюжили Арихаду (точечно, доложился Грачу), не оставив ни своих, ни чужих.
То-то и оно — ни своих, ни чужих. Стрелок был вынужден довольствоваться тем, что есть. Добычу он был вынужден утрамбовать в капсулу вперемежку — от кого что осталось. В общем-то, и охоты не получилось толком. Сбор падали, разве что. Он и погнушался бы назвать это настоящим приключением, когда бы с неба не грозились очередным «точечным» ударом винтокрылы и винтокрылы. Того и гляди распылят на атомы, в оба гляди! Он и глядел…
М-да, диорама «Гиганда» — спорная получилась. Спорная, что ж… Спец и тот опустил руки. Оно, конечно, «мертвое сделать живым? могу!». Но добыча излишне дефрагментирована, излишне.
Однако Спец не был бы Спецом, если бы не сварганил из крошева более или менее цельную картинку. Два имперских бронеходчика в комбинезонах угадываются, и алайский боевик в камуфляже — тоже. Лишь угадываются, но уже кое-что, уже кое-что. Экспрессия! Вагнеровская «Риенци» в ушах — самое то в качестве сопровождения.
Да-а, страшная штука — война!
Так и сказал Наш в очередной «четвертушке», объявившийся теперь в куртке из кожи пантианина: «Страшная штука — война!». Можно ли, сказал Наш, хотя бы допустить наличие хотя бы зачатков разума у существ, осатанело истребляющих друг друга — не пропитания ради, не самозащиты для, а… черт знает, почему?! Нет, нельзя допустить, сказал Наш, и восхвалил Стрелка, доказавшего сей постулат, доставив на Землю то, что осталось от… И назвал Наш Стрелка нашим.
Экая привилегия! Заячий тулупчик да с царского плеча! Благодарствуйте, ваше-ство!
Ан, худо-бедно, не без опосредованного влияния Нашего, не без того, — у Стрелка появились последователи. Плодитесь и размножайтесь! Юнцы и старцы, мужескаго и женскаго полу. Скорчер осваивали только так, за милую душу — и на Марсе, и на Леониде, и на Тагоре, и на Саракше, и на Сауле, и на Надежде, и на Радуге… Нашего полку прибыло, эге-гей!
Он, Стрелок, конечно, один такой. Но — комфортно чувствовать, что ты не один…
Вот в Музее — да, один. Странное дело, неужели не интересно, как оно?! Раньше толпами валили, ан масс. А ныне — ветер и пустота. М-да, sic transit…
Впрочем, и Стрелку (даже ему!) кое-какие экспонаты наскучили, признаться. Рутина…
Он прошел мимо саульца, лишь мельком бросив взгляд: Чучело в мохнатой шубе и мохнатой шапке. В занесенной руке — натуральное примитивное копье с зазубренным лезвием. Морда — тупой-еще-тупее. Глупо вспоминать! Саула и Саула.
Он прошел мимо арканарского субъекта на хамахарском жеребце, лишь мельком бросив взгляд:
«Почти как люди», называется. Плащ-домино, кружева, шляпа с плюмажем. Два меча на вепрекожей перевязи. («Ы! — Почему Ы?! — Вепрь Ы! Чтоб никто не догадался! — Идиот!») Идиот и есть. Надменность и напыщенность. Тримушки-трай — ни дать, ни взять. Условности и традиции. К черту условности (и, традиции). Пока дебелый барон, пыхтя, подметал грунт снятой шляпой в замысловатой церемонии вызова. Стрелок трижды прицелился и — пли! Урочище, понимаешь, Тяжелых Мечей, понимаешь! Бла-ародный дон, вот вам меч, понимаешь. Да ну!..
Он дошел до экспозиции «Тагора».
Тагорец как тагорец — приземистый, корявенький, клыкастый (скалозуб? зубоскал?). Но вот рядышком, все в той же экспозиции — сплошная головная боль Стрелка, заноза в мозгу. Запаянная капсула, маслянистый раствор. Внутри, будто в материнской утробе — псевдохомо.
Ассоциация с материнской утробой напрашивалась при взгляде на это самое псевдохомо. Большеголовый пузатый младенчик, свернувшийся калачиком. Глазенки пустенькие — в пол-лица. Глазенки натуральные, не стекляшки, не биопластик. Из всего, добытого Стрелком за годы и годы, это самое псевдохомо — уникум, в некотором роде. В том роде, что «младенчик» оказался единственной добычей, привезенной Стрелком на Землю живьем.
Собственно, считать ли псевдохомо добычей? Тагорец — да. Тагорца заказал токийский Музей. И Стрелок выполнил заказ качественно и в срок.
Потревоженный в логове тагорец скалил клыки, выпрямлялся, колотя себя лапищами в грудь, нависал над незваным пришельцем, готовясь откусить ему голову.
Стрелок не отступил, не побежал. Он сделал еще шаг вперед, сблизившись вплотную, и отстрелил тагорцу гениталии, «корень», если угодно. Подрубаешь корень, и дерево валится.
Тагорец не дерево, но его «корень» — жизненно важный центр, поразив который, только и можно свалить эту… дичь. Что и получилось…
(Спец, помнится, не удержался от веселой скабрезности, восстанавливая тагорский «корень» с помощью биопластика, «бородатый» анекдот, «шампиньоны растут», ну все его знают…)
А в опустевшее логово Стрелок сунулся не праздного любопытства ради. Он желал убедиться, что логово доподлинно опустевшее. Иначе пойдешь-пойдешь отсюда, и на спину обрушится тагоряночка, с которой «скалозуб-зубоскал» играл в «шампиньоны», пока их… мнэ-э… не потревожили. Тагоряночка — еще тот организм, учитывая масштаб тагорского «корня»!
Оказалось, логово-таки опустевшее. Никого, не считая этого самого псевдохомо в грубо сработанном каменном чане с рассолом. Ну и кто тут? Вернее, что тут? Ибо продукт питания отвечает на вопрос «что», а не «кто».
«Псевдохомо», названное так впоследствии профессором Исии Сиро, все же ответило на вопрос «кто», а не «что». Но впоследствии, на Земле.
А на Тагоре Стрелок выудил это самое псевдохомо из чана, встряхнул, повертел на взвешивающей руке… М-да, такой организм попадается ему впервые. И что с тобой делать, организм? Усыпить, провести первичную консервацию, и — в капсулу? Своя ноша не тянет. Весу в организме — килограмма три, три с половиной. М-младенчик…
Стрелок не усыпил этого самого псевдохомо отнюдь не из-за сантиментов — дескать, ах, младенчик, ах! Он не слюнтяй из «Живого Мира», он Стрелок. Не к ночи помянутый леонидянин, в конце концов, более схож с младенчиком — пупсик-серафимчик. Но именно, что схож, и не более. А это самое псевдохомо схоже с жертвой аборта. И не усыпил он его потому, что Стрелок есть звание, есть репутация. Стрелок со скорчером — да. А душить эмбриона или инъекцию делать, или замораживать в холодильной камере (так или иначе усыплять, короче) — нет.
И на Землю это самое псевдохомо прибыло живьем. Вообще-то н-не совсем живьем. Организм скорее жив, чем мертв. Организм скорее мертв, чем жив. Клиническая смерть, из которой организмы выводятся и через сутки, и через двое, и через трое. Вероятно, жидкая среда в капсуле, куда Стрелок погрузил это самое псевдохомо, кардинально разнилась по составу с тем рассолом в том тагорском каменном чане. Ну и массаракш с ним! Получите заказ и распишитесь. А это (это самое псевдохомо) — в нагрузку, когда и если угодно.
Угодно.
Профессор Исии Сиро кланялся и улыбался, кланялся и улыбался, кланялся и улыбался. Япония! Ритуал есть ритуал. И не понять, искренне кланялся и улыбался? Или — ритуал?
А спустя неделю профессор Исии Сиро выступил с сообщением по Центральному Каналу. И не по поводу нового экспоната, тагорца, — недостаточный информационный повод, чего там! Выступил он по поводу (по причине, чего там!) псевдохомо. Тогда же и назвал организм — псевдохомо.
Итак, это самое псевдохомо к разряду животных не относится, к разряду нелюдей не относится, к разряду сапиенсов не относится, однако… По словам профессора Исии Сиро, если искать промежуточное звено между тем, тем, и тем… то искать уже не надо, уже найдено… кажется… С полной определенностью утверждать нельзя. Из состояния клинической смерти организм вывести не удалось, жаль. А то бы можно было утверждать с полной определенностью.
Что-о-о?!
Стрелок вознегодовал.
Стрелок потребовал.
Стрелок воззвал к Экселенцу.
В общем, растерялся Стрелок, чего уж там.
Он заметался, рванулся было назад на Тагору. Сейчас он доставит вам полдюжины этих самых псевдохомо живьем и… и тогда еще посмотрим!
Но не успел. Не получилось — на Тагору. Вердикт КОМКОНа: закрыта Тагора. Буквально наутро после сообщения Исии Сиро. Стрелок рванулся было назад на Тагору буквально наутро после сообщения Исии Сиро. АН — осади назад. Вердикт. Закрыта. Для всех без исключения. Вплоть до особого распоряжения.
— Чьего распоряжения?! — на грани мужской истерики допытывался Стрелок у Экселенца. — «Живого Мира», что ли?! И кто ее закрыл?! «Живой Мир», что ли?! Да пошли они!..
Лысый хрыч немигающе буравил Стрелка выпуклой зеленью глаз, пережидая всплеск эмоций. Не дождался и снизошел до краткого ответа:
— Не «Живой Мир». КОМКОН.
— Вы?! Вы, Экселенц?!
— КОМКОН… — уточнил лысый хрыч.
— Вы же и есть КОМКОН! — неподобающе указал пальцем Стрелок. — Вы!
— Не я один.
— А кто еще?!
Стрелок прекрасно знал, кто еще. Собственно, никто не делал тайны из «кто еще КОМКОН». Ну, Белый Ферзь. Ну, Слегач. Ну, Гуру. Умник еще. И — Экселенц. Вопрос Стрелка был и не вопрос вовсе, а уничижительная оценка остальным комконовцам. Это он погорячился. Погорячился, да. Это, пожалуй, нервный срыв. Это, пожалуй, не на грани мужской истерики, а за гранью. Каждый из верховного квинтета КОМКОНа заслуживает глубокого почитания и прочая, и прочая, и прочая.
Однако приняли же злополучный вердикт! И как оперативно! И как безоговорочно!
— Кто?! — повторил Стрелок. И это был уже не вопрос. Просьба. Мольба.
— КОМКОН… — повторил лысый хрыч, указывая тоном на неподобающее поведение Стрелка.
— Виноват, Экселенц… — стушевался Стрелок. Попереминался. Повторил: — Виноват…
Не ободрил его Экселенц: «Ты не виноват». Сказал ему Экселенц:
— Иди. Иди и впредь не греши.
И Стрелок выполнил «кру-угом!» и пошел. Кто из вас без греха? Где твои обвинители? Никто не осудил тебя?
Стрелок — без греха. Обвинители не проклюнулись. Никто не осудил его.
Он искал встречи с остальными из верховного квинтета КОМКОНа. Он досаждал и осаждал. Он, в конце концов, охотился на них! Нет-нет, только в понимании выслеживал, ему только спросить…
Он-таки выследил — и не кого-либо, а Гуру. Самого престарелого и самого почитаемого из верховного квинтета. В КОМКОНе, разумелось, все равны. Но некоторые равнее. ГУРУ — равнее некоторых. Не провозглашалось, но разумелось. Хотя при утверждении очередного вердикта он неизменно голосовал против. И против. И против. Пацифистская блажь. Но принцип большинства есть принцип большинства. Расклад голосов — собственно, никто не делал тайны из расклада голосов. Один — всегда против. Кто тот один — никто не делал тайны и из этого. Гуру. Снова Гуру. Опять Гуру… Вот только из итогов голосования по закрытию Тагоры кто-то сделал тайну. Кто-кто?! КОМКОН и сделал!
Сам Стрелок априори испытывал к Гуру уважение, уважение и уважение. При том, что знал, как неизменно голосует Гуру на верховном квинтете. (А начет закрытия Тагоры, небось, «за»? В кои-то веки, а?! Пацифист блаженный! Или блажной?) Но Гуру есть Гуру…
И Стрелок ощутил мгновенную робость до слабости в ногах, когда очутился лицом к лицу с ним. Именно очутился — главное, внезапность, как на охоте. А то, понимаешь, избегают они его, что ли?!
Стрелок выследил престарелого Гуру в Степанакерте, на шумном достлуг-байраме, посвященном трехсотлетию нерушимого азербайджано-армянского братства. Очень многолюдный достлуг-байрам.
Стрелок очутился лицом к лицу с Гуру и брякнул от смущения:
— А я вас узнал! — с идиотической ухмылкой.
Еще бы не узнать Гуру, чье лицо известно любому землянину и не только землянину, но и любому!
— А я — вас… — произнес Гуру после томительной для Стрелка паузы. А глаза добрые-добрые!
Неловко-то как, массаракш! Стрелку ведь ничего не надо, ему только спросить…
Он не успел спросить, сформулировать не успел.
Гуру неловко размахнулся и влепил пощечину. Не больно. Однако звонко. И демонстративно. За что?!! Публично…
Публики на достлуг-байраме было с избытком. Публики, гомонящей, хохочущей, горланящей. И вмиг — вакуумная тишина.
— Спасибо. Я удовлетворен… — учтиво произнес Гуру. Потом вдруг сразу схватился за сердце, стал оседать, успев спросить у достлуг-байрама: — Можно, я лягу?
Лег. И больше не встал. Еще неделю продержался на стимуляторах — в Краславской клинике. И — ушел. Навсегда.
А Стрелок ушел в долгий, почти трехгодичный ступор. Даже запил. По-черному. Сказать бы, до цирроза, сохранись эта напасть со времен постсредневековья.
— Сопляк и дешевка! — орал на него Спец, брызгая слюной, приводил, что называется, в чувство. — Поднимись! Поднимись, говорю! Не молчи! Скажи что-нибудь!.. И-иех, сопляк и дешевка, хвостом тя по голове!
Стрелок не поднимался и молчал. Угрюмо. И лишь снова оказавшись один после очередного визита друга-Спеца, изредка риторически вопрошал вслух:
— За что?! Нет, главное, за что?! Кто-нибудь мне объяснит, за что?!
Никто. Никто ему так и не объяснил.
Время лечит все.
Но легкие рецидивы есть легкие рецидивы.
Стрелок, выйдя из трехгодичного ступора, вошел в стадию «Ах, так?!». Убедившись, что Тагора по-прежнему закрыта, он с упорством, достойным лучшего применения, затребовал свою капсулу, ту самую, да! Вместе с содержимым, конечно! Псевдо не псевдо, хомо не хомо — это его добыча. Выньте да положьте! У вас Тагора, значит, закрыта, и на Тагору, значит, никак?! И чудненько! А у него в музейной экспозиции брешь, и он эту брешь может скомпенсировать лишь за счет этого самого псевдохомо, именно этого, ибо другого не дано — закрыто. И вообще, о чем речь?! Товарищи ученые! Доценты с кандидатами! Не натешились с организмом (псевдо не псевдо, хомо не хомо!) за три-то года, пока Стрелок… мнэ-э… безмолвствовал?! Не натешились, значит? А плевать! Отдайте. Это моя добыча. Отдайте… Настырность хронического склочника. Станешь тут с вами склочником! Да, склочник! Вот и отдайте!
Отдали. Вам как — на руки? Или — в музей?
В музей, конечно. Зачем же на руки! Добыча, да, его. Но он ведь ее — для музея. Пусть будет. Пусть смотрят.
Профессор Исии Сиро капсулу и доставил. Самолично. Прибыл на глайдере. Не кланялся и не улыбался, не кланялся и не улыбался, не кланялся и не улыбался. И эти японцы еще что-то говорят о незыблемости ритуалов!
По случаю пополнения экспозиции Стрелок тоже прибыл, тоже на глайдере.
Они пересеклись на каких-то пять-шесть секунд, на крыше Музея, на взлетно-посадочном круге. Стрелок прибыл, а профессор, знаете ли, как раз убывает. Не поклонился и не улыбнулся.
И Аматэрасу с ним, с профессором, в конце концов! Вольному воля! Экспонат-то хоть привез? Или так, погулять вышел?
Ага, привез. Вот он.
И чудненько! Пусть будет. Пусть смотрят.
Посетители музея, пра-ашу!
То-то и оно. Проси, не проси — с тех самых пор Стрелок стал чуть ли не единственным посетителем. И то от случая к случаю — по случаю. Например, как сегодня, как здесь и сейчас. Вековину стажа отметить — всем случаем случай! Не так ли? Один, совсем один. То-то и оно.
Нет, не один! Кто-то (некто?) пнул его под коленки — мягко, типа «соизвольте подвинуться, за вами не видно». Ох, Вагнер, Вагнер! В смысле — Рихард. В смысле — «Риенци».
Заглушил все посторонние звуки, заглушил. Эдак на Гиганде (на Сауле, на Гарроте, на Леониде, на Тагоре) увлечешься кристаллофонами, заслушаешься и — ку-ку. Но здесь и сейчас опасаться нечего. Возрадоваться разве! Не один он, не один. Еще посетитель!
Стрелок сдернул серьги кристаллофонов, одновременно оборачиваясь и подвигаясь в сторону: пожалуйста-пожалуйста, пардон, что помешал.
Тьфу! Массаракш! Никакой не посетитель. Кибер-уборщик. Чистота залог чего-то там. И верно. Без кибера-уборщика тут заросло бы все… по самое некуда.
— Пшел вон! Кыш! — пронзительной фистулой отогнал Стрелок.
Кибер порскнул было за угол, в Зало.
— И оттуда пшел! Кыш! Понял, нет?!
Еще не хватало! Последняя точка маршрута! Зало! И там — вдруг кибер-уборщик! Помимо того, что (кто?) там пребывает с тех пор, как ушел… навсегда. Нет уж! Зало на то и Зало — там надлежит быть одному, с самим собой… и с тем, что (кто?) пребывает в Зало с тех пор, как…
Кибер виноватой трусцой по широкой дуге обогнул Стрелка и скрылся в коридорных дебрях. Чувство вины — оно киберам присуще? Или как?
Стрелку, например, присуще. Но здесь и сейчас он его не ощущал. Там и тогда — тоже. И вообще… За что?! За что, массаракш и массаракш!!!
Опять риторика. Но без нее в Зало — никак.
Янтариновое круглое Зало.
И в центре янтариновый же, высокий, в рост человека, постамент.
И на постаменте… мнэ-э… трофеем не назвать, экспонатом тоже…
Голова престарелого Гуру.
Не скульптура, не муляж.
Именно голова именно престарелого именно Гуру.
Последняя воля, затихающим шепотом озвученная в Краславской клинике: тело сжечь и пепел развеять над Тагорой, а голову… голову поместить в Музей… нет, не в бакинский, не в токийский, не в питерский… именно и только в лабрадорский, вот этот вот самый — наряду с остальными… мнэ-э… трофеями?.. экспонатами?..
Возрастной маразм? Дикий каприз? Что сказать-то этим хотел, Гуру?
Ан что хотел, то сказал. У каждого, в конце концов, свой масштаб капризности!
Голову препарировал Спец. Долго думал — как? Не в капсулу же с рассолом ее помещать, в самом-то деле! Не опилками же набивать и раскрашивать, в самом-то деле!
И Спец сделал то, что Спец сделал. И сказал: «Это моя лучшая фильма. И это моя последняя фильма!».
Почему — фильма? Какая-такая фильма? Опять образованность хочут показать, массаракш, массаракш и массаракш!
Но что да, то да. Сработано на века!
И в очередной «четвертушке» скорбный Наш в куртке из шкуры алайца-боевика торжественно-траурным тоном так и заявил: «Сработано на века!». И предложил присвоить Музею имя престарелого Гуру, а… мнэ-э… экспонат считать своеобразным… мнэ-э… бюстом, памятником, если угодно. Чтобы помнили! Ныне, и присно, и вовеки веков, ура!
И всеобщим голосованием предложение Нашего приняли на ура. (Обширная аудитория у Нашего-таки, обширная!) Ныне, и присно, и вовеки веков…
Что ж, век миновал. Аккурат миновал. Я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя…
Стрелок остановился строго напротив. Получилось — глаза в глаза.
«Ну и?» — сардонически вопросил Стрелок, мысленно, разумеется. — «Доказал? И что? И кому?.. И-иех-х, Гуру ты Гуру! А глаза добрые-добрые!»
Потом отступил на шаг и все-таки отдал должное — вытянулся в струнку, щелкнул каблуками, отсалютовал коротким жестом — указательный палец резко к виску, и резко же вниз, руки по швам. Гуру есть Гуру. (Но все-таки! За что?!!) Да, отсалютовал. Сказано, отсалютовал! Не повертел пальцем у виска, а резко поднес, и резко вниз. Отсалютовал, ну!
Зало — в церемонном молчании. Весьма кстати кибер-уборщик спровоцировал Стрелка на сдергивание кристаллофонов с ушей. Вагнер здесь неуместен. Покойник не любил Вагнера. О вкусах не спорят. Впрочем, и какая-либо иная музыка здесь неуместна. Сказано: Зало — в церемонном молчании.
Н-ну… Спасибо этому дому, пойдем к другому. Довольно Стрелок церемонился, пора и честь знать. Домой, домой. Честь пора знать.
Он вышагнул из полусферы (под раковину моллюска) на крышу.
Бр-р! Все еще дождь. И снег. И ветер. И звезд ночной полет.
Хорошо ему там, в янтариновом Зало — тепло и светло. И главное — сухо… Во веки веков.
А тут… Бр-р!
А что?! Чем не идея?! Ха! В свою очередь, выразить аналогичную последнюю волю и — сюда, в то же Зало, на еще один постамент. Строго напротив. Ха! Экспозиция «А теперь сходитесь!».
Он поежился (от пробирающего холода, только от него!) и отменными прыжками заспешил к глайдеру. Не особо следя, наступает на мозаичные буквы или нет. Верить приметам — дурная примета. Ха!
Вот мы и дома. То есть пока в глайдере, но это уже почти дома. Тепло и светло. И главное — сухо…
Поехали?
Нет, чего-то недостает. Чего-то, чего-то, чего-то… Мне чего-то смутно жаль.
Ага! Музычка! Как без нее?!
Он снова подвесил к мочкам ушей кристаллофоны. Вагнера на сегодня предостаточно, пожалуй. Ну тогда… Ну пусть… Да хоть бы кто!
Бетховен? Бетховен так Бетховен. «Аппассионата» так «Аппассионата».
Тирьям-пам-пам, пам-пам! Тириям-тириям-тириям!..
Вперед! И вверх!
Вперед и вверх, а там!.. Вперед и вверх, а там!.. Вперед и вверх, а там!..
Эка, удачно легло на мелодию!
Тирьям-пам-пам, пам-пам! Тирьям-пам-пам, пам-пам! Тирьям-пам-пам!
А позади и внизу — Музей.
Мне сверху видно все, ты так и знай!
Сверху — разрозненные мозаичные буквы на крыше собрались в строгую шеренгу, выстроились:
МУЗЕЙ ИНОПЛАНЕТНЫХ КУРЬЕЗОВ ИМЕНИ ГОРБОВСКОГО
Глайдер вошел в зону плотных облаков-кумулюсов.
Вперед и вверх!
Тирьям-пам-пам!
P.S. «Лабрадор — это земля, которую Господь подарил Каину»
Жак Картье, первооткрыватель Лабрадорского полуострова
1997–1999. Баку. Санкт-ПетербургНикита Филатов ПОЗОЛОЧЕННЫЙ ШАР
«К дьяволу! Все равно до самого конца мне не дожить…Придумать можно все, что угодно. На самом деле никогда не бывает так, как придумывают».
Братья Стругацкие— Нет. Еще у них игра такая появилась, «пильманбол» называется… А если короче — то просто «пильман». Слышали?
Толстый Эрни зашевелился на своей койке:
— Ага! Очередная гадость. Раскручивают мячик типа футбольного, подбрасывают — и палят из пистолетов, навскидку. Вроде как раньше — помните, господин капитан? — по тарелочкам стреляли… Только тут надо не просто в цель попасть, а всадить все шесть пуль так, чтобы они точно повторили положение Зон. Ну, после Посещения…
Квотерблад давно уже чувствовал на себе липкий взгляд соседа по камере, но открывать глаза не было ни желания, ни сил. Этой ночью он спал очень плохо — кого-то все время таскали туда-сюда по бесконечному тюремному коридору, то и дело лязгали двери, материлась лениво охрана… А перед самым рассветом капитан услышал — или ему показалось, что услышал? — долгий, отчаянный, не рассчитанный на посторонние уши, женский плач: вынести его было невозможно.
— Представляете? Будто бы мячик — это наша Земля, а они…
— Смешно.
На правах старожила капитан Квотерблад занимал лучшее место в камере — прямо под окном, напротив умывальника. От собеседника его отделял только стол, никакой другой мебели не полагалось, зато был почерневший от времени унитаз и еще одна, третья, койка.
— Да уж конечно! — обиделся вдруг толстяк. — Чего смешного-то?
— Ничего. В этом все и дело…
Капитан поправил скатанную в кулек куртку. Потом, используя ее вместо подушки, снова растянулся на досках, вытертых сотнями спин и локтей. Белья и одеял здесь не выдавали, зимой бывало довольно холодно, но в остальном…
— Интересно, сколько сейчас времени?
Капитан промолчал. Не дождавшись ответа, Эрни переспросил его еще раз:
— Вы не знаете, господин капитан? Сколько времени?
Квотерблад нехотя разлепил губы:
— А зачем тебе? Опоздать боишься?
— Куда? — Не понял собеседник.
— Вот именно… Теперь-то уже точно — некуда.
Сосед забеспокоился:
— Вы серьезно? Вы что, в самом деле думаете…
Открыв глаза, капитан увидел, что Эрни сидит на койке. Ножки у него были пухлые и коротенькие — настолько, что даже не доставали до бетонного пола.
На левом носке красовалась большая неопрятная дырка.
— Опять начинается!
— Извините.
На несколько секунд в камере повисла тишина. Потом Эрни все-таки проглотил слюну и выдавил из себя:
— Вы думаете, меня они тоже казнят?
— А чем ты лучше других? Или… хуже?
Толстяк будто этого только и дожидался: он сразу же заговорил — торопливо, проглатывая слова, и, в конце концов, сбившись на крик:
— Но ведь… Я же им все, безо всякого… Явка с повинной, да? Ведь положено, чтобы… Не может быть! Нельзя же так, нельзя! В конце концов…
— Не ори, пожалуйста. По дубинке соскучился?
Эрни осекся на половине фразы, втянул голову в плечи и непроизвольно скосил взгляд на дверь камеры:
— Извините.
Капитану стало противно, и он закрыл глаза. Но тут же снова открыл их, услышав на удивление тихий и полный ненависти голос соседа по камере:
— А ведь это все из-за вас, господин капитан. Из-за вас…
— Допустим. И что теперь?
Но толстяк его не услышал:
— Вы ведь меня тогда заставили… Заставили! Я же не хотел «стучать», но вы… А как же? Сам грозный капитан Квотерблад предлагает сотрудничать — попробуй, откажись! Конечно, у меня в «Боржче» тогда все местные сталкеры отирались, да и не только…
Он как-то очень не по-мужски обхватил руками голову и застонал:
— Ох, какой же я был идиот! А вы… Нет, вы-то все правильно рассчитали, господин капитан! Куда эти парни из Зоны приносили «хабар»? Где удачу обмывали, поминки разные, и вообще… где языками трепали больше всего? Да еще после стаканчика-другого? Конечно, в «Боржче»! А толстяка Эрни стесняться нечего, он вроде мебели за стойкой… Господи, ну за что? Скажите, за что вы меня так?
— Заткнись, — поморщился Квотреблад. — Надоело…
— О, лучше бы я отказался!
— Некоторые отказывались. Не все ведь «стучали».
Эрни посмотрел на собеседника мокрыми от слез глазами:
— И — что? Садились в тюрьму, по вашей милости! А мне нельзя было, у меня семья, дети, ресторан, в конце концов…
Капитан Квотерблад с нехорошей улыбкой отчеканил:
— В конце концов, ты оказался здесь. Понял?
— Будьте вы прокляты, — Эрни махнул ладошкой перед лицом, сполз обратно на койку и отвернулся к грубо отштукатуренной стене. — Будьте вы прокляты все…
Некоторое время капитан молча разглядывал рыхлую, трясущуюся спину соседа по камере. Наступившая тишина почему-то не принесла облегчения — наоборот, ему вдруг стало немного жаль этого никчемного и немолодого толстяка.
— Ладно, успокойся… Не сердись.
Эрни шевельнул плечом, но не ответил.
— Послушай, может, тебе-то как раз и повезет!
Это был, в общем-то, запрещенный прием, но подействовал он безотказно. Собеседник тут же перевернулся на спину, потом на бок — и с надеждой посмотрел на капитана:
— Повезет? Повезет, да?
— Слышал, наверное, про сержанта Луммера? Ну, который в отделе безопасности Института служил, помощником Вилли Херцога.
— Херцог… Его еще Боровом называли, да? Знаю. А вот Луммер…
— Неважно! Здоровенный такой детина, бывший полицейский. Так вот, его, сам понимаешь, одним из первых арестовали. Как пособника реакционного режима и «врага прогресса». Приговорили к смертной казни, а потом вдруг — раз, и помиловали!
— Как это? За что? — Собеседник уже вновь сидел на койке, свесив вниз коротенькие ножки в драных носках.
— Ну, как сказать… В общем, теперь этот Луммер опять при погонах — здесь же работает, в тюрьме.
— Кем работает?
— Ассистентом. На допросах. — Капитан непроизвольно дотронулся до шрама на подбородке, и этот его жест не укрылся от взгляда соседа по камере.
Толстяк облизнул губы и, понизив голос почти до шепота, спросил:
— Людей пытает? Да?
— Дурак ты, Эрнест. — Квотерблад даже прикрыл глаза, чтобы не видеть собеседника. Всякая охота продолжать разговор опять пропала.
— Но ведь пытки официально запрещены! Я сам читал в газете, что…
— Наверное, — пожал плечами капитан. — Нам тут газет не полагается. Но вот ты знаешь, например, как этот самый Боров погиб?
— Он погиб? Его казнили?
— Нет. Не казнили. Просто… Просто Луммер забил своего бывшего начальника до смерти. Перестарался, говорят. У старика Вилли всегда было слабое сердце, но он ни в чем не хотел признаваться.
— У них там свои дела! — Толстяк выбросил перед собой ладони, будто отталкивая что-то тяжелое и большое. — У них свои дела, а я тут ни при чем. Я все рассказал, о чем спрашивали, раскаялся — и вообще… За что меня-то убивать? За что?
Квотерблад поморщился:
— В прошлом году арестовали церковного сторожа. Инвалида с одной ногой, да еще глухого, как тетерев — после контузии!
— Его-то за что?
— Вот как раз за это и арестовали… Восьмой параграф: «активное противодействие прогрессу в составе организованного вооруженного формирования».
— Простите, господин капитан, однако…
Но Квотерблад уже продолжал:
— Оказывается, он во время Посещения служил сержантом в авиационном полку. Их тогда — помнишь? — первыми в Зону послали. На разведку…
— Помню, — кивнул толстяк. — Конечно!
Когда-то фотоснимки искореженных и обгоревших вертолетов с эмблемой королевских ВВС не сходили с газетных полос. Потом этот трагический эпизод перекочевал из прессы в популярную литературу, в научные монографии — и постепенно забылся.
— Четыре из пяти боевых машин прямо там и остались, на месте… А экипаж, в котором летал этот парень, сумел дотянуть — взорвался уже на посадке. Беднягу выбросило волной под винт, рубануло, но врачи его все-таки спасли.
— Повезло!
— Он тоже, в общем, так считал. До недавнего времени.
Эрни недоверчиво поднял бровь:
— И что же с ним сделали? С инвалидом этим?
— Как обычно… «Приговор приведен в исполнение».
— Бред какой-то! Ерунда.
— Вот именно, — кивнул капитан Квотерблад.
Не говоря больше ни слова, он отвернулся к стене — вытянув одну руку вдоль туловища, а другую подложив под голову.
Несколько долгих, тягучих мгновений толстяк Эрни сверлил полным страха и ненависти взглядом седые волосы на затылке соседа по камере и его старческую, дряблую шею.
— Господин капитан…
— Тихо! — Снаружи, сквозь окованную железными листами дверь в камеру проник посторонний шум. Судя по всему, кто-то быстро шел по тюремному коридору — и было их человек пять, не меньше.
— Обед уже несут?
Квотерблад отрицательно помотал головой:
— Помолчи. — Звуки шагов сначала усилились, а потом постепенно затихли, удаляясь в направлении следственного корпуса. Дождавшись полной тишины, Квотерблад снова лег лицом к стене.
Впрочем, ненадолго — на своей койке зашевелился Эрни:
— Господин капитан! Вы не спите?
— Чего тебе еще надо? — Собеседник не изменил позы, только в такт произнесенным словам чуть шевельнулась его ушная раковина.
— Я только хотел спросить… Ну, насчет…
Что-то в тоне и в голосе толстяка заставило соседа по камере повернуть голову и покоситься через плечо:
— Насчет чего? Только давай на этот раз — покороче!
— Скажите… это правда? Правда, что приговоренных к смертной казни…
Он замолчал, не решаясь продолжить — так, что капитану хватило времени обернуться полностью и даже привстать на локте:
— Ну что ты как баба! Чего трясешься?
Эрни с трудом проглотил застрявший в горле комок:
— Правду говорят, что больше никого из приговоренных не расстреливают? И не вешают, и вообще не… Что их… нас… ну, что, в общем…
— Ерунда. Успокойся. — Капитан Квотерблад разогнул руку и тоже сел. — Можешь не волноваться — поставят тебя к стеночке, завяжут глаза… В общем, все будет как положено!
— Но мне сказали… Что в интересах науки…
— Кто?
— Следователь. На допросе.
— Да, это они любят… Кино не показывали?
— Нет, — удивился Эрни. — Какое кино?
— Такое… Учебное! — Квотерблад усмехнулся. — Ну, с тобой даже это, видимо, не понадобилось. А то некоторым героям, которые особо упрямые, демонстрируют кое-что. В цвете, со звуковыми эффектами… Например, про то, как человека медленно опускают в «ведьмин студень»: сначала пятки, потом колени, задницу — и так далее. Еще есть сюжет про «комариную плешь», про «мясорубку»… Говорят, многие после этого начинают подписывать — и чего надо, и чего не надо. А кое-кто и того, — он покрутил пальцем у виска, — мозгами трогается.
— Но я же им сразу все рассказал! Все, все, что просили!
— И даже, наверное, больше?
— Да, но… Понимаете, господин капитан…
Квотерблад опять опустил голову на скатанную вместо подушки куртку:
— Значит, волноваться тебе нечего. Не звери же они, в конце-то концов! Расстреляют — и дело с концом. Или, может, повесят…
Некоторое время он, закрыв глаза, прислушивался к судорожным всхлипам соседа по камере. И неожиданно разобрал:
— Но вас же… Вы же до сих пор… Вы же до сих пор живы! Почти два года…
— Что ты там бормочешь?
— Значит, они не всех… Да? Не каждого… Скажите, как? Скажите!
В следующую секунду капитан молниеносным движением оторвал спину от койки. Его рука с длинными, желтоватыми пальцами метнулась через стол, сгребла свитер на груди толстяка и потянула к себе:
— Ага! Значит, вот в чем дело? А я-то думаю, зачем тебя ко мне…
— Господин капитан! Господин капи… — голос Эрни зазвучал придушенно, глаза выкатились из орбит, а лицо тут же стало багровым и неживым.
— Интересуешься? Ну, отвечай! Быстро!
Но Эрни уже только хрипел, даже не пытаясь вырваться.
— Ублюдок… Как был стукачом поганым, так и остался. — Прежде чем отпустить стальную хватку, Квотерблад толкнул толстяка так, что тот громко ударился затылком о стену камеры: — Заткнись теперь! Услышу хоть слово — придавлю как собаку.
Не дожидаясь ответа, капитан снова лег на койку. Сосед по камере поспешил без звука последовать его примеру — он был так напуган, что не решился даже заплакать.
Стало совсем тихо. Но вскоре из коридора, откуда-то со стороны следственных кабинетов, снова послышался топот множества ног — впрочем, на этот раз шаги приближались медленнее, чем до этого.
Шум нарастал, с каждой секундой становясь все тревожнее и отчетливее. И прежде чем обитателям камеры стало окончательно ясно, что процессия остановилась прямо напротив их двери, громко лязгнул повернутый в замке ключ:
— Встать! На середину!
Толстяк Эрни сразу же соскочил с койки и замер, стоя в одних носках на холодном бетонном полу — лицо его и поза не выражали ничего, кроме страха и желания угодить. Капитан выполнил команду без суеты, но, впрочем, достаточно быстро, чтобы не дать охранникам повода поработать дубинкой.
Первым внутрь вошел господин старший надзиратель — мужчина лет сорока с маленькими, злобными глазками и волосатыми кулаками.
— Получайте! — И тут же двое парней с нашивками тюремного «спецназа» на рукавах втащили вслед за ним через порог безжизненно волочащееся тело.
— Прошу любить и жаловать.
Парни бросили свою ношу прямо посреди камеры — вид у них при этом был разгоряченный, боевой, как у всех нормальных молодых людей после тяжелой, но интересной физической работы. Покосившись в сторону двери, Квотерблад успел заметить снаружи еще несколько плечистых фигур в камуфляже.
— Наручники, — напомнил господин старший надзиратель.
Один из бойцов отряда специального назначения наклонился, поковырял ключом между скованными за спиной лежащего человека запястьями — и в конце концов с трудом отстегнул «браслеты».
— Заклинило, мать их… — пояснил он. — Прямо в мясо!
— Ладно, пошли. — Прежде чем закрыть за собой дверь, господин старший, надзиратель привычно обшарил взглядом камеру: — Счастливо оставаться!
Скрипнули петли, встал на место засов — и окружающий мир снова сузился для капитана и несчастного толстяка до размеров их камеры.
— Ну-ка, помоги… — Квотерблад присел на корточки. — Сволочи.
Из-за обилия высохшей и совсем свежей крови он даже не сразу сообразил, что изуродованное тело под обрывками одежды принадлежит чернокожему великану.
— Гуталин?
Реакции не последовало, но капитан уже переворачивал негра на спину.
— Точно — Гуталин… Давай-ка, берись! — скомандовал он толстяку. — Положим пока на койку…
Пульс прощупывался, но плохо.
— Подай воды… Быстро!
Посуды, как и постельного белья, заключенным не полагалось. А посему Эрни со страху просто вывернул кран умывальника и подставил под струю дрожащие ладони. Затем, расплескав по пути все, что можно, подбежал обратно:
— Вот, пожалуйста!
— Идиот… — выдохнул капитан. — Намочи что-нибудь! Тряпку, или, ну я не знаю…
Толстяк почти сразу понял, что от него требуется — вскоре он уже опять стоял рядом, протягивая тяжелый и темный от воды комок свитера.
— Молодец. — Квотерблад успел уже наспех ощупать тело. Переломов-то, вроде, особых нет…
Эрни еще дважды пришлось сбегать к умывальнику, но, в конце концов, огромное черное тело на койке стало выглядеть более или менее пристойно. Холодная вода вообще подействовала благотворно — Гуталин даже стал подавать первые признаки жизни, и теперь можно было почти без усилия услышать его хриплое, прерывистое дыхание.
Впрочем, глаза пока оставались закрытыми.
— Значит, все-таки попался.
— За что его так?
Капитан Квотерблад обернулся к замершему в двух шагах толстяку, но вместо ответа лишь покачал головой:
— Ты ведь Гуталина хорошо знаешь?
— Да, конечно. Сколько лет уже! Они ведь у меня в «Боржче»… Как сядут, бывало, да как начнут — стакан за стаканом! И он, и Креон, еще Мальтиец, и даже сам господин Рэдрик Шухарт…
— Помню. Помню, читал твои доносы.
— Господин капитан!
Квотерблад поморщился:
— Ладно. Успокойся. Сейчас это все уже не имеет значения.
— Но, господин капитан…
— Иди на место! Не мельтеши.
Дождавшись, когда сосед по камере отойдет в свой угол, капитан Квотерблад перевел взгляд на лежащего рядом человека.
От прежнего Гуталина, здоровяка и красавца, сейчас уже почти ничего не осталось — разве что, иссиня-черная кожа, благодаря которой он и получил в незапамятные времена свое прозвище. А ведь когда-то…
Вот уж точно: чудны дела твои. Господи!
Впервые капитан Квотерблад повстречал Гуталина лет десять тому назад, вскоре после того, как Совет Безопасности ООН запретил самовольное проникновение в Зону. И началась охота на сталкеров. Тогда еще, кажется, даже комендатуры не было…
Хотя нет, комендатура в городе уже действовала! Помнится, тогда почти одновременно построили — и первое здание Института, и тюрьму, и казармы для батальона «голубых касок». Но поначалу задержанных все равно таскали в полицейский участок — чуть ли не прямо из Зоны, безо всякой там санобработки и карантина…
Впрочем, в кабинет к капитану попадали очень немногие — большинство сталкеров погибало еще на выходе из Зоны. Военные патрули никогда с ними не церемонились, а в первое время и вообще: увидят кого-нибудь в «запретке» — и сразу огонь на поражение.
Конечно, с точки зрения Квотерблада, это было нерационально и глупо. Ну какой толк от покойника в оперативной работе? Никакого! Ни ответа, ни привета… А живого человека зацепил, потянул как ниточку — глядишь, и весь клубочек уже распутан. Связи, тайники, где «хабар» лежит, каналы сбыта.
Вообще-то, и патрульных тоже можно было понять.
Зона все-таки… Черт знает, что может случиться. А вдруг зараза какая-нибудь? Или вообще… еще похуже. Ребята в частях ООН хоть и по контракту служили, за двойной оклад и всякие надбавки, но собственная жизнь — она ведь всегда дороже денег. Вот и убивали со страху — и кого надо, и кого не надо…
Капитан вспомнил прошитый пулеметной очередью труп Фараона Банкера. И Каллогена, которому снесли башку по ошибке, и еще одного парня, поляка, подстреленного на старом кладбище, у самой границы Зоны… Потом откуда-то из глубин памяти выплыли пустые, безумные глаза Мослатого Ицхака — этот остался жив, отсиделся до темноты, но всего пары часов под огнем хватило, чтоб превратить этого удачливого сталкера в трясущийся мешок дерьма…
Квотерблад тряхнул головой, отгоняя видение. Потом перевел взгляд на черное, заплывшее от побоев, лицо Гуталина:
— Эй… Ты меня слышишь?
Нет, он сейчас ничего не слышал. Впрочем, Гуталин и раньше не очень-то обращал внимание на то, что ему говорили.
— Ладно, лежи. Отдыхай…
Когда они познакомились, Гуталин уже имел в городке репутацию местного сумасшедшего. А как же еще, скажите на милость, его следовало называть?
Ведь если человек правдами и неправдами добывает у сталкеров «хабар» — это, конечно, не совсем законно. Скорее, наоборот… Однако в порядке вещей: купил подешевле, продал подороже. Жить-то надо!
В те времена чуть ли не половина местного населения понемногу спекулировала всякой всячиной, вынесенной нелегально из Зоны. Получалось что-то вроде народного промысла… Впрочем, даже капитан Квотерблад считал это неизбежным злом — ведь испокон веку, задолго до Посещения, во всем мире жители приграничных районов кормились от контрабандистов. Просто когда-то в цене были золото и шелка, потом — беспошлинный табак с водкой, и, наконец, на смену им пришли всяческие «черные брызги» и «вечные батарейки».
Словом, если бы негр перепродавал добычу заезжим оптовикам, им интересовались бы только местные рэкетиры, да господа полицейские. Но что тут скажешь, если Гуталин, заполучив очередной «хабар», с риском для жизни лезет в Зону и возвращает все на место? То есть, натурально: дождется темноты, мешок за спину, и — вперед, в «запретку».
Зона его, конечно, не трогала — жалела, видать. Но потом ведь еще обратно вернуться надо, через патрули и прочую гадость. А пуля, она не разбирает, сталкер ты, вроде Пита Болячки, или просто псих ненормальный.
И ведь — не попался ни разу! Все в полиции, от начальника до последнего сопляка-сержанта знали, чем Гуталин занимается, но вот чтобы на месте преступления поймать, с поличным… Ладно бы он раз-другой по пьяной лавочке в Зону слазал. Так ведь нет, почти как на работу ходил! Философию даже какую-то под это дело придумал, идеологию целую.
Но вот это как раз капитана Квотерблада интересовало меньше всего. К моменту Посещения он по праву считался одним из лучших офицеров криминальной полиции, и давно уже приучил себя смотреть на мир только сквозь тяжелые строчки статей Уголовного кодекса.
Справедливости ради следует заметить, что здоровенный негр оказывался в полицейском участке чуть ли не чаще всех в городке. Но в основном — за пьяные дебоши в кабаках и нарушение общественного порядка. Это даже дало капитану формальный повод писать докладную с ходатайством об административной высылке Гуталина куда-нибудь подальше от Зоны, однако вскоре местным жителям запретили эмиграцию, и вопрос отпал сам собой.
Так и вышло, что Гуталин продолжал целыми днями пить, проповедовать, ругаться и затевать потасовки — а по ночам, как и прежде, уходил в «запретку» с мешком за плечами.
Впрочем, все то, что ему время от времени удавалось вернуть в Зону, нельзя было сравнить даже с каплей воды в океане — ну, много ли «хабара» закупишь на государственное пособие, да на доходы от случайных заработков? Поговаривали, правда, как всегда в подобных случаях, о неких политических и финансовых группировках, стоящих за спиной полоумного «проповедника». Или, например, ходил одно время слушок про то, что Гуталин поигрывает со сталкерами в карты на деньги и даже ворует по мелочам, неофициальных заявлений в полицию не поступало.
— Господин капитан… Господин капитан!
— Чего тебе? — Квотерблад с трудом оторвался от воспоминаний.
— Может, позвать кого-нибудь? Чтобы доктора пригласили, или там…
Наверное, толстяк Эрни был прав — время шло, а огромное черное тело по-прежнему почти не подавало признаков жизни.
— Не знаю. — Капитан прислушался, вытянул руку и пощупал у Гуталина пульс.
Сердце билось, но очень неровно и слабо.
— Подождем! А то еще неизвестно, как лучше…
Толстяк не понял, что имеет в виду Квотерблад, но спорить с соседом по камере не решился. Расправив пошире свой свитер, сохнущий прямо в изголовье, он лег на койку и закрыл глаза:
— Вы только скажите, господин капитан, если что надо будет. Хорошо?
— Ладно. Позову.
А ведь, помнится, Гуталин когда-то любил бывать у толстяка Эрни. Частенько в «Боржче» вечерами сиживал, да и днем заходил — пропустить стаканчик-другой. То с Ричардом Нунаном, а то и с господином Шухартом…
Хотя в те времена Рэдрика Шухарта никто еще «господином» не называл — просто Рыжий, Сталкер, или, в крайнем случае, старина Рэд. Это ведь теперь он национальный герой и посмертная знаменитость, а раньше… Раньше ведь, трудно поверить, и про Дика Нунана мало кто слышал.
Между прочим, и Президента республики, самого Креона Мальтийца, судьба свела с Гуталином именно в «Боржче»! Конечно, в нынешних официальных биографиях этот случай описан совсем по-другому, но капитан хорошо помнил, как все было на самом деле.
Тогда Шухарта только-только освободили из заключения. Отсидел он год всего по первому сроку, устроился в Институт, семью завел, ребенка… Словом, вроде как встал на путь исправления, даже в Зону ходил только официально, по пропуску, а «хабар» весь сдавал куда следует.
Единственное, что себе позволял — заглянуть с получки или с премии в любимый кабачок, выпить с приятелями.
Ну так вот… По словам толстяка Эрни, в тот исторический день Гуталин с Шухартом нарезались капитально — не то с радости, не то с горя. Сейчас уже и не вспомнить, по какому поводу: то ли кто-то у них там погиб в Институте, то ли, наоборот, невредимым из Зоны вернулся… Чуть не передрались по пьяни, как водится между старыми приятелями, а тут еще какой-то сопляк подваливает: дескать, возьмите меня в дело, хочу быть настоящим сталкером. Вроде вас.
И был это собственной персоной — будущий господин Пожизненный Президент и Верховный Главнокомандующий, а тогда еще просто юный Креон, только что прилетевший с родной своей Мальты за славой и быстрыми деньгами.
Но кому какая судьба выпадет — позже выяснилось, а в тот вечер… Представляете реакцию Гуталина? Он его, конечно, за очередного «подсадного» принял. Да как даст прямо в ухо! Без всяких там проповедей и разговоров. Потом еще пару раз добавил, для порядка, и совсем уже было хотел выкинуть из «Боржча», вместе со стулом, но тут Рыжий Шухарт спохватился. Сообразил, видимо, что неприятности с полицией им сейчас ни к чему. Начал деньгами у парня перед носом трясти, сопли распустил, и вообще.
Одним словом, замяли скандал…
Неожиданно для себя и почти неосознанно, капитан Квотерблад наклонился к чернокожему великану. Заставил себя напрячь слух:
— Гуталин?
Ответа, конечно же, не последовало. Но Квотерблад даже не расслышал, а угадал хриплый, раскатистый клекот, прокатившийся где-то глубоко, под ребрами распластанного по койке человека.
В своем углу робко зашевелился Эрнест:
— Что там, господин капитан? Как он?
— Оклемается… Еще нас с тобой переживет.
Толстяк даже не почувствовал двусмысленность прозвучавшей фразы:
— Конечно! Дай ему Бог…
Квотерблад поморщился и опустил края губ:
— Послушай, ты что — еще веришь в Бога?
— А как же иначе, — испугался толстяк. — Разве можно, чтобы…
— Даже после Посещения — веришь?
— Но, господин капитан, вы ведь сами…
— И после всего, что происходит теперь?
— Да, конечно!
Капитан заметил, что собеседник уже не лежит, а сидит, свесив ноги, готовый в любую секунду вскочить и забегать по камере. Прямо, как в первый день после ареста…
— Ладно, все. Успокойся.
Но толстяк будто бы и не слышал:
— Знаете, господин капитан, мы ведь раньше по воскресеньям — обязательно в церковь. Жена, дети… Чтобы все, как положено.
— И бесы веруют.
— Простите, что?
Капитан процитировал:
— Сказано ведь: и бесы веруют — и трепещут.
Бедняга Эрни даже не сразу понял, как следует реагировать на слова соседа по камере. Потом спохватился:
— Да, это вы очень правильно изволили…
— Отстань. Понятно? — Капитан Квотерблад почти не повысил голоса, но собеседник сразу же проглотил готовую сорваться с языка фразу — и снова затих на какое-то время в своем углу.
Смотреть на его жалкую, расплывшуюся фигуру было противно:
— Помолчи, толстяк…
Беда, наверное, в том, что слишком много уже было сказано слов… Люди издавна заполняли мир разговорами о Боге, вере, праведности и грехе, используя все это для достижения собственных целей. Вот и подпольная организация, созданная Гуталином, была им названа не как-нибудь, а — «Воинствующие ангелы».
Помнится, впервые это название прозвучало в оперативных сводках полиции вскоре после катастрофы в Карригановских лабораториях. «Ангелы» тогда совершили вооруженное нападение на склады Института. Сняли охрану, разблокировали сигнализацию — а затем вывезли прямым ходом обратно в Зону восемь контейнеров с образцами, предназначенными для научных экспериментов.
Налет был организован по всем правилам, со стрельбой и взрывами, — а потому только чудом обошелся без человеческих жертв.
Средства массовой информации тут же распространили манифест новоиспеченных террористов. Из него следовало, что эта акция — всего лишь первый, но не последний ответ на неспособность и нежелание официальных властей оградить человечество от нависшей над ним катастрофы. Досталось, разумеется, и жадным до неправедных денег сталкерам, и ученым, «ослепленным светом ложного знания», и продажным чинам полиции…
Внизу, под текстом воззвания, красовалась собственноручная подпись Гуталина.
Когда же это было? Пять лет назад? Шесть?
Капитан Квотерблад усмехнулся: да уж, столько воды утекло!
И чернил. И крови.
Сейчас, пожалуй, об этом никто и не помнит. А ведь когда-то, пусть и недолго, боевики Гуталина держали в напряжении половину планеты: устраивали взрывы на заводах «батареек», грабили ювелирные магазины, торгующие украшениями из «черных брызг», охотились на сталкеров-одиночек…
Интерпол, конечно же, стоял на ушах — все дружно ловили экстремистов. И даже покойный Ричард Нунан, помнится, вынужден был забросить оперативную разработку «воскресной школы» Стервятника Барбиджа.
А жаль! При самой что ни на есть безобидной внешности хватка у старины Дика была — как у бультерьера. Еще немного, и пришлось бы Стервятнику, Носатому Бен-Галеви, Крошке Цмыгу, да и самому Мальтийцу отведать тюремной баланды.
Может, тогда бы все по-другому повернулось. Точнее — не повернулось…
Но, все-таки, интересно — что там на самом-то деле произошло с Диком Нунаном, специальным агентом Интерпола? С лучшим из лучших, столько лет отработавшим под оперативным прикрытием возле одной из самых «горячих» Зон?
По нынешней официальной версии, его разоблачил лично Рэдрик Шухарт. Дескать, освободился легендарный сталкер второй раз из тюрьмы — и чуть ли не сразу вывел полицейского шпиона-провокатора на чистую воду! А тот, якобы, не выдержал груза улик, отчего и покончил жизнь самоубийством, трусливо выбросившись из окна.
Ерунда. Бред. Даже не обсуждается…
В общем-то, у капитана и раньше, и теперь имелись кое-какие догадки по поводу гибели Ричарда Нунана. Но он всегда держал их при себе. Почему? Да потому, что как раз профессиональная деятельность погибшего коллеги к его смерти ни малейшего отношения не имела.
Капитан Квотерблад ни секунды не сомневался, что умница и жизнелюб Нунан не по своей воле шагнул вниз с девятого этажа. Он был убит. Убит по причине глупой, банальной — и самой что ни на есть бытовой.
Все ведь знали, что Рыжий — псих. И что жену свою, красавицу Гуту, он не ревнует разве что к отцу-мертвяку. А Ричард Нунан… Городок маленький, люди вокруг и раньше шептались, что старина Дик зачастил к ним в дом — пользовался, дескать, что хозяин за решеткой, а постель погреть некому.
Конечно, оперативная разработка и все такое. Но соседям-то этого не объяснишь, они видят только то, что видят. И делают выводы — в меру своей испорченности. А потом, при случае, могут и нашептать кое-что обманутому муженьку прямо в уши.
Из лучших, разумеется, побуждений.
Ну, тут уж реакцию Шухарта предугадать было несложно. В подобных случаях и самые добропорядочные мужья сначала натворят глупостей, а уж потом разбираются, что к чему. А Рыжий, с его буйным норовом и тюремными повадками…
Капитан Квотреблад выдохнул, медленно и тяжело. Потом перевел невидящий взгляд куда-то на противоположную стену камеры, чуть пониже пыльной крохотной лампочки под потолком:
— Покорители Зоны, мать их! Прогрессоры…
Это ведь теперь портретами славных героев-сталкеров увешаны стены музеев Посещения, школьные коридоры и всяческие присутственные места. А в недавнем прошлом их рожи украшали только полицейские досье да плакаты о розыске за вознаграждение.
Кстати, сразу после того, как обнаружили труп Дика Нунана, капитан доложил начальству свое мнение о том, чьих это рук дело. Но пока городская полиция и местный офис Интерпола решали, кто, в конце концов, будет вести расследование, пока спорили о юрисдикции и о том, как случившееся подать прессе, — время было упущено.
И когда оперативная группа уголовного розыска все-таки прибыла на квартиру семейства Шухартов, сам подозреваемый уже вышагивал по Зоне.
Как выяснилось, в последний раз. Наверное, окажись тогда правосудие хоть чуточку расторопнее…
— Господин капитан!
— Чего тебе?
— Нет, я ничего… Простите.
Но Квотреблад уже и сам почувствовал, как в их камере что-то вдруг необратимо изменилось. Он даже не сразу понял, что именно — тусклый свет и тяжелый тюремный воздух остались прежними, но…
— Черт… мать их!
Все вокруг оставалось таким же, как несколько мгновений назад, но в лежащем на нарах черном теле больше не было жизни. За тридцать с лишним лет работы в полиции капитан Квотерблад видел столько убитых и умерших, что ему даже не потребовалось проверять у Гуталина пульс.
Негр был мертв, окончательно и бесповоротно.
Капитан выругался без злобы и зачем-то отер ладонью кровь, выступившую на губах покойника. Потом перевел взгляд на толстяка:
— Молитвы помнишь?
— Ну, я, вообще-то…
— Вспоминай. Как умеешь. Только тихо.
Квотерблад подождал, пока сосед выберется из своего угла камеры. Потом уступил ему место на койке, рядом с телом:
— Садись.
Толстяк Эрни покосился на покойника и боязливо опустил свой зад на вытертые временем и людьми доски. Потом сложил ладони, прикрыл глаза, опустил голову, — но неожиданно спохватился:
— А как его настоящее имя, господин капитан?
Квотерблад на секунду задумался, потом помотал головой:
— Не помню. Надо же! Забыл…
— И я не знаю.
— Гуталин. Его так все называли. Всегда.
— Что же делать?
Капитан поморщился, как от боли:
— Ты давай, толстяк, молись! Там, наверху, разберутся.
Некоторое время тишину нарушал только сбивчивый и торопливый шепот Эрни. Затем снаружи в камеру начали проникать и посторонние звуки — это по длинному, почти бесконечному коридору, медленно передвигаясь от одной двери к другой, приближались раздатчики пищи. Тюрьма привычно наполнилась скрежетом петель, колесным скрипом, шагами, приглушенным бряканьем мисок и черпаков.
Квотерблад больше не проронил ни слова. Замолчал и его сосед.
Процессия приближалась.
— Надо, наверное, сообщить? — подал голос толстяк Эрни.
— Наверное… Надо. — Капитан считался старшим по камере, а потому обязанность общаться с тюремной администрацией лежала на нем.
Подождали еще немного. Наконец с грохотом откинулось прямоугольное окошко обитой железом двери:
— Квотерблад!
— Я.
— Получай.
Сначала в подставленные руки заключенного упала мятая алюминиевая плошка. Затем что-то пахучее выплеснулось из черпака, и он обеими ладонями ощутил теплую тяжесть обеденной пайки. Привычным движением капитан перехватил еще кусок хлеба и ложку, но вместо того, чтобы уступить свое место соседу по камере, обратился к стоящим по другую сторону двери:
— Докладываю. У нас покойник.
— Чего? Чего там у вас?
Стало слышно, как из черпака обратно в котел выливается пища, уже приготовленная для следующего заключенного.
— Покойник. Мертвец у нас тут, не понятно?
Невидимый собеседник замешкался:
— А что случилось-то?
Скорее всего, этот надзиратель с утра дежурил по пищеблоку и действительно был не в курсе произошедшего. Поэтому Квотерблад только пожал плечами:
— Разбирайтесь.
— Разберемся! — заверили его. После чего обитая листовым железом «кормушка» с жутким скрежетом опустилась на место.
Обитатели камеры вновь оказались отрезаны от внешнего мира.
— Сейчас побежит к начальству, бедолага, — Квотерблад обернулся и сразу же перехватил негодующий, но в то же время недоуменный взгляд Эрни.
— Что случилось? Что с тобой?
Опустив глаза, капитан понял, что толстяк смотрит на пайку в его руках.
— Во дают! Забыли про тебя, да? Забыли даже покормить?
Бывший хозяин всемирно известного ресторанчика сглотнул слюну — сейчас он как никогда походил на ребенка, обиженного взрослыми хулиганами.
— На, держи. Питайся. — Квотерблад протянул стоящему напротив человеку только что полученный обед. — Это, конечно, не то, что у тебя в «Боржче» было, но…
— Господин капитан, а как же вы? — застеснялся Эрни. — Давайте потребуем, чтобы…
Впрочем, миска с едой уже перекочевала в его подставленные ладони.
— Не хочу я, толстяк. — Квотерблад положил на стол истершуюся по краям ложку, и сел. — Мне пока вон «черняшки» хватит.
— Может быть, если мы пополам…
— Ешь быстрее! — повысил голос Квотерблад. — Смотри, сейчас не до этого будет…
— Спасибо, господин капитан. Спасибо!
Отсутствие аппетита не помешало Квотербладу дожевать черный хлеб еще до того, как сосед расправился со своей частью обеда. Впрочем, долго наслаждаться собственным благородством капитану не пришлось.
Лязгнул засов, отворилась дверь, и под аккомпанемент несмазанных петель на пороге возник старший лейтенант в форме тюремного ведомства — лет сорока, величественный и неумолимый, как статуя Командора. За его спиной, на заднем плане, угадывались резиновые палки спецназа, чей-то белый халат и несколько физиономий в масках и без.
— Я заместитель начальника по режиму. Что вы тут натворили?
— Ничего. Умер заключенный.
Высокий гость сделал два шага по камере — и снова замер.
— Этот? — зачем-то уточнил он, разглядывая труп Гуталина.
— Этот, — кивнул Квотерблад.
— Как отвечаешь, скотина? — прошипел кто-то из толпящихся в проеме. — В карцер захотел? Или по зубам?
— Так точно, господин заместитель начальника по режиму! — сразу же поправил себя бывший полицейский.
Старший лейтенант тюремного ведомства осмотрел Квотерблада с ног до головы, потом перевел взгляд на его соседа и после непродолжительной паузы кивнул:
— Другое дело…
Обитатели камеры стояли, как положено, возле своих коек: руки по швам, лицом к двери, ноги на ширине плеч. Общий вид портил только край рубахи, выбившийся у толстяка Эрни из брюк.
— Что с ним такое?
Квотерблад не был новичком в тюрьме, поэтому ответил громко и не задумываясь:
— Не могу знать, господин заместитель начальника по режиму!
Высокий гость удовлетворенно хмыкнул:
— Доктор! Посмотри-ка…
Вперед выдвинулась фигура в белом халате:
— Ну-с… Я так и знал! — Плохо выбритый мордоворот с медицинской эмблемой на пилотке брезгливо толкнул пару раз неподвижное тело резиновой дубинкой. Потом обернулся:
— Острая сердечная недостаточность? Как обычно?
Начальство подумало, но все же отрицательно помотало головой.
— Тогда, может, язва желудка?
— Нет. Ни в коем случае.
Носитель белого халата наморщил лоб:
— Послушайте, неужели произошло самоубийство?
— Дурак! Не видишь, что его тут просто забили до смерти?
— Кто? — искренне изумился представитель тюремной медицины.
— А вот сейчас и узнаем… — Высокий гость неторопливо перевел взгляд на старшего по камере и почесал волосатый кулак: — Это ты его избил?
— Нет, господин заместитель начальника по режиму!
В ожидании сокрушительного удара Квотерблад подобрался, прищурил глаза и против воли чуть вжал голову в плечи. Но, как оказалось, напрасно:
— Верю… Значит — ты!
Квотерблад увидел, как длинная черная палка со свистом прочертила дугу — и с размаху влепилась в живот соседа. Толстяк сложился почти пополам, несколько раз судорожно ухватил ртом воздух, подогнул колени и медленно осел вниз.
— Отвечай! Это ты его так отделал?
— Молчит, скотина… — констатировал кто-то из-за спины господина заместителя начальника по режиму.
— Молчание — знак согласия, — напомнил тюремный доктор.
— Так, значит, и запишем, — подвел итог расследованию старший лейтенант и распорядился: — Увести. В карцер. — Он чуть-чуть повернул голову и через плечо пояснил кому-то из толпящихся сзади: — Получить признание. Протокол! Трибунал — и расстрелять. Сразу же, без волокиты.
— Будет исполнено!
Подоспевшая по команде парочка охранников сразу же подхватила под руки корчащегося на полу заключенного и выволокла его из камеры. Это произошло так быстро, что капитан успел разглядеть только выпученные, полные слез и боли глаза бедолаги Эрни.
— Это все тоже, наверное, уберите… — господин заместитель начальника по режиму поморщился в сторону мертвого тела. Пока двое других надзирателей, пыхтя и мешая друг другу, стаскивали труп Гуталина с койки, он вновь перевел взгляд на Квотерблада: — Ну? Чего вылупился?
Прямо перед глазами заключенного несколько раз качнулась резиновая дубинка. Снова стало страшно до тошноты и дрожи в коленях от предчувствия близкой боли, но Квотерблад все-таки нашел в себе силы ответить:
— Я не дам никаких показаний против него.
Высокий гость пожал плечами:
— И не надо…
Короткий тычок наконечником палки на несколько мгновений лишил Квотерблада способности ориентироваться в происходящем — да уж, что-что, а бить в этой тюрьме умели.
Когда сознание вернулось, в камере уже никого не было. И только в исчезающем проеме двери угадывался чей-то силуэт:
— Приятного аппетита! Посуду помой.
Опираясь о край стола, капитан поднялся на ноги:
— Сволочи… Сволочи! Гады.
Кроме недоеденного толстяком Эрни обеда, на койке в углу оставалась сумка с его вещами и свитер — все еще влажный.
— Гады… — Квотерблад дотронулся до живота, в котором все еще извивалась холодным змеиным клубком боль от удара. Потом сделал шаг, другой — и опустился на свое место.
Чтобы не заплакать от унижения, капитан грязно выругался в сторону двери и добавил сквозь зубы:
— Попались бы вы мне раньше. Годика два назад! Или даже… — Он вдруг поймал себя на мысли, что как-то незаметно растратил чувство и понимание времени.
Нет, память по-прежнему не подводила старого полицейского сыщика. Она бережно сохраняла саму по себе календарную последовательность прожитых и отработанных лет, месяцев, дат и часов, но…
Но с какого-то момента калейдоскоп событий вдруг закрутился так бешено и стремительно, что участники перестали даже делать вид, будто разбираются в нечеловеческой логике происходящего. Одного за другим, семьями, городами и даже целыми народами, их навечно затягивало в воронку загадочных и неумолимых причинно-следственных связей — лишая знания, мужества и надежды.
— Посещение…
Капитан Квотерблад поправил куртку и сел, прислонившись спиной к холодной стене камеры. Закрыл глаза — и, наверное, впервые в жизни пожалел, что не курит.
Когда-то врачи посадили его на диету: таблетки три раза в день, ничего жирного, ничего острого, пиво — только по праздникам, и вообще… Язва желудка, понимаете ли. Профессиональное заболевание честных сыщиков, вроде медали за выслугу лет.
И где теперь эта язва? Нету. Желудок пока еще есть — а она не выдержала побоев, тюремных харчей и пренебрежительного к себе отношения. Рассосалась…
— Смешно! — пожал плечами Квотерблад.
Думать о том, что он и сам вскоре вслед за собственными болячками исчезнет в небытии, было даже не страшно, а просто скучно и противно. Поэтому, капитан заставил мысли вернуться в прежнее русло.
Так… Значит, все-таки Посещение? Да, конечно, только его и можно было принять за точку отсчета.
Появление этих чертовых Зон на планете, теория доктора Пильмана, сталкеры-одиночки, Международный институт внеземных культур…
Разумеется, поначалу все, связанное с Посещением, было загадочно, интересно и модно. Однако довольно скоро народ привык и к этому — как предыдущие поколения в свое время приспособились к паровозам, открытию электричества, СПИДу, атомной бомбе или глобальной сети Интернет.
В сущности, ничего не произошло.
Мир не изменился. Люди остались прежними.
От мысли о том, что человечество не одиноко во Вселенной, аппетит пропал разве что у десятка восторженных юношей и полудюжины вечных, неисправимых романтиков пенсионного возраста. Большинство же просто приняло Посещение к сведению — и вскоре опять погрузилось в пучину повседневных забот и бытовых неурядиц.
Финансисты, как и прежде, играли на бирже, богатея или разоряясь. Граждане попроще воспитывали детей, ходили на службу и по мере сил тянули от зарплаты до зарплаты. Студентки писали конспекты, а в свободное от лекций время мучались от неразделенной любви. Солдаты разных стран несли караульную службу, воры шарили по карманам и сумочкам, политики врали народам про светлое будущее… Даже писатели-фантасты один за другим принялись отражать в своем творчестве более пикантные и свежие темы.
Время шло. Материальные следы Посещения, так называемые Зоны, никуда не исчезли — но они постепенно превратились в такую же привычную достопримечательность планеты, как огромный кратер от астероида в Мексике или бетонный «саркофаг» над энергоблоком Чернобыльской АЭС.
Нет, конечно же, были и те, кого появление Зон затрагивало непосредственно: жители окрестных городов, научные сотрудники и персонал Международного института внеземных культур, офицеры местной полиции, представители спецслужб со всего света, личный состав «ограниченного контингента» ООН, сталкеры — и, конечно же, типы из различных преступных группировок, готовые делать деньги на всем, включая незаконный экспорт «хабара»…
Какой-то посторонний звук заставил Квотерблада оторваться от воспоминаний. Несколько секунд капитан напряженно, затаив дыхание, прислушивался к тому, что происходит снаружи, за дверью камеры. Потом покачал головой:
— Нет, показалось…
Между прочим, ожидание быстрого и бесплатного экономического чуда, этакой новой научно-технической революции за счет оставшихся после Посещения «подарков» так и не оправдалось — наверное, человечество либо еще не доросло до этого, либо знания из другого мира в принципе никому не могут пойти впрок.
Конечно, любая новинка, доставленная из Зоны, сразу же становилась научной сенсацией. Вокруг нее кипели страсти, публиковались труды, защищались диссертации, создавались целые академические школы и даже направления фундаментальной науки…
Но все это, в сущности, представляло собой лишь интеллектуальные игры для узкого круга высоколобых очкариков с учеными степенями.
Что же касается практического применения… Ну да, в автомобилях вот уже несколько лет широко используется, например, дармовая энергия «вечных батареек». Пожалуй, следует еще вспомнить «пустышки», служащие для биологической очистки сточных вод, да пару-тройку забавных детских игрушек вроде «вечного двигателя» — и все!
Остальные следы Посещения нельзя было сразу же съесть, выпить, надеть на себя или использовать для удовлетворения прочих естественных надобностей. А потому основную массу жителей планеты они интересовали мало. Впрочем, даже если бы…
Капитан Квотреблад опять поднял голову. Прислушался.
Снаружи явно кто-то был. Кто-то молча стоял напротив камеры, и свет лампочки отражался от темного, полуслепого стекла «глазка».
— Добро пожаловать… Нет? Ну, как хотите.
Капитан заставил себя оторвать взгляд от двери. Лег поудобнее, закрыл глаза и попытался сделать вид, будто ничего не происходит.
…Например, обыватель редко интересуется тем, как устроен видеофон. И ему плевать, кто изобрел это чудо техники — он просто нажимает на кнопку и связывается с тем, с кем захочет. А пассажиру воздушного лайнера и вовсе не обязательно разбираться в основных принципах аэродинамики.
Люди всегда готовы воспользоваться благами цивилизации, нимало не задумываясь о том, своя это цивилизация или же какая-то посторонняя.
Наверное, так и должно быть… Да так, собственно, и было — до того злополучного утра, когда мертвяки приволокли из Зоны труп Рэдрика Шухарта.
Это теперь, при новом режиме, дата его смерти считается Днем Национального Траура и Возрождения. А тогда… Тогда никто не мог даже предположить, во что выльются похороны какого-то сумасшедшего сталкера-одиночки.
Капитан Квотербалд никогда уже, наверное, не забудет бесконечную, медленную процессию, двигавшуюся за гробом. Звуки оркестра, черное платье вдовы, завороженные и в то же время немного растерянные лица… Казалось, на улицу вышло все население городка — десятки тысяч людей, мужчины, женщины, дети.
Впоследствии так и не выяснилось, кто же отдал приказ перекрыть движение. И как получилось, что вскоре обезумевшая толпа уже разгромила миссию ООН, полицейский комиссариат и несколько магазинов на центральной площади — а потом попыталась прорвать ограждение Зоны.
Во всяком случае, охране пришлось применить оружие.
По официальной версии солдаты стреляли только в воздух, но количество убитых и раненых росло с каждым часом. Мэр города подал в отставку.
Телекомпании всего мира начали прямую трансляцию с места событий: горящее здание Института, патрульный автомобиль с разбитыми стеклами, мертвая школьница, струя водомета, наискосок прочертившая небо…
По национальному радио с обращением к землякам обратился сам Валентин Пильман. Нобелевский лауреат и директор Международного института внеземных культур призвал народ и власти к благоразумию, привычно обрисовал перспективы, которые открывает перед человечеством сам факт Посещения — но в то же время напомнил о катастрофе в Карригановских лабораториях и об опасности, которую несет человечеству бесконтрольный доступ в Зоны. В конце выступления доктор Пильман сдержанно осудил сталкерство, как безответственный и преступный промысел.
Этого ему, разумеется, не простили… Наутро запылала квартира ученого, а сам доктор попал в больницу со множественными переломами и черепно-мозговой травмой.
Президент ввел в районах, примыкающих к Зоне, чрезвычайное положение. Впрочем, как всегда, слишком поздно — новая волна антиправительственных выступлений за считанные часы охватила всю страну и сразу же переросла в погромы и массовые беспорядки.
Программы новостей с охотой поддались всеобщей истерии — теперь чаще всего по телевизору показывали трупы во всевозможных ракурсах, а также лозунги вроде «Отдайте народу свободную Зону!», «Счастье для всех!», «Даром!» и даже «Дело Рэдрика Шухарта живет и побеждает!».
Пользуясь подходящим моментом, парламентская оппозиция вывалила перед публикой несколько чемоданов с грязным бельем: коррупция в правительстве, перерасход бюджета на науку, измена национальным интересам в угоду космополитам из ООН.
Озвучить накопленный компромат через средства массовой информации, было поручено восходящей звезде политического небосклона — Креону Мальтийцу. А через месяц, на внеочередных президентских выборах, этот смышленый красавчик, авантюрист с манерами и внешностью опереточного героя, стал главой государства.
Новый президент особо не церемонился — ни со своими врагами, ни с теми, кто считал себя вправе требовать благодарности. Аресты начались буквально сразу же, «независимой» прессе быстро заткнули рот, поэтому первые показательные судебные процессы прошли как по нотам. Потом уже в них не было нужды — появилось так называемое «упрощенное производство по делам о противодействии Посещению».
Каждый несогласный или подозреваемый в несогласии с режимом автоматически зачислялся во «враги прогресса» и подлежал немедленному устранению из жизни. Были созданы первые концентрационные лагеря и все остальное, необходимое для того, что сторонники доктора Валентина Пильмана окрестили «массовыми репрессиями».
Сам директор Института успел бежать. Одни утверждали, будто он до сих пор находится в стране на нелегальном положении, другие — что доктор Пильман скрылся за границей и оттуда руководит своими тайными последователями.
Во всяком случае, службе государственной безопасности, так называемым «черным сталкерам» Креона Мальтийца, отыскать и обезвредить беглого Нобелевского лауреата пока что не удалось. Зато официальная пресса изо дня в день сообщала о раскрытии все новых и новых подпольных групп так называемых «пильманистов».
Конечно же, правительство не забывало и об идеологии — новое время требовало новых героев. Еще ударными темпами достраивался Мемориальный музей Рэдрика Шухарта, а в школах и высших учебных заведениях уже сдавали экзамены по истории сталкерского движения, наизусть заучивая биографии таких его героев, как Пудель, Норман Очкарик и Носатый Бен-Галеви. Центральной городской больнице отдельным указом было присвоено имя Мясника, а члены организации контра бандистов «Квазимодо», в которую некогда входил сам нынешний президент, получили пожизненную пенсию и места в Совете ветеранов.
Что же касается свободного и бесконтрольного доступа в Зону…
Поначалу этот вопрос поднимался в каждом публичном выступлении. Но потом как-то незаметно, за хлопотами о государственном устройстве и борьбой с внутренними и внешними врагами, он отошел на второй план.
А через некоторое время и вовсе забылся. Постепенно была приведена в порядок потрепанная во время народных волнений «запретка», и вдоль колючей проволоки вновь появились вооруженные патрули — только уже не в голубых касках ООН, а в беретах с мальтийским крестом национальной гвардии.
Не так давно ожили уникальные лаборатории бывшего Института внеземных культур. Правда, теперь он относился к Министерству Посещения, имея статус закрытого оборонного предприятия, и все его сотрудники давали подписку о неразглашении.
Все, как всегда…
Лязгнул засов — очень быстро и очень коротко. Капитан уже несколько минут ожидал этого звука, но все равно не сумел приготовиться должным образом: противный холод выплеснулся откуда-то из-под сердца, дрогнули плечи, перехватило дыхание… Впрочем, он успел вскочить, как положено, еще прежде, чем дверь камеры полностью отворилась.
— Квотерблад?
— Так точно, господин… — Дневной свет из коридора бил прямо в глаза, поэтому сразу разглядеть вошедшего не удалось.
— Государственный прокурор Барбридж, — представился тот.
— Барбридж? — не удержавшись, переспросил капитан. Странно, у безногого Стервятника голос был вовсе не такой, да и вообще…
— Артур Барбридж, — уточнил посетитель. И на всякий случай добавил: — Младший. Сын.
Но Квотерблад уже и сам узнал стоящего напротив молодого человека.
— Поздравляю, господин Государственный прокурор!
— С чем?
— Ну, как же — такой высокий чин.
— А, вы про это… — Артур Барбридж обернулся: — Оставьте нас!
Кто-то невидимый, снаружи, попробовал возразить:
— Но, господин Государственный прокурор, согласно инструкции…
— Убирайтесь.
Команда прозвучала не слишком громко, но так убедительно, что уже через мгновение ей ответили скрипом петель, и тяжелая дверь встала на место.
В камере вновь воцарился привычный сумрак, и Квотерблад наконец-то смог толком разглядеть стоящего напротив человека.
Артур Барбридж почти не изменился с тех пор, когда они виделись последний раз: чистое правильное лицо, широкие плечи и длинные черные волосы, расчесанные на пробор. Ни дать ни взять — все тот же мальчишка, студент юридического факультета, несколько лет назад проходивший летнюю практику в отделе капитана Квотерблада.
Только тогда на нем красовалась потертая кожаная куртка, а теперь — синий форменный китель с какой-то вышитой золотом растительностью на погонах. И взгляд, которым гость ощупывал высохшую фигуру бывшего полицейского, его желтую, старческую кожу, был уже совсем другой: холодный, властный… и снисходительный.
Пауза тянулась достаточно долго. Слишком долго.
Наконец, Артур Барбридж махнул рукой — сверху вниз:
— Садитесь.
— Благодарю вас, господин Государственный прокурор. — Подождав, пока собеседник опустится на пустую койку, Квотерблад тоже занял свое место.
— Курите?
— Нет, господин Государственный прокурор.
— Зовите меня просто — мистер Барбридж… А я закурю, если не возражаете.
— Ну что вы… Пожалуйста. — Капитан не понимал, что происходит, и из-за этого никак не мог выбрать верную линию поведения. — Только осторожнее!
— А в чем дело? — Собеседник отвел от сигареты руку с еще не зажженной спичкой.
— Не запачкайтесь. Там, наверное, кровь еще не высохла.
Артур Барбридж привстал, пытаясь взглянуть под себя:
— Нет, вроде все в порядке… Кровь?
— Гуталина помните?
— Да, конечно. Ах, вот вы о чем… Что же, царствие ему небесное!
Молодой человек произнес это так спокойно, что Квотерблад после некоторого замешательства позволил себе поинтересоваться:
— За что его так?
— Официальная версия — неужто не устраивает? — усмехнулся Барбридж. — Толстяка, небось, жалко?
— Нет, не жалко. Но…
— Верю. — Собеседник чиркнул спичкой, прикурил и выпустил под потолок камеры первую струйку дыма. — По-настоящему, этот ваш Гуталин сам напросился. Нечего было на допросе хамить! А мы ведь тоже люди, нервы не железные. Вот и пришлось ребятам…
— Представляю, господин Государственный прокурор, — заключенный непроизвольно дотронулся до шрама на лице. — Представляю, как они умеют…
— Значит, еще не до конца. — Артур Барбридж поднял глаза и без особого труда выдержал взгляд Квотерблада. Все-таки он очень изменился за последние годы.
Капитан вздохнул:
— Кажется, папа хотел видеть вас адвокатом?
— Да. Но это уже не имеет никакого значения — отец умер вчера вечером. Инфаркт.
— Сочувствую. — Честно говоря, Квотерблад и не представлял себе, что у такой сволочи, как Стервятник, вообще было сердце. К тому же больное.
Впрочем, собеседник тоже не стал изображать мировую скорбь:
— Мы никогда не были особенно близки… У вас ко мне еще вопросы есть?
— Нет. Извините, господин Государственный прокурор.
Артур Барбридж поискал, куда выбросить окурок. В конце концов ткнул его в забытую после обеда миску и поинтересовался:
— Вам хочется еще пожить?
Капитан Квотерблад попробовал улыбнуться:
— Знаете, я в одной газете вычитал… Говорят, ничто так не сокращает срок заключения, как смертный приговор.
— Смешно, — кивнул собеседник. — Только и умереть ведь по-разному можно. Спокойно, быстро… Или вот, например, как этот глупый негр. Понимаете?
— Понимаю, — вздрогнул Квотерблад.
Урок получился действительно наглядный — как, наверное, и было задумано. Артур Барбридж дотронулся тыльной стороной ладони до койки, с которой только что убрали тело Гуталина:
— Значит, будем помогать друг другу?
— Я же признался! Подписал все, что требовалось. Все рассказал.
— И что было? И чего не было?
— Но, господин прокурор…
— Государственный прокурор, — вежливо поправил Квотерблада собеседник. — Вас ведь пытали на допросах? Били?
— Да. Это теперь обычная практика, новые методы следствия.
— Вот именно! — Артур Барбридж сунул руку под китель, и вытащил откуда-то из внутреннего кармана пластиковую папку с гербом. — Идиоты. Кругом — одни идиоты и костоломы, представляете? Только и могут, что выколотить из человека признание. Лишь бы дело списать побыстрее!
Страх капитана Квотерблада постепенно сменялся искренним удивлением:
— А что же еще от меня нужно?
— Правда. Мне лично — нужна правда, только и всего.
— Какая правда, господин Государственный прокурор? О чем?
Артур Барбридж достал вторую сигарету:
— О Золотом Шаре. Помните? — Он закурил и с показной брезгливостью открыл лежащую на столе папку. Перелистал несколько страниц. — Обвинительное заключение. Так, это не то… И это не то… Здесь вы признаетесь в массовых убийствах лиц, заподозренных в сталкерстве, а также членов их семей. Всего, значит, сорок две невинные жертвы… Дальше у нас — личные контакты с государственным преступником Валентином Пильманом, конспиративная связь с зарубежными центрами радикальных пильманнстов, подготовка к покушению на Президента… Полный бред! Как вы это все подписали?
— Сами же знаете — как.
— Вот именно, знаю… Ага! Нашел. Значит, начиная с листа дела номер пятьдесят восемь, вы описываете свое участие в подготовке и осуществлении полицейской провокации под кодовым наименованием «Золотой Шар». Так ведь?
— Наверное, — пожал плечами Квотерблад.
— Точно! — затянулся сигаретой Артур Барбридж. В спертом воздухе камеры клубы табачного дыма провисали под лампочкой неподвижно, густыми слоями. — Точно… Если верить показаниям, эта была ваша инициатива?
— Да. Я лично организовал и осуществил операцию, — опустил глаза капитан.
— Провокацию, — напомнил собеседник. — Каким образом?
— Там написано… Несколько лет назад нами в Зону был тайно заброшен предмет, соответствующий описанию так называемого Золотого Шара. Это, если помните, такая легендарная штука, которая якобы исполняет все желания.
— Припоминаю. Дальше!
— Затем через доверительные источники полиции были распространены первые слухи — вроде, кто-то что-то видел, кто-то что-то слышал… А когда существование самого Золотого Шара уже ни у кого не вызывало сомнения, мы подкинули лицам, представляющим оперативный интерес, карту маршрута по Зоне…
— Кому конкретно?
Капитан Квотерблад замялся:
— Было изготовлено сразу несколько экземпляров.
— И один, значит, попал к моему отцу… — Артур Барбридж слегка покачал головой и перевернул страницу. — Цель операции?
— Там же все написано, господин Государственный прокурор… Специалистами Института по нашему заказу был специально разработан очень правдоподобный маршрут от границы Зоны до этого самого Шара. Он был рассчитан таким образом, чтобы на пути сталкера встретилось максимальное количество опасных мест — «комариные плеши», «мясорубки», «стрелы», «звонки»… В общем, по оценке аналитиков, даже для самого подготовленного человека вероятность живым добраться до конечной точки практически равнялась нулю.
Капитан чувствовал на себе взгляд собеседника, но решил продолжить:
— Фактически, это была идеальная ловушка. Сталкеры — народ отчаянный и азартный, они лезли в Зону один за другим, как только получали нашу карту. Причем попадались на приманку как раз самые лучшие, опытные, уверенные в себе.
— Зачем все это было нужно?
— Законы. Тогда еще существовали законы, господин Государственный прокурор. Посадить преступника, особенно сталкера-одиночку, в тюрьму раньше было очень сложно: требовалось взять его с поличным, изъять «хабар», доказать преступный промысел. Да еще разные адвокаты, правозащитники… И приговоры в судах давали такие, что через год-два — глядишь, недавнего подследственного опять нужно из Зоны встречать. А так… Поголовье сталкеров сокращалось само собой. Естественным путем, если можно так выразиться.
— Значит, полицейская ловушка срабатывала? Всегда?
— Разумеется. В Институте работали головастые парни — у тех, кто позарился бы на мифический Шар, не оставалось ни малейшего шанса выжить. Туда пройти, обратно… Вон, даже знаменитого Рэда Рыжего, лучшего из лучших, вынесли из Зоны вперед ногами.
— Думаете, он был последним, кто попался?
Квотерблад пожал плечами:
— Не знаю. Меня ведь арестовали буквально через пару дней после его похорон.
— Вы полагаете, господин Шухарт не добрался до Золотого Шара?
Что-то в тоне и голосе Артура Барбриджа показалось капитану странноватым:
— Не знаю. В тюрьму потом доходили разные слухи. Но, собственно, какое это имеет значение? Даже если Рыжий все-таки обнаружил обман…
— Обман? — Собеседник закрыл папку с обвинительным заключением и потянулся за очередной сигаретой. — Послушайте, капитан! Не валяйте дурака.
— Простите?
— Я сам боюсь боли. И знаю, что под пыткой люди признаются в чем угодно. Верно?
Квотерблад закашлялся от дыма:
— Не надо, господин Государственный прокурор!
— Успокойтесь… Именно поэтому, прочитав первый раз показания о Золотом Шаре, я велел вас больше не бить. Во всяком случае, по голове. Помните «сыворотку правды»? Дорогое удовольствие, разумеется, но вас тогда для верности неделю накачивали психотропными препаратами.
— А потом еще посадили на детектор лжи… Зачем?
— Я пытался понять, что же все-таки произошло на самом деле… — Артур Барбридж с силой вдавил окурок в миску. — Но теперь ясно — вы действительно рассказали все и больше ни черта не знаете!
— И это плохо, господин Государственный прокурор?
— Да. Это очень плохо.
— Почему?
Вместо ответа собеседник щелкнул кнопкой висящей на поясе кобуры:
— Смотрите! — Тяжелый кольт армейского образца с громким стуком лег на стол перед капитаном, примяв бумаги. — Из этого пистолета я застрелил Рэдрика Шухарта. Хотите знать, как это произошло?
— Нет, — помотал головой Квотерблад.
— Почему? — удивился собеседник. — А, понятно… Боитесь.
Он опустил уголки губ, обозначив улыбку:
— Не надо бояться. Уже не надо. Вас ведь все равно сегодня повесят.
— За что? — не сразу понял Квотерблад.
— За шею… Какая разница! Вас что, статья интересует? Параграф? Не забивайте голову ерундой, лучше послушайте, — молодой человек привстал и расправил примявшиеся полы мундира. Потом снова сел. — Все знали, что мой папаша терпеть не может Рыжего. Особенно после того, как тот спас ему жизнь. Должники вообще редко любят своих кредиторов… Короче, когда появилась эта чертова карта, он сам послал меня с Рэдриком Шухартом в Зону. Дал вот эту пушку, объяснил, что нужно будет сделать, когда доберемся до Золотого Шара… Если доберемся.
Капитан Квотерблад не удержался:
— Все-таки вашего папу недаром называли Стервятником.
— Конечно, — кивнул собеседник с гордостью. — Но даже не в этом дело! Прогулочка по Зоне действительно получилась веселенькая, но покойный Шухарт был действительно лучшим из сталкеров, — и мы, в конце концов, дошли.
— До Золотого Шара? — теперь уже по-настоящему удивился Квотерблад.
— Совершенно верно… Еще в самом начале Рыжий заставил-таки меня выложить пистолет — дескать, на обратном пути подберем. Но я Шухарта перехитрил, снова спрятал ствол под куртку, пока он рассветом любовался. — Артур Барбридж мечтательно закатил глаза. — В общем, когда дошли… Там ведь «мясорубка» была, перед самым Шаром, так?
— Да, кажется. Я уже точно не помню.
— Была, была! — заверил капитана собеседник. — Пришлось даже целое представление устроить… Будто я про нее не знаю — побежал, и прямо так вляпался: ноги в одну сторону, руки в другую!
— Получилось?
— Получилось. Пока господин сталкер коньячок свой допивал на радостях, я в тенечке отсиделся. За экскаватором. А потом вышел — и выстрелил! Прямо в рыжий затылок, из этой самой дуры… Представляете?
Прямо перед глазами Квотерблада качнулось огромное черное дуло армейского кольта. Капитан с трудом отвел от него взгляд и поинтересовался:
— А потом как же? В одиночку выбирались?
Государственный прокурор положил пистолет и вздохнул:
— В том-то и дело. Не помню. Только дотронулся до Шара, закрыл глаза — и как отрезало! Очнулся уже на площади, перед Институтом. Кругом народ беснуется, полиция, лозунги… Сначала выбрали меня куда-то, потом пришлось вылезти на трибуну, речь какую-то произнести. А дальше понеслось: митинги, демонстрации, новый Президент — папашин приятель, назначение Государственным прокурором. Понимаете?
— Честно говоря, не очень.
— Вот и я тоже, — скомкал пустую пачку из-под сигарет Артур Барбридж.
Некоторое время собеседники молча смотрели друг на друга.
— Скажите, господин Государственный прокурор, — первым нарушил молчание Квотерблад. — А чего вы пожелали? Там, у Золотого Шара?
— Да, собственно… Этого и пожелал. — Собеседник дотронулся пальцем до шитья на погонах. — Думал, что смогу человечество осчастливить. Справедливость, юстиция…
— Всем поровну счастья, чтобы никого не обидеть?
— Что-то в этом роде…
— Значит, власти захотелось? — уточнил Квотерблад.
— Да, но во имя правосудия! Во имя людей! — Молодой человек протестующе выставил вперед ладонь. — Мне лично — ничего не надо, и если потребуется…
— Вранье. Золотой Шар… Он ведь словам не верит. Он ведь только тайное, сокровенное выполнить может! То, в чем и самому себе не признаешься.
— Откуда ты это знаешь? — Государственный прокурор вскочил, перегнулся через стол и обеими руками ухватил собеседника за ворот. Притянул его к себе: — Откуда, старая сволочь? Отвечай!
— Легенда… — Квотерблад захрипел, но не сделал даже попытки освободиться.
— Что? Легенда? — Артур Барбридж несколько раз так тряхнул капитана, что у того голова замоталась из стороны в сторону. — А почему же тогда…
— Отпусти меня, идиот! — И прежде чем до Барбриджа дошел смысл и тон этих слов, он увидел свой собственный пистолет в руке Квотерблада и почувствовал боль от ствола, упершегося под ребра. — Быстро! Сядь на место.
Молодой человек покосился на дверь. Хмыкнул.
— Ладно. А дальше что?
Теперь собеседников вновь разделял стол.
— Посмотрим. — Капитан щелкнул предохранителем и передернул затвор. — Надо же, и патрон в патроннике…
Артур Барбридж довольно спокойно ждал продолжения, но Квотерблад заговорил совсем о другом:
— Я не знаю, что произошло. Мы сами сделали этот чертов Золотой Шар. И подбросили, как приманку для сталкеров. Но… Возможно, Зона действительно превратила его во что-то. Сама. Сотворила нам подарок — нечто, воплощающее мечты в реальность.
— Зачем?
— Глупый вопрос. Это же все-таки Зона.
Артур Барбридж по-мальчишески облизнул губы:
— Я не хотел… Я не думал, что все так получится. Потом он обвел взглядом стены камеры, лампочку под потолком, зарешеченное окно.
— Что же теперь делать?
Капитан Квотреблад поднял пистолет.
— Надо умереть. Понимаешь, сынок? То, что сейчас творятся вокруг, — это твой мир. Он создан Зоной для исполнения желаний — твоих желаний.
— Постойте! Но почему вы уверены, что…
— Я не уверен, — честно признался капитан. — Но попробовать стоит.
Он выстрелил и выпущенная почти в упор свинцовая пуля разнесла Артуру Барбриджу половину черепа. Запахло порохом.
Впрочем, больше ничего не произошло. Все осталось по-прежнему: тюремная камера, стены, засовы, решетка на грязном окне…
Квотерблад подождал немного, пожал плечами — а потом поднес пистолет к виску. Теплая ребристая рукоятка армейского кольта приятно лежала в его ладони.
— Очень жаль.
Капитан выстрелил второй раз.
И снова ничего не изменилось…
Станислав Гимадеев ДОЛГАЯ ДОРОГА К ЛОГУ
Глава первая
Отсюда, с этой высоты в полтора десятка метров, луна была видна как на ладони. Только изредка, когда высоко в кронах деревьев шелестели порывы ветра, на ее золоченый лик ненадолго наползали уродливые черные фигуры из листьев, ветвей и лиан. Потом ветер стихал, и луна опять представала во всей своей сияющей и таинственной невозмутимости.
Правая ступня затекла, Кандид пошевелился, немного привстал, оседлал ветвь, свесив с нее обе ноги, и снова навалился спиной на теплый шершавый ствол. Сегодня дуновение ветра ощущалось даже здесь, почти у самой земли. Он потянул носом воздух и опять почуял этот запах. Странный запах. Непонятный. И от этого, может быть, даже пугающий. Или это ему только кажется? Ему много чего в последнее время стало казаться… Словно предчувствие надвигается. Слово-то какое всплыло в памяти, надо же! Предчувствие…
Он оторвал взгляд от луны, раздвинул рукой листву и посмотрел в сторону стоянки. От лунного света стоянку отгораживала плотная, тяжелая стена колонии огромных дырчатых папоротников. Тем не менее, в полумраке можно было различить россыпи хижин, густой кустарник и узкие тропинки между ними, полоски изгородей со шкурами и горшками и многочисленные валуны, наверняка еще не остывшие от дневного солнца. Впрочем, они никогда не успевают остыть. По крайней мере, те, что всегда лежат под солнцем. Стоянка уже погрузилась в сон. Скользнув взглядом по хижинам, Кандид заметил только двух дежурных с копьями, лениво бродящих от камня к камню. Да еще на поваленном дереве шел, похоже, очередной совет. Там, на бревне, шевелились двое людей. И еще одна маленькая, щуплая темная фигурка неподвижно сидела прямо на земле, в некотором отдалении от остальных. Неужели безлицый, подумал Кандид. К чему бы это?
Где-то рядом зашуршало. Кандид прислушался, глянул вниз, вдоль ствола, наклонно уходящего в высокие заросли травы, но ничего не заметил. Опять показалось? Зачем это к нам безлицые опять пожаловали, подумал он. Просто так они не приходят. А вдруг это не безлицый, засомневался он и снова, раздвинув ветви, поглядел на поляну. Теперь он увидел, что Рябой встал с дерева и размахивает руками, расхаживая перед сидящим на земле. Нет, все-таки это был безлицый — руки у него были тонкие и очень длинные, как у всех безлицых. С дерева вскочил еще кто-то, безлицый же ничуть не изменил своей позы: как сидел столбиком, так и остался сидеть. За спиной отчетливо зашелестело и послышались звуки осыпающейся коры. Кандид обернулся.
Листья разошлись, и показалась взлохмаченная голова Рыжего.
— Я так и знал, что ты здесь, — сообщил Рыжий, забираясь на соседнюю ветвь.
— Ты что, без крючьев забрался? — спросил Кандид.
— Но ты же тоже — без крючьев… — шмыгнул носом Рыжий.
— Так я уже привык, — сказал Кандид. — Крикнуть-то снизу не мог?
— А интересно стало: чего ты тут все время пропадаешь по ночам? Вот и залез.
— Ну и что?
— Ничего… — Рыжий с некоторой опаской покосился вниз. — Высоко вообще-то…
— Больше без веревок не залезай, — сказал Кандид. — А то свалишься — я отвечай потом.
— А чего ты тут сидишь-то, Умник? — спросил Рыжий.
— На луну смотрю.
— Все время?
— Угу.
— А зачем ты на нее все время смотришь?
— Думаю…
— Как это так? — Рыжий почесал в затылке. — Смотришь и думаешь? Почему?
Кандид вздохнул и поднял глаза к луне. Как ему объяснить?
— Как тебе объяснить?.. Просто смотрю на нее и думаю. Хорошо думается, понимаешь? Видишь, она какая? Вся такая… ну, такая…
Он не знал, какие можно подобрать слова, чтобы описать луну, и умолк. Рыжий тоже взглянул на желтый диск ночного светила и подтянул коленки к подбородку.
— А о чем ты думаешь. Умник?
— О разном, Рыжий.
— Непонятно, — сказал Рыжий, — Рябой говорит, что думать вредно. И другие тоже говорят…
— Это потому, что они не привыкли.
— А ты?
— А я привык.
— Рябой говорит, голова болит от этого… У тебя разве не болит?
— Я ж говорю: привык. Давно уже не болит. Слушай, Рыжий, — спросил вдруг Кандид, — зачем безлицые пожаловали, не знаешь?
Рыжий издал какой-то неопределенный звук и звонко хлопнул себя по лбу.
— Точно! — воскликнул он. — Тебя же Рябой ищет! Я же забыл, что он тебя искал. Никто ведь не знает, что ты сюда, на дерево, лазишь, на луну-то свою глазеть… Только ты не думай, я им не сказал, что ты здесь сидишь! Сам решил сходить, чтобы никто не заметил… Все равно уже спать все легли, а я — сюда.
— Зачем?
— А?
— Зачем Рябой меня искал? Чего он опять задумал?
Рыжий пожал плечами.
— Не знаю я. Только он вскочил и стал спрашивать: где это у нас опять Умник да где? Но я же не буду им говорить, что ты полез на это дерево, я сразу…
— Тогда пошли, — скомандовал Кандид. — Только вот что. Я первым полезу. А то улетишь еще…
Рыжий умолк, пропуская Кандида на ствол. Они стали медленно спускаться с дерева, хватаясь в полумраке за торчащие ветки и свисающую отовсюду скользкую зелень и упираясь коленями в крошащуюся кору. Через несколько минут они спрыгнули во влажную траву, скрывающую во весь рост, и стали пробираться к краю пригорка, по щиколотку утопая во мхе.
— Что-то я тебя сегодня днем не видел, — сказал Кандид по дороге.
— А мы ходили к Орешнику, — ответил Рыжий. — За поющими улитками. Их много там, в Орешнике, этих улиток. Только я их есть не люблю! Особенно, когда они петь начинают. Они, конечно, сытные, улитки эти, только мне не нравится, когда их ешь, а они начинают петь… Я уж лучше грибов поем. Те хоть молчат. А эти никак не могут! Ты их ешь, а они…
— А рыба куда подевалась? — перебил его Кандид. — Дня два назад ловили же в ручье. Много ее там было. И рядом… Ни в какой Орешник идти не надо.
— Так в Орешнике тоже нет рыбы, — продолжал Рыжий. — Мы за улитками ходили, а не за рыбой. Я же говорю тебе… Исчезла рыба в ручье! Ушла. Так старики говорят. Ушла, говорят, вся рыба из ручья! И из Лягушатника тоже ушла.
— Зачем это она ушла?.. — пробормотал Кандид. — Куда можно уйти из Лягушатника? Под землю, что ли?
— Никто не знает, — отозвался Рыжий. — Старики сказали: почуяла что-то — и ушла. Из ручья ушла, из Лягушатника ушла. Вот мы и пошли в Орешник. Только в Орешнике рыбы нет, Умник, там поющие улитки — за ними и пошли. Но они долго не живут, улитки эти, много их не наберешь. Перемрут. А сдохнут — их уже не съесть. Как их вообще едят — не пойму… Почему так, Умник? Скажи, ты же знаешь.
— Не знаю, — сказал Кандид.
Они вышли к стоянке. Возникший было в первый момент перед ними дежурный напрягся и перехватил копье, но потом, узнав их, исчез из виду. Кандид направился к поваленному дереву. Рыжий что-то тараторил за спиной, затем смолк и куда-то пропал. Безлицего уже не было на совете — успел убраться восвояси. На дереве перед Рябым сидел Криворот и ковырялся ножом в коре дерева. Лицо Рябого было крайне озабочено. Он стоял неподвижно и беспрерывно теребил костяное ожерелье на волосатой шее.
Кандид сел на дерево рядом с Криворотом. Рябой поднял на Кандида хмурый взгляд и некоторое время молчал, шевеля густыми косматыми бровями.
— Безлицые приходили? — осведомился Кандид.
— Один он был на этот раз, — буркнул Рябой. — Только что убрался.
— Сам же его прогнал, — проворчал Криворот. — Ходил тут вокруг него, да руками размахивал…
— Их прогонишь, как же! — сказал Рябой. — И не прогонял я его… Чего на него сидеть глазеть! Не видали мы что ли этих безлицых? Нечего нам тут на него глазеть! Зачем нам с ним тут сидеть — он все равно молчит и молчит, слова не говорит! Как с ним говорить, ежели он молчит все время… Где это ты видел безлицего, который по-нормальному говорить умеет?
— Почему же все время? — возразил Криворот. — Вовсе и не все время молчит… Говорил же он тебе! А ты все руками размахивал…
— А чего говорил-то? — поинтересовался Кандид.
— То же самое! — фыркнул Рябой и почесал бороду. — Слышали мы такие разговоры! Несколько дней назад приходили, позавчера приходили — все одни и те же разговоры. Только про Чертовы скалы и умеют говорить. Как заладили: Чертовы скалы, Чертовы скалы… И про Лучший лес уже слушать надоело! Болтать-то всякое можно, а кто его видел-то? Никто этот лес не видел, а разговоров-то поразвели!
— Раз безлицые говорят, что он есть, значит, они его видели, — сказал Криворот. — Зачем же тогда говорить то, чего не видели?
— Ты, Криворот, больно много им веришь, — сказал Рябой. — Нельзя так им верить, а ты веришь, Криворот…
И между ними завязался спор. Спор, который Кандид слышал уже неоднократно и который ему порядком надоел, потому что ничего нового во время этого спора не произносилось. Аргументы были стары и заезжены. Как же не верить безлицым, недоумевал Криворот, когда они все время нам помогают! Почему же это все время, парировалось в ответ, вовсе даже не все время, тут ты, Криворот, что-то напутал или забыл, во время войны помогали — разве кто говорит, что не помогали?.. Куда бы мы без них-то делись, одна Дьявольская Труха чего стоит! А их ночные разведки, а связь между отрядами! Вот и я о том же говорю, об этом же и говорю… Так ведь нет той войны, сколько уже нет! А безлицые остались, как приходили, так и приходят, как советовали, так и советуют. Только советы-то их совсем не те, другие у них стали советы, Криворот, после Освобождения. Какая разница, они же помочь нам хотят, Рябой, ты же видишь… Тогда помогали и сейчас хотят. Еды-то совсем не стало, что есть-то станем скоро, вот ты мне скажи, Рябой? Рыба исчезает, звери исчезают, земли съедобной нигде не найдешь… Полдня сегодня по Лягушатнику шарили — пусто стало в Лягушатнике. Скоро к Лысой поляне ходить начнем, а кто нас туда пустит, ясно дело, что никто нас не пустит, потому как им самим жрать охота… А жратвы все меньше и меньше, грибы есть невозможно, зверье куда-то бежит. Куда они все бегут-то? Уж не за Чертовы ли скалы они бегут?.. Вранье все это про Скалы и про Лучший лес, понятно, что вранье, безлицые набормотали, а ты, Криворот, и поверил. Кто там был-то в Лучшем лесу, кто ходил-то за Чертовы скалы, понапридумывали всякого, а ты и поверил! А там, может, еще хуже, чем здесь! Как же может быть хуже, хуже-то ведь уже не может быть, сам видишь, куда еще хуже? С Юга Трещины наступают, скоро совсем нас к Скалам прижмут, что делать станем? С голоду вымрем, на Твердых землях жить нельзя, никто там не живет, бегут все оттуда, и звери и насекомые бегут, и деревья там порчеными становятся, на Твердых землях, там даже озер не осталось — все пересохли, как же там жить можно?.. Это безлицые так говорят, парировалось тут же, никто же на Твердые земли не ходил, они говорят, а вы уши и развесили… Как же не ходили, когда ходили, сразу после Освобождения, в первое время, когда Трещины-то появились… Сразу и ходили, молва такая есть. Племя Хребта ушло, еще несколько племен ушли, никто не вернулся, ясно дело, что сгинули они все там, на Твердых землях, и мы здесь скоро перемрем, ясно дело… А вдруг не сгинули они там, Криворот, вдруг они там живут себе припеваючи, ни с кем не воюют, едят до отвала, по лесу не кочуют и над нами дураками смеются? И что ты так прицепился к этим местам, Рябой, не пойму я, и многие не понимают, что ты в них нашел? Житья здесь скоро не будет, а он прицепился, гляди, не сегодня — завтра все за Чертовы скалы уйдут, мы одни останемся… Вовсе и не все, почему же это все-то? Вот и Одноухий, к примеру, тоже никуда не собирается, сидит себе возле озера и со страху не трясется, как ты. Криворот, и чего ты все со страху трясешься? А место у Одноухого знатное, хорошее у него место, рыбы там много… В конце концов разговор переключился на Одноухого.
— Сколько же у него людей-то, у Одноухого? — почесал в затылке Рябой. — Не помню я, сколько у него людей, может, ты, Криворот, вспомнишь?
— Да уж не меньше нашего будет, ясно дело, — сказал Криворот. — У Одноухого сильное племя, это всякий знает, он все Освобождение прошел, так просто с ним не совладать, Рябой. Здоровые у него в племени мужики, ясно дело.
— Знаю я, что здоровые… Мы тоже, небось, воевали, а не на болотах отсиживались, если б мы на болотах отсиживались, то сейчас бы тут не кочевали, мы бы сейчас…
— А что — Одноухий? — встрял Кандид. — Что ты задумал, Рябой?
— Безлицый сказал, будто Одноухий что-то замышляет против нас, — сказал Рябой. — Задумал, одноухая его харя, какую-то гадость!
— Это безлицый сейчас тебе сказал?
— Еще раньше говорил, дня два назад он говорил, а сегодня еще раз сказал. Говорит, очень скоро напасть на нас Одноухий хочет, отряд, говорит, готовит. Внезапно, значит, во как! Знал я, что Одноухому доверять опасно, знал, что когда-нибудь он начнет гадости вытворять! Только мы перехитрим его, я ему лично второе ухо отрежу! Вот еще бы знать, сколько у него людей в отряде. Может, ты, Криворот, вспомнишь: много ли там у него людей-то?
— Сам, небось, напасть на Одноухого хочешь? — спросил Кандид у Рябого.
— Это точно, Умник, — согласился Рябой. — Это самое правильное: напасть на Одноухого самим. Потому как если мы на него не нападем, то он на нас нападет обязательно. А Одноухому на нас нападать совсем нельзя, потому как мы должны напасть раньше и племя его перебить, а территорию его занять. А территория у него хорошая, Умник, это я точно знаю. Бывал я в тех местах, там должно быть много еды, там долго можно жить, хорошо там.
— Я тоже бывал, — заметил Криворот. — Мы ж вместе там ходили, Рябой, забыл никак? Еще когда только начали подруг гнать к Востоку… Вот это были времена! А ты, Умник, разве не помнишь, ты ж с нами тогда был? Или не с нами? А с кем же ты тогда был, если не с нами?
Кандид не ответил, ему в голову вдруг пришла мысль: зачем бы это Одноухому нападать на Рябого и завоевывать его территорию, если на его стоянке так замечательно и вдоволь еды? И еще какое-то смутное сомнение посетило его, но он не смог поначалу определить — какое, а вместо этого спросил Рябого:
— Меня зачем искал?
— Затем и искал, Умник, что нельзя больше тянуть с Одноухим, — ответил Рябой. — Хватит уже с ним тянуть, нельзя это и опасно. Опередить надо этого Одноухого, потому как если мы его не опередим, то он нас опередит обязательно. Мы должны этого Одноухого поставить на место и ухо-то последнее ему оборвать…
— Когда выходим? — поинтересовался Кандид.
— Сегодня на рассвете, — сказал Рябой. — Пока у них никто ничего не понял, мы и выйдем. А вы заранее пойдете, на разведку пойдете, Умник, нельзя нам без разведки к Одноухому соваться. Вчетвером и пойдете. Лохмач, ты, Ворчун и еще кого-нибудь возьмете. Ты, конечно, вояка плохой, Умник, это мы знаем, но ты же у нас Умник… А это дело такое… без тебя нельзя, Умник, никак нельзя, мало ли что случится, сам понимаешь… Разведка — это дело хитрое, без тебя, конечно, тоже можно, но с тобой, Умник, куда лучше. И Криворот тоже так считает. Скажи, Криворот, верно я говорю?
— Это Рябой верно говорит, — согласился Криворот. — Это любой в племени скажет: ты у нас, Умник — голова. Много раз выручал, ясно дело. Странный ты, конечно, как отец твой. Тот странный был, и ты, само собой, такой же… Но уж больно ты полезный, знаешь много всякого, откуда ты только это все знаешь — никак непонятно. Все время я удивляюсь, Умник, откуда ты…
— А ты что, знал моего отца? — перебил его Кандид. — Ты раньше не говорил.
— Немного знал… Только я маленький еще был тогда. Это как раз после Одержания было, ох и времена… Да… И вспомнить-то страшно! А мой отец твоего, Умник, хорошо знал, да. Вместе они тогда, вместе…
Криворот неожиданно умолк, погрузившись в воспоминания, перестал ковырять ножом древесину бревна и уставился куда-то в темноту папоротников. В наступившей тишине было слышно, как они монотонно бормочут, как сопит и вздыхает во сне лес, изредка пронзая тишину глухими утробными трелями, протяжными поскрипываниями, посвистываниями и потрескиваниями. Словно невидимые исполинские чудища переворачивались с боку на бок в промежутках между своими таинственными сновидениями и чмокали, храпели, чавкали и потягивались, хрустя суставами…
— Ну, чего молчишь-то? — спросил Кандида Рябой. — Не молчи давай, скажи, что ты про это думаешь. Умное что-нибудь скажи, раз ты Умник. Может, посоветуешь чего… Ты же умеешь советы советовать, сколько раз советовал, давай не молчи.
— Ты это о чем? — сказал Кандид. — Об Одноухом?
— О нем, конечно, — буркнул Рябой, — чтоб у него второе ухо отвалилось!
— Не нравится мне все это, — вздохнул Кандид. — Не к добру.
— А кому нравится? — воскликнул Рябой. — Мне, что ли, нравится? Или, скажем, Кривороту нравится? Кому, понимаешь, охота с таким племенем связываться? У Одноухого отряд не хуже нашего будет… Или, может, думаешь, Одноухий сам уйдет со своей стоянки? И муравью понятно, что не уйдет! Чует свою силу, одноухая его морда, и никуда не уйдет!
— Одноухий не уйдет, — поддакнул Криворот. — Ежели бы он слабый был, может, и ушел бы. А так — нет. И мужики у него крепкие, и оружие хорошее. Видел я однажды, какое у них оружие… Одни топоры только чего стоят! Научились топоры-то делать, где только рукоедов таких ловят, таких рукоедов не часто встретишь, особенно, в наше время. Хорошего рукоеда словить — это надо постараться, ясно дело. Да еще чтоб челюсти целые попались, не ломаные, такие только у молодых бывают… Из старых-то челюстей плохие топоры получаются, ненадежные получаются топоры. И ножи ненадежные…
С этими словами Криворот поднес к глазам свой нож и стал пристально рассматривать его костяное лезвие.
— А может, попробовать с ними объединиться? — сказал Кандид. — Как раньше…
— С Одноухим объединишься, жди… — фыркнул Рябой. — Что-то ты не то советуешь, Умник. Зачем это ты только такое советуешь? Как же можно с Одноухим объединиться, когда он спит и видит, как нас всех тут перебить и земли наши под себя подобрать! Я его рожу одноухую насквозь вижу! Объединяться можно со слабыми и маленькими, а с сильными никак нельзя объединяться. Вот если его отряд разбить, ослабить… тогда оставшимся никуда не деться — вот сами к нам и придут! Тут мы уже ученые, тут нас не проведешь.
— Но объединялись же раньше, — сказал Кандид, пожав плечами. — Когда Освобождение шло, ты же помнишь! И слабые объединялись, и сильные.
— Так то ж какая война-то была! — взмахнул руками Рябой. — То ж Освобождение, Умник! Кто ж тогда друг с другом воевал, разве до того было, совсем не до того было. Одно дело — сообща подруг да мертвяков рубить, другое — меж собой воевать. Нашел чего вспомнить!
— Да-а, — протянул задумчиво Криворот и засунул нож в кожаный поясной чехол. — Тут я с Рябым согласен. Во времена Освобождения все по-другому было, не так все было в те времена. Тогда мы все одного хотели: напасть эту истребить, чтоб в лесу ее больше не было, напасти-то этой. Все были заодно, ясно дело. — Он сделал паузу, явно что-то вспоминая. — Помнишь, Рябой, как мы с племенем Длинного тогда их гнали? Оцепили с нескольких сторон и гнали, гнали, гнали…
— Это на Мертвяково поле, что ли? — наморщил лоб Рябой. — Ты, не иначе, Криворот, про Мертвяково поле говоришь?
— Угу… Ох, мы их тогда побили! Я столько дохлых мертвяков с тех пор никогда уже не видел. Жуть просто. Все, понимаешь, поле — в дохлых мертвяках. И дым — по всему полю!..
— Так они тогда уже слабые были, — сказал Рябой. — И бегали медленно. Тогда вдвоем можно было запросто мертвяка завалить. Главное, чтоб рогатины или копья длинные были, чтоб добрые были рогатины-то. Тут ведь в этом деле что главное…
— И вовсе это и не тогда было, — поспешно возразил Криворот. — Путаешь ты, Рябой, тогда мертвяки еще были в силе! Если б не Длинный со своими мужиками, мы б их и не побили, ясно дело…
Рябой, в свою очередь, тоже не согласился с Криворотом, и тогда они ударились, было, в воспоминания о днях боевых походов, о тех тяжелых днях испытаний, поражений, побед, но Кандид не дал им увести в сторону разговор, грозивший перерасти в ночь устного пересказа истории Освобождения. Он их прервал.
— Погодите вы! — резко сказал он. — Кто пробовал, а? Никто ведь не пробовал. Скажите, кто пытался после Освобождения объединиться? Вот ты, Криворот, помнишь такое?
— Нет таких дураков, — ответил Криворот. — Кто это тебе станет объединяться в наше время… Жратвы мало. Трещины проклятые все ближе и ближе, дыры Земляные эти еще… Не было напасти… Кто тебе станет объединяться, Умник, а? Самим бы прожить, ноги не протянуть — куда там объединяться?! Нет уж, доверять Одноухому никак нельзя. Тут я с Рябым согласен. Ты ему, Одноухому доверишься, а он нас всех потом втихомолку прирежет, женщин заберет, оружие заберет… Как же можно Одноухому доверяться? Ты разве забыл, как он нас недавно на охоте подстерег? На нашей же земле засаду устроил, вытеснить нас задумал! Недавно мужики опять возле Змеиного ручья каких-то чужаков видели, ползают тут разные, вынюхивают, где бы чем разжиться, у кого бы чего захватить…
— Так ведь сообща же легче прожить, — сказал Кандид. — Как это может быть непонятно? Когда с подругами воевали, все это понимали, а как перестали, — словно позабыли, чему жизнь учит. Странно… Что за психология такая?..
— Ты, Умник, слишком мудреные слова не говори, — проговорил Рябой. — Знаем мы, что ты умеешь всякие заковыристые и непонятные слова говорить. Ты попроще думай… Дело Криворот говорит. Я Одноухому ни капли не верю, и другим не верю, никому не верю я, Умник. Потому как верить в наше время нельзя никому, коли хочешь подольше прожить. Даже безлицым не верю, не совсем, конечно, не верю, так… наполовину верю, наполовину — нет.
Послышался топот, возник недовольный и заспанный Лохмач.
— Ты, Лохмач, уже совсем проснулся? — спросил его Рябой. — Или ты еще спишь? Если ты спишь, так я тебе советую начинать просыпаться!
Какое-то время Лохмач стоял с открытым ртом, потом почесал грудь, зевнул, поглядел по очереди на всех присутствующих и заговорил:
— Я вот никак в толк не возьму, Рябой, зачем это ты ночью охрану посылаешь меня будить, когда я уже спать лег? Ежели б до сна ты меня поднял, то это одно, а так — непонятно…
— Хватит спать, Лохмач, — твердо произнес Рябой. — После будешь спать, а сейчас не спать надо, а собираться. В разведку надо собираться, Лохмач. Понимаешь, о чем я тебе говорю?
— В разведку… — повторил Лохмач, нахмурясь и что-то соображая. — А… Это… А зачем, спрашивается, в разведку? Только это я, значит, уснул…
— Безлицый приходил, — продолжил Рябой серьезным тоном. — Одноухий на нас напасть хочет, а мы его опередим. Торопиться надо, а то он нас опередит!
— Безлицый? — оживился Лохмач. — А он Сахар принес?
— Ты только о Сахаре и думаешь! — буркнул Криворот.
— Как же о нем не думать, — заволновался Лохмач, поглядывая на поясной мешок Рябого. — Так принес он Сахар или не принес? Вы мне зубы-то разведкой не заговаривайте, а то заговорят зубы разведкой…
— Принес, принес, — торопливо сказал Рябой, закидывая мешок подальше назад. — Ты не о том думаешь, Лохмач, ты про дело должен думать, а ты все про Сахар думаешь.
— Ишь ты! — воскликнул Лохмач. — А как мне о нем не думать! Опять хитришь, Рябой! Как в разведку идти — так Лохмач, а как Сахар делить, так про Лохмача сразу и забывают!.. Ну-ка, Рябой, покажи, большой кусок-то? — Лохмач стал вытягивать шею, чтоб получше разглядеть мешок Рябого.
— Хороший кусок, Лохмач, хороший, — заговорил Рябой успокоительно. — Не бойся, я тебя не обделю, получишь ты свою долю, Лохмач, как разделаемся с Одноухим, так и получишь.
— Нет, Рябой, давай сейчас… почему бы не сейчас, какая разница, чего тянуть, спрашивается…
— Я сказал: после! Нечего меня уговаривать, я тебя сюда вызвал не для того, чтоб ты меня уговаривал! Я тебя дело позвал обсуждать, а ты меня уговариваешь!
— Ну ладно, — со вздохом сожаления сказал Лохмач. — Ты вожак — тебе виднее…
— Значит, так, — заговорил Рябой коротко. — Вот что я решил. Вчетвером пойдете. Лохмач — главный. Берешь Умника, Ворчуна, и еще кто-то нужен четвертый. Кого возьмешь?
— Может, Косого? — сказал Лохмач, почесав в затылке.
— Не надо, — размышляя, ответил Рябой. — Его не надо. Он мне здесь нужен будет. Кого бы вам взять?..
— Пусть Сухого берут, — подсказал Криворот. — Заодно в деле проверят.
— Сухого? — вскинул бровь Рябой. — А можно и Сухого. Отчего бы, спрашивается, и не Сухого? Мужик он, вроде, шустрый, хоть и странный. Больно много молчит, совсем как Умник.
— В разведку, между прочим, с болтливыми не ходят, — заметил Кандид. — На то она и разведка.
— А вот это точно! — немедленно согласился Рябой. — Это ты правильно сказал, Умник. В разведке вам болтать ни к чему. Ну, стало быть, берите Сухого. Так тому и быть. Все равно его проверить надо, ты, Лохмач, все ж присматривай одним глазом за Сухим, мало ли…
Лохмач послушно кивнул. Рябой почесал бороду, набрал в грудь воздуха и продолжил:
— Вот что вам надо сделать. В обход Синей чащи вы пробираетесь к Безымянному озеру, где можно наблюдать за стоянкой Одноухого, и незаметно наблюдаете. Если на стоянке все спокойно и Одноухий не готовится ее покинуть, вы посылаете крылатку, переплываете озеро, прячетесь в кустах или на деревьях на склоне Дурман-горы…
— А если Одноухого там уже нет? — вставил Лохмач.
— Тогда никуда не переплывайте, сразу посылайте крылатку и сами назад идите. Только ты, Лохмач, так не думай, как же это: нет там Одноухого? Этого не может быть, не мог он нас обмануть, и он должен быть там! Но ты не перебивай меня, а дальше слушай, я тебя не для того вызвал, чтоб ты меня перебивал… Значит, на склоне спрятались — и ждете, пока мы подойдем. Мы, как ваше сообщение получим, сразу выходим. Вот… А вы там сидите, на склоне, тихо и незаметно, пока наш отряд не появится. Мы к стоянке Одноухого с другой стороны зайдем, не с Безымянного озера, Лохмач, а со стороны Лысой поляны зайдем, понятно? И сигнал вам дадим. Ждите сигнала, Лохмач. Если кто в вашу сторону драпать начнет — вы их там встречайте как положено.
— Только я те места плохо знаю, — сказал Лохмач. — К восточным землям ходил, за Орешник ходил много, а к Безымянному озеру не ходил. Может, раньше я и бывал там, так столько времени прошло, там и лес-то изменился, наверное…
— Потому с вами Ворчун и идет, — сказал Рябой. — Он эти места очень хорошо знает, лучше него, наверное, никто не знает. С вами Ворчун пойдет — не заблудитесь, ты только этому Ворчуну много ворчать не давай, а то знаю я его, Ворчуна этого.
— Не люблю я эту Синюю чащу, пропади она к чертям, — сокрушенно сказал Лохмач. — Про нее такая молва ходит, жутко становится!
— Кто ж тебя в Синюю чащу-то просит лезть? — сказал Криворот. — Обойдете ее слева, это самая короткая дорога, нет другой такой дороги. Ежели вам через Орешник топать, то, сколько времени уйдет? Никак не успеть до рассвета, ясно дело. А так, слева Синюю чащу обогнете, а там уже и до озера недалеко, только не лезьте вы в чащу-то, Лохмач, не надо в нее лезть.
— Да хоть слева ее, хоть справа… — проворчал Лохмач. — Все равно боязно, такого про нее наговорили…
— Значит так, — сказал Рябой. — Ты, Лохмач, разбуди Ворчуна с Сухим, и собирайтесь. Поешьте, чуток отдохните, все, что надо, возьмите и выходите. Потому как, если сейчас не выйти, можем опоздать, а это нам ни к чему. Умник, — обратился он к Кандиду, — ты крылатками займешься. Ступай к Кулаку, разбуди его, если этот старый пьяница дрыхнет. Пусть подберет тебе крылаток получше, потолковее. Ну и сам, разумеется, собирайся, а Лохмач за тобой зайдет, как все готовы будут… Все понятно?
— Понятно, — ответил Кандид и поднялся с бревна. — Я пойду, Рябой.
Какая-то непонятная тревога снова овладела им. Но ведь ни Рябому, ни Лохмачу не объяснишь, что такое дурные предчувствия.
Он уже было повернулся, как Рябой тронул его за плечо.
— Ты это, Умник… — замялся он, глядя куда-то в сторону. — Как-то поосторожней там будь… Тебе поберечь себя надо, Умник, ты же понимаешь…
— Война есть война, Рябой, — проговорил Кандид. — Разве можно обещать?
— Да я понимаю… Если с тобой что случится — нам тяжело будет. Нам без твоей головы никак нельзя, Умник. Уж больно много ты всего знаешь. Вы бы хоть пацана завели, Умник, так же нельзя — без пацана… Сейчас не та война, давно бы уж завел. С дочки-то твоей много ли толку будет? А случится что с тобой, или пропадешь, как отец твой, — где мы такого умника возьмем? Кто все будет знать и советы советовать, если ты сына не успеешь завести, а?
— Ладно тебе, Рябой, — сказал Кандид. — Ничего со мной не случится. Все будет хорошо. Я пойду.
— Иди, — вслед ему сказал Рябой, — Удачи, Умник.
Кандид вышел на тропинку и зашагал к хижине Кулака. Какое-то время он еще слышал, как Рябой и Криворот о чем-то спорили, потом голоса их стихли. Возле водяных ям с приманкой что-то тенью метнулось в заросли травы, уронив прутяное заграждение. Кандид присел и стал втыкать колышки на место. Из кустов на него пялились два тускло-желтых глаза. Их обладатель, похоже, и не думал удирать. Это еще кто такой, подумал Кандид. Первый раз вижу… Он поднялся и пошел дальше. Возле самой хижины Кулака, уже взявшись за полог, он вдруг уловил боковым зрением, что рядом кто-то есть. Кандид замер и медленно повернул голову. В десятке метров, неподалеку от детских хижин, в траве стояла какая-то приземистая темная фигура. Неужели безлицый, удивился Кандид, зачем это он здесь? Несколько мгновений он всматривался в неподвижную фигуру, пока не понял, что это совсем не безлицый, а просто причудливо изогнутый побег ползуна, может, корня безлистника, успевшего вырасти за день. Он покачал головой, откинул полог и вошел в хижину.
В хижине неимоверно воняло: воняла закваска, несло из горшков с хмельными настойками разной степени готовности, воняли какие-то коренья, травы, семена, шкурки и еще черт-те что. Все пространство было забито огромным количеством горшков, кожаных мешков и всевозможных вязанок. Старик сидел на одном из тюков и держал в руках маленький горшок с настойкой. Над головой его на стенке хижины плотным комком мерцали светляки.
— Как ты тут дышишь? — удивился Кандид. — Тут же нечем дышать.
— А… это ты, Молчун, там топчешься… — хрипло сказал Кулак. — Я думаю, кто это там топчется, шерсть на носу? Один вот тоже так топтался, топтался, как дали ему коленом под зад, так он больше не топчется и другим топтаться не советует…
Кулак шумно отхлебнул из горшка, выплюнул жука и вытер рот ладонью.
— Я думал, ты спишь, — сказал Кандид и присел на пустой горшок в углу.
— Хочешь настойки, Молчун? — спросил Кулак, чмокая губами. — Вон в том горшке…
— Я не Молчун, Кулак, — сказал Кандид. — Ты опять спутал. Ты, когда пьяный, всегда нас путаешь.
Старик тряхнул космами и пристально посмотрел на Кандида.
— Да-а… — промычал он и икнул. — А как же вас не путать, шерсть на носу, ежели вы похожи?.. Что ты… Умник, что Молчун, отец твой!.. Как два глаза на лице… А чего, Умник, не спишь? Или уже утро? Может, хлебнешь настойки-то, шерсть на носу? Знаешь, я какой рой нашел… что надо! Два дня постояло — и готово!
— Я по делу пришел, Кулак, — сказал Кандид. — Крылатки нужны, на рассвете — в поход. Я сейчас ухожу. Рябой сказал, чтоб ты выбрал посмышленее…
— Где их взять-то таких в наше время! — Кулак сокрушенно взмахнул горшком и облился. — Вот раньше были крылатки, шерсть на носу, одно удовольствие обучать… Во время Освобождения, да и после тоже. А сейчас что? Тьфу!.. Вот ты мне и скажи, Умник, что это происходит, а? Позавчера с бабами на ближние болота ходили за ягодой — так ее же есть невозможно, шерсть на носу! Разве можно такую ягоду есть? Один такую ягоду все ел, ел, пока весь пузырями не покрылся, теперь уж есть ее не может, смотреть на нее не может, и думать-то про ягоду вообще забыл… Мужики сегодня ямы проверяли — ни один ревун не попался, это что же получается, спрашивается? Когда это такое было? Еда совсем не бродит, никогда такого не было, чтоб еда не бродила. Вот скажи, Умник, ты же умный, почему это еда не дображивает? Киснет, шерсть на носу, — и все тут!
— Ты тоже думаешь, что надо уходить за Чертовы скалы? — вдруг спросил его Кандид.
— Да не знаю я… — Кулак снова глотнул из горшка. — За Скалы ли, не за Скалы… какая разница?.. Как Рябой скажет, так и будет. Я уже старый, мое дело — сторона, я все одно ничего не понимаю. За Скалы, так за Скалы… Что, там не жизнь, что ли, за этими Скалами? Поживем, шерсть на носу…
— Так Рябой не хочет за Скалы, Кулак…
— Раз Рябой не хочет, шерсть на носу, стало быть, не надо нам за Скалы!.. Ну их в болото, эти Чертовы скалы! Зачем это нам идти к ним?.. Не видели мы, шерсть на носу, этих Чертовых…
Он запнулся и громко икнул, посидел, набычившись, и снова икнул.
— Я знаешь, о чем жалею, Умник? — сказал Кулак, после некоторого молчания. — Я жалею, Умник, что не ушел тогда с Молчуном, с отцом твоим не ушел…
— Да знаю, знаю, — поспешно сказал Кандид. — Ты мне уже это сто раз говорил.
Опять начинается старая песня, подумал он.
— Почему я с ним не пошел — не пойму… — в очередной раз забормотал Кулак. — Или уже не помню?.. Ведь из деревни вместе мы с Молчуном ушли, это-то я помню. Ушли мы тогда, шерсть на носу, из нашей деревни… я ушел. Молчун ушел, Болтун ушел… Слышишь, Умник, никто больше не пошел с нами, когда мы из деревни уходили. Уж как он, Молчун-то, бегал, всех уговаривал, все про Одержание кричал, про утопленников… Я ведь поначалу не хотел с ним идти, куда это, думал, мне идти-то, а Молчун все равно уговорил! И меня уговорил, шерсть на носу, и Болтуна уговорил, и еще четырех мужиков из Выселок уговорил. Мы же через Выселки, Умник, тогда поперли… прямо к Черным болотам…
— Да не к Черным, — вставил Кандид. — К Чумным болотам мы пошли.
— Как это к Чумным? — засомневался Кулак. — И вовсе даже не к Чумным. Как мы могли пойти к Чумным болотам, когда мы, шерсть на носу, пошли к Черным… Один вот тоже все хотел пойти к Чумным болотам, так взяли его, обе ноги повыдергали, он потом ни к каким болотам ходить уже не смог, ни к Черным не смог, ни к Чумным не смог…
— Ты все перепутал, — сказал Кандид. — А я помню. Мы пошли к Чумным болотам. А Черных болот тогда не было еще. Там долина тогда была. Помнишь, Кулак, какая там была долина?
— Долина, — после легкой заминки кивнул Кулак. — Не было Черных болот, я и говорю… Значит, шерсть на носу, мы пошли к Чумным болотам. Потому как некуда больше идти было…
Он снова хлебнул настойки и продолжал хрипло бубнить про Чумные болота, про страшные ночные переходы, когда они чуть все не потонули, про то, как напоролись на первый отряд подруг, огромный отряд, а их было всего несколько человек… Кандид смиренно слушал эту заезженную историю, каждый раз обраставшую в устах старика новыми подробностями. Да оно и не могло, видимо, быть по-другому — слишком много времени прошло с тех пор, и Кулак все перезабыл, а что не перезабыл, то перепутал, что не перепутал, то переврал… Но Кандид помнил многое. Не очень отчетливо и не во всех деталях, но основные эпизоды тех бесконечно далеких событий иногда — часто помимо его воли — возникали откуда-то из глубин памяти и смутными картинками проплывали перед глазами. Да, он помнил и свои многократные бессильные попытки втолковать тогда деревенским что-либо, и свою усталость и — что было очень странно — некоторое раздражение по этому поводу. Уже тогда, когда многое перемешалось у него в голове, но что-то все же стало проясняться, он вдруг отчетливо понял, что, если он никого не убедит, то уйдет из деревни один. Помнил, как они шли через Выселки, где уже началось Одержание, и было очень страшно туда идти, безумно не хотелось туда идти, но они пошли, нашли в себе силы… Им удалось тогда вытащить еще несколько мужиков и вместе уйти в лес, за ними, кажется, была какая-то погоня, потом она отстала через два дня…
Кулака надо было остановить, иначе болтовня грозила затянуться надолго.
— Хорошие у тебя светляки, — произнес Кандид, косясь на бледно-зеленый светящийся комок.
— А то как же! — крякнул Кулак. — Сам дрессировал, шерсть на носу! Сейчас так уж никто не дрессирует. Еще отец мой, помнится…
— Слушай, Кулак, — вставил Кандид поспешно, — ты мне крылаток дай, да я пойду. Дай мне крылаток, а?
Кулак умолк, пожевав губами, отставил, наконец, свой горшок, приподнялся, кряхтя, и полез куда-то в скопище шкур и мешков. Вытащил небольшой мешок, развязал, потом поднес к свету и заглянул внутрь.
— Не больно-то хорошие… — сказал он, вытаскивая одну крылатку наружу. — Но лучше все равно нет, Умник. Не та крылатка нынче пошла.
Он поднес ее к лицу, пристально рассматривая, потом расправил крыло. Крылатка даже не пискнула — по всей видимости, спала.
— Хилые они какие-то стали, — сказал Кулак. — Далеко не пролетят. А, может, шерсть на носу, и долетят… Только напутать все могут.
— Здесь не очень далеко, — сказал Кандид.
— Ты, главное. Умник, им помедленней говори, помедленней. И по-несколько раз повтори им, а то они напутают, шерсть на носу, или забудут. Хилые они нынче стали. Раньше не такие крылатки, Умник, были, помнишь, какие раньше крылатки были? А сейчас… Давно я хороших гнезд не встречал… м-да…
Он снова сунул нос в мешок.
— Три штуки хватит? — со вздохом спросил Кулак.
— Хватит, хватит… Давай.
Старик запихал крылатку обратно и отдал мешок Кандиду. Кандид привязал его на пояс. Кулак сел на свое место и стал нащупывать горшок с настойкой.
— Хочешь настойки, Молчун? — спросил Кулак, отхлебнув.
— Ну давай, — сказал Кандид. — Пойду я уже, пора мне. А ты спи.
Кандид вытащил из своего мешка фляжку, нашел настойку и наклонился над горшком. Отогнав рукой жуков, он наполнил фляжку и направился к выходу.
— Все-таки воняет у тебя тут, — сказал он Кулаку напоследок.
— А ты не нюхай, шерсть на носу! — проворчал Кулак, роняя голову на грудь. — А то один вот тоже все нюхал, нюхал, засветили ему в нос, так он больше уж не нюхает, и нюхать-то вовсе разучился, шерсть на носу…
Кандид вышел наружу и направился к своей хижине. Жена уже спала, и он, немного постояв в раздумье, решил ее не будить. Затем взял еще один мешок — побольше, в котором лежали веревки, костяные крючья и прочее снаряжение, закинул мешок за спину, сунул за пояс пару ножей, топор и вышел на улицу.
Вокруг никого не было, возле поваленного дерева вдали тоже было пусто. Кандид сел в траву и обхватил руками колени. Тут же рядом, как по мановению волшебной палочки, возник Рыжий.
— Уходишь? — спросил он.
Кандид молча кивнул.
— А завтра пойдем вместе на колотунов охотиться?
— Не знаю, — ответил он. — Наверное, завтра никакой охоты не получится.
— Почему, Умник?
— Давай подождем до завтра. Вот вернусь — и посмотрим.
— А на луну меня с собой возьмешь смотреть?
— Если захочешь — возьму… Ты почему спать не идешь?
— Неохота, — отозвался Рыжий. — Я, как безлицый, теперь стану: ни спать, ни есть не буду… У-у!..
Парень присел на корточки, ссутулился и вразвалку стал передвигаться мелкими шажками, изображая безлицего.
— Умник, — вдруг сказал он. — Интересно, а почему безлицые не спят, не едят, не пьют?..
— Кто это тебе сказал?
— Ну… все знают…
— Просто никто этого не видел, Рыжий. Потому и говорят.
— А почему говорят, если никто не видел?
Кандид открыл рот, но не нашелся, что ответить Рыжему. Тот сел на траву напротив Кандида и снова спросил:
— А еще говорят, Умник, что безлицые на деревьях живут? Там, высоко-высоко…
— Нет, в это я не верю, — сказал Кандид, вспомнив тонкие суставчатые лапы безлицых. — Чтоб жить на деревьях нужны совсем не такие… — «Конечности» чуть не сказал он — …не такие лапы.
— А где они тогда днем прячутся? — не унимался Рыжий.
— Не знаю я, Рыжий, — вздохнул Кандид. — Мы про них ничего не знаем. Только вот плохо это или хорошо?
— А я их терпеть не могу! — скривился Рыжий. — Противные они какие-то. На них смотришь: как будто они скользкие, как улитки… фу-у… И зачем это они к нам на стоянку все время приходят?..
Кандид ничего не ответил. На душе у него опять стало тревожно.
— А правда, Умник, — спросил Рыжий, — будто на месте нашей стоянки раньше деревня была? Давно… Какие-то смурные здесь жили. Смурная деревня… Правда, что тут была раньше смурная деревня?
— Может, и была. Старики говорят, что была. После Одержания в лесу много деревень исчезло.
— А потом, когда Осушение началось?.. Наверное, на Твердых землях сейчас снова деревни строят. Те, кто не боится там жить. Ты был на Твердых землях, Умник?
— Не был…
И что же это такое, подумал Кандид обеспокоенно. Он понюхал воздух и вновь уловил еле заметный запах, доносящийся откуда-то с юга. Очень ему не нравился этот запах.
— Слушай, Рыжий, — сказал он. — Ты чувствуешь какой-нибудь запах? Как-то необычно так пахнет… Раньше так не было.
Парень шумно втянул носом несколько раз.
— Вроде бы, нет никакого запаха, — пожал плечами он. — Тебе, видно, показалось, Умник. Нет никакого такого запаха… Показалось тебе, наверное.
— Не показалось, — сказал Кандид задумчиво. — Запах есть. И он мне почему-то не нравится.
Глава вторая
Когда Синяя чаща осталась далеко позади, Лохмач объявил передышку и остановил рой светляков, летевший впереди. Чуть отклонившись от пути, они выбрали более или менее свободное от зарослей место и расположились на теплом мхе возле разлапистого ягодного куста. Светляки послушно облепили его листья. Лохмач, напряженно молчавший и зыркавший глазами по сторонам все время, пока они шли мимо Синей чащи, теперь стал возвращаться в свое нормальное состояние.
— Ну, кажется, пронесло… — облегченно бухнул он, ставя мешок между ног. — Уж как я ее не люблю, эту Синюю чащу, терпеть я ее просто не могу…
— Кто это тебя ей так напугал? — сказал Сухой, вытаскивая из недр своего мешка кусок вяленого мяса. — Ничего там особенного нет, разве что синяя…
— Как же это ничего особенного? — возразил Лохмач, взмахнув руками. — Разве может быть ничего особенного, когда мимо нее идешь и со страху трясешься! Известное дело: от синей травы ничего хорошего не жди, а там, кроме травы, и кусты, и цветы, и даже некоторые деревья синие… Иду, а по спине мурашки шныряют, ноги подгибаются, думаю, того и гляди сейчас чудище какое выбежит!
— Подумаешь: синие, — сказал Сухой. — Ну и что? Чаща как чаща.
— Туда лучше не соваться, — заметил Ворчун. — Народ всякое про нее говорит. Идешь себе мимо — и иди, а туда заходить вовсе и ни к чему. А то зайдешь ты в Синюю чащу, понимаешь, да потом и не выйдешь уже обратно.
— Вранье все это про чудищ… — сказал Сухой. — Нет там никого. Пусто и все. Что же тут страшного, ничего страшного тут нет.
— Как же нет ничего страшного, — снова не согласился Лохмач, — когда мне до сих пор страшно? Уж далеко мы от нее отошли, а все равно не по себе. Мужики говорили, в этой чаще уроды появляются. Я их не видел ни разу и не хочу видеть, и в чащу эту проклятую не пойду, лучше ее подальше обходить…
Кандид вытащил из поясного мешка фляжку и отвинтил пробку.
— На, хлебни, полегчает, — сказал он и протянул фляжку Лохмачу.
Лохмач с готовностью припал губами к фляжке, но пить из нее не умел, и жидкость потекла струйками по подбородку и шее.
Ворчун выдрал пучок мха, ковырнул пальцем землю и попробовал ее на вкус.
— Ну как? — поинтересовался Сухой, жуя мясо. Ворчун пожевал губами, недовольно сплюнул под ноги, сорвал несколько бледных ягод с куста и бросил в рот.
— Не… — Он махнул рукой. — Показалось. Я и не помню, когда последний раз съедобную-то находил. Давно уже не находил съедобную. Ищешь, ищешь ее, заразу такую, и все одно не находишь. И ягоды какие-то невкусные, а вроде крупные ягоды.
Кандид тоже сорвал несколько ягод и съел. Ягоды были сытные, но совсем безвкусные, травянистые. Лохмач, вытираясь ладонью, вернул ему фляжку.
— Я вот давно у тебя хотел спросить, Умник, — сказал он, где это ты такую штуковину раздобыл? Чудная больно и не пахнет ничем. Так не бывает. Умник, чтобы вещь ничем не пахла! Никто в племени не понимает, где ты ее взял.
— Нашел, — ответил Кандид. — В лесу и нашел. Недалеко от Мертвых полян.
— Путаешь ты что-то, Умник, — усомнился Ворчун. — В лесу такие не растут, сомневаюсь я, чтоб такие в лесу росли. Если только, конечно, в Синей чаще ты ее взял, но и то сильно сомневаюсь…
— В лесу всякое бывает, — изрек Сухой. — Иногда думаешь, что так не бывает, а на самом деле — бывает. Еще и не такое бывает в лесу. В лесу, что хочешь, может вырасти.
— Да не росла она, — сказал Кандид. — Не росла, поймите. На дереве висела, высоко… Я с дерева ее снял.
— Как же она туда залезла? — пожал плечами Ворчун. — В толк, однако, не возьму, может, ты все-таки путаешь, Умник?
Кандид вздохнул и задумался на минуту, как бы это объяснить Ворчуну, что никуда бедная фляжка не залезала, что забросили ее на дерево давным-давно, а может, не забросили, а просто уронили, с вертолета, допустим, уронили… Тряхнуло машину в тот момент, когда кто-то пил в полете, и упала она вниз, и лежала себе там в ветвях неизвестно сколько времени, пока он ее на солнце не заметил…
— Я тебе, Ворчун, попозже растолкую, — сказал Кандид. — Я лучше грибов поищу.
Он поднялся, обошел кустарник, высматривая и вынюхивая в темноте грибы под деревьями, среди пышного мха и волнистой травы. Наконец, он обнаружил молодое семейство грибов за трухлявым, осклизлым бревном, спугнув при этом кого-то мелкого и юркого. Зверек выбросил гриб и стремглав исчез во мраке. Кажется, это был колотун. Грибы оказались вкусные. Кандид собрал их в охапку и вернулся.
— …опасно с ними связываться, Лохмач, — говорил тем временем Ворчун. — Ты когда-нибудь близко к Трещинам подходил? Или внутрь заглядывал? Вот это страх так страх!.. Потому как пропасть без дна там, если свалишься, так никто тебя потом уже и не вытащит, сомневаюсь я, чтоб можно было оттуда вытащить. Разве что — кучу костей. Я вниз-то глядел пару раз, думал, угляжу чего там внизу, у Трещины-то этой происходит, так ничего не углядел. В нее глядишь, глядишь, в заразу, и все одно ничего не углядишь, один там мрак, и больше уж глядеть-то не хочется. А ширина какая? Ведь ни один, понимаешь, прыгун не перепрыгнет!
Кандид свалил грибы на мох и сел. Ворчун ухватил один гриб и стал жевать.
— А ты чего не ешь, Лохмач? — спросил он. — Небось, после Синей чащи страху-то натерпелся, так проголодался? Это хорошие грибы.
— Я без бродила не люблю, — ответил Лохмач. — Не привык я — без бродила. Не потащу же я с собой горшок-то, кто ж в разведку с горшками ходит, спрашивается? Да и ни к чему здесь наедаться, нам еще топать, да Безымянное озеро переплывать, да еще на склон карабкаться… Зачем это нам наедаться, животы набивать, нам это вовсе ни к чему.
— А хуже Трещин — это, я вам скажу, Земляные дыры, — продолжил рассуждать Ворчун. — Трещину — что? Ее, коли заметил, обходи себе стороной, правда долго обходить придется, а дыры — шиш! Ты дыру-то в траве, не увидишь, маленькая она, дыра-то… Сомневаюсь я, чтоб ее увидеть можно было. Если, конечно, специально нагнуться и искать, то заметишь, а так — зазевался и провалился. Помню я, охотились мы на брюхоноса, далеко ушли, аж к Забытым болотам забрались, как уж мы туда забрались — ума не приложу. Не знали мы, что и туда уже Отвердение добралось, топаем себе и топаем, еще удивляемся: куда, понимаешь, болота-то подевались, должны быть болота с брюхоносом, иначе для чего мы туда приперлись, ежели ни брюхоноса, ни болот нет! А брюхоносу без болота никак нельзя, это все знают. Идем, значит, и удивляемся, и тут Косой как ухнет в Земляную дыру, мы понять ничего не успели! Шел себе человек, шел, и — шасть под землю! Не было б в руках у него копья, не увидели б мы больше Косого, сомневаюсь я, что мы б его увидели. Дыра, конечно, не особо широкая была, да и Косой-то не шибко толстый, вы Косого видали, разве он толстый, был бы он толстый, может, и застрял бы, а так — нет, висит на копье и орет со страху…
— Это ты складно рассказываешь, Ворчун, — проговорил Сухой. — Хорошо говоришь. Только Косой, когда рассказывал этот случай, говорил, что это ты, Ворчун, в Земляную дыру провалился. Ты, говорил он, там болтался, как сопля, значит, в ноздре, и на помощь звал.
— А ты здорово уши-то не раскрывай! — тут же взвился Ворчун. — Пораскрывали, понимаешь, уши и слушают, чего им Косой болтает! Он тебе наболтает, этот Косой, ты только успевай уши раскрыть, как он уже наболтает, знаем мы таких болтунов… Пусть он тебе лучше расскажет, как его рукоеды на дерево однажды загнали! Сомневаюсь я, что он тебе расскажет, этот Косой. Как-то, пойду, говорит Косой, рукоеда завалю, нож себе новый сделаю, и поперся, дурень, в одиночку. Сейчас, конечно, не те времена, когда подруги на нас рукоедов стаями напускали, но три рукоеда — это не шутка, даже если они не натравленные, мало что у них в башках крутится… А ежели ты еще и один с ними встретился, то лучше бы держаться подальше! Как бы они сами из твоих костей чего не понаделали. Так они, видно, и решили: понаделаем-ка из этого дурня чего-нибудь этакого, чтоб оно, понимаешь, лежало себе, не дергалось и на них, рукоедов, никогда бы уже не нападало. Косой все свои пожитки побросал, попробовал бы он их не побросать, сомневаюсь я, что он бы их не побросал, и на дерево-то сиганул. И сидит там, дерево обхватил, понимаешь, словно слепец, а сам и слова сказать не может. Ладно, рукоеды какие-то вялые попались, не стали его караулить.
— Так ведь Забытые болота, почитай, уже на Твердых землях будут, — заметил Сухой. — Ходят слухи, что можно там жить, на Твердых-то землях. Бывали там люди, вроде бы… И вроде бы животные там другие, чудные, совсем не такие, как у нас.
— Слушай, это не оттуда ли двуроги, а? — взволновался Лохмач. — Ходили мы как-то к Паучьему перелеску пауков собирать и встретили каких-то кочевников. Мужики-то мирные оказались, ваша земля, говорят, стало быть, — ваша, и дальше себе пошли. Так они рассказывали, что появились какие-то двуроги… Жуткий зверь, говорят, ему даже ревун нипочем. Против него, дескать, ни рогатины, ни копья не помогают, и панцирь — о-го-го! Самый большой топор не страшен. А как быть, спрашивается, ежели они у нас объявятся?
— Вранье все это, — уверенно заявил Ворчун. — Нет никаких двурогов, их и в глаза никто не видел. И никто на Твердые земли не ходил, кто такой смелый найдется? Сомневаюсь я, что найдется такой смелый. И про племя Хребта — тоже вранье… Ходят всякие, шастают по лесу, да по пьяни всякую ерунду сочиняют! После Освобождения много тут по лесу разных сочинителей шастает!
— Нет, мне вот что интересно, — сказал Лохмач. — Пускай мне Умник объяснит, раз он такой умный и все время что-нибудь объясняет… Вот Трещины эти проклятые с Земляными дырами, спрашивается, для чего? Прут и прут, все ближе и ближе! Что это за напасть такая, Умник? Скажи, Умник, ты же много чего знаешь, скоро совсем нас к Чертовым скалам прижмут — и что тогда?
— Не знаю, — признался Кандид. — Не могу я все знать. Что-то, видать, с лесом происходит…
— В лесу всегда что-нибудь да происходит, — пространно метил Сухой. — На то он и лес.
— А как в таком лесу жить, спрашивается? — недоуменно сказал Лохмач. — Неужели в таком лесу можно жить, если все пересохнет и затвердеет!.. Озера высыхают, еда пока добродит, ее червяки раньше съедят, звери куда-то пропадают, может, они на лучшие места уходят, только мы, как дураки, тут сидим…
— В какие это «лучшие места»? — скептически проговорил Ворчун. — Про что это ты говоришь, Лохмач? Ты про Лучший лес говоришь, что ли? Так нет никакого Лучшего леса, Лохмач, сомневаюсь я, чтоб этот Лучший лес где-то был. Болтовня все это, враки, пораскрывали, понимаешь, уши и слушают всякую болтовню.
— Как же это нет его! — встрепенулся Лохмач. — Откуда же тогда безлицые Сахар таскают, спрашивается? Именно из Лучшего леса и таскают, сами и говорят, что в Лучшем лесу этого Сахару полно и еще всего полно там, озер много и еды тоже много… И Трещины туда никогда не дойдут, потому как не пройти им через Чертовы скалы. А безлицые плохого не посоветуют, когда советовали они нам плохое, всегда помогали безлицые, разве это не так?
— Сомневаюсь я, что безлицые могут через Чертовы скалы перебираться, — сказал Ворчун. — Где им перебраться, безлицым, они даже на дерево залезть не умеют, какие еще, понимаешь, Чертовы скалы! Ты вот уши, Лохмач, развесил, а я сомневаюсь.
— А кто их знает, безлицых? — вставил Сухой. — Чего они могут, чего — нет, где обитают, почему говорят очень мало?.. У нас в войну многие думали, что они в болотах живут, — потому и скользкие такие…
— Я вот все у тебя спросить хочу, — обратился Лохмач к Сухому. — Криворот говорит, у тебя предки с Чертовых скал были, правда, что ли?
— Не знаю, может, и правда… Очень давно это было. Я ничего не помню. Но отец мой в лесу родился, и мать в лесу… Отец что-то помнил, от деда, видимо, досталось, иногда бормотал странные слова, никто его не понимал. Он в войну погиб. Сразу после Одержания, я маленький совсем был…
— А еще Криворот говорил, будто ты самого Шиша-Храбреца знал, — сказал Лохмач. — Думал я, врет Криворот, не мог, думал, Сухой его знать. Шиш-Храбрец-то аж на восточных землях воевал. Как же, спрашивается, ты мог его знать, мы по тем местам почти и не проходили. Путает, видно, Криворот.
— Так я сам из тех мест, — ответил Сухой. — Там моя деревня была, далеко отсюда, очень далеко. Вы, наверное, о ней и не слышали. Такие вот дела.
— Да как же так? — усомнился Ворчун. — Ты ведь, Сухой, к нам от Желтолоба попал, когда мы Желтолоба разбили — ты к нам и попал, потому как, куда тебе деваться-то было? А Желтолоб, он из наших мест был, и мужики его тоже местные, и все Освобождение они дальше Старых репейников да Лягушатника не вылезали. Сомневаюсь я, чтоб Желтолоб куда-то дальше выбирался, не такой он был, Желтолоб-то. Не любил далеко нос показывать, хоть и война шла, даже когда с подругами покончили — и то не любил. А как ему башку топором раскроили, так и вовсе теперь никуда не ходит, лежит в болоте, пиявок кормит.
— А ты спроси, как я к нему попал, — хмыкнул Сухой. — Спроси, как я у Желтолоба оказался, а я и отвечу. Мы ж после войны с Усачом стали с Востока сюда, в сторону Скал кочевать. Мало нас было, мужиков, тяжкая оказалась кочевка… А как на Желтолоба наткнулись, воевать с ним не стали, он бы нас перебил, неравные силы-то были у нас. А коли мужики наши были крепкие, Желтолоб нас к себе и взял.
Сухой сделал небольшую паузу, погрузившись в воспоминания, затем продолжил:
— А Шиша-Храбреца я и правда знал, почитай пол-Освобождения вместе, бок о бок прошли. За Цветочные озера вместе бились… Вот это была драка, я скажу.
— А слыхал я, слыхал! — воскликнул Лохмач. — Про Цветочные озера даже сюда молва донесла! Знатный был бой в этих самых озерах, говорят. Баб там много порезали, вроде.
— Да и наших немало полегло, — со вздохом произнес Сухой. — На этих Цветочных озерах, будь они прокляты… Там же у подруг такие силы были собраны!.. Но и мы подготовились, это да, у Шиша-Храбреца на этот счет голова работала. Все он, значит, продумал: как окружить, в какое время кому в бой ввязываться. Все равно много наших-то на Цветочных озерах погибло. Хотя и ревунов тогда уже точно не было, ни одного не было, и пчелиных роев подруги не пускали. Да, братцы, озера эти я никогда не забуду, они уж отвердели, наверное, давным-давно.
— А мертвяки там еще были? — спросил Ворчун. — Или уже тогда извелись?
— Были, но некоторые — полусонные… Мы тех, что слабые были, оттесняли от озер к болотам и там разбивали. А с нормальными мертвяками не так, м-да… Хорошо, что безлицые помогли, здорово они нам помогли, что и говорить. И расположение бабское как-то разведывали… Подруг в озерах трудно победить, это любому понятно, даже если окружить со всех сторон.
— Это мы знаем, — крякнул согласно Лохмач. — Мы с этими проклятущими озерами здесь тоже попотели. Без Дьявольской Трухи и делать нечего, это точно. И еще лучше по ночам, по ночам — это да! Ночами мы часто с ними бились. Мертвяки ночью не видят, рукоеды в озеро не полезут, а мы — топоры с копьями в руки и — на плоты, на плоты… М-да-а…
— Говорили, что тогда подруги Шиша-Храбреца поймали, то в яму к рукоедам сбросили — так они его ненавидели, — произнес Ворчун. — Вот и скажи, Сухой, неужели так и было? Я вот сомневаюсь.
— Слухи, конечно, — покачал головой Сухой. — Как же! Поймали они Шиша-Храбреца, разве такое возможно? Он герой был, что и говорить, и погиб по-геройски, в бою погиб… Заманили подруги нас в ловушку, живым почти никто не ушел. Потом мы узнали, что специально они это придумали, чтоб Шиша-Храбреца изничтожить, очень они его боялись, и слава про него далеко по лесу поползла.
— А говорили: в яму, в яму… — крякнул Ворчун. — А я сомневался, как же, говорю, в яму-то, такого бойца, как Шиш-Храбрец, — да в яму! Никак это невозможно, кишка у этих баб тонка, понимаешь. Болтают, чего не попадя…
— Скажи, Сухой, — произнес Кандид. — А ты во время войны ничего не слышал о Молчуне? Может, объявлялся в ваших краях такой?
— Молчун, говоришь… — Сухой в задумчивости почесал затылок. — Был какой-то Молчун, кажется. Один такой головастый мужик, очень хитрый… А, может, и не Молчун вовсе, не помню точно.
— И что с ним стало?
— А кто его уразумеет? Сам знаешь, сколько в войну всяких слухов по лесу бродило. Поди сейчас разберись, вспомни-ка, что тут правда, а что насочиняли сдуру. Да и мало ли в лесу молчунов…
— Ты, Умник, путаешь что-то, — сказал Ворчун. — Твой отец еще когда исчез-то? Еще в начале Затишья исчез, сколько времени-то прошло, а? Ты тогда еще и ходить-то не умел, Умник, маленький ты еще был. Если бы жив был Молчун, давно бы объявился. И Кулак все время говорил: не таков, мол. Молчун, если уцелел, то пришел бы, а Кулак его хорошо знал, вместе они с Кулаком-то были, из одной деревни. Тоже вот сказывал…
— А ну, тихо! — приказал вдруг Лохмач, привстав с места. Ворчун умолк. Лохмач напряженно понюхал воздух и прислушался.
— Хватит разговоры разговаривать, — сказал он решительно. — Идти пора. Скоро рассветет, надо успеть добраться. Сколько еще топать, Ворчун?
— Недолго, кажись… Перелесок сперва будет, потом — завалы, за завалами — лощина, а там и до Безымянного озера рукой подать. Должны успеть, Лохмач.
Они стали собираться. Кандид вспомнил о крылатках, взял мешок и пощупал. Крылатки не шевелились, спали. Он собрал горсть ягод, вырвал пучок мха, растер все в ладони и бросил в мешок. Проснутся — поедят.
— Светляков брать не будем, — сказал Лохмач. — Опасно это: со светляками сейчас идти. Ты, Ворчун, как шел впереди — так и пойдешь. После лощины никому не болтать, до лощины можно, но негромко, а потом — нельзя; ступать тихо, как обычно… Ну, в общем, сами все знаете. Что я вам буду тут рассказывать, нечего мне вам рассказывать, чай, не маленькие. Ну, пошли.
И они пошли дальше. Лес еще спал, но уже готовился к пробуждению. Что-то протяжно и глухо ухало высоко в кронах деревьев, откуда-то слева доносились редкие слабые всплески, медлительные свисты, обрывающиеся низкими чмоканьями, — там простиралось болото. Иногда какие-то невидимые ночные насекомые с шелестом или звоном пролетали вдоль их шеренги, принося то одну, то другую гамму запахов. Кто-то цепкий, колючий и ломкий хватался за одежду корявыми тонкими отростками, чьи-то незримые влажные, прохладные касания рождали в голове самые нелепые образы. Если задрать голову вверх, то можно было видеть мириады огоньков всевозможных оттенков и размеров, напоминающих звезды, — это неспящие обитатели леса пристально следили за теми, кто движется внизу.
Ворчун, шедший впереди их маленького отряда, иногда останавливался, закидывал голову, нюхая воздух, и корректировал маршрут. За ним шел Лохмач, потом — Кандид, замыкал шествие Сухой. Молча идти, конечно же, не получалось. Пока пробирались через перелесок, Ворчун с Лохмачом вполголоса бубнили, вспоминая свое недавнее боевое прошлое. А помнишь, Ворчун, кряхтел Лохмач, как мы мучались с Прыгуньей ложбиной, сколько мы за нее воевали, за проклятую? Как не помнить, Лохмач, отзывался Ворчун, как же не помнить-то? Жизни чуть не лишился, такое не забудешь, сомневаюсь я, чтоб такое можно было забыть, башку от туловища чуть не отделили, шрам, понимаешь, через все ребра, как же такое забудешь? Вот придем, сядем, я тебе покажу шрам этот, я тебе его еще разве не показывал, быть такого не может, чтоб не показывал… Что мне твой шрам, я тебе, Ворчун, сам могу много чего показать, я в таких переделках бывал, что некоторым и не снилось. Руку едва не потерял, два пальца до сих пор не сгибаются! Это, когда мы от ревунов улепетывали. Уж и не помню, где это было, рассеяли нас бабы на кучки, да по склону стали гнать… Не умели мы тогда еще толком-то воевать, не научились. По склону, помню, бежали, а склон огромный был, весь в волосатиковых норах. Чудом, можно сказать, уцелел, а другим двоим не повезло: то ли выдохлись, то ли ноги у них в норы попали — в общем, втоптали их ревуны в землю… А вот я все у тебя спросить хотел: ты, Ворчун, в Сморщенных лесах когда-нибудь воевал? А то рассказывают про них такое… Вранье это, про Сморщенные леса, разве можно было там воевать, там и ходить просто так опасно — все вокруг шевелится, аж холод по коже пробирает, — того и гляди нападет, даже земля под ногами и та, понимаешь, шевелится. Какая там может быть война, кто туда сунется? Сомневаюсь я в этом, поразвесили уши и слушают разное вранье…
Кандид глядел на смутно маячившую перед ним спину Лохмача, по которой монотонно похлопывал мешок, и постепенно отвлекся от их болтовни. Недавнее упоминание об отце снова всколыхнуло в его памяти волну воспоминаний, и они поглотили его. Память опять увлекла его в те далекие времена, в последние времена его отца, когда ему ничего не было понятно, и понимать особенно не хотелось, а хотелось лишь сопротивляться, сопротивляться, может быть, даже погибнуть, но сопротивляться… И главное: искать и найти таких же, отчаявшихся, но не сломленных. Освобождение было глубоко-глубоко в будущем, даже до громадной эпохи Затишья было не близко. Победно шествовало Одержание, слово «война» еще было в диковинку, и было неясно, что же делать с этим чувством отчаяния, решимости и непонимания, по какому пути идти, что делать и как бороться?.. Бороться с тем, что уже окончательно и надолго вступало в свои права. Он помнил, как разрозненные уцелевшие остатки тех, кто все-таки ушел из гибнущих деревень, начали объединяться в некие людские кучки. Но до боевых отрядов было еще очень далеко. Помнил, как одним из первых было объединение, когда они наткнулись на большую группу из деревни Чудаков, в которой были даже женщины с детьми. А потом, уже позже, были и охотники, были и воры… Тяжело было сменить дремотный, ленивый деревенский образ жизни на кочевой. В лесу постоянно сновали отряды мертвяков, стаи рукоедов и прочей обученной живности, в лесу становилось опасно, и пришлось уходить в болота, учиться жить в болотах, не просто жить, а выживать, прятаться в болотах, искать пищу в болотах, надолго привыкать к болотам… Из пучины воспоминаний возникла та первая, отчаянная попытка отбить у подруг деревню Жучиную. Это было уже позже, спустя многие месяцы скитаний, когда численность их отряда достигла нескольких десятков человек, а желание не то отомстить, не то показать врагу, что рано их списывать со счетов, переросло в некий смутный план по спасению деревни от Одержания. Деревня Жучиная была одной из немногих деревень, до которой подруги добрались в последнюю очередь. Попытка спасти Жучиную закончилась полным провалом — она не могла закончиться иначе. Их атаку отбили, атака, практически, сразу превратилась в бегство. Тогда они спаслись, спрятались, затаились. Первый запал не угас, они еще не поняли, против чего собирались выступить. А потом был тот страшный бой в Тростниках, который наполовину стал бойней. Бойней массовой, нелепой и во многом отрезвляющей. Разве могли наивные, обозленные, не умудренные опытом и знаниями мужики с дубинами противопоставить что-то подругам с их мертвяками, стаями зверей, роями насекомых, тучами птиц?.. Их разбили, рассеяли, уничтожили больше полотряда. Тогда, пожалуй, впервые Кандид увидел и почувствовал, что такое гибель, что такое кровь и трупы, что такое неподдельный ужас в глазах. И тогда же понял, что их ждет впереди. А ничего хорошего впереди не было, впереди были долгие-предолгие времена скитаний и кочевок, времена надежд, отчаяния и горьких раздумий, бесконечных раздумий, неизбежных раздумий…
Размышления Кандида вдруг прервались, так же как и разговоры Ворчуна с Лохмачом. Перелесок внезапно кончился, уступив место, как и было обещано, полосе завалов. Ворчун некоторое время стоял, крутя головой и всматриваясь в темноту вокруг, потом сделал рукой жест, означающий: рассредоточиться и двигаться дальше самостоятельно. Стало не до разговоров и размышлений. Сначала, почти на ощупь, пришлось пробираться сквозь чередующиеся горы узких трухлявых стволов, утопающих в высокой траве. Сверху чуть ли не до самой земли свисали пучки лиан вперемежку с какими-то мокрыми побегами и вьющимися волокнами. Приходилось за них хвататься, чтоб удержать равновесие, когда в очередной раз труха под ногами слетала, и ноги начинали скользить по древесине, или внезапно проваливались куда-то в пустоту из-за развалившегося в пыль бревна. Некоторые лианы попадались гнилые, они рвались, шумно обрушивались вниз, и надо было успеть отскочить в сторону и удержаться на ногах. При этом сверху, из мерцающей огоньками тьмы, вслед за сорванной лианой начинал сыпаться мелкий, противный древесный мусор, шлепалось и брызгало во все стороны что-то слизистое и пахучее, что-то звучно хлестало по соседним стволам и кустам. Кандид изрядно вспотел, карабкаясь с завала на завал, проваливаясь по колено в теплые кучи гниющих лиан, вся голова и шея его были в трухе и слизи, казалось, что они залезли повсюду: и в рот, и в нос, и в глаза. Мешок с крылатками он закинул на спину, чтобы случайно не передавить. Сколько времени это длилось, сказать было трудно, но ему показалось, что через завалы они пробирались целую вечность. Когда завалы кончились, Лохмач не стал делать перерыв на отдых — боялся, что они могут не успеть к озеру до рассвета. Они лишь не намного сбавили темп ходьбы.
Лес плавно пошел под уклон и заметно поредел. Пропали свисающие пучки растительности, высокая трава сменилась ковром из пружинистого мха, утыканного длинными плачущими цветами и бледными конусообразными муравьиными домами высотой в человеческий рост. Под ноги иногда попадали темные разлапистые кустики, они с хрустом ломались, и из-под обломков кто-то вспархивал, трепетал крыльями и бесследно исчезал во мраке. По ложбине шли молча. Один раз Ворчун попытался что-то сказать, но Лохмач осадил его. И этому научила война, мелькнула у Кандида мысль. Ходить по лесу молча, когда недалеко враг. А, судя по всему, территория Одноухого была уже близко.
Кандиду захотелось пить. Искать в окружающей темноте на ходу жидкость, которую можно пить, было некогда, и он достал фляжку и отхлебнул несколько глотков. Все, сказал он себе. Больше нельзя. Скоро будет озеро, там должна быть нормальная вода, хотя, кто знает… Да нет, нормальная вода, если племя Одноухого там живет и рыбу ловит. Если еще живет, отметил он. А то придем, а там никакого озера, никакого Одноухого — одни Трещины. Все может быть в наше время. Мужики ходили к Югу, за Лысую поляну, вроде видели: подходят уже Трещины, чтоб им пусто было.
Через какое-то время лощина кончилась, и они стали карабкаться по склону пригорка. Достигнув вершины, они залегли в кустах. Местность внизу была открытая, и отсюда стоянка Одноухого хорошо просматривалась в лунном свете. Луна уже начинала постепенно бледнеть, небо сменило черный окрас на темносерый — светало. Несколько минут они лежали, не шелохнувшись, в зарослях, и глядели вниз, на россыпь погруженных в сон хижин. Вдали, несколько левее пригорка, сквозь высокий тростник серебристо поблескивало Безымянное озеро.
— Туточки он, — прошептал затем Ворчун. — Никуда он не делся, сомневаюсь я, чтоб он мог куда-то деться. — Ну-ка, Умник, глянь: ничего подозрительного не видишь? Может, они нас дурят? Может, обмануть нас задумал этот гад с одним ухом?
— Стоянка как стоянка… — проговорил Кандид, внимательно осматривая площадку. — Ничего странного. Охранник носом клюет… Вон еще один… Копья возле хижин стоят… Спят они, Ворчун. Все спокойно, мне кажется.
Лохмач, шевеля губами, несколько раз пересчитал хижины на стоянке.
— Давай крылаток, Умник, — сказал он затем, — Торопиться надо.
Кандид отдал ему мешок с крылатками. Крылатки уже не спали и слабо ерзали на дне мешка.
— Двоих сразу посылай, — сказал он. — Так надежней будет, мало ли что. Помедленней только говори.
Лохмач с крылатками отполз чуть в сторону и, взяв в каждый кулак по одной, стал неторопливо диктовать им послание. Ворчун вытянул шею, разглядывая дальние подступы к стоянке.
— Со стороны Лысой поляны и впрямь лучше будет, — проговорил он. — Там их, понимаешь, с трех сторон можно оцепить, как миленьких… А хижин-то у них побольше, чем у нас, хотя, конечно, и не намного побольше, не совсем уж, скажем, побольше, а так, малость…
— Если Одноухого хорошенько окружить, — заметил Сухой, — можно было б его ночью бить. Никуда б они не делись, если окружить как следует. А так повоевать придется, у Одноухого сильные мужики в племени.
— Это они, когда проснутся, — сильные, — сказал Ворчун. — А пока спят, совсем даже не сильные. Не сильнее, понимаешь, слепца, их бы только не перебудить…
Раздались негромкие хлопки крыльев — Лохмач выпустил крылаток.
— А с этой что делать, спрашивается? — Он потряс мешком, где оставалась еще одна.
— Прибереги на всякий случай, — бросил Ворчун.
— Бесполезно, — сказал Кандид. — Захлебнется она, когда поплывем. Помрет. Домой ее отпусти.
— И то верно Умник говорит, — согласился Ворчун. — Точно захлебнется крылатка. Сомневаюсь я, чтоб она не захлебнулась. Я помню, мы реку переплывали, когда к Городу силы стягивали. Тоже понабрали, понимаешь, крылаток, лягушек пахучих, пиявок древесных полные горшки… Все передохли. Нет, не все, вроде… Лягушки не передохли, лягушки плавать умеют — не передохли они.
— Да и ни к чему нам крылатка-то, — сказал Сухой. — Зачем нам она? Мы ведь через озеро переберемся и на горе укроемся. Правильно я говорю, Лохмач?
— Ну… — замялся Лохмач. — Может, конечно, и правильно… Мы, конечно, укроемся, как нам не укрыться, заметят иначе нас, если не укроемся… Но когда Рябой на стоянку нападет, тут уж… Тут, как бы, придется, в случае чего, часть сил Одноухого на себя отвлечь. Что же это, спрашивается? Наши тут будут драться, а мы там сидеть, что ли?
— Зачем же это сидеть? — возмутился Ворчун. — Никак нельзя. Сомневаюсь я…
— Получается, что обратно озеро переплывать будем? — спросил Сухой. — Так, что ли?
— Переплывать не будем, — несколько озадаченно произнес Лохмач, — а внимание их отвлечем. Собьем их с толку. Какая-то часть их к нам кинется, с другого края стоянки, в обход озера, а мы и…
— Это какая же такая часть? — хмыкнул Сухой. — А ежели их в пять раз больше, чем нас, прибежит? Порубят нас на куски, Лохмач, всего и делов-то.
— А мы не сразу покажемся, Сухой, — сказал Лохмач. — Ни к чему нам сразу-то вылезать! Сначала Рябой пусть ударит, как Рябой ударит, так мы и покажемся. Не может их много в нашу сторону побежать. Зачем, спрашивается, их много-то побежит?
— Не знаю, что там у Рябого на уме, но мне это не нравится. — Сухой сделал паузу и добавил: — Какое-то чувство… Понимаешь, Лохмач…
Лохмач его оборвал взмахом руки.
— К озеру, — скомандовал он. — Хватит разговоры разговаривать. К озеру пошли, и очень тихо. Чтобы никаких разговоров. Ворчун, впереди иди.
Они осторожно, стараясь не шуметь, спустились с пригорка и оказались в объятиях тростниковых зарослей. Тростник был выше головы и шумел на ветру, можно было идти, не пригибаясь и не боясь быть услышанными. Почва под ногами стала мягкой и влажной. У самой воды они остановились, Ворчун опять прислушался, принюхался и определил направление. Они пристроили свои мешки на спины и тихо, один за другим, вошли в воду.
Плыть пришлось долго и тяжело. И не только потому, что они старались плескать, как можно тише, — вода оказалась сильно заросшей и изобиловала водорослями. Руки и ноги вязли, словно кто-то невидимый в темной воде хватал их при каждом движении, обволакивал, не пускал. Пахло непонятно чем, но явно не съедобным. Когда Кандид выбрался из воды на берег, то упал прямо в тростник и несколько минут лежал и переводил дух, чувствуя, как медленно возвращаются силы в онемевшие мышцы.
Этот берег зарос значительно меньше. Сразу за небольшой полосой тростника простирался пологий бугристый склон Дурман-горы. Трава на склоне была короткая, похожая на мох, с жесткими, колкими травинками. Кустарника здесь не оказалось, и, чтобы спрятаться, им нужно было ползти по склону выше, туда, где высились скрюченные редкие деревья с пышными, похожими на пену, кронами. Мокрые и усталые, они забрались по склону и, когда достигли корявых, усеянных шипами стволов деревьев, распластались на траве. Отсюда хорошо были видны и озеро, и стоянка Одноухого, и, разделявшая их поляна: большая, вся в глиняных проплешинах.
— Думал — не доплыву… — пропыхтел Лохмач. — Чуть топор не выкинул… Давненько я не плавал через такие озера. У нас разве такие озера, куда меньше… А это крупное какое, рыбы, наверное, полным-полно, на брюхоноса можно ходить…
— Не знаю, как насчет рыбы, — выдохнул Ворчун, вытирая мокрое лицо и стаскивая мешок через голову, — но запах мне не нравится. Нехороший запах. Не такой какой-то запах в этом озере, не должны так озера пахнуть. Раньше такого не было, раньше вкусно пахло.
— Раньше и воздух в лесу был не такой, — проговорил Сухой. — Душно, я помню, было… Сыро как-то… А сейчас что? Одежда сохнет быстро, мясо вялится быстро…
— А еще мне не нравится, как пахнет иногда ветер, — сказал Ворчун. — С Юга откуда-то часто дует. Его нюхаешь, нюхаешь, заразу, и все одно не нравится. И внутри как будто все настораживается.
— И ты тоже заметил? — сказал Кандид. — Он особенно ночью усиливается…
— Непонятный запах, — произнес Ворчун. — Чужой.
— Наверное, что-то меняется, — сказал Сухой. — На то он и лес. Этот меняется… климат…
— Что? — встрепенулся Кандид и удивленно уставился на Сухого. — Что ты сказал?
Сухой не ответил. Он задумчиво отжимал одежду.
— Откуда ты взял это слово? — спросил его Кандид. — «Климат» откуда взял?
Сухой не сразу пожал плечами.
— Не знаю… — пробормотал он. — Само как-то так… Я не знаю. Выплыло откуда-то… У меня часто так бывает: выползают какие-то слова, а почему, зачем — не знаю.
— Ты прямо как наш Умник, — сказал Лохмач. — У того все время непонятные слова из глотки прут… Я вот у тебя все хотел спросить, Умник, ты откуда узнал, что Сахар — это Сахар? Ты ж его так назвал! Никто вот не знал, а ты знал. Умник. Даже безлицые его так не называли, а ты, значит, увидел и сказал, что это — Сахар. Почему это, спрашивается? Ты что, его раньше встречал, что ли? Ты ж не был в Лучшем лесу, Умник, откуда ты знаешь про Сахар?
— Отец знал, — ответил Кандид. — Он его раньше видел, еще до того, как в лес попал.
— Чудно все это, — сказал Ворчун. — Сомневаюсь я, чтоб твой отец его видел. Не было тогда никакого Сахара, где это он его мог видеть? Ни безлицых не было, ни Сахара — это всем известно. Просто ты не такой, как все, Умник. Но у тебя же отец был странный, много о нем слухов-то ходило, так и ты такой же. Это дело понятное.
— А я вот еще хотел узнать, Умник, — сказал Лохмач. — Давно уже хотел узнать. Болотники, правда, твой отец придумал? А то разные про них сплетни ходили, про болотники-то…
— Отец, конечно, — сказал Кандид. — Он придумал. Хотя, не совсем так… Не то чтобы придумал… Их давно уже придумали, не здесь, не в лесу… Как тебе это объяснить? — Кандид замялся. — Отец про болотники знал. Раньше знал. Ну, вспомнил и применил… Надо же было как-то на болотах жить.
— Все равно я не понимаю, — покачал головой Ворчун. — Как в тебе это берется, Умник? Берется же откуда-то разная польза, как ты ее придумываешь? Отец твой болотники придумал, ты, значит, петли свои хитрые. Потом, понимаешь, крючья костяные на веревки привязывать. Чудно.
— Ну и сколько мы тут будем торчать? — проговорил Сухой. — Долго ведь придется торчать, пока это наши подойдут, а они ведь дольше будут идти, если со стороны Лысой поляны.
— Сидеть — не идти, — заметил Лохмач. — Сколько понадобится, столько и будем. Так Рябой приказал: сидеть, за стоянкой наблюдать, пока он знак нам не подаст. Ладно, хватит болтать, — твердо сказал он. — А то разболтались тут, как бы не засекли нас. Разбегаемся по деревьям, сидим там и ждем моего сигнала! Только бы успел Рябой вовремя подойти, хорошо бы было, если б он успел…
Стволы деревьев были усеяны шишкообразными наростами и шипами-побегами, которые вполне выдерживали тяжесть человеческого тела, так что прибегать к помощи веревочных захватов не пришлось. Кандид вскарабкался наверх, распугивая по пути жуков и муравьев, и нашел себе в переплетении ветвей удобное место. Сквозь листву было видно узкую полосу Безымянного озера, часть стоянки и соседнее дерево, на котором слегка подрагивали ветки — там устраивался Лохмач. Кандид снял мешок, закрепил его рядом, лег на живот и сразу почувствовал, что устал. Он снова был один на один с собой и лесом. Сейчас можно было какое-то время отдыхать.
Он глубоко вздохнул и закрыл глаза. Память вновь неторопливо, под шелест листвы и дуновение ветерка, под звуки просыпающегося леса потащила его глубоко в прошлое. И опять она унесла его в те времена, когда им только еще приходилось учиться жить в новых условиях, туда, где уже кончалась эпоха Одержания и начиналась другая эпоха — Затишья. И они учились, им ничего больше не оставалось, кроме как учиться и привыкать. Они учились и привыкали. Привыкали прятаться в самых непроходимых болотах и передвигаться по лесу ночью, кочевать с места на место и опасаться каждого шороха, спать на деревьях или не спать по несколько дней, привыкали охотиться и запасать вяленое мясо впрок, изготавливать веревки из лиан, а оружие из костей, жить в хижинах из шкур и палок, которые можно быстро разбирать и носить с собой, и еще ко многому и многому они привыкали… Они познали и частую смерть и жестокость, они научились ненавидеть врага, научились убивать, убивать безжалостно, потому что это был враг, научились мириться с гибелью товарищей и близких, и оплакивать их скупо, недолго, без истерик… Одержание победило везде, но — не всех. Их оставалось поначалу немного, но они были везде — разрозненные кучки не сдавшихся, затаившихся, озлобленных. Их разбросало по лесу на долгое, очень долгое время: время скитаний, случайных и редких стычек с мертвяками, время мифов, легенд и надежд на то, что когда-нибудь все вернется обратно, а это мерзкое время уйдет, сгинет, как страшный сон. Время Затишья. Они начали воспитывать детей, уже не знавших расслабленности деревенской жизни, хотя и помнивших об этом таком недавнем и одновременно таком дальнем прошлом. Кандид нашел себе в племени жену, а потом у них родился сын. Последнее из того, что у него осталось от отца, были его долгие мучительные состояния раздумья в попытках понять настоящий момент. Он был твердо уверен, что понять его необходимо, иначе никогда не понять, что их ожидает завтра. Разобраться, что же с ними произошло, чтобы знать, что с ними может произойти, а может быть, и — должно произойти. Это терзало его больше всего. Он все меньше думал о возвращении на свою настоящую родину, поскольку уже не был уверен, что ему нужно возвращаться. Да, с каждым днем он был в этом все меньше и меньше уверен… Кандид всегда сожалел, что к тому времени, когда он из маленького несмышленого пацана превратился в подростка, матери уже не было в живых, и он так никогда и не узнал, почему однажды отец собрал мешок, потрепал его по голове, шепнул что-то матери и ушел. Неизвестно куда. Один. Навсегда. А может, мать и сама не имела об этом понятия, может, не знал Молчун, как объяснить ей то, что и сам себе объяснить не мог, то, что терзало его, теребило душу, искало ответа и не находило, и, видимо, не могло найти. Может быть, для этого ему и надо было уйти, может быть, ради поиска ответа он и исчез тем ранним солнечным утром…
Кандид не заметил, как уснул, и проспал, очевидно, долго. Разбудил его тонкий вибрирующий свист яйцееда. Он открыл глаза и обнаружил, что уже рассвело. Краски леса еще не были сочны, они были слегка разбавлены и водянисты, солнце еще не поднялось над пятнистой гущей деревьев, но сереющее небо над озером уже неумолимо сглатывало звезды, и мгла исчезала, лес снимал шапку-невидимку, являя свое многоцветье, свою огромность и свою неприступность. Свист повторился. Он шел от дерева рядом — это Лохмач подавал знак.
Что-то происходило. Непредусмотренное. Кандид ощутил это каким-то шестым чувством. Что-то было не так, и надо было спускаться на землю. Он высунулся наполовину из листвы и принялся крутить головой по сторонам. То, что он увидел, и впрямь не предвещало ничего хорошего. По восточной стороне склона, простирающегося в направлении стоянки, приближались вооруженные люди. Они шли цепью, посматривая в их сторону, сжимая в руках копья, рогатины и топоры. Сколько их было, Кандид не успел сосчитать, потому что в этот момент раздались приглушенные возгласы со стороны озера. Оттуда, из зарослей тростника тоже одна за другой появлялись фигуры, только не от воды, а откуда-то сбоку. Мужики были совсем сухие, да и плотов у берега не было видно, и тогда Кандид понял со всей очевидностью, что мужики просто обогнули озеро. Их окружали, брали в кольцо, и в этом не было никакого сомнения, причем силы были явно неравные.
Медлить было губительно.
Кандид сбросил вниз мешок и прыгнул следом. Высота оказалась приличная, но это уже было не важно. Он ударился пятками о землю, но не почувствовал боли и тут же вскочил, выхватывая из-за пояса топор. Лохмач уже стоял на земле и что-то кричал вслед Ворчуну, который шел, держа в одной руке топор, а в другой нож, навстречу противникам, поднимающимся со стороны стоянки. Он, скорее всего, не видел тех других, заходивших с озера.
— Уходить надо!!! — орал где-то за спиной Сухой. — В лес надо уходить, вглубь!!! Перебьют! У них же копья!
Лохмач тоже понял, что надо бежать, что надо хотя бы выйти из оцепления, дабы их не перерезали, как колотунов в загоне. Но Ворчун ничего не слышал. Для него существовали сейчас только собственные боевые крики и собственная одержимость.
Кандид бросил взгляд на стоянку. Там тоже что-то происходило, только не было понятно — что. Среди хижин сновали фигурки, царило какое-то людское мельтешение, какая-то суета… Сухой надрывно кричал Лохмачу что-то про Рябого, про крылаток, Лохмач пятился вверх по склону, озираясь по сторонам. Кандид схватил левой рукой мешок и тоже стал отступать. Продолжал выкрикивать что-то Ворчун, сбегая вниз по склону. Мужики, наступавшие с озера, были уже совсем близко. Первым карабкался огромный косматый верзила с большущими ручищами. Такими ручищами он, наверняка, в былые времена мертвяка с одного удара разрубал, мелькнула у Кандида мысль.
— А ну-ка стойте, братцы! — угрожающе зарычал верзила. — Куда это вы, а? А идите-ка сюда, куда же вы?!
И неизвестно, что бы было дальше, но в этот миг со стороны стоянки внезапно донесся раскатистый протяжный шум, некий многоголосый возглас, похожий на замирающее «а-а-ах-х!..» Так могла кричать только толпа.
Мужики Одноухого замерли как вкопанные и одновременно повернулись к стоянке.
А там уже началось то, что должно было начаться. Стоянка быстро наполнялась бегающими вооруженными людьми, яростными воплями, бабьим визгом и всем тем, что еще присуще сражению.
Прошло еще несколько секунд, и шок, охвативший людей Одноухого, пропал.
— Ловушка! — заорал кто-то снизу. — Это же ловушка!
На лице верзилы отразились сомнение и нерешительность. Кандид увидел, как несколько человек позади верзилы помчались назад к тростнику. То же самое случилось и там, куда кинулся Ворчун. Ситуация резко изменилась. Большая часть противника решила вернуться на стоянку, на подмогу своим. Не было осады, не было окружения, были несколько недоумевающих агрессивно настроенных человек. Кроме верзилы с этой стороны остался еще один мужик. Какой получился расклад у Ворчуна, Кандиду не было видно, он только заметил, что Сухой, размахивая топором, бросился туда, к нему на подмогу. Верзила, в свою очередь, тоже принял решение.
— Ох, я с вами разберусь! — злобно крикнул он, перехватывая копье и прыгая в их сторону.
Лохмач гаркнул и метнулся ему наперерез. Кинулись друг навстречу другу тела, треснуло древко, исторглись хрипы — Лохмач и верзила сцепились, рухнули на землю и стали скатываться к озеру. Значит, этот мой, пронеслось в голове Кандида. Он, не отрываясь, глядел на второго мужика и медленно спускался. Копья у мужика не было, вместо копья он держал рогатину, топор у него висел на поясе. Так, лихорадочно соображал Кандид, сверху не нападешь, придется — под ноги, главное — блокировать рогатину, а топор достать я ему не дам. Не успеет он топор-то достать…
И тогда случилось то, чего не ожидал никто.
Земля под ногами вдруг задрожала и заходила ходуном. Мужик с рогатиной резко мотнулся в сторону и упал, выронив оружие. Кандида швырнуло на землю, он судорожно схватился за траву, попытался вскочить, но его снова свалило. Тогда он пополз по содрогающейся земле к ближайшему дереву, ничего не соображая от ужаса, отчаянно работая руками и ногами. Наконец он уткнулся в ствол и с трудом поднялся, обнимая его и широко расставляя ноги.
То, что он увидел, было страшно.
Через всю поляну с глиняными проплешинами и дальше: налево и направо — в земле распахивалась громадная зияющая щель. Словно кто-то огромный разламывал пополам гигантский горячий пирог. Щель уходила в обе стороны от поляны и стоянки Одноухого: налево — куда-то далеко за Дурман-гору, направо — через заросли тростника, мимо пригорка, мимо лощины и в глубь леса. Трещина медленно расширялась, ее жуткие рваные края расползались друг от друга все дальше, и оттуда, из самых недр земли поднимались и курились в воздухе рваные белесые клочья пара. Вода в озере неистовствовала и плясала, земля тряслась у Кандида под ногами, дерево лихорадило в руках, и повсюду распространялся удушливый, затхлый запах сырой земли.
А потом внезапно все кончилось. Кошмарная дрожь под ногами исчезла, края Трещины перестали расходиться, и только пар беззвучно клубился над этой исполинской рваной раной. Сначала Кандид стоял, боясь пошевелиться и оторваться от дерева, и потрясенно глядел на развернувшуюся внизу картину. Минуло несколько секунд тишины. Полнейшей тишины, какую Кандид еще никогда не ощущал в жизни.
И началось это. Нечто, чему не было названия, что оказалось во много раз страшнее землетрясения и никак не поддавалось пониманию. Скопище людей на стоянке, как по команде, бросилось бежать по направлению к Трещине, снося на своем пути хижины и давя друг друга. Вопли ужаса прорезали пространство, от чего Кандид похолодел еще больше. Никто уже не сражался, свои и чужие вперемешку в панике неслись прочь со стоянки. Словно кто-то или что-то гнало их с южной стороны леса, гнало прямо к Трещине, в эту огромную ужасную, уродливую пасть. И люди подбегали к ней, и срывались в нее, кто-то останавливался в замешательстве на мгновение, кто-то прыгал сразу, кого-то сталкивали напирающие сзади. Они сыпались в Трещину, будто сметаемые огромной невидимой метлой; мужчины, женщины, дети — все с криками падали вниз и исчезали в черной бездне и клубах пара. Затем Кандид увидел, наконец, тех, кто послужил всему причиной. Какие-то серые приземистые твари, появившиеся из леса, резво бежали через стоянку. Кандид ни разу в жизни не видел таких животных. Они были чуть крупнее человека, очень быстро семенили на своих коротких ногах, двигаясь плотной цепью, словно хорошо обученные муравьи. Твари стремительно бросались на отставших людей, и тогда людей нелепо подкидывало вверх, они падали на землю и уже не вставали…
Из охватившего его шока Кандида вывел пронзительный крик рядом. Он оторвался от дерева и обернулся на звук. Серые твари были уже и здесь. Несколько штук их взбегало по склону со стороны стоянки, причем бежали они ничуть не медленнее человека. За те несколько секунд, что Кандид остолбенело пялился на приближающихся тварей, он успел разглядеть их вытянутые, покрытые слизистым панцирем тела, мощный шипастый хвост и сплюснутую голову, на которой не было заметно глаз, зато очень хорошо были видны два белых, торчащих вперед и напоминающих остро заточенные колья, не то зуба, не то рога. У трех передних тварей рога были наполовину красными, и с них противно и густо капало в траву. Несколько неподвижных тел мешками лежали на земле, кто-то отчаянно мчался к лесу, кто-то надрывно и предсмертно стонал, а серые твари приближались, покачивая на бегу головами.
И тогда Кандид окончательно пришел в себя и бросился по склону вверх. Силы начали стремительно таять, и он понял, что не надо бежать вверх, зачем же он бежит вверх, бежать надо туда, к подножию горы. Только бы успеть, только бы не упасть, иначе конец, смерть… Ему стало очень страшно, он даже не оборачивался, боясь увидеть омерзительные морды за спиной. Может быть, страх придал ему силы, он все-таки умудрился спуститься со склона и бежать стало легче. По бокам расплывчатыми пятнами мелькали заросли, он на ходу перепрыгивал кусты, пни с грибными наростами, мелкие ручейки, а в мозгу одна на другую громоздились обрывки мыслей. Залезть на дерево? Нет, могу не успеть… а вдруг они тоже умеют лазить по деревьям… Или, может, прыгнуть в озеро?.. А вдруг они и плавают, вдруг не добегу… Неожиданно опора под ногами исчезла, он ничего не успел понять, он только увидел что-то черное, несущееся навстречу, затем был удар и — темнота…
Он пришел в себя оттого, что что-то прохладное и влажное тыкалось ему в щеку. Живой, подумал он, не открывая глаз. Второй была мысль о Земляной дыре. Потом он открыл глаза и увидел над собой в широком круглом проеме лес. Лес будто наклонился над ним, заглядывая в яму своими ветвями, листьями, разноцветными переплетениями, клубками лиан, бурыми гроздьями непонятно чего, клейкими нитями и еще много, много чем, ведомым лишь ему одному; Кандид лежал на чем-то большом и мягком, на расстоянии ладони от лица вверх торчал окровавленный кол толщиной с руку. Кровь на поверхности кола уже запеклась. Кандид медленно сел. Вроде бы, он был цел и невредим, только голова гудела, и на лбу набухла огромная шишка. Теперь было ясно, что он угодил в охотничью ревунью яму. Ему здорово повезло, что он свалился не на один из кольев, а на тушу ревуна, правда при этом стукнувшись головой о костяной нарост на его спине. Ревун был крупный и попался в ловушку, по всей видимости, ночью. Хорошо, хоть сдохнуть успел, а то… Ревун, он и есть ревун. Гиппоцет, вдруг вспомнил Кандид. Так он, кажется, называется по-научному. На плече Кандида примостился слепец и тыкался носом во все стороны. Кандид ощупал шишку и прислушался. Никаких подозрительных криков и шумов. Вероятно, он пролежал без сознания довольно долго, потому что солнце уже взошло. В лесу разгорался день.
Слепец жалобно пискнул и снова ткнулся ему в шею. Кандид взял его в руку и вытянул перед собой на ладони. Ты-то как сюда попал, удивленно подумал он. Сидеть в яме не имело никакого смысла. Его прикончат если не серые твари снаружи, то мужики Одноухого, которые скоро придут проверять ловушку. Если, конечно, придут. Кандид пересадил слепца на кол, и тот привычно полез вверх. Вот дурачок, подумал Кандид, думает, будто это дерево, долезет до верха, а там ничего нет…
Яма была выше его роста, он даже не доставал руками ее края. Хорошо, что в яме были веревки, их всегда кладут на дно, чтоб потом вытаскивать тушу наверх. Он обошел ревуна, нашел конец веревки, вытянул, сколько смог. Больше не получилось, веревка застряла под тушей. Но ему должно было хватить и этого. Кандид достал нож, обрезал веревку и стал искать среди веток, свалившихся в яму, подходящую для изготовления некоего подобия крюка. Дерево, конечно, — не кость, но выбора не было, все свое снаряжение он оставил на склоне горы. Когда все было готово, он взглянул на слепца. Тот сидел на вершине кола, обхватив его лапками, и беспомощно крутил головкой с выпуклыми белыми глазами. Кандиду стало жалко слепца, и он посадил его себе на плечо.
Очень долго крюк не желал ни за что цепляться. У Кандида даже заболело плечо от постоянного забрасывания веревки. Потом он, наконец, зацепился, Кандид даже не стал проверять прочность, а сразу полез вверх. Выбравшись из ямы, он осмотрелся. Серых тварей не было — это радовало. Не радовало только то, что надо было вернуться на склон. Уж очень ему это не нравилось, было страшно: вдруг твари еще не убрались, но нужно было забрать мешок, да и топор оставлять там не хотелось. Добрый был топор, острый. Кандид посадил слепца на дерево, пожелал ему удачи и тут заметил у корней что-то необычное, напоминающее большой драный кусок кожи. Он присел на корточки и взял его руки. Это действительно была кожа, только какая-то странная. Очень тонкая, землистого цвета, похожая на змеиную, но вот очертания у нее оказались непривычные. Как будто две пары ног и две пары рук имел ее обладатель, пока не сбросил. Кандид тут же вспомнил распространенный миф о безлицых и их коже. Дескать, не выносят безлицые солнечного света, и если попадает безлицый на свет, то кожу свою сбрасывает, а коли не сбросит — помрет. Вот только никто еще никогда не видел мертвого безлицего, равно как и безлицего на свету не видел… Пора было идти, Кандид выкинул кожу, поднялся и осторожно двинулся обратно. На всякий случай, он решил взять несколько выше, чтоб можно было оглядеть место с более безопасного расстояния.
Склон, на котором у них недавно завязался бой, теперь был пуст. Там, где с мужиками Одноухого сцепились Ворчун и Сухой, лежали несколько неподвижных тел. Со стороны озера, у тростника тоже темнели какие-то пятна. Больше вблизи не было никого. Ни одной живой души. Кандид не пошел туда, где дрались Ворчун и Сухой. Не хотелось ему глядеть на то, что он мог там увидеть. И хотя за время войны, а особенно за время Освобождения, он повидал всякого, сейчас ноги отказывались нести его туда. Перед глазами до сих пор стояли подбрасываемые, дергающиеся в воздухе тела на стоянке и капающая с рогов кровь. Он оглядел стоянку. Она была безлюдна, только развороченные хижины виднелись на ней да разбросанная по земле домашняя утварь, У Трещины тоже никого не было. И пар уже не поднимался из ее недр. Кандид в задумчивости постоял какое-то время, прикидывая, как ему лучше возвращаться домой. К Трещине он подойти не решался, тем более что она была довольно широка, не перепрыгнешь даже с шестом. Единственный путь был такой: обойти по берегу Безымянное озеро, переплыть его на дальнем краю, обойти этот конец Трещины через болота, а потом вернуться в перелесок. Туда Трещина наверняка не дотянулась. Болота были не особо тяжелые, пройти можно, только времени много займет, ну да что делать… Рассудив таким образом, Кандид стал спускаться к озеру.
Первым на глаза ему попался труп косматого верзилы. Он валялся недалеко от того места, где Кандид бросил мешок и топор. Одного взгляда на тело было достаточно, чтоб понять: серые твари побывали и здесь. Верзила лежал на спине, раскинув в стороны руки и ноги, вся его грудь и живот представляли собой сплошную рваную рану. Вокруг повсюду валялись страшные кровавые клочья и сгустки. Кандид подобрал свои вещи и зашагал к тростнику, стараясь на все это не смотреть. Лохмач лежал в тростнике, почти у самой воды, и было неясно, убил ли его верзила, или же он тоже стал жертвой серых тварей. Сквозь заросли было видно только его голову с лицом, застывшим в последнем смертельном оскале, плечо и руку, намертво стиснувшую тростниковые стебли. Кандид не стал приближаться к нему, постоял с минуту, вздохнул и побрел, утопая в иле, вдоль берега.
По берегу он шел долго и почти миновал озеро, как вдруг неожиданно уткнулся в заводь. Лезть в воду из-за этого не хотелось, заводь оказалась невелика, и Кандид решил обойти ее посуху. Он выбрался из тростника на траву, миновал чащобу папоротника и вышел на относительно открытое пространство. Местность оказалась сырой, под ногами хлюпало и чавкало — сказывалась близость болот, в которые этим краем упиралось Безымянное озеро.
Кандид почувствовал, что неплохо было бы сделать передышку, отыскал взглядом бревно неподалеку и сел.
И тут же увидел вездеход.
Точнее, он не сразу понял, что это вездеход. Название машины, чернеющей в зарослях неподалеку, всплыло из памяти спустя несколько секунд, в течение которых он медленно поднимался с бревна и хлопал от удивления глазами. Кандид никогда не видел вездехода, но точно знал, что это он. Не веря своим глазам, он подошел к вездеходу. Машина стояла, сильно накренившись вперед. Передние ее колеса увязли в луже, на лобовом стекле и капоте лежал внушительный клубок лиан и веток. Дверца кабины была распахнута, а в самой кабине было пусто. Кандид с опаской дотронулся до борта вездехода и заглянул в кабину. Борт был теплый, в кабине что-то попискивало, на пульте моргали индикаторы и лампочки, пахло бензином и кожей кресел. Словно потайная заслонка рухнула у Кандида в памяти, и лавиной в сознание хлынула гамма этих странных, но знакомых слов и понятий. Бензин, индикаторы, кабина…
Он стоял в недоумении и замешательстве возле пустого вездехода и не знал, что делать. Какие-то смутные чувства переполняли его, а он не мог разобраться в них, не мог понять, что же такое стронулось где-то в глубине души. Ему казалось, что это должно быть связано как-то с отцом, с его мечтами о родине и возвращении, его попытками найти в лесу хоть какие-то следы этой самой родины, хоть какие-то знаки… И вот теперь… А что же теперь? Кандид не знал — что. Он чувствовал волнение, но не понимал его причину. Словно бы он неожиданно приблизился к чему-то важному, очень важному и теперь не знал, что с этим делать. И от этого ему стало неуютно и нехорошо. Ему захотелось изгнать из сердца неясную тревогу. Он вдруг вспомнил о своем племени, о своей семье, о том, что надо торопиться на стоянку, — все эти вещи никак не вязались со стоящим перед ним вездеходом. Он был совсем из другой жизни, этот покинутый вездеход, и тогда Кандид попятился от него. Он попятился сначала медленно, затем все быстрей и быстрей, потом развернулся и зашагал к озеру, не оборачиваясь.
Когда он огибал заводь, то внезапно вышел на дорогу. Дорога оказалась бетонной, вся в трещинах, поросших травой и цветами.
Сразу было видно, что она заброшена. Кандид, не останавливаясь, проскочил каменную полосу, чтобы не дать странным чувствам вновь усилиться, и снова углубился в тростник, примыкающий к воде.
Плыть пришлось еще дольше, чем в первый раз, — озеро в этой части было шире. Но вода тут оказалась уже другая: чистая и прозрачная, не было цепких водорослей, сковывающих движения, не было ныряющих кувшинок, только водяные пауки иногда пробегали рядом, да смачные, урчащие пузыри с сидящими внутри донными мухами поднимались с глубины навстречу и вспенивали воду перед самым лицом.
Берег, как он и думал, оказался болотистым, сильно заросшим осокой, и Кандиду пришлось долго искать сухое место, где он упал, чтобы перевести дух. Он лежал на спине, раскинув руки и закрыв глаза. Сердце постепенно утихомиривало свои удары, давно проснувшиеся болотные обитатели наперебой гудели, орали, свистели рядом, а ему не хотелось вставать. Только сейчас он почувствовал в полной мере, как высосала из него силы эта ночь. Он позволил себе немного расслабиться и полежать с закрытыми глазами.
Заплыв через озеро навеял у него воспоминание из времен самого начала Освобождения. Он вспомнил одно знаменательное сражение; они дрались тогда за озеро, называвшееся Камышовым. То озеро, как и Безымянное, было очень вытянутым и узким, и им приходилось пересекать его на плотах вдоль, потому что вести атаки с берегов было трудно: берега оказались сильно заболоченными. Они тогда еще многого не умели, безлицые еще не давали им Дьявольскую Труху, не научили их ночным методам ведения боев, и приходилось рассчитывать только на свои силы. Кажется, тогда, да, именно тогда, на Камышовом озере впервые обнаружилось, что мертвяки слабеют, что они уже не обладают той силой и проворством, присущими им ранее. Племена удачно объединились тогда: к их племени примкнули и племя Губастика, и племя Шатуна. И это была первая серьезная победа над подругами. Здесь, на этих землях, в этой части леса. А в других землях были свои первые победы и свои камышовые озера, но как ни странно, примерно в одно время. Об этом свидетельствовали и молва, и крылатковая связь, и безлицые, которые, как известно, знали многое, если не все. После захвата Камышового озера Шатун подался на юг и геройствовал там — о его подвигах долго ходила молва. Жаль, не дожил он до конца Освобождения, рассказывали, что загнали подруги все его племя в болота и утопили, даже животных напускать не стали. Да, это было время сражений с переменным успехом, и до полного Освобождения было еще ой как далеко. Но, кажется, именно тогда, на Камышовом озере, когда они весь вечер залечивали раны, таскали трупы и подсчитывали потери, они стали понимать, что оно — неизбежно.
Кандид открыл глаза и сел. Пора было идти. Солнце стояло высоко, и дело близилось к полудню. Сколько он еще провозится на этих болотцах, пока выберется к перелеску? Болотца маленькие, но их впереди целая россыпь. По крайней мере, так было раньше, в те времена, когда Кандиду довелось здесь однажды побывать. Может, сейчас здесь уже не скромные болотца, а непроходимая трясина или еще что похуже. В любом случае, выбора у него не оставалось.
Глава третья
К стоянке он вышел уже во второй половине дня.
Стоянка напоминала потревоженную жучиную колонию и доживала свои последние часы. Около половины хижин было уже разобрано, тут и там торчали голые шесты, лежали груды шкур, мешки, штабели горшков и прочая утварь. Гомонили женщины, галдели детишки, сновали хмурые мужики, скручивались тюки, таскались запасы еды, распихивалось по мешкам все, что успели навялить и насушить, — в общем, царила обычная суета, присущая сворачиванию стоянки.
У поваленного дерева находились только двое: Криворот и Сухой. Появление Кандида вызвало у обоих некоторое удивление. Кандид устало стащил мешок со спины и бросил его под ноги.
— А ты живой, оказывается, Умник! — воскликнул Криворот. — Опять Косой все напутал, почему это Косой все время путает? Сам, говорит, видел, как Умника двуроги рвали! А я ему говорю, как же это ты видел, когда они с Лохмачом на том берегу озера были, напутал ты, Косой, говорю… А он все одно талдычит. А Сухой сказал: двуроги и на вашу сторону пробрались… Живой, значит, Умник. Это хорошо, что ты живой.
— Успел-таки, — вздохнул Сухой. — А я вот думал, что не успею… Они как на склон повылазили, я сразу подумал: все, конец. Потом уже понял, что мотать надо со всех ног. Ворчуну кричу, бежать, мол, надо! А он не успел, Ворчун-то, убили его эти серые… Я думал, и меня убьют. Еле до озера добежал, сил не осталось, как переплыл — не пойму…
— А Рябой? — спросил Кандид. — Не уцелел? Сколько людей осталось-то?
— Да не густо нас осталось, — проговорил Криворот. — Меньше половины от всего отряда и осталось, и то каким-то чудом… Если б не болота, они бы нас всех прикончили, ясно дело. Видать, не могут они по болотам-то ползать, а по суше уж больно здорово бегают, не убежишь от них по суше-то. А все не верили, будто двуроги существуют. Я всегда говорил: опасно тут оставаться, с Твердых земель нам гибель идет, а многие не верили! Рябой вот тоже не верил, теперь на дне Трещины лежит, червяков кормит.
— Кто теперь вожак? — сказал Кандид. — Ты, Криворот?
— Я, — сказал Криворот. — Так порешили.
— А куда уходим?
— К Чертовым скалам пойдем. Через Паучий перелесок, потом там поле будет. Но до поля сегодня не доберемся, это ясно дело. Паучий перелесок длинный, в нем ночевать придется. Там спокойно должно быть — переночуем. Хватит здесь сидеть и выжидать, пока нас кто-нибудь еще не перебьет, итак уже дождались на свою голову. Одни бабы да дети в племени остались. У Одноухого так вообще все племя, почитай, сгинуло. Ну, может, несколько человек в лес ушло, не больше… Эхе-хе…
Криворот замолчал, скривившись от боли, и пощупал левую руку, которая висела плетью и вся была в кровавых повязках.
— Болит рука-то, — посетовал он. — Все болит и болит… Даже пальцы не шевелятся, вот ведь напасть. Вот ты мне скажи, Умник, — обратился он вдруг к Кандиду. — Скажи, почему так случилось? Я вот никак понять не могу, и Сухой тоже не может понять… И безлицые не предупредили про двурогов… Что такое, Умник? Как думаешь? Может, видел ты чего с горы… Откуда эти чудовища на нашу голову свалились, кто их послал? Только я про подруг не верю, Умник, что бы там Косой ни болтал. Этот Косой всегда болтает всякую ерунду, навыдумывает и болтает потом.
— Ничего особенного я не видел, — сказал Кандид. — Вышли эти твари из леса и погнали всех к Трещине. Кого гнали, кого на ходу… А что Косой-то говорит? — спросил он.
— Про подруг все говорит, — проворчал Криворот. — Засело у него в башке про этих подруг — топором не вышибешь! Только уж сомнительно это, ясно дело, что сомнительно. He-похоже это на подруг. Да и потом, какие еще, к чертям, подруги! Сколько времени-то прошло, нет никаких подруг уже давным-давно, это всякий скажет. Откуда это они теперь возьмутся?
— Ходили же в свое время слухи, — сказал Сухой, — будто остатки подруг далеко на Востоке спрятались. Будто отсиживаются они там, ждут чего-то… Была такая… гипотеза… — Произнеся это, он как-то странно покосился на Кандида.
— Нет, не может такого быть, — замотал головой Криворот. — Давным-давно всех подруг перебили и забыли уже, как они выглядели-то. А кого не перебили, те сами передохли. И откуда они на Востоке возьмутся, сплетни только распускают… Правда ведь, Умник? Сочиняют, ясно дело, всякую ерунду!
— Это не подруги, — задумчиво сказал Кандид. — Вы озеро-то видали? Пустое совсем озеро… И пахло оно не так.
— И я то же говорю! — воскликнул Криворот. — Мертвяков нет, тумана этого их лилового нет!.. И вообще… Вы что, забыли уже, какая была война?! Сколько мы этих баб сварили в озерах, сколько в болотах перетопили?! А Подругин обрыв помнишь, Умник? Помнишь, как подружек-то целыми кучами с него сбрасывали?.. Откуда же они сейчас возьмутся? Да еще так, чтобы безлицые о них не узнали! Разве безлицых можно обмануть? Ясно дело, что нельзя. Безлицые бы сразу сказали… Это Косому почудилось со страху! Да еще из-за бабы этой странной… Она и на подругу-то и не похожа вовсе, это ж сразу видно, только Косого все равно не убедишь. Если уж в башку что втемяшил, то хоть камнем по башке тресни!..
— Какую еще бабу? — не понял Кандид.
— Косой девчонку какую-то поймал, — ответил Криворот, снова поморщившись. — Косого и еще нескольких человек Рябой к озеру послал. А потом, когда Трещина их от стоянки-то отрезала, они вдель озера побежали в сторону болот… Там возле болот и поймал ее. В кустах, говорит, сидела, от страха тряслась.
— Очень интересно, — проговорил медленно Кандид.
— Что там, спрашивается, интересного? — хмыкнул Криворот. — Сразу понятно, что она чужая. Подруги сроду такими не были, это и рукоеду ясно! Одежда непонятная, разговаривает непонятно… Сухой вон говорит, она, может, вообще не из леса… Бывает же, попадают в лес иногда странные люди. Зачем она Косому сдалась, я не пойму никак. Отпустил бы ее, так нет — потащил с собой. Что он теперь с ней делать будет? Она и слов-то наших не понимает.
Кандид почувствовал, как что-то слабо шевельнулось внутри. Легкое беспокойство волной прокатилось в груди.
— Мне только вот что непонятно, — сказал Сухой, пожав плечами. — Кто же тогда на нас двурогов послал? Может, они сами на нас напали? Так опять же непохоже на то…
— Где она? — спросил Кандид, немного волнуясь. — Где эта девчонка?
— В детской хижине, — ответил Криворот. — Косой ее туда запихал. Пусть, что хочет, то с ней и делает. Я его уговаривать не буду, Косого этого. Его, чтоб уговорить… А тебе-то что, Умник? Собираться надо, вещи собирать пора, пищу готовить… До Чертовых скал не меньше двух дней пути, никак не меньше будет.
— Я все-таки пойду на нее гляну, — сказал Кандид. Он оставил их и направился к детской хижине, одной из немногих, которая еще оставалась неразобранной.
Девчонка оказалась вполне взрослой девушкой, просто невысокого роста, очень напуганной и зареванной. Она сидела в полумраке, вжавшись в угол опустевшей хижины, смотрела на Кандида большими круглыми глазами и часто шмыгала носом. Запястья и лодыжки девушки были связаны, а лицо было перемазано засохшей болотной грязью. Кандид какое-то время стоял, не двигаясь, и молча смотрел на ее лицо, непривычно короткие светлые волосы, одеяние, состоящее из джинсов, ветровки и кроссовок, а внутри медленно нарастал комок уже знакомых ему чувств. Память быстро заполнялась чужими, но очень знакомыми понятиями и словами. Джинсы, кроссовки… Странно, но он не пытался вспомнить обозначения этих предметов — слова возникали в голове сами собой. Девушка неотрывно смотрела на Кандида, даже перестала шмыгать, — видимо, ее насторожило то, что он замер перед ней, словно истукан.
Кандид, наконец, шевельнулся и потянулся рукой к поясу. Вытащив нож, он сделал шаг в ее сторону. Девушка пронзительно взвизгнула и отпрянула назад, отчего стены хижины закачались.
— Мама!!! — вскрикнула она. — Не надо!!! Не подходи!
Кандид застыл на месте. Он понял этот чужой язык, и он даже не был уверен, что этот язык ему чужой. Он никогда не говорил на этом языке, даже с отцом, и, тем не менее, это сейчас не явилось препятствием для понимания, и это было удивительно. Да, все те слова, что иногда вырывались у него наружу на протяжении всей жизни, безусловно, принадлежали этому языку. Но он никогда не пытался говорить на нем, хотя, наверняка, смог бы. Теперь он знал, что смог бы.
— Не… бойся… — произнес он на ее языке, словно пробуя слова на вкус. — Надо разрезать… веревки…
Это произвело эффект не меньший, чем появление в его руках ножа.
— Ты кто?! — в ужасе выпалила она.
— Не надо бояться, — сказал Кандид успокоительным тоном. — Тебе не будет… плохо.
Он присел перед ней на корточки и осторожно взял ее за руку, ощущая, как сильно она дрожит всем телом.
— Кто ты такой? — повторила она с замиранием.
— Меня зовут… — Он чуть запнулся, потом сказал: — Кандид. Меня зовут Кандид, — повторил он уверенно. — А тебя?
— Лена… — тихо произнесла она, несколько успокаиваясь.
— Лена, — проговорил Кандид. — Лена. Все будет хорошо, Лена. Поверь мне… и все будет хорошо.
Он поднял ее связанные руки и перерезал веревки. Она молчала и не сопротивлялась. Затем он освободил ее ноги и убрал нож. Лена тут же стала растирать запястья и лодыжки.
— Это твой вездеход был там… у озера, возле дороги? — спросил он.
— М-мой… — быстро закивала Лена. — А ты… кто?.. Ты из… Управления?
— Я потом тебе объясню, потом… Ты есть хочешь?
— Нет… Я обратно хочу… Не хочу здесь… Мне страшно…
— Никто тебя не тронет, — сказал Кандид, заглядывая ей в глаза. — Слышишь? Я тебе обещаю. Поняла меня?
Лена мелко закивала и схватила его за руку.
— Я не хочу здесь оставаться!.. Я боюсь!.. — сбивчиво заговорила она. — Помоги мне… Мне надо обратно! Помоги мне, пожалуйста!.. Не оставляй меня одну…
— Все будет хорошо, — снова сказал Кандид. — Ты подожди меня тут. Я скоро вернусь. И ничего не бойся, ладно?
Он выпрямился. Она испуганно вскочила следом.
— Не оставляй меня… — Губы ее задрожали. — П-п-пожалуйста…
Кандид взял ее ладони в свои.
— Ты должна мне довериться, Лена, — твердо сказал он. — Я недолго, правда. Ты успокойся и жди меня. Сядь туда, где сидела, и жди. Договорились?
Она прерывисто вздохнула и беззвучно произнесла:
— Да.
Потом опустилась в свой угол и съежилась, обхватив руками колени.
Косого он нашел на северном краю стоянки, около длинной череды горшков и тюков, выставленных вдоль плетеного заграждения. Тот размахивал руками, отчаянно пытаясь доказать что-то Кривороту, стоявшему рядом с хмурым, но невозмутимым видом.
— О, Умник! — воскликнул Косой, завидев Кандида. — Очень хорошо, что ты пришел… Ты же все знаешь. Умник, скажи ты ему, что нельзя нам на Чертовы скалы-то лезть! Конец нам всем там на этих Скалах будет, ни за что нельзя туда идти…
— Ты мне уже надоел, Косой, — проговорил Криворот. — Если не хочешь, можешь с нами не идти, никто тебя силком не тащит, оставайся тут, Косой, что хочешь, то и делай. Только мы здесь не останемся, ясно дело, хватит уже нам тут оставаться, мы уже наоставались! Здесь скоро ничего кроме Трещин, не будет, можешь и ты залезть в какую-нибудь, и живи там, сколько влезет. Вместе с двурогами там живи, Косой, они, наверное, тоже в трещинах живут.
— А как полезем на Скалы, — не унимался Косой, — так в западню и попадем. Там подруги отсиживались, отсиживались, а теперь вот мстить нам решили. Как же можно прямо в лапы к ним идти? Мы по Скалам-то никогда не ползали, а они там сколько уже прячутся, они там — хозяева!.. Только, наверное, и ждут, когда мы к ним в лапы полезем, чтобы всех нас там перебить.
— Ты больше этих сказок про скальных подруг нам не рассказывай! — оборвал его Криворот. — Сколько можно эти сказки рассказывать? Сон тебе, видно, приснился, Косой, вот ты всем и рассказываешь сказки, слушать надоело… А если ты, Косой, забыл, как подруги выглядели, так пойди и спроси у тех, кто не забыл, и дурь эту из башки своей выкинь — вот что я тебе скажу!
— Конечно, столько времени прошло! — сказал Косой. — Что же тут такого, они запросто теперь по-другому могут выглядеть… Это теперь измененные подруги! Скажи, Умник, разве такого не бывает в лесу? И туман лиловый тоже не исчез, а за Скалы ушел, вместе с подругами перебрался, потому что подругам без него никак невозможно, без этого проклятого тумана…
— Это какие такие «измененные»? — прервал его Кандид. — Если ты про ту девчонку, которую у Безымянного озера поймал, говоришь, — так она не подруга. Это я точно знаю.
— Как же это не подруга?! — встрепенулся Косой. — А кто она, по-твоему, такая?!
— Она не подруга, — твердо повторил Кандид. — И спорить я с тобой не хочу. Не буду я с тобой спорить, Косой. У меня к тебе предложение: отдай мне ее. Зачем она тебе, Косой?
— Вот ничего себе! — сказал Косой. — Отдай, говорит, и все. Как же это так, Умник, я ее изловил, всю дорогу, можно сказать, на себе пер, а теперь — отдай! И с какой это такой радости, не пойму я, Умник?..
— Ну что ты с ней будешь делать? Подумай немного.
— Мое дело. Что захочу, то и сделаю. У меня с подругами личные счеты, Умник. У меня из-за них в войну…
Косой умолк с открытым ртом, уставившись на фляжку в протянутой руке Кандида.
— Возьми, — сказал Кандид. — А девчонку мне отдай.
Косой сглотнул, не сводя взгляда с фляжки, блестевшей на солнце. Настроение у него менялось на глазах. Даже Криворот стал, покряхтывая, переминаться с ноги на ногу.
— Договорились? — спросил Кандид. — Зачем тебе девчонка.
Косой выхватил из рук Кандида фляжку и прижал к груди обеими руками.
— Ни к чему она мне… — торопливо забормотал он. — Бери ее, конечно, Умник… Что я с ней, правда, делать-то буду? На Чертовы скалы, что ли, с собой потащу?.. Мне, Умник, разве жалко? Твоя девчонка, забирай ее хоть сейчас! А мне… надо собрать кое-что…
Он попятился, продолжая прижимать фляжку, словно боясь, что Кандид передумает и заберет ее обратно.
— Ты хоть знаешь, как ей пользоваться? — вслед ему крикнул Кандид.
Но Косой не ответил, он стремительно удалялся на середину стоянки.
— Что это ты удумал? — спросил Криворот Кандида. — Зачем тебе девчонка?
— Хочу помочь ей вернуться, — ответил Кандид. — Туда, откуда она пришла.
— Не понимаю я тебя, Умник, — покачал головой Криворот. — Бросил бы ее тут и все. Какая польза с ней возиться?
— Она попала в беду, Криворот. Она погибнет в лесу, понимаешь? Я должен помочь ей вернуться.
— Значит, ты не идешь с нами к Чертовым скалам?
— Значит, не иду.
— А как же ты попадешь к Безымянному озеру, Умник? — с сомнением сказал Криворот. — Через Трещину не перелетишь, ясно дело. Может, она еще длиннее стала за это время, а? А вдруг до самых болот разошлась, разве не боишься? А двуроги… Сгинете вы, Умник, не ходил бы ты к озеру, зачем это тебе к озеру идти?..
— Мы по другому пути пойдем, — сказал Кандид. — Мы через Шипящие болота проберемся, крюк придется делать большой, зато Трещину обойдем, и Безымянное озеро обойдем… Я подумал, Криворот. Должно получиться.
— Шипящие болота… — недоверчиво произнес Криворот, качая головой. — Там очень трудно пройти, Умник. Да и заблудиться запросто, коли дороги не знать. Ты же не был никогда на Шипящих болотах. Потонете вы там, Умник, ясно дело, потонете…
— Не потонем, — уверенно сказал Кандид. — Мой отец бывал на этих болотах.
— Так то твой отец! Это ж когда было… Тебя и не было тогда еще.
— Ну и что? Я все равно помню.
— Чудной ты все-таки, Умник, — со вздохом сказал Криворот. — Очень ты странный, я тебе скажу. И думаешь больно уж много, зачем это ты так много думаешь, Умник? Тут дела делать не успеваешь, а ты — думаешь. И память у тебя больно чудная, как это ты, Умник, все помнить умудряешься? Я, к примеру, память своего отца утратил, когда еще пацаном был, сейчас уж из его жизни вообще ничего не помню…
— Я помню, — сказал Кандид. — И думаю, что через болота мы пройдем.
— Ну, а потом? — спросил Криворот. — Потом, после озера?
— А потом теми же болотами можно и к полю выбраться. Если что, я вас потом на поле перехвачу. Вы ведь к полю пойдете, Криворот?
— К полю-то оно к полю… — произнес Криворот, косясь на Кандида. — Через Паучий перелесок, к полю и пойдем… Сухого вот уже с разведкой вперед выслал. Только вот что. Умник…замялся он. — Ты это… Точно вернешься?
Наступила пауза.
— Не знаю, — честно признался Кандид и тоже вздохнул. — Я пока еще не знаю. Не могу понять.
— Я ведь почему спросил, — сказал Криворот, — я потому спросил, Умник, что я твоего отца знал, когда маленьким был… И Кулак много рассказывал про него, а Кулак его хорошо знал, Молчуна-то… Так твой отец вот тоже все чего-то хотел найти, куда-то уйти из леса, все у него мысли такие странные в голове болтались… Так и ушел потом, а куда ушел, никто и не знает. Вот я и гляжу: ты, как Молчун, такой же странный. Коли решил уйти, то — не переубедишь. Тоже возьмешь да уйдешь: может, отца разыскивать, может, еще куда… Жалко, конечно, если ты не вернешься к нам, плохо без тебя станет, кто его знает, что нас ждет на Скалах и за ними? С тобой, Умник, куда легче бы было…
— Еще ничего не решено, Криворот, — проговорил задумчиво Кандид. — До озера доберемся, а там видно будет.
— Ну, ступай, — сказал Криворот. — Послезавтра мы к полю должны выйти. Ежели что — успевай. А там, как получится… Только здесь оставаться нельзя, никак нельзя здесь больше оставаться. Хочется нормальной жизни, устали все. Сколько можно улитками, да вялеными пауками питаться? Еще и запах этот противный надоел. Как дело к ночи, так начинается…
— Прощай, Криворот, — сказал Кандид, хлопая его по здоровой руке. — Кто знает, может еще увидимся.
Он развернулся и пошел разыскивать жену. Не успел он далеко отойти, как его окликнул Рыжий.
— Умник… — Рыжий подбежал к нему и остановился в нерешительности. — Ты это… В общем, ты… Возьми меня с собой, а?
Заметив на лице Кандида некоторое удивление, Рыжий пояснил:
— Я там рядом был… В кустах сидел… Можно, я с тобой пойду, Умник?
Кандид помолчал, потом сказал:
— Не выдумывай. Зачем тебе со мной идти? Я и сам-то не знаю, Рыжий, для чего иду.
— Возьми меня с собой, Умник! — выдохнул Рыжий, и в глазах его блеснул огонек. — Я с тобой хочу, я не хочу с Криворотом! Не хочу я на Чертовы скалы! Там ничего хорошего нет, на этих Скалах, я это чую!..
— А, может, и я потом пойду к Скалам, — сказал Кандид, пристально взглянув на Рыжего. — Вот схожу до озера и — к Скалам.
— Ну и что! — ничуть не смущаясь, выпалил Рыжий. — Если ты пойдешь, то и я пойду! Я хочу с тобой, Умник! Тебе лучше со мной будет, правда… Я тебя через Шипящие болота проведу, ты не пройдешь там один, Умник, а я чувствую, где опасно, и дорогу чувствую…
Кандид молчал в нерешительности.
— Я ведь все равно за тобой увяжусь, — упрямо продолжил парень. — Сзади пойду и все!.. Возьми меня с собой, Умник.
Кандид думал еще с минуту, и когда Рыжий в очередной раз открыл было рот, произнес:
— Тогда быстро собирайся. Выходим прямо сейчас. Хорошо было б до темноты успеть к озеру.
Рыжему не надо было повторять дважды — он тут же вприпрыжку умчался.
Жену Кандид нашел на месте бывшей хижины Кулака. Вместе с другими женщинами она возилась с упаковкой запасов еды и обширного хозяйства Кулака. От самой хижины остались только связка шестов и тюки шкур, плотно перетянутые веревками. Содержимое хижины занимало немало места, и все это необходимо было рассортировать, рассовать, растолкать, увязать, распределить между людьми. Распоряжался всеми действиями, разумеется, Кулак. Здесь же среди женщин и грузов сновали дети.
Жена увидела его, медленно поднялась, потом подбежала и обняла. Он погладил ее по голове.
— Живой, — произнесла она, уткнувшись ему в грудь. — Хорошо, что ты живой, Умник… А то Сухой говорил, будто бы…
— Да это ж Умник! — воскликнул Кулак, вскакивая с тюка. — Я еще думаю, шерсть на носу, Умник это идет или не Умник? И чего это Косой болтает, чего не знает, а?! Ох, я этого Косого за его болтовню головой в землю когда-нибудь воткну! Один вот тоже болтал, болтал чего не попадя, так его головой в землю-то воткнули, и не болтает он после того, ни в земле не болтает, шерсть на носу, ни на воздухе… Здорово, Умник! Я ж говорил, что Умник не пропадет, на то он и Умник, шерсть на носу!
— Повезло мне, Кулак, — сказал Кандид. — Просто-напросто повезло.
— А Криворот сказал к Чертовым скалам уходить, — сказала жена. — Рябой погиб, теперь у нас Криворота вожаком выбрали. А он сразу сказал: за Скалы, мол, пойдем, как безлицые советуют…
— Я знаю, знаю, — сказал Кандид.
— Ой, как хорошо, Умник, что ты живой оказался, — торопливо заговорила жена. — А то у нас мало, кто живой остался, очень мало… А ты знаешь, говорят, за Скалами, в том лесу никакой войны нету, и там можно не кочевать. Понастроить деревень, как раньше, давным-давно, и жить себе, и еду выращивать прямо возле домов… Вот бы хорошо было!
— До этих Чертовых скал еще надо дойти, — прокряхтел Кулак. — Сначала до них дойти, шерсть на носу, потом через них… Вот я даже не знаю, как Криворот собрался на эти самые Скалы карабкаться! Это ж какие веревки надо иметь, шерсть на носу, и какие крючья!
— А, может быть, правду говорят про Безносого? — проговорила жена мечтательно. — Может, правда, он со своим племенем перебрался за Скалы? Или в Скалах жить они остались… Говорят, там, в Скалах, много пещер, можно даже прямо в пещерах жить и никуда в лес не спускаться.
— Не было никакого Безносого! — проворчал Кулак, — Сплетни одни только, шерсть на носу! И про Безносого, шерсть на носу, и про его племя. Хрипатый вот был, это точно. Тоже все хотел за Скалы податься… Только это давно было, шерсть на носу, еще во времена Затишья это было. Пошел себе, значит, этот Хрипатый к Скалам, хоть ему и говорили: не ходи ты, шерсть на носу, к этим Скалам. Не послушал, пошел с несколькими мужиками, да напоролся где-то по пути на мертвяков. Ну, ему кишки-то на рогатину намотали, шерсть на носу, и ему намотали, и мужикам его тоже, и больше-то уж они к Скалам никогда не ползали.
— Мне болотники нужны, Кулак, — сказал Кандид. — Три пары. Найди получше.
— Зачем тебе болотники? — удивилась жена. — Мы не через болота идем, мы через Паучий перелесок, потом по полю, там нет никаких болот, Умник. Зачем тебе болотники?
— Я не пойду с вами через перелесок, — произнес Кандид после некоторой паузы. — Я возвращаюсь через Шипящие болота к Безымянному озеру.
— Это еще зачем? — воскликнула она. — Зачем это тебе опять к Безымянному озеру? Ты чего это выдумал, Умник?! Один раз тебя чуть не убили на этом озере, так ты снова — туда!
— Так нужно, — произнес он твердо. — Потом я догоню вас на поле, понимаешь? Я схожу к озеру и по болотам вернусь прямо к полю. Ничего со мной не случится.
Кулак, что-то бормоча, полез перебирать мешки в поисках болотников.
Жена молчала. Он тоже молчал. Он не стал говорить ей «наверное, вернусь», он сказал «вернусь». Так было лучше и спокойнее. И для нее, и для него самого.
Возле его ноги, что-то лопоча, появилась дочка. Он взял ее на руки. Дочка стала теребить его за ухо, потом обняла за шею и притихла.
Какое-то время они стояли и молчали, а Кандид думал: действительно, зачем я иду к этому самому озеру? Я не понимаю, для чего иду, но знаю, что обязательно пойду. И не только потому, что хочу спасти Лену, хотя и ее ведь можно не спасать, совсем не обязательно ее спасать. Но только я и это знаю точно. То, что не смогу не помочь ей, никак не смогу. Может быть, там, на озере что-то прояснится, и я пойму, зачем я туда пришел? Что движет мной? Мои ли собственные желания, или растревоженные чувства отца, доставшиеся мне по наследству? А, может, и то и другое одновременно, может, их уже нельзя разделять, может быть, это одно целое, и всегда было именно одним целым?
И тогда он вдруг со всей отчетливостью понял, как схож, просто невообразимо схож этот сегодняшний день с тем далеким, бесконечно далеким ранним утром, когда отец, не объясняя ничего никому, даже им, своим самым близким людям: жене и сынишке, — просто попрощался — и ушел в неизвестность. Так же как сегодня, он в то утро не знал ответов на свои вопросы. И так же как сегодня, он понял тогда, что будет их искать во что бы то ни стало.
Глава четвертая
Идти было трудно. Сухие участки под ногами не попадались уже давно, и за каждым шагом приходилось следить особо. Мокрые, вязкие кочки сменялись коварными топляками, то и дело норовившими ускользнуть из-под ног, выбросив вверх вонючую грязь. Часто приходилось останавливаться, втыкать шест в трясину и очищать разбухшие болотники от налипшей тины, водорослей и бурой слизи. Переплетения лиан здесь в редких местах доставали до поверхности, и рассчитывать надо было только на шест и собственные силы. Лес над Шипящими болотами сомкнулся плотной темной пеленой, солнечные лучи почти не пробивались сквозь густую массивную завесу, отчего вокруг царил душный сырой полумрак. Болота полностью оправдывали свое название. Они буквально кишели протяжными шипящими звуками самых разных тональностей, долетавших до слуха с самых разных направлений. Создавалось впечатление, что звуки — это загадочные живые существа, стремительно летающие над трясиной и слева направо, и снизу вверх. Ш-ш-ш-и-х-х… Они то уходили вертикально вверх буквально из-под ног и терялись в вышине, в оранжево-зеленой массе. Ш-ш-ш-и-х-х… То проносились горизонтально, многократно отражались, меняли направления и таяли вдали. А то вдруг начинали суматошно и хаотически пронзать пространство под разными углами, с разной громкостью, словно кто-то неожиданно устраивал между собой перестрелку из ракетниц с невидимыми ракетами. Ш-ш-ш-и-х-х… Ш-ш-ш-и-х-х… Ш-ш-ш-и-х-х…
Первое время Лена сильно пугалась этих летающих звуков, но потом привыкла и сейчас уже даже не вздрагивала, только иногда замирала, опершись о шест, и оборачивалась назад, в сторону Кандида. Силы уходили немалые, а привалов Кандид решил не делать. Времени у них было очень мало, продвигались они медленно, и перспектива заночевать на болотах Кандиду не улыбалась. Рыжий шел первым, каким-то невероятным и необъяснимым чутьем выбирая путь. Кандид не вмешивался. Периодически Лена сверялась по своему наручному компасу, и парень ни разу не подвел. Сначала Кандид опасался, что Лена не выдержит этого перехода. Ей было тяжело, но она держалась, даже не пикнула ни разу, хоть и оступалась, проваливалась в вязкую жижу, с которой не справлялись болотники, и Кандиду постоянно приходилось помогать ей выкарабкиваться из грязи. Она только молча хваталась за протянутый шест, поднималась, смахивала со лба рукой слипшиеся волосы и двигалась дальше. Одежда ее уже давно приобрела однотонный бурый цвет. Они шли молча, здесь было совсем не до разговоров, если не считать их редких перекрикиваиий с Рыжим, маячившим впереди.
Все, что он успел узнать о Лене, она сбивчиво поведала ему в тот непродолжительный отрезок времени, когда они шли со стоянки через засохший ручей, через овраг, затем через камыши к Шипящим болотам. Она рассказала ему, как ехала по дороге на вездеходе, как земля под колесами вдруг начала трястись и приборы в кабине не успевали реагировать, а она и вовсе растерялась, как какие-то жуткие, приземистые серые тени замелькали где-то впереди, и ей стало очень страшно, потом тряхнуло еще сильнее, ей почудилось, будто дерево выпрыгнуло на дорогу, затем что-то тяжелое свалилось сверху прямо на лобовое стекло, и тогда она запаниковала, стала кричать и лихорадочно крутить баранку, вездеход рвануло куда-то вбок, он накренился, сошел с дороги и въехал в какую-то лужу. Но ей было уже не до того, ей стало очень страшно, ужас обуял ее настолько, что она забыла и про рацию и про оружие, выскочила из кабины и помчалась сквозь заросли, куда глаза глядят, и неслась до тех пор, пока перед ней не возникло озеро. Тогда она забилась в тростники и сидела там, трясясь и плача. Сколько времени она пряталась на берегу, Лена не знала. Кончилось все тем, что появились вооруженные люди, очень злые и тоже напуганные. Она подумала, что ее сейчас убьют, стала кричать, пыталась жестами им что-то растолковать, но они, конечно, ничего не понимали, да они и не стремились ее понять. Ей связали руки и потащили за собой, а она выбивалась из сил и все боялась, что упадет и тогда они ее прирежут или бросят, неизвестно где…
Навстречу прогудел рой разномастных насекомых, летевший медленно и низко, лавируя между снопами прозрачных серебристых нитей то тут, то там спускающихся сверху в трясину. Рой миновал Кандида, обдав его волной сладкого, приторного запаха. Он тут же вспомнил их переход через Сонные болота. Это было в самый разгар Освобождения. От их многочисленного отряда тогда осталось чуть больше половины. Они отступали, и путь был один — через Сонные болота. Они плелись, как могли, вдыхали сладкий дурманящий воздух, который был там повсюду, боролись со сном, резали себе кожу на пальцах, чтоб не уснуть, но это плохо помогало, и многие засыпали прямо на ходу. Потом тонули, так и не просыпаясь…
Как только выйдем из болот, подумал Кандид, обязательно сделаем привал. Хоть ненадолго, но сделаем. Но не раньше, никак не раньше. Глядя на спину Лены перед собой, он опять подумал о подругах. Он очень часто, на протяжении долгого времени после Освобождения думал на эту тему. И так никогда и не приходил к четкому ответу. Почему же они победили подруг в этой войне? Спустя большое количество лет эпохи Затишья, они вдруг поднялись на борьбу и победили. Конечно, если бы не безлицые, если бы не быстрый регресс мертвяков и их последующее исчезновение, если бы не еще много факторов… Но вот что заставило эти факторы действовать? Почему началось Осушение, куда девалась способность подруг управлять ордами насекомых и хищников, почему пропал лиловый туман? Почему? Куда? Зачем?.. В памяти снова возникли обрывочные картинки одного из финальных сражений — битвы за Город. Да это, собственно, уже была не битва — это была бойня… Он очень часто во сне видел эти страшные сцены и никогда не принимал их, противился им, но вычеркнуть их из памяти не мог. При всем желании он не мог этого забыть, он помнил, как среди пара скользили плоты по чистой глади озера, как развязывались мешки с Дьявольской Трухой и синеватый порошок густыми струями высыпался в воду, как коричнево-сине вспенивалась после этого вода, бурлила и клокотала, и вкусный запах еды сменялся горячей гнилостной вонью, как прорезала воздух многоголосица тонких отчаянных криков, как всплывали жуткие разбухшие тела в желтых мешковатых одеждах и багровых пузырях на коже, как кто-то из подруг пытался выплыть, но им не давали, а тех, кто успел, встречали на берегу, с воплями поднимали на копья и сбрасывали обратно в этот ад, в кипящую воду, которая очень быстро густела, как кисель, затем твердела и подергивалась дымящейся серо-коричневой пленкой…
Они все-таки вышли из Шипящих болот, изможденные и падающие с ног, вышли, когда день уже клонился к закату. Болота кончились как-то внезапно, резко оборвались, перешли сначала в полосу сырого полосатого мха, затем почва под ногами перестала проваливаться, по бокам потянулась череда низких ломких кустиков, а впереди среди высокой травы замелькали просветы.
Отдохнуть они устроились на маленькой опушке, у подножия горбатого дерева. Перед ними чернели заросли диких горшков, что находилось за ними, было непонятно, но болота, похоже, им больше не грозили. По крайней мере, Рыжий не чуял их. Можно было со спокойной душой развязать веревки на ногах и снять тяжелые, разбухшие от грязи болотники.
Кандид нашел на стволе горбатого дерева подходящий нарост и просверлил ножом маленькую дырочку. Брызнула струйка сока, и, пока она не иссякла, они напились. Сок горчил, зато хорошо утолял жажду. Потом Кандид и Рыжий поели, Лена же наотрез отказалась есть то, что они ей предлагали из своих запасов. Тогда Рыжий сказал, что поищет где-нибудь рядом грибы или ягоды и пропал.
Лена легла на спину и спросила:
— Долго еще идти?
— Теперь уже нет, — ответил Кандид. — Если впереди, конечно, никаких сюрпризов не будет. А то, знаешь, в лесу всякое бывает…
— Знаю, — сказала Лена. — Теперь еще как знаю. Спрашивали же меня, зачем тебе в лес, зачем? Вот дура упертая… Да, знаешь, надоело в Управлении три месяца сидеть, скука замучила!.. Нет, ты представляешь, — сказал она, качая головой, ведь сама ходила этот вездеход выбивала, бензин выпрашивала, сама! Одну-то начальство отпускать не хотело, так ведь уговорила же… Господи, говорю, я же мигом, быстренько по дороге проедусь, посмотрю хоть на лес живьем, может, пробы возьму… А то, мол, как так: приехать сюда с Материка и изучать лес по видеоархивам и документам. Вот и проехалась, нате… Сама себе проблем на шею наскребла! Боже ты мой…
— А ты кто? — спросил Кандид.
— Биолог, — ответила она. — Диссертацию пишу, чтоб ей пусто было… Ой! — встрепенулась она. — Я тут разболталась: диссертация, биолог… А ты хоть знаешь такие слова? Извини, конечно…
— Мне кажется, что знаю, — сказал Кандид. — Я не уверен, но мне кажется, если я захочу, то вспомню очень многое. Как там, когда я твой вездеход увидел.
— Самое глупое то, — сказала Лена со вздохом, — что меня никто не сможет спасти… Вездеход был единственный, и тот после ремонта, второй только вчера на Материк ушел. А грузовики по дороге не пройдут — там завалы жуткие. Вертолеты, вроде, есть, так опять же летчиков не осталось в Управе. Представляешь, какой бред? Нет ни одного летчика — все слиняли, причем давно!..
— Все будет хорошо, — сказал Кандид. — Найдем мы твой вездеход.
И тут у него в воображении неожиданно возникла чудовищная картинка: расползающаяся Трещина под днищем вездехода, она становится все шире, шире, и машина, наконец, беспомощно срывается вниз, во мрак… Кандид тут же прогнал это видение прочь. Ни к чему об этом думать.
— Там кто-то есть… — вдруг шепотом произнесла Лена и схватила Кандида за руку.
Она уже не лежала — она сидела и настороженно глядела в заросли диких горшков. Там и впрямь кто-то был. Кандид заметил легкое покачивание черных стеблей.
— Не бойся, — тихо сказал он. — Это какое-то животное. Сейчас посмотрим.
Вытащив на всякий случай топор, он поднялся и медленно двинулся к кустам. Когда до них остался один шаг, из переплетения колючих побегов и жестких мясистых листьев, нависавших над землей, донеслись странные щелкающие звуки. Кандид замер. Звуки были очень необычные, он никогда прежде не слышал таких звуков. Или ему казалось, что не слышал. Щелчки повторились. Теперь он мог бы даже сказать, что звук имеет металлический оттенок. Кусты снова колыхнулись, и горшки глухо застукали друг о друга. Тогда Кандид присел, протянул вперед руку и раздвинул листья.
Это было не животное. Он даже сначала не смог понять, что это за тускло-серое существо, напоминающее не то черепаху, не то краба, не то гигантского жука. Оно притаилось, прижавшись плоским, круглым телом к траве и не шевелилось. Оно заметило Кандида.
— Лена… — негромко позвал он. — Иди посмотри…
Услышав голос, существо с тихим механическим жужжанием приподняло свой корпус, и Кандид увидел у него по бокам какието сочленения, похожие на спицы, маленькие колесики между ними и две хрупкие, коротенькие антенны наверху. Вернее, полторы антенны — одна была обломана.
— Господи, — прошептала за спиной бесшумно подошедшая Лена. — Это же машинка!
Существо опять шевельнулось и издало несколько щелчков.
— Откуда она здесь? — недоуменно проговорила Лена. — Как интересно, слушай…
Кандид почувствовал, как в глубине души что-то смутно заерзало. Второй раз за сегодняшний день.
— Погоди-ка, — сказал он, пытаясь уловить ускользающую мысль.
Позади раздался шорох, и на опушку выскочил Рыжий.
— Нашел! — выкрикнул он, подбегая к ним. — Это вкусные грибы, Умник! У нас таких давно не встречается. А вы это чего…
От крика Рыжего машинка встрепенулась как ужаленная, развернулась и, жужжа, стремительно сиганула в глубь зарослей. Лена ойкнула.
— Держи ее! — выпалил Кандид первое, что пришло в голову. — За ней!
Они бросились в погоню, вломясь в непролазный кустарник и плохо различая, куда бежать. Да и бежать-то было почти невозможно. Шипы и колючки хватали за одежду, лезли в лицо, ноги все время путались в длинных, вьющихся корневищах, горшки то и дело стукали по голове, все хрустело, трещало и сочно лопалось вокруг. Постоянно приходилось останавливаться и замирать, чтобы различить отдаленное жужжание. «Туда! — попеременно орали они на разных языках. — Вон она!.. Здесь, сюда!» Они так и не поймали машинку, хоть в очередной раз и выбились из сил. Погоня прекратилась, когда кустарники кончились и троица выскочила на открытое сухое пространство.
Они стояли, замерев; ровная травянистая поляна простиралась перед ними под вечереющим небом, машинка улепетывала все дальше и дальше, оставляя за собой борозду в траве, а они стояли и хлопали глазами.
Перед ними на дальнем конце поляны находилась биостанция.
Кандид понял это сразу. Несмотря на то, что здание биостанции покосилось и здорово заросло зеленью. И Лена сразу узнала ее, завороженно глядя на заброшенное строение, в котором, по всей видимости, уже очень давно властвовал лес. Рыжий, конечно, ничего не понимал, но, тем не менее, зрелище было для него в диковинку. Когда первая волна удивления схлынула, они, не сговариваясь, мгновенно забыв о машинке, зашагали к биостанции.
Несколько раз по дороге в траве попались Земляные дыры, и Лена едва не провалилась в одну из них, увлеченная разглядыванием биостанции. В другую чуть не угодил Кандид, и тогда они насторожились и пошли медленнее, внимательно поглядывая на траву под ногами.
Чем ближе они подходили к строению, тем явственней Кандид ощущал, что уже бывал здесь, неоднократно бывал в той, своей прошлой жизни. Он помнил, что здесь был и забор и ворота, от которых теперь не осталось и следа. Остатки веранды были густо покрыты всевозможной растительностью, да и веранда почти не угадывалась в этом месиве. Здание было сильно накренено и ушло под землю до самых подоконников первого этажа. Стены давно утратили свой родной цвет, они были покрыты цветущим, желто-зеленым покрывалом, расползающимся вверх до самой крыши. Не было ни дверей, ни стекол в окнах первого этажа, и наглая желто-зеленая масса, словно щупальца осьминога, просочилась, проползла в черные пустые проемы, потом, извиваясь, проникла все дальше, все глубже, во внутренние помещения. Лес пожирал биостанцию, он заглатывал ее, опутывал ее своими сетями, давил и уничтожал. Медленно, безжалостно, уверенно.
Еще одну Земляную дыру Рыжий обнаружил у самой биостанции, возле того места, где когда-то было крыльцо. Они сгрудились возле входа, напоминавшего теперь больше дупло дерева.
— Что-нибудь чуешь? — спросил Кандид у Рыжего.
Парень повел носом, потом неторопливо засунул голову в проход.
— Опасности, кажется, нет, — сказал он затем.
— Или ты ее просто не чувствуешь?
— Так не бывает, — сказал Рыжий. — Я бы почуял, но… Что-то не то…
Он замялся, возможно, не знал, как выразить словами свои ощущения.
— Что, Рыжий? — сказал Кандид.
— Не знаю, — сказал Рыжий. — Пока не знаю.
— Я много слышала про эту биостанцию, — сказала Лена. — И документацию читала. Ее, наверное, уж лет пять назад бросили. Вот уж не думала, что сюда попаду…
— Ну что, полезли? — спросил Кандид.
Рыжий молча кивнул и первым скрылся в проеме. Они последовали за ним.
Внутри было темно, душно и мрачно. Пол под ногами скользил, повсюду попадались пучки зеленой массы, какие-то влажные мохнатые побеги то тут, то там пересекали путь, свисали по стенам, с потолков, обвивались вокруг дверных косяков, углов и предметов обстановки. Все вокруг было покрыто сыростью, плесенью, грибницей и мхом. Солнечный свет почти не пробивался сквозь заросшие окна, да и к тому же близился вечер.
Они пробрались в помещение столовой. Лена бухнулась на стул и вытянула ноги.
— Кандид, миленький… — сказала она жалостно. — Я жутко устала. Давай переночуем здесь, а?
Это было резонно. Неизвестно, успеют ли они к озеру до заката, но если и успеют, то ночевать придется в вездеходе. А уйти с биостанции, даже не осмотрев ее, он не мог. Вот не мог почему-то и все. Какое-то второе нутро, проснувшееся в нем, не разрешало ему этого сделать.
— Хорошо, — сказал Кандид и тоже сел на стул. — Останемся до утра.
Они некоторое время сидели и отдыхали. Рыжий, поскольку не понимал их разговоры, бродил по столовой и исследовал все, что мог исследовать. Кандиду в очередной раз пришла мысль о том, что Рыжий сильно отличается от большинства кочевников их племени. Никто из них не стал бы прикасаться к этим незнакомым вещам, тем более — сделанным из металла и пластика. Просто побоялись бы и все. А Рыжий вот не боится, ему интересно.
— Есть охота жутко, — проговорила Лена устало. — Только не надо мне ваших грибов… Слушай, а, может, тут что-то осталось из запасов? Давай поищем!
Кандид согласился, и они стали бродить по столовой, сдирать зелень со шкафов и тумбочек, открывать дверцы и заглядывать в темные углы. Они могли надеяться только на консервы, герметичные стеклянные банки или пластиковые пакеты. Но ничего такого они не обнаружили, только нашли кухонную посуду и столовые приборы. Больше всего Кандид обрадовался, когда ему попался кухонный нож. Нож был из добротной стали, с пластиковой рукояткой. Кандид показал Рыжему, как таким ножом можно отсечь побег толщиной в руку, и это вызвало у парня бурю восторга.
Потом они вышли из столовой и стали обследовать другие помещения. На улице становилось темнее с каждой минутой. Они нашли две лаборатории, но заходить в них не стали. Кандид вдруг вспомнил, что на биостанции должен был быть склад, они принялись искать склад, наконец нашли его совсем недалеко от столовой, но дверь оказалась заперта. Попытки Кандида высадить ее не увенчались успехом.
— Должны быть ключи от склада, — пробормотал он, потирая плечо. — Как вот их найти-то в такой темноте?
— Вспомни, пожалуйста, вспомни, — умоляюще говорила Лена.
И он пытался вспомнить, но ничего не получалось. Чем больше он ходил по биостанции и прикасался к предметам, тем больше в памяти вскрывалось потаенных пластов. Они переворачивались, обнажались, наезжали друг на друга, вызывая в мозгу неразбериху, кашу и путаницу. Ему даже стало казаться, что он не выдержит такого наплыва информации, воспоминаний и прозрений, что голова лопнет вот-вот…
Потом Лене пришла в голову гениальная идея о том, что ключи от склада совсем не обязательно должны храниться где-то в служебных помещениях — они вполне свободно могут находиться где-нибудь наверху, в бытовых комнатах. Они тут же устремились к лестнице на второй этаж, оскальзываясь, поднялись наверх и стали обыскивать все комнаты. Когда они нашли ключи в прикроватной тумбочке одной из комнат, стало уже совсем темно. К складу спускались впотьмах, на ощупь.
Разумеется, большей частью запасы продовольствия оказались безнадежно испорченными. Какие-то промокшие сгнившие упаковки разваливались в руках, попадались пачки соли и муки, давно превратившиеся в камни. Но, тем не менее, они поживились несколькими банками каких-то консервов и парой бутылок вина. В непродовольственной части склада не нашлось ничего полезного, кроме фонаря. По счастью, упаковка его оказалась герметичной. С замиранием сердца Кандид включил фонарь, боясь, что батареи давно уже разряжены, но ему повезло. Свет был тусклым, и все-таки он был, и когда слабый луч прорезал темноту склада, Лена радостно захлопала в ладоши, а Рыжий испуганно отскочил в сторону, запнулся и грохнулся на пол.
Потом они сидели в столовой, погруженной во мрак, пили вино, ели тушеную говядину и говорили. Рыжий сначала сидел рядом, не прикасаясь ни к вину, ни к тушенке, потом как-то незаметно исчез. Они даже не заметили — когда. Усталость и вино делали свое дело, их разморило, хотелось болтать, вспоминать, делиться впечатлениями. И они делились, рассказывали друг другу о себе и своей жизни, поражались услышанному, сомневались, пытались сопоставить одно с другим, иногда не понимали смысла, пускались в воспоминания… Кандиду казалось, что он никогда в своей жизни так много не говорил. По крайней мере, с тех пор, как попал в лес.
Господи, неужели у вас были такие жуткие войны, ахала Лена. Вот ведь о чем надо писать диссертацию!.. Но почему я ничего не встречала об этом в архивах? А, может, это было уже после того, как свернули все темы, после того, как прекратили наблюдение за лесом? Разве это возможно, недоумевал Кандид, чтоб перестали исследовать лес? Так не бывает. Правильно, никто и не думал, что это возможно, еще пять лет назад это никому и в голову бы не пришло! А потом лес вдруг начал меняться, очень резко. Климат стал сухой, болота исчезали, просто высыхали на корню, земля начала трескаться… Ты бы видел эти аэрофотосъемки! Такие разломы громадные, просто кошмар… Дороги портятся, карты ни к черту не годятся. С лесом же явно что-то серьезное происходит — все это прекрасно понимают, но никто ничего не делает. Такое было впечатление, будто взяли и плюнули на все работы! Столько тем свернули, и каких тем, а!.. Представляешь, десятилетиями здесь возиться и плюнуть! Значит, не только лес стал меняться, сказал Кандид задумчиво, значит, и Материк изменился. Конечно, изменился, отвечала она, еще как изменился! Они там проворовались, а Управление теперь расхлебывай. Года четыре назад финансирования, можно сказать, вообще не стало — кого в таких условиях лес-то волнует? Руководство меняется каждый год, никто в Управлении не задерживается, его и так уже несколько раз закрыть хотели. Представляешь, столько денег вбухали сначала, а теперь наука никого не интересует, теперь, что хотите тут, то и делайте… У нас, знаешь, кто остался? Администрация, несколько десятков фанатиков-энтузиастов, которые не за эту долбаную зарплату, а за идею работают, да еще горстка практикантов. Ну, я еще, дура набитая, туда приперлась, решила сгонять по-шустрому до лесу, ха-ха-ха… Сейчас сижу тут, как идиотка… Господи, как хочется вымыться, ты бы знал!.. Голова — просто ужас, грязина такая жуткая… Слушай, Кандид, а поехали со мной, а! Зачем тебе здесь торчать-то? Раз уж у тебя корни нашенские, возвращайся… Давай, а? Поедешь?.. Не знаю, тихо ответил он. Я еще не решил. Это не так просто решить, Лена, пойми. И не так просто объяснить решение, даже себе… Но ты подумай, Кандид, подумай! Зачем тебе здесь мучиться, жить в лесу, в дикарских условиях, воюете еще постоянно!.. Да нет, ответил он, я не мучаюсь — я просто живу здесь, и воюем мы теперь не все время, а так… Но все равно же воюете! Разве это нормально? Что это за жизнь такая?.. Тебе сколько лет, Кандид? На вид-то никак не меньше тридцати… Да я не знаю, пожал плечами он, понятия не имею. Слушай, а расскажи мне еще о вашей жизни, попросила она. Это так интересно, расскажи, пожалуйста, вдруг мне потом пригодится… И он стал ей рассказывать еще и еще. Он вспоминал и Затишье, и Освобождение, и последующие годы не то мира, не то войны, он говорил, говорил, не дожидаясь вопросов с ее стороны, и слова лились сами собой, словно давно ждали этой минуты, а она не перебивала его, молчала и слушала, облокотившись о стол, а он все продолжал и продолжал говорить, пока внезапно не обнаружил, что Лена спит, уронив голову на руки.
Тогда он бережно поднял ее и понес на второй этаж. Она даже не пошевелилась — спала как убитая. Он положил ее на кровать в одной из комнат на втором этаже и расчистил пространство вокруг от прокравшейся вездесущей зелени, чтоб не мешала. В комнате еще сохранилось стекло, и, подойдя к окну, Кандид заметил, что на небе появилась луна. Опять непонятная тревога закралась ему в душу. Что-то металось в нем и никак не находило выхода. Отец мечтал найти эту биостанцию, подумал он. Но он так и не нашел ее, а я — здесь. И что с того, что я здесь? Что изменилось? Что, в конце концов, должно измениться, и должно ли вообще?
Кандид спустился вниз и позвал Рыжего. Парень не отозвался. Кандид, светя фонарем, прошел в одну из лабораторий. Свет луны почти не попадал сюда сквозь то, что осталось от окон, сгладываемых лесом, только в одном месте серебристые лунные лучи струились на замшелый подоконник. Кандид вытянул руку с фонарем перед собой, заскользил лучом по лаборатории, выхватывая из темноты стойки с аппаратурой, навесные шкафы с многочисленными склянками, длинные, узкие столы со стоящими и лежащими на них приборами, химическую посуду, стопки папок, мониторы, стеллажи… Мертвая лаборатория на мертвой биостанции. Много-много лет сюда не заглядывал никто, кроме леса. Хрустя под ногами невидимыми ветками, Кандид зашагал вдоль столов. Он касался приборов и думал о том, что когда-то умел со всем этим обращаться, когда-то знал, для чего все это нужно. Когда-то, когда-то… Потом он стал разглядывать стопку тяжелых папок. Наверное, это были какие-то отчеты. Бумага отсырела и сгнила, а листы разваливались в пальцах. Одна из папок оказалась завернутой в полиэтилен и сохранилась значительно лучше других, хотя и туда пробралась влага. Он осторожно раскрыл папку и стал переворачивать подколотые в нее листы с таблицами, громоздкими схемами, формулами, длиннющими описаниями, какими-то графиками. Иногда прилагались фотографии, некоторые листы были датированы, кое-где встречались приписки от руки. Надо было экономить ничтожные остатки энергозапасов батареи, и Кандид, выключив фонарь, сел с папкой на подоконник, под свет луны.
Он проглядел последние страницы, читая заголовки. Они ничего ему не говорили, да он и не стремился что-то понять, он делал это машинально, сам не зная, для чего. В конце папки он обнаружил несколько не подколотых, а просто вложенных листов не то доклада, не то рапорта. Там был только печатный текст и ничего более. На первом листе, в левом верхнем углу стояла размашистая виза: «Э. Стояновой. Ознакомиться». Во многих местах текст был обширно испорчен сыростью и временем, но некоторые куски удавалось прочесть. Первый лист, включая заголовок и фамилию автора, был нечитабелен, только в конце страницы Кандиду удалось прочесть: «…выражали сомнение относительно наличия у них разума в той степени, в которой мы это подразумеваем. Конечно, в определенной мере, это спорный вопрос, тем более, что самые первые исследования не дали какого-либо вразумительного ответа. Тем не менее, уже сейчас мы можем утверждать, что имеем дело если не с разумной расой, то, по крайней мере, с высокоорганизованными животными. Те, кто утверждает, что мы ничего не знаем о природе распространения их популяций, просто-напросто ленятся или намеренно не желают знакомиться с материалами последних наблюдений. Разумеется, при существующих возможностях, при наших нынешних технических и материальных средствах не приходится говорить не только о полномасштабном, но даже о мало-мальски серьезном исследовании этой темы. Не выдерживают никакой критики…»
Интересно, подумал мельком Кандид. Так, так… На следующей странице другой уцелевший кусок гласил:
«В настоящий момент можно считать доказанным тот факт, что возникновение и стремительная эволюция (хотя, что, в данном случае, понимать под эволюцией?) этих существ тесным образом связана с глобальными изменениями климата, а также геомагнитной обстановки в лесу. Если говорить конкретней, то — с распространением тектонических разломов в южной и северной частях леса. Мы здесь снова сталкиваемся с совершенно новой формой существования. Вполне допустимо, что питание они себе находят там же, где живут. Конечно, ведение ночного образа жизни не является чем-то исключительным и сенсационным даже для высокоорганизованных существ, но то, что длительное воздействие света и воды губительны для них, — это предмет для самого пристального изучения. Никто до сих пор так и не предложил, к примеру, мало-мальски приемлемое объяснение тому, зачем эти существа прорывают километровые ходы на поверхность. Живя глубоко под землей, они, тем не менее, появляются снаружи, но причины этого нам непонятны. Если усматривать в их существовании наличие раз…»
Черт возьми, подумал ошарашенно Кандид. Ведь это же безлицые! О них же идет речь, о них!.. Он поднес к глазам очередной лист.
«… например, в работах Квентина Севильского. С самого начала он довольно смело взялся утверждать, что мы являемся свидетелями своеобразной болезни леса, некой эпидемии, развивающейся по не понятым нами законам. Или, как пишет он: „Если перед нами не эпидемия, то — побочный эффект эволюции леса“. Утверждение более чем спорное. Слишком уж масштабные явления мы наблюдаем, чтоб называть их побочными эффектами. Спрашивается, а что же тогда в настоящий момент есть сама эволюция? Севильский уходит от ответа на этот вопрос, как, впрочем, и не отвечает: а что же нам в таком случае делать? Что следует предпринять в ответ на эту экспансию, и надо ли вообще принимать какие-то меры? Надо отметить, что, как только речь заходит…»
Кандид почувствовал поднимающееся волнение. Он стал снова и снова перелистывать страницы доклада, но там мало что еще можно было понять, кроме обрывочных словосочетаний. Конец текста вообще оказался утерян, только последняя из существующих страниц оказалась целиком разборчива.
«… имеем дело с целой сетью, если угодно, с системой подземных коммуникаций. Те выходы, которые мы наблюдаем на поверхности, есть лишь малая часть того, что скрыто от наших глаз. Причем поражает масштабность и продолжительность этих тоннелей. Они свободно ухитряются прорывать их под болотами и реками, но этот момент не удивителен, поскольку они вынуждены держаться от воды подальше. В последнее время распространяется мнение, что подземные тоннели служат для этих существ лишь средством коммуникаций и ничем более, а обитают они в совершенно других местах, из чего следует вывод, что где-то под землей должны существовать некие подобия огромных нор или чего-нибудь в этом духе. Например, Л. Губер и его группа считают наиболее вероятным местом их обитания сами тектонические разломы в почве. Мы думаем, что гипотеза, безусловно, заслуживает внимания, но пока такие выводы делать преждевременно. Причем Губер идет дальше: он не только уверен в том, что существа живут в разломах, но и утверждает, будто сами разломы являются следами, результатами их целенаправленной разумной деятельности. По его мнению, они полностью управляют этим процессом и такими факторами, как направленность, протяженность и количество разломов, и, дескать, ни один разлом не возник случайно. Таким образом, в результате мы имеем дело с некой непостижимой пока для нас и невиданной по масштабам экспансией. К сожалению, каких-либо серьезных доказательств этой гипотезы группа Губера предоставить не смогла. Однако, с другой стороны, ни для кого не являются секретом данные воздушных наблюдений последних месяцев. Если проанализировать карту разломов на юге и севере и тенденции в их расположении по отношению друг к другу, то можно обнаружить интересные геометрические…»
Кандид отложил папку. Странное предчувствие охватило его. Словно он был на самой грани понимания чего-то. Чего-то очень важного. Оно было здесь рядом, недалеко. Не хватало самой малости, чтобы его ухватить. Мысли бессвязно роились и мешали друг другу. Нужно было спокойно сесть и подумать, подумать, еще раз подумать. Разложить все по полочкам, вспомнить, увязать… И тогда все встанет на свои места, должно встать на свои места!
Он слез с подоконника и стал впотьмах расхаживать по лаборатории. Думай, говорил он себе, ну-ка, думай! Ничего не получалось. Надо было пересилить волнение, успокоиться и размышлять неторопливо.
— Умник!.. — вдруг раздался приглушенный голос Рыжего. — Ты здесь?
— Здесь, — отозвался Кандид. — Ты чего?
Рыжий возник перед ним из темноты. Лицо его было сосредоточенным, взгляд насторожен.
— Ты чего? — снова спросил Кандид.
— Здесь кто-то есть, — проговорил парень шепотом. — Рядом…
Он махнул рукой куда-то в сторону соседней лаборатории, в которую они так и не заглянули.
— Кто здесь может, быть. Рыжий?
— Не знаю. Сначала не было. Теперь есть.
— Тебе это не понравилось тогда у входа? — спросил Кандид, прислушиваясь.
— Угу, — сказал Рыжий. — Но я еще не знал в тот раз… Умник, кто там, а? Оттуда еще иногда звуки слышно. Будто тукает кто-то топором…
— Идем глянем, — произнес Кандид, беря фонарь. — Только тихо.
Стараясь ступать бесшумно, они прокрались в соседнюю лабораторию. Но совсем бесшумно это сделать оказалось невозможно — торчащая со всех сторон и мешающая на каждом шагу растительность не позволяла остаться незамеченными. Слабый стук прекратился, как только они приблизились ко входу в лабораторию. Их обнаружили, и скрываться не имело смысла.
Они ворвались в лабораторию, и Кандид стал полосовать тьму лучом фонаря. Возможно, ему пришлось бы делать это дольше, если бы из дальнего угла комнаты не донесся низкий шипящий звук. Кандид молниеносно перевел свет в этот угол, и они увидели безлицего.
Он отчаянно зашипел, пытаясь закрыться от падающего света своими тонкими суставчатыми лапами. Еще один безлицый испуганно шарахнулся в сторону и отполз на метр. По ровной, темной, шишкообразной голове первого безлицего пробежала легкая рябь, и в передней части образовалась дыра с трепещущими рваными краями.
— У-у-бе-ри-и!.. — хрипящим, булькающим голосом произнес безлицый. — Убе-е-р-ри-и это-о…
Кандид опустил фонарь и погасил луч. Он даже не знал, что сказать им. Вопросы крутились в мозгу, вытесняя друг друга.
— А откуда… — начал было он и осекся.
— Умник, — проговорил сзади Рыжий, — ну их! Пойдем отсюда! Зачем нам эти безлицые нужны, пойдем отсюда…
— Зачем вы… здесь? — спросил Кандид. — Зачем?
Безлицый молчал. Второй тоже замер неразличимым комком на полу. Кандид почувствовал себя в дурацком положении. Надо было или уходить, или о чем-то спрашивать. Но о чем можно было спрашивать безлицых? Они сроду не отличались разговорчивостью, тем более что произношение слов давалось им с большим трудом. Между собой они умудрялись общаться без звука.
— Я даже не знаю… — пробормотал Кандид. — Нет, а как вы сюда…
— За-а-щ-щ-щем спра-а-ш-ш-шиваеш-шь?.. — зашипел безлицый, и до Кандида докатилась волна затхлого земляного запаха. — За-а-щ-щ-щем?
Действительно, зачем, подумал Кандид.
— Нет, ну… я не знаю… — сказал он. — Непонятно…
— Мы ух-х-хо-о-одим… — выдохнул безлицый.
Оба безлицых зашевелились, и Кандид по шороху понял, что они пробираются к окну. В последний момент он не удержался, включил фонарь и успел увидеть, как их неуклюжие, неприспособленные к ходьбе тела карабкаются на подоконник и исчезают в сплетениях волокон и листьев.
— Рыжий, а чего им надо-то было? — пожал плечами Кандид.
Но Рыжего уже не было в лаборатории.
Кандид посветил в угол, где находились безлицые, и луч выхватил из темноты внушительных размеров холщовый мешок. Видимо, что-то из складских запасов, может, мука, подумал Кандид, но почему здесь? Бок мешка был разорван почти по всей длине, обнажая содержимое не то белого, не то серого цвета. Кандид подошел к мешку, слегка пнул его окаменевший бок ногой и присел. И мгновенно понял, что находится перед ним. Понял еще до того, как поражение поднял с пола маленький отколотый кусочек и попробовал его на вкус.
— Вот тебе и раз!.. — выдохнул он и сел на пол. — Сахар…
Он посветил под ноги, где среди крошек валялись различные металлические предметы из лаборатории, которыми безлицые откалывали сахар, и позвал;
— Рыжий!
Ответа не последовало.
Кандид поднялся.
— Вот тебе и раз, — снова пробормотал он. — Вот тебе и Лучший лес. Это же надо!
В течение нескольких минут он топтался возле мешка с сахаром, повторяя: «Это ж надо! Вот тебе и раз…» Затем в задумчивости побрел к оконному проему, в котором скрылись безлицые. На улице ничего не было видно, только, как всегда, доносились звуки ночного леса. Он перешел к окну на противоположной стене.
Здесь была заметна луна. Несколько минут он смотрел на нее, и всякого рода мысли постепенно охватывали его. Это могло затянуться надолго, если бы из задумчивости его не вывел внезапно появившийся Рыжий.
— Опять на луну смотришь! — выдохнул он. — А я знаешь, что узнал, Умник?!
— Что? — спросил Кандид отстраненно.
— Я сразу за безлицыми следить стал, как они ушли отсюда, — заговорил Рыжий возбужденно. — И выследил, как они сюда добираются, и как обратно уходят!.. Знаешь, как? Сказать?
— Знаю, — обронил Кандид. — Через Земляные дыры.
— Точно… — опешил Рыжий. — А как ты…
— А еще я знаю, откуда безлицые берут сахар, — вздохнул Кандид. — Вон в том углу, где они сидели…
Рыжий издал восторженное улюлюканье и упрыгал в угол, к сахарному мешку. Некоторое время оттуда доносилось его довольное сопение.
— Не люблю я этих безлицых, — донеслось затем из угла. — Сам не знаю — почему… Какие-то они, противные. Или, нет… Не так даже. Опасные, что ли… Как их увижу, так внутри аж нехорошо делается. Умник, а, правда некоторые говорят, будто безлицые — это бывшие мертвяки? Или, что они как-то с уродами связаны? Врут, наверное, опять…
— Ты лучше спать ложись, — сказал Кандид озабоченно. — Поздно уже. А то с утра сразу пойдем, поэтому выспаться надо обязательно.
Рыжий не ответил — опять завозился возле мешка. Не знаю, как ему, подумал Кандид, а мне вряд ли удастся выспаться. Он снова повернулся к луне. Она завораживала его, она притягивала его, она запускала в него свои невидимые щупальца, и он покорно стоял и глядел на яркий диск сквозь листья, и думал, думал, думал… Думал о безлицых, об их непонятном вранье и их неоценимой помощи, об их странной сущности, странном образе жизни и непонятных целях. Об огромном количестве мифов, гуляющих вокруг безлицых. И еще думал о сегодняшнем ужасе на Безымянном озере, о Трещине, поглотившей людей, о двурогах и Чертовых скалах. И почему-то ему казалось, что все эти вещи и события чем-то объединены, вот только он никак не мог понять — чем.
Глава пятая
— Дальше мы не пройдем, — уныло сказал Рыжий.
Он пристально всматривался в туманное серое пространство впереди и переминался с ноги на ногу. Обширная, унылая, непроходимая топь простиралась перед ними. Кое-где над темной маслянистой жижей лениво клубился желтый туман, изредка из недр топи на поверхность с сочным звуком, похожим на чудовищную отрыжку, всплывали пузыри, жижа пенилась, вверх брызгали фонтаны грязи, затем все на время успокаивалось. Пахло горечью. И еще стояла непривычная для леса тишина.
— Не пройдем, — повторил Рыжий так, словно вынес окончательный приговор.
Кандид и сам понял, что им не пробраться через топь. Место было гиблое, здесь ни болотники, ни плоты не спасут. Во время войны они нередко загоняли вражеские отряды в такие вот топи. Они знали, что там — верная смерть. Значит, лес все-таки выкинул фортель, тоскливо подумал Кандид. Выходит, не обошлось без сюрпризов? Не зря я опасался, не зря. Обидно было, что до Безымянного озера было рукой подать, несколько минут ходьбы по прямой… Если бы не проклятая топь.
— И что же… теперь?.. — дрогнувшим голосом произнесла Лена. — Что мы теперь будем делать?
Кандид молчал. Рыжий стоял, не шелохнувшись, и нюхал воздух.
— Как мы теперь? — Лена заглянула Кандиду в лицо, и он увидел в ее глазах слезы. — Что же мы… Столько шли, шли!.. Что, теперь обратно, что ли, а? А зачем мы обратно… И что потом?.. Господи…
Она обессиленно опустилась на колени в мох и уткнулась ладонями в лицо. Кандид напряженно размышлял. Неужели ничего нельзя придумать? Неужели придется возвращаться тем же путем, делать такой огромный крюк?
— Господи, ну почему?.. — проговорила она, всхлипывая, и плечи ее затряслись. — Почему я такая невезучая? Ну почему, а?..
— Лена, — сказал Кандид, — не плачь, пожалуйста. Мне надо… подумать.
— А что тут думать… что тут думать?! — не отнимая рук от лица, выпалила она. — Что тут можно придумать? Говорили мне, дуре, не ходи в лес одна, это же лес! Мамочки, какая же я дурочка! Какая дурочка…
— Умник, — Рыжий повернул к нему озабоченное лицо. — Я не знаю, что делать. Здесь же рядом, понимаешь, рядом! Прямо за этой топью озеро, прямо за ней! Откуда она тут взялась, лужа эта вонючая, не знал я, что она тут будет…
Лена перестала причитать, она свернулась калачиком и тихо хныкала.
— Может, придумаешь чего, Умник? — с тоской сказал Рыжий. — Придумай, неужели не придумаешь? У тебя же получается…
Кандид промолчал, на несколько минут воцарилось молчание, только Лена иногда шмыгала носом. Потом Кандид глубоко вздохнул и сказал:
— Есть одна мысль.
Он сказал это Рыжему, Лена не поняла, она лишь приподняла заплаканное лицо и взглянула на Кандида.
— Земляные дыры, — произнес Кандид, глядя на Рыжего.
Парень переваривал идею несколько секунд, после чего на его хмуром лице появились оттенки сомнения и заинтересованности.
— Должен быть ход под топью, — задумчиво сказал Кандид. — И под Шипящими болотами тоже должны быть ходы. Иначе откуда они сюда попадают? Видел, сколько дыр нам в чаще, по дороге сюда, встретилось? Не на болотах же безлицые живут, в конце концов…
— А пролезем? — с сомнением сказал Рыжий. — Или вдруг заблудимся? Там же полная темень, Умник! Как мы дорогу под землей найдем? Я не смогу под землей ничего учуять, никак не смогу. У меня там чутье не сработает, я знаю, там же безлицыми все пахнет, не могу я их запах выносить, и самих их выносить не могу, безлицых этих… А если они нам по пути попадутся?
— Если попадутся, то посторонятся, — сказал Кандид. — Мы их очень попросим. Мне кажется, Рыжий, все должно получиться. Ты послушай…
Он, как мог, попытался растолковать Рыжему, что они должны пролезть по этим чертовым ходам, что не могут они быть такими узкими — как-то ведь безлицые в этих ходах разворачиваются, а безлицые не настолько уж и тощие. Что, разумеется, придется все лишнее оставить, а брать только необходимое, что все равно там, в глубине, должны быть ответвления и повороты, и разные дыры и ходы, наверняка, где-то соединяются между собой. Что ориентироваться они будут по компасу Лены, а светить будут фонарем, и никакой безлицый близко к ним не подползет, если они начнут светить, что он, Кандид, уверен в том, что существуют те ходы, которые ведут в сторону стоянки Одноухого и Безымянного озера, в сторону Трещины, только надо эти ходы найти. И они должны их найти, обязательно должны их найти! И уж если там, под землей, выяснится, что дело гиблое, то вернуться никогда не поздно. Но попробовать, во всяком случае, стоит.
Рыжий выслушал план Кандида молча, не перебивая. В итоге неуверенности на его лице заметно поубавилось. Решимости, однако, на нем тоже не возникло, но сопротивляться он не стал. После этого Кандид изложил идею Лене. Да, конечно, ей было страшно лезть под землю, ей ужасно не хотелось этого делать, но с помощью Кандида она все-таки взяла себя в руки.
Они вернулись назад, в чащу, из которой вышли к топи, и около получаса бродили по ней, выискивая Земляные дыры среди подрагивающих бугров мягкой волокнистой травы, среди порослей диких злаков и россыпей грибных цветов. Учуяв пришельцев, цветы замирали, потом с хлопком выбрасывали в воздух фонтаны грибных спор. Стоял едкий, щекочущий ноздри запах. Вскоре они обнаружили дыру и сгрудились возле нее, поочередно заглядывая в черный зев, из которого тянуло затхлостью и сыростью. Отверстие казалось достаточно широким, но было понятно, что это еще ничего не значит.
Кандид и Рыжий сбросили мешки и обмотались вокруг поясов веревками. С собой решили брать только крючья и ножи. Немного поразмыслив, Кандид все-таки закрепил себе на спине топор — на всякий случай. Кухонный нож он отдал Рыжему — тот должен был двигаться последним и, по возможности, прислушиваться и принюхиваться. Потом он снял у Лены компас, одел его себе на руку и, повесив фонарь на шею, опустился на живот перед дырой. Сомнений у него не было. Что бы там ни произошло, подумал он, пусть нам сопутствует удача.
— Ну что, — сказал он. — Поехали!
И скользнул в темноту.
В тоннеле было слегка прохладно. После почти вертикального входа тоннель плавно изгибался, постепенно принимая горизонтальное положение. Впереди, насколько хватало света, были видны рыхлые, осыпающиеся стенки с торчащими корешками самой различной величины. Ход, без сомнения, полого уходил вглубь. Ширина его оказалась вполне достаточной для того, чтобы в нем можно было свободно ползти даже Кандиду. Конечно, не везде получалось повернуть голову назад, на затылок и шею постоянно сыпалась земля, но очень скоро Кандид перестал обращать на нее внимание. Стояла гробовая тишина, настолько непривычная, что Кандиду в первое время было не по себе. Но он привык и к тишине, и к затхлому запаху, и к кромешной темноте, воцарявшейся в тоннеле, едва он выключал фонарь. Очень скоро Кандид понял, что нет смысла все время включать свет и разглядывать путь, — у них не было выбора, по крайней мере пока. Они покорно двигались туда, куда вел их ход: все глубже и глубже. А ответвления, если бы такие и возникли, легко обнаружились бы и без света, на ощупь. Он перестал включать почти бесполезный свет, за исключением случаев, когда смотрел на компас. Позади него мужественно пыхтела Лена, звуков, издаваемых Рыжим, он уже не слышал. Казалось, что время исчезло абсолютно в этой бесконечной норе, оно было тут чрезвычайно обманчиво, и если бы не наручные часы Лены, они потеряли бы всякие ориентиры. Часы были с подсветкой, поэтому Лена сама периодически объявляла усталым, запыхавшимся голосом: «Ползем уже, пятнадцать минут… уже тридцать минут…» В основном это случалось на тех недолгих остановках, которые они делали для отдыха и сверки маршрута. Лена снова держалась молодцом и не паниковала, хотя ощущение того, что ты находишься под громадной толщей земли и ползешь, неизвестно куда, в первое время сильно давило на психику. Даже Кандиду было как-то неуютно от такого чувства. Но он привык и к этому, и вообще к тому времени, когда они сильно устали, они уже привыкли ко всему, не думали ни о чем и сосредоточились только на движении, движении, движении…
К исходу первого часа их пребывания под землей тоннель постепенно стал переходить во все более горизонтальное положение, и наклон почти исчез. Из этого Кандид заключил, что они находятся под самой топью. Когда же ход вдруг заметно стал забирать влево, Кандид обеспокоился. До сих пор ход достаточно строго придерживался одного направления, теперь же появились первые признаки проблем. Тоннель стал поворачивать налево все сильнее и сильнее, и Кандид не на шутку взволновался. Неужели, подумал он, мой расчет на то, что тут должна быть разветвленная система, не оправдался? И когда он уже был готов отчаяться, они наткнулись на первую развилку. Правое плечо Кандида ощутило внезапную непривычную пустоту. Он включил фонарь и направил свет в ответвление хода. Ему показалось — нет, он даже был уверен, — как чья-то фигура темным пятном шарахнулась в глубину тоннеля и стремительно исчезла из поля зрения. Ага, боитесь, мельком подумал Кандид, свернул в правый отворот и прислушался. Было все так же тихо, если это и был один из безлицых, то им надо было отдать должное: в своих норах они передвигались с превосходной скоростью. Этот второй ход сворачивал направо, к сожалению, больше, чем этого бы хотелось Кандиду, но зато это был первый знак того, что не все потеряно. Ох, и придется же нам попетлять, подумал он и, как выяснилось несколько позже, оказался прав.
Прошел еще один час, невообразимо бесконечный и еще более тяжелый. Им встретилось еще с десяток ответвлений, они несколько раз сворачивали, чтобы хоть как-то придерживаться курса. Тогда же Кандид понял: им уже не вернуться назад тем же путем, они не повторят маршрут в обратном порядке. В случае чего, можно было уповать лишь на поиски ближайшего хода, ведущего на поверхность, а уж куда этот ход выведет, — оставалось только гадать. Ходы перестали углубляться, теперь они тянулись горизонтально, и их становилось все больше и больше. Безлицые так и не встретились им, хотя Кандид мог поклясться, что они где-то рядом, чувствуют непрошеных гостей, наблюдают за ними. Иногда он слышал какие-то отдаленные шорохи, да слабые толчки воздуха то и дело докатывались до лица. Пару раз им попались очень узкие тоннели, и Кандид уже думал, что придется искать обходные пути, но все обходилось. Им везло.
Потом наступило безвременье. Силы давным-давно были на исходе. Они уже почти ничего не соображали, они были похожи на молчаливые тупые механизмы, слепо ищущие выход. Они давно перестали следить за временем, за тем, сколько раз и куда они свернули. Остановки и передышки уже не приносили никакого облегчения. Все тело ломило, шея онемела, руки и ноги казались чужими и ненужными, страшно хотелось встать, просто безумно хотелось встать, выпрямиться или хотя бы сесть. В какой-то момент им стали попадаться ответвления, явно ведущие наверх, и если прислушиваться, то можно было услышать, как откуда-то сверху доносились слабые, но ощутимые голоса леса. Значит, это была уже не топь, это была суша. Но Кандид сдерживался, хотя сил на это у него не осталось, он не принимал решение о подъеме, он продолжал двигаться вперед, только вперед, ему казалось, что надо именно вперед…
И когда не осталось уже никакой мочи и ни малейшей силы воли, когда нутро окончательно взбунтовалось и взвыло, когда он плюнул на все и решил, что они будут выбираться наверх, как только им попадется ближайший ведущий туда тоннель, что они не станут больше тыкаться здесь, как слепцы, что уже хватит, хватит этой кромешной тьмы, этой вони и затхлости, этой земли, все время сыплющейся на волосы, решил, что все, конец, точка, надо выматываться ко всем чертям из этой могилы, на волю, на воздух, на свет… — когда он решил так, впереди возникло что-то.
Он не сразу понял, что это. Туннель стал резко расширяться по всем направлениям, так, что он через десяток метров смог встать на четвереньки. Воздуху стало больше, значительно больше, до ушей теперь доносились прерывистые шипящие звуки. Целый хор однотонных шипящих звуков. Словно кто-то огромный, многоголосый спал и храпел в тысячу глоток. И еще был слышен какой-то нестройный отдаленный гул. Впереди, в темноте, их ждало нечто, похожее на пещеру, или на подземный грот, или что-то в этом роде. Ход продолжал расти; уже можно было выпрямить спину, стоя на коленях. Они с жадностью выползли на более или менее открытое пространство и сели, откинувшись спинами на стену. Так они сидели в полном молчании несколько минут. Сил не осталось даже на слова. Потом Кандид стал светить фонарем вокруг.
Это была не пещера, а скорее ниша. С потолка, из стен и даже снизу наподобие сталагмитов и сталактитов свисали, торчали, высовывались многочисленные белесые, узловатые коренья. В нише никого не было, но что-то подсказывало Кандиду, что безлицые были здесь только что. Попрятались, стало быть, решил он. Уж не попали ли мы к ним в логово? Среди них, наверное, паника сейчас… А, впрочем, почему я решил, что паника? Может, им абсолютно все равно?
Пора было осмотреть, куда выходит эта ниша, вернее — в чем она вырыта. Он направил луч света туда, где должен был находиться край ниши. Край действительно был недалеко, он оказался совсем рядом, в двух десятках шагов. Световой крут выхватил из мрака рваные, осыпающиеся края и уперся в противоположную стену. Да, это была именно стена, земляная стена прямо напротив их ниши, и тогда Кандид понял, куда они выбрались.
Они были в Трещине.
Едва луч света заскользил по противоположной стене, выхватывая одну нишу за другой, монотонное хрипящее шипение, царившее в Трещине, стало нарушаться. Оно буквально вспарывалось резкими свистами, шипящие звуки меняли свою тональность, переходя то в свист, то в карканье. Здесь были десятки, сотни ниш, стены Трещины были буквально испещрены этими нишами, и в них шевелились, ползали или замерли неподвижно десятки и сотни безлицых. Многие из них припали головами к белесым кореньям, торчащим повсюду, если, конечно, это были коренья. Потревоженные в своих норах светом безлицые неуклюже дергались, лихорадочно закрывались лапками, судорожно отползали в глубь ниш и отчаянно шипели.
Они подошли к самому краю и увидели, что от их ниши на противоположную сторону тянется шероховатое, шипастое, толщиной с ногу корневище. Оно простиралось до противоположной стены Трещины и на той стороне также уходило в нишу. Такие мосты между стенами существовали не везде, но их было достаточно много. В основном корневища связывали ниши на их уровне, где расстояние между стенами было невелико: не более десятка метров. По всей видимости, их ниша располагалась почти у самого дна трещины. Кандид вытянул голову и посмотрел вверх. Там, в немыслимой выси белела зигзагообразная полоска неба. Трудно было даже предположить, какова глубина Трещины. Свет сверху не доходил сюда, и не с чем было сравнить эту бесконечность. Вечное царство мрака было здесь — и днем и ночью. И еще здесь господствовал тот самый запах. Тот, что слишком часто в последнее время тревожил Кандида. Запах Трещин.
Кандид выключил фонарь. Паника среди безлицых в нишах стала стихать, разноголосица шумов снова превращалась во всеобщий, нудный шипящий храп. Первой подала голос Лена.
— Кто это такие?.. — почти беззвучно произнесла она. — Их так много… Где мы, Кандид?
— Это безлицые, — ответил он. — А мы у них дома.
Рыжий молчал. Помимо того, что парень здорово устал, ему было явно не по себе среди этого огромного скопления подземных обитателей.
— Значит так. — сказал Кандид и облизнул пересохшие губы. — Я не знаю, что это за трещина: та, которая вчера образовалась между стоянкой Одноухого и Безымянным озером, или же какая-то другая… Но мы все равно почти у цели, мы пробились, это главное… Мы поднимемся на поверхность через ближайший ход. Если поймем, что вездеход — по ту сторону Трещины, тогда вернемся сюда, переползем по этому мосту туда и будем искать выход там. Я предлагаю так.
— Обратно… сюда?.. — пробормотала в темноте Лена. — А если мы упадем? Сорвемся с этих… бревен, или что это такое… Я боюсь.
— Не бойся, — успокоил Кандид. — Я полезу первым, потом мы с Рыжим будем страховать тебя веревками. Да и потом, может, и не придется возвращаться.
— Только давай отдохнем! — взмолилась Лена. — Ну, хоть немного, а… Я не могу больше, у меня сил нету! Господи, как я хочу умыться…
— Конечно, отдохнем, — сказал Кандид.
Лена со вздохом опустилась на колени и замолчала. Интересно, подумал Кандид, далеко ли до дна? Или мы уже на дне? Он снова включил фонарь и направил свет вниз. Они были не на самом дне, но достаточно близко от него, чтоб различить то, что находилось под ними. Кандид многое узнал и понял в последние часы, но то, что он-увидел, все-таки поразило его.
— Ты только погляди, Рыжий… — пробормотал он удивленно.
Там внизу лениво шевелилась гигантская темная живая масса. Она вся состояла из безлицых, из их тел, то ли мертвых, то ли спящих, то ли пребывающих в каком-то анабиозе. Было трудно различить отдельные тела, и вся масса напоминала сплошной многорукий, многоногий и многоголовый организм. Он колыхался и подрагивал. Словно волны на поверхности озера, по скоплению безлицых прокатывались упругие толчки, и тогда некоторые тела безвольно перекатывались, наползали друг на друга, переплетались друг с другом и снова распадались. В какие-то моменты сквозь бреши в массе наружу вырывались клубы лилового тумана. А может быть, лилового дыма. Эти лиловые клочья медленно относило к стенам. А там, на этих стенах, над самой подрагивающей массой неподвижно, вцепившись лапами в землю, похожие на спящих мух, висели двуроги. Много двурогов, очень много двурогов, целая россыпь серых, вытянутых тел среди струек лилового тумана. Только двуроги были тут как неживые, совсем какие-то не страшные.
Кандид оторвался от этого диковинного зрелища, выключил свет, отошел от края ниши и сел рядом с Леной. Ему стало не по себе. Вон оно, значит, как, думал он тоскливо. Вон оно как все получается…
— Лена, — тихо сказал он. — Скажи, ведь там, за Скалами, точно такой же лес?
— Конечно, — ответила она. — А почему ты думаешь, будто там может быть какой-то другой лес? Откуда ему быть, другому-то?
Действительно, подумал он, откуда?
— А на самих Скалах есть какая-нибудь жизнь? — спросил он, уже предчувствуя, каким будет ответ.
— Ну, насекомые всякие… Разная скальная нечисть. По большей части, ядовитая. Понимаешь, я как-то специально этим не занималась, чего там интересного на этих скалах? Туда же на них еще как-то спускаться надо, потом подниматься… Я только, знаешь, читала однажды любопытные материалы в архивах. В последнее время у подножий скал находят много погибших аборигенов. Они, видимо, пытаются наверх лезть и срываются. Туда с помощью веревок и лестниц просто так ведь не подняться. Но они, бедные, этого же не знают… Да и потом — зачем? Для чего, спрашивается? Для чего они туда, на скалы, лезут — это совершенно непонятно…
Тут Лена стала рассказывать какую-то историю из своей жизни, связанную с альпинизмом на Материке, но Кандид уже не слушал ее. Мысли его снова вернулись к безлицым.
Как все, оказывается, просто, думал он. Настолько просто, что мороз по коже продирает от такой простоты. Не надо было решать заранее, кто ты: враг или друг. Достаточно было быть друзьями, когда необходимы были друзья, и сделаться врагами, когда друзья стали больше не нужны. Когда друзья сами стали препятствием… Вернее, даже не друзья, а помощники. Разве может быть дружба между безлицыми и людьми? А вот использовать людей в своих целях — почему бы и нет? Разве разумно истреблять всех людей сразу, если можно дать им возможность для начала перебить друг друга? И даже хорошо поспособствовать им в этом. Зачем отказываться от помощи тех, кто не боится воды и способен уничтожить многие озера, пусть даже это осушение и проходит под флагом Освобождения? А когда освобождать больше некого и нечего, можно начать действовать и по-другому. Вместо Дьявольской Трухи — сахар, вместо разведданных и тактических советов — хорошие сказки о Лучшем лесе и плохие сказки о Твердых землях. А для особо непокорных, для тех, кто не поддается такому гипнозу, для тех, кто не верит в заскальный рай, можно устроить очень веселую жизнь. Точнее — веселую смерть. Пустить, к примеру, дезинформацию, согнать всех в кучу, сделать Трещину, натравить двурогов… Только вот зачем? Зачем им это? Неужели они, эти безлицые, эти земляные черви, боящиеся света и воды, претендуют теперь на роль хозяев леса? Или они становятся хозяевами лишь потому, что больше никто не хочет ими быть? Голова может заболеть от таких вопросов. Но об этом нужно думать, обязательно думать, очень много думать…
Ход наверх, который они нашли первым, оказался довольно крутым. Они поняли это не сразу, а спустя некоторое время, когда проползли уже очень много и думать о возвращении не хотелось ни под каким предлогом. Для безлицых с их конечностями, приспособленными для подобной жизни, видимо, не составляло никакого труда карабкаться и под такими углами. Кандид же в какой-то момент не на шутку испугался, что тоннель может и вовсе стать вертикальным. К счастью, этого не произошло, но попотеть им пришлось изрядно, и на один этот ход у них ушло невообразимо много времени. Во всяком случае, так им показалось. На часы Лена уже давно не смотрела, а чувство времени у них под землей было полностью утрачено. Кандид ничуть не удивился бы, если бы, когда они, вконец вымотанные и измученные, вылезли из дыры на поверхность, в лесу был бы вечер.
Но в лесу был день.
Никто из них, наверное, никогда в жизни так не радовался обыкновенному дню с таким обыкновенным солнечным светом, таким обыкновенным воздухом и такими привычными лесными голосами. Они валялись в траве возле Земляной дыры и никак не могли надышаться этим пьянящим воздухом, никак не могли понять, почему мир вокруг так шумит, кричит и грохочет на все лады, и никак не могли привыкнуть к такому резкому, нестерпимо резкому, слепящему свету…
Им не пришлось возвращаться в Трещину. Это оказалась не та Трещина, что пролегла между стоянкой Одноухого и Безымянным озером, это была другая Трещина и находилась она на севере и от озера, и от Дурман-горы. В результате своих подземных блужданий, как выяснилось, они миновали и топь, и даже само озеро. Рыжий, очутившись в привычной для себя среде, сориентировался очень быстро. Они миновали заросший лопухами и лжегрибами овраг, поднялись по глиняному, почти напрочь лишенному травы склону и вышли к Безымянному озеру. Вышли даже быстрее, чем рассчитывали.
Только когда вдали, среди зарослей папоротника, замаячил вездеход, Лена, наконец, дала волю чувствам. То, что она так долго и с таким мужеством сдерживала в себе все это время, теперь выплеснулось наружу. Уже на бегу она стала всхлипывать, а потом, не добежав до вездехода каких-нибудь пяти шагов, упала во влажную траву и заревела. Громко, протяжно, навзрыд.
Рыжий взирал на это с немалым удивлением — такое зрелище для него было редкостным. Но очень быстро это ему надоело, и он прыгнул к вездеходу, собираясь основательно его осмотреть, обнюхать и облазить.
Кандид не пошел к вездеходу, он немного свернул и вышел на дорогу. Бетон был теплый, шершавый, нагретый солнцем. Он постоял немного, скользя взглядом по заброшенной, проросшей мхом, потрескавшейся и местами вздыбившейся полосе. Пройдет еще немного времени, мелькнула у него мысль, и лес проглотит и эту дорогу.
Он устало присел на обочину. В некотором отдалении Лена поднималась, размазывая слезы по лицу, и лезла в кабину, Рыжий заинтересованными кругами ходил вокруг вездехода, а Кандид сидел и задумчиво смотрел на серую поверхность бетона.
Снова, как и вчера, когда он только нашел этот вездеход, в душе у него шевелилось что-то неясное, туманное и тревожное. Какие-то отблески былого, смутные, необъяснимые сполохи костра прошлой жизни. Пробудившиеся внутри унаследованные мечты и надежды… Но теперь они не пугали его, эти странные неуютные чувства. Он смог подавить их, отвлечься от них, и они покорно затихли, ушли куда-то на второй план. Он почему-то совершенно не думал ни о вездеходе, ни о биостанции, ни о чем другом, связанном с той, ставшей ему во многом чужой, жизнью. Вместо этого он думал о нескольких горстках людей, нагруженных поклажей, медленно бредущих в высокой траве через Паучий перелесок, думал о Чертовых скалах, хищно белеющих вдали, и перед глазами снова стояла страшная картина: черная разинутая пасть в земле и люди, сыплющиеся в нее, как крошки с края стола…
Неужели это причина, чтоб сдаться, думал он. Сдаться, уйти, смириться… Даже не попробовав поступить иначе? Я почему-то не верю в это. Разве мало нас таких, кто не считает это причиной? Тот же Рыжий с его органической неприязнью к безлицым, с его тягой ко всему новому и попытками получить ответы на многие вопросы, с его сверхчутьем и памятью. Разве не найдутся в лесу еще такие рыжие? Или, к примеру, тот же Сухой, как и я, отдаленный потомок цивилизации, с его багажом знаний, который надо только хорошенько встряхнуть, и он заработает, должен заработать… Разве не найдутся в лесу еще такие сухие? Разве мало будет нас таких, кто захочет узнать, почему мы так мешаем безлицым, почему они решили сжить нас со света, избавиться от нас любой ценой? Может, не можем мы существовать в лесу вместе, или чувствуют они в нас угрозу своему господству? Кто, собственно, сказал, что на Твердых землях нельзя прожить? Кто пробовал? Разве не учились мы приспосабливаться? К тому же безлицые боятся воды и света, значит — не такие уж они и неуязвимые. Кто они, в конце концов, такие, эти безлицые? Правда болезнь леса, или очередное испытание для нас? Испытание, которое надо пройти, обязательно надо пройти, иначе что же это получится? Ведь было все! Было и Одержание, было и Освобождение, все прошли, все пережили… Ведь выжили же, уцелели, не вымерли! Конечно, мы изменились, мы не могли не измениться. Мы во многом стали другими, что-то утратили навечно и что-то приобрели. Мы изменились, но изменился и лес. Лес тоже не остался в стороне. Вот тоже хороший вопрос: мы изменились, потому что изменился лес, или лес изменился, потому что изменились мы? И если безлицых рассматривать как очередной виток прогресса, а мы при этом будем противостоять этому прогрессу, мы будем бороться с ним и будем меняться в процессе этой борьбы, то — это ведь тоже прогресс. Только это наш прогресс, собственный. И нам от него никуда не деться. И мы его никому не отдадим. Но об этом я еще подумаю. Об этом и многом другом…
Вездеход, фыркая, выполз на дорогу и стал разворачиваться. Кандид поднялся и пошел ему навстречу. Рыжий с вытаращенными глазами и гиканьем носился перед машиной взад-вперед.
Лена сидела в кабине и измученно улыбалась. На сиденье шипела и потрескивала рация.
— Садишься? — спросила она.
— Нет, — ответил Кандид. — Я не поеду.
— Ты хорошо подумал? — Она пристально взглянула ему в глаза. — Ты так решил, да? Не пожалеешь потом?
— Я подумал, Лена. И я решил. А что будет потом, не хочу загадывать.
— Но почему?.. А впрочем… — Она вздохнула. — Возможно, я тебя понимаю. Куда вы сейчас?
— К своим, конечно, — сказал Кандид. — Надо успеть их перехватить, пока они поле не перешли. Пока к Чертовым скалам не двинули. Обязательно надо успеть.
— Спасибо тебе, Кандид, — сказала Лена. — Большущее спасибо. Не знаю, чтоб я делала… Ты такой… Я просто… понимаешь… — Она сбилась от волнения. — Ты… В общем, я никогда, слышишь, никогда этого не забуду! Спасибо тебе.
Высунувшись из кабины, она наклонилась и поцеловала его. Он вспомнил о компасе, хотел снять его с руки, но Лена решительно остановила эту попытку.
— Оставь себе, — сказала она. — Это на память.
Он на мгновение задержал ее ладони в своих.
— Удачи тебе, — сказал он.
— И тебе, — ответила она, улыбнувшись. — Прощай.
— Прощай.
Дверца кабины захлопнулась, вездеход дернулся и поехал.
Кандид стоял на дороге и смотрел, как он удаляется, постепенно набирая скорость. Рыжий припустил было за машиной, но быстро отстал и остановился, глядя ей вслед. Прошло еще несколько мгновений, и вездеход исчез из виду в желто-зеленой чаще леса.
Кандид медленно побрел по дороге. Когда он подошел к замершему на месте Рыжему, тот задумчиво проговорил, не поворачивая головы:
— Какая странная дорога. Теплая. И очень твердая… Интересно, кто ее протоптал?
— Как думаешь: нагоним мы Криворота до заката? — спросил Кандид. — Топь эту еще надо как-то обойти. Я не был никогда в тех местах.
— Попробуем, — отозвался Рыжий и обернулся к Кандиду: — Слушай, Умник, давай по этой дороге пройдем? Интересно, куда она ведет?
— Нам в другую сторону, — покачал головой Кандид. — Видишь, вправо забирает…
— Хоть немного, а? — попросил Рыжий. — Немного пройдем, пока озеро не кончится, а потом свернем. Ладно?
— Ну, давай, — согласился Кандид.
И они пошли по пустынной одинокой дороге, щедро усыпанной проплешинами солнечного света, умело пробивающегося сквозь плотное переплетение крон деревьев. В лесу был день. День в самом разгаре — уже далеко не утро, но все-таки еще не вечер. Еще не вечер.
Январь — февраль 1999 г.Александр Етоев КАК ДРУЖБА С НЕДРУЖБОЮ ВОЕВАЛИ
Преуведомление
История эта — вольное продолжение «Повести о дружбе и недружбе» Аркадия и Бориса Стругацких. Настолько вольное, что в нем уместился даже кусочек НИИЧАВО, правда, не того, знаменитого, описанного во всех подробностях в «Понедельнике», а всего лишь его петербургского филиала.
Действие происходит через 20, примерно, лет после событий исходной повести. Герои, в большинстве своем, те же — естественно, постаревшие. Конечно, чтобы скорее ухватить суть, желательно перед чтением пробежать глазами первоисточник. Впрочем, последнее пожелание относится к тем читателям, которые с повестью АБС не знакомы. Надеемся, что таких немного.
Автор не претендует ни на серьезность, ни на глубокий смысл, ни на какие-либо вселенские обобщения — и поэтому заранее просит прощения у тех читателей, которые не отыщут в повести ничего для себя полезного.
Итак, повинившись перед читателями, желаем всем приятного чтения.
Глава 1
Звонок тенькнул, потом забрюзжал отчетливо, потом затявкал, как мелкая дворовая собачонка. Андрей Т. с тоскою поглядел на плиту и неохотно прошел в прихожую. «Кого еще черт принес в такое неудачное время?» Он только что забросил в воду пельмени, почти целую упаковку, надо было следить, чтоб не слиплись, не разварились, и чтобы доблестный кот Мурзила сдуру не обварил лапу, воспользовавшись отлучкой хозяина.
Черт принес очень странного человека. Большая рыжая борода росла у него вроде откуда надо, но при этом была сильно смещена в сторону. Казалось, мощным порывом ветра ее прибило к левой щеке, а от правой, наоборот, отшвырнуло далеко вправо. И нос его был неестественно сливовидной формы, блестящий, в трещинках и ложбинках, словно сделан был из папье-маше. На глаза рыжебородого незнакомца была натянута широкополая шляпа, а сами невидимые глаза прятались под антрацитовой черноты очками. Плащ на нем был обычный, и брючки были обыкновенные, и туфли на коротких ногах могли вполне сойти за нормальные, если бы к ним добавить шнурки. Шнурков на туфлях не было.
Что-то смутно знакомое было в его нелепой фигуре, но как Андрей Т. ни силился, память отвечала молчанием.
Человек потянул носом воздух над плечом насупленного Андрея Т. и неуверенно облизнулся.
«Пельмени, — вспомнил хозяин квартиры и настроение его резко упало. — Так я и знал — слиплись и разварились…»
Тут из кухни вдогон всем бедам ударил кошачий крик. «Ну, Мурзила, ну, уродина, ну я тебе устрою кошачье счастье…»
— Здравствуйте, — сказал незнакомец, — Андрей Т. — это вы будете?
— Я, — без споров согласился хозяин, чуть помялся и кивнул в глубину квартиры, — Проходите, у меня там…
— Понимаю. Я, наверно, не вовремя, но дело мое не терпит отлагательств. Геннадий М., вам этот человек знаком? Собственно, это дело его касается, ну и вас, если вы, конечно, примете положительное решение…
— Генка? Так вы от Генки? Что же вы мне сразу-то не сказали! Я ж его сто лет не видал. Как разъехались по разным районам, так и не виделись, только созванивались раз в пятилетку. Как он? Что с ним? Где он? Да вы раздевайтесь, проходите на кухню, у меня там пельмени варятся.
— Пельмени, — сладким голосом повторил гость. — Чувствую холостяцкий быт.
Не раздеваясь и не снимая шляпы, незнакомец прошел на кухню.
— От пельменей грешно отказываться. У вас с чем? С уксусом? Со сметаной? — Борода его совершила непонятный кульбит — правая, вздыбленная ее половина, сгладилась, левая отскочила вбок, нацелившись на кастрюльку с пельменями.
— Я вообще-то их люблю в чистом виде. — Хозяину стыдно было признаться, что сметану, целую банку, еще утром умял негодяй Мурзила, масло кончилось, а уксуса в доме отродясь не водилось. — В собственном соку, так сказать. Впрочем, где-то был майонез, хотите?
— А еще хорошо их с пивом. Знаете? Поливаешь пельмени пивом, только обязательно светлым, светлое — оно не горчит, добавляешь немного перчика и лучку, ну это по вкусу, а сверху той же сметаны.
Андрей Т. вывалил пельмени в дуршлаг — начинка получилась отдельно, тесто, соответственно, — тоже, и поставил на стол тарелки. Мурзила-IV-a горько плакал на подоконнике, не забывая при этом принюхиваться к запахам кухни. Хозяин подошел к усатому зверю и щелкнул его пальцем по уху. Кот мотнул перед хозяином мордой и притворился обиженным.
— Кис-кис, — сказал незнакомый гость. Кот мгновенно перестал притворяться и подозрительно уставился на него. — Я знал одного кота, — продолжал тем временем незнакомец, — который, когда был выпивши, начисто выпадал из жизни. Делай тогда с ним, что захочешь, — хоть хвост узелком завязывай, хоть шерсть наголо состригай. Мы его обычно к люстре подвешивали, для смеху. Так вот, когда он опоминался…
Договаривать гость не стал; Мурзила-IV-a заскреб когтями по подоконнику; в глазах его шевелилась ярость: еще слово про издевательство над котами, и в комнате рядом с двумя живыми появилось бы одно мертвое тело.
Андрей Т. погладил кота по шерсти — успокоил — и улыбнулся гостю. Некоторое время гость и хозяин ели пельмени молча, важно почавкивая и причмокивая каждый на свой особенный лад. Гость так и не раздевался — сидел в своем кургузом плащишке и то и дело поправлял шляпу, норовящую угодить в тарелку. Когда хозяин предложил чаю, он скрипуче почесал в бороде и вежливо отказался:
— Воду не употребляем. Пустой продукт — никаких калорий, только тяжесть в желудке.
Андрей Т. кивнул довольно рассеянно, поймал убежавшую было в сторону мысль — естественно, мысль эта была о пропащем Генке по прозвищу Абрикос, или Геннадии М., как его назвал человек без шнурков и в шляпе. И спросил гостя:
— Вы сказали, что здесь по делу, и что дело это связано с…
— Делу? — Человек встрепенулся. — По какому такому делу? Ни по какому я делу не проходил, не надо на меня чужих собак вешать. Моя хата с краю, ничего не знаю. Береженого Бог бережет, а кривой-то дорожкой ближе напрямик, вот.
— Я про Гену, приятеля моего, вы же сами, когда вошли, про него говорить начали… — Что-то, пока гость говорил, напомнило Андрею Т. одно давнее-давнее приключение, и эти вот пословицы-отговорки, и тон, и хрипотца в голосе… Очень, очень даже похоже, только вот неувязка в возрасте — Коню Кобылычу, если это переодетый он, сейчас должно быть уже далеко за восемьдесят, а этот, в очках и шляпе, выглядит, пусть даже со скидкой на маскировку, самое большее лет на сорок — на пятьдесят. Да и ростом этот вроде повыше. — И про какое-то положительное решение…
— Ах да, ну да, ну, естественно, — да. Разумеется, я пришел к вам не на пельмени. Геннадий М., ваш товарищ, пребывает в данный момент в положении несколько… щекотливом что ли. Ничего опасного, не волнуйтесь, просто ситуация такова, что вы, как его лучший когда-то, при некоторых сомнительных обстоятельствах, друг, единственный, кто может ему быть полезным.
Андрей Т., по правде, мало что уловил в этой словесной патоке, единственное, что до него дошло, — Генка М., Абрикос, в беде. И неважно, что сигнал бедствия передается через испорченный передатчик: другу надо прийти на помощь, это он уловил четко.
— Он болен?
— Что вы, чувствует себя ваш друг превосходно. А вот непосредственное его окружение… Там, действительно, положение кризисное.
— Мила? Вы про его семью? Послушайте, говорите прямо. Где Генка? Что с ним случилось?
— На работе, где ему еще быть. — Гость вытащил из-за пазухи старинный хронометр-луковицу, отщелкнул двойную крышку, и в комнате заиграла музыка. — Вы еще успеете, если отправитесь прямо сейчас. — Крышечка на часах захлопнулась, музыка осталась внутри, часы спрятались восвояси.
— Это далеко? С собой мне что-нибудь брать?
— Не надо, все необходимое там имеется. — При этих словах гость почему-то хихикнул и выдернул из бороды волосок. — Костыльковское кладбище по Киевскому шоссе знаете? Нет? Значит, еще узнаете. Так вот, от кладбища по дороге на Мохогоново еще две автобусных остановки. Остановка ваша называется Топь. Сойдете, а там — леском, мимо свалки химических отходов, потом будет 5-я мыловаренная фабрика, ее вы по запаху определите, сразу за ней — живодерня, слева — бывший туберкулезный диспансер, потом увидите бетонный забор, идите вдоль него метров сто, только не перелезайте — за забором стреляют. Забор кончится, начнется болотце, идите смело, там набросаны жерди — хлипкие, но пройти можно. Кстати, у вас болотные сапоги есть? Хотя неважно, до сапог дело, может, и не дойдет. Перейдете болото, увидите деревянную вышку. На вышке должен быть часовой. Скажете ему, что вы в Заповедник. Да, и возьмите с собой документы — паспорт там, свидетельство о рождении, диплом, военный билет… впрочем, чего мне вам говорить — не маленький, сами знаете.
Гость вдруг поспешно засобирался, вскочил со стула и стал судорожно благодарить хозяина за пельмени. Потом он кинулся как шальной в прихожую; Андрей Т. с трудом за ним поспевал, а когда рыжебородый ткнулся в темноте в этажерку со старыми газетами и журналами, приснопамятная «Спидола», что без малого двадцать лет простояла на шкафу в коридоре, не издав за это время ни песни, ни лозунга, ничего, вдруг наполнилась шумами эфира, обрывками полузнакомых мелодий, голосами, шорохами и вздохами. Потом эта какофония звуков сменилась однообразным голосом, выхваченным из какой-то радиопостановки: «…А бояться тебе, бриллиантовый, надо человека рыжего, недоброго…»
Гость при этих словах почему-то прикрыл ладонями бороду, а когда ладони отнял, борода была уже никакой не рыжей, а нейтральной пепельно-серой коротенькой, ухоженной бороденкою, выдержанной в лютеранском стиле. Гость перетаптывался с ноги на ногу и почему-то не уходил.
— Простите за навязчивость, — сказал он наконец, — у вас шнурков лишних нету? А то я тут в баню сходил помыться, так какой-то негодник у меня шнурки из ботинок вынул. Не беспокойтесь, я вам верну. Адрес-то я ваш помню, вышлю бандеролью шнурки, только вот до дома доеду.
Глава 2
Ехать было, конечно, надо и ехать надо было не медля и не раздумывая. И все-таки Андрей Т., наученный разномастным опытом своих тридцати с небольшим лет, набрал номер квартиры родителей, чтобы кое-что выяснить. Трубку сняла мама. Минут двадцать она жаловалась на нынешнюю дурную жизнь, потом столько же сокрушалась о своем непутевом сыне, который думает бог знает о чем, а только не о нормальном быте, и что надо бы вернуться в семью, мало ли, что Верка вздорная, драчливая баба, ведь и сам-то он был хорош, не она одна виновата, и детям нужен отец, иначе вырастут из детей бандиты, и слава богу, что яйца подешевели вчера на рубль, так что, может, не все еще в России похерено, и не было даже щелки в ее затянутом монологе, чтобы вставить хоть точечку, хоть словечко, не говоря уже о важном вопросе по поводу их лестничного соседа.
— Конь-то? — переспросила мама, когда сыну все-таки удалось продолбить в ее словах дырочку. — Был, был, Андрюшенька, ты не поверишь, был. Десять лет как съехал, мы уже и думать о нем забыли, а тут явился. Довольный такой, с цветами, мы вначале даже не поняли, думали, может, праздник нынче какой, а он говорит, что нет, просто вспомнил своих добрых старых соседей, как мы с ним дружно жили, да как мы помогали друг другу, да как он без нас тоскует и мается в своей новой стометровой квартире на проспекте Римского-Корсакова. Да уж, как вспомню эту его «помощь» и «дружбу», так до сих пор руки чешутся. Как он пакости всем жильцам строил. А доносы как на соседей в жилконтору писал. А как он за дверью своей дежурил с утра до вечера, все записывал, кто когда домой возвращается. А детей как из-под окон гонял, кипятком ошпаривал, как в милицию жильцы за это на него жаловались. И дед твой, он же не просто так, он же из-за него свой второй инфаркт получил. Это когда Конь, пакостная его душа, заявление в военкомат подал, что видели, мол, его, твоего деда, полковника и героя войны, в сорок втором году на оккупированной захватчиками территории. Бред, конечно, но деду от этого тогда легче не стало.
Андрей Т. сглотнул, все эти истории он знал хорошо и сам во многих участвовал, сейчас его волновало другое.
— Тобой он тоже интересовался, — продолжала мать. — Как, мол, там ваш младший сыночек, да какой он был в детстве умница, не в пример своему старшему братцу, да хорошо бы с ним повидаться, и телефон твой у меня спрашивал…
Дальше слушать было необязательно. Андрей Т. скомкал разговор с матерью, соврал, что у него гости, попрощался и положил трубку.
Значит, все-таки Конь Кобылыч. Дело приобретало неприятный оттенок, и Спидлец на шкафу в прихожей своей фразой про человека рыжего явно намекал на подвох.
Только тут Андрей Т. осознал, что Спидлец, Спиридоша, Спиха вовсе не стоит на шкафу, а вот он, перед глазами, в руке хозяина, и оплавленная дыра в его теле напоминает о временах героических, когда он, Андрей Т., молодой, красивый, четырнадцатилетний, выходил сражаться за дружбу, не думая ни о подвигах, ни о славе.
Уже через три часа после всех своих раздумий и разговоров Андрей Т. шагал по мягкой лесной дорожке, проложенной в замусоренном лесу. Места были обжитые, то и дело приходилось огибать какой-нибудь огород, или свалку, или ржавый кузов троллейбуса, неизвестно каким волшебником занесенный в эти пригородные края.
Лес был исполосован просеками, оголен вырубками, изрыт траншеями и карьерами, но странно тих и непривычно безлюден. То есть люди кое-где попадались, но это были, должно быть, дачники — они ходили, словно бледные тени, на вопросы отвечали невнятно, заикались и пожимали плечами. Ни о каких живодернях, тубдиспансерах и мыловаренных фабриках они знать не знали и ведать не ведали.
Спиха, притороченный ремешком к джинсам, порою судорожно вздыхал, то ли от переизбытка в лесном воздухе кислорода, то ли от воспоминаний о пережитом в детстве выстреле из лазерного оружия. Андрей Т. посматривал на часы и на клонящееся к закату солнце. Ровно в 18:00 Cпиха выдавил из себя голосом московского диктора: «Версты черт мерял, да в воду ушел», потом сглотнул, как удавленник, и в атмосфере что-то переменилось.
Воздух стал какой-то другой, не лесной, а пустой и спертый, как в закупоренном наглухо кабинете. В горле неприятно защекотало. И мох вокруг, наполненный тенями и светом, резко потемнел и увял, и муравьиные ручьи под ногами замерцали змеиным блеском, и деревья посуровели и поникли, и солнце — красное солнышко — сделалось каким-то синюшным, и на нем, как больной нарост, вздулась шишка сливовидного носа, блестящего, в трещинах и ложбинках, словно сделанного из папье-маше.
— А шнурочки я тебе не верну, не понадобятся тебе шнурочки, — сказало заболевшее солнце с гнусавой ласковой хрипотцой, тараня лицо Андрея полями широкой шляпы и сверля его вкривь и вкось смоляными стеклышками очков. — В белых тапках тебе скоро лежать в сосновом гробу по наивности своей и доверчивости.
— Как это? — Андрей Т. не понял.
— А вот так, — ответило солнце и ткнуло подагрическим пальцем Андрею за левое плечо. — Вон она, пятая мыловаренная фабрика, видишь, дым из трубы? — Андрей Т. повернул голову и увидел низкорослое здание с черной пароходной трубой, из которой неряшливыми клубами к небу уходил дым. Рядом, понурив головы, сидели дохлые, замученные дворняги. Стрелка на чугунном столбе показывала на деревянный барак, где красными плакатными буквами на воротах было написано: ЖИВОДЕРНЯ. Гляди, гляди, — сказало за спиной солнце, — такое ни в каком кино не показывают. — Ворота живодерни раскрылись, и оттуда раздался свист. Собаки подняли морды. «Тю-тю-тю, доходяги», послышался из ворот голос. Собаки неуверенно поднялись. «Кушать подано», — из проема высунулась рука. Она сжимала поддон с кусками сырого мяса. Собаки весело заворчали и скопом устремились в ворота. — Жрать захочешь, последнюю шкуру с себя отдашь, — хихикнуло за спиной солнце. Андрея Т. передернуло. Ладно, — сказало солнце, — мыловаренную фабрику мы, считай, прошли, живодерню тоже, ну, свалку и диспансер опускаем, это так, ничего особенного. Что у нас там осталось? Так-так-так, бетонный забор — ну и черт с ним, с этим забором, все равно за ним одни мухоморы, а учебные стрельбы начнутся только через неделю. Болото! Хе-хе, болото. Да, кстати, а где твои болотные сапоги? Там же без них хана. Эх, молодежь, молодежь, никакой у вас нынче памяти. Придется опустить и болото. — Солнце хрипло прокашлялось. — Ладно, считай, пришли. Вышку я тоже вычеркнул, и часового, и твои документы, ты же все равно их забыл. А теперь открывай глаза.
Глава 3
Солнце было на месте, где ему полагалось быть, — то есть на вечереющем небе. Правда, небо это было забрано в переплет окна, и по пыльному надтреснутому стеклу путешествовали полусонные мухи.
— Где я? — спросил Андрей Т., обращаясь неизвестно к кому.
— В ЗАМАСКе, где же еще, — обыденным голосом ответил Андрею Т. неизвестно кто.
— В замазке, — автоматически повторил Андрей Т., представив себя маленьким паучком в янтаре, глядящим на мир вокруг остекленевшими доисторическими глазами. — То есть как это? — дошла наконец до Андрея вся нелепость услышанного ответа. Какая, к черту, замазка?
— ЗАМАСКа — она не «какая», она — «какой». Заповедник Материализованных Сказок, сокращенно — ЗАМАСКа.
Медленно, словно после дурного сна, Андрей Т. приходил в себя. Потрогал пальцами веки, надавил на глазные яблоки. Голова вроде бы не болела, руки-ноги были на месте.
— Тоже мне — Заповедник, — услышал он прежний голос. — Только одно название.
Андрей Т. повернул голову от окна. И тут же об этом пожалел. На зашарпанном, вытертом ногами линолеуме, застилающем разбегающийся в обе стороны коридор, у стены напротив него стоял дряхлый, седой петух и жаловался человеческим голосом:
— Голые помещения, никаких удобств. Хоть бы рога какие на стенку повесили, какой-никакой насест.
— Денег у них нет на рога, — послышался голос сбоку. Андрей Т. посмотрел туда, и сердце его покрылось изморозью. Навстречу ковылял волк. Весь он был какой-то побитый, с опущенными не по-волчьи ушами и с волочащимся по полу хвостом.
— Знаем мы ихние «нету денег». — Петух приподнял крыло и почесал клювом под мышкой. — Сами, вон, дворцов понастроили. В дубленках ходят, на «мерседесах» ездят. А тут протирай перья об их линолеум, мерзни на подоконниках, не жизнь, одно прозябание. Да я, когда при царе Дадоне в охране служил, ел — от пуза, и не какое-нибудь там гнилое пшено, а пшеницу, самую что ни на есть отборную. И пил — по утрам квасок, за ужином — то винцо, то бражку. И если что не по мне, у меня разговор короткий — слечу, бывало, со шпиля да обидчику клювом в глаз. Царь, не царь — это мне все равно: глаз — вон, и к следующему клиенту. Отбою, между прочим, от предложений не было. В деньгах купался, как теперь вон эти в своих личных бассейнах.
— Да уж. — Волк уселся рядышком с петухом и стал нервно бить хвостом о линолеум. — Не кормят почти, не поят, кино — только по воскресеньям, и то крутят одно и тоже. Лично меня от «Семнадцати мгновений весны» уже одной водою тошнит. Я Штирлица этого сил моих нет как ненавижу. Попался бы он мне в свое время где-нибудь в чистом поле, никакая б ему фашистская ксива не помогла. И «Титаник» их этот — тоже дерьмо. — Волк вздохнул, в глазах его блеснула слеза. — Продать они нас хотят, вот что я вам скажу. В Диснейленд, в Мульттаун, американцам. Не выйдет. — Волк встал на все лапы и грозно оглядел коридор. — Я им не какой-нибудь безродный космополит. Родина — моя мать, а Тамбов мне заместо папы…
— Америка, Диснейленд… Кому ты нужен там, такой доходяга. У них своих нахлебников — негров всяких, пуэрториканцов — что козлов недоенных, а тут еще ты им на гузно свалишься со своей волчьей харей. Тоже мне, Шварценеггер. — Рядом с волком сидело (или лежало) нечто, очень похожее на старый футбольный мяч, — такое же круглое, грязное, с продранными боками и нарисованным фломастером ртом. Оно-то и рассуждало на тему «Родина и эмиграция».
— Колобок прав, — поддакнул справа кто-то еще, — кому мы там такие нужны.
Андрей Т. посмотрел туда и даже не улыбнулся. Это говорил крокодил. Рот его едва раскрывался, обмотанный нелепым бинтом с торчащим наверху бантиком. Похоже, у крокодила болели зубы.
Странного народца вокруг становилось больше и больше. Вроде бы, когда Андрей Т. повернул голову от окна, коридор был почти пустой — ну, сидел у стены петух, хотя, если честно, и петуха-то никакого у стены поначалу не было, — и вот, пяти минут не прошло, а в коридоре уже буквально не протолкнуться от всех этих слоновьих хоботов, деревянных ступ с торчащими из них вениками да метлами, каких-то дураковатых малых с облупленными носами и в ватниках на голое тело, тщедушных девочек с перемазанными золою лицами, краснорожих дедов-морозов, маленьких чертенят с манерами азиатских детей, побирающихся в поездах метро, и прочих экзотических экземпляров. Наверное, в ЗАМАСКе наступило что-то, похожее на час пик. На Андрея Т. не обращали внимания, он медленно шел в толпе, изучая непривычную обстановку и прислушиваясь к разговорам.
— Все беды от неудовольствия проистекают, — говорил кто-то, невидимый за лесом перепончатых крыльев и ослиных ушей, выросший перед глазами Андрея Т., — и ежели, значить, дать человеку все — хлебца, отрубей пареных, — то и будет не человек, а ангел…
Щеки Андрея Т. коснулось что-то теплое и текучее и медленно поползло по коже. Андрей Т. поднял голову. Над ним, рядом с тусклым, пыльным плафоном, в воздухе висел человек. Пара розовых потрепанных крыльев болталась у него за спиной, руки были скрещены на груди, ноги вяло подергивались в коленях. Глаза летучего человека были прикрыты веками, по лицу блуждала голодная страдальческая улыбка — должно быть, утомленный летун мечтал о пареных отрубях, вареном сусле или просто о бутерброде с сыром, тоненькая струйка слюны сопровождала его ангельские мечтания и орошала рога и головы мельтешащей внизу толпы. Андрей Т. брезгливо поморщился, отер слюну и отошел в сторону.
— Слон съедает самое большое девять македонских медимнов за одну еду, — продолжал тем временем прежний голос, — но такое количество представляет опасность; вообще же шесть или семь медимнов, ячменной крупы пять медимнов и вина пять марисов…
Обогнув компанию каких-то сизорылых утопленников, которые, усевшись в кружок, чинили рыбачью сеть, Андрей Т., наконец, увидел обладателя голоса.
Им был бледный стариковатый юноша, сутулый, с виноватой улыбкой, — таких в 19 веке обычно называли «архивными». Он сидел на корточках у стены и читал сочинение Аристотеля «О животных».
— Съест-то съест, да кто даст? — раздался рядом протяжный вздох. Вяло шевеля хоботом, сквозь толпу пробирался слон. Бока его были впалые, глаза усталые и больные, ребра вылезали наружу — хоть по ним анатомию изучай. Меж пыльных слоновьих ног вертелась мелкая облезлая собачонка.
— А этот из какой сказки? — Андрей Т. обратился к сгорбленной старухе с клюкой, показывая на архивного юношу.
— Из сказки про Читателя сказок, — ответила бойко бабка.
— Кто же такую написал?
— Сам он и написал, кто ж еще про него напишет, как не он сам. — Бабка смотрела на Андрея Т. подозрительно. Край губы ее поднялся, и оттуда, из черной ямы, вылез и блестел на свету ржавый опасный клык. — А сам ты, мил человек, из какой сказки будешь?
Андрей Т. замялся, не зная, что ей ответить. Он почувствовал, как краснеет. Лица, рожи, морды и хари окружающих его сказочных персонажей повернулись как по команде к нему. Ничего хорошего это не предвещало. По взмокшей под рубашкой спине прошелся антарктический холодок. Рядом клацнули чьи-то зубы. Когтистая рука упыря вылезла из-за медвежьих голов и медленно потянулась к Андрею. Бабка стукнула по руке клюкой, рука убралась на место.
— Что молчишь? Аль язык отсох? — Бабкина клюка крутилась возле лица Андрея, примериваясь к его глазам; наконечник клюки был острый, с хищной крючковатой зазубриной, похожей на ястребиный клюв.
— А может, он того… засланный? — Из толпы выступил паренек с волевым, мужественным лицом и холодным огнем в глазах. На поясе его висела погнутая темная сабля. — Может, он хочет выведать всю нашу Военную Тайну? Может, ему за это выдали целую бочку варенья да целую корзину печенья? — Мальчик вдруг замер, насторожился и приложил ладонь к уху. — Слышу я, как трубят тревогу вражеские сигнальщики и машут флагами вражеские махальщики. Видно, будет у нас сейчас не легкий бой, а тяжелая битва. Только бы нам ночь простоять да день продержаться…
— Цыц! — сказала ему бабка с клюкой. — Без сопливых как-нибудь обойдемся. Ну? — Она грохнула клюкой о линолеум и угрожающе уставилась на Андрея.
— Я… я… — Андрей Т. пытался набросать в голове какой-то примитивный сюжет, но ничего, кроме попа и коляски, на ум не шло.
— Это еще что за собрание? — услышал он вдруг рядом с собой. Голос звучал вкрадчиво и елейно, но сквозь эту мармеладную мягкость проступали сталь и свинец.
Андрей Т. скосил взгляд в ту сторону и обомлел. Важно выпятив грудь и по-разбойничьи растопырив усы, к нему навстречу приближалась очень даже знакомая личность. Хвост у личности торчал вверх пистолетом, левый глаз был прищурен, правый был широко раскрыт и оттуда в окружающую толпу бил зеленый холодный взгляд, замораживая и обжигая. Еще минуту назад в коридоре было не протолкнуться, а сейчас он вдруг стал просторным, население его резко выдохнуло, вжалось в стены и попряталось друг за друга.
Андрей Т. раскрыл уже было рот, чтобы сказать Мурзиле привычное домашнее «здрасьте», но Мурзила то ли зазнался, то ли должность не позволяла проявлять на глазах у публики родственные, теплые чувства, — он демонстративно отвернул от Андрея голову и глазом обвел толпу.
— Ага! Все те же, и заводила, как всегда, Марфа Крюкова. — Кот вытащил из холеной шерсти толстую амбарную книгу, раскрыл ее примерно посередине и сдул со страницы пыль. — Так и запишем: Крюкова Марфа Индриковна, девяносто пятое серьезное предупреждение за неделю. — В лапе его уже торчала древняя перьевая ручка и скрипела, ерзая по бумаге. — Еще пять серьезных предупреждений, и висеть тебе, Марфа Крюкова, на Доске отстающих. — Он пристально посмотрел на бабку, зевнул и добавил нехотя: — Со всеми вытекающими последствиями.
Андрей Т. почувствовал укор совести — еще бы, ни с того ни с сего подвести старого человека. Он сглотнул, хотел сказать чтото вроде: «Стойте! Гражданка не виновата!», — но его опередила старуха. Она затрясла губой, сделалась совсем маленькой и несчастной и слезливо запричитала:
— Да уж, если что — вали все на бабку Мару. Мара стерпит, Мара — бабка привычная. В прошлый раз, когда Кащеево яйцо сперли, сразу все на кого — на Крюкову. А на кой мне ляд Кащеево яйцо, раз яичницу из него не сваришь. Справедливость, где она, ваша хваленая справедливость?
Лица Многих при слове «яичница» затянули грусть и печаль, губы оросила слюна. Кот с шумом захлопнул книгу.
— Так, — сказал он сурово. — О справедливости поговорим в другой раз. Разойдитесь, всем разойтись. Делом лучше займитесь, нечего языком чесать. А вы пройдите со мной. — Кот лапой указал на Андрея Т… Тот с виноватой улыбкой двинулся за ним следом.
— Тиран! — послышалось за спиной.
Кот даже не обернулся.
Глава 4
— Мур, ты-то здесь как? — Андрей Т. шел теперь с котом вровень, радостно ему улыбаясь и норовя погладить по шерстке.
— Простите, мы не знакомы. — Кот обдал его равнодушным взглядом и увернулся от проявлений нежности.
— То есть как это? — Андрей Т. ничего не понял. — Мурзила, это же я, твой хозяин. — Он пристально вгляделся в кота.
— Вы меня с кем-то путаете. — Кот упорно не желал быть на «ты» и держался сухо и чопорно, как на строгом официальном приеме.
— Здрасьте вам, — вздохнул Андрей Т. и только тут, наконец, заметил некоторые отклонения и странности во внешности своего четвероногого спутника, которых не замечал раньше.
Во-первых, уши. У Мурзилы-IV-a уши были окраса ровного, пепельного, с золотой проседью. У этого же на самых кончиках шерсть была черно-бурой. Далее — хвост. В детстве, в дошкольном возрасте, когда Мурзила-IV-a играл во дворе в песочнице, на него однажды напал чей-то неизвестный бульдог. Перепуганный Мурзила кинулся от пса на газон, а тут, как назло, — газонокосилка. Мурзила, конечно, спасся, но маленький кусочек хвоста так и остался там, среди скошенной зеленой травы, во дворе их старого дома. Хвост кота, шедшего рядом, был вполне нормальной длины и не имел никаких изъянов.
Так, в сомнениях — с одной стороны, и в равнодушии и покое — с другой, они приблизились к незаметной двери, на которой было написано: «Канцелярия».
— Минуточку подождите здесь. — Кот лапой остановил Андрея, сам же исчез за дверью.
— Милый, ты там того… — За спиной его топталась старуха. Лицо ее было, как пряник, — сахарное и гладкое. — Замолви им за меня словечко. Я ж добрая, ты не думай. А что иногда вспылю — это же не со зла. Трудное детство, поганое отрочество, гнилая юность. И эта… как ее… — Бабка постучала концом клюки по голому островку черепа, затерявшемуся в седом океане ее спутанных, давно не мытых волос. — Черепно-мозговая контузия, одним словом. У меня и справка имеется. — Старуха полезла копаться в складках своего экзотического халата, видимо, чтобы найти справку, но дверь в это время скрипнула и кот попросил Андрея Т. пройти внутрь.
Кабинет был как кабинет, ничего особенного. На канцелярию, правда, он походил мало — ни тебе стеллажей с папками, ни столов со всяким бумажным хламом, ни устойчивого запаха пыли, обычного для подобных мест; все здесь было чистенько и пристойно, за исключением непонятных веников, связками висевших по стенам, ржавой доисторической алебарды, скучающей у дальней стены, да самого хозяина кабинета, сидящего за столом у окна.
Он, то есть хозяин, был какой-то суетливый и нервный; постоянно дергаясь и кривляясь, он пытался делать одновременно чертову тучу дел, как то: пальцем левой руки набивать что-то на клавиатуре компьютера; правой — поливать из миниатюрной лейки чахлое кривое растение, ютящееся в цветочном горшке на широком крашеном подоконнике и напоминающее декоративный крест; ногой, правой, чесать коленную чашечку левой; левой же гонять таракана, кружащегося возле ножки стола и норовящего забиться от страха в любую щель. Спина его при этом терлась о спинку стула, язык пытался найти дорогу в непроходимой чаще усов, разросшихся на половину лица, один глаз косил, второй, подражая первому, косил тоже, но, кося, переигрывал и фальшивил, на голове его лежала подушка, должно быть в качестве грелки.
Андрея Т. он поначалу не замечал, и тот стоял тихонечко у порога, наблюдая за хозяином кабинета.
Хозяин кончил набивать текст, и заработал принтер. Из щели с медленным и протяжным скрипом полезли белые полоски бересты; они скручивались, падали на пол и раскатывались по всему кабинету. Один такой докатился до ног Андрея, тот нагнулся, чтобы его поднять, и в это время хозяин заговорил.
— Ну и что же, спрашивается, мне с вами делать? — Голова его была повернута влево, чтобы косящий и подражающий косящему глаз в упор смотрели на посетителя. Гоняющая таракана нога на секунду задержалась на месте, и измученное домашнее насекомое получило секундную передышку. — Не вовремя вы, ой как вы к нам не вовремя, и число сегодня нечетное, и магнитная буря в воздухе, и голова раскалывается с утра, и отчетный этот концерт сегодняшний… — Он сорвал с головы подушку и вытер ею озабоченный лоб; потом снова воздвиг подушку на место. — Ладно, раз уж вы здесь, так и не быть вам ни в каком другом месте, кроме как в Заповеднике.
Андрей Т. решил, наконец, высказаться, чтобы прояснить ситуацию и определить свое положение в этой нереальной реальности.
— Я вообще-то у вас по делу, мне вообще-то… — «Нужно увидеть Генку» — хотел сказать он этому беспокойному человеку, но сказать не успел.
Человек замахал руками, разбрызгивая из лейки воду и гоняя по полу таракана:
— Все вообще-то у нас по делу, а отдыхать — пожалуйста, на Елагин остров, в бывший Парк культуры и отдыха имени товарища Кирова. Можно подумать, я здесь с девушками гуляю, конфеты кушаю. Я несу здесь тяжкую трудовую повинность, я здесь спину гну ради таких, как вы, я здесь… — Он откинулся на стуле, вновь сорвал с головы подушку и с размаху приложил ее к сердцу. Потом скомкал и отбросил к стене. Подушка, перелетев помещение, мирно нацепилась на гвоздь и устроилась рядом с вениками. — Так на чем мы, я извиняюсь, остановились? Ах да, на проблеме трудоустройства. — Палец хозяина кабинета станцевал на клавиатуре польку. Морщин на его лбу стало больше. — Как же мне вас оформить? Каким веком, годом, месяцем и числом? И кем, вот в чем вопрос?
— А зачем? — робко выдавил из себя ничего не понимающий Андрей Т.
— То есть как зачем? — удивленно посмотрел на него хозяин кабинета. — Вот вы, когда устраивались в Эрмитаж электриком, разве не проходили через отдел кадров?
«Откуда он знает про Эрмитаж?», — удивился Андрей Т., но виду не показал.
— Такой порядок, — продолжал между тем работник канцелярского фронта. — Каждого свежеприбывшего «эмпе», материализованного персонажа то есть, в течение часа с момента прибытия в Заповедник следует оформить и поставить на учет и довольствие, как требуют того правила и законы местной и федеральной служб. Только как же мне вас оформить, если все места в Заповеднике расписаны на четыре года вперед? — Он задумался, потом хлопнул каблуком по полу. Таракан нервно повел усами и испуганно задрожал на бегу. — Придумал! А оформлю-ка я вас как мумию жреца Петесу из «Сказки об оживающей мумии». Она ж, в смысле жрец, насколько я помню, тоже из Эрмитажа. — Он обрадованно потер ладони. Потом помрачнел и сник. — Со жрецом ничего не выйдет. Его ж, в смысле мумию, в Москву затребовали, в филиал, на предмет возможного приобретения АОЗТ «Мавзолей».
— Садко, — подсказал кот. Все это время он держался чуть сбоку, по правую от Андрея сторону, выступая то ли в роли конвойного, то ли ожидая от хозяина кабинета каких-то особых распоряжений.
— Разговорчики! — осадило кота начальство. — Много вас развелось, умников-то. Как мусор с пола собрать, так нету их никого. А как советы давать руководству, так сразу воронья туча. Значит, Садко, говоришь? — Палец его опять радостно пробежался по клавишам. — Вы подводным спортом не занимались? — Вопрос был к Андрею Т. — Или хотя бы в детстве с вышки ныряли? Вот и ладненько, что ныряли. Значит, будете у нас числиться как Садко. На гуслях играть умеете? Научитесь, это дело простое, не сложнее, чем играть на пиле. Походите на курсы к Бояну. Самоучитель возьмете, в конце концов…
— Я что-то не понимаю. — У Андрея Т. уже голова шла кругом от всех этих загадочных разговоров. — Причем тут Садко? И гусли? И вообще, я не…
— А тут и понимать нечего. — Глаза хозяина кабинета вдруг резко перестали косить и сделались пронзительными и строгими. Он поднялся, раздавил ногой таракана, поставил на подоконник лейку и руки уложил на груди. — Базильо, — сказал он, обращаясь к коту, — покажи господину Богатому гостю выход. Господин не знает дорогу. Господин только что прибывши. Милости просим, — он в фальшивом театральном привете распростер руки, — в наши гостеприимные Палестины. Извините, но время вышло. У меня квартальный отчет. У меня комиссия из Минфина. У меня Горынычиха рожает. Базильо! — Он щелкнул пальцами. — Товарищ не понимает. Проводите товарища. До свидания.
Глава 5
Андрей Т. вернулся в толчею коридора. В голове его роились вопросы, и первый из них был — «зачем мне все это нужно?». Да, Генка, конечно. Друг в опасности, друга надо спасать. Но кто ему дал знать об опасности? Конь Кобылыч. А какова его слову цена? Копейка в базарный день. Вот именно что копейка. Может быть, действительно Генка-Абрикос здесь, числится каким-нибудь Иваном Коровьим сыном, и прячут его от людских глаз в стенах этого казенного заведения. Тогда опять вопрос — для чего? И сам Андрей Т. здесь — для чего? Тьма египетская вопросов, а ответов пока не видно. Единственное, что почему-то приходило на ум, — какие-то древние рекрутские наборы, старая унылая Англия, вербовка в матросы Королевского флота, когда людей поили до полусмерти в кабаке, а наутро закованный в кандалы новобранец просыпался от пинков капитана за несколько миль от берега.
Всем вокруг почему-то уже было известно, что Андрей — былинный герой Садко, а значит, гость богатый и важный, и, видимо, по этой причине возле него вертелись всякие неблагополучные личности — в чешуе; в дурно пахнущих рыбачьих сетях вместо одежды, с трезубцами, увитыми водорослями, а один, в чалме, при серьгах и с бусами на тщедушном теле, назойливо, как бомж в переходе, что-то мямлил Андрею на ухо — то ли просил на водку, то ли предлагал какую-то аферу с алмазами, которых, как он клялся, не счесть в каких-то там каменных пещерах.
Андрею Т. насилу удалось от него отделаться — помог недавний знакомый, волк; он рыкнул на прилипчивого субъекта, и тот, мелко кланяясь и юля, растворился в прогуливающейся толпе.
— Здрасьте, — кивнул зачем-то Андрей потрепанному серому хищнику, хотя виделись они с ним недавно.
Волк стоял, закинув лапы на подоконник, и с какой-то неизбывной тоской вглядывался в заоконный пейзаж.
— Солнце садится… Август. — Волк вздохнул и прикрыл глаза. Потом открыл их и печально продолжил: — В лесу сейчас хорошо, покойно. Душицей пахнет, паутина в ветвях блестит, белки по стволам бегают. А то и лось на полянку выйдет, протрубит — и обратно, в чащу. Лось… — Волк опять вздохнул. — Мне бы сейчас хоть кильки в томате. Хоть селедочных голов полкило.
— Да уж, кильки — оно конечно, — приличия ради согласился с ним Андрей Т. Потом, помедлив, спросил: — Что, так и сидите здесь взаперти?
— Так и сидим, — вяло ответил волк.
— Не выпускают?
— Выпускают, да толку! Мы же ведь только здесь реальные, в этих стенах. А там, на воле, мы — сказки.
Андрей кивнул, хотя, говоря по правде, ни слова не понял из туманного объяснения хищника. Он пристроился рядом на подоконнике и стал смотреть на вид за окном. Никакого леса он не увидел. И закатного солнца тоже. Какие-то чахлые деревца были, и что-то мутное, как лампочка в подворотне, пряталось в рыжеватом облаке, но ничего бунинского, тургеневского Андрею Т. эти картины не навевали. Разбитая асфальтовая площадка, окантованная пыльными клумбами с гигантскими пожухлыми сорняками; бетонные колонны ограды с редкими чугунными пиками, в ней прорехи шириной в шкаф; за оградой, за распахнутыми воротами, с десять соток сильно пересеченной местности — крапива вперемежку с чертополохом, невысокие пирамиды щебня, залежи бытового мусора, черепа домашних животных, лужи в мазутной пленке, воробьи на свисающих проводах. От ворот, чуть заметная среди этой неразберихи, вела грунтовая, вся в выбоинах, дорога, доходила до зарослей ивняка и терялась за каменистой насыпью. Горизонт тоже был неказистый.
Андрей Т. подавил зевок и хотел уже отойти от окна, как вдруг увидел клубящееся облако пыли и плывущий в этом облаке «мерседес». Машина миновала ворота, въехала на разбитый асфальт, снесла по дороге урну и остановилась под самыми окнами. Все четыре дверцы одновременно раскрылись, и из них полезла на белый свет удивительная компания.
Была здесь омерзительного вида старуха в сером штопаном балахоне, который вздымался у нее на спине двумя острыми горбами разной величины. Физиономия у нее тоже была серая, нос загибался ястребиным клювом, правый глаз горел кровавым огнем наподобие катафота, а на месте левого тускло отсвечивал большой шарикоподшипник.
Был здесь страхолюдный толстяк в бесформенном костюме в красно-белую шашечку и с лицом, похожим на первый блин.
Был здесь и мужчина, похожий на покосившуюся вешалку для одежды. Выбравшись из машины, он стоял пугалом на асфальте, подпертый костылем спереди и еще двумя по бокам. Пальто горохового цвета висело на нем нараспашку; из-под него виднелись свисающий до полу засаленный шелковый шарф, свободно болтающиеся полосатые брюки и шерстяной полосатый свитер, не содержащий внутри себя ничего, кроме некоторого количества спертого воздуха.
И был здесь еще недобитый фашист в мундире без пуговиц и на скрипучей деревянной ноге. И хмырь с челюстью и без шеи, в пятнистой майке, в татуировке и с руками-вилами, которыми он рассеянно разгибал и сгибал железный дворницкий лом. И эстрадная халтурщица. И кого только еще в «мерседесе» не было.
Андрей Т. насчитал не менее двух десятков экзотических экспонатов, которым самое место в Кунсткамере или в каком-нибудь серпентарии со стенками из пуленепробиваемого стекла. Непонятно даже, как вся эта чудовищная орава поместилась в машине и вдобавок не сожрала друг друга в пути.
Андрея Т. в момент прошиб пот. Он вспомнил роковую площадку, окруженную железными стенками, и стоящего посередке Генку, и себя со шпагой в руке, спешащего на защиту друга. И ухмыляющуюся толпу уродов, напирающую плотной стеной…
Наваждение. Не может такого быть. Ведь тогда ему все прибредилось, он же в лежку лежал, болел, фолликулярная ангина и все такое.
Но компания за окном явно подавала все признаки самой что ни на есть объективной реальности. Ругалась, плевалась, собачилась друг с другом на выходе, щелкала железными челюстями, размахивала в воздухе костылем.
Чтобы как-нибудь себя успокоить, Андрей Т. обратился к волку, показывая ему за окно:
— Простите, но вы только что говорили, что на воле, вне Заповедника, все, кто в этих стенах живут, не более чем сказочные герои. То есть там вас, вроде, не существует. А если так, то кто же тогда вон эти, которые внизу, под окном?
— Явились, не запылились. — В глазах волка полыхнул огонек. Видимо, он только сейчас заметил прибывшую компанию. — Чтоб им всем ни дна ни покрышки. — Он щелкнул зубастой пастью и снял передние лапы с подоконника. — Эти к нам не относятся. Эти здесь подселенные. Они вообще не из сказок, они из снов. Знать бы только, какой такой вше в коросте эта нежить могла присниться, я бы того поганца во сне загрыз. Чтобы не просыпался. — Волк вонзил когти в линолеум и оставил в нем глубокие борозды.
Андрей Т. стоял и молчал, поглаживая ладонями щеки. Он чувствовал багрянец стыда и острые иголочки совести, пронзающие изнутри сердце. Уж он-то отлично знал, кому приснилась вся эта нежить, все эти ходячие пугала и разлагающиеся на глазах трупы. Но почему они воплотились в явь? И почему они оказались здесь? И не связано ли его прибытие в Заповедник с этой похоронной командой, которую он сам когда-то и породил? А Генка-Абрикос лишь наживка, на которую его сюда приманили.
Глава 6
Пока он обо всем этом думал, в броуновском движении по коридору наметились целенаправленные потоки. Загуляли по толпе шепотки; те, кто побойчей да понахальней, уже расталкивали локтями соседей н спешили куда-то вдаль.
Давешний общипанный петушок, что работал при Дадоне в охране, щелкая прозрачными крылышками, перелетал с головы на голову и кричал простуженным криком: «Дорогу! Дорогу ветерану охранных войск! У меня бронь! Я имею право, право, право… кирикуку!..» Его бодали, его хватали, но он не давался в руки, отмахивался, отклевывался и нахально пер через головы.
Слон, как большой таран, прокладывал себе лбом дорогу; маленькая стервозная собачонка, видимо, та самая Моська, кусала исподтишка окружающих, тявкала на них мелко и злобно и пряталась под слоновьей тушей.
Мимо Андрея Т. проскочил какой-то бойкий чертенок; лоб его пересекала бандана; хвост был завязан бантиком; к синей негритянской губе прилепилась замусоленная цигарка; но не это удивило Андрея, не это его вывело из себя. «Спидола»! Памятник его отроческой отваги. Маленький допотопный приемничек, принявший на себя когда-то смертельный удар Кобылыча и выживший, дотянувший до сегодняшних дней. У чертенка в когтистой лапе был его спасительный талисман.
Спиха! Спидлец? Спидолушка! Андрей Т. чувствовал себя подлецом. Как он мог позабыть о Спихе! Да, оправдания были — вихрь неожиданных впечатлений, безумная обстановка вокруг, безумные эти встречи и разговоры… Нет, не было ему оправданий!
Он ввернулся коловоротом в толпу и устремился за бесовским отродьем.
Чертенка он разглядел не сразу. Тот был наглый, черный и голый, а таких в спешащей толпе было, почитай, большинство. Наконец он его заметил, вернее заметил сначала хвост, завязанный модным бантиком; Андрей Т., не сильно смущаясь, ухватил чертяку за хвост и намотал его на запястье.
— Стой! — сказал он чертенку. — Нехорошо зариться на чужое.
— В чем дело, дядя? — Чертенок слегка опешил. К разговорам на моральные темы он явно был не приучен. — О чем базар? Я что, корову твою украл?
— Приемник, — Андрей Т. показал на «Спидолу», — он разве твой? Ну-ка, отвечай честно: как он к тебе попал?
— А, это… — Чертенок недоуменно посмотрел на приемник. — Надо же, из-за такой рухляди здоровья человека лишать! Хвосты ему отрывать с корнем! А еще говорят — черти! Злые, неумытые, вредные. Да вы, люди, по сравнению с нами, чертями, как акулы по сравнению с морскими свинками.
— Ты чего это к малолетке пристал? — Рядом уже толклись любопытные. Толстый одноглазый верзила с заросшей щетиной физиономией почесывал волосатые кулаки и искоса поглядывал на Андрея: — Думаешь, раз большой да богатый, так, значит, можно над сирыми и убогими измываться?
— Граждане, это не я. Это он у меня «Спидолу» украл. А я ничего, все честно. Да чертенок вам и сам подтвердит. Ведь, правда, это моя «Спидола»?
— Не брал я никакую «Спидолу». Это тятька мне на Вальпургиеву ночь подарил. Вон и дырка в ней — моя дырка. Специальная, чтобы подглядывать, когда в прятки водишь.
Андрей Т. буквально остолбенел от такого поворота событий. Нахрапистое хамство чертенка, перемешанное с откровенным враньем, лишило Андрея сил. Он даже хвост выпустил из руки, а зря. Чертенок только того и ждал. Он пыхнул табачным дымом, сделал Андрею нос и растворился в толчее коридора. Вместе с несчастным Спихой.
Звонко пропел звонок. Все заголосили, затопали, толпа подхватила Андрея, протащила его по коридору волоком, пропустила через мясорубку дверей и выбросила помятого, но живого, в освещенный актовый зал.
Зал был наполнен зрителями. Они гроздьями свисали с балконов. запрудили тесный партер, некоторые устраивались в проходе на малиновой ковровой дорожке я маленьких раскладных стульях.
Звонок пропел во второй раз, затем в третий, последний, но шум в зале не утихал. Наконец, на ярко освещенную сцену вышел знакомый Андрею кот. Тот самый, которого он спутал с Мурзилой. На нем был бархатный зеленый кафтан, на голове шляпа с павлиньим пером, из рукавов торчали длинные кружевные манжеты, задние лапы утопали в ботфортах с широкими блестящими пряжками, за поясом из мореной кожи был заткнут жуткий разбойничий пистолет с раструбом на конце ствола. Кот грозно оглядел зал. Публика вела себя вызывающе. Тогда он вытащил из-за пояса пистолет и выстрелил. Зал наполнили грохот, дым и огонь. Публика зааплодировала. Когда аплодисменты утихли, кот заткнул пистолет за пояс и объявил программу.
Андрей Т. сидел в середине зала, ряду, примерно, в десятом, стиснутый с обеих сторон угрюмыми подозрительными субъектами. Кота он слушал вполуха, все больше косясь на соседей и на всякий случай подстраховывая карманы, хотя, кроме горстки мелочи да пары полинялых десяток, в карманах ничего не было.
Эти двое, между которыми он оказался, оба были бледные и худые и похожи друг на друга как две капли воды. Лица их были рыбьи, губы сильно вытянуты вперед и постоянно будто что-то жевали. И запах от них шел рыбий, и это последнее обстоятельство раздражало Андрея Т. больше всего. Пересесть он уже не мог, зал был набит битком, да и эти, что его подпирали, при малейшей попытке Андрея хотя бы пошевелиться, вдавливались в него плотнее и держали в жестких тисках.
Программа, которую огласил кот, была какая-то дробная и размытая. Никакого определенного стержня в предлагаемых на вечере номерах Андрей, как ни старался, не уловил. Возможно, его отвлекали соседи. Все, что происходило в зале, называлось очень длинно и вычурно: «Плановое ежегодное отчетно-показательное концертно-массовое мероприятие…» и так далее. Что «так далее», Андрей Т. не запомнил.
Из объявленных котом номеров ему запомнились следующие:
«Падение Икара», театрально-мифологическая сцена; «Полет шмеля», музыкально-драматическая композиция; «Папанинцы на льдине», вольная сценическая интерпретация народной былины; «Елка в Сокольниках», балетная композиция; «Рассвет над Елдыриной слободой», оратория для хора и балалайки с оркестром, части первая и вторая; «Амур и Психея», альковная сцена из Лафонтена. А также — в части «Массовые игрища и забавы» — соревнование по перетягиванию каната, бег в мешках, выпивание воды на скорость, коллективное отгадывание загадок и прочие культурно-спортивные мероприятия. Развлечения из части массовой должны были равномерно перемежаться с выступлениями самодеятельных коллективов.
Вечер обещал быть насыщенным. Единственное, о чем сожалел ведущий, — так это об отсутствующем директоре. Но возможно — кот особо выделил это слово — возможно, господин директор и будут. Если сложатся соответствующие метеоусловия. А пока его заменит уважаемый господин Пахитосов. Кот коротко и вяло проаплодировал.
Откуда-то из-за левой кулисы на сцену выкатился тот самый хмырь, что принимал Андрея Т. в канцелярии. Он весь был расфранченный и расфуфыренный, в строгом костюме с блестками и с зачесанными на пробор волосами. Он раскланивался и расшаркивался и посылал в зал воздушные поцелуи, как какой-нибудь третьесортный конферансье из окраинного Дома культуры. Поюродствовав пару минут на сцене и бросив в публику невнятные поздравления, он сбежал по лесенке в зал и устроился где-то в первом ряду партера.
Вслед за ним покинул сцену и кот.
Представление началось.
На сцену вышли два странных малых. Один был лысый, с пристяжной бородой, другой — стриженный под горшок подросток; оба были в мятых рубахах, перехваченных в поясе ремешками. Тот, что был лысый и с бородой, нес в руках какую-то ветошь. У второго руки были пустые. «О сын мой, — сказал лысый и бородатый, — ты знаешь, что я великий изобретатель. Это я изобрел топор, штопор и паруса. А этой ночью, пока ты спал, я изобрел крылья, чтобы летать, как птица. Вот они». Лысый протянул свою ношу стриженному под горшок пареньку. «О отец мой, — отвечал ему паренек, — я поистине восхищен божественной смелостью твоего ума, но в одном я смею с тобою не согласиться». Тогда взял слово лысый и бородатый. Он трагически наморщил лицо и сурово обратился к подростку: «О сын мой, в чем же причина твоего со мной несогласия?» Молодой человек потупился. Он покрылся краской стыда. Он готов был провалиться сквозь сцену и активно это показывал, большим пальцем правой ноги ковыряя под собой пол. «Ну же?» — торопил его с ответом изобретатель. Наконец, выдержав паузу, молодой человек решился. «О отец мой, — сказал он с пафосом, — ты сказал, что этой ночью я спал. Ты не прав. — Он посмотрел на отца. — Всю ночь я овладевал знаниями». Он вытащил из-за пазухи книжку с таблицами логарифмов и торжественно помахал ею в воздухе.
Далее они лили слезы и вымаливали друг у друга прощение, отец, восхищенный сыном, разрешал ему часок полетать, сын привязывал себе к плечам крылья, сверху опускался канат, сына поднимали над сценой и на время он исчезал из виду; затем под барабанную дробь откуда-то из-под театральных небес раздавался истошный крик, сверху летели перья, и что-то грузное и человекообразное с хлюпаньем падало на подмостки и, с секунду поизвивавшись в агонии, замирало, испустив дух.
Сразу после Икара шла музыкально-драматическая композиция «Полет шмеля». Ничего особенного Андрей Т. в ней не нашел — что-то пожужжало и стихло, и сразу же был объявлен очередной номер. Но в перерыве между номерами случилось нечто.
Андрей сидел и ждал, пока сцену обкладывали белыми картонными тумбами и застилали широкими простынями: первые должны были изображать айсберги и торосы, вторые — заснеженную поверхность льдины, на которой зимовали папанинцы. И тут над рядами зрителей замелькал бумажный листок; он плыл из первых рядов и быстро приближался к Андрею. Андрей Т. его машинально взял и хотел уже передать дальше, как оба его соседа повернули к нему свои головы, и два пальца — слева и справа — ткнули сперва в записку, потом в него. Этот их молчаливый жест явно значил, что адресат — он.
Пожав плечами, Андрей Т. развернул листок. В записке было всего три слова: «Жду в курилке». И ниже подпись: «Г.А.». Ровные печатные буквы. Отпечатано на матричном принтере. «Генка? — Андрей Т. заерзал на месте. — Абрикос?» Он попытался вытянуться, разглядеть возможного отправителя, но жилистые тела соседей не дали ему этого сделать.
Пока он сосредоточенно размышлял, публика, устав от папанинцев, скандировала громогласно и дружно: «Психею давай с Амуром! Постельную сцену давай!» — и топала себе в такт ногами. Подливала масло в огонь группа обитателей Заповедника, оккупировавшая два первых ряда. Она вела себя особенно вызывающе — курила, не выходя из зала, стреляла по соседям окурками, что-то у них там звякало, чем-то они там булькали, и народный герой Папанин как стоял на сцене с протянутой в зал рукой, собираясь произнести речь, так и стоял, бедняга, минут уже, почитай, пятнадцать; роль он позабыл начисто. Злостных нарушителей дисциплины из-за спин было не разглядеть; впрочем, когда сидящий напротив атлет нагнулся, чтобы почесать пятку, Андрей заметил вдали у сцены два мелькнувших острых горба, показавшиеся ему очень знакомыми.
Положение спас кот Базильо. Он метеором влетел на сцену, громыхнул из своего пиратского пистолета и одним мановением лапы убрал со сцены всю папанинскую бригаду вместе с тумбами, простынями и героикой арктических будней. Затем навел пистолет на зал и голосом зловещим и строгим объявил конкурс загадок.
Условия конкурса были простые. Хором не кричать. Ногами не топать. Желающие предложить ответ молча поднимают вверх руку. Неправильные ответы обжалованию не подлежат, и каждый такой ответ оценивается в минусовое очко. По сумме минусовых очков не угадавшему назначается штраф в виде урезки ежедневнего рациона. Тому, кто ответит правильно, вручается ценный подарок.
На сцене установили ширму. Кот внимательно оглядел зал, почесал пистолетом за ухом и покинул сцену. За ширмой кто-то прокашлялся и хрипловатым голосом произнес:
Вжик, вжик, вжик, вжик, Я не баба, не мужик, Не кобыла, не свинья. Угадайте, кто же я?Голос стих, из-за ширмы раздался смешок.
— Пила, — выкрикнул из задних рядов какой-то мохнатый дедушка.
— Сам ты пила, — ответили ему из-за ширмы. — Ответ неправильный, не засчитывается. Проигравшему одно очко в минус.
Рядом с Андреем Т. поднялся малохольный верзила.
— П-помидор, — с надеждой сказал верзила и судорожно сглотнул слюну.
— Почему помидор-то? — спросили малохольного из-за ширмы.
— Не знаю, больно есть хочется.
— Ответ неправильный, одно очко в минус.
— Можно, я? — Андрей Т. узнал Читателя сказок. Тот стоял, держа под мышкой тонкую книжицу в глянцевой бумажной обложке. Имени автора было не разглядеть, мешала рука, но название читалось четко: «Бегство в Египет».
— Можно, — снисходительно ответили из-за ширмы.
— Сфинкс.
За ширмой наступило молчание и длилось довольно долго, пока в зале не раздались свистки. Тогда створки ширмы раздвинулись, и все увидели нелепое существо — небольшое, размером с пони, шкура львиная с кисточкой на хвосте, на спине короткие крылья, лицо ушлой базарной тетки и пудовые обвислые груди, упрятанные под спортивную маечку. Впрочем, нелепым оно, возможно, представлялось только Андрею Т. Остальная публика реагировала на существо вполне равнодушно — ни хохота, ни просто смешков в зале его явление не вызвало.
— Ответ правильный, — сказала зверь-баба и вихляющей, манерной походкой направилась за кулисы.
— Простите, — робко пробормотал отгадавший, — а подарок?
Зверь-баба остановилась; она медленно повернула голову и медленным невидящим взглядом обвела зал. С полминуты она отыскивала источник голоса, хотя смущенный Читатель сказок высился каланчой средь зала, сутулый и с багровым лицом. Наконец она заметила отгадавшего.
— Но не так же сразу, молодой человек, — она обворожительно улыбнулась, продемонстрировав собравшейся публике многочисленные свои клыки, — сразу только кошки рожают. Надо выписать накладную, заверить, получить со склада товар. Вы что же, первый год замужем? За подарком зайдете завтра, а куда — читайте на доске объявлений.
Читатель сказок кивнул и бухнулся на свое место, видно и сам не рад, что ввязался в это склочное дело. Сфинкс, а это была она, помахав залу кисточкой на хвосте, победно удалилась со сцены. Створки ширмы были уже вновь сдвинуты, за ними слышались суетливые шепотки — там вполголоса репетировали очередную загадку. Через минуту хор невидимых голосов пропел:
Трясь, трясь, трясь, трясь, Мы не щука, не карась, Не ерши сопливые, Не угри сварливые, Не севрюги, не сомы. Угадайте, кто же мы?Этих определили сразу. Кильки в томате. Ширма раскрылась, и веселая килечья братия вывалила пред глаза публики. Все они были в узких коротких юбочках, хихикали, пританцовывали, а те, что покрепче да поактивней, палочками колотили по невскрытой консервной банке — вели ритм. Отгадавший тут же эту банку и получил под завистливые пересуды соседей.
А потом прозвенел звонок. «Антракт! Антракт!» — закричали в зале. Народ валом повалил к выходу. Андрей встал и, комкая в кулаке записку, стал протискиваться по ряду влево. Два субъекта с рыбьими головами не стали ему в этом перечить, но, когда он оказался в проходе, зажали его в кольцо и медленно, но уверенно повлекли к запасному выходу.
— Господа, я не понимаю… — попытался объясниться Андрей, но те, как механические игрушки, не обращали на Андрея внимания. Лишь один, сложив пальцы ножницами, сделал вид, что затягивается сигаретой. Потом кивнул на запасной выход. Это значило, что курилка там.
«Если записку передал Абрикос, тогда при чем тут эти двое с рыбьими головами? Не Генкины же они друзья. С такими только утопленнику дружить. — Таков был ход его мыслей. — И записка. Писана она не рукой. Это значит, подготовили записку заранее. Что из этого следует? Что угодно из этого следует».
Андрей Т. вздохнул и покорно двинулся навстречу судьбе.
Глава 8
Курилка располагалась неподалеку — налево от запасного выхода, рядом с раздевалкой и туалетами. Уже загодя в коридоре поднималась дымовая завеса и слышались сипловатые голоса. Андрей Т., ведомый поводырями, дошел до заветной двери, открыл ее и вошел. Сопровождающие остались стоять снаружи.
Сам Андрей не курил, но на курящих смотрел сквозь пальцы. Дым ему нисколько не досаждал, хотя и радости он от него не испытывал.
Сизая табачная дымка мешала оценить обстановку. Судя по количеству дыма и голосам, курильщиков было много. Но сколько Андрей ни вглядывался, кроме мутных, неясных контуров, разглядеть никого не мог.
— На Дону и в Замостье тлеют белые кости, — гнусавил кто-то в дыму вполголоса. Голос явно принадлежал не Генке, но на всякий случай Андрей Т. решил убедиться — мало ли что делает с человеком время. Он пошел на источник голоса, ладонями разгребая дым. Лучше бы он сюда не ходил. У белой кафельной стенки стоял мертвый одноногий солдат в полной красноармейской экипировке — в гимнастерке, буденовке, в галифе, с фанерной кобурой на ремне. Вместо отсутствующей ноги из штанины торчала желтая корявая деревяшка с зарубками и непристойными надписями на русском, украинском и польском. То, что солдат был мертвый, было ясно по распухшему языку и мозаике трупных пятен, украшавших его лицо и шею. Глаз у солдата не было; видимо, их выклевал ворон, судя по черным перьям, облепившим его одежду. Мертвый-то он был мертвый, но вел себя вовсе не как мертвец. Дымил как паровоз папиросой, хрипел про псов-атаманов, а когда опешивший Андрей Т. тихонечко хотел уйти в дым, выхватил из кобуры маузер и стал судорожно жать на курок. Маузер, слава Богу, не выстрелил, должно быть механизм заедало, и Андрей Т. благополучно ретировался.
Он медленно отходил задом, стараясь не издавать шума — чтобы боец не сориентировался на звук. Сделав шага четыре, Андрей Т. почувствовал вдруг спиной, что кто-то его поджидает сзади. Он обернулся резко, но из-за дыма ничего не увидел, лишь услышал слабенький хохоток. «Генка, — подумал он. Вот зараза, нашел время делать приятные неожиданности! Еще бы по плечу меня хлопнул, тут бы я точно отдал концы!»
— Ген! — сказал Андрей Т. шепотом. — Это ты? Выходи, хватит придуриваться.
Из облака табачного дыма снова вырвался хохоток, но теперь он звучал чуть дальше.
— Абрикос! — Андрею Т. стали надоедать эти идиотские прятки; он резко шагнул вперед, и вдруг из табачной мути высунулась большая челюсть, клацнула перед его носом и задергалась в идиотском хохоте. Андрей Т. узнал ее обладателя. — И-извините. — Голос его дал трещину; он смотрел на вилоподобные руки, на железный дворницкий лом, на хлопья желтоватой слюны, вылетающие изо рта этого человека-молота.
— Гы-гы. — Хмырь с челюстью продолжал смеяться и, так же продолжая смеяться, спрятался за табачной завесой.
Андрей Т. вытер вспотевший лоб и направился наугад к выходу. Ноги его слушались плохо. Он сделал уже шагов двадцать, но курилка словно разрослась вширь; она все не хотела кончаться.
Впереди замаячило что-то темное; Андрей Т. подумал, что это долгожданная дверь, прибавил шагу, но из табачной копоти вылезли гороховое пальто, шелковый засаленный шарф и коптящая атмосферу трубка.
— Извините, молодой человек, — сказали пальто и трубка. Голос их звучал с хрипотцой и с легким прибалтийским акцентом. — Вы случайно не знаете, какое минеральное сырье из стран Южной Азии вывозится на мировой рынок?
Андрей Т. судорожно сглотнул и попятился в табачное облако. Голова шла кругом, в глазах прыгали какие-то пуговицы, некоторые были со свастикой, некоторые с красноармейской звездочкой. «Выход, выход, где выход?» — стучало в его мозгу. Он тыкался влево, вправо, но везде было прокуренное пространство, полное чудовищ и голосов.
Кто-то коснулся его плеча. Ожидая очередного оборотня, он втянул голову в плечи и собрался отпрыгнуть в сторону, но сзади его спросили:
— Здрасьте, Андрей Т. — это вы будете?
Голос принадлежал женщине, и Андрей Т. нехотя обернулся.
— Людмила. — К Андрею уже тянулась ссохшаяся наманикюренная рука. — Можно Люся. — В женщине он узнал халтурную эстрадную диву из компании, приехавшей в «мерседесе». Где-то тихо заворковала музыка, и гнусавый поддельный голос запел про неземную любовь. — Вы курите? — Женщина улыбнулась; Андрей вымученно мотнул головой, что означало «нет». — Какой же вы робкий мальчик. Вы всегда так обращаетесь с женщинами?
«С такими, как ты, — всегда», — хотел ответить Андрей Т. этой стерве, но тут из-за табачной стены высунулся еще один персонаж этого сумасшедшего действа. То ли он был цыган, то ли он был пират — судя по серьге в ухе, черным смоляным патлам и хищной золотозубой улыбке, не слезающей с его обугленного лица.
— Рыбонька моя златоперая, где ты? — сказал вновь появившийся персонаж. — Я тебя везде обыскался. — Тут он как бы случайно бросил взгляд на Андрея Т., вернее, сделал вид, что случайно. — Что я вижу! Измена! О, несчастная, на кого же ты меня променяла? На этого… этого… — Глаза его налились кровью. Пиратская серьга в ухе горела, как лунный серп. Он вытащил из-за пояса нож. — Я зарежу вас обоих. Сначала его, а потом тебя. Ты этого заслужила, коварная. — Грянула музыка из «Кармен». Золотозубый герой-любовник бойко изображал сцену ревности.
— Отставить. — Рядом кто-то закашлялся, выдавливая сквозь кашель слова. — Тоже мне, нашли место — в курилке! Вы бы еще на сцене базар устроили.
— Пардон, мадам! — Чернявый завилял задом и отвесил полупоклон. Нож был убран за пояс. Музыка замолчала.
— А вас, Андрюша, и не узнать. Да, время! Сколько лет-то прошло? Пятнадцать? Двадцать? Волосы вон уже седые. Жена, небось, детки, внуки скоро пойдут, зарплату на работе не платят. Что, жизнь не балует?
Андрей Т. смотрел на двугорбое существо в сером штопаном балахоне и не знал, отвечать ему или плюнуть, не долго думая, в отливающий огнем катафот на месте ее правого глаза.
Но старухе были, похоже, и не нужны подробности его личной жизни. Она подергала свой ястребиный клюв, вздохнула и продолжала дальше:
— Жизнь нынче — штука сложная, никого не балует. — Она перешла на «ты». — Это тебе не со шпагой по коридорам бегать. Не забыл, поди, ту историю? Как за дружбу-то на шпажонке дрался? Не забыл, вижу, что не забыл, — желваки-то так ходуном и ходят! И, наверно, до сих пор думаешь, какие мы все мерзавцы, какие мы все плохие, как бы нас всех того… — Она чикнула средним и указательным пальцами возле зобастой шеи и хрипло расхохоталась. — Узкий у вас, у людей, кругозор. И понятия у вас такие же узкие. Вы — хорошие, мы — плохие. У вас — помощники, у нас — прихвостни. У вас — лица, у нас морды и хари. О великий и могучий язык, в котором все можно поставить с ног на голову! — Она воздела к задымленному потолку свои подшипник и катафот, потом вернула глаза на землю и посмотрела на Андрея Т. с упреком. — А мы не такие. Мы — не враги. Мы тебя специально тогда проверяли. «К другу на помощь…» и все такое. Это же была проверка на дружбу. Трус ты или не трус. А ты не понял — гады, мол, и делают только гадости. И до сих пор не хочешь понять.
Андрей Т. наконец решился вставить слово в ее затянувшийся монолог:
— Значит, это вы меня сюда заманили? И Генка тут ни при чем? Зачем? Ответьте мне ради Бога — зачем я вам нужен? И записка эта дурацкая — для чего?!
— Погоди, не перебивай. Я еще не договорила про дружбу. — За растопыренными зубами старухи жадно шевелился язык. Жил он сам по себе, независимо от разговора хозяйки; раздвоенный на равные дольки, он скользил меж ее зубов, выискивая остатки пищи. Иногда язык замирал, поднимался как голова змеи, словно бы о чем-то задумывался. И тогда Андрею Т. представлялось, что у старухи во рту змея, и стоит только ей приказать, как змея выпрыгнет стрелой изо рта и пронзит его ядовитым жалом. — Вот ты думаешь, только у тебя дружба. И этот твой драгоценный Геннадий М., из-за которого ты здесь, собственно, и находишься, лишь узнает, что его дружок в Заповеднике, вмиг примчится сюда на белом коне, как какой-нибудь Георгий Победоносец. А теперь послушай меня, старую и мудрую женщину. Не примчится к тебе твой Геннадий. И тогда не примчался бы, двадцать лет назад, и сейчас, тем более, не примчится. Потому — вы с ним люди разные. Это ты прошел испытание, а он его не прошел. Вот в чем между вами разница. Ты не трус, а дружок твой — трус.
— Вранье! Все вранье! Вы его не знаете.
— Это мы-то его не знаем? — Старуха, а вслед за ней и столпившиеся вокруг уроды громко и противно расхохотались.
— Но уж давно известны нам любовь друзей и дружба дам, — процитировал недавний ревнивец.
— Мы твоего Геннадия М. знаем как облупленного, — сказала старуха. — Он… — Она помедлила, лениво покачивая горбами. — Про него успеется, сначала надо разобраться с тобой. — Она окинула взглядом собравшуюся вокруг компанию. Здесь были все, кого увидел Андрей Т. на площадке перед зданием Заповедника, когда смотрел из окна. И человек-блин, и недобитый фашист, и хмырь с челюстью, и человек-вешалка, и эстрадная халтурщица, и еще много других, которых, если описывать, то не хватит никаких слов. Двугорбая старуха, похоже, была тут главной. Окинув взглядом всю свору, она выбрала из всех одного и поманила его к себе. Выбранный был невысок ростом, лицо имел сплющенное и острое, похожее на лезвие топора, носил клинообразную бородку a la Калинин и весь был оплетен паутиной с налипшими на нее дохлыми мухами. Одна нога его была повернута пяткой вперед, другая была нормальная. Он подошел к старухе и почтительно перед ней осклабился. — Скажи-ка мне, Дрободан Дронович, кто есть для тебя он? — Старуха показала атому нелепому существу на Андрея Т.
Существо потупилось и сказало:
— Папа.
— Вот видишь! — Старуха бросила на Андрея Т. победный взгляд и велела клинобородому Дрободану вернуться в строй. — Ты ж наш папочка, мы все из твоего сна вышли. Яблочки, как говорится, от яблоньки. А ты нас хочешь, как Иван Грозный своего сына… — Она покачала головой. — Нехорошо, папаша, нехорошо. Хромает у тебя педагогика.
— Послушайте… — Андрей Т. замешкался. Он не знал, как ему эту двугорбую уродину называть. — Нечего мне тут в родственники навязываться. Где Геннадий? Куда вы его от меня прячете?
— Это он нас ото всех прячет. Хорошо, есть на свете добрые люди. Не дают нам тут с голоду помереть, выпускают на волю. А то бы как эти, — она кивнула куда-то в сторону, — вся эта местная шелупонь, все эти окосевшие Соловьи-Разбойники да оголодавшие старики Хоттабычи. Ты пойми, мы не они. Мы не сказочные, мы — настоящие. А всех нас, как какого-нибудь Мойдодыра, сюда, в этот ящик, в этот дохлый НИИЧАВО, в Заповедник, чтоб ему ни дна ни покрышки. Мы же можем приносить людям добро, много добра, и добра настоящего, не сопливого, как у Золушки и ее тетки, а реального, твердого, как американский доллар. А нас тут пытаются удержать. И между прочим все этот твой ненаглядный Гена.
— Стоп, — сказал Андрей Т. — Думаете, я что-нибудь понял? Какой Мойдодыр? Какое такое НИИЧАВО? То самое? Кто вас пытается удержать, раз вы свободно на «мерседесах» ездите?..
— У папочки проявляются первые проблески разума. — Пока Андрей Т. спрашивал, старуха отвечала на каждый его вопрос довольным кивком. — Правильно, эмоции надо гасить и уступать дорогу рассудку.
— И Гена! Гена-то тут причем? — Андрей Т. все не хотел успокаиваться.
— Тише! — Старуха остановила его рукой. — Твой Гена и есть причина всех наших бед. Неужели ты до сих пор не понял? Гена, Геннадий М, — директор этого Заповедника. Он здесь полновластный хозяин. Ну, конечно, не полновластный, за всем ведь не уследишь, верно? — Последняя фраза относилась к окружающей ее толпе монстров. Те в ответ захрюкали, захихикали и стали наперебой подмаргивать своей уродливой командирше. Когда они отморгались, она продолжила образовательный курс. — Сейчас твой Гена в Москве. А завтра он будет здесь. И вся наша вольная жизнь кончится. Потому как переводят наш Заповедник на строгий подцензурный режим, и ходу отсюда нам уже никуда не будет. Так что, папочка, догуливаем последние денечки…
Андрей Т. почесал в затылке. «Вот оно что, оказывается. Абрикос у них здесь директор. Интересное получается приключение». Но что-то в ее рассуждениях было не так. Как-то у двугорбой старухи не сходились концы с концами.
— До завтра еще времени много. Вы же можете отсюда уехать. — Он задумался и добавил: — Или не можете?
— Можем, папочка, мы многое чего можем в отличие от тебя. Мы — народ памятливый и два раза на одни и те же грабли не наступаем. Но тебе, папочка, придется остаться здесь. Будешь ты, папочка, чем-то вроде залога. Сегодня в полночь мы тебя зафиксируем, а утром, когда приедет дорогой господин директор, увидит он вместо своего бывшего друга героя одноименной оперы композитора Римского-Корсакова. Прольет господин директор по своему бывшему закадычному другу скупую слезу, подпишет очередной приказ, и положат этот приказ на полку, где лежать ему до скончанья века рядом с тысячами других. Такая вот радужная перспектива.
Андрей Т. улыбнулся. Почему-то, выслушивая все эти угрозы, он не испытывал никакого гнева. Если поначалу он еще волновался, готов был спорить и доказывать свою правоту, то теперь успокоился окончательно. Уж слишком все это походило на фарс, слишком плохо играли занятые в фарсе актеры, слишком мелки, безжизненны и фальшивы были страсти, которые перед ним разыгрывались. Он — живой человек, они — мертвяки, ничто, вылезли из дурного сна и корчат теперь из себя хозяев вселенной. И еще неизвестно, существуют ли эти твари в действительности. Чем больше он обо всем этом думал, тем сильнее его разбирал смех. Какое-то время Андрей держался, но, наконец, не выдержал. В горле у него запершило, в глазах заиграли чертики и смех прорвался наружу. Андрей Т. стоял перед старухой, подергиваясь и прикрывая ладонью рот.
Двугорбая сначала не поняла. Она тупо уперлась своим мерцающим катафотом в дергающуюся от смеха фигуру, оглядела всю мерзопакостную компанию — не строит ли кто в ней рожи и не делает ли соседу рога, но, не заметив ничего подозрительного, вновь уставилась на Андрея Т. и спросила его удивленным голосом:
— Папочка, ты чего? Может, тебе валидолу? Есть здесь у кого-нибудь валидол?
Из толпы высунулся дохленький упырек, облизнулся и застенчиво предложил:
— А может, кровопускание? Натуральный способ, никакой химии. Помогает, я пробовал.
— Нетушки. — Андрей Т. бешено замотал головой. Смех смехом, а давать им пить свою кровь — уж это он ни за что не позволит. — Свою пускайте, а моя пусть останется у меня. И вообще, ребята, хватит мне тут морочить голову. Считайте, что разговора не получилось. Я пошел, мне пора. Где здесь выход?
— По-моему, папаша не понял. — Старуха заворочала под балахоном горбами, словно хищная огромная птица, собирающаяся взлететь. — Для тебя отсюда выхода нет. В Заповеднике ты останешься навсегда.
— Ага. Это я уже слышал. В полночь вы меня… как это? Зафиксируете. Кстати, что это значит — «зафиксируете»? Замочите что ли? А труп замуруете в стене?
— Скоро узнаешь, умник. — Это сказал человек-вешалка, поблескивая лаковым подбородком и выпуская из жерла своей дальнобойной трубки кольца порохового дыма.
— Невежливо перебивать старших, — осадил Андрей Т. нахала. Затем перевел взгляд на старуху: — Значит, вы мне добра желаете. Настоящего, реального, твердого, как американский доллар. И как же, я извиняюсь, согласуется это ваше добро с угрозами по моему адресу? Мне кажется, вы меня боитесь. И Генку, то есть господина директора, вы тоже боитесь. И то, что вы тут несете, — обыкновенный мстительный бред, и сами вы — тоже бред.
Лицо хмыря с челюстью, стоящего между халтурщицей и фашистом, из синего стало красным. Лом в его мясницких руках извивался, как раненая змея.
— Чувырло! — хрипло выдохнул он из себя. — Фраер меня достал! — Он грохнул ломом об пол.
— Фраер всех достал! Ведет себя оскорбительно. Фуфло гонит. Надо сделать ему маленькое «чмок-чмок». — Блинообразный толстяк в костюме в красно-белую шашечку, потирая вздувшиеся ладони, боком вылезал из толпы. Давалось это ему с трудом — мешало неохватное тело.
— Мальчик хочет в Тамбов. — Намакияженная халтурщица, бантиком сложив губы и слюнявя потухшую сигарету, выпустила свои острые коготки и наставила их на Андрея Т.: — Киса, зачем ты обидел девочку? Девочки не любят, когда их обижают.
— Мы, папаша, никого не боимся. — Двугорбая командирша расправила свои руки-крылья, успокаивая растревоженную толпу. — Заруби это себе на носу. Просто некоторые долги положено отдавать вовремя. Да, — она покрутила пальцами глаз-шарикоподшипник, — за квартирку свою городскую не беспокойся. За квартиркой за твоей мы присмотрим.
— А может его того?.. — Недобитый фашист хлопнул кулаком об ладонь. — В смысле, запереть до полуночи.
— Это без надобности, — ответила фашисту старуха. — Одна муха не проест брюха. А здесь народ тихий, молчит в тряпочку и зря не высовывается.
Глава 9
Все-таки дело кончилось дракой. Человек-студень, пока боком пер сквозь толпу, наступил кому-то там на ногу. Этот кто-то истошно взвизгнул, откинул для удара кулак и конечно же попал кулаком в упырька, того самого, что предлагал сделать Андрею кровопускание. Упырек, не стерпев обиды, размахнулся, но помешала толпа, а конкретнее, мертвый красноармеец, стоявший от него по правую руку. Красноармеец, не долго думая, вынул свой допотопный маузер и заорал во всю истлевшую глотку: «Врешь, сволочь! Есть через Сиваш брод, раз птицы туда летают!» Маузер глухо всхлипнул, должно быть — выстрелил; во всяком случае, звук падающего тела и стон прозвучали ясно; впрочем, тела Андрей Т. не видел, ему некогда было смотреть на тело, потому что все вдруг втянули головы и как-то подозрительно замолчали.
Причина такого странного поведения толпы открылась Андрею скоро.
— Хулиганим? — услышал он у себя за спиной. — Бузим? Срываем плановое ежегодное отчетно-показательное концертномассовое мероприятие? Бросаем на пол окурки? А урны, спрашивается, на что?
Андрей Т. обернулся. Кот Базильо, это был он. На нем не было ни бархатного кафтана, ни ботфортов, ни кружев, ни шляпы с павлиньим пером — никаких декоративных излишеств, в которых он щеголял на сцене; только хитрая кошачья ухмылка да вскинутые пики усов, нацеленные на переминающуюся компанию.
— И новенький тоже здесь. Не успел прописаться, а уже создает конфликтную ситуацию!
Андрей Т. сконфузился и пожал плечами.
Кот достал свою амбарную книгу, раскрыл ее наугад и, тщательно послюнявив коготь, сделал в ней какую-то запись. Потом захлопнул книгу, и она таинственным образом испарилась, спрятавшись у кота под мышкой.
— Всех прошу пройти в Воспитательный кабинет, — строго объявил кот. — Новичков это касается тоже. — Последнее относилось лично к Андрею Т.
Кот махнул хвостом, и все, включая Андрея, покорно поплелись за ним следом. Уже на выходе из курилки Андрей Т. обернулся, чтобы осмотреть поле боя. Но ни убитых, ни раненых он так и не обнаружил.
Воспитательный кабинет находился этажом выше. Они прошли мимо запертых дверей зала, из-за которых доносились выкрики и гул голосов. На сцене соревновались в перетягивании каната богатыри Илья Муромец и Бухтан Бухтанович Черногорский. Побеждал неизвестно кто; щелка между дверными створками была слишком узкой, а задерживаться не было времени.
В Воспитательном кабинете, похоже, их уже ждали. Это было просторное помещение, напоминающее учебный класс, — со столами, с небольшой кафедрой, с букетом цветов на кафедре, с коричневой доской на стене, на которой белым мелком кто-то вывел ровными, красивыми буквами: «Не ешьте руками, для этого есть ножи и вилки».
Когда компания с котом во главе ввалилась на порог кабинета, ее встретила голубокудрая девочка с огромными кукольными глазами и бантом в голубых волосах.
— Ах, ах, ах, — сказала она, прикладывая ладони к щекам, — что я вижу! Какой кошмар!
— Ну все, сейчас начнется правеж, — зевнул кривобокий дылда, что стоял от Андрея справа, и скрипуче поковырял в ухе. — Мальвинка, та еще стервочка. Плешь любому проест.
Девочка всплескивала руками и, поочередно оглядывая каждого из вновь прибывших, качала головой, приговаривая:
— Невозможно! Они гадкие шалуны! Настоящие ламброзианские типы! Их надо срочно перевоспитывать! Немедленно! Спасибо, синьор Базильо.
Кот расшаркался перед ней, потом строго посмотрел на доставленных:
— Сидеть смирно. Чтобы ни один у меня… Если будут на кого-нибудь жалобы, применим административные меры. До испанского сапога включительно. — И ушел, мягко притворив за собой дверь.
— Всем сесть по местам. Руки перед собой. Головой не вертеть. Друг с другом не разговаривать. — Девочка с голубыми волосами легко, словно бабочка на цветок, вспорхнула на высокую кафедру. С минуту она ждала, пока все усядутся за столы. Потом надела на нос очки и положила перед собой книгу. — Сейчас я прочту вам несколько поучительных историй. Слушайте внимательно. После чтения мы проведем обсуждение. — Она взглянула поверх очков на скучающие лица учеников, уткнула в книгу свой носик и начала картавящим голосом:
— Ульянушка была добрая девочка и никому не делала зла; она жалела даже, когда кто-нибудь и комарика мучил. Однажды она спасла от смерти собачку, которую плохие ребята хотели утопить в речке, и взяла ее к себе домой. Над нею смеялись и спрашивали, на что ей эта собачка; но Ульянушка отвечала: если б я за нее не вступилась, то она бы, бедная, умерла, а так я теперь довольна, что спасла собачку от смерти.
Три года кормила она эту собачку, и однажды вечером, когда Ульянушка легла спать и уже заснула, собачка вдруг вскочила к ней на постель и, дергая девочку за рукав, так громко залаяла, что Ульянушка проснулась.
При слабом свете ночника девочка увидела, что собачка пристально смотрит под кровать и при этом не прекращает лаять.
Ульянушка испугалась, отворила дверь и позвала слугу, который, по счастью, еще не лег спать. Он вошел в горницу и нашел вора, спрятавшегося под кроватью с кинжалом.
Вор признался, что намерен был убить девочку и украсть у нее бриллианты…
Когда Мальвина закончила историю про собачку, почти весь класс уже спал. Рядом с Андреем Т., высунув наружу язык и качая, как маятник, головой, дремал Дрободан Дронович. Порою он начинал причмокивать, и тогда Андрей Т. толкал его легонько в плечо, чтобы тот не создавал беспорядка. Странно, но сама воспитательница ничего такого не замечала. То ли ей мешали очки, то ли на нее так сильно действовало прочитанное. Она поправила цветы из букета и снова взялась за чтение.
— Вторая история называется «Своенравный мальчик», — объявила она, отбросила со лба прядку и начала:
— Егор не слушался своей новой учительницы и во всем ей перечил, что бы она ни говорила.
Тогда она объявила ему, что имеет правило сечь тех детей, которые ее не слушаются, и пошла за розгою.
Егор увидел, что дело идет не на шутку, и закричал: «Не подходите ко мне, у меня припадок, я умираю!» В самом деле, он затрясся всем телом.
Однако учительница не обратила на это внимания, позвала служанку и велела ей привести столяра, чтоб он поскорее сколотил гроб.
Мальчик сильно перепугался и, вытирая слезы, стал спрашивать: зачем ей гроб?
«Я хочу тебя, голубчика, в нем заколотить и тотчас после этого зарыть в землю, — отвечала учительница. — Ты мне обещал умереть, и я этому очень рада, ибо негодные ребята недостойны жить на свете».
«Не хочу в гроб, я лучше стану делать все, как положено, нежели чтоб меня зарыли в землю», — отвечал Егор, который, услышав такое грозное объявление, вмиг избавился от болезни и с тех пор никогда никаких припадков не имел.
Пока тянулась история про собачку, класс откровенно спал, но уже на половине рассказа о своенравном мальчике большинство перевоспитывающихся злодеев стало потихонечку просыпаться. Окончательно все проснулись, когда дело дошло до гроба. На лицах заиграли улыбки, щербатые рты раздвинулись. Видно было, что всех их здорово увлекла идея учительницы насчет гроба. А потом наступило разочарование. Когда выяснилось, что никакого гроба не будет.
Началось обсуждение. Первым поднял руку недобитый фашист. Мальвина благосклонно кивнула. Он вскочил и, не опуская руки, выпалил на одном дыхании:
— Если что обещаешь, обещание надо выполнять. Иначе ничего стоящего из человека не получится. Я считаю, что новая учительница не права, это не честно — пообещать заколотить человека в гроб, а потом не выполнить обещание.
— Насчет гроба — это правильно. Очень хорошо сказано: «негодные ребята недостойны жить на свете». Я полностью с ней согласна, — сказала эстрадная халтурщица, поднявшая руку сразу после фашиста.
— Не. — Хмырь с челюстью долго морщился и потел; мысль, должно быть, накатывала волной на песок, но мгновенно впитывалась рыхлой аморфной массой и исчезала напрочь. Наконец, он выцедил из себя с трудом: — Я б не так. Я б его сначала того… — Хмырь клешнями ухватил себя за глотку и надавил. — И служанку. — Он проглотил слюну. — И столяра. И учительницу. — Видимо, на хмыря нашло вдохновение. — И утюгами, утюгами… — Он победно оглядел всех присутствующих. — А потом в гроб. — Он сел.
— Хорошо, — сказала Мальвина. — Мнения спорные, но интересные. Мыслить творчески вы умеете. Но почему никто ничего не хочет сказать про девочку и собачку?
— И собачку в гроб вместе с девочкой, — добавил хмырь, не вставая с места.
Мальвина посмотрела на него строго.
— Кто дал вам право отвечать без спросу? Это нарушение дисциплины. Встаньте. И уберите куда-нибудь эту мерзкую железяку. — Она брезгливо показала на лом, который хмырь корежил в своих руках, словно тоненькую медную проволоку. Дождавшись, когда нарушитель дисциплины выполнит ее приказание, Мальвина попросила его пройти к доске. — Сейчас мы займемся арифметикой. Допустим, у вас в кармане два доллара…
Не дослушав до конца фразу, хмырь занервничал, сунул руку в карман и заворочал ею там с силой, громыхая каким-то хламом. Чем дольше он возился в кармане, тем больше багровых пятен проступало у него на лице.
— Я же вам сказала — допустим. — Она жестом остановила его напрасные поиски. — Допустим, у вас в кармане два доллара. Некто взял у вас один доллар. Сколько у вас осталось долларов?
— Кто? — Хмырь грозно обвел глазами присутствующих. — Замочу падлу.
Мальвина постучала крашеным ноготком по вазе с цветами.
— Не знаете, — сказала она, — очень плохо. Ставлю вам за ответ неуд. В классе есть желающие ответить на этот вопрос?
— Можно я? — Андрей Т. поднял руку.
— Отвечайте.
— Если в его кармане, — Андрей Т. показал на хмыря, — было два доллара, и некто взял у него один доллар, то в кармане остался один доллар.
— У вас хорошие способности к математике, — одобрительно кивнула Мальвина. — Вы у нас новенький? Как ваше имя?
— Садко… то есть Андрей… Запутался, извините.
— Ничего, это бывает. А скажите, Садко-Андрей, в какой руке нужно держать вилку, когда ешь рыбу? Если ответите правильно, то на сегодня я вас от занятий освобождаю.
Андрей ответил. Мальвина была ответом удовлетворена. Под насупленными взглядами оставшихся он покинул Воспитательный кабинет.
Глава 10
«С меня хватит! — была его первая мысль, когда он очутился за дверью. — К выходу и домой! Генка не пропадет, раз он у них директор».
Бодрым спортивным шагом Андрей Т. двинулся по коридору от двери. Дойдя до поворота на лестницу, он спустился на этаж вниз и выглянул в коридор. Пустыня — ни голосов, ничего. Лишь слегка попахивало больницей. Он спустился еще на один пролет, потом еще и еще, пока не очутился внизу. Здесь тоже никого не было. Он ступил в коридор, освещенный неоновыми стекляшками и увешанный поясными портретами. Шаг его невольно замедлился. Под колючими взглядами знаменитостей ему сделалось неуютно. Кого только на портретах не было. С одних смотрели седовласые старики в мантиях и остроконечных колпаках звездочетов, с других — такие же седовласые, но уже не в колпаках, а в ермолках, с третьих — седовласые и не очень, в костюмах, при обязательных галстуках, некоторые — с порослью на ушах. Порою попадались и дамы. Большинство из изображенных Андрей не знал, хотя многие имена на табличках внизу портретов ему кое о чем говорили.
Гермес, Соломон — ну, это понятно. Мельхиор, Бальтазар, Каспар — про этих он тоже слышал. Симон Волхв, Розенкрейц, Агриппа, Альберт Великий — этих он никого не знает. Роджер Бэкон, Парацельс, Нострадамус — веселенькая компания, судя по выражениям лиц.
Ага, а вот тут уже все люди знакомые — Калиостро, СенЖермен, Тихо Браге. Далее — знакомые и не очень: Кроули, Форчун, мадам Блаватская. И Карл Маркс — он-то как сюда затесался?
Андрей Т. шел и смотрел на лица, смотрел на лица и шел, и казалось, конца не будет этому иконостасу на стенах. Все это называлось «Галерея славы НИИЧАВО», так об этом сообщал транспарант, протянувшийся над колпаками и лысинами.
Хунта К. Х., Киврин Ф. С., Невструев А-Я.П. и У-Я.П., Корнеев, Ойра-Ойра, Привалов — у этих были портреты попроще, в скромных, под орех, рамах, некоторые с налетом авангардизма. И среди этих, простеньких, под орех, золотой византийской роскошью сияли рамы на парадных портретах. Выбегалло, Бабкин, Седалищев, какой-то Авессалом Митрофанов, какая-то баба Нюра, какие-то Ванга, Глоба, Дзюба и Кашпировский.
Должно быть, это были звезды науки первой величины, судя по густоте красок и прославленным именам художников, оставивших свои подписи на портретах. Равнодушный к подобной живописи, Андрей Т. знал из них только три — А. Шилова, Б. Членова и И. Глазунова.
Галерея тянулась вдаль, а намека на выход не было. Ни дверей, ни аппендикса с вестибюлем — ничего такого похожего. Андрей Т. уже не смотрел на лица, он ногами пожирал расстояние, а глазами устремился вперед, надеясь отыскать хоть окно, чтобы выбраться через него на свободу. Но окон не было тоже.
«Похоже на подвальный этаж. Наверное, я промахнулся, когда спускался по лестнице. Надо было на этаж выше». Наконец он одолел коридор и свернул на лестничную площадку. Два пролета он пролетел, как птица. Коридор, в котором он оказался, на предыдущий был совсем не похож. Никаких портретов здесь не висело, были окна, были тени и облака, заглядывающие снаружи в окна; значит, вечер, и солнце уже садится, и сейчас он выйдет на воздух, прогуляется пешком до шоссе, и ветер выдует из его головы накопившиеся там пыль и ржавчину, от которых темно в глазах…
Он представил, как останавливает машину, как разговаривает с водителем ни о чем, как добирается до своей квартиры, как Мурзила, вопя от счастья, встречает его в прихожей, изголодавшийся, непослушный кот…
— Эй, мил человек, у вас табачку, случаем, не найдется?
Андрей Т. остановился как вкопанный. Человек, спросивший про табачок, был такой невзрачный и незаметный, что на тусклом фоне стены казался просто пятном от сырости после протечки отопительных труб.
— Не курю я, — ответил ему Андрей.
— Да, — кивнула ему невзрачная личность и протянула маленькую ладонь. — Щекотун мое имя. Для друзей — Щекотало. Вы — Садко, я вас знаю, я вас в курилке видел.
Андрей Т. пожал ему руку, не желая показаться невежливым, хотя никакого особого желания знакомиться не испытывал.
— В курилке? — Андрей Т. попытался вспомнить, был ли в толпе уродов этот маленький человек-никто, но память молчала, как партизанка.
— Я там был, я за дым прятался. Помните, вы еще смеялись? Так это я вас изнутри щекотал, чтобы вы не боялись. А то бы они вас до смерти запугали… Ну, не до смерти, до смерти им нельзя, но досталось бы вам от них будь здоров. Эти парни пугать умеют. А здоровый смех, пусть искусственный, еще никому вреда не принес, только пользу.
— Спасибо, — ответил ему Андрей Т. равнодушно. Больше всего сейчас его занимала проблема выхода.
— Я много чего такого могу. Например, вот. — Щекотун прикрыл рот рукой. Где-то в стороне у стены кто-то судорожно закашлял. Андрей Т. посмотрел туда, но никого не увидел.
— Не смотрите, там никого нет. Это я.
— Вы? А кто кашлял?
— Я и кашлял. Это называется — управлять собственным кашлем. Школа маркиза де Карабаса. Кашляешь здесь, а звук раздается там, куда ты его направляешь.
— Интересно. А голосом вы тоже можете управлять.
— Нет, голосом не могу. Только кашлем, еще чиханьем, ну и… сами понимаете, чем еще.
— Ценное умение, даже завидно.
— Может, и ценное, только денег за него все равно не платят.
— Послушайте, — Андрей Т. попытался вырулить на интересующую его тему, — я ищу выход. Вы не знаете, где выход из Заповедника?
— Нету здесь никакого выхода. — Щекотун задумался. — Вход есть, — он опять задумался и добавил: — Говорят. Да кто его видел, вход-то, если никто отсюда не выходил.
— Странное у вас заведение: вход есть, а выхода нет. Послушайте, а эти, из снов, они же сюда как-то входят?
— Ну, этим просто. Они через сон и входят. Дойдут до стены, приснятся себе, что они внутри, и — уже внутри.
— Больно хитро. Трудно уловить суть.
— Суть простая. Кто там — те там. Это люди. А кто здесь — те здесь. Это мы. Вот и вся суть.
— А администрация? А директор?
— То ж администрация, то ж директор. Они ж не мы, для них законы не писаны.
— Какие законы?
— Законы природы.
Путаная была какая-то философия у этого мастера передавать кашель на расстояние. Говорил он вроде бы доходчиво и разумно, но если вдуматься, никакого смысла за этой его разумностью не стояло.
— Ну, хорошо, а пожарный выход? Какая-нибудь пожарная лестница в вашем Заповеднике есть? Существуют же противопожарные нормы. Никакая комиссия не примет здание, если при строительстве не соблюдены нормы противопожарной безопасности.
— Это у людей нормы. — Щекотун зевнул и пожал плечами. — А у нас — у нас же ни в огне никто не горит, ни в воде не тонет. Вот и нормы для нас не писаны. Вы ж — Садко, вы сами должны знать, вы ж к Морскому царю на дно ездили. Кстати, никак не могу понять, зачем Морскому царю беломор? Там же под водой сыро, он же там весь размокнет.
— Какой беломор? — Андрей Т. ничего не понял.
— Ну как же. В песне еще поется: «Три пачки беломорчика» и так далее.
— Ах это? Ну это просто фольклор: Не было беломора, и тройного одеколона не было. Все это выдумано для рифмы. — Андрей Т. посмотрел в окно на темнеющие верхушки деревьев. — А окна здесь открываются? Должны же их когда-нибудь мыть.
— Нет, окна глухие, на полметра уходят в стену. И стекла в них не простые. — Щекотун размахнулся и ударил кулаком по стеклу. — Стибоновое стекло, такое на батискафах ставят. Здесь у нас все стибоновое. Пол — стибоновый. Стены — стибоновые, и потолки, и крыша, даже рамы на окнах.
— Не понимаю, к чему такие предосторожности, если все равно отсюда не выйти?
— Это вопрос к начальству. Еще бывший министр Вунюков отдал такое распоряжение, чтобы во всех филиалах НИИЧАВО вместо обычного стройматериала применяли этот самый стибон. Раньше было не так. Раньше просто накладывали чары и все. Но начальство решило: раз кто-то их наложил, значит, кто-то может их и убрать. Поэтому и заменили стибоном.
— Значит, выхода нет. — Андрей Т. хмуро посмотрел на окно, перевел взгляд на нового своего знакомого и выдавил из себя улыбку. — Спасибо, что выручили меня в курилке.
— Пустяки, это мы завсегда пожалуйста. Спрашивайте, если что. Меня тут любая баба-яга знает.
Расставшись с Щекотуном-Щекотилой, Андрей Т. поплелся по коридору. В голове его колотили в шаманский бубен злость и желание набить кому-нибудь морду. Он не верил, что бывают такие бредовые ситуации, когда из здания невозможно выбраться. Не верил и все. Он толкнул какую-то дверь, зашел в какую-то комнату, схватил со стола графин и с силой запустил, им в окно. Хлынул стеклянный дождь, графин пал жертвой человеческого безумия. Окно же, как глядело невинным взором на возмутителя общественного спокойствия, так и продолжало глядеть.
— Вот гады! Стибон еще какой-то придумали на мою голову! Ненавижу! — Он ухватил стул, хотел им садануть по стеклу, но дверь позади скрипнула и Андрей Т. почувствовал, что в помещении он уже не один.
Как был, со стулом над головой, он медленно повернулся к двери. У порога стояло маленькое юное существо — в сарафанчике, в белых тапочках «Адидас» и с короткой стрижкой под мальчика.
— Это вы тут посуду бьете? — Юное существо хихикнуло и лукаво подмигнуло Андрею Т., кивая на вознесенный стул.
— Я… — Андрей Т. покраснел и опустил стул на место. — Простите.
— По мне, так хоть всю ее перебейте, только зря это, отсюда убежать трудно.
— Извини, девочка, но кто тебе сказал, что я собираюсь куда-то бежать?
Девочка снова хихикнула.
— Я бы убежала, но мне не надо, — сказала она, словно бы не слыша вопроса.
— Интересно, а как бы ты убежала?
— Вот видите? Если бы вы не собирались отсюда бежать, то не спрашивали б.
Теперь настала пора хихикнуть Андрею Т.
— Сдаюсь, я проиграл. Я действительно хочу убежать. Но не знаю, как это сделать.
Девочка подошла ближе и протянула ему ладошку.
— Я — Катя, девочка-людоед, обо мне еще в газетах писали. Что я бежала из-за рубежа от преследований хунвэйбинов и прославилась воровством кур. Еще писали, что меня хотят вскрыть, чтобы отыскать новые законы природы. Так я опять убежала.
— Подожди, подожди. — Он механически пожал девочке руку. Что-то я такое припоминаю, где-то… — Андрей Т. напряг память, но ничего не вышло. Воспоминание ускользало, как рыбка. — Постой, — он удивленно посмотрел на нее, — хунвэйбины — ведь это было давным-давно. Сколько же тебе лет?
— Вообще-то, девушкам такие вопросы не задают, — сказала она жеманно, но тут же глупо хихикнула и пожала худыми плечиками. — Осьмнадцать! — Она гордо вздернула голову и посмотрела на Андрея Т. свысока.
— Восемнадцать? — недоверчиво покачал головой Андрей Т.
— Ну… четырнадцать. — Она покраснела и показала ему язык. — Между прочим, в Заповеднике человек не старится. Здесь у нас даже борода не растет.
— Ладно, ладно, ты меня убедила. Девушкам такие вопросы не задают.
— Дружба? — Девочка улыбнулась.
— Дружба. — Теперь уже Андрей Т. протянул ей свою ладонь, и она ее потрясла, подпрыгивая при этом на месте.
— Мне отсюда не убежать, то есть убежать-то я отсюда могу, но там я буду никто, просто сказочный персонаж, клякса на пустом месте. А ты… В смысле, вы…
— Ничего, мы же с тобой друзья. Так что давай на ты.
— Вы… То есть ты… Не знаю. Сейчас подумаю. Есть здесь в подвале волшебная коряга — что-то вроде волшебной палочки, только ее фиг поднимешь, такая она тяжелая. А действует она на весу. Если ее поднять, начертить ею в воздухе теорему Перельмуттера-Коха, потом… — Она оценивающе посмотрела на фигуру Андрея Т., вздохнула и повертела головой. — Нет, с этой корягой даже ни у кого из наших не вышло — ни у Геракла, ни у Верлиоки, ни у Домкрата.
Она задумалась. Лицо ее напряглось и сморщилось, теперь она была похожа на маленькую старушку. Андрей Т. смотрел на нее и ждал. Ожидание продолжалось с минуту.
— Ой, а который час? — спросила она внезапно.
— Почти девять. — Андрей Т. посмотрел на часы. — Без десяти. — И вздрогнул. До полуночи оставалось немного. Три часа с небольшим. Если угроза двугорбой старухи была не розыгрышем, действовать нужно было без промедления.
— Плохо. — Она забарабанила пальцами по губе. — Надо спешить. — Девочка потерла виски. — Придумала! — Она выставила вверх большой палец, потом медленно убрала в кулак. — Может не получиться, но больше ничего не приходит в голову. В подвале протекает канализационная речка, по ней спускают сточные воды из Заповедника, удобряют окружающие поля. Ключ от подвала у Буратино, но вообще-то дверь обычно не запирается.
— То есть ты предлагаешь мне спуститься по этой речке? А каким способом? Вплавь? Или там у вас лодочная станция?
— Послушай, в конце концов тебе отсюда надо выбраться или мне? На чем ты плавал в гости к Морскому царю? На шахматной доске. Вот и сейчас для тебя это единственное плавсредство. Шахматами у нас заведует Мальвина. Попросишь у нее, она даст.
— Ой! — Андрей Т. вспомнил Воспитательный кабинет и перевоспитывающуюся в нем компанию живодеров. Да и с самой голубоволосой красавицей встречаться ему совсем не хотелось.
— Больше я тебе ничем помочь не могу, прости. Понимаешь, — она смутилась, — в полдесятого у меня… встреча. А на Мальвину не обращай внимания. Она только с виду такая умная. — Девочка перешла на шепот. — Мужик ей нужен нормальный, а не этот дурак Пьеро. Она, как Арлекин ее бросил, на всех мужчинах срывала злобу. А сейчас ничего, успокоилась.
— Я пойду, ладно? — Девочка-людоедка повернулась, чтобы уйти, остановилась и пристально посмотрела на Андрея Т. — А ты ничего себе, симпатичный. Даже жалко, если тебя здесь больше не будет.
Глава 11
Андрей Т. робко постучал в дверь и услышал в ответ: «Войдите». В кабинете была лишь хозяйка; ее голубокудрая голова одиноко возвышалась над кафедрой и светилась, как большой одуванчик.
— Вы? — сказала Мальвина, когда Андрей Т. вошел. — Какое интересное совпадение. Я пишу диссертацию на тему «Маркиз де Сад и воспитательные функции коллектива» и как раз подумала: а ведь у знаменитого маркиза вполне могли быть русские фамильные связи. И ваша, Садко, фамилия хорошо укладывается в русло моей гипотезы. Он — де Сад, вы — Садко. Чувствуете коренное единство?
Андрей Т. не чувствовал, но на всякий случай кивнул. Потом вежливо попросил:
— Мне бы шахматы.
— Нет, вы только представьте, — Мальвина его не слышала, — это же какое поле для аналогий. В области сравнительного садоведения это будет подлинным открытием века. Все садоводы мира локти будут кусать от зависти.
Андрей Т. прокашлялся и повторил свою просьбу:
— Я хотел попросить шахматы. Простите, я, наверно, не вовремя, но… турнир, понимаете ли… репетиции там всякие, тренировки…
— Да, да, конечно, я понимаю. Но как вам сама идея?
— Мне нравится.
— Вот видите! Значит, вы мой единомышленник. Шахматы вы получите.
— Спасибо.
— Но ответьте мне, пожалуйста, еще на такой вопрос. Что важнее: искусство как таковое или нравственное его наполнение, добродетельное его влияние? То есть, если стоит выбор между искусством и добродетелью, что обязан выбрать художник?
Андрей Т. не знал, что ответить. Вернее, знать-то он как раз знал, мнение по этому поводу было у него достаточно твердое, только как на него отреагирует голубоволосая ученая дама? Вдруг за плохой ответ она не даст ему шахматы?
К счастью, отвечать Андрею Т. не пришлось. Не дождавшись его ответа, а может, не собираясь ждать, Мальвина выставила указательный палец и насупила симпатичные бровки.
— Правильно, добродетель. Возьмем для примера Саванаролу и Ботичелли… — Она длинно и нудно стала рассказывать историю грехопадения классика Возрождения и спасительного его раскаяния после проповедей святого мужа. Затем Мальвина перескочила на Гоголя и «Мертвые души», заодно вспомнила и Садко, как он лично, по просьбе Николая Угодника, оборвал струны на золотых гусельках, чтобы Царь морской перестал плясать и топить православные корабли.
Когда Андрей Т. выбрался из-под нравственного артобстрела голубокудрой праведницы, часы показывали без двадцати десять. С шахматами под мышкой он помчался по коридору к лестнице. Сбежал вниз и уткнулся в стену. Тупик. Выскочил в коридор на этаж и наткнулся на Читателя сказок. Тот стоял под портретом какого-то колдуна из Мадавры и читал вслух книгу:
— Все мне казалось обращенным в другой вид волшебными заклятиями. Так что и камни, по которым я ступал, казались мне отвердевшими людьми; и птицы, которым внимал, такими же людьми оперенными; деревья вокруг городских стен — подобными же людьми, покрытыми листьями; и фонтаны текли, казалось, из человеческих тел…
— Пожалуйста, — оборвал его Андрей Т., — как попасть в подвал?
— Так вот же. — Читатель сказок показал туда, откуда только что выбежал Андрей Т., — на площадку лестницы.
Тупик был на месте, и стена тоже, только она была уже не глухая, в ней темнела тяжелая дубовая дверь, перекрещенная чугунными полосами.
— Здесь открыто, Буратино променял ключ на книжку «Хочу быть дворником». Осторожнее, сразу за дверью лестница…
Андрей Т. не дослушал, поблагодарил его кивком головы и потянул дверь на себя.
Сразу же на него пахнуло сыростью и болотным духом. Света, правда, было достаточно — из стены, вправленные в железные обручи, торчали большие факелы и чадили, отравляя воздух подвала.
Лестница оказалась короткой, стершиеся каменные ступени оканчивались широкой площадкой; неподалеку что-то булькало и текло; должно быть, это она и была, обещанная канализационная речка.
Он прошел до края площадки. Внизу действительно темнела вода; бледными светляками в ней отражались две полудохлые лампочки, одиноко, как марсианские луны, скучающие под ребристыми сводами. Противоположного берега Андрей Т. разглядеть не смог; он терялся в темноте и тумане.
Андрей Т. вынул из-под мышки коробку с шахматами, открыл ее, хотел ссыпать на площадку фигуры, но передумал. Стал рассовывать их по карманам, и все уже рассовал, когда белая королева выскользнула у него из руки и, пританцовывая что-то вроде кадрили, быстренько отбежала в сторону. Андрей Т. потянулся за ней, чтобы та не свалилась в воду, и в это самое время слева от него что-то ухнуло, и черная тень ноги промелькнула возле самого уха.
— А-а-а… — сиреной прозвучал голос. Жирный водяной столб взметнулся над бурлящей поверхностью, а секундой-двумя спустя из воды показалась челюсть и противный голос хмыря завопил слезливо и нервно: — Спасите! Я не умею плавать!
Как положено, гуманность и сострадание взяли верх над гневом и осмотрительностью; Андрей Т. протянул руку, и хмырь, шлепая трясущимися губами, выбрался из воды на сушу.
С минуту он приходил в себя, глупо озираясь по сторонам и хлюпая намокшими кедами. Потом взгляд его уперся в Андрея Т., и челюсть неприятно заскрежетала.
— Кишки вытяну, на барабан намотаю. — Отплевывая гнилую воду, хмырь с ухмылкой уже двигался на него. Непонятно откуда взявшийся, в руках его извивался лом. С бычьей шеи свисали какие-то разбухшие макароны и запутавшийся в них рыбий скелет — улов из канализационной речки. Черная неблагодарность торжествовала.
Андрей Т. медленно отступал задом в тень неосвещенной стены. Кроме шахматной доски, никакого другого оружия у него не было. Да и что это за оружие — шахматы. Против лома они — скорлупка от воробьиного яйца. Он вжался в сырую стену. Справа, метрах в двух от него, послышался резкий звук — будто кто-то что есть силы чихнул. Скоро чих повторился. Андрей Т. скосил взгляд туда, но, кроме темных, неясных пятен, разглядеть ничего не смог.
Вразвалочку, медвежьей походкой, хмырь двинулся на подозрительный звук, еще не доходя размахнулся и ударил кулаком в темноту.
И тут же сморщился от внезапной боли. Он подпрыгивал, тряс больным кулаком, дул на него как маленький, стараясь утихомирить боль. Глаза его горели от ярости.
Чих повторился снова, теперь уже немного правее.
— Все, ты меня достал! — Хмырь, набычившись, могучим ударом саданул по невидимому источнику заразных заболеваний. Глухо задрожала стена. Хмырь завыл, ударил еще, лицо его исказилось судорогой. Кулак стал в два раза толще, видимо настолько распух.
Чих превратился в кашель, сместившись еще правее. Обезумев от досады и боли, хмырь лупил по неповинной стене, и стена отвечала дрожью. Продолжалось это недолго. Что-то в нем устало и лопнуло; хмырь осел на холодный пол и тупо уставился в никуда.
— Сломался, керогаз. — Слева от Андрея Т. стоял Щекотун и довольно щурился на хмыря. Андрей Т. мгновенно все понял. Щекотун подошел к хмырю и потрогал его отвисшую челюсть. — Тебя как звать-то, герой?
— Вася, — дрожащим голосом сказал хмырь.
— А фамилия?
— Ломов.
— Так вот, Вася Ломов, есть такая умная поговорка: «Бог не в силе, а в правде». Слыхал?
— Нет.
— Плохо, Вася, что не слыхал. Тебе бы с твоею силой в порту работать. Или в тайге, на лесоповале… А ты — только и умеешь что ломик свой сгибать-разгибать да честным людям фонари под глазами вешать. Ладно, Вася, иди, медпункт работает круглосуточно. И подумай над моими словами.
Покалеченный хмырь ушел.
— Дурак он дурак и есть, — сказал Щекотун, когда они остались одни. — Только вы не думайте, не все в их компании такие, как этот Вася. Там есть ой-ей-ей какие пройдохи. — Щекотун насмешливо посмотрел на него. — Я ведь знаю, почему они за вами охотятся.
— Почему? — Андрей Т. не стал отпираться и строить из себя невинную дурочку.
— Потому, что они вас боятся.
— Именно меня? Интересный они сделали выбор.
— Вас, кого же еще. Они же все из вашего сна. — Щекотун улыбался во все лицо, прямо сиял от радости. Непонятно только, чему он радовался. Что в этой невеселой истории он отыскал веселого.
Андрей Т. усмехнулся кисло. Отвечать он не стал. И так было ясно, каков будет его ответ.
— Между прочим, вы можете извлекать из этого огромную выгоду. — Щекотун закатил глаза, должно быть, въяве представив себе эту самую выгоду, огромную, как гора Арарат, и богатую, как золотоносная жила. — Если, конечно, дело не дойдет до Печати. — Он опустил глаза и вздохнул. — Тогда хана. Тогда они гуд бай — и уже не ваши. Вы здесь будете сами по себе, они сами по себе — только там. Но до двенадцати еще время есть, так что не все потеряно. — Щекотун вновь засиял, как начищенный медный чайник.
— Я что-то не понимаю. — «Ваши — не ваши», «сами по себе», «здесь и там» — от обилия этих темных фраз в мозгу у Андрея Т. наступило легкое помутнение.
— Очень просто, — млея от удовольствия, Щекотун принялся объяснять.
Из всех его путаных объяснений Андрей Т. усвоил для себя следующее.
Сделать с ним что-нибудь серьезное горбатая и ее уроды не могут. Они сами существуют лишь потому, что жив-здоров их создатель. Единственный для них способ сделаться от него независимыми — это зафиксировать его в полночь, во время Крайних Воздействий, Большой Круглой Печатью, хранящейся в директорском сейфе. То есть окончательно переменить ему имя и упечь его до скончания века в стены филиала НИИЧАВО. Здесь он будет в целости и сохранности культурно проводить свое время, а там они разгуляются на просторе, избавившись от своей зависимости.
— И выгоды вам от этого уже никакой, — закончил Щекотун и перешел на другую тему:
— Как вам наша водная артерия? Нравится? Бзда — она только с виду скромная, пока течет в Заповеднике. А на воле она широкая и могучая, особенно весной, в половодье. Сам я этого, конечно, не видел, а знаю из учебника краеведения. Посмотреть бы. — Он вздохнул. — Особенно те места, где она сливается с Тлей и Ржой. Такая, говорят, красотища…
Он умолк на секунду, потом продолжил про речку:
— Это наша Рио де Оро. Чего здесь только не выловишь. От римских блях и греческих монет до пуговицы русского солдата. Один мой знакомый выловил порцию отварной рыбы под соусом «ридинг», кровавый ростбиф с приправой из мухоморов, пирог с ревенем и крыжовником и кусок честерского сыра. Это не считая нескольких чашек превосходного цейлонского чая «Принцесса Нури». Вы представляете?
Все это было интересно, и даже очень, но Андрей Т., пока Щекотун рассказывал, то и дело поглядывал на часы. Он нервничал, время таяло.
Щекотун посмотрел на шахматную доску, зажатую у Андрея Т. под мышкой.
— Решили, как в молодости, на доске? Теперь это называется серфинг. — Он потрогал лакированную поверхность. — Хорошее дерево, настоящее. Такое не подведет. Бревно, или там какая коряга, пусти их в проточную воду, они и поплывут по течению. А шахматы — те с характером. Они плывут всегда против. Как стружка от гроба или скорлупа от змеиного яйца. Или рыба, когда на нерест идет. Вам помочь?
— Спасибо. — Андрей Т. осторожно положил раскрытую доску на воду, лакированными клетками вниз, и так же осторожно, как положил, ступил на доску ногами. — И вдвойне спасибо, что выручили. — Он тихонько оттолкнулся от берега.
— Пожалуйста. — Щекотун стоял у воды и махал Андрею рукой. — Такая моя судьба, всегда кого-нибудь выручать. Скоро его фигурка исчезла, съеденная речным туманом.
Глава 12
Он давно потерял счет времени — то ли время остановилось в беге, то ли оно, как борода на лице, вело себя в Заповеднике не по правилам. Плыть на доске было тесно и неудобно. Ноги сводило, и тогда наш путешественник, преодолев брезгливость и беспокойство, примостился на доске сидя, а ноги опустил в воду.
И сразу же пожалел об этом. Что-то скользкое и холодное ухватило его за пятку, пощекотало ее недолго и отпустило. Андрей Т., едва не потеряв равновесие, выдернул ногу из воды и разглядел у себя на пятке короткую неумелую надпись синим химическим карандашом: «Прямо мель, бери левее, к фарватеру». И подписано: «Лейтенант Скворешня».
У него отлегло от сердца. Он стал загребать левее, чтобы не загорать на мели. Справа, по ходу плавания, в темноте затрепетал огонек.
— Эй, там, на доске! Не желаете присоединиться к ужину? — послышался издалека голос.
— Спасибо за приглашение, не могу, — крикнул в ответ Андрей Т.
— А что так?
— Спешу.
— Жаль. Опять нам сидеть голодными.
Андрея Т. передернуло. Выходит, не все обитатели этой речки были такими доброхотами, как Скворешня.
Доска плыла и покачивалась, покачивалась и плыла, и было это так медленно и сонливо, что Андрей Т. не заметил, как задремал.
Сколько он проспал, неизвестно. Проснулся он от тихих ударов — дерево стучало о сталь. Шахматная доска постукивала о стальную решетку, перегораживающую русло реки. Толстые прутья решетки тянулись от поверхности вверх; нетрудно было предположить, что точно такие же прутья тянутся до самого дна.
Андрей Т. потрогал металл. Ни ржавчины, ни налета гнили. Опять этот проклятый стибон. Одним словом, приехали.
В стороне, наверно на берегу, раздавались тихие скрипы. Он прислушался: похоже, скрипело дерево. Андрей Т. направил доску туда, руками перебирая прутья. Двигался он осторожно — не хотел, чтобы его обнаружили. Скоро из прибрежной неразберихи, мутных пятен и щербатых теней, стало вырисовываться строенье. Странное это было строенье, угловатое какое-то, дерганое, перекошенное и как будто живое.
Желтый свет из маленького оконца освещал прибрежный песок и какую-то костлявую лапу, очень похожую на куриную. Вела она себя вроде мирно — вяло ковырялась в песке да почесывала лениво бревна, выскребая из них мох и труху.
И к бабке было ходить не надо, чтобы понять, что это такое. Избушка на курьих ножках в натуральную величину.
Андрей Т. причалил, стряхнул воду с доски и направился к низенькому крыльцу, держась от ноги подальше. Кто знает, а вдруг она, как дурная лошадь, — лягнет своим куриным копытом и ходи потом, мучайся, загипсованный.
Но ноге до него, похоже, не было никакого дела; она спокойно впустила его на крыльцо и дала постучаться в дверь. За дверью мирно играло радио, и голос певицы Зыкиной бодро выводил «Я — Земля…».
— Заходи, коль пришел, не заперто, — ответили из-за двери. Андрей Т. пошаркал подошвами о крыльцо и прошел в избушку.
За широким столом без скатерти сидела очень даже знакомая личность и улыбалась беззубым ртом. Марфа Крюкова, бабка Мара, — это была она. Рядом с ней сидела в точности такая же бабка, полная ее натуральная копия. Разница была только в нарядах. На одной был пестрый платок и какая-то выцветшая шубейка, на другой — зимняя милицейская шапка старого, еще довоенного образца, и старенький женский ватник.
На столе стоял самовар, баранки в большой тарелке и вафельный торт «Сюрприз». Бабки чинно сидели рядом и пили чай из глубоких блюдец.
Андрей Т. хотел поздороваться и переводил взгляд с одной на другую, не зная с кого начать.
— Здравствуйте, — сказал он обеим сразу, увидел в углу золоченые образа и на всякий случай кивнул.
— Шахматы, милок, у печки поставь, пусть чуток пообсохнут. — Бабка Мара показала блюдцем на печку, потом сказала гостю приветливо: — Наплавался, натрудился, теперь садись, подкрепи желудок. Вот напитки, наедки, — она кивнула на самовар и баранки, — ешь, пей, разговаривай, коли не брезгуешь старушечьим обществом. Вот сестра моя, познакомься. По имени она — Бабка, по фамилии — Голубая Шапка.
Копия Марфы Крюковой отодвинула от себя блюдце, встала по стойке смирно и молча протянула Андрею Т. твердую, мозолистую ладонь.
Тот пожал, они познакомились.
Андрей Т. попивал чаек, закусывал румяным баранком и слушал бабкины разговоры.
— Здесь она, Шапочка моя, и живет, считай, почти как на даче. — Марфа Индриковна громко прихлебывала и рассказывала ему про сестру. Та сидела и лишь кивала, подливая гостю из самовара. — Хорошо ей здесь — ни шуму, ни беспокойства. Речка вон бежит по песочку. Изба, огород. Сама себе и рыбки наловит, и зверя какого в капкан застукает. А глядишь, и я ей чего подкину — ватник вон почти новый справила, лыжи в прошлый год подарила. Сестрице моей, как вору, — все в пору. Нынче вон баранками разжилась, этот торт на празднике выиграла. Нет, Садко, жить здесь можно, особенно, когда ты безъязыкий.
Андрей Т. сидел, расслабленный, за столом, ел вприхлебку и пил вприкуску и не хотел ни о чем думать. Бабкин разговор затормаживал, слушать ее было приятно, как приятно сидеть в тепле после долгого холодного перехода.
— Ты не гляди, что она молчит, — продолжала Мара свою историю про сестрицу, — она все слышит, все понимает. Она у меня молчальница, безъязыкая, как моя клюка. Только с рыбками говорит да с птичками, а много ль с ними наговоришь. Пока чистишь да потрошишь к обеду. Или с Ивашкой каким заблудшим. Пока в печку его сажаешь… Да уж какие нынче Ивашки… Они сами тебя первую на храпок возьмут да еще и револьвер к брюху…
Андрей Т. кивал и слушал, как настенные часы-теремок отмеривают по капле время. Стрелочки стояли на месте. Они тоже слушали бабку, забыв обо всем на свете.
— И сами эти Ивашки столько не стоят, сколько приправ к ним требуется. Кардамон, гвоздика, коренья всякие, лист смородиновый. А то еще с брусникой моченой, когда на Пасху или на Троицу.
Стрелочки стояли на месте, показывая одиннадцать; часы тикали.
— Название одно — Ивашки. «Покатаюся, поваляюся, Ивашкиного мяса поевши». Ты подумай, какое должно быть мясо, чтобы кататься, валяться, его поевши! Они ж все дохлые да отравленные, эти нонешние Ивашки…
Старуха все говорила, а часы все показывали одиннадцать.
— Что-то наш гостек загрустил. Ты бы, что ли, Шапка, вареньицем его угостила или свежее яичко из погреба принесла.
Бабка Голубая Шапка со скрипом встала из-за стола и захромала в сторону печки. Нагнулась, не доходя, и, схватившись за металлическое кольцо, потянула вверх крышку люка. Крышка была тяжелая, из толстых дубовых досок; бабка тужилась и кряхтела; Андрей Т., не выдержав этих мук, бросился ей на помощь. Марфа Крюкова, как ни в чем не бывало, прихлебывала чаек.
Справившись с неподъемной крышкой. Бабка Голубая Шапка спрыгнула в квадратный проем. В погребе что-то гудело и булькало; тяжелый запах курятника с силой ударял в нос. Андрей Т. задержал дыхание и из любопытства заглянул вниз.
В мутном голубоватом свете шевелились какие-то механизмы; некоторые Андрей узнал — пригодился недолгий опыт его прежней инженерной работы. Кладуны, лапники, яйцегревы, лопасти механических загребальников. Но были и совсем незнакомые — руки на железных шарнирах с лампочками вместо ногтей, петушок на гусеничном ходу, то ли деревянный, то ли выкрашенный под дерево, он тряс своим резиновым гребнем, хохлился и говорил: «Ко-ко-ко». Много чего там было любопытного и загадочного.
Бабка выбралась из погреба на поверхность и достала из рукава ватника баночку крыжовенного варенья и свежее золотое яйцо.
И снова они сидели у самовара, и снова тикали часики на стене, и снова показывали одиннадцать.
— Вот пропишешься у нас постоянно, тогда увидишь, какая тут жизнь веселая. — Марфа Индриковна рассказывала, а Голубая Шапка кивала. — Есть, конечно, отдельные недостатки, но где ж ты без недостатков видел. Сестрицу мою, к примеру, возьми. Деток у нее не было, старика на войне убили, плакала она, плакала и пошла однажды в дремучий лес. Идет она, значит, по лесу, видит — ягодка, надо съесть. Съела она ее, стало брюхо у сестрицы большое. Идет дальше. Видит — другая ягодка. Съела она эту другую, стало брюхо у нее больше вдвое. Ладно, попадается ей третья ягодка. Съела она и эту…
Кажется, Андрей Т. задремал. Потому что откуда вдруг ни возьмись, а напротив, вместо Бабки Голубой Шапки, сидела уже какая-то толстая усатая тетка и напевала ему голосом певицы Людмилы Зыкиной:
Тик-так, прыг-скок, Время спряталось в песок. Бежит речка по песочку, Золотишко моет, Не ходи, Ванек, в солдаты — На войне угробят…— Здесь у нас хорошо, спокойно, — она продолжала петь, но теперь почему-то прозой, — и речка, и золотишко, и избушка эта специальная. Знаешь, какая у нас избушка? Пока ты в ней — время стоит на месте. Как вошел ты сюда в двадцать три ноль-ноль, так в эти же двадцать три ноль-ноль отсюда и выйдешь. Только зачем тебе уходить? Оставайся. — Она уже сидела с ним рядом и пела ему в самое ухо горячим голосом. — Ребеночка я тебе рожу, бараночками тебя буду кормить, будешь ты у меня холеный да гладкий, не то что нынче. Штампик только на бумажке поставим и заживем.
— Штампик? — переспросил Андрей Т. и вдруг с удивлением понял, что тоже не говорит, а поет.
— Штампик. Шлеп, и готово. — Она дернула усом вверх, показывая куда-то под потолок. — Есть здесь одна Печать. — Она понизила голос. — Большая такая, круглая. Самая главная из печатей. Ею-то мы штампик и шлепнем.
— Печать, — согласно повторил Андрей Т. Сон его был сладкий и теплый, не хотелось ни вставать, ни спешить, лишь сидеть вот так, за столом, и слушать эти ангельские напевы.
— Да, Печать. В сейфе она. Печать-то, и сейф тот светится по ночам, горит голубым пламенем. Потому как сила в ней, в этой самой Печати. И все мы ею здесь припечатаны.
— Припечатаны, — баритоном поддержал Андрей Т.
— А на воле, там тебе не житье, — пропела она на высокой ноте, показывая в темноту за окном, — там чужое. Злые люди, ой злые.
Голос Зыкиной исчезал в поднебесье и скоро совсем исчез, съеденный немыслимой высотой.
Стрелка показывала одиннадцать. Андрей Т. вздрогнул, протер глаза, увидел свое отраженье в бабкином самоваре, надкусывающее черствый баранок. Бабка Голубая Шапка по-прежнему сидела напротив, почавкивая набитым ртом.
В окнах вдруг потемнело, хотя куда уж было темнеть, и так темень стояла адская. По избушке ударил ветер. Пол накренился. Андрей Т. едва успел ухватить заскользившее по столу блюдце.
— Кащей что ль летит? — Марфа Крюкова взяла со стола баранок, навела его на окно, покрутила, чтобы усилить резкость, и подслеповато прищурилась. — Так вроде не обещался. Змей Горыныч сейчас в роддоме сидит, ждет наследника. Может, Маленький Принц?
Сии размышления были прерваны нечаянно тремя франмасонскими ударами в дверь.
— Кто там? — строгим голосом спросила старуха, на всякий случай прячась за самовар.
— Ваша мать пришла, молочка принесла, — ответили из-за двери.
— Какая такая мать? — Марфа Крюкова подмигнула зачем-то Андрею Т. Тот не понял, но ответил ей тем же.
— Какая? А вот такая! — Дверь открылась; на пороге стояла двугорбая предводительница уродов. Остальная компания выглядывала из-за ее спины. — Ни с места! Всем сидеть как сидели! — Дюжина вороненых стволов торчала в дверном проеме, это не считая многочисленного числа единиц колющего, режущего, пилящего и вспарывающего оружия.
— Вот ведь страсти-ужасти! То-то мне всю ночь удавленник на дереве снился. — Марфа Крюкова всплеснула руками, но, казалось, нисколько не удивилась.
Бабка Голубая Шапка мгновенно обрела голос.
— Вот он! Косточка к косточке, волосок к волоску! В лучшем виде, как и приказывали. — Она тыкала пальцем в Андрея Т. и преданно улыбалась двугорбой.
Двугорбая подошла к столу. Желеобразный человек-блин, протиснувшись откуда-то сбоку, проблеял козлиным голосом:
— Аще алчет недруг твой — ухлеби его, аще жаждет — напои его. — И потянулся к торту «Сюрприз».
— Отставить жрачку! — осадила его начальница. Тот в момент втянулся в толпу сопровождавших ее помощников.
— Что, папаша, напутешествовался? — ласково обратилась она к опешившему Андрею Т. — Уйти от нас захотел? Деток своих оставить? Думал, здесь у нас глушь, Саратов? Живем в лесу, молимся колесу? Зашел за елку, и поминай как звали? Здесь у нас все на виду, все друг про друга знают. В Заповеднике как: сказал куме, кума — свинье, свинья — борову, а боров — всему городу. Верно? — Последняя фраза относилась уже не к Андрею Т., а к угрюмой шатии-братии, столпившейся за спиной начальницы.
Скелетообраэный фашист гыгыкнул. Герой-любовник элегантно захохотал, прикрыв рот ладошкой в татуировке. Застенчивый упырек улыбнулся, стащил со стола баранок, покрутил его для вида на пальце и, не жуя, уложил в живот. Хмырь с перебинтованным кулаком сдержанно пожевал челюстью. Желеобразный человек-блин задрожал своими восемнадцатью подбородками. Бабка Голубая Шапка забулькала недопитым чаем и зажамкала недожеванными баранками.
Скоро все успокоились. Эстрадная халтурщица, погасив улыбку, уселась на горбатую лавку, закинула ногу на ногу и вытащила из лифчика длинную сигарету с фильтром. Хмырь как истанный джентльмен, тут же угостил ее огоньком от импортной зажигалки «Ронсон». «Мерси», — сказала в ответ халтурщица и томно почесала под мышкой. В избушке запахло потом. Со стороны поглядеть — просто идиллическая картинка, а не надругательство над свободой личности.
— Вставай, папаша, пойдем. Кончилось твое время. — Двугорбая похлопала Андрея Т. по плечу. Тот продолжал сидеть, тупо глядя в серебро самовара. Она вздохнула и железным сточенным ногтем поскребла глаз-катафот. — Папаша, ты что, не понял? Вставай, говорю, идем. Круглая Печать ждет.
— Может, щей на дорожку? — услужливо предложила Бабка Голубая Шапка. — Или малосольных огурчиков?
— Кто любит кислое да соленое, а кто красное да крепленое, — ответила ей двугорбая ведьма, поманила пальцем фашиста и кивнула на сидящего пленника. — Объясни, папаша не понимает.
Фашист осклабился и закатал рукава.
— Во зинт ди вафн? — сказал он, низко наклонившись к Андрею Т.
— Где прячешь оружие? — Бабка Голубая Шапка вызвалась в добровольные переводчицы. Андрей Т. молчал.
— Во зинт минэн фэрлэкт? — Фашист потер кулак о кулак. Андрей Т. поморщился. От фашиста пахло давно не стиранными носками.
— Где заложены мины? — перевела Бабка.
— Гипт эс панцэр? — Кулак фашиста запрыгал возле лица Андрея Т.
— Есть ли танки?
Андрей Т. отвернул лицо.
— Не колется, — доложил фашист и вопросительно посмотрел на ведьму. — Разрешите приступить к пыткам?
— Спокойно, без рукоприкладства! — Дверь хлопнула. На пороге стоял Базильо. С гаванской сигарой во рту и в серой ковбойской шляпе, он выглядел как народный мститель из какого-нибудь голливудского фильма. — Совсем с ума посходили? Время — деньги, Печать не ждет, а вы тут цирк с допросом устраиваете.
Он подошел к Андрею Т. и пристально посмотрел на него.
— Пойдемте, молодой человек, — сказал он, попыхивая сигарой.
Андрей Т. поднялся. В зеленом глазу кота дрожала искорка смеха.
Компания двугорбой засуетилась. Хмырь с фашистом взяли Андрея Т. под руки и вывели за порог. Следом вышли ведьма и кот Базильо. Остальная шатия-братия громко переругивалась в дверях — никто не желал уступать другому дорогу.
Дойдя до тропинки, тянущейся вдоль берега подвальной реки, Базильо и двугорбая ведьма остановились.
— Налево, — сказал Базильо, указывая сигарой вбок.
— Направо, кабинет там. — Ведьма показала направо и задвигала своими горбами.
— Направо — долго, можем не уложиться по времени. Есть путь короче, — твердо сказал ей кот и выпустил изо рта огромное колесо дыма.
Глава 15, последняя
До полуночи оставались минуты, когда кот, горбатая и ее команда, пройдя бесконечными лестницами, коридорами и подвалами, отконвоировали покорного пленника к двери с надписью на табличке: «Директор».
Встречал их господин Пахитосов. Он нервно переминался у входа, жевал потрепанный ус и то и дело озирался по сторонам.
— Время, время! — Побарабанив по наручным часам, он зыркнул глазом на подконвойного и вытащил из кармана ключ. — Я уже битый час торчу здесь, как дурак, на виду, а вы прохлаждаетесь неизвестно где. Можно подумать, что мне больше всех надо.
— А то нет, — сказала ему двугорбая и выдавила хрипловатый смешок. — Ладно уж, отпирай. Мы тоже не на каруселях катались.
Пахитосов с третьей попытки попал ключом в скважину. Молча, по одному, крадучись, вся компания ступила в приемную. Здесь царили тени и полумрак. От голубоватого плафона над дверью разливался холодный свет. Лица у всех были серые и землистые, как у старых пожухлых трупов.
Пахитосов притворил дверь и довольно посмотрел на горбатую:
— Сначала как договаривались. Десять тонн баксов мне, десять — Базильо. Правильно? — Он подмигнул коту.
— Без базара, — сказала ведьма и шепнула что-то фашисту. Тот вытащил огромный бумажник и, не глядя, вынул из него две зеленые пачки. Одну протянул Пахитосову, другую — Базильо.
Пахитосов подозрительно посмотрел на пачку и взвесил ее на ладони; ноздри его раздулись, глаза превратились в щелочки, слезящиеся красным огнем.
— Значит, говоришь, без базара? — Голос его булькал от гнева. — За фраера меня держишь, старая? Тонну впендюриваешь за десять? Нет, я так не подписывался. — Он протянул ей деньги. — Ищите лоха на стороне. Пойдем, Базильо, здесь пахнет угарным газом.
— Это пока аванс, — остановила его старуха. — Остальное, когда сделаем дело.
— Ты что ж, старая, уже и не доверяешь? Кому? Мне? — Он обиженно посмотрел на Андрея Т., словно искал у него сочувствия: — Вот она, молодой человек, плата за доброту! Я к ним с открытой душой — и то им, понимаешь, и это, и в город им увольнения, и праздничный спецпаек. А мне за это тонну аванса! — Пахитосов схватился за сердце. — Жестокий век! Рушатся идеалы! — Он снова нацелился на старуху. — Здесь только моего риску — на полтора лимона зеленых! Я же места могу лишиться. Плюс трех городских квартир. И вообще — или давай бабки полностью, или я умываю руки.
— Без пяти уже, — сказал кот. — Рекомендую поторопиться.
— Ладно, — сказала ведьма. — Еще две тонны сейчас, остальное — после работы.
— Нет, — сказал Пахитосов. — У меня тоже принципы. Ты мне еще скажи, что нынче не при деньгах, что зарплату пятый месяц не платят. Кто в Питере всех вокзальных нищих в кулаке держит, рэкет свой на них делает? Скажешь, не ты? А этот твой фашист недоклепанный, скелетина эта вражья, он что, в своем «Русском порядке» травку с газонов косит? Знаем мы, чего он там косит, какую такую травку. — Пахитосов обводил глазами толпу молодчиков, выбирал кого-нибудь одного и, тыча в него пальцем, разоблачал. — А этот жирный, который к гуманитарной помощи присосался. Лопнет скоро, а все сосет и сосет, паук…
— Три тысячи плюс одна. Итого — четыре, — сказала ведьма.
— Согласен, уговорила. — Пахитосов махнул рукой. — Четыре с половиной сейчас, остальное — когда закончим.
Получив и пересчитав аванс, он направился к директорской двери в дальнем конце приемной. Перед тем, как ее открыть, он внимательно оглядел присутствующих, выбрал из толпы четверых, остальных оставил у двери.
В числе избранных оказались: естественно, двугорбая предводительница, естественно, Андрей Т., естественно, кот Базильо и почему-то человек-вешалка. Пятым был сам Пахитосов.
Войдя в святая святых, избранники недоуменно заозирались. Слишком здесь было просто. Ни роскошных ковров по стенам, ни портретов в богатых рамах, ни бриллиантов, рассыпанных по углам. Какой-то убогий стол с зеленой лампой посередине, парочка колченогих стульев, щелястые жалюзи на окнах, пропускающие ночную луну. И железный сейф у стены.
Пахитосов подошел к сейфу и ласково погладил его по дверце. Кот Базильо уселся на колченогий стул и стал со скрипом на нем раскачиваться. Во рту у него снова была сигара, появившаяся непонятно откуда. Золотой ее ободок, подсвеченный лунным светом, улыбался Андрею Т.; шелковая ленточка дыма рисовала в воздухе знак вопроса.
Пахитосов посмотрел на собравшихся и вытащил часы-луковицу. Отщелкнул двойную крышку, и в кабинете заиграла мелодия. Андрей Т. вздрогнул и посмотрел на часы. Он вспомнил эту мелодию, вспомнил и незваного гостя, точно так же отщелкивавшего крышку часов в его городской квартире.
— До полуночи две минуты. — Пахитосов успокоил часы и взялся за дверцу сейфа. — Волнуюсь, как в Новый год. — Он слегка приоткрыл дверцу и подмигнул напрягшемуся Андрею Т. — Да ты не бойся, это же пустая формальность, это же не под топор голову класть и не под гильотину. Штампанет она синий штампик и все дела. И будешь ты с того момента натуральный Садко. Мысли будут Садковы, песни будут Садковы, только физиономия останется от тебя нынешнего… Жарко, — сказал он вдруг и вытер вспотевший лоб.
И тут произошло следующее. Его левый, косящий, глаз выпрыгнул из своей орбиты и стремглав покатился по полу. Пахитосов на него даже не посмотрел. Затем с лица сорвались усы и, по-вороньи махая крыльями, полетели догонять глаз. Через секунду перед Андреем Т. стоял никакой не господин Пахитосов, перед ним собственной персоной покачивался, выпятив брюхо, его бывший драгоценный сосед, владелец ста метров площади на проспекте Римского-Корсакова, Конь Кобылыч, чтоб ему ни дна, ни покрышки. Он нисколько не постарел, даже наоборот, выглядел спортивно и моложаво, несмотря на выпяченное брюшко и глянцевую шишковатую голову, качающуюся на лошадиной шее.
— Что, братец, не ожидал? — сказал он уже из сейфа, нырнув туда по самые плечи. — А как я тебя тогда, со шнурками-то? Это ж я специально, для жалости. Посмотрит, думаю, а человек без шнурков, сердце-то у него и екнет. Ведь екнуло, а, Андрюша?
Конь Кобылыч умолк, теперь ему было не до шнурков. Благоговейно, как подушечку с орденами, он держал Большую Печать, подставив под нее обе ладони и покусывая влажный язык.
В кабинете воцарилось молчание. Лишь стул с раскачивающимся котом скрипел тоскливо и нудно, да бледная ночная луна подвывала ему в ответ.
— Айн, цвай, драй, — прошептал Конь Кобылыч и в испуге зажмурился.
Ничего не произошло.
Андрей Т. посмотрел на часы. На часах было две минуты первого.
— Извиняюсь. — Улыбочка на лице Кобылыча уж больно напоминала гримасу. Впрочем, он нисколько не растерялся. — Плюс-минус минута, стандартный допуск. Спокойствие, все будет о'кей. — Он вознес Печать над собой и опять зажмурился.
И снова никакого эффекта.
— Так-так, — нахмурилась двугорбая ведьма. — Кто-то из нас неправ. — Она взглянула на человека-вешалку и легонько ему кивнула. Засаленный шелковый шарф, только что свисавший до полу, молнией прочертил пространство и обмотался вокруг шеи Коня Кобылыча. Тот захрипел, забулькал. Печать выпала из его ладоней и с грохотом покатилась по полу.
— Я не знаю, почему она не работает. Я здесь ни при чем. Должна она работать, должна! Тут какая-то провокация!
— Говоришь, не знаешь? — Веки двугорбой ведьмы набухли от справедливого гнева. Шарф человека-вешалки затягивался все туже и туже. — А кто знает?
— Я знаю, — ответил со стула кот.
Все, включая полузадушенного Коня Кобылыча, посмотрели на него.
— Это только для нас 12 часов, — спокойно продолжал кот, покачиваясь на колченогом стуле, — а для Печати всего одиннадцать. Объясняю: мы шли сюда на восток и поэтому сэкономили один час. Если бы мы шли на запад, то есть по коридору налево, то, наоборот, потеряли бы один час. Эффект Филеаса Фогга. — Он победно оглядел публику. — С вас двадцать тысяч фунтов стерлингов, господа.
Если семь цветов радуги представить в оттенках серого, то именно такая палитра украшала в эти минуты физиономии разбойничьей троицы. Молчание продолжалось не долго.
— Ах, вот кто у нас предатель. Вот кто повел нас сюда обманным путем. — Двугорбая плюнула со злости в кота, но, промахнувшись, попала в человека-вешалку. Тот отбил плевок костылем. — За наши деньги нас самих же и подставляет! — Секунд пять она мрачно смотрела в пол, потом резко вскинула голову и сказала: — Ерунда! Сработает на час позже, какая разница. Подождем, никуда он от нас не денется. А с тобой будет разговор особый. — Она направила катафот на кота и окатила его недобрым взглядом.
— Вы сказали, какая разница? — громом прозвучало от двери.
На пороге стоял — кто бы вы думали стоял на пороге? — ну, конечно же. Абрикос, сам хозяин этого веселого заведения. Оказывается, он нисколько не изменился, только одет был в кожу, джинсу и дорогую замшу и оправа его очков была из ископаемой кости мамонта да в темных Генкиных волосах проседь сражалась с пролысью. А так — такой же, как был в тот день, когда они виделись тысячу лет назад, на закате своего далекого детства.
— Генка! — хрипло, как простуженный саксофон, прогудел ему Андрей Т.
— Андрюха! — громко, как органная фуга, прогремел ему в ответ Абрикос.
Они бросились друг другу в объятья, стали мять друг друга и колотить и мучили так безумно долго, что кот, поскрипывающий на стуле, успел докурить сигару и уже закуривал новую.
Когда пыл и жар поутихли, кроме них двоих и кота, в кабинете больше не было никого. Только столбики ядовитой пыли да грязный шарф на полу — все, что осталось от ведьмы и ее помощников-душегубов.
Они сидели в директорском кабинете и пили кофе. За окнами золотел рассвет. Две пустые бутылки из-под армянского конька печально стояли на подоконнике и медленно наполнялись утром. Обо всем уже было переговорено, вспомнено о близких и дальних, когда в дверь легонечко постучали.
— Можно?
— Входи, дружок.
Это был кот Базильо. Выглядел он по-джентльменски строго. В черной паре, в белоснежной сорочке с бабочкой, в черных остроносых туфлях. В одной лапе он держал розу, а в другой — Андрей Т. даже прослезился от радости! — в другой был его приемник, Спидлец, Спидолочка, Спидолага, родной, живой, невредимый. Не считая, конечно, дырки от лазерного оружия, да и та уже почти зажила.
— Это вам от меня. — Кот отвесил скромный поклон и протянул Андрею Т. розу. — А это, — он поставил на стол «Спидолу», — это от Кати, девочки-людоедки, просила вам передать.
— У нее-то он откуда? — удивленно спросил его Андрей Т.
— От Буратино. У них теперь… — Кот помялся и хохотнул в усы. — В общем, дружба. А «Спидолу» он поменял на книжку «Хочу быть дворником» у одного чертенка.
— Выпить хочешь? — предложил Абрикос, потряхивая початой бутылкой.
— Не откажусь. — Кот важно погладил бороду и застенчиво улыбнулся.
Абрикос разлил всем по рюмкам и сказал, похлопывая Андрея Т. по плечу:
— Предлагаю выпить за твоего спасителя. Если бы не наш дорогой Базильо, если бы не его ум и смекалка, сидеть бы тебе сейчас у морской царевны на дне морском, играть бы ей слезливые песенки, а не пить здесь с нами коньяк.
— Вы уж скажете, — смущенно ответил кот. Было видно, что он доволен, а смущается только из скромности. — И не сделал я ничего особенного. Ну, позвонил вам в аэропорт, чтобы срочно ехали. Ну, еще кое-что, по мелочи…
— Скромность красит человека, а не кота. Пьем за доблесть, — остановил его Абрикос.
Они чокнулись. Кот махом выдул коньяк и занюхал его хвостом. Андрей Т. закусил конфетой. Абрикос вообще не закусывал, а только облизнул губы.
С полминуты они молчали, прислушиваясь, как укладывается на дно желудков коньяк. Убедившись, что все нормально. Абрикос спросил у кота:
— Вот скажи нам, Базильо, ты мудрый, ты должен знать. Что на свете самое главное?
— Главное — оставаться человеком и умницей, — не задумываясь ответил кот.
— Вот и я ему то же самое говорю. — Горлышком коньячной бутылки Абрикос показывал на Андрея Т. — Но не все ли равно, где им оставаться, в смысле — человеком и умницей? Я ему предлагаю, пусть временно поживет у нас, условия я ему обеспечу, а он, пьяная образина, рвется в последний бой. Он их, мол, породил, ему их, гадов, и убивать. Жил на свете рыцарь бедный… — Абрикос хмыкнул и плеснул коньяка по рюмкам.
— Вот ты, Базильо, ты же старый боец, объясни ему, неверующему Фоме. С этой нечистью разве можно драться?
Кот грустно посмотрел на директора, потом, внимательно, на Андрея Т.:
— Я вам не говорил, а теперь скажу. Мы с вашим Мурзилой родные братья. Я по паспорту — Мурзила IV-6, только нас разлучили в детстве. А Базильо — это мой псевдоним. Я уже передал брату, чтобы готовил кошачью армию. Так что, когда будете выступать, скажите, коты помогут.
— И ты, Базильо… — Абрикос мотнул головой. Потом вздохнул, взял рюмку и произнес: — Ну что ж, тогда за победу!
Молчавший до того Спиха задрожал вдруг веселой дрожью и голосом, знакомым и твердым, ударил победный марш.
Санкт-Петербург 10 июня 1999 годаВячеслав Рыбаков ВОЗВРАЩЕНИЯ
Все мы выросли из Быковского спецкостюма…
Посидеть за столом с нормальными хорошими людьми, не слышать ни о долларах, ни об акциях, ни о том, что все люди скоты… Ой, когда же я отсюда выберусь!..
А. и Б. Стругацкие. «Стажеры»Подкатил громадный красно-белый автобус. Отъезжающих пригласили садиться.
— Что ж, ступайте, — сказал Жилин.
Высоченный седой старик, утопив костистый подбородок в воротнике необъятной меховой куртки, исподлобья смотрел, как пассажиры один за другим неторопливо поднимаются в салон. Кто-то легко, от души смеялся, кто-то размашисто жестикулировал, до последней секунды не в состоянии вырваться из спора; кто-то, азартно изогнувшись, наяривал на банджо. Пассажиров было человек сто.
— Успеем, — низким, хрипловатым голосом проворчал старик. — Пока они все усядутся…
Третий — уже не старый даже, а просто маленькая, сморщенная, сутулая почти до горбатости мумия, укутанная в плотный теплый плащ и плотный теплый шлем с наушниками, — нелепо запрокинув голову, озирался вокруг. У него были по-молодому живые, но совершенно несчастные глаза. Он словно прощался.
— Ax, да пошли, Алексей, — проговорил он надтреснуто. — Что ты Витю мучаешь? Это еще минут на пятнадцать, не меньше.
— Я никуда не тороплюсь, Григорий Иоганнович, — поспешно сказал Жилин. Крохотное лицо мумии скривилось в иронической гримасе: мол, говори-говори, все мы знаем, что такое чувство такта и жалость к тем, кто одной ногой в могиле.
Огромный и словно чугунный Алексей вынул правую руку из кармана куртки и медленно провел ладонью по редеющим седым волосам.
— Пожалуй… — раздумчиво сказал он.
— Ну, конечно, — сказал его спутник; чувствовалось, что он с трудом сдерживает возбуждение. — Уж ехать, так ехать. Как это у вас говорят? Долгие проводы — лишние слезы!
Алексей покосился на него своими чуть выпученными глазами, в стылой глубине которых проскользнуло едва уловимое недоумение.
— У кого это — у вас? — медленно спросил он. Григорий Иоганнович не ответил. Он смотрел в небо — чистое, синее, без единого облачка, даже без птиц; над аэродромом их разгоняли ультразвуковыми сиренами. Смотрел так, будто и небо это видел в последний раз.
Алексей выждал несколько мгновений, потом повернулся к Жилину.
— Ладно, — повторил он. — В конце концов, не на век едем. Путь, конечно, неблизкий, но, думаю, к вечеру-то уж мы обернемся, — шумно втянул воздух носом. — Тойво, как я понял, дело разумеет.
— Я, Алексей Петрович, вас в гостинице дождусь, — ответил Жилин. — Сниму пару номеров… вы же всяко с дороги устанете. Отоспимся здесь, а уж утром двинем обратно.
— Резонно, — коротко одобрил Алексей Петрович. Еще выждал. С каким-то сомнением покосился на Григория Иоганновича, — но тот так и смотрел в небо, и во взгляде его были тоска и недоговоренность. — Пошли. До свидания, бортмеханик.
— До свидания, — ответил Жилин и неловко шевельнулся, готовясь к прощальному рукопожатию; но Алексей Петрович уже снова упрятал обе руки в глубокие карманы куртки, а Григорий Иоганнович тяжело опирался обеими руками на трость. Тогда Жилин просто улыбнулся. — Спокойной плазмы.
— Не на век уезжаем, — упрямо повторил Алексей Петрович.
Жилин не трогался с места, пока они шли к автобусу — один неторопливо и громоздко вышагивал медленным, грузным, вечно угрюмым Големом; другой семенил рядом, заметно прихрамывая и далеко выбрасывая вперед свою замечательную трость, к которой за все эти годы так и не смог привыкнуть. Друзья, думал Жилин. Какие друзья. Сколько лет, сколько мегаметров… сколько потерь и эпох — а они все друзья. Даже завидно. Он досмотрел, как Алексей Петрович помогает своему спутнику вскарабкаться по низким, широким ступеням; на ум в миллионный раз непроизвольно пришло знаменитое «Быков есть Быков. Всех немощных на своих плечах» (Юрковского нет так давно, что уже почти не больно его вспоминать — а фраза не старится, и даже мальки с первых курсов, поймав ее невесть откуда, чуть стоит кому из них отличиться, хлопают героя по спине: Быков есть Быков!..). Потом пологий трап беззвучно, как во сне, утянулся внутрь; плавно сомкнулись створки широких, как триумфальные арки, дверей автобуса — и автобус вздрогнул и покатил, широкими протекторами расплескивая воду из рябых от ветра луж. Тогда Жилин повернулся и пошел к правому крылу аэропорта, где располагалась гостиница.
Автобус набирал ход. Быков неподвижно, невозмутимо сидел, глядя пустыми глазами в пространство и уложив на спинку никем не занятого переднего сиденья испещренные старческими веснушками ладони, тяжелые и крупные, как весла. Григорий Иоганнович то и дело оглядывался на летящую в прошлое грациозную игрушку аэропорта, сверкающую ситаллопластом; потом автобус чуть повернул, и ее заслонили пушистые, как клубы светло-зеленого дыма, элегантные криптомерии и величавые, огромные свечи разлапистых лузитанских кипарисов. Невесомо взмыв на развязке трасс, автобус перемахнул через широченную грузовую автостраду, по которой, с нечеловеческой точностью блюдя интервалы, двигалась бесконечная вереница большегрузных атомокаров-автоматов. Молнией стрельнул за окнами дорожный указатель, информация с которого давно уже высветилась на репитерах подлокотников: «Желтая Фабрика — 6 км. Пулковская обсерватория — 11 км. Шушары — 15 км». Только после этого Григорий Иоганнович успокоился; он откинулся на спинку сиденья, запрокинул голову и закрыл глаза, будто решил подремать. Красиво загорелый беловолосый молодой водитель, на миг обернувшись в своей прозрачной кабине, сверкнул Быкову улыбкой, но взгляд его был вопросительным, чуть тревожным — Быков в ответ едва заметно кивнул: дескать, все в порядке, жарь дальше. Водитель отвернулся.
Кругом кто читал, кто разговаривал, кто смеялся или пел — и в уютной, стремительно несущейся по шоссе тишине, нарушаемой лишь посвистом встречного воздуха за окнами, обрывки фраз и куплетов доносились отчетливо и открыто; люди разговаривали, чуть понижая голоса лишь с тем, чтобы не мешать соседям, но совсем не стараясь, чтобы их никто не слышал. Как обычно. Как везде. Как всегда.
— …аппаратура у нас регистрирует квази-нуль поле. Понял? Счетчик Юнга дает минимум… Можно пренебречь. Поля ульмотронов перекрываются так, что резонирующая поверхность лежит в фокальной гиперплоскости точнехонько…
— …поставить своими силами не удастся. У нас нет Отелло. Если говорить откровенно, идея ставить Шекспира представляется мне абсурдной. Не думаю, чтобы мы оказались способны на новую интерпретацию, а ждать, пока…
И банджо где-то в глубине салона. И незатейливое трехголосье, не по нервам и не по черепу — но легко, как бы небрежно, зато буквально заходясь от ничем не омраченного и не подстегнутого никакими допингами молодого задора:
…Когда цветут луга весны И трель выводит дрозд, Мы, честной радости полны, Бродя с утра до звезд…— …ты что, не слышал? Это же изумительная новость! Буллит раскодировал этот ген! Нет, ты не крути носом, а просто вот немедленно возьми бумагу и пиши. Шесть… Одиннадцать… Одиннадцать, говорю!
— …небольшой голубой коттеджик буквально на берегу. Там очень свежий воздух, превосходное солнце и прямо напротив веранды — прекрасно сохранившаяся византийская базилика и одна из башен крепости, башня Астагвера называется, по имени консула, при котором ее строили. Я никогда не любила столицу и не понимала, зачем ее…
И вдруг заплакавшее банджо. Без надрыва, без надсада — лишь очень спокойная и совершенно безнадежная печаль:
…Ты, не склоняя головы, Смотрела в прорезь синевы И продолжала путь.После Желтой Фабрики автобус опустел едва не на треть. Аллея сверкающих упругими кронами тропических экзотов, невероятными ухищрениями ботаников выращенных в окаянном ленинградском климате, оборвалась. По сторонам потянулись гнущиеся на ветру, теряющие листву березы и осины, за которыми угадывались унылые, заболоченные угодья. И погода нахохлилась, а вскоре и прохудилась; снаружи потемнело, спрятались и солнце, и прорези синевы, и по окнам побежали почти горизонтальные струйки сорвавшегося с ватно-серого неба осеннего дождя. Водитель снова обернулся вопросительно — и снова Быков ему кивнул: все нормально. Дорога сузилась. Теперь автобус то и дело подбрасывало на неровностях и выбоинах никудышного покрытия, и водитель уже не разгонялся, как прежде — тем более, остановки шли одна за другой. Музыкант с друзьями сошли у обсерватории. Автобус скучнел, затихал и терял людей все быстрее; зато очнувшийся радиоприемник в кабине водителя заголосил, нетрезво и злобно надсаживаясь:
…Этой ночью разразилась гроза! И сорвались у их тормоза! И сплетались усы и коса! И еще кое-где волоса!К тому времени, как из серой мути вдали проступил великий город и потянулся навстречу автобусу щупальцами своих недавних, но уже облупленных новостроек, а мимо, ревя раздолбанным мотором и чадя перегаром нечистого топлива, натужно и нагло, через сплошную осевую, продавился на обгоне первый «КамАЗ», — в салоне остались только два пассажира.
Они так и промолчали всю дорогу. Григорий Иоганнович, казалось, дремал; на поворотах голова его расслабленно моталась на спинке сиденья. Быков сидел, словно Будда, глядя вперед неподвижными, бесстрастными глазами.
В радиоприемнике с оглушительным дребезгом то ли гитары, то ли какие-то местные синтезаторы снова принялись перекатывать и перебрасывать друг другу щербатые, крошащиеся звуки, и очередной Орфей с наркотическим восторгом и нарочитой невнятностью заблеял, с трудом попадая в ноту:
Без руля и без ветрил Нанесло на нас педрил!— Смешно, — сказал водитель.
— Славный мир, — вдруг произнес Григорий Иоганнович, не открывая глаз. — Веселый мир. Все шутят. И все шутят одинаково.
— Тойво, — проговорил Быков, — будь человеком, погаси это.
Водитель, улыбаясь, коснулся выключателя, и стало тихо.
— Я думал, чтоб вы не скучали, — извиняющимся голосом, но как-то снисходительно проговорил он.
— Спасибо, — невозмутимо ответил Быков.
— Ну, вот, — сказал Тойво, — уже стамеска. Подъезжаем.
Автобус, неторопливо прокрутившись по площади Победы, вписался в плотный поток машин, затрудненно сглатываемый гортанью Московского проспекта.
— Будто и впрямь из аэропорта едем, — проговорил Тойво. — Обычные авиапассажиры рейса Мирза-Чарле — Санкт-Петербург, — он засмеялся и, коротко обернувшись, сверкнул на стариков своей легкой улыбкой. — Вдумайтесь в икебану этих названий: Мирза-Чарле — Санкт-Петербург!
Они вдумались. Во всяком случае, помолчали.
— Стивенсон-заде! — возгласил Тойво.
— Эфраимсон ибн Хоттаб, — ответил Быков. — Холдинговая компания «Ленинец». Свердловская область и ее столица Екатеринбург. Все шутят одинаково. Хватит одинаково шутить, добрый юберменьш. И так на душе погано.
— Да что вы, дядя Леша, — раскатами провинциального трагика воскликнул Тойво, — да не надо! Да честное слово, все образуется! Из надзвездных селений, знаете ли, виднее!
— Может, и образуется раньше или позже, да жизнь-то у людей короткая, мальчик. Особенно у здешних. Оно все образо… зо-вы-вается, об-ра-зо-вы-вается, да вот до-об-ра-зоваться, — это слово никак не давалось ему, но он упрямо повторил его, выговаривая по слогам, — не может. А жизни — раз и нет. Два — и еще поколения нет. Три… Четыре… Четырех поколений уже… — он замолчал, не закончив фразы, и лишь бугры могучих скул заходили под дряблой кожей.
Автобус остановился перед светофором, в толчее других машин. Григорий Иоганнович открыл наконец глаза и посмотрел наружу.
— Сколько… — пробормотал он. — И все разные… Зачем столько разных? — прищурился, всматриваясь. — «Вольво», — с каким-то детским недоумением прочитал он. — «Па… паджеро». Между прочим, слово похоже на испанское, а если по-испански читать, должно получиться «Пахеро». Это как дон Жуан, который на самом деле Хуан. Целая тачка, полная теми, кому все пахеро! — и он надтреснуто, чуть истерично засмеялся.
Зажегся желтый глаз впереди, и лавина фырчащего, мокрого от дождя металла и стекла, не дожидаясь зеленого, повалила вперед, тесня и подрезая соседей.
— Знаешь, Алексей, — проговорил Григорий Иоганнович негромко. Быков чуть повернулся к нему, но он опять уже откинул голову на спинку и прикрыл глаза своими истонченными, будто птичьими веками. — Последнее время я часто вспоминаю… Когда я проводил вас в тот проклятый рейс… спецрейс семнадцать… я встретил Машу. В последний раз встретил, больше мы не виделись. Мы тогда поспорили слегка… о широте мысли. И теперь я понимаю, что оба были тогда в равной степени правы… и в равной неправы.
Опять светофор, и опять красный. Дождь барабанил снаружи, и каждая капелька, ползущая по стеклу, остро мерцала багровым. Нетерпеливо урчали и дребезжали машины, чадя и мокро блестя в сгустившихся сумерках; из высоко вознесенного салона они казались сплошной коростой из панцирей выброшенных на песок черепах.
— Она сказала, что все мы ограниченные люди, потому что не способны спросить себя: а зачем? А я сказал, что правы лишь те, кто не задает себе этого вопроса. Ты пьешь холодную воду в жаркий день и не спрашиваешь — «зачем?», сказал я. Ты просто пьешь, и тебе хорошо.
Автобус тронулся.
— Но тело — не душа, вот в чем штука. Биологическая потребность имеет простую и ясную, конкретную цель: поддержание жизнедеятельности тела. А вот какая цель у жизнедеятельности души? Своей аналогией я лишь уравнял работу разума с животным метаболизмом. Но человек тем и отличается от животного, что может ставить себе цели более высокие, чем съесть, выпить, совокупиться… А ответить на вопрос «зачем?» можно, лишь имея в виду некую высшую цель… высший смысл. Я был молодой дурак. В пятьдесят два года, уже со всеми своими четырьмя лучевыми ударами, уже стоя на этой клюке — я был молодой дурак, Алексей… Этот вопрос раньше или позже тебя настигает. Нельзя задавать его слишком рано — ответы будут не твоими, вычитанными в книжках… пусть в очень хороших книжках — все равно. Но нельзя и слишком медлить, потому что можешь не успеть ответить. Можно досконально изучить аморфное поле Урана, можно построить прямоточный фотонный двигатель… для чего?
— Ибо какая польза человеку, — медленно прогудел Быков, — если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
Григорий Иоганнович даже глаза приоткрыл, недоверчиво покосившись на Быкова. Странно было слышать такое от человека, который на протяжении множества лет читал, казалось, лишь всевозможные руководства по эксплуатации, наставления да технические паспорта.
— Мы своим душам не вредили, — сказал Быков и осторожно положил чугунную, горячую, как из домны ладонь на острое колено друга. — Цель — люди, Иоганыч. Все остается людям.
— Да, мы так когда-то думали. Но люди-то разные, и цели себе ставят разные! И в разных целях будут использовать все, что ты им оставишь… Положа руку на сердце, Алеша… ведь на самом деле ты трудишься лишь для тех, чьи цели совпадают с твоими, про остальных в лучшем случае не думая… а в худшем — думая, что их всех надо как-то… перевоспитать… глаза им открыть, что ли… Ведь правда? И я тоже, и все… иначе человек не умеет!
Автобус легко отвернул влево — пассажиров одинаково качнуло на сиденьях; нечувствительно пересек встречную полосу и вкрадчиво, будто высматривая место для ночлега, покатил в сторону от проспекта.
— В свое время в Гоби, — неспешно проговорил Быков, глядя в дождливую мглу впереди и словно бы ни к кому не обращаясь, — много довелось работать с китайскими товарищами. Так меня еще тогда поразило: «товарищ» по-китайски — «тунчжи» и дословно это значит что-то вроде «единочаятель». Не единомышленник даже — а тот, с кем мы хотим одного и того же. Здорово, правда?
— Ну, вот видишь! Значит, первый ответ на вопрос «зачем?» будет: для своих единочаятелей. А уж когда найдешь их, тогда вместе с ними можно попытаться дать еще более общий ответ. Найти еще более высокую цель…
— Не знаю… — раздумчиво прогудел Быков. — По-моему, наоборот. Ты работай, а тунчжи сами найдутся. А если начать с того, что собрать толпу на идейной какой-нибудь основе, оглянуться не успеешь, как эти партайгеноссе станут бандой, навязывающей свои чаяния всем, до кого могут дотянуться.
— Приехали, — подал голос Тойво, и громада автобуса остановилась с неожиданной легкостью, будто закон инерции о ней забыл. — Значит, дядя Леша, дело такое. Там внизу домофон, и еще на этажах решетки… Это я все сейчас открою, вы поднимайтесь и звоните прямо в квартиру. А я уж, — в его голосе появились виноватые нотки, — не буду вас дожидаться, вернусь к себе.
— Конечно, возвращайся, — сказал Быков. — Что тебе тут.
— Вы, когда закончите, просто кликните кого-нибудь из нас. Этак в глубине души, как сегодня.
— Услышите? — чуть усмехнулся Быков.
— Н-ну, наверное… — без уверенности протянул Тойво. Потом спохватился. — Да конечно, услышит кто-нибудь. Я же услышал! И доставим обратно в целости-сохранности.
— Договорились, — сказал Быков, и в кабине водителя никого не стало.
Быков грузно выпростался из кресла в проход — в широких недрах салона ему все равно было узковато — и выпрямился. Григорий Иоганнович сидел неподвижно, по-прежнему прикрыв глаза, но чувствовалось: он напряжен, как струна.
— Идем, — сказал Быков негромко.
— Я не пойду, Алексей, — еще тише ответил Григорий Иоганнович.
— Как это? — не понял Быков.
— Я не уверен, что мне есть, что сказать там.
— Погоди… Вместе же собирались!
— Я передумал.
Он замолчал. Быков, сопя, нависая над ним мохнатым и суровым айсбергом, выждал несколько мгновений. Потом смирился.
— Хорошо, — проговорил он с какой-то запредельной мягкостью. — Хорошо, Иоганыч. Подожди меня тут, я скоро. Только под дождь, пожалуйста, не выходи.
Эта мягкость, почти — нежность, никак не вязалась с его обликом. И потому казалась еще более невероятной, чем цитата из Марка.
Григорий Иоганнович сказал рвущимся голосом:
— И вообще я не вернусь.
Быков медленно втиснулся обратно в кресло, из которого с таким трудом выбрался минуту назад.
— Да что с тобой, дружище? — едва слышно проговорил он.
Григорий Иоганнович резко повернулся к нему, и глаза его наконец открылись — широко и болезненно, словно от внезапного ожога хлыстом.
— Мне стыдно жить в выдуманном мире! — фальцетом крикнул он. — Понимаешь, Алеша? Стыдно! Не могу! Я — настоящий! Я — здесь… — у него не хватило легких на крик. Захлебнувшись, он попытался перевести дух — и тогда уже понял, что больше ему нечего сказать, все сказано.
Быков медленно, страшно побагровел, наливаясь венозной кровью. Какое-то короткое время он пытался сдержаться, а потом и его прорвало. Огромный чугунный кулак с треском ударил в спинку переднего сиденья.
— Ты что же, воображаешь, будто этот мир не выдуман?! Да это же морок, морок!! Нашел реальность! Если бы не подпитка валютой и трепотней извне, он двух лет бы не простоял! И десятка лет он все равно не простоит! Голову на отсечение даю — не простоит десяти лет! Двух пятилеток!!
Григорий Иоганнович молча смотрел Быкову в лицо и часто, с каким-то горловым треском дышал. Словно в гортани у него кто-то ритмично рвал бумагу. Потом птичьи пленочки век вновь стали опускаться ему на глаза.
— Видно, раз уж начали, надо этот вариант теперь докрутить до конца, чтобы окончательно отбить от него охоту, — тихо сказал Быков. — Как в семидесятых-восьмидесятых большевистский вариант до полного износа докрутили, так что всех уже рвать начало от слова «коммунизм»… Может, и впрямь: претерпевый до конца, той спасен будет?
Григорий Иоганнович молчал.
— Опомнись, Гриша. Естественных миров у человека нет. Именно потому, что человек — не животное. Язык — выдумка. Письменность — выдумка. Законы — выдумка. Тексты Библии, и Вед, и Луньюя, и Корана поначалу возникали у кого-то в мозгу, а потом из них вырастали целые цивилизации. Конечно, они отличались от тех идеальных образов, которые описывались в текстах. Но еще больше они отличались от той реальности, что была до них. И — в лучшую сторону, Гриша, всегда в лучшую! Чем мир человечнее — тем более он выдуман, а чем он естественнее — тем бесчеловечнее… Миров много. Все миры люди сначала выдумывают, а уж потом одна из выдумок становится реальностью смотря по тому, сколько народу хочет именно ее, а не чего-то еще. Этого мира в некий момент захотели слишком многие. Кто из корысти, кто от усталости, кто от злости или разочарования… Да что греха таить, на этот мир просто отвалили больше денег. И не так уж трудно понять, кто. Кому выгодно. Интеллигентные люди об этом говорить стесняются, они же на общечеловеческих ценностях воспитаны, в европейский дом хотят… но фразу «Бойтесь данайцев, дары приносящих» — не Ампилов здешний придумал. И еще за много десятилетий до красно-коричневых было сказано: у России друзей нет, да и союзников всего два: ее армия и ее флот… Но, Гриша… это же не причина…
И Быков умолк. Ему тоже больше нечего было сказать.
— Я не вернусь, Алексей, — проговорил Григорий Иоганнович. — И не уговаривай, и не заставляй. — Запнулся. — В кон… — у него перехватило горло. — В конце концов… тут… Тут у нас — независимость.
Он выдавил это, сам стыдясь, — словно вынужденную скабрезность.
Быков медленно отвернулся. Растопырив локти, упер руки в колени и сгорбился.
— Ах, вот оно что, — глухо пробормотал он.
Потом глянул на друга исподлобья и чуть улыбнулся.
— Ну кому ты там такой нужен?
— На Родине человек всегда нужен, — сказал Григорий Иоганнович. — Любой.
— Не много у тебя найдется в здешней Латвии единочаятелей.
— А я верю…
— Верю! Снова квазирелигия! Значит, вопрос «зачем?» — это вопрос не цели, а веры, так получается, Григорий Иоганнович?
Тот молчал. Откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза совсем. И лишь тогда сказал, опять словно стесняясь своих слов:
— Ты же вот… сам… проговорился сейчас… связываешь человечный вариант именно с твоей страной.
— Нашей, — непроизвольно поправил Быков.
— Твоей. И не спрашиваешь, религия это, или знание, или просто очень хочется так…
Быков невесело усмехнулся.
— Кому ж еще строить светлое будущее. Все кругом уже построили либо сытое настоящее, либо шариатский или еще какой-нибудь достойный орднунг… Места расхватаны согласно купленным билетам… Кроме как нам — некому.
Усмешка тяжело сползла с его лица.
— Я бы и рад с тобой вместе, да ты же вот сам уходить собрался…
Григорий Иоганнович не ответил. Сидел, откинувшись в кресле и закрыв глаза, — и было понятно, что решил он намертво.
Тогда Быков вновь поднялся.
— Я пойду, — сказал он убеждающе, — а ты меня дождись. Успокоимся оба… и обсудим еще разок. Ты меня… обескуражил. Даже не знаю, как я теперь… у него… ладно. Как-нибудь. Только ты меня дождись. Я очень обижусь, Гриша, если приду, а тебя — нет.
Григорий Иоганнович не ответил. Быков потоптался грузно и неловко, а потом повернулся и, с шуршанием задевая рукавами за спинки кресел, косолапя, пошел к выходу. Уныло и нескончаемо урчал на крыше мелкий, серый дождь. Дождь, которого было очень много и который явно никуда не торопился.
Под козырьком у парадной подпирали стену, не решаясь ни выйти мокнуть, ни вернуться домой под взрослый надзор, два малька лет семи; один прикинут был пофирменней, другой — поплоше. Быков замедлил шаги, прислушиваясь к их беседе — он любил слушать мальков, у них так причудливо и емко мешались фантазии и факты, что всегда теплело на душе. Но тут он сразу пожалел, что прислушался. «У нас „ауди“, — небрежно информировал фирменный, а другой отвечал уныло, сам сознавая свою неполноценность: „А у нас ''жигуль''“. — „Жигуль“ — говно, — констатировал фирменный со знанием дела и не без удовольствия, явно вынося не первый и не последний свой приговор. — Все русское — говно».
Добились своего ясноглазые борцы, угрюмо думал Быков, пока лифт натужно и тягуче возносился сквозь этажи. Впрочем, они не того добивались… хотя некоторые наверняка именно того, и ничего иного. На что может рассчитывать страна, в которой дети уже с молоком матери впитали убеждение, что живут в самом плохом, самом нелепом и уродливом краю! Им, если не смываться за кордон, только две дороги — тем, кто поспокойнее да попройдошливее, в предатели-продаватели: а ну, налетай с предоплатой, кому еще ломтик страны, где меня угораздило родиться с умом и талантом! А тем, кто поистеричнее — в умоисступленные крушители всего и вся, что отличается от взаправдашних — что греха таить — уродств, объявленных в порядке подсознательной психологической защиты идеалами.
И вот потом и те, и другие становятся, скажем, депутатами, встречаются в Думе и начинают долго и витиевато дискутировать перед телекамерами о целях и методах реформирования России…
В небольшой квартире тенькнул короткий звонок.
Сидевший перед компьютером хозяин досадливо шевельнул плечом. Он очень не любил отрываться от работы неизвестно зачем, как правило, по пустякам, — а сейчас он работал. Он терпеть не мог незваных гостей, а сейчас никого званого не ждал.
Шкодливо вскинулась мысль вообще не подходить к двери. Но показалось невежливо. Да и тот факт, что позвонили прямо с лестницы, требовал объяснения. Хозяин встал и, пошаркивая шлепанцами, неспешно двинулся в коридор. Замок скрежетнул, как всегда, потом лязгнул, как всегда — и дверь распахнулась.
Хозяин перестал дышать, и сердце его неприятно, как на чересчур раскачавшихся качелях, сорвалось вниз. На какое-то мгновение хозяину почудилось, что к нему пришел и, как ни в чем ни бывало, стоит сейчас в лестничной полутьме его умерший несколько лет назад старший брат.
А потом хозяин узнал гостя, и сердце его опять провалилось.
Они не виделись без малого лет сорок. И, сказать по совести, хозяин предпочел бы вообще с ним уже не встречаться. Непроизвольно он шагнул вперед — перекрывая дверь, чтобы гость не вошел.
— Здравствуйте… — проговорил Быков скованно. — Извините за вторжение. Предупредить о приезде я, понимаете, не мог.
— Понимаю, — ответил хозяин, овладевая собой. И уже вполне спокойно проговорил: — Но и вы меня простите. Зайти я вас не приглашаю. У меня сейчас Сорокин, Витицкий… Может получиться неловко.
Быков шевельнул коричневой кожей лба.
— Разумеется, — прогудел он после отчетливой паузы. — Я, собственно, так и думал. Я всего на несколько слов. Просто… знаете… Хотел вас поблагодарить. За все.
Он умолк. Хозяин снова растерялся. Он ожидал иного — хотя не смог бы сказать, чего именно. Чего-то более… насилующего. Этот человек уже одним лишь своим возвращением из прошлого был способен его, нынешнего — исказить. Во всяком случае, такое опасение мелькнуло.
Теперь за него было как-то совестно перед гостем.
— И чтобы это сказать, вы тащились в такую даль?
— Ну, не так уж это и далеко. Просто надо дорогу знать. Да и… простите, но разве есть что-то более важное, чем успеть сказать «спасибо» человеку, которому благодарен?
— Возможно… — с сомнением протянул хозяин.
— Мы прожили мощную, полную жизнь. Настоящую. Такую, какая и присниться не может всем, кто тут… хлебает пиво из горлышек в вагонах метро или с улюлюканьем пугает старух на перекрестках, раскатывая в… в пахеро. А дети наши… они вообще живут среди звезд. Благодаря вам. Вот… собственно, и… — Быков беспомощно повел рукой. Потоптался. — Мне казалось, что вам будет приятно это узнать… нет, не то что приятно… Важно. Что вам легче станет, если… вы будете это знать. Нам там это важно — чтобы вам стало легче.
Быков готов был к тому, что в этот решительный миг может оказаться косноязычным, — но никак не ожидал, что окажется косноязычным настолько. И теперь он ничего не мог с собой поделать, и ничего уже было не поправить. А в неподвижном, затемненном автобусе, рокочущем под дождем, как пустой барабан, — сидел, прикрыв глаза, Иоганыч, и надо было скорее возвращаться. Все оказалось ужасно. И, пожалуй, глупо. Бессмысленно.
— И не обращайте вы внимания на нынешних изысканных… кто от большого ума ставит теперь все с ног на голову в демократическом… ключе. Как когда-то коммуняки здешние с ног на голову ставили. У всех свои тараканы. Помню, в «Знамени», что ли… В общем, в каком-то из прославленных рупоров нового мышления, в аванпосте демократизации. Сюва… Васю… дю… тьфу! Вылетело вдруг, — виновато и как-то по детски сказал он. — Дескать, гуманизма у вас не хватает, потому что вас не интересуют маленькие люди и их проблемы, а только герои да борцы. Дескать, страшно за детей, у которых в руках ваши книжки, потому что они вырастут недобрыми и с тоталитарным сознанием, будут уважать лишь силу и напор. Надо полагать, — Быков скривился, — теперь, когда в руках у тех детей, которые вообще хоть что-то еще читают, видны лишь полные кровищи мордобойники про сильных духом бандитов и жалких продажных ментов… когда на вопрос, кем ты хочешь стать, дети отвечают уже не космонавтом или учительницей, а киллером или проституткой… души просвещенных критиков успокоились.
С протяжным завыванием и лязгом проехал наверх лифт, и Быков помолчал, пережидая шум и собираясь с мыслями. Мыслей было много, а вот слов — раз-два и обчелся. Но выхода не было.
Мысль изреченная есть ложь, это так — но мысль не изреченная есть онанизм…
— И не обращайте вы внимания на теперешний вал перевертышей… антиинтерпретаций. На тех, кто иных миров уже и представить не может — а потому тщится доказать, что их нет, иных-то, и никогда не было, и никогда не будет, и быть не может… есть только этот, всегда и навсегда, и все, что от него отличается — просто обман, подлая маскировка.
Его передернуло.
— И нас пытается за уши, за ноги втащить сюда и размазать. Ну, вроде как… Массачусетская машина захватила власть над миром, запудрила всем мозги и учинила галактический Гулаг… Или что учителя в наших школах — помесь блокфюреров из концлагерей и ротных то ли особистов, то ли политруков. Или что нашим ураном с Голконды злые коммунисты разбомбили бедную беззащитную Америку. Больше об Америке и позаботиться некому — одни российские борцы с тоталитаризмом ее от России оберегают! Помните, у Брэдбери рассказ… «Улыбка», кажется. Стоит после всемирной катастрофы грязная голодная толпа и ждет своей очереди плюнуть на Монну Лизу. Мол, ты, такая красивая, нас ни от чего не спасла, а сама такая же красивая и осталась — значит, ты и виновата! Вот… похоже, правда?
— Есть разница, — не выдержал хозяин. — Прототип-то существовал реально!
— Да откуда вы знаете? — с инстинктивной стремительностью парировал Быков, не успев застесняться резкости своего ответа. — Да откуда вы знаете, какая она была, даже если — была? Я уж не говорю, кстати, про версии вроде того, что Леонардо писал Джоконду с себя… Хорошо, иначе. Хочется кому-то плавать, как дельфин, — а не дано. Ни моря вокруг, ни у себя плавников. Обидно! Как замечательно дельфин плавает-то, да в какой красоте! Значит, кинуть в выгребную яму дельфина, дождаться, когда издохнет, продемонстрировать народу труп и зааплодировать: ну вот, мы и доказали, что такие чистые и красивые животные, как дельфины, нежизнеспособны! То ли дело черви! Им в дерьме — хоть бы что! Дельфины — обман, черви — правда! Избавляйтесь от иллюзий, господа! Равнение на червей!!
Быков запнулся, окончательно потеряв нить. Ему внезапно пришло в голову, что столь длинных речей, да еще на столь отвлеченные темы, он до сих пор не держал никогда.
И больше никогда не станет. Потому что — он не смог бы ответить, откуда он это знает, но знал он доподлинно — вся эта речь оказалась совершенно не нужна. От первого до последнего слова. Я для себя говорю, понял он, не для него.
Пауза затянулась.
— Я пойду, — безжизненно сказал он. — Извините. Пора возвращаться.
Он повернулся и, сутулясь, слегка вразвалку пошел к лифту. Нажал кнопку вызова. Рука хозяина дернулась было к запорам лестничной решетки — и тут же упала обратно. Показалось бестактным запираться так уж сразу, пока этот человек еще здесь. Все-таки когда-то — пусть сорок лет назад — они были почти единомышленниками. Если бы хозяин слышал разговор в автобусе, он обязательно подумал бы: единочаятелями. Мыслили они, конечно, по-разному. Но чаяли — одного и того же. Тогда.
Лифт тягуче сполз с поднебесья и, звонко щелкнув, впечатался в этаж. Быков открыл лязгнувшую дверь. Держась за настывший металл рукоятки, оглянулся на хозяина и повторил:
— Извините.
Совсем стемнело, и дождь сыпал, как из ведра — пронзительный и злой. Подняв воротник куртки, Быков почти бегом пересек двор и вскочил в автобус. Встряхнулся и сам себе напомнил мокрого старого пса.
В кабине оглушительно грохотала африканскими ритмами стереотехника, и за рулем сидел его сын.
— Привет, па, — сразу делая звук тише, сказал он.
— Ого, — проговорил Быков растерянно. Кого угодно он ожидал, но не Гришку. Сын давненько не показывался. Они обменялись рукопожатием.
— Как ма?
— Нормально. Прихварывает немножко… цветочки поливает… — Быков, сердито насупившись, глянул на сына исподлобья. — Или ты всерьез?
— Всерьез, конечно, — без особого энтузиазма сказал Гриша. — А вообще ладно, можешь в подробностях не рассказывать. Я, наверное, загляну на днях…
— Понятно.
— Да нет, правда загляну.
— Верю. Верю-верю всякому зверю…
— А тебе, ежу — погожу! — со смехом подхватил Гриша. Но Быкову было не до смеха. Отчетливо ощущая холодок нехорошего предчувствия, он озирался; салон был пуст.
— А где Иоганыч? — спросил он.
Гриша перестал улыбаться. Отвернулся.
— Ушел.
— Давно?
— Минут пять назад.
Быков сделал суетливое движение к двери, но Гриша стремительно встал, загораживая ему дорогу.
— Не надо, па. Не надо. Я тут тоже все локти искусал, но… сижу. Его выбор.
— Да, — тяжело проговорил Быков. У него будто все мышцы разом растворились в едкой кислоте отчаяния; тело сделалось неподъемно тяжелым, и от веса этой бессмысленной, ни на что не способной груды сперло дух. Он опустился в ближайшее кресло. Сгорбился так, что влажный, холодный воротник куртки нагромоздился едва не на темя. — Ну пропадет же старик…
— Пора мне возвращаться, сказал, — негромко проговорил Гриша.
— Вот даже как… — угрюмо пробормотал Быков.
Он искоса, как нахохлившаяся птица, посмотрел вбок, наружу. На какой-то миг ему показалось, что среди промокших насквозь людей, бредущих или бегущих — кто на что способен — по залитой лужами, исхлестанной дождем темной улице, он видит одного; самого маленького, самого жалкого, сгорбленного, но не сломленного, совсем не сломленного; напротив, пошедшего к новой цели, которую отыскал сам и на которую решился сам. Бредущего из последних сил туда, где, как он верил, его ждет дальний, очень дальний, неведомый и желанный дом. Человек все может перетерпеть, все преодолеть… все рассчитать и свершить, если он идет к такому дому. Если он думает, что идет к такому дому. Если ему кажется, что он идет к такому дому. Сила это или слабость?
Или просто потребность? Разве можно спросить: потребность дышать — это сила или слабость? Просто если не дышать — смерть. Смерть тела. А без дальней цели — смерть души.
— Ну, тогда пора и мне возвращаться, — проговорил он и тяжело вздохнул. Что я Жилину-то скажу, мельком подумал он. Гриша нырнул обратно в кабину и положил руки на баранку.
— Куртку снять не хочешь? — заботливо спросил он. — Мокрая, как компресс ледяной… не простудишься? Давай распну ее на климатизаторе — пока едем, просохнет.
Быков пренебрежительно шевельнул ладонью. Потом осведомился:
— Вы-то как там у себя?
— Мы-то там у себя отлично, — ответил Гриша. — Только знаешь, я, пожалуй, прямо сегодня к вам зайду почайпить. А вернусь уж поутру. Не против?
Быков попытался улыбнуться онемевшими, будто после новокаиновой блокады, губами.
— Спасибо, — с трудом выговорил он. — Мама будет рада.
— А ты?
— И я. Только вот очухаюсь маленько, — Быков запнулся. — Гоби, Голконда, Марс, Амальтея, Уран… Понимаешь? И вот — ушел. Что этот мир с людьми делает… — посопел несколько секунд. — Теперь если захочешь повидаться — прогибайся перед бездельниками, пар-разитами, выклянчивай визу.
Гриша только фыркнул. Нечасто отец позволял себе выражаться столь эмоционально. Похоже, подумал сын, его сегодня вконец достали.
Быков угрюмо помолчал.
— Л-ладно, — сказал он решительно и чуть встряхнул головой. — Поехали. У меня завтра дел — выше крыши.
— Конфет маме к чаю надо не забыть, — проговорил Гриша.
— Это ты прав.
Мягко фыркнул двигатель; автобус тронулся, и в приоткрытое боковое окно кабины потянуло холодным ветром, нашпигованным острыми брызгами раздробленных на стекле капель.
— Давай-ка, брат, поднимем стекла, — сказал Быков. — Дует.
Гриша послушно коснулся одной из кнопок; беззвучно выползшее из паза толстое стекло отсекло салон от непогоды.
— Все горят, а он танцует, говорит: закройте, дует! — пропел Гриша негромко и озорно. Быков даже не улыбнулся.
— Домой… — тихо сказал он и откинулся на спинку сиденья. — Домой.
Автобус вывернул на Московский проспект и сразу, рывком, набрал ход.
А хозяин квартиры тоже вернулся к себе. Уселся перед компьютером — и, задумавшись сам не понимая о чем, минуты, наверное, четыре смотрел на пусто мерцающее окошко «турбопаскаля» и не прикасался к клавиатуре.
20–23 октября 1998. Санкт-ПетербургКТО ЕСТЬ КТО в проекте «Время учеников»
Павел АМНУЭЛЬ. Родился и жил в Баку (Азербайджан), в начале 90-х годов переехал в Израиль. Писатель и журналист. По образованию физик. В литературе дебютировал в начале 60-х годов. Автор книг «Сегодня, завтра и всегда», «День первый», «Люди кода» и других, а также многочисленных публикаций в сборниках и периодике. Вместе с писателем и инженером Генрихом Альтовым принимал участие в разработке методик ТРИЗа («теория решения изобретательских задач») и РТВ («развитие творческого воображения»). В Проекте «Время учеников» принял участие повестью «Лишь разумные свободны» (2-й том).
Яна АШМАРИНА. Художник, переводчик, редактор. Родилась в Баку. В Екатеринбурге окончила художественную школу. Живет и работает в Санкт-Петербурге. С 1987 года публикует свои иллюстрации к книгам фантастики. Иллюстрировала произведения братьев Стругацких, А. Лазарчука, А. Столярова, У. Ле Гуин, Р. Желязны, Дж. Толкина и многих других авторов. В Проекте иллюстрировала произведения А. Етоева (2-й и 3-й тома), А. Лазарчука (1-й и 3-й тома), В. Рыбакова (3-й том), М. Успенского (1-й том), Н. Ютанова (2-й том).
Владимир ВАСИЛЬЕВ. Живет и работает в Ташкенте (Узбекистан). Журналист, публицист, писатель. Статьи и философские эссе, посвященные фантастике, в том числе творчеству братьев Стругацких («Диалог с зеркалом о граде вожделенном»), начали появляться в журнале «Звезда Востока» с конца 80-х годов. Первые фантастические произведения опубликованы в начале 90-х. Автор романа «Наука как наука». В Проекте «Время учеников» принял участие повестью «Богу — Богово…» (2-й том).
Владимир «Воха» ВАСИЛЬЕВ. Живет и работает в городе Николаеве (Украина). Писатель, активист фэндома, автор и исполнитель песен. В фантастике дебютировал в конце 80-х годов. Участник семинара писателей-фантастов в Дубултах. Автор книг «Клинки», «Абордаж в киберспейсе», «Враг неведом», «Охота на дикие грузовики», «Смерть или слава», «Волчья натура» и других. В Проекте «Время учеников» принял участие рассказом «Перестарки» (3-й том).
Кирилл ГАРИН. Художник. Живет и работает в Санкт-Петербурге. Иллюстрировал произведения Г. Диксона, Г. Кука, Г. Тертлдава, П. Энтони и других авторов. В Проекте иллюстрировал эссе Э. Геворкяна (2-й том).
Эдуард ГЕВОРКЯН. Родился в городе Харанор Борзенского района Читинской области, ныне проживает в Москве. Писатель и журналист. Участник семинаров писателей-фантастов в Малеевке и Дубултах. В литературе дебютировал в 1973 году. В настоящее время — член редакционной коллегии журнала фантастики «Если». Автор книг «Правила игры без правил», «Времена негодяев», «Темная гора». В Проекте «Время учеников» представлен эссе «Вежливый отказ, или Как и почему я не написал „Страну Багровых туч 2“» (2-й том).
Станислав ГИМАДЕЕВ. Живет и работает в Перми. По образованию инженер-электронщик. Писатель, участник семинара писателей-фантастов в Дубултах. В литературе дебютировал в начале 90-х. Повести и рассказы публиковались в коллективных сборниках. В Проекте «Время учеников» принял участие повестью «Долгая дорога к логу» (3-й том).
Анатолий ДУБОВИК. Художник. Живет и работает в Москве. Автор обложек к произведениям В. Рыбакова, А. Лазарчука и М. Успенского, и многих других писателей. В Проекте принимал участие как автор обложек к трем томам антологии.
Александр ЕТОЕВ. Живет и работает в Санкт-Петербурге. Писатель, редактор, публицист и переводчик. По образованию инженер. В литературе дебютировал в начале 90-х. Участник семинара писателей-фантастов в Дубултах, действительный член Семинара Бориса Стругацкого. Автор книг «Эксперт по вдохам и выдохам», «Бегство в Египет», а также публикаций в сборниках и периодике. В Проекте «Время учеников» принял участие рассказом «Изгнание из рая» (2-й том) и повестью «Как дружба с недружбою воевали» (3-й том).
Андрей ИЗМАЙЛОВ. Родился и жил в Баку (Азербайджан), позже переехал в Ленинград (ныне Санкт-Петербург). Писатель и журналист. В литературе дебютировал в 1977 году. Участник семинара писателей-фантастов в Малеевке, действительный член Семинара Бориса Стругацкого. Большую известность приобрел в начале 90-х годов как автор интеллектуальных триллеров. Автор книг «Русский транзит», «Белый Ферзь», «Время платить», «Покровитель», «Шапочный разбор» и других. В Проекте «Время учеников» принял участие повестью «Слегач» (2-й том) и литературной редакцией рассказа Александра Хакимова «Посетитель музея» (3-й том).
Вадим КАЗАКОВ. Живет и работает в Саратове. По образованию медик. Активист фэндома, критик и публицист. Один из координаторов группы «Людены», исследующей творчество братьев Стругацких. Как литературный критик дебютировал в начале 90-х годов. В Проекте «Время учеников» принял участие эссе «Полет над гнездом лягушки» (1-й том; впервые опубликовано в журнале «Двести»); эссе было удостоено премии «Интерпресскон-95».
Андрей КАРАПЕТЯН. Художник, писатель. По специальности инженер-конструктор. Живет и работает в Колпино (Ленинградская обл.). Иллюстрировал произведения братьев Стругацких, А. Столярова, В. Рыбакова и других авторов. В Проекте иллюстрировал произведения С. Лукьяненко (1-й том), В. Рыбакова (1-й том).
Даниэль КЛУГЕР. Родился и жил в Симферополе (Украина), в 1994 году переехал в Израиль. Писатель и журналист. Участник семинара писателей-фантастов в Дубултах. Помимо фантастики, работает также в жанре детективных и исторических произведений. В литературе дебютировал в 1979 году. Автор книг «Жестокое солнце», «Молчаливый гость», «Западня для сыщика» и других. В Проекте «Время учеников» принял участие повестью «Новые времена» (2-й том).
Леонид КУДРЯВЦЕВ. Родился и жил в Красноярске, в конце 90-х переехал в город Ижевск (столица Удмуртии). Писатель. Участник семинара писателей-фантастов в Дубултах. Автор фантастических и детективных произведений. Дебютный рассказ вышел в 1984 году. Автор книг «Черная стена», «Тень мага», «Дорога мага», «Охота на Квака» и других. В Проекте «Время учеников» принял участие рассказом «И охотник…» (1-й том).
Петр КУДРЯШОВ. Художник. Живет и работает в Санкт-Петербурге. Иллюстрировал произведения А. Етоева, А. Лазарчука и других авторов. В Проекте иллюстрировал произведения Л. Кудрявцева (1-й том), Н. Романецкого (1-й том), В. Казакова (1-й том), В. «Вохи» Васильева (3-й том), А. Щеголева (3-й том), Н. Филатова (3-й том).
Игорь КУПРИН. Художник. Живет и работает в Санкт-Петербурге. Иллюстрировал произведения С. Лукьяненко, А. Щеголева, У. Гибсона, М. Суэнвика, П. Энтони и других авторов. В Проекте иллюстрировал произведения А. Скаландиса (1-й том), В. Щепетнева (2-й том), П. Амнуэля (2-й том), Н. Романецкого (3-й том), Е. Первушиной (3-й том), А. Хакимова (3-й том), С. Гимадеева (3-й том).
Андрей ЛАЗАРЧУК. Живет в Красноярске. По образованию врач. Писатель, публицист, переводчик. Первая публикация в 1978 году подборка стихотворных пародий. В фантастике дебютировал в 1983 году. Участник семинаров писателей-фантастов в Малеевке и Дубултах. Автор книг «Опоздавшие к лету», «Солдаты Вавилона», «Транквилиум», «Все способные держать оружие», «Штурмфогель», «Посмотри в глаза чудовищ», «Гиперборейская чума» (последние две — в соавторстве с Михаилом Успенским) и других. В Проекте «Время учеников» принял участие повестью «Все хорошо» (1-й том) и рассказом «Сентиментальное путешествие на двухместной машине времени» (3-й том).
Сергей ЛУКЬЯНЕНКО. Родился в городе Каратау, жил в городе Алма-Ата (Казахстан), во второй половине 90-х годов переехал в Москву. По образованию врач-психиатр. Писатель и журналист. Участник семинара писателей-фантастов в Дубултах. В фантастике дебютировал в 1987 году. Автор книг «Рыцари сорока островов», «Лорд с планеты Земля», «Осенние визиты», «Линия грез», «Императоры иллюзий», «Лабиринт отражений», «Фальшивые зеркала», «Холодные берега», «Ночной дозор», «Геном», «Остров Русь» (в соавторстве с Юлием Буркиным), «Не время для драконов» (в соавторстве с Ником Перумовым) и других. В Проекте «Время учеников» принял участие повестью «Временная суета» (1-й том) и рассказом «Ласковые сны полуночи» (2-й том).
Анатолии НЕЧАЕВ. Художник-дизайнер. Живет и работает в Санкт-Петербурге. Участвовал в многочисленных книжных проектах издательств «Terra Fantastica» и «ACT». Разрабатывал дизайн журнала «Субъектив» и альманаха «Золотой Остап». Художественный редактор проекта «Время учеников».
Владимир НОЗДРИН. Художник. Живет и работает в Санкт-Петербурге. Иллюстрировал произведения А. Лазарчука и М. Успенского, и других авторов. В Проекте иллюстрировал произведения Д. Клугера (2-й том), В. Васильева (2-й том), А. Измайлова (2-й том).
Елена ПЕРВУШИНА. Родилась и живет в Санкт-Петербурге. По профессии медик. Автор статей, рецензий и романов (последние пока не опубликованы). Фантастикой занимается с 1989 года. Первый опубликованный рассказ появился в 1999 году. Участник Семинара Бориса Стругацкого. В Проекте «Время учеников» приняла участие рассказом «Черная месса Арканара» (3-й том).
Николай РОМАНЕЦКИЙ. Родился в Новгородской области, ныне проживает в Санкт-Петербурге. Писатель, редактор и переводчик. В литературе дебютировал в 1987 году. Участник семинара писателей-фантастов в Дубултах, действительный член Семинара Бориса Стругацкого. Автор романов «Убьем в себе Додолу», «Мир в латах» и многочисленных публикаций в сборниках и периодике. В Проекте «Время учеников» принял участие повестью «Отягощенные счастьем» (1-й том), рассказом «Бегство из Одержания» (3-й том) и палиндромом «Суета в безвременье» (3-й том).
Лев РУБИНШТЕЙН. Один из старейших петербургских художников. Иллюстрировал произведения братьев Стругацких, Г. Мартынова, А. Балабухи, А. Щербакова, П. Андерсона и других авторов. В Проекте иллюстрировал рассказ С. Лукьяненко (2-й том).
Вячеслав РЫБАКОВ. Родился и живет в Санкт-Петербурге. Писатель, публицист и переводчик. Научный сотрудник Ленинградского отделения Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук, специалист по Древнему Китаю. Участник семинаров писателей-фантастов в Малеевке и Дубултах, действительный член Семинара Бориса Стругацкого. Дебютный рассказ опубликовал в 1979 году. Автор книг «Очаг на башне», «Свое оружие», «Гравилет „Цесаревич“», «Человек напротив» и других. Соавтор сценария кинофильма «Письма мертвого человека». В Проекте «Время учеников» принял участие повестью «Трудно стать Богом» (1-й том) и рассказом «Возвращения» (3-й том).
Ант СКАЛАНДИС. Литературный псевдоним московского писателя, редактора и журналиста Антона Молчанова. Антон Молчанов — участник движения «Апрель» и один из авторов первого выпуска одноименного альманаха. В литературе дебютировал в 1986 году. Участник семинаров писателей-фантастов в Дубултах, на последнем — в 1990 году — был старостой. Автор книг «Катализ», «Заговор посвященных», «Меч Тристана», «Спроси у Ясеня» и других, в том числе нескольких книг в соавторстве с американским фантастом Гарри Гаррисоном из цикла «Мир смерти». В Проекте «Время учеников» принял участие повестью «Вторая попытка» (1-й том).
Михаил УСПЕНСКИЙ. Родился в Барнауле, окончил Иркутский университет, ныне живет в Красноярске. Журналист, писатель, переводчик, автор монологов, с которыми выступали самые известные «артисты разговорного жанра», включая Геннадия Хазанова. В фантастике дебютировал в 1981 году. Автор книг «Там, где нас нет», «Время Оно», «Кого за смертью посылать», «Устав соколиной охоты», «Посмотри в глаза чудовищ», «Гиперборейская чума» (последние две в соавторстве с Андреем Лазарчуком) и других. В Проекте «Время учеников» принял участие повестью «Змеиное молоко» (1-й том); повесть была удостоена премии «Интерпресскон-97».
Никита ФИЛАТОВ. Живет в Санкт-Петербурге. Выпускник ЛВИМУ, участник арктических экспедиций. Работал в милиции. В литературе дебютировал в начале 90-х годов. Автор книг «Блаженны миротворцы», «Зона поражения», «Капитан Виноградов», «Имя им — легион» и других. В Проекте «Время учеников» принял участие рассказом «Позолоченный шар» (3-й том).
Леонид ФИЛИППОВ. Родился в Санкт-Петербурге, живет в Ленинградской области. Школьный учитель, редактор и публицист. В Проекте «Время учеников» принял участие повестью «День ангела» (2-й том), которая стала его литературным дебютом.
Александр ХАКИМОВ. Живет в Баку (Азербайджан). По образованию биолог, младший научный сотрудник института ботаники. В Проекте «Время учеников» принял участие рассказом «Посетитель музея» (3-й том), который стал его литературным дебютом.
Андрей ЧЕРТКОВ. Родился в Севастополе, с 1990 года живет в Санкт-Петербурге. По образованию историк, работал в школе. Журналист, редактор, критик и переводчик. Участник семинара писателей-фантастов в Дубултах, участник Семинара Бориса Стругацкого. В начале 90-х принимал участие в создании издательства «Terra Fantastica», где впоследствии занимал должности ведущего и главного редактора. Ныне — ведущий редактор Интернет-магазина «оЗон». Один из инициаторов создания серии «Миры братьев Стругацких», редактор-составитель всех трех мемориальных антологий «Время учеников», для которых написал предисловия и послесловия: «Неназначенные встречи» (1-й том), «Проверка на разумность» (2-й том), «Анизотропное шоссе» (3-й том).
Александр ЩЕГОЛЕВ. Родился в Москве, живет и работает в Санкт-Петербурге. Писатель. Автор детективных и фантастических произведений. Участник семинара писателей-фантастов в Дубултах, действительный член Семинара Бориса Стругацкого. Автор книг «Мания ничтожности», «Инъекция страха», «Любовь Зверя», «Свободный охотник», «Клетка для буйных», «Сеть» (последние две — в соавторстве с Александром Тюриным) и других. В Проекте «Время учеников» принял участие повестью «Пик Жилина» (3-й том).
Василий ЩЕПЕТНЕВ. Живет и работает в Воронеже. По образованию медик. Писатель и журналист. В литературе дебютировал в 1991 году. Фантастические повести, рассказы и романы публиковались в журналах и сборниках. В Проекте «Время учеников» принял участие рассказом «Позолоченная рыбка» (2-й том); рассказ был удостоен премии «Бронзовая улитка-98».
Николая ЮТАНОВ. Родился и живет в Санкт-Петербурге. Окончил Ленинградский государственный университет по специальности «астрономия», десять лет работал в Пулковской обсерватории. Писатель и издатель. Участник семинаров писателей-фантастов в Дубултах, действительный член Семинара Бориса Стругацкого. В литературе дебютировал в 1989 году. Автор книг «Оборотень» и «Путь обмана». Инициатор и составитель серии «Новая фантастика» (литературно-издательское агентство «Астрал», г. Рига). Основатель и генеральный директор Издательского дома «Corvus», известного своей торговой маркой «Terra Fantastica». Инициатор и составитель серии «Миры братьев Стругацких». А также один из организаторов и составителей нескольких межиздательских серий: «Далекая Радуга», «Звездный лабиринт», «Заклятые миры», «Вертикаль» и другие. В Проекте «Время учеников» принял участие повестью «Орден Святого Понедельника» (2-й том).
Материал подготовили Василий Владимирский и Александр ЕтоевПримечания
1
Девочка (исп.)
(обратно)2
Стихи Владимира Гончара.
(обратно)3
Стихи Владимира Гончара.
(обратно)4
Малыш (исп.)
(обратно)

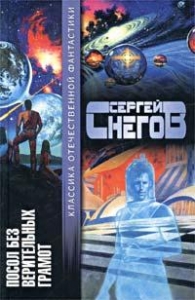

Комментарии к книге «Время учеников. Выпуск 3», Александр Етоев
Всего 0 комментариев