Лев Аскеров С миссией в ад
Глава первая КРАЖА
1
Это было чудом. И стоило оно жизни. Хотя обошлось в пустяк. В опаленную до мяса ладонь да прожженный камзол, надетый им сегодня в первый раз… А заметь кто, как он тащит из костра бумаги да запихивает их под одежды, кондотьеры Ватикана не дали бы ему и охнуть. В лучшем случае, придушили бы до бесчувствия и тотчас же, вместо полена, закинули бы к уже охваченному огнем Ноланцу. В худшем же — как нотария Святой инквизиции, оказавшегося пособником поганого еретика, уволокли бы в подземелье. В свинцовую камеру. Для дознания. А потом на глазах жадного до зрелищ пополо, сожгли бы…
Нет, нотарий Доменико Тополино на такое не рассчитывал. Он согласен был на то, чтобы огонь поджарил ему и другую ладонь или дотла бы сжег моднейшую обнову, лишь бы никто не увидел, что он делает. Согласен был Доменико пожертвовать еще чем-нибудь из одежды и частей тела. Но мысли отказаться от своей рискованной затеи — не допускал.
Это было выше его сил. Ему до смерти хотелось заглянуть в те бумаги, что с особым тщанием ото всех скрывали вершащие суд над Ноланцем — кардинал Роберто Беллармино и епископ-прокуратор Себастьяно Вазари.
Эту стопку уже потрепанных листов, обвязанных розовой лентой, кардинал не выпускал из рук. И не спускал с нее глаз. Даже после допросов Ноланца всегда забирал с собой. Хотя все, что касалось так называемых доказательств, как положено и как обычно, оставлялось на судейском столе. И принадлежащие обвиняемому рукописи, и книги, адресованные Ноланцу, и писанные им самим письма, и всех размеров трубы с линзами, через которые он наблюдал за ночными светилами, и замысловатые чертежи, и небесные карты, исполненные рукой Ноланца, и многое другое, вплоть до тряпки, которой он протирал приборы и стекла в своей обсерватории.
Оставлялось все, а вот эта кокетливо опоясанных розовой лентой объемистая кипа бумаг, исписанная почерком Ноланца, уплывала из комнаты. Именно уплывала.
Покидавшие залу судьи уходили, по-утиному ковыляя за Его высокопреосвященством кардиналом Беллармино. Сейчас он, вожак птичьей стаи, нырнет в струящиеся на дверях голубые портьеры и за ним один за другим бултыхнутся в них и исчезнут остальные.
В руках косолапящего селезнем Его высокопреосвященства мелькает та таинственная пачка бумаг. Свисающие от нее два конца розовой ленты развеваются в такт походки кардинала и напоминают Доменико юбку уличной красотки, что зазывно раскачивает бедрами..
— Тополино! Что застыл?! Принимайся за работу! — пискляво и нервно крикнул ему, усевшийся в кресло председателя, канцелярщик Паскуале.
Голос его, как у всех горбунов, был тонок и вреден. А с кардинальского места становился еще более визгливым и злючим. Наверное, потому, что удобно устроиться в столь солидном кресле ему мешал горб. Пока Паскуале усаживался в нем, он долго ерзал, изо всех сил сучил ногами и, конечно, злобился. А скорее всего, канцелярщику казалось, что в издаваемых им мерзейших выкриках был тон непререкаемой властности, которая заставляет людей вести себя по-собачьи. Юлить и выполнять любую прихоть.
Что-что, а горбун покомандовать любил. И, пожалуй, лучшими минутами его жизни были те, когда кончалось судебное заседание и вся полнота власти переходила к нему. В это время на канцелярщика работало с десяток монахов и стражников, следящих за тем, чтобы никто из посторонних не вошел сюда и, боже упаси, не выкрал что-либо, уличающее обвиняемого.
Нотарии должны были составить опись всего, что здесь оставалось, привести в порядок допросные листы, которые они вели во время слушания дела, набело, с каллиграфическим тщанием, переписать текст приговора, если это было заключительным заседанием, и сдать канцелярщику. А Паскуале, с приданной ему командой, переносил все в специальное хранилище, которое запирал на несколько хитроумных замков и ставил перед дверью охрану. Связку ключей, позвякивающих на массивной цепи, он накидывал на шею и прятал за пазуху. Этого Паскуале казалось мало. И он взял за правило подглядывать за тем, как поставленные им у дверей хранилища кондотьеры несут службу. Появлялся он неожиданно и обычно под самое утро, когда сон мог свалить с ног и слона. Многие из наемников поставленные часовыми, поплатились за то, что позволили себе сесть или, прислонившись к стене, прикрыть глаза.
Кондотьеры и монахи боялись горбуна аки дьявола: Паскуале помыкал ими по-черному. Иногда, увлекшись, повышал голос и на нотариев. Но, спохватившись, мгновенно менял свой невольно вырвавшийся окрик на скулеж, который следовало понимать как извинение.
Нотарии канцелярщику не подчинялись. Бывало, зарвавшийся горбун получал от них такой букет оскорблений отчего Паскуале становилось дурно и он заболевал. Ведь нотарии всегда сидят возле сильных мира сего и запросто, чуть ли не на равных, переговариваются с ними. Их вызывают даже к папе. И папа к ним относится весьма благосклонно. Одно их каверзное словечко, и его вышвырнут со службы Святой Инквизиции, как шелудивого пса. И все. Кончатся для него заискивающие взгляды знакомых и мало знакомых людей. Сейчас они ловят его внимание, чтобы подбежать поздороваться, припасть к руке, чем-нибудь угодить, одарить. А потеряй он место…
От одной этой мысли его прямо-таки выташнивало. Те же самые люди принародно станут бранить его. Смеяться над его уродством. Бросаться тухлыми яйцами. Выливать из окон ему на голову помои… Такого Паскуале боялся хуже смерти. Через это он уже проходил… Как он ненавидел этих, унижавших его тварей, считавших себя людьми! Поэтому с нотариями и с теми, от кого зависело его пребывание в Суде Святой инквизиции, горбун держался с подобострастием. Но натура есть натура.
Стоило лишь кому-либо из тех, перед кем он лебезил и унижался, попасть в немилость, Паскуале преображался. Причем открыто. И всегда в его тайниках злопамятства находился тот или иной убийственно ехидный фактик, о котором, истошествуя и брызжа слюной в лицо опального, он громогласно сообщал судейским магистрам. Те, конечно, с благосклонностью принимали выпад горбуна. И паскудство его называли прямодушием честного христианина.
Так канцелярщик и ходил в кургузой тоге «боголюбивого чада». Однако, это его мало радовало. Звериное чутье подсказывало, что всесильные магистры Святой инквизиции относятся к нему с хорошо скрываемой неприязнью. И причиной тому была не наружность его, а та самая пресловутая искренность, что губила отнюдь не плохих людей. Не раз Паскуале ежился под их полными омерзения к нему взглядами. И еще канцелярщик хорошо знал, что слава о нем, как о правдивом и нелицемерном христианине — штука не надежная. В любой момент безжалостный дознаватель Джузеппе Кордини сорвет с него хваленое облачение правдолюбца и всласть поизмывается над его кривой плотью.
2
Джузеппе — на редкость тупая скотина с тяжеленными руками, вырубленными Создателем из каменных могильных плит. И шутки у него были палаческими. Бывало, дожидаясь, когда очередная из жертв его придет в чувство, он плотоядно, глядя на канцелярщика, просил:
— Синьоры, судьи! Отдайте мне Паскуале. Я хороший лекарь… Живо разотру его горбушку.
Говорил и жутко хохотал, вздымая к низким сводам потолка мощные и страшные кулачища. И стоило кому-нибудь из них снисходительно кивнуть, Джузеппе сделал бы свое дело. И сделал бы под равнодушные и отсутствующие улыбки этих сумрачных и таких же по могильному каменных преосвященств.
И Паскале смотрел на них, как на богов. Лез из кожи вон, чтобы выполнить любое, самое дикое, приказание, отданное ими. Их благосклонность стоила того. А сегодня, только сейчас, сам кардинал Роберто Беллармино, ни словом, ни жестом не опускавшийся до низших чинов, покидая зал, неожиданно сказал:
— Нотария вместе с Паскуале я жду у себя… Через час.
Это же надо! Роберто Беллармино, друг и фаворит папы, назвал его, ничтожного канцелярщика, по имени и пригласил к себе. Разве можно было такого человека заставлять ждать?
— Тополино! — снова властно взвизгнул канцелярщик.
И глаза нотария, окаменевшие на «утях», исчезающих в ниспадающей голубизне портьер, наконец-таки осветились вернувшимся сознанием.
Зал был пуст. Поглощенный проводами не столько состава судей, сколько тех таинственных бумаг, что Его высокопреосвященство кардинал Беллармино держал в руке, Доменико не слышал и не видел, как кондотьеры увели приговоренного. Тот, очевидно, не сопротивлялся и, в отличие от других, услышавших страшный вердикт, истерично не вопил, мол, не еретик я и никогда в никаких связях с дьяволом не состоял…
И вообще, Ноланец вел себя не так, как другие. Был спокоен и даже как будто отстранен от всего рокового действа, имеющего к нему самое прямое отношение. Страшных следов пыток, как Доменико не вглядывался, он на нем не обнаруживал. Это было странным. Ведь Джузеппе работал с ним «как надо».
«Каналья, — думал нотарий, — большой мастер ломать кости». Но Ноланец свободно двигал руками и ногами. Единственное, что бросалось в глаза, так это печать мертвеца, оставленная на нем свинцовой камерой, куда Ноланца втолкнули еще пять лет назад. Она, та печать смерти, вдавила к спине грудь, а лицо и тело окрасило в зеленовато-желтый цвет. Иногда Ноланец закашливался и на губах его вспенивалась кровь.
Теперь ему в той свинцовой камере, оставалось провести кусочек этого дня и последнюю ночь своей жизни…
И все-таки он выглядел лучше чем в тот первый день, когда его привезли из Венеции. Стражи папского легата по пути в Рим едва не убили его.
…Они брали Ноланца поздней ночью. Тот пребывал в безмятежном сне в одной из спален своего закадычного друга по монашескому ордену. Брали с шумом невероятным. Взломали массивные двери, за которыми он находился, и которые, кстати, были не заперты. Прикладами мушкетов вдребезги расколотили роскошное напольное зеркало из венецианского стекла. Опрокинули и сапожищами растоптали инкрустированное золотом и перламутром бюро. Тяжеленные бронзовые канделябры вылетели в окна и вместе с осколками стекол попадали на мостовую. Из соседних домов на улицу повыскакивали перепуганные люди.
— Рогоносцы — сверкая глазами из выбитого окна орал на них сверху дебелый капрал. — Убирайтесь отсюда! Нечего пялиться! Мы взяли еретика!
Ноланцу, когда его вытряхивали из постели, а затем в карете, по дороге в Ватикан, били смертным боем, все время казалось, что он продолжает спать и ему видится жуткий сон. И все, как во сне. То ли все это происходило с ним, то ли с кем-то другим. А он смотрел со стороны. Наверное, все-таки, не с ним. Иначе бы он чувствовал бы боль. А он не то что больсамого себя не ощущал и не слышал… Тот человек, которого сейчас на его глазах тащили вниз по лестнице и, который затылком гулко пересчитывал каждую гранитную ступеньку, всего лишь-навсего похож на него.
«Случись такое со мной, — думал Ноланец, — раскололась бы моя макушка, как гнилая тыква».
Потом он видел, как кондотьеры, держа за руки и за ноги того, с виду похожего на него бедолагу, раскачали и закинули в косоротый зев черной кареты. И слышал он, как они топтали его. И тело того человека стонало и хрустело точь-в-точь как то инкрустированное золотом и перламутром бюро, что солдаты давили тяжелыми ступнями ног…
В общем, все, как бывает в кошмарных сновидениях.
«О, Часовщик, где ты? Пробуди!» — просил он, пытаясь закрыть глаза, чтобы не видеть корчащегося и окровавленного лица своего и вздрагивающего от конвульсий тела.
И видения исчезли. И Ноланец, испытывая неземное блаженство, покачиваясь поплыл в нежнейшем эфире небес. И полный любви ласковый голос пел ему колыбельную песню…
И вдруг опять все стихло. Как оборвалось. И стало жутко. Как и прежде. И камнем полетел он вниз. И от удара оземь он открыл глаза. И в замутненном от слез свете солнца он снова увидел солдат и черную карету с настежь распахнутыми косоротыми дверьми, ведущими в мрачную пустую глубину. И еще он увидел над собой папу. Его дородная фигура, облаченная сутаной чадного дыма, заслонила Ноланца от солнца. И он, вздохнув, сказал:
— Не к добру ты снишься мне, Ваше Святейшество Климент восьмой…
Сказал и снова взмыл вверх, в божественную негу небес. И опять увидел он свое бездыханное тело. И папу увидел. И свиту его. И солдат, истязавших того, похожего на него, бедолагу. И видел черную карету. И равнодушные морды пегих лошадей…
И его, Ноланца, как и лошадей, все это нисколько не трогало. Нисколько не интересовало. Ему наплевать было на то, что говорил папа. А он что-то говорил. Верней выкрикивал. И кажется, о бесах, что вселились в солдат… Резкий голос его ухал в голове Ноланца утробным гулом великого Везувия. И был папа звонарем, изнутри молотившим его очугуневшую голову невнятными тяжелыми словами…
«Интересно, — думал Ноланец, — а колокол слышит, что выбивает из него звонарь? Или ему также больно?…»
3
Папа был разгневан. Мертвый Ноланец церкви был ни к чему.
И кондотьеры, сопровождавшие еретика, поплатились за непомерное усердие. Их сначала бросили в темницу, а немного погодя освободили с предписанием Его святейшества: «без права нанимать на военную службу во всем христианском мире».
Но вряд ли кто позарился бы теперь на столь жалкий товар. То, что от них осталось, ничего, кроме сострадания, не вызывало.
За ворота тюрьмы на выпавший снег вышло четверо изможденных калек. Двое, со здоровыми конечностями и с явной внутренней немочью, тащили на себе стонущего капрала. Сил удерживать в руках своего товарища у них не было. И перехватывая его, они то и дело цеплялись за раздробленные лодыжки капрала. Это доставляло ему страшную боль. Осипшим от долгих криков голосом капрал умолял их остановиться. Они рады были бы перевести дух, да в спины толкал выпровождавший их отсюда костолом — Джузеппе. И не было надежды на четвертого своего товарища. Опираясь на «Т»-образную палку, он скакал впереди них. Свободная, правая, — безжизненно болталась вдоль туловища и при каждом подскоке моталась в разные стороны…
Джузеппе, угрожающе и зычно понукая, подгонял их, дожидаясь, когда они перейдут на другую сторону улицы и скроются за первым же домом.
Это он выбивал из кондотьеров вселившихся бесов. И работой своей был доволен. Сам говорил об этом. Не во всеуслышание, конечно, и не всем. Для этого дознаватель слишком уж был скуп на слово. Ни с кем практически не общался. Во всяком случае, Тополино не приходилось видеть, чтобы он с кем-либо задерживался поговорить. Тем более надолго. И с ним так просто никто не заговаривал. Скорей всего, из-за вечно сердитой мины на лице. А тут… Тополино отказывался верить своим ушам.
Нотарий запомнил этот случайно подслушанный им разговор на всю жизнь. Очень уж он был необычным. И совсем не тем, что свирепый костолом побежал к Ноланцу рассказать о разжалованных и отпущенных на все четыре стороны кондотьерах. Хотя Джузеппе и еретик-Ноланец… Поразительно!
Из тюремной лекарской, где лежал выздоравливающий Ноланец, доносился густой и на редкость сердечный говорок дознавателя. Тополино невольно бросил взгляд к потолку. Там, почти у самого стыка, находилось потайное слуховое оконце. И сидя здесь, в служебной конторке, примыкающей к комнатушке лекаря, можно было слышать все, что творится в камере больного узника. Джузеппе знал об этом окошке. Как, впрочем, и весь персонал тюрьмы. Таких хитрых комнатушек по всей тюрьме было с десяток. Между собой тюремщики и заключенные называли их «сучьими», а монахов, дежуривших в них, «сукиными детьми».
Джузеппе был уверен, что в ней никого нет. Он проверял. Перед тем как подняться к Ноланцу, дознаватель видел замок на двери «сучьей». На всякий случай он подергал его, заглянул в щель. Убедившись, что «сучья» пуста, он уверенно направился к Ноланцу.
Но откуда было ему знать, что в это время у нотария Доменико Тополино, работавшего в судейских апартаментах, кончатся чернила. А бутыль с запасом чернил для нужд писарей как раз хранилась в «сучьей». И Тополино не долго думая бросился к одному из «сукиных детей».
— Дайте, пожалуйста, ключ от вашей комнаты, что в лекарской. Чернила кончились, — попросил он дремавшего монаха.
— Хитрец, — сказал добродушно «сукин сын» и стал лениво перебирать увесистую связку, едва помещавшуюся у него на ладони.
К счастью, он ему был не нужен. Монаху предстояло дежурить в другой «сучьей». И отвязав из связки, он охотно отдал ключ вежливому нотарию. И Доменико, собрав бумаги, пошел в лекарскую. Там можно было набрать чернил и спокойно поработать. Почти все нотарии любили там работать. Вот почему монах проворчал: «Хитрец…»
Здесь никто не мешал. Никто не хлопал дверьми. Ниоткуда не сквозило. И не надо было вскакивать, чтобы каждому вошедшему говорить «здравствуйте, синьор!», а уходившему — «до свидания, синьор!»
Собираясь в тюремную лекарскую, Доменико поймал себя на том, что он как будто когда-то уже все эти движения проделывал…
«Сейчас рассыпятся бумаги», — подумал он.
И действительно, выскользнув из рук, они разлетелись в разные стороны.
«Сейчас распахнется дверь, — думал нотарий, — он резко поднимет голову, и заправленное за ухо перо чудным образом залезет ему за шиворот».
Так оно и случилось…
Тополино с недоумением посмотрел вокруг и пожал плечами.
4
Разложив на столе бумаги, Тополино потянулся за бутылью. И тут кто-то невидимый, голосом Джузеппе, позвал:
— Джорди!.. Джорди!.. Проснись!.. Это я.
От неожиданности Доменико вздрогнул и отдернул руку от чернил, словно прикоснулся ею к раскаленной печи.
— Я не сплю, Джузи, — отозвался шепотом другой голос.
И голос тот принадлежал Ноланцу. Он-то и пригвоздил нотария к табурету. Разинув от удивления рот Доменико смотрел наверх. Оттуда доносился характерный говорок дознавателя. И звучал он не похоже на Джузеппе ласковым рокотом. Сердечно. Тепло.
Я их выпроводил, Джорди, — сообщил он.
— Кого?
— Твоих мучителей… Теперь им лучше не жить… Наказал я их. Хорошо наказал.
Джузеппе ожидал от Ноланца похвалы. А тот, словно что-то припоминая или вычитывая, произнес:
— Подумай, прежде чем наказывать или творить добро. И если задумался, не делай ни того, ни другого. Не твое то право. Но право Бога нашего. И если ты это сделаешь, обдумав — ты хуже слепца. Ибо слепец не ступит шага, если не уверен…
— В святом писании такого нет.
— Переврали наши священники библию.
— Не богохульствуй! — остерег Ноланца дознаватель.
— Брат мой, Джузи, худшее из богохульств — это вера в ложную истину. Правда от церкви — церковная правда. Но Богова ли она?!.. Ты не задумывался?
— Не говори так, Джорди, — взмолился Джузеппе.
Ноланец хмыкнул. Тополино слышал хмык и представил себе усмешку на лице узника. Однако не видел он, как Ноланец, обняв за громадные плечи дознавателя, с еще большей страстью продолжил:
— Божий мир велик. Его величия — не представить, не объять умом. И наша вселенная — не центр мироздания. И человек — не пуп миров…
— И Бог с ними, — и чтобы остановить распалившегося узника, громким шепотом произносит:
— Я принес тебе письмецо.
— Тетка Альфонсина? — предположил он.
— Нет. Мать, как узнала о тебе, — слегла.
— Неужели Антония?
— Да от герцогини Антонии Борджиа.
— Дай, — требует Ноланец и спрашивает:
— Она здесь?! В Риме?!
— Ее вызвали в Ватикан. Поговаривают, из-за тебя. Она приехала два дня назад в сопровождении папского легата в Венеции Роберто Беллармино.
— Робертино ее кузен, — рассеяно проронил Ноланец, разворачивая письмо.
— Да ну!.. Вот это да!.. — воскликнул дознаватель.
Тополино сразу понял, почему так удивился Джузеппе. По Риму шли упорные слухи о том, что легат Беллармино — друг папы и родич венецианского дожа — за поимку Ноланца отозван в Ватикан, чтобы произвести его в кардиналы. Судачили и о герцогине Антонии Борджиа. Будто бы она состояла в интимных связях с Ноланцем, покрывала его богопротивные дела и несколько лет тому назад помогла скрыться от папских кондотьеров, прибывших схватить его. Теперь, по словам всезнающих римлян ее доставили сюда обманом, чтобы в суде Святой инквизиции подвергнуть Антонию допросу с пристрастием.
Но ни Тополино, ни Джузеппе, как, впрочем, и многие другие, не знали, что Беллармино и Антония Борджиа — кузены. И не знали, что они в родстве с дожем Венеции. Один — племянник со стороны сестры, а другая — внучка двоюродного брата, почившего в бозе папы, Александра шестого, в миру Родриго Борджиа, вышедшая замуж за герцога Тосканы Козимо деи Медичи.
Поразмыслив, Тополино решил помалкивать об этом. Не может быть, чтобы папа не знал. И какое Доменико дело до того кто кому родня? Сильные мира сего слышат только то, что им хочется слышать. А за неугодное слуху своему могут покарать. И потом, он, Тополино, — не сукин сын и не доносчик.
От размышлений Доменико отвлек вырвавшийся из гортани Ноланца не то выкрик, не то стон.
— Канальи! Вот чего они хотят!
Тополино слышал, как он рвал бумагу. Потом услышал, как тот вскочил с постели и нервно засновал по комнатушке.
— Они, — после недолгой паузы зарычал Ноланец, — они хотят мои рукописи… Понимаешь, Джузи, рукописи… Они у Антонии.
— Пусть не отдает, — вырвалось у дознавателя.
— Не отдает… Не отдает… Хорошо говорить. Так они ставят условие. Если она предоставит их, ее не привлекут к допросам с пристрастием, а мне смягчат приговор…
— Так пусть отдает! — живо откликается Джузеппе.
Наступило долгое молчание. Нотарий напряг слух. Ни звука. Лишь нервные шаги Ноланца.
5
— Я не хочу, чтобы она страдала, — наконец проговорил он, а потом добавил:
— Это дело рук корыстного братца Антонии — пакостника Беллармино.
Сказал и надолго умолк. Слышно было, как под ерзающим Джузеппе кряхтит табурет. Терпение его было на исходе. И тут глухой голос Ноланца положил ему конец.
— Не сделай этого, они отдадут ее на пытки… Отдадут… Папа не страшен. Он скоро помрет… Но до того момента, как он провалится в преисподнею, пройдет время. Правда немного времени. Но достаточно, чтобы истерзать бедняжку… Пострашнее ее братец, — размышлял вслух Ноланец. — За кардинальскую мантию и золото он удавит маму родную… Надо обыграть время.
Ноланец умолк опять. Скрипнула кровать. «Сел», — догадался Доменико.
— Итак, Джузи, — приняв окончательное решение, говорит он, — передай Антонии — я согласен. Что касается меня — пусть никому не верит. Ее обманут. Моя участь предрешена… Впрочем, этого ей не говори.
— Хорошо…
— Хотя, — спохватился он, — Антония тебя прогонит, если ты не скажешь условленной между нами фразы. Запомни ее: «И сказал Часовщик словами Спасителя: „Я судья царства небесного, но не судья царству небесному.“».
— Да что там, запомню, — угрюмо пробурчал дознаватель и, тем не менее, повторил.
И повторил дважды. Уж очень не обычны были слова эти.
— Знай, брат, лишь услышав эту фразу, она поверит тебе. Иначе… Умрет, но…
— Джорди, а Часовщик, кто он?
— Долго объяснять… В общем, один наш с Антонией знакомый.
— Джорди, с чего ты взял, что тебе не сделают послабки? И не отпустят с миром? — спросил дознаватель.
— Когда в их руках окажутся мои дневники они захотят меня стереть с лица земли.
— Что в них?
— Сплошное святотатство, — усмехнулся он и твердо добавил:
— По их разумению.
— Ты богоотступник, брат… — с ужасом выдавил Джузеппе.
— Нет, конечно. Я верую и знаю — Он есть. Чем больше наблюдаешь жизнь и чем больше знаешь тем больше веруешь в могучую силу небес. Тем больше чувствуешь себя невежественным, беспомощным ничтожеством… Я не могу верить в их Бога. Они выдумали его.
— Джорди, ты был самым умным из нас. Помнишь, что говорила тебе моя матушка Альфонсина? «Либо ты станешь понтификом, либо…»
— Либо сойду с ума! — перебил дознавателя Ноланец. — У Альфонсины всегда жил царь в голове. Я, как видишь, не стал первосвященником. И слава Богу! Но я и не спятил… А тебе твоя матушка напророчила точно. Помнишь?…
Джузеппе, очевидно, замотал головой.
— Ну как же?! Тебе ребята пожаловались на Пьетро Манарди и ты чуть до смерти не забил его.
— Он обворовал семью Тони. Он у всех крал… Пьетро был старше нас. Выше всех на целую голову. Я помню, как свалил Пьетро с ног, а потом мне помогли связать его. Я устроил ему суд. Это я помню. А чтобы мать мне что-то предсказывала — не припоминаю.
— Вот те на! — искренне возмутился Ноланец. — Она назвала тебя «сиракузским бычком» и говорила: «Не суди, сынок, да не судим будешь». А ты все талдычил, что поступил по справедливости.
— Правильно! — подтвердил Джузеппе.
— Вот-вот!.. И тогда она махнула рукой, обернулась ко мне и сказала: «Помяните, люди, слова мои. Из этого сиракузского бычка вырастет Его величество король эшафота»…
— Врешь ты, Джорди… — вяло отнекивался дознаватель, а затем с воодушевлением проговорил:
— Зато ты был ленивым. Всегда отлынивал от работы.
— Я зачитывался книгами…
— Ха! Ха! — выкрикнул он. — За лень твою она тебя называла «азиатским мулом».
— А она тебя била моими портками! — ввернул Ноланец.
Там, наверху, два взрослых человека, один ученый муж и узник, а другой известный в христианском мире заплечных дел мастер и тюремщик первого, забыв обо всем на свете, вспоминали свое детство. Они впали в ребячество. Подтрунивали друг над другом. Беззлобно обзывались. Смеялись. Толкались…
«Люди, — думал нотарий, — будь они и преклонных лет — всегда люди».
Доменико удивлялся дознавателю. Сумрачный, холодный и тяжелый, как замшелый надгробный камень, Джузеппе звенел, что венецианское стекло — светло и распевно.
Ноланца Тополино не знал. Видел всего один раз. В той самой же комнатушке, где записывал его беседу с епископом Вазари. Тогда Ноланец, остановив взгляд на нотарии, сказал:
— Лицо твое мне знакомо.
Сказал и, устало смежив свои, черные от побоев, веки, кажется, что-то ворошил в своей больной памяти.
— А-а-а! — протянул он и, не открывая глаз, произнес:
— У Часовщика… Он показал тебя.
На какой-то миг Доменико померещилось, что Ноланец ему тоже знаком. Он видел его. Раньше. Но где? Когда?!.. Он хотел было сказать, мол, и ваша внешность мне знакома. Но, тряхнув головой, как бы освобождаясь от наваждения, Тополино, вместо готовой сорваться из уст его нелепицы, произнес совсем другое.
— Ваше преосвященство, Ноланец бредит.
Вазари согласно кивнул и со словами епископа — «До лучших времен» — они вышли.
6
Та бредовая реплика, оброненная узником, врезалась в память нотария. Наверное, из-за ее несуразности… Постепенно она стала забываться. И вот на тебе! Она вспыхнула в мозгу, как зарница в черном небе…
Ноланец теперь в добром здравии. И снова он о загадочном Часовщике чьи занятные слова должны были убедить герцогиню Борджиа. «Странно все это, — думал Доменико, — хотя с головой у меня все в порядке».
Однако, голос узника ему все же приходилось слышать. Точно слышал. И эти мягкие, коричневого бархата глаза, и высокий лоб с тремя, вырезанными на нем возрастом, глубокими волнистыми линиями, и теплую виноватую улыбку — нотарию некогда приходилось видеть. Прямо перед собой. То ли узник стоял склонившись над ним, то ли они сидели друг перед другом и беседовали… И похоже, то было во сне.
Именно беседовали. Правда, недолго. «Стоп!.. Стоп!.. — приказал он себе. — Когда?.. Где?..» Доменико, как не силился, вспомнить не мог. Это его так заняло, что самую сногсшибательную информацию, за какую любой «сукин сын» получил бы пригоршню золотых, он отбросил от себя, как ненужную.
Отбросить то отбросил, но запомнил. Ведь вряд ли кто в Ватикане знал о том, что Ноланец и Джузеппе Кордини — родня. Двоюродные братья. А из их разговора было видно, что они давно не виделись. По крайней мере, лет двадцать. Они спешили наговориться. И, как дети, радовались своему общению…
Как понял нотарий Джузеппе родился и жил сначала в Ноле, а когда ему стукнуло пятнадцать, он ушел на заработки и осел в Риме…
— Хорошо, Джорди, — сказал костолом, — «азиатский мул» — понятно. А вот почему «сиракузский бычок»?…
— Не знаю, — ответил Ноланец. — Но как бы там ни было, а предсказание тетки Альфонсины в отношении тебя сбылись…
— С тобой она тоже оказалась правой.
— Почему?
— Ты наверняка бы стал первосвященником… Вон какие книги написал! Да вот бес, видимо, попутал. Рехнулся… Против церкви и Бога пошел…
— Против церкви — да! — согласился узник. — Но не против Бога. Господь учит жизнью, а церковники — словом. А слово — от лукавого. Оно лишь отражение образа правды. Но не правда!.. Ибо кто кроме Него может судить?! Кто кроме Него может сказать ее?!.. Никто!.. Понтифика устраивают догмы невежд. Понтифику претит наука. Хотя наука — одна из дорог к Господу нашему…
— Папа — наместник Бога на земле, — перебивает еретика дознаватель.
— Брось, Джузи! — отмахнулся Ноланец. — Подумай, веришь ли ты в Божье рукоположение на это ничтожество?! Он присваивает себе это право.
— Замолчи, Джорди! — кричит Джузеппе, — Ты свихнулся от книжных наук…
Ноланец громко, по деревянному хохочет.
— А знаешь что сказал настоящий Наместник, которого мы называем Спасителем?.. Он сказал слова от Господа нашего, вдохнувшего в души людские жизнь. И были они такими…
Хотя нотарий сидел далеко от двух спорящих между собой братьев, он отчетливо представил себе, как Ноланец, прикрыв глаза и приложив дрожащие персты ко лбу, напрягая память, говорит:
«Я отпускаю каждому меру своего времени, даю ощущение самих себя и всего, что окружает вас. Но не даю понимание самих себя и всего созданного Мною. Ищите себя. И вы придете ко Мне».
— Ересь!.. Ересь!.. — взвился дознаватель.
Ноланец, однако, пропуская мимо ушей, напитанные ужасом возгласы брата, продолжал:
— Это сказал настоящий Наместник. И он есть. И рукоположен он Господом нашим… Со дня жития нашего.
— Страшна твоя ересь, брат! Ты богоотступник, потому что не веришь в святое писание, — в смятении лепечет Джузеппе.
— Что такое вера, Джузи?.. Она проста как вода. Как воздух. И покоится она на двух вещах. Первое — «Бог есть!» Второе — «Есть Божий суд!» А когда начинают объяснять каков наш Бог и чему Он нас учит… Тут уже религия. Она от лукавых святош… Да будет тебе известно, что идолы, сотворенные нами — папы, дожи, короли и смутьяны — мечтают, чтобы их паства и поданные думали одинаково. Так, как хочется им.
Ноланец перевел дух.
— Эти слова, кстати, принадлежат не мне, а Часовщику, Часовщику мира земного…
— Ты с ума сошел, Джорди… Опять Часовщик!.. Сатана, что ли?!..
— Нет сатаны, брат мой возлюбленный, — тихо, с терпеливостью мудрого учителя проговорил он и также негромко, вкладывая в каждое слово могучую силу внушения, продолжил:
— Над всем сущим — один Всевышний. Я это знаю потому, что все это видел. И потому, что прожил не одну жизнь… Это говорю я — Джордано Бруно из Нолы…
— Знаю… — начал было Джузеппе, но властный голос Ноланца осадил его.
— Не перебивай! Я разговариваю не с тобой. Я говорю Слушающему нас… Ты сейчас уйдешь, юноша. У тебя будут мои бумаги. Сохрани и донеси их…
— Джорди! Джорди!.. Что с тобой? Мы с тобой здесь одни, — бросившись к узнику, стал успокаивать его Джузеппе.
— Нет, не одни, — отбиваясь от крепких рук брата, выдохнул Ноланец.
«Неужели, — подумал нотарий, — там еще кто есть?» И в это время он услышал как кто-то с вороватой осторожностью открывал наружную дверь, которую он непредусмотрительно оставил не запертой. В приоткрытую щель просунулась острая рожица Паскуале.
— Закройте дверь, Паскуале! — потребовал он. — Вы мешаете мне.
А горбун, словно не слыша, шел уже по коридору, приближаясь к «сучьей комнате». Он шаркал кривыми ногами и вертел лисьим носом. Нет. Его сюда ни в коем случае допускать было нельзя. Тополино быстро собрав бумаги, вышел навстречу горбуну.
— Я писал секретные допросные листы прокуратора Вазари. Мне придется доложить ему, что вы помешали… Вам хотелось в них заглянуть? — прижимая к себе бумаги, он гордо продефилировал мимо канцелярщика.
Удар был что надо. Горбун вздрогнул и собачкой засеменил за нотарием.
— Доменико, ну что ты?… Я хотел просто проверить… Может кто посторонний…
— Ах, проверить?! — не дав договорить, перебил его Тополино. — Ты, стало быть, получил такое право?
Канцелярщик задохнулся от страха быть неправильно понятым. И уже на улице, не давая прохода нотарию, умолял ничего не рассказывать прокуратору Вазари. Уже входя в судейские апартаменты, Тополино наконец «сжалился» над калекой.
— Хорошо. Ничего не скажу. Только когда тебя просят выйти… Тем более нотарий… Изволь слушать, — не без назидательных ноток изрек Доменико.
Благодарный Паскуале по-собачьи лизнул нотарию руку и еще какое-то время, назойливо поскуливая, продолжал юлить у его ног.
Как он исчез — Доменико не заметил. Его, собственно, это не интересовало. Его занимало совсем другое. Кто, помимо него, мог там находиться? Кто-то третий? Откуда он мог взяться?.. Будь он там, дознаватель, который пришел раньше, заметил бы его. Да и, судя по всему, Ноланец тоже не видел его. Он не стал бы говорить о нем, как о «Слушающем». Хотя именно он, Бруно, назвал того неизвестного «юношей».
Сомнения истерзали нотария. Не давали сосредоточиться. Перо висело над бумагой так и не коснувшись ее. Нервно отодвинув ворох листов в сторону, Доменико вышел в холодный холл. Не помогло. Неотвязно, как назойливая муха, вертелось одно и то же: «Кто?»
Прислонившись к одной из колонн, Доменико попытался восстановить в памяти все детали происшедшего… Уличная дверь в лекарскую была заперта… Он вставил ключ… А отпирал ли?.. Нотарий зажмурился, чтобы вызвать в себе реальную картину того момента… И в это самое время кто-то, тяжело ступая, поравнялся с колонной, за которой стоял Тополино, и скрежеща зубами, явственно пробормотал: «Какой „сукин сын“?»
То был дознаватель Джузеппе. По-бычьи вперившись в двери судейского зала, костолом шел на них, выцеживая одно и то же: «Какой „сукин сын“?». Нотарий слышал эту грозную фразу так же ясно, как и свое оборвавшееся от страха сердце. И он понял: Джузеппе ищет здесь монахов, распоряжавшихся подслушивающими комнатами. Именно их. Потому что Доменико сейчас только с ужасом вспомнил, что в спешке забыл запереть дверь «сучьей»…А главное, понял другое. Кроме него, нотария Тополино, в лекарской никого не было. И речь шла о нем. И именно к нему обращался с просьбой знаменитый Джордано Бруно из Нолы.
Позже Тополино ловил на себе испытующие взгляды Джузеппе. Страшны были глаза его. И ничего хорошего не сулящее — его молчание…
Конечно же он отыскал дежурившего в тот день монаха…
7
Старательно, с каллиграфической искусностью, нотарий выписал последнюю строчку приговора:
«По возможности милосердно и без пролития крови».
«Вот и все, — сказал он себе. — Завтра пылать костру», — И с невероятным усилием, словно поднимая увязшую в грязи повозку, выпрямил спину. Потом снова, обмакнув перо, не меняя позы, с тем же тщанием вывел:
«Прокуратор Святой инквизиции, Его преосвященство епископ Себастьяно Вазари»
До приема кардиналом Беллармино времени оставалось немного, но достаточно для того, чтобы дать на подпись набело переписанный приговор.
— Паскуале, я к епископу. Скоро буду, — отодвигая стул, сказал он.
Вазари нотария не задержал. Бегло пробежав по написанному, он похвалил Доменико за аккуратность и расписался.
— Возьми! — не притрагиваясь к приговору, потребовал он. — Отдаш кардиналу Беллармино.
Тополино кивнул. Но не уходил Вазари собирался было что-то сказать ему, но, видимо, раздумал.
— Все! — наконец, проговорил он. — Ступай с Богом, сын мой.
Доменико поспешил в судейскую. Входить не стал. Раздвинув портьеру, он крикнул:
— Паскуале! Пора!
Кардинал принял их тотчас же. Он долго, не поднимая головы, молчал. Беллармино целиком был поглощен чтением. Его пальцы нервно теребили розовую ленту, которой были повязаны труды Ноланца. Дочитав, кардинал по сонному, медленно положил скомканную им ленту на лежавшие перед ним листы.
— Да-а-а, — многозначительно протянул он и лишь после этого поднял на переминавшихся у его стола людей отсутствующий взгляд.
Глаза его были не здесь. Их куда-то в глухую глубину унесли непрошенные мысли.
— Принес?! — как невпопад спросил кардинал.
Тополино сообразил: вопрос к нему.
— Да, Ваше высокопреосвященство! — доложил нотарий.
— Вазари подписал?
Нотарий кивнул и, сделав несколько шагов вперед, положил перед ним лист с текстом приговора. Посмотрев на росчерк, Беллармино загадочно ухмыльнулся и не без потаенного умысла произнес:
— По поручению Его Святейшества я его утверждаю…
Его высокопреосвященство потянулся за пером. Затем размашисто, сверху, наискосок, уверенно написал:
«Утверждаю! Его высокопреосвященство, кардинал Роберто Беллармино».
И в этот момент звонарь церкви Санта Мария-Сопра-Минерва шесть раз бухнул по колоколу.
— Шесть часов вечера, 16 февраля 1600 года от Рождества Христова, — сказал кардинал и то же самое дописал под своей подписью.
Отложив роковой вердикт в сторону, Беллармино стал собирать в стопку, разбросанные по столу страницы рукописи обреченного еретика.
— Помочь, Ваше Высокопреосвященство? — вызвался нотарий.
— Нет! — коротко бросил кардинал.
А ему, Доменико, так хотелось взять их в руки. И хотя бы мельком посмотреть в них. Нет, теперь он их никогда не увидит. И те слова Ноланца — «У тебя, парень, будут мои бумаги» — ему, скорее всего, померещились. Он, наверное бы, так и считал не будь весьма красноречивых в своем молчании намеков обвиняемого. Даже сегодня, в последний день суда, Ноланец, дважды посмотрев на Тополино, переводил глаза на свои записи. Он явно показывал на них. А они лежали под ладонью кардинала… Теперь эти бумаги Беллармино — перед носом нотария — опять обвязывает лентой. Причем туго, изо всех сил. Как будто стягивает узлом горло врага.
— Паскуале! — зовет он. — Подойди!.. Возьми это… В них, в этих бумагах, жуткая ересь. Завтра ты лично бросишь их к безбожнику в костер…
— Есть, Ваше Высокопреосвященство!
Строго буравя канцелярщика, кардинал добавил:
— Я тебе доверяю, Паскуале. Ты преданный и честный христианин. Я это ценю… Поэтому требую, чтобы ни один листик отсюда не пропал. Ни одна живая душа к ним не должна прикоснуться.
— Есть Ваше Высокопреосвященство! — выпучив глаза, прохрипел растроганный канцелярщик.
— Последним их читателем должен стать огонь… На, возьми!
Паскуале перекрестился…
Теперь попробуй забери их у горбуна? Умрет — не отдаст. Нет, завладеть ими сегодня не удастся. А завтра будет поздно… И все-таки одна, но слабая надежда оставалась. Во время казни. Прямо из огня. Без помощника, однако, не обойтись. И такой помощник есть. Лишь бы он согласился.
«Если, — думал Тополино, — мне ничего не показалось и в „сучьей комнате“ он слышал, что слышал — значит Джузеппе откликнется. Надо говорить с ним».
Тополино оббегал всю тюрьму. Облазил все здание суда. Все было напрасно. Дознавателя он так и не нашел. Джузеппе провалился словно сквозь землю. Правда, один из стражников, охранявших осужденных на смерть, сказал, что Джузеппе, сопроводив Ноланца в камеру, ушел пить. За дознавателем водилась слабость к возлияниям. И обильным. Пьяным, правда, никто и никогда его не видел. Зато все знали — что он пьет, сколько и где?
— Если он тебе так нужен, беги в таверну «Морская качка», — посоветовал стражник. — Он там загружает свой трюм.
Тополино бросился к выходу. У самых ворот его остановили. Срочно требовал к себе епископ Вазари. Пришлось возвращаться.
8
— За стол! — завидев нотария властно крикнул прокуратор. — Его Святейшеству сию минуту из сегодняшнего допроса следует выписать несколько ответов Ноланца.
Тополино вмиг понял в чем дело. Понтифику потребовались ответы осужденного на вопросы, поставленные им. Естественно, задавали вопросы судьи, а предлагал их сам папа. Такое в практике нотария случалось много раз.
— Готов? — спросил Вазари и, посмотрев на него, добавил:
— Отлично! Пиши! Я буду диктовать.
«Был спрошен:
Преподавал ли, признавал и обсуждал ли публично или частным образом в своих чтениях положения, противоречащие и враждебные католической вере и установлениям Римской церкви?
Ответил:
В целом мои взгляды следующие. Существует бесконечная Вселенная, созданная бесконечным божественным могуществом.
Я провозглашаю существование бесчисленных отдельных миров, подобных миру этой Земли. Вместе с Пифагором я считаю ее светилом, подобным луне, другим планетам, другим звездам, число которых бесконечно. Все эти небесные тела составляют бесчисленные миры. Они образуют бесконечную Вселенную в бесконечном пространстве, в котором находятся бесчисленные миры… Отсюда косвенным образом вытекает отрицание истины, основанной на вере.
Итак, косвенно я выступал против установлений святой Римской церкви, но я не учил тому, что противоречит божественности миров и земной жизни…
Был спрошен:
Высказывал ли взгляд, что апостолы обращали народы проповедью и примерами к доброй жизни, а теперь, говорят, что против тех, кто не желает быть католиком, надо проявлять жестокость, и применяют к ним не любовь, а насилие?
Ответил:
Правильно следующее. Насколько припоминаю, я говорил, что апостолы сделали гораздо больше своею проповедью, добрыми делами, чем можно сделать насилием, как поступают в настоящее время. Я не отвергал разного рода лекарственных средств, применяемых святой католической церковью против еретиков и дурных христиан. В своей книге, в частности, я говорил, что этим методом необходимо искоренять тех, кто под предлогом реформы отказывается от добрых дел… Однако повторю: апостолы гораздо больше сделали своими проповедями, доброй жизнью, примерами и чудесами, чем можно достигнуть в настоящее время посредством насилий над теми, кто не желает быть католиком…
Был спрошен:
Говорил ли когда обвиняемый, будто чудеса, творящиеся Иисусом Христом и апостолами были мнимыми?
Ответил:
В этой Вселенной я мыслю существование вселенского провидения, волей которого каждая вещь растет и движется в соответствии с ее природой. И, как я понимаю, для этого есть два способа: один из нихкогда в теле присутствует душа, во всем теле и в каждой его части; другой — неизъяснимый, когда сам Бог присутствует во всем, но не как душа, а таким путем, который трудно постигнуть. Для нас, землян, в постижении природы своей и в понимании самих себя и таится неисчерпаемый кладезь всевозможных чудес…»
— Закончил? — спросил прокуратор.
— Да.
Внимательно просмотрев написанное, епископ после некоторого раздумья, произносит:
— Можешь быть свободным.
Тополино сдуло с места, как пыль. Он бежал в таверну «Морская качка», а сам то и дело возвращался к тому, что сейчас ляжет на стол Его Святейшества папы Климента V111.
Ноланец был всегда осторожен в ответах. Каждую фразу произносил с замедленностью опоенного дурманом человека. Явно, обдумывал. А вот сегодня едва не проговорился. Правда заметили это только только он, Доменико, кардинал Беллармино и дознаватель Кордини. Джузеппе аж вздрогнул. Но все обошлось.
Это случилось, когда один из судей спросил действительно ли он считает чудеса Христа мнимыми? На что Ноланец сказал:
— В этой вселенной я мыслю существование вселенского Часо…
Еще бы чуть-чуть и у него вырвалось бы слово «часовщик». Но во время спохватившись, он тут же нашелся:
— Вселенского провидения, — заключил обвиняемый.
Кто он, тот загадочный Часовщик? В записях, предположил нотарий, о нем, наверняка, что-то есть. Ведь кардинал тоже среагировал на оговорку Ноланца. У него глаза полезли под брови. И он еще нервней забарабанил по бумагам, обвязанным розовой лентой…
… Резкий порыв ветра с доброй жменей снега наотмашь ударил по глазам. На какое-то мгновение нотарий ослеп. А когда протер глаза, Доменико увидел, что стоит перед самой вывеской «Морская качка».
…Кордини сидел в дальнем темном углу. Один. Перед ним стояло полдюжины опорожненных бутылок. Он тупо смотрел в налитый до краев бокал и, кажется, что-то нашептывал. Доменико решительно (куда только подевалась робость перед этим страшным человеком?) сел напротив.
— А, это ты, парень? — нисколечко не удивившись его появлению, не то спросил, не то принял как само собой разумеющееся Джузеппе.
Взгляд его был трезв. Голос тверд. Язык не заплетался.
— Я совсем не пьян, парень… А встать не могу. Не пойму, что за пойло? Ноги отказали… Не поможешь подняться?
По февральскому мглистому Риму шел, опираясь на мышь, Человек-гора. Будь то днем, люди надорвали бы животики. Тополино обливался потом, задыхался. Каждая косточка была в неимоверном напряге. Вот-вот какая-нибудь треснет. Джузеппе понимал, каких трудов этому хлипкому юноше стоит волочь его. И он из всех сил старался помочь ему. Ноги же слушаться отказывались. Дознаватель кряхтел, скрипел зубами и то и дело сокрушенно причитал: «Ах, Джорди, Джорди…»
Пробирающий до кишок ветер и лютые компрессы мокрого снега наконец возымели свое действие. Конечности понемногу отходили.
— Ну вот, парень, мне полегчало… Теперь я могу сам, — сказал он.
— Меня зовут Доменико, — напомнил нотарий.
— Знаю. Это ты был в лекарской. Мне «сукин сын» сказал… Ведь ты брал ключ у него.
Тополино отнекиваться не стал. Глупо было бы. Не затем он шел к нему в таверну… Почувствовав подходящий момент Доменико коротко изложил суть дела. Джузеппе оказался на редкость понятливым. Не дав договорить, он сказал:
— Хорошо, я помогу. А пока ариведерчи… Я пришел. Ты тоже ступай домой.
Сказал и, грузно развернувшись, зашагал к такому же громадному и мрачному дому, как он сам. Ошарашенный столь неожиданным финалом разговора, Тополино, растерянно хлопая глазами, смотрел ему вслед. Доменико хотелось грубо, так, чтобы эта человекоподобная гора застыла, как истукан, заорать: «Ты, мясник чертов, стой!.. Как?!.. Как поможешь?!..» И, словно услышав его, Джузеппе остановился. Полуобернувшись, он поманил нотария к себе. Доменико обрадовано подбежал и… повис в воздухе. Ухватив за грудки, дознаватель поднял его на уровень глаз и четко процедил:
— Завтра у костра горбуна из виду не упускай. Не отходи от него ни на шаг… Я что-нибудь придумаю… Попробуй зевни.
Пальцы его разжались, и Тополино плюхнулся задом в лужу. Джузеппе усмехнулся, махнул рукой, и, как ни в чем не бывало, продолжил путь.
9
Аббат Карл Бильдунг из монашеского ордена Святого Бенедикта, по кличке «Жгучий брюнет», явился на тюремный двор прежде, чем проснулись петухи. В четвертом часу пополуночи. Он носился по нему, как взбесившаяся собака. Злой. Не выспавшийся. А главное — не протрезвевший.
Всполошенные кондотьеры разбегались от него, что куры в птичнике, до которых дорвался перегрызший цепь дворовый пес. Сталкиваясь между собой они с площадной бранью накидывались друг на друга, обвиняя один другого непонятно в чем. Дошлые пытались спрятаться в укромных местечках, где было темно и не холодно. Но не тут-то было. Огненно-рыжая копна волос Бильдунга пылала на ветру как косматый факел. Все, стерва, высвечивала. А два постных пятна, зыркающих по сторонам, могли видеть даже в такой кромешной тьме. Оттуда, из спасительных щелей, куда забивались ушленькие, аббат гнал их пинками да тумаками…
Кличку, столь не вяжущуюся с внешностью и вызывающую смех, дал аббату сам Его Святейшество. А случилось это так.
Сразу после восшествия на святой престол Климент восьмой, рекомендуя Бильдунга прокуратору Святой инквизиции, сказал, что этот жгучий брюнет лучший в христианском мире церемониймейстер по устройству публичных казней воинствующих безбожников. Он-де и педантичен, и изобретателен, и исполнителен…
— Каждый костер для нашего, любящего зрелищ, пополо он сделает праздником, — заключил понтифик тоном, предупреждающим какие-либо возражения прокуратора.
Увидев впервые Бильдунга, прокуратор от удивления потерял-таки дар речи. Едва сдерживая всклокотавший глубоко в горле смех, он выдавил:
— Это вы?.. Вы аббат Карл Бильдунг?..
И не выдержал. Ударив себя по ляжке, громко расхохотался. Бенедиктинец, как не странно, не обиделся. Он все понял.
— Вы, синьор, представляли меня мавром? — расплывшись добродушной улыбкой, кротко спросил он.
Не в силах произнести ни слова, прокуратор закивал.
— Это шутка Его Святейшества. Он за глаза называет меня «Жгучим брюнетом», а когда я появляюсь…, реакция у всех такая, как у вас.
Не прошло и трех месяцев, как кличка аббата стала звучать отнюдь не смешно. Он жег людей и устраивал по этому поводу грандиозные шабаши. И пополо, веселясь и беснуясь в экстазе проклинал заживо горящего в нем еретика. И если в их обезумевшем сознании зарождалась жалость, то связана она была с быстротечностью происходящего действа… Пополо ждал с нетерпением следующего костра. Звона церковных колоколов, возвещавших римлянам об очередном поражении дьявола, забравшегося в тело выродка… По улицам города ходили хоры священников, самозабвенно поющих жизнерадостные молитвы. А за хорами тащились повозки с бочками вина, доставленными сюда из самых разных италийских монастырей. Горластые монахи наперебой расхваливали свое вино. Одни до хрипоты орали, что оно у них самое крепкое. Другие кичились букетом напитка. Третьи, надрывая горло, доказывали, что глоток их вина убережет тело христианина от бесовского вторжения, ибо оно приготовлено по секретнейшему рецепту, выработанному Святой инквизицией… А все вместе они, по строжайшему приказу Жгучего брюнета, никому в питие не отказывали. «Пей!.. Пробуй!.. Сравни!..» — зазывали они и, подмигивая, щедро наполняли протягиваемые им кружки дешевым, но забористым хмелем.
И распевая скабрезные песни, пьяный пополо валил на Кампо ди Фьоре, где уже наготове стояла пирамида из хорошо просушенных досок, внутри которой возвышался из таких же досок постамент для «ехидны в образе человеческом». Сновавшие в толпе монахи зорко следили за буйствующими и, подбирая среди них наиболее крикливых и наглых, сбивали их в группы, а затем вели к воротам тюрьмы. Там, на всем пути до Площади цветов, вдруг оказывались овощные лавки с гнилыми овощами, фруктами, яйцами. Это тоже было делом рук Жгучего брюнета…
Ближе ко времени казни в храмах начинались торжественные богослужения, предававшие анафеме бесовское семя. Начинались они с божественной литургии в храме Святого Петра, когда с протяжным скрипом открывались тюремные ворота и вслед выступившим оттуда монахам, облаченным с ног до головы в черное и держащим перед собой кресты, выезжала повозка. В ней, трясясь всем телом, в стальной клетке покачивался бледный призрак безбожника.
Поднимался рев. Вопил опоенный Ватиканом Рим. В узких прорезях монашеских капюшонов метался первобытный страх. Дикое скопище могло раздавить, растоптать, разметать… Но и здесь у Жгучего брюнета было все схвачено. Монахи, за ночь поставившие здесь на каждом шагу лавки с гнильем, умело орудуя, оттесняли наиболее взъярившихся людей…
Под этот рев, который докатывался до Кампо ди Фьоре и приводил в жуткое оцепенение собравшихся, на специальное каменное возвышение с чинным спокойствием выходил весь состав Святой инквизиции. Именно в тот самый момент. Не раньше и не позже… Так положено было по сценарию Жгучего брюнета. Поговаривали, что одеяния, в коих выходили к пополо инквизиторы, предлагал и рисовал портным все тот же Жгучий брюнет.
В представлении, которое ставил аббат, он продумывал каждую мелочь. И становился невменяемым от гнева, если что могло как-то испортить его спектакль… Как сейчас, когда Бильдунг носился по двору косматым факелом, раздавая направо и налево затрещины.
10
Джузеппе, наблюдая за ним со стороны, едва сдерживал улыбку.
— Что случилось, Карл?! — наконец выкрикнул он.
— А, Кордини, — обрадованно кинулся к нему аббат. — Хорошо, что ты здесь. Помоги!.. Посмотри на повозку, На ней везти Ноланца, а она без двух колес… Вчера еще стояла целенькая. Сам проверял… Воры поганые!
Бестии! — пробухтел дознаватель. — Не беда, Карл. Сейчас я их заставлю…
— Сделай милость. Возьми на себя… Мне надо на площадь… Потом посмотреть, готово ли вино, лавки…
Закончить, однако, аббат не успел. Он снова взвился, словно кто шилом ткнул ему в зад.
— Рогоносцы!.. Недоноски!.. Бочка с маслом… Она до сих пор здесь. Ну вот видишь, Джузеппе, — жаловался Бильдунг. — Ее еще вчера должны были перебросить на площадь, к штабелям… Какой олух забыл?!.. Разорву! Пущу по миру!..
Кордини покачал головой. Он хорошо понимал разгневанного церемониймейстера. Не облей доски тем маслом костер может не заняться. Потлеет, а при такой ледяной измороси с ветром возьмет и погаснет. Позор выйдет. Люди начнут судачить, мол, небеса были против приговора Святой инквизиции.
— Иди, Карл. Я позабочусь обо всем, — успокоил он церемониймейстера.
— Вот спасибо! Вот выручил…
Бильдунг развернулся, чтобы удалиться, но невнятное бормотание дознавателя остановило его.
— Что?! Что ты сказал, Джузеппе?
— Да странные, говорю, вещи творятся. Колеса, масло… — и взяв под руку аббата, Кордини зашептал:
— Вчера в таверне люди болтали, что кто-то из наших хочет облегчить смерть Ноланцу… Может, кто выстрелит со стороны. С крыши, например… Может, проломит камнем череп, а может, что другое…
— Да ну! — вскинулся Бильдунг. — Ты уж смотри в оба, Джузеппе.
Кордини начал свою игру. Он хорошо знал дотошного аббата. И постарался подкинуть ему такое, что тот до конца представления будет как чесоточный ерзать. Подозрения загрызут бедолагу. Сейчас наверняка он подумывает об усилении охраны по пути следования кортежа от тюрьмы до Кампо ди Фьоре. Расшибется, но сотню монахов пригонит… В общем, загрузит себя работой. Джузеппе это знал и именно этого добивался…
Озадаченно почесывая гриву, Бильдунг вышел со двора. Спустя пару минут вернулся.
— Джузеппе, — позвал он, — ты когда станешь надевать Ноланцу намордник?
— Дождусь тебя.
— Вот хорошо. Дождись! — сказал и вприпрыжку выбежал вон.
Подозвав капрала, Джузеппе, тяжело глядя ему в глаза, вполголоса распорядился:
— Колеса достать хоть из-под земли. Думаю, часа хватит поставить телегу на ход…
— Хватит, синьор! — гаркнул капрал, ринувшись выполнять отданный без рукосуйства приказ.
— Стой, капрал! — не повышая голоса, остановил его Кордини. — Ты смотри у меня. Не справишься — будешь иметь дело со мной… И еще вот что. Бочонок с горючим маслом подкатите вон к той стене… Все понял?!.. Командуй!
Оставив кондотьеров, Джузеппе направился к сторожевому помещению где положил, принесенную им из дома сумку. Она сейчас ему понадобится. В нее украдкой от жены он запихал две непочатые банки с темно коричневой, густой жидкостью. Супруга частенько покупала ее у аптекаря, посоветовавшего мазать этой тягучей массой ноющие ревматизмом суставы хозяина. На удивление Джузеппе странное снадобье помогло ему. Называлось оно нафитью. Его привозили издалека. И стоило оно кучу денег. Имело оно и другое любопытное свойство…
Однажды, он по ошибке вместо горючего масла дал соседу нафити, чтобы разжечь печку. А тот не посмотрев все содержимое выплеснул на дрова. Поленья вспыхнули мгновенно, зато поднялся такой чад, такой повалил дым, что всем показалось: начался пожар. Злополучная нафить закоптила весь дом.
Джузеппе вспомнил о той истории, когда пообещал нотарию что-нибудь придумать и помочь. Нафить, сообразил он, напустит столько дыма, что Доменико воспользуется этим.
Отомкнув затычку, Джузеппе выплеснул из бочонка немного чистого горючего масла, а вместо него влил всю имеющуюся у него нафить.
Час спустя, улыбаясь до ушей, капрал докладывал:
— С телегой все в порядке. Как новенькая.
Осмотрев ее, Джузеппе заставил кондотьеров прокатиться на ней. И остался доволен работой.
Светало. Шел седьмой час утра. Бильдунг все не появлялся. «Теперь забот у него по горло», — подумал дознаватель.
Тюремный двор заполняли все новые и новые люди, назначенные в сопровождение повозки с приговоренным. Среди них расхаживал и Паскуале. И тут Джузеппе осенило.
Как вовремя ты пришел, — подозвав его к себе с неподдельной радостью воскликнул Кордини. — Аббат приказал этот бочонок поручить доверенному человеку. Его надо доставить на площадь.
— Всегда к вашим услугам, синьор Кордини, — польщенный дружеским расположением грозного дознавателя, откликнулся он.
— Прекрасно! Бери кого хочешь и действуй!
Бильдунга все не было да не было. На это, в сущности, Джузеппе и рассчитывал. Положив руку на плечо капрала и крепко сдавив его, дознаватель тихо и жестко сказал:
— Когда придет Жгучий брюнет, скажешь: я только-только пошел к Ноланцу. Когда бы ни пришел — только-только. Понял?!
— Понял, синьор.
Одобрительно кивнув, Джузеппе направился в камеру смертника. Ему позарез нужны были несколько минут побыть наедине с Джорди. Переброситься парой фраз, кое-что передать, попрощаться. При Бильдунге это, разумеется, не удастся. Он до последнего не спустит глаз ни с него, ни с Ноланца. Не отлучится даже по нужде.
Сложность заключалась в другом. В день казни в камеру обреченного могли войти судья, прокуратор и Бильдунг. Караул эту инструкцию выполнял четко. Но, как правило, к осужденным на смерть Кордини проходил вместе с ними. Так что караул воспринимал дознавателя как исключение из правил. А мог и не воспринять. Чем черт не шутит.
Джузеппе решил подстраховаться. Открыв дверь, ведущую в подземелье, он остановился и, глядя в сторону, где только что стоял с капралом и где никого сейчас не было, Джузеппе гаркнул:
— Передай Жгучему брюнету, что я пошел примерять Ноланцу намордник…
Караульные, конечно же, слышали эхом отозвавшиеся в каземате слова дознавателя. Никому и в голову не пришло остановить его.
Бруно, увидев брата, встал.
— Наконец-таки, Джузи! Я так ждал тебя.
— У нас мало времени, Джорди, — предупредил дознаватель.
— Эх, сейчас бы мне перо да бумагу, — мечтательно протянул Бруно.
— Чудак! Тебе сейчас бы крылья. А лучше стать невидимкой.
— Через час с небольшим, братишка, — горько усмехнувшись говорит Бруно, — я получу и то, и другое.
Джузеппе обнял брата и, превозмогая горловой спазм, зашептал:
— Джорди, тебе прощальные поцелуи… От мамы, Антонии, от меня…
Джордано тоже, обхватив его, тихо проговорил:
— Спасибо за все, что ты мне сделал. И прощай… Тетушке Альфонсине и Антонии передай, что я их любил и люблю больше жизни… Поверь, братишка, я ни в чем не виноват.
— Даже если бы ты был виноват тысячу раз, я все равно на твоей стороне… Но я ничего не могу поделать… Не могу спасти… Прости…
— Ты — рядом, и это главное.
— Слушай, Джорди. Слушай внимательно… Антония передала флакончик с каким-то средством… Его ничего не стоит раздавить. Сразу лишишься чувств… Сделаешь это на костре… Сейчас придет Жгучий брюнет. При нем я буду зажимать тебе язык. Когда надавлю на плечо начинай мычать, таращить глаза и рваться из пут… Тогда я его зажму несильно. Под язык положу «подарок» Антонии. Уже по пути язык выскользнет из-под замка. Когда подожгут раздави флакон… Запомни: когда подожгут…
— Раньше не стану, а позже буду вынужден, — отшутился он.
— Кажется, идет, — прислушиваясь к звукам в коридоре, прошептал Кордини.
Поспешно чмокнув брата в щеку, Бруно сел на стул, к которому, вместо спинки, приделали в форме креста две доски: к вертикальной ремнями и зажимами прикреплялась голова, а к поперечной — привязывались руки.
— Кордини! — вбежав в камеру, позвал Бильдунг. — На минутку выйди. Ты мне нужен.
Прикрыв за собой плотно дверь, он спросил:
— Ничего подозрительного не заметил?
— Нет, Карл. А ты?
— Люди ведут себя не совсем обычно. Все прут сюда, к тюрьме.
— Кто-то подстрекает, — подлил масла в огонек Джузеппе.
— Подзуживают… Подзуживают… Хотят под шумок, — соглашается аббат. — Но я пригнал еще триста монахов. Расставил их в самых уязвимых местах. На улицах и крышах… Пусть попробуют…
Потом Бильдунг засуетился.
— Прокуратор с судьей, — глядя за спину дознавателя, вполголоса сообщил он и тихо добавил:
— О наших подозрениях — ни слова.
— Бильдунг! — крикнул Вазари. — Надо поторапливаться. Через полчаса в храме Святого Петра начнется божественная литургия.
— Знаю, Ваше преосвященство. У нас все готово, — отзывается Жгучий брюнет, распахивая перед ними дверь в свинцовую камеру.
11
Беллармино кивнул. Жгучий брюнет махнул рукой. Рим ударил в колокола. Промерзшие на Кампо ди Фьоре хористы запели ликующую молитву. И с четырех сторон четыре монаха-доминиканца с зажженными факелами прошествовали к пирамиде сложенных дров, внутри которой стоял привязанный к столбу Джордано Бруно.
Джордано был спокоен. Не дергался. Не плакал. И глаза его не бегали в страхе. Они неотрывно смотрели на нотария, словно просили: «Не подведи, мальчик».
Тополино это видел. Но он действовал строго по совету Джузеппе. Он ни на шаг не отставал от Паскуале. Куда тот — туда и он.
— Что это Ноланец уставился на горбуна? — с тревогой в голосе спросил Бильдунг дознавателя.
Джузеппе пожал плечами.
— Да еще что-то суетится, — продолжая наблюдать за канцелярщиком, беспокоится Жгучий брюнет. — И под одеждой что-то прячет. Мне это не нравится, Джузеппе.
И тут вспыхнула дровяная пирамида. Вспыхнула сразу вся. И повалил черный дым. И ветер, подхватив едва видимое, но сильное пламя и вместе с чадом завертел и закружил по всей площади. Пополо и стоящие в солидных позах инквизиторы невольно отшатнулись.
— Что такое? — растерянно пробормотал Бильдунг. — Почему гарь и дым?
— Бочонок с горючим вез сюда горбун, — как бы невзначай обронил Джузеппе.
— Что?… Значит это он! — уверенно прошипел Жгучий брюнет.
— Успокойся, Карл. Я пойду к нему. Если что — пришибу.
Бильдунг кивнул.
Копоть прямо-таки выедала глаза. Но Тополино упрямо и настырно шел за горбуном. Он видел появившегося неподалеку Джузеппе. Дознаватель на него не смотрел, хотя остановился в трех шагах и не видеть нотария не мог.
Паскуале, очевидно, уже не в силах был терпеть едучего дыма и не стал дожидаться, когда подадут команду бросать в огонь книги Ноланца. Выхватив из-за пазухи знакомую Доменико кипу бумаг, перехваченных розовой лентой, он зашвырнул ее в костер. И в этот самый момент Джузеппе свалил горбуна с ног, а появившиеся неведомо откуда монахи тоже набросились на заверещавшего канцелярщика.
Тополино кинул взгляд на брошенные в огонь бумаги. Растрепанные, они вспыхнули, как порох. И нотарию было уже наплевать на все и вся. Закрывая ладонью лицо, он ринулся в костер и выхватил занявшиеся огнем таинственные записи Ноланца. Обжигаясь, он голыми руками тушил их у себя на груди…
Мимо волокли побитого Паскуале.
— Уходи! — прошипел ему в ухо Кордини.
Тополино кивнул. Окинув в последний раз объятую пламенем и черной гарью пирамиду, он вдруг поймал на себе улыбающиеся глаза Джордано Бруно. Они так и остались в нем. На всю жизнь…
Потом они остекленели. И их жадно лизнул язык рыжего пламени. Но нотарий этого уже не видел.
Прижав к груди руки, он бежал по улицам города одновременно и плача — от ожогов, и смеясь — удаче. Удаче, цена которой была жизнь. Потом он остановился. Кругом — ни души. Тополино с облегчением перевел дух. Глубоко вздохнул и… от гадливости сморщился.
Рим пах вином, ладаном и паленой человеческой плотью…
Глава вторая ЧАСОВЩИК
1
Хлопок тот был, что пушечный выстрел. Джорди подкинуло и копчиком стукнуло обо что-то железное. Он вскрикнул и… проснулся. А проснулся ли? Он ведь не засыпал. Сидел себе на горе тюков и во все глаза смотрел на нервно дергающееся море…
Стоявший у штурвала с косматой рожей пирата шкипер, глядя на него, презрительно хмыкнул и, словно матюгаясь, продолжал отдавать приказы ползавшим на мачтах матросам.
Никакой пушки на шхуне конечно не было. Бабахнуло полотнищем паруса, в который влетел шальной шквал. И никто его спящего с места не подбрасывал. Он сам с испуга подскочил и, соскользнув с высокой поклажи, копчиком угодил в шляпку вбитого в палубу шпигаря. Острая боль, молнией ударившая по мозгам, стрельнула из глаз снопом ослепительно горючих искр. И он очнулся. Как от пощечины, что возвращает сознание, впавшему в полуобморочное состояние человеку… И вспыхнуло все светом будто кто вокруг и в нем запалил сразу тысячу свечей…
До этого грома небесного дни его пролетали, как в вечерних сумерках летучие мыши. Беззвучно, без красок, в вязкой мути и так быстро, что он не мог ни на чем сосредоточиться и не успевал ничего осмыслить. Его словно кто посадил в бешено вращающееся колесо кареты, которую, как пушинку, влек за собой бесчисленный табун оголтелых скакунов. Остановить и придержать их — было выше его сил.
Впрочем, ему этого и не хотелось. Даже не возникало такого желания. Жизнь шла сама по себе, а он сам по себе. И если в поведении Джорди имелась какая-то целесообразность реакций, то она проистекала не от его рассудка, а от некоей сторонней разумности, бесцеремонно управляющей им. И наверное, только поэтому Джорди делал все правильно. Как нужно. По-человечески. Не будь этого невидимого кукольника, который властно и мощно двигал его руками, ногами и языком, он на каждом шагу попадал бы впросак. Или сморозил бы что-нибудь, или попал бы под какой-либо экипаж, или, спустив штаны, прилюдно, на площади, взял бы да помочился или еще того хуже. Но этого, слава Богу, с ним не происходило.
И вот вдруг, с оглушительным хлопком паруса, принятым им за пушечный выстрел, с пронзительной болью в копчике и со вспышкой в мозгу — кони остановились, И колесо, что исступленно вращалось и как хотело вертело им, замерло. Ни тошноты тебе от безумного кружения, ни рябящей мути в глазах. Покой, самоощущение и ясная-ясная память. Шхуна, море, ветер, скрип… И ему не надо было задаваться вопросом, как он оказался на шхуне под мощно вздувшимися парусами. Он знал куда едет и зачем. За бортом — Ла Манш, а по траверзу, в туманной дымке, невидимый берег Англии.
— В туманах легче спрятаться, — говорила Антония, вкладывая ему в ладонь золотой крестик с длинной цепочкой, запутавшейся в ее пальцах. Он смотрит на пустую ладонь, а затем лихорадочно лезет за пазуху.
«Антония…» — млеет он, нащупав на груди ее подарок…
И тут что-то теплое и шекочуще нежное коснулось его уха. Чьи-то губы… А рядом — никого… И они, эти губы, едва слышно, но с невероятной силой убеждения, точно в самое сердце, прошептали:
— Не верь, Джорди. Туманы не спрячут. Спрятать может только время.
Джордано дернулся.
— Часовщик?!.. Ты здесь? — донельзя удивившись, в голос спрашивает он.
Косматый шкипер полоснул его диким глазом и смачным матом плюнул в сторону матросов. Джорди понимал: шкипер обложил не их, а его, нечленораздельно и невпопад выкрикивающего что-то со своего места. Но ему было все равно. Он все вспомнил…
2
… Рука, державшая поводья коня, которого он тащил за собой через болото, так и осталась вздернутой над головой, будто он кому грозил кулаком. Но то был не кулак, а крепко сжатая пятерня. А в ней — ничего. Ни узды в руке, ни коня в узде. Да вдобавок никакого леса и никакого чавкающего под ногами болота. Все это не исчезло, конечно. Оно, как было, так и осталось. Вот только — уму непостижимо! — он оказался над всем этим. Точнее, и над ним, и в нем, и в стороне от него одновременно.
Сказать, что он вдруг оказался между небом и землей, было бы неправильно. Он находился все там же, на том же самом месте, только… Только ноги его не топли в болотной луже и не вязли в ней. Они без усилий скользили по зеркально начищенному полу, оставляя за собой комья глины, смешанные с пожухлыми листьями и обрывками травы.
— Добро пожаловать, синьор Бруно! — приветствовал его человек в странной одежде, присутствие которого в тот момент его нисколько не удивило. — И опустите руку. Никакой лошади позади вас нет, — добродушно улыбаясь, заметил он.
И правда. Оказывается, он изо всех сил тянул пустоту. И что самое удивительное — не падал.
— А где они? — выпрямившись и огорошено озираясь по сторонам, спросил он.
— Твои преследователи?.. Кондотьеры?..
— И конь, — добавил Джорди.
Он еще хотел сказать, что конь чужой, не его, но тут же, дико вскрикнув, в ужасе вжал голову в плечи. Кондотьер, выдравшийся из зарослей можжевельника, рубанул по нему саблей. Клинок со свистом прошелся от шеи до самого пояса. Но, как ни странно, не то что боли, даже дуновения лезвия он не почувствовал. На черную воду в ржавые листья упал ворох срубленных сучьев. И кондотьер, продолжая рубить кусты, прошел… сквозь него. Пройдя еще немного, он, задыхаясь, заорал:
— Его здесь нет! И следов лошади не видать.
— Здесь тоже! — отозвался другой.
— И здесь! — кричал третий.
— Тут тоже нет! — докладывал еще один, которого Джорди не видел.
Зато он хорошо видел капитана папского прокуратора, что командовал этими людьми. Он сидел на сваленном дереве. Эта дородная скотина видимо по самую задницу угодил в вымоину и теперь с остервенением пытался снять с себя прилипшие к ногам ботфорты. Наконец стащив один из них, и вылив из него воду, он, скрипнув зубами, зарявкал:
— Искать! Он где-то здесь. Притаился, сволочь!..
Человек ниоткуда, загадочным образом объявившийся перед Бруно в этом глухом урочище и с неприкрытой иронией наблюдавший за происходящим, криво усмехнулся, а затем громко, чуть ли не на весь лес, не без издевки произнес:
— Ищи, ищи, жалкий!
— Тихо, синьор, — зажмурившись от страха, просипел Джорди.
— Не беспокойтесь, синьор Бруно. Они нас не слышат и не видят.
— Как так?!
— Как?… Я вам объясню позже. Если сами не догадаетесь. Думаю, вам это удастся. У вас есть и будет еще время… — последнюю фразу он произнес надавив на слово «время», вкладывая, очевидно, в него какое-то потаенное значение.
— Время поразмыслить, — заключил он после непродолжительной паузы.
«Что он хочет этим сказать?» — автоматически, привыкший не упускать логическую связь воспринятого и должным образом реагировать на него, подумал Бруно. Однако на этот раз вникать в смутный смысл услышанного не стал. Впрочем, если и захотел бы — не смог. Он слишком был поглощен тем, что с ним произошло. Ведь еще мгновение назад ноги его чуть ли не по колено провалились в мокрую траву и суглинок всасывал их так, что каждый шаг стоил неимоверных усилий. Джорди вытягивал себя цепляясь за косы можжевельника и драчливые ветви кривых деревьев. Конь, следовавший за ним, жалобно ржал, упирался и тряс головой, словно просил его бросить поводья и отпустить восвояси. Мол, оставь меня. Я, как ты, ползать не могу. Уходи один. Мне бежать никуда не надо.
— Куда я тебя отпущу?! — злился Бруно. — Кондотьеры за плечами. Неужели не чуешь их псиную вонь?
Ответа он не дождался. Верней, он не успел сформулировать его за коня, с которым отчаянно спорил. Именно в этот самый момент Бруно почувствовал вдруг что-то неладное и даже сверх того…
Вместо топкой почвы, устланной прессом пожухлых листьев и вялой травы, и вместо по ехидному встопорщенных деревьев и кустарников — невесть воткуда возникший зал какого-то странного полупризрачного помещения. И он уже шел по… сияющему паркету, оставляя за собой грязные следы.
«Вот свинство! Как это меня угораздило?!» — еще толком не сообразив в чем дело, и замедляя шаг, ругал он себя.
Сообразить, как его «так угораздило», было трудно. Ведь только-только, куда не глянь, кроме зарослей можжевельника, колких ветвей уродливых деревьев да чавкающей под ногами топи — ничего такого не было. Даже никакого намека на какое-то там строение. И вот тебе на! Настоящие стены, пол… Правда, еще не совсем настоящие — полупрозрачные и по призрачному зыбкие. И то, что он на том же самом месте, Джорди видит отсюда — непостижимым образом. Через те же самые стены и паркет, который он вымазал грязью горного леса…
Как все это оказалось здесь и как он очутился в нем? Такого в диком урочище, вдали от людских поселений, — просто быть не могло. Людям здесь делать было нечего. Ну разве только поставить охотничью хижину. Но если даже это чей-то охотничий ночлег, то он ничего общего с убогой хибаркой, соответствующей своему предназначению, он не имел… Судя по просторному залу, никогда не виденным им предметам мебели, необычным светильникам и узорчатому деревянному полу, на котором Джорди неуклюже топтался, — то было палаццо, какого не встретишь во всей Италии. Да что в Италии! Во всем мире. Даже у преставившегося от сердечной немочи сказочно богатого, любвеобильного и на редкость любознательного правителя Тосканы герцога Козимо деи Медичи. А уж кто-кто, а Бруно его дворец знал, как свои пять пальцев. Он с Антонией, вдовой герцога, облазил все его закутки.
Да черт с ним, с родовым палаццо Медичи! Откуда он, этот замок? И кто он, этот человек, появившийся здесь как из-под земли и разговаривающий с ним, как со старым знакомцем? Главное, как с ровней, — уважительно, с почтением…
Делая вид, что подтягивает спустившиеся шаровары, Джорди ногтем большого пальца бьет себя в бедро. Удар получился не рассчитано резким и сильным. Ноготь впился в мякоть так, что Бруно независимо от себя ойкнул. Значит, решил он, все это на самом деле. В живую. А не во сне и не в горячке, которая могла свалить его в этом глухом горном ущелье.
— Удостоверились? — добродушно усмехнулся незнакомец и, взяв его под руку, добавил:
— Вы в здравом уме, при полном рассудке и не в простудном бреду.
Джорди смутился и, уже не таясь, потирал пораненное место.
— Надо было послушать синьору Антонию. Состричь, наконец, этот ноготь, — небрежно заметил он.
— Да, синьор, — соглашается Бруно и тут же с затравленным смятением вскидывается на стоявшего перед ним человека.
3
Джорди никогда его раньше не видел. Ни разу и нигде с ним не встречался. Что-что, а на память он никогда, видит бог, не жаловался. Откуда же ему, этому синьору, было ведомо об Антонии? Об их связи знали всего трое — он сам, Антония и Бог. Правда двое или трое из челяди Антонии могли об этом догадываться. Всего лишь догадываться. И не больше. Но этому, свалившемуся ему на голову, синьору такое никак не могло быть известно. Тем более такая подробность, о которой могли знать лишь он и Антония.
Бруно хорошо помнил, когда она сказала ему это. Дня три назад. В его чердачной каморке, что находилась в родовом дворце ее скоропостижно скончавшегося мужа герцога Тосканского Козимо Первого. Дворец теперь принадлежал Антонии. Именно здесь находилась та самая комнатушка, которую покойный герцог, проживший с молодой женой около двух лет, называл обсерваторией. Бруно отсюда наблюдал за светилами и сюда к нему иногда поднималась Антония. Здесь-то она и сказала ему те слова, когда он этим ногтем нечаянно поранил ее грудь:
— Состриги ты его. Он остер, как дамасский клинок.
Виновато и нежно отняв ее руку от тотчас же вспыхнувшей огнем полоски, он лизнул ее и пообещал это сделать. Пообещал, но не сделал. Ноготь этот ему нужен был, чтобы крутить винты на штативе телескопа.
— Сейчас он тоже пригодился, — словно прочитав его мысли, хохотнул незнакомец, а затем, глядя ему в глаза, с отеческой задушевностью произнес:
— Вы не в беспамятстве. Страха нет. Волнения остались позади. Вы спокойны. Вы в безопасности.
Слова его были так проникновенны и до осязаемости живы, что на них отзывалась каждая клетка тела, окатывая его теплыми волнами благостной истомы. Хотя что такого особенного он говорил? Ровным счетом ничего. И вообще говорил ли он? Смотреть на него смотрел, но губами то не шевелил.
Бруно кивнул. Да, ему хорошо. Да, никакого страха он не испытывал. Да, он сейчас как дитя, которому от наката безбрежной любви хотелось обнять всю землю, со всем ее жалким человечеством. Сияя глазами, он с нескрываемым откровением изучал своего спасителя.
Все в нем было необычно. И одежда, и речь, и, конечно же, замок, в котором Джорди очутился, как по волшебству. Роста невысокого. Чуть выше него. Поджар и по-атлетически складен. Синие-синие глубокие глаза. Смугл. Без парика. Стрижка короткая, как у сенаторов древнего Рима. Волосы, отдающие красноватым оттенком, чернее смоли. Брито лиц. Не губаст и не тонкогуб. Явный признак незлобивого и уравновешенного человека…
Одет по несуразному. Совсем не по-здешнему… Выйти в таком облачении на люди — значит, стать мишенью ехидных насмешек. Измарают, затыкают пальцами… Голубенькая, похожая на нательную, только с короткими рукавчиками, рубашка. Будь попросторней и с длинными рукавами, она смахивала бы на его ночную сорочку. Вместо привычных шаровар с сапогами — странного покроя штаны. Они облегали бедра, а концы их раструбов, чуть надломившись, лежали на самых носочках туфель. Наверное, чтобы прикрыть балаганного пошива обувку — без каблуков, с куцыми бортами и с остренькими носиками… С такой обувью, да при грязюке на каждом шагу, не больно расходишься… Вымажешься по самую шею. «Может, — предположил Джорди, — это домашнее платье, а на выход у него другая одежда?»…
Однако больше всего поразил его ниспадающий от самой шеи до пояса лоскут материи. Перехваченный у горла узлом, он от него, узла этого, как от светящегося источника, шел рассеивающимся лучом книзу. На лоскуте том, словно из иссиня-черного бездонья, мерцая, проступали зеленоватые искры звезд. Глаза Бруно пригвождены были к нему, как Иисус к кресту. На его материи был вышит рисунок солнечной системы со всеми ее планетами со свойственными только им контурами и цветами… Меркурий, Венера, Земля, Солнце, Марс…
«Черт! — прошептал он. — Как точно! Кто, интересно, мог такое изобразить?!»
— Все вопросы ко мне у вас скоро отпадут, — тронув его за плечо, пообещал незнакомец. — А сейчас вам нужно отдохнуть. — и, глядя на кого-то поверх его головы, распорядился:
— Коллега Ершистый, помогите Джордано Бруно из Нолы привести себя в порядок. Обеспечьте ему все необходимые процедуры. А потом мы с ним побеседуем.
Сказав это, незнакомец, в знак прощания, кивнул и, повернувшись, направился к стеклянной двери, створки которой за несколько шагов от него сами по себе раздвинулись, а когда он прошел, сами собой сомкнулись.
— Чудеса! — восхищенно разводит руками Бруно.
— Ничего подобного! Элементарная техника — фотоэлементы, — возрази подошедший к нему молодой человек, которого назначили ему в сопровождающие и которого, назвал Ершистым.
— И слово «элементарно» мудреное, — пожав плечами, не без иронии замечает Бруно.
Ему хочется еще поязвить над всем, что сопровождающему представлялось обычным, а его ошеломляло, но взгляд его снова уперся на свисающий с шеи Ершистого точно такой же лоскут, с тем же рисунком.
— Этот лоскут, как вы его называете, — предмет одежды. Называется — галстук, — бесстрастно, скорее, терпеливо втолковывая, нежели гневаясь, уточнил он.
— Я его так не называл. Я только так подумал, — донельзя озадаченный, поспешил оправдаться гость.
— Знаю. Это меня, то есть, нас, — поправился сопровождающий, — нисколько не обидело.
— Видите ли, как предмет одежды он не мог не обратить мое внимание. Такого в нашей стране и, пожалуй, на всем континенте не надевают. В конце концов, кому какое дело, кто и как себя обряжает. Но меня поразило другое…
— Изображение, — опередил его Ершистый.
— Его необыкновенная точность, — дополнил Бруно.
— Это эмблема нашей службы.
— Службы?! — переспросил Джорди.
— Да. Службы Времени Вселенной, — Ершистый провел рукой по галстуку и добавил:
— Службы, осуществляющей контроль и регулирование бытия землян.
— Вот как?! — непроизвольно приостановившись, выдохнул Ноланец, а потом, собравшись с мыслями, спросил:
— Чьей службы, синьор Ершистый?
— Великого Круга Миров, или, коротко ВКМ, — с полнейшим недоумением и тоном — что за дурацкий вопрос, — пояснил он.
А обернувшись и увидев растерянное лицо замершего на месте гостя, стукнул себя по лбу.
— Извините! Забылся! — виновато улыбнулся он и в самое ухо прошептал:
— Если по-вашему и попонятней — мы одна из служб Всевышнего. Одна из самых основных, работающих в вашей… то есть в нашей, Вселенной. В других Вселенных действуют другие такие же службы.
— Всевышнего?! — ошарашено бормочет Бруно.
Ершистый, мягко обняв его за плечи и подталкивая вперед, кивает.
— И… — тянет Бруно, пытаясь задать самый главный вопрос.
— Нет. Его самого здесь нет. Наш шеф… Кстати, вы с ним только что расстались. Он лично встречал вас и вы с ним имели честь общаться…
— Значит, он Наместник мира земного, — перебивает Бруно.
— Это опять-таки по-вашему, — снисходительно замечает Ершистый. — Он — патрон Службы, Его Честь Часовщик.
4
ПРОКУРАТОРУ СВЯТОЙ ИНКВИЗИЦИИ
ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ ЕПИСКОПУ
СЕБАСТЬЯНО ВАЗАРИ
ДОНЕСЕНИЕ
Ваше преосвященство! Первого ноября 1590 года от Рождества Христова, по вашему приказанию, для задержания злостного еретика Джордано Бруно из Нолы мною был снаряжен отряд кондотьеров в количестве 25 человек, который в тот же день выступил в Тоскану. Возглавил отряд Ваш покорный слуга. Третьего ноября мы прибыли во Флоренцию. Вечером того же дня мне стало известно, что Ноланец действительно находится во дворце покойного герцога Тосканского Козимо деи Медичи, в котором ныне проживает его вдова Антония Борджиа. Как утверждали наши осведомители, она прибыла во дворец неделю назад в сопровождении мужчины, скрывавшего свое лицо под полами надвинутой на брови шляпы. В сумерках его трудно было разглядеть. По скудным приметам, переданным осведомителями, он походил на человека, за которым мы приехали.
На следующий день я знал уже точно — Ноланец в замке. Об этом сообщил, подкупленный мной конюх герцогини Пьеро Перручи. Для получения этих сведений мной было выплачено 7 (семь) дукатов.
В последующие несколько дней установленное мною наблюдение, которое велось днем и ночью, выявило следующее: замок усилен охраной; герцогиня в свет не выезжает и, под предлогом плохого самочувствия, никого не принимает, хотя мои люди видели ее прогуливающейся во дворе в добром здравии и в отменном расположении духа; в мансарде, где, как известно, при Его величестве герцоге Козимо находилась обсерватория Ноланца, с наступлением темноты светятся окна. В них моими наблюдателями замечались два силуэта — мужчины и женщины. Один из них соответствовал контурам фигуры герцогини, а другой — еретику. Однако, следуя вашим наставлениям, я должен был обладать стопроцентной уверенностью, что это так, а не иначе.
Такая возможность мне в скором времени представилась. В мансарде на ночь забыли прикрыть окна. Поднявшийся к утру ветер бил рамами о стену. Появившийся в окне мужчина стал закрывать их. Это был наш беглец — поганый еретик Джордано Бруно. Я сам в подзорную трубу видел его.
В тот же вечер я нанес визит герцогине Антонии Борджиа. Она категорически отказалась принимать меня. Мне ничего не оставалось, как передать через служанку Ваше письмо, адресованное ей, и удалиться. Письмо возымело действие. Поутру из замка пришел посыльный и сказал, что Ее величество герцогиня примет меня и чтобы я пришел в замок не с отрядом, с которым явился в Тоскану, а с двумя кондотьерами.
Борджиа уделила мне всего несколько минут, чтобы сказать, что чтит дело Святой инквизиции и что, по просьбе Вашего преосвященства, изложенной в послании, разрешает мне с солдатами пройти на чердак, где находится обсерватория беглеца, самым тщательным образом обыскать ее и необходимое изъять. О том, что Ноланец во дворце и скрывается под ее крылышком — ни словом не обмолвилась. Я уже знал, что мы его там не обнаружим. Под строгим присмотром слуг мы поднялись наверх.
Пока мы находились там, Ноланец бежал. Об этом мне стало известно часа через три после возвращения на постоялый двор. Информацию эту я получил от своего платного соглядатая. Он сказал, что он может добыть важное сообщение о еретике, если я ему, для конюха Пьеро Перручи, выдам 15 (пятнадцать) дукатов. Получив деньги, Перручи передал следующее. В тот момент, когда мы занимались обыском чердака и прилегающих к нему комнат, синьора Борджиа вывела Ноланца во двор. Там стоял воз с поклажей, который в тот час должен был выехать из усадьбы. Находящийся рядом конюх слышал как герцогиня, прятавшемуся под грудой поклажи Ноланцу, шептала: «Уходи через Каррару к Специи… Они, конечно же, кинутся в Ливорно. Им в голову не придет, что ты пойдешь в порт Специи… За городом вас нагонит мой слуга. Пересядешь на его коня. А дальше… с Богом!..»
Мои солдаты не придали значения выкатившейся из усадьбы повозке с пустыми бочками и корзинами, которую никто не сопровождал и которой правил неказистый мужичишка. Минут через пять, вслед за телегой, выехал одинокий всадник. Солдаты задерживать его не стали. Заметили только, что гнедой под ним был кровей благородных.
Узнав о том, что еретик покинул замок Медичи и направляется в порт Специи, я не мешкая бросился в погоню. Достигнув берега Арно, я решил десять кондотьеров под командованием капрала Паоло Кастелини отправить вниз по течению к Ливорно. Ноланец, подумал я, мог изменить решение и отправиться в ближайший порт.
Капралу я выделил из имеющейся суммы 10 (десять) дукатов.
(Представленный капралом Отчет — прилагаю. Кроме того, прилагаю счет в 13 (тринадцать) дукатов, оплаченный мной во Флоренции за постоялый двор).
С оставшимися пятнадцатью всадниками и 15-ю дукатами я на лодках местных жителей переправился через Арно. Перевозчики потребовали с меня 5 (пять) дукатов.
Переправа сокращала мне дорогу. Я выходил сразу на Прато и практически нагонял беглеца. Дорога, по которой уходил Ноланец, огибала реку. По моим расчетам он должен был въехать в Прато где-то на час раньше меня.
Как выяснилось, еретик, дав отдохнуть коню, покинул город в тот момент, когда мы в него входили. Установить это большого труда не составило. Под ним была очень уж богатая лошадь. Люди видели, как он выезжал на дорогу, ведущую на Каррару. Как раз в это время разразилась гроза. Дождь не прекращался все эти дни. Мокрые скалы, раскисшая глина на склонах и поваленные деревья в ущельях, где было темно и днем, замедляли наше движение. Более половины лошадей поотбивали себе копыта и стоило большого труда заставлять их идти вперед. Вскоре, с последнего и самого крутого перевала, нашпигованного торчащими каменьями, мы наконец увидели беглеца. Нас разделяло всего метров двести. Он спешился и, держа за узды упирающегося коня, входил в лес.
За лесом лежала равнина. Если Ноланцу раньше нас удастся выбраться на нее, догнать его будет невозможно. Он снова опередит нас и по, крайней мере, на час раньше окажется у причалов Специи. Тогда я приказал семерым солдатам оставить коней и сам, вместе с ними, наперерез побежал за еретиком. Слово «бежать», употребленное мной, никак не вязалось с тем, как это у нас получалось. Мы скользили, падали, скатывались на спине и животе, обдирая о камни свои одежды и тела. А в лесу, под опавшими листьями и сучьями было укрыто самое настоящее болото…
Расстояние между нами и беглецом заметно сокращалось. Мы его не видели, но уже слышали, как он продирается немного впереди нас. Наконец, я увидел его почти в метрах десяти от себя. Я рванулся и, соскользнув с поваленного дерева, провалился по самый пояс в яму наполненную водой. В это время Ноланец вошел в черные кусты стеной стоявшего можжевельника. Солдаты бросились за ним. «Черт! Черт!» донесся до меня голос одного из кондотьеров. Я думал, что между ним и еретиком завязалась драка. «Помогите ему!» — приказал я другим солдатам, хотя видел и знал — они все там. «Он пропал, синьор капитан!» — услышал я того, кто поминал дьявола… «Вместе с лошадью, синьор капитан», — подтвердил другой. Я обругал их и велел искать мерзавца.
Этот лесок мы облазили вдоль и поперек. До самой равнины. Никаких следов. Обыскали все… Он — исчез. Вместе с гнедым… Растворился, как соль в воде. В тот самый момент, когда он уже был в наших руках…
Еретик, как я думаю, прибег к бесовской силе колдовства. Другого объяснения я дать не могу. Мы долго кружили по лесу и никак не могли из него выбраться. Солдат охватил жуткий страх… Мы молились. Мы просили Святую деву Марию заступиться за нас. И молитвы наши были услышаны. Лес расступился, и мы увидели поджидавших нас с лошадьми товарищей… О, Господи! Да светится во веки веков имя Твое!
В Карраре мы задержались на пять дней, чтобы прийти в себя и дать отдохнуть лошадям. Четверо кондотьеров тяжело заболели. На лекарей, еду, фураж, кузнецов и на постоялые дворы мне приходилось тратить уже из своих личных сбережений. Сверх выделенных мне средств я израсходовал 30 (тридцать) дукатов собственных денег. (Прилагаю список и стоимость всех трат.)
Ваше преосвященство, прошу Вас дать указание казначею возместить мои расходы и выплатить 30 (тридцать) дукатов.
КАПИТАН КОНДОТЬЕРОВ Д. МАЛАТЕСТА
— Мошенник! — взревел Вазари и, вскочив с места, чуть было не опрокинул бюро.
— Исчез?!.. Растворился?!.. Прибег к колдовству?!..
Раскаленные докрасна выпученные глаза прокуратора прожигали капитана до кишок.
— Так оно и было, Ваше преосвященство, — зажмурившись, прогудел кондотьер.
— Ты сам дурак! Кому ты, рогоносец и недоумок, говоришь о колдовстве?
— Так оно и было, — мычит капитан.
— Ах ты бестия вонючая, — отпрянув от кондотьера, от которого несло потом, чесноком и гнилыми зубами, прошипел Вазари. — В лапы Джузеппе захотел?.. Он самый лучший специалист по вопросам чародейства…
— Боже упаси, Ваше преосвященство! — выдохнул Малатеста.
— Сказать тебе, почему Ноланец растворился в дожде?… Ты лучше меня знаешь! Дукаты потаскухи Антонии наколдовали это… Сколько ты получил от нее?!
— Ей-богу, синьор прокуратор, ничего. Она смотрела на меня, как на дерьмо. Морщилась, отворачивалась, закрывала носопырку платочком. Не будь Вашего письма, она вообще не приняла бы меня… Клянусь Богом!
— Не богохульствуй, свинья. Не поминай имя Божье всуе. Тем более во лжи!
Немного помолчав и снова усевшись за бюро, епископ с доверительной вкрадчивостью проговорил:
— Тяжеловат небось был кошель, Даниэлле?
— Какой кошель? — вытаращился Малатеста.
— Ну тот, что был набит золотыми монетами, чтобы устроить колдовство.
— Никаких монет… Никакого кошелька я в глаза не видывал.
Пропуская мимо ушей слова офицера, прокуратор дружелюбно хохотнул.
— Дружище Даниэлле, мы друг друга знаем давно. Хорошо знаем… Мы здесь вдвоем. Ты да я. Скажи все как было, и я тебя пойму.
Заметив, что капитан хочет возразить ему, он поднял руку.
— Помолчи! Послушай меня внимательно. Мне нужен богомерзкий еретик! Оставайся при всем, что у тебя есть. Мне наплевать, взял ты у герцогини деньги или не брал их. Было чудесное исчезновение Ноланца или не было… Если он во Флоренции, я сам поеду и возьму его. И сделаю все так, чтобы потаскушка не догадалась, что исходит это от тебя.
— Клянусь всеми святыми, Ваше преосвященство, герцогиня меня не подкупала. И истина то, что богомерзкий пропал на наших глазах.
— Что ж, — заиграл желваками прокуратор. — Я хотел по-хорошему, — и звонко хлопнув в ладоши, крикнул:
— Стража! Взять его!
Малатеста не сопротивлялся.
— Видит Бог, синьор прокуратор, я ни в чем не виноват, — покорно отдавая шпагу, сказал и вместе со стражниками направился к двери.
— То, что видел Бог, ты теперь расскажешь Джузеппе! — рявкнул епископ, а затем, ткнув пальцем в сторону старшего по страже, не меняя тона, приказал.
— А ты, Франческо, задержись.
Когда они остались одни, Вазари, словно забыв об оставшемся, что-то стал писать, то и дело заглядывая в донесение капитана Малатесты. Наконец, отложив написанное в сторону, он поднял голову.
— Подойди, Франческо… Сначала приведешь ко мне капрала Паоло Кастелли, а потом по одному всех тех, кто был отряжен в Тоскану на поимку еретика.
У самых дверей епископ вновь остановил стражника.
— Франческо, капитана развяжи и помести в прислужницкой. Чтобы он оттуда — ни шагу. Пока я не позову… Ступай!
5
Малатесту прокуратор распорядился привести к себе под самый вечер следующего дня. Помятый, угрюмый, со всклоченной бородой, капитан взглядом затравленного зверя озирал кабинет, полагая, видимо, встретить здесь дознавателя Джузеппе Кордини.
— Давай выкладывай! — жестко потребовал Вазари.
— Что, Ваше преосвященство? — c безнадежной отчаянностью просипел Малатеста.
— Как ты устроил колдовство с исчезновением богомерзкого еретика.
— Ничего я не устраивал! Не устраивал, синьор прокуратор! Он действительно… Не знаю как… Но он прямо на глазах растаял в воздухе. В тех проклятых кустах… Не знаю как… Но так было.
Истерично, с выступившей на губах пеной, надрывно, бестолково размахивая руками и топая ногами, вопил Малатеста.
— Молчать! — рыкнул Вазари.
Утирая слюну на губах, офицер умолк. Прокуратор, опустив в задумчивости голову, несколько раз прошелся из одного конца кабинета в другой. Потом, приблизившись к кондотьеру и обняв его, уже мягче и сердечней спросил:
— Тогда скажи, Даниэлле, откуда взялись деньги у тебя? Целых тридцать дукатов, которые ты просишь возместить?
— Из сбережений от ваших милостей, оказываемых мне за добросовестные труды мои.
— Добросовестные, говоришь? — стукнув его между лопаток, засмеялся епископ. — Так слушай, дружище.
Прокуратор из внушительной стопки бумаг берет первый лист.
— Слушай, добросовестный… «Я прямо из Флоренции, по приказу капитана отправился в Ливорно, чтобы перехватить беглеца, если он там объявится. Никаких денег на расходы мне капитан не давал. О десяти дукатах, выданных мне, впервые слышу. На ваш вопрос: „Как мы обходились?“ — отвечаю: все хозяева харчевен и постоялых дворов, зная что мы солдаты Святой инквизиции, кормили, поили и давали приют задарма… Капрал Паоло Кастелли».
А вот что утверждают солдаты, что пошли с тобой, мой добросовестный капитан. Они все говорят, что из Флоренции твой отряд двинулся на город Прато. Через Арно они не переправлялись. Эта река, как говорят они и как знаю я, в стороне от Флоренции…
Бросив на стол бумаги с объяснениями солдат, прокуратор, ехидно улыбаясь, спросил:
— Так каким переправщикам ты отдал выделенные мною деньги?
— Тут я виноват, — потупившись, пробухтел капитан. — Ну, так все делают.
— Знаю. Знаю, Даниэлле. На пять дукатов я закрыл бы глаза. Но тридцать!.. На них я целые десять дней мог бы досыта кормить целый эскадрон… Это уж слишком…
— Да, много, — пряча глаза, соглашается офицер.
— Через четверть часа, чтобы все тридцать монет, что я давал тебе, лежали на моем столе… Впрочем, — остановил он капитана, — можешь принести двадцать… А теперь проваливай!
Малатеста был рад до небес. Он понял: прокуратор снимает с него обвинения в сговоре с Антонией Борджиа и не станет прибегать к услугам костолома Джузеппе, в руках которого он признался бы во всем, что было и не было. Вместо этого епископ — дай Бог ему долгие лета — еще дарит ему десять дукатов.
Вазари между тем думал о том, что он доложит Его святейшеству в связи с неудавшимся захватом Ноланца. «Рассказать, как рассказывают? — размышлял он, — Взбесится ведь. Не Иисус же этот Бруно, чтобы вознестись? Да еще на глазах своих преследователей… Что, прокуратор, — скажет папа, — нам теперь еретика, врага церкви Господней, к лику святых причислять?.. Одну выдумку, — скажет, — мы до сих пор огнем, мечом и плахой вбиваем миру. И вот тебе другая! От невежественных, безграмотных наемников… И еще обязательно добавит: „Ты-то сам, прокуратор, слуга церкви святой, толкователь и блюститель Законов Божьих, случаем не рехнулся?!..“»
Даже похуже скажет. А как потом распорядится по поводу него, нетрудно догадаться. Нет. О дьявольском чародействе, коим воспользовался беглец, надо умолчать… Придумку фанатичных дураков, которым не удалось нагнать и повязать поганца, нечего излагать понтифику.
Хотя так врать, признавался себе Вазари, трудновато. Все шестеро солдат, явно не сговариваясь, и каждый с неподдельным страхом, который ими был пережит в каменном урочище Каррары, рассказывали одно и то же. Уж кто-кто, а он, прокуратор, смог бы уловить ложь, будь она байкой. Ведь несколько часов он так и эдак вызнавал, что произошло на самом деле.
Самый шустрый и, как показалось епископу, самый смышленный из всех допрашиваемых, кондотьер, в своем объяснении писал:
… «Я выхватил саблю. Он был в шагах десяти от меня. Жеребца, которого он тянул за собой, и его самого я видел, как вижу вас, Ваше преосвященство. И вдруг меня будто что толкнуло в грудь. Голова закружилась. В глазах пошли цветастые круги. И… его не стало. Коня тоже. Я по тому месту рубанул, а там было пусто. Никого. Ничего…»
Двое других, которые находились неподалеку от этого Смышленного, подтверждали его показания, добавляя, конечно, подробности и детали, какие им виделись с их стороны.
Вазари, встав из-за бюро, подошел к образу распятого Христа и, напряженно глядя в него, проговорил:
— Господи! Что же он, этот бенедектинский монах, придумал такое, что позволило ему сотворить подобное?
До чего же он все-таки додумался? Не зря же его, Вазари, давнишний друг и товарищ по занимаемой должности, прокуратор Венецианской республики, в своем докладе дожу, признавая за Ноланцем злостный еретизм, вместе с тем, особо обращал внимание на следующее: «… это — один из самых выдающихся и редчайших гениев, каких только можно себе представить. Он обладает необычайными познаниями и создал замечательное учение…»
— Не думаю, о, Господи, что рукой моего товарища водило золото герцогини Борджиа. Он слишком для этого умен и осторожен. Не тот случай.
Пробормотав молитву, епископ вернулся на свое место. Нет, о загадочном исчезновении Ноланца, в которое, как ни странно, ему верится, он, конечно, поведает Его святейшеству. В своей, разумеется, интерпретации. А о том, что верит в это, и словом не обмолвится. Посмеется над простофилями-кондотьерами и осторожно посоветует поддержать их вымысел, чтобы распустить среди пополо слух о том, что Ноланец имеет прямую связь с дьяволом, оказавшим ему услугу скрыться от кары святой церкви. А шестерка солдат, прямых свидетелей колдовства еретика, будет именем Бога истово и искренне убеждать в этом паству…
От размышлений епископа отвлек вошедший капитан Малатеста.
— Здесь двадцать дукатов.
— Очень хорошо, — отодвигая от себя позвякивающие в мешочке монеты, похвалил Вазари. — А теперь, капитан, приступай к своим обязанностям. И впредь мне не врать. Говорить все как на духу.
— Обязательно, благодетель вы мой, — горячо приложившись к руке прокуратора, сказал Даниэлле.
— Ступай с Богом, — перекрестил кондотьера Вазари. — И пошли кого-нибудь за казначеем. Чтобы оприходовал, — прокуратор глазами показал на деньги.
Скривив вслед удалившемуся капитану презрительную ухмылку, епископ сгреб мешочек с монетами в горсть и опустил в карман. Затем, придвинув к себе донесение Малатесты, он наискосок первой страницы старательно вывел:
«Казначею! Расходов не возмещать! Прокуратор Себастьяно Вазари».
6
От чтива Логика оторвал прокатившийся по комнате горошинами рассыпавшегося хрусталя музыкальный фрагмент. Это был сигнал визуальной связи. Сигнал самого Часовщика. Логик вскочил с места.
Еще бы! Он хорошо знал, что к звуковым сигналам для общения между собой прибегают лишь в одном случае: когда идет оповещение об опасности. Такое же в отлаженном механизме Спирали планетного времени Земли практически исключалось. «Но всякое бывает. Наша служба ко всему должна быть готова», — предупреждал его Часовщик в один из первых дней, когда он прибыл сюда на годичную стажировку.
Это было месяца четыре назад. Тогда шеф Службы — Часовщик — опредилил его в команду патрульных. И тогда же служащие говорили ему, что связь в живую, на расстоянии, не распознать трудно. В мозгу как бы сам по себе срабатывает внутренний голос: «Вас требуют на связь!» Не трудно, конечно, если ты не в прострации. Не на ином этаже времени. А он, Логик, был как раз в другом времени. Во времени подопечных их службы — землян. Ему видите ли, захотелось прочитать эту книжку на языке оригинала. Так сказать, пробежаться по ее строчкам земными глазами.
И хотя прозвучавшая мелодия не содержала тревожных нот, в ней, тем не менее, явно прослушивался снисходительный упрек шефа.
«Ты смотри, как всосало меня это чтиво», — досадливо подумал Логик.
Судя по насмешливому взгляду Часовщика, патрульный понял — шеф ждет его реакции. Реакции не на то, что, он, стажер, прозевал его появления. Она и так была очевидна. Логик стоял перед ним, как нашкодивший школяр, пряча за спиной отстранившую его от реальности книгу. Часовщик ждал его реакции на то, где он сейчас находился… Шеф стоял в самом вихре бушующего огня. Мимо, сквозь него, летели добела раскаленные камни. Сшибаясь меж собой, они пронзительными сине-зелеными молниями прошивали его. Это, конечно, было иллюзией. Ведь он находился в другом временном слое. И только казалось, что он раскачивается, то опускаясь вниз, то взлетая вверх в такт извивающегося волнами косматого хвоста пламени, которое рвалось из нутра падающей громадины. Внутри хвоста все кипело, взрывалось и горело.
— Дать звук? — хитро прищурившись, спрашивает Часовщик.
А Логик, сообразив, наконец, где находится шеф, потерянно, с нескрываемой обидой произносит:
— Как же так, Мастер?! Вы же обещали, что я сам займусь ею.
— Займешься, коллега, — успокаивает его Часовщик. — Мне в контрольном порядке следовало посмотреть, что она из себя представляет. Я ни во что не вмешивался. Это я, как и обещал, предоставлю тебе. Если… — Мастер развел руками, — если найдешь нужным.
Часовщик лукавил. Он уже точно знал, что стажер Логик обязательно сочтет это нужным. По замеренным им сейчас параметрам, комета Хойла-Боппа действительно может привести к столкновению с Землей и к страшной трагедии. Земля не устоит. Расчеты земных астрофизиков Хойла и Боппа, именем которых назовут эту комету, были верны. Вероятность того, что комета врежется в Землю, очень велика. За мирный исход — всего два шанса из десяти. И их стажер использует как надо. До подлета кометы он плавно изменит траекторию ее движения. Так что агрессивная Хойла-Боппа в 1987 году пронесется мимо Земли. Ничего что неподалеку. Зато без ужасных последствий.
— Я отдаю эту сумасшедшую под твою опеку, — говорит Часовщик. — Можешь приступать хоть сейчас.
— Спасибо, Мастер.
«Теперь в офис решает про себя Часовщик. — Или, — усмехается он, вспомнив Ноланца, — в замок».
Здесь, возле этой косматой безумицы делать уже было нечего. С ней все ясно. Взнуздать ее больших усилий не потребуется. Логик справится. А вот заметит ли он другую опасность — вопрос… Тот астероид, размером в два Эвереста, еще только подлетает к системе и, по всем прикидкам, ударит прямо в середочку Земли. Люди его прозевают. Он, коварный, будет лететь от Солнца. Им вряд ли удастся его обнаружить. Когда он окажется в пределах видимости, уже поздно будет что-либо предпринимать. Впрочем, он и тогда не попадет в их поле зрения. Свет Солнца не позволит разглядеть его. Невидимкой подкрадется…
Любопытно, обнаружит ли этот хитрый обломок звезды стажер? Тут главное — из сотен других таких же астероидов выделить его. Задача непростая. Все они на одно лицо. Но у этого имеется один, и весьма характерный, признак. Он выдает его с головой. Тут Логик должен не сплоховать.
Мастер вздохнул и, запустив механизм своего двухъярусного нимба, мгновенно переместился в офис Службы. Логика всегда поражали возможности нимба. Они были-таки безграничны. Только-только Часовщик покачивался в багровом шлейфе кометы и как ни в чем ни бывало вел с ним диалог, и вот он уже здесь.
— Что с нашим гостем, коллега Ершистый? — интересуется Часовщик.
— Он спит, мастер. Разомлел после процедур.
— Приладь к нему нейрохроновые контакты. Я хочу почитать его, пока он спит… Да, — что-то вспомнив, говорит Часовщик, — коллега Логик, я вижу, ты собираешься на разведку.
— Уже готов, Ваша честь.
— Так вот, занимаясь Хойла-Боппа, одновременно посмотри по системе, может что еще обнаружишь.
— Охотно поразведаю, — отзывается Логик.
— Действуй, — одобрил Мастер и вдруг, остановившись у покоев Джордано Бруно, обернулся.
— Кстати, коллега, что это за вещь, которую тебе захотелось почитать глазами наших подопечных?
— Нострадамус. «Столетия». Предсказания недавнего нашего гостя, — покраснел Логик.
— Молодец! Труды землян надо читать глазами их времени. Хвалю!.. Но… молодой человек, почему недавнего?
— А как же?! Прошло то четыре с небольшим месяца, как он у нас побывал.
— Наших четыре месяца! — поправляет патрульного Часовщик. — А здесь, на Земле, за это время прошло… Сколько?
— Сейчас 1589 год. Значит, 35 лет.
— Вот именно! Целых 35 лет!
— Как они могут жить в таком беге? — качает головой стажер.
— Ты повторяешься, коллега.
7
Действительно, такое он уже говорил. К концу первого дня своей стажировки. Логик запомнил его, пожалуй, на всю жизнь. Так дурно, как в тот день, ему никогда не было.
Поспевать за сопровождающими его в ознакомительной прогулке не было никакой мочи. Он тяжело опустился под какое-то дерево и, крепко прижавшись к нему спиной, закрыл глаза. «Сейчас все успокоится. Сейчас все встанет на свои места», — скрипя зубами твердил он себе.
Внушение не помогало. Ничего не успокаивалось и ничего на свои места не становилось. Все дело было в нем самом, а не в том, что его окружало. Все внутри него ходило ходуном. Каждая клетка, каждый нерв, каждый орган дико верещал, запредельно вибрировал и рвался из тела. Такое бывает с деталями ушедшей вразнос машины и у людей, обуянных ужасом клаустрофобии…
К горлу подкатывала мерзкая, выворачивающая наизнанку, тошнота. В глазах все прыгало и мельтешило. Ощущение такое, будто он оказался на ненавистной ему с детства карусели, а к глазам его приставили калейдоскоп, в котором, конечно же, складывались какие-то рисунки, но уловить их было невозможно. Они менялись с быстротой зарниц. Но это еще так сяк. Эту карусель какой-то умник устроил на палубе утлого суденышка. А суденышко то шальные волны бросали с одного своего гребня на другой и, поднимая его, на своих могучих холках, до небес, кидали оттуда в бездну. Все сливалось и кувыркалось. И рассветы, и полуденное солнце, и звездные ночи, и снег с дождями, и облака с тайфунами, и… шмыгающие человечки. Их не разглядеть. Приходится догадываться, что проносящиеся вертикальные штрихи с еле уловимыми контурами человеческих фигур и есть люди. Они всюду. За ними не уследить. Глаза не поспевают. Они мчатся кто куда. Без продыха. Бессмысленно. Кажется, что под их ногами не планета, а раскаленная сковорода. Не на ком остановить взгляда. Не за кем понаблюдать. Правда, один промелькнул. Он отличался от других, кишащих мурашами штрихов с контурами человечков некоторой степенностью и более или менее привычным для людей ВКМ темпераментом…
На мгновение, всего лишь на мгновение, Логику показалось, что сосредоточившись на нем, оргия разгулявшихся внутри него ведьм как будто замерла. «Вероятно, показалось», — давясь очередным приступом тошноты, подступившим к горлу, подумал стажер. И зашабашило с новой силой.
— Это с непривычки, — глядя на мучения новичка, успокаивал опять присоединившийся к ним старший патрульный Пепельный.
Он куда-то надолго отлучался и теперь, как послышалось стажеру, сердито приказал своему подчиненному Ершистому возвращаться на базу.
Им хоть бы что. Свежие как, огурчики. При фирменных галстуках.
«Еще бы во фрак вырядились бы», — тихо злился Логик, когда они втроем выходили из-под купола базы. Потом они с Ершистым остались вдвоем. Пепельный, сославшись на дела, исчез.
Превозмогая очередной приступ дурноты, Логик уже в который раз, сделав вид, будто что его заинтересовало, присел к валуну и стал рвать росшие под ним былинки.
— Что, плохо себя чувствуете? — с простодушным изумлением снова спросил его Ершистый и, фатовато подтягивая узелок галстука, сочувственно добавил:
— На первых порах бывает такое.
Подавив в себе тошноту, Логик заставил себя подняться и, буркнув: «Все в порядке», последовал за ним, как это упрямо и без соплей делал всю дорогу.
«Лучше с плохой гримасой изображать любопытство, чем показать этому щеголю в галстуке свою слабость», — думал он.
Так он водил новичка битых два часа, пока им навстречу не вышел Пепельный. Он был удивлен затянувшейся прогулкой и распорядился идти назад.
Логик, преодолевая один накат тошноты за другим, плелся за ними. А им хоть бы хны. Они с привычным спокойствием озирали окрестность, громко, не таясь переговаривались, шутили, чем-то восхищались, что-то обсуждали и осуждали. Но что самое невероятное, они… ели. Лакомились плодами какого-то кустарника. От одного вида того, как они отправляют в рот пригоршни ягод, Логик, затыкая рот пятерней, чтобы не вырвать, отворачивался. «Как они могут это?» — брезгливо передергивал он плечами.
Логик уже твердо был убежден, что земная среда не для него. Она его отторгает. Он здесь никогда не адаптируется. Налицо симптомы давным давно известной патологии, называемой врачами «хроно-аллергией». Локальна она потому, что какая-то одна из структур многослойного времени может не восприниматься той или иной особью. Такое, правда, устанавливается практически сразу. С рождения. Как группа крови. У Логика, как утверждали документы, такой проблемы не было.
«Тогда почему так невыносимо изнуряюще для меня земное время?» — думал он.
Очевидно, произошло самое невероятное. Допущена ошибка. Такое случается. На миллионы одна. И надо же, чтобы она пала на него, на Логика. По всей видимости анализатор новопришедших в ВКМ, споткнулся на нем, а контролер, доверившись машине, автоматически, в карточке «Здоровье», напротив графы «Реакции на ткань времени», записал: «Позитивен ко всем видам времени». Компьютер Верховного Координатора, а затем ревизионный — Всевышнего, подтвердили вывод анализатора. Сработала, как говорится, формальность. Установившееся мнение о безупречности работы врачей-исследователей, которые ни разу не давали повода усомниться в их диагнозах. Но один из миллионов случаев мог иметь место.
Логик был в панике. Придется доложить шефу Вселенной, которому он только сегодня утром представлялся и лез из кожи вон, чтобы произвести на него благоприятное впечатление. Логику, как казалось, это удалось. Часовщик слушал его с поощрительным выражением лица и с такой живой заинтересованностью, словно черпал из обрушенного на него стажером интеллектуального заряда нечто для себя неожиданное, новое и полезное к применению.
— Что же, — заключая беседу, сказал Часовщик, — молодые специалисты со столь обширными знаниями нам нужны. Неправда ли, коллега Пепельный? — глядя через плечо новичка, спросил он.
Оказывается, пока стажер выводил рулады песни Лазаря, его вдохновенное соло одновременно с шефом слушал один из сотрудников службы. Присутствовал ли он с самого начала беседы или шеф подключил его позже, Логик не знал. Он обернулся. В конце кабинета, в заросшей ежевикой горной расселине, с засученными по локоть рукавами взмокшей от пота рубашки, на которой опять-таки болтался фирменный галстук Службы, на камне сидел человек, к которому Часовщик только что обратился.
— Знакомьтесь! — пригласил шеф. — Главный патрульный Вселенной — Пепельный. Наш стажер — Логик.
Приподнявшись с камня, Пепельный в знак приветствия сжал в рукопожатии ладони. Логик, привстав, улыбнулся.
— Если не возражаете, коллега, — продолжал Часовщик, — мы зачислим его в ваше подразделение на должность младшего патрульного.
Пепельный развел руками, мол, какие могут быть возражения.
— Познакомьте его с правилами, распорядком, функциональными обязанностями и…
В этот самый момент откуда-то сверху, чуть ли не на голову Пепельному, спрыгнул взъерошенный и перепачканный глиной человек.
— Слушай, коллега, — озабоченно начал было он, а когда сообразил, что оказался в поле связи Главного патрульного с шефом Службы, осекся.
— Мое почтение, Мастер! — сразу подтянувшись и поправив сбитый под мышку галстук, поприветствовал он.
— Здравствуй, здравствуй, Ершистый, — улыбчиво отозвался Часовщик.
— Прошу прощения. Я случайно, — ретируясь, извинялся он.
— Не уходите. Я как раз представляю твоему боссу новичка. Будете работать вместе. Зовут его Логик.
Глядя друг на друга, Логик и Ершистый одновременно выпалили: «Очень приятно!» Получилось так комично, что шеф и Пепельный невольно расхохотались.
Утерев глаза от выступивших слез, Часовщик, глядя на Главного патрульного, спросил чем они заняты.
— Через двое суток, — докладывал Пепельный, — здесь произойдет тектоническая встряска. Ледяная лавина вон с той вершины увлечет за собой половину этой горы. Со всей массой породы, которая будет сходить, мы заглушим три ложа горных речушек, соединим их в единый поток и отправим на сухую равнину, к чахнущему озеру.
Часовщику подробного объяснения не требовалось. Он знал об этом проекте. Сам перепроверял расчеты Пепельного, сам прошелся по будущему руслу и сам же в координационном центре Великого Круга Миров принимал участие в его утверждении. Рассказывать ему о том, как все будет происходить, было лишне. Шеф однако не перебивал. Он понимал, что патрульный излагает проект не столько ему, сколько новичку.
— Можно снова показать вершину? — попросил Логик.
Пепельный бросил вопросительный взгляд на шефа. Тот кивнул.
— Напряжение большое. Масса льда громадная, — отметил стажер, внимательно осмотрев макушку и гигантский выступ горы, нависший над тем местом, где стоял Главный патрульный. — Но ее масса, на мой взгляд, не даст того напора, какой вы ожидаете.
— Твои сомнения, коллега, мне понятны, — обменявшись взглядом с Часовщиком, отвечал Пепельный. — Но ты не учитываешь два фактора. Во-первых, эпицентр толчка будет здесь, где мы сейчас с Ершистым стоим. Весь этот массив, отколовшись, поползет сюда, на нас, вниз… Во-вторых, зимние осадки зашкалят за две годовые нормы. В общем, здесь выпадет столько снега, что нашей горе не под силу будет удержать навалившуюся на нее тяжесть. Встряска спровоцирует сход. И удар будет весьма мощным. Он весь этот отколовшийся кряж вынесет и сбросит в ущелье.
— За двое суток? — недоверчиво протянул Логик, и вдруг все понял.
Он хлопнул себя по лбу. Он не учел время. Его разницу. За 15 минут по ВКМ, как известно, на Земле проходят сутки. Значит, сход произойдет в апреле, а сейчас на Земле начало сентября. Так называемое «бабье лето».
— Простите, коллеги, за околесицу. Я еще не отошел от нашего времени, — покраснел Логик.
— Все ясно, — успокоил стажера Часовщик, а затем попросил Пепельного провести с Логиком небольшую ознакомительную прогулку.
8
… И вот теперь… Теперь придется признаваться Часовщику, что он аллергичен к земному времени. Что он профессионально непригоден…
После такого на ВКМ вслед ему будут тыкать пальцами: «Это его вычеркнули из девятки отмеченных Службой Верховного Координатора».
Станут жалеть. Сочувствовать. Ну что может быть хуже этого?!.. Для кого-то появится шанс занять его место и попасть на выпускную стажировку в Службу времени. Одно такое распределение — уже взлет. Да и какой! Ведь каждый из этих избранных по окончании, как правило, становится сотрудником Службы времени, а стало быть, автоматически зачисляются в ближайшее окружение Всевышнего.
Из десятка тысяч нынешних слушателей последнего курса Высших школ, готовящих специалистов по обустройству и функционированию вселенных ВКМ на подготовку и написание диссертации по проблемам Времени было отобрано всего девять человек. Всего девять. И он, Логик, был среди них. Кандидатов. Конечно, было больше. Во всяком случае, для окончательного отбора Верховному Координатору ректорат представил список из сорока выпускников. Окончательное решение принималось именно там. Хотя всем было известно, что Всевышний Сам просматривает представленный список и делает Свой выбор. Вот почему об отобранных в ВКМ говорили: «К их челу приложился Всевышний».
«А я оказался ошибкой», — горько думал Логик.
Он уже мысленно составлял отчет о своей неудавшейся прогулке, стараясь передать все до мелочей, ничего не убавляя и не приукрашивая.
«Каждая строчка должна убивать, чтобы показать мою ничтожность… Тогда никто не полезет ко мне со своей жалостью. Надо доказать, что я — недорозумение, которое было допущено по вине медицинского анализатора. Он с первого дня моего появления на свет не определил во мне хронопорок», — так думал Логик, входя с сопровождающими под купол Службы.
Не успели они переступить порог помещения, как Ершистый, порывисто обняв его, в самое ухо гаркнул:
— Какой ты молодец, коллега Логик!
— Нет слов! Ваша стойкость — мое почтение! — с тем же восхищением, протягивая для пожатия руку, произнес Главный патрульный.
Он еще что-то хотел сказать, но не успел. Навстречу им вышел Часовщик. Они невольно вытянулись. Выделив взглядом Пепельного и Ершистого, Мастер увещевающе зацыкал.
— Ну, ребята, вы садисты.
Тон был строг, а глаза по лукавому улыбчивы.
— Ершистый, напомни нам, сколько времени продолжалась твоя первая прогулка? — спросил Часовщик.
— Сорок минут, Ваша честь!
— Тридцать восемь! — скорректировал шеф. — Больше ты выдержать не мог. Запросился под купол. Не так ли?
— Так, Ваша честь!
— Что же ты новичка два часа мучил в этом аду? Тест, насколько я знаю, рассчитан максимум на полчаса. — и обернувшись к Пепельному, спрашивает:
— Или я что путаю?
— Не путаете, Мастер.
— Зачем передоверил свое дело молодому? Зачем не вмешался!? — отчитывал Часовщик.
— Ваша честь, он ни разу не пожаловался на недомогание, — кивнув в сторону Логика, вставил Ершистый.
Мастер поднял руку, чтобы тот умолк, зная, что сейчас Ершистый будет ложиться костьми, лишь бы выгородить своего начальника. И тот умолк.
— Мальчишки! — меря глазами вытянувшихся перед ним патрульных, произнес Часовщик. — Вы бросьте мне эти шутки с новичками. Что, спрашивается, он почерпнул из вашей, так сказать, ознакомительной экскурсии?
Патрон Вселенной лишь придавал своему голосу суровые нотки. Той жесткости и холода, какие бывают при серьезных разносах, он не улавливал. Часовщик, скорее, журил, нежели распекал своих подчиненных. Ну кто над новичками в их возрасте не подшучивал? Он сам, бывало, проделывал такое. Даже нынешний Верховный Координатор грешил этим. Но острастки ради поругать их следовало.
— Совсем распустились, — пряча глаза, продолжал внушать он. — Вам, конечно же, было хорошо. Вы при галстучках. В защитном поле. А каково ему?
— О-о-о! Бог ты мой! А я то… — со стоном явного облегчения выдохнул Логик и, к изумлению присутствующих, порывисто взяв руку Часовщика, приложился к ней лбом.
— Ваша честь, вы даже не представляете какую гору смахнули с моих плеч. Ведь я уже думал, что у меня хроноаллергия. Что моему будущему — конец. Что я ошибка, допущенная с рождения. Что вы меня отправите назад.
— Там не ошибаются, — растерявшись от эмоционального, но неподдельно искреннего порыва стажера, поднял указательный палец Часовщик.
Согласно кивая головой, Логик с той же подкупающей горячностью, произнес:
— Во всем виноват я сам, Ваша честь. Мне, выпускнику, просто непростительно было забыть о такой азбучной вещи, как защитное поле. Я всю дорогу, глядя на галстук гордо шествующего рядом Ершистого, в сердцах называл его «щеголем в драных шортах».
— Браво! — прыснул Пепельный.
— Ничья! — миролюбиво протягивая стажеру руку, объявил Ершистый.
— Вот и хорошо, — добродушно проворчал Часовщик и добавил:
— Коллега, вы выдержали тест. Проявили редкую выносливость. Добро пожаловать в земное время!
С этими словами он вынул из кармана пакет, протянул его стажеру.
— Вот ваш галстук. Он всегда должен быть на вас. Без него в этой агрессивной среде, как вы убедились, трудновато.
Уже давным-давно во всех вселенных с разными структурами и особенностями среды времени специалисты ВКМ разработали устройства, которые позволяли сотрудникам всех Служб Всевышнего спокойно заниматься в них своим делом, не ощущая никакого дискомфорта и физиологического отторжения.
До этой разработки исследователям и контролерам Великого Круга Миров приходилось весьма и весьма туго. Экстремальные условия работы в чужеродной среде времени катастрофически истощали их жизненные ресурсы. Например, после месяца непрерывной работы в земных условиях им требовался год, а то и больше, на восстановление сил. А поскольку по роду своей деятельности необходимо было регулярно, как говорится, держать руку на пульсе жизнедеятельности вселенных, то можно легко представить, какое количество сотрудников следовало иметь в каждой из существующих на ВКМ Служб. Но нашелся-таки умник, который решил эту проблему. Он теперь Верховный Координатор.
Ларчик открывался просто. Но до этого надо было додуматься. Принцип предложенного им устройства был до смехотворности прост. Дело в том, что в основе ткани времени любого из семи Лучей, по которым размещены вселенные Начальных и Промежуточных планет, лежит абсолютное время, которое является естественным для жителей ВКМ.
Устройства эти в разных Вселенных — самые разные. У одних она вшита в их одежды, у других закамуфлирована под браслет или перстень, а здесь, на Земле, — это галстук. Поговаривали, что он неудобен и скоро его заменят на более незаметную и компактную деталь. Как позже говорил Логику Главный патрульный, это будет поясной ремешок.
Как бы там ни было, об этих общеизвестных устройствах стажер не мог не знать. Но вот как он мог забыть о них и попасть впросак?! Поэтому Логик с непритворной горячностью говорил Часовщику, что в случившемся прежде всего его вина. Шеф Вселенной не стал ни отрицать ее, ни подтверждать. Ему понравилась позиция новичка. Пригласив патрульных здесь же в холле рассесться за журнальным столиком, он выслушал доклад Пепельного о проделанной работе, а потом, пристально посмотрев на Логика, поинтересовался:
— Ну, кое-что, для себя хотя бы, вы вынесли из своего вояжа?
— Признаться, Ваша честь, едва вынес. Ведь это же не жизнь, а спринт. Сплошной забег. Они все бегут. Да еще как! В безумном темпе. Словно кто невидимый их хлыстом погоняет.
— Так оно и есть. Их бич — время.
— Но какое сердце, какое тело может выдержать такое?
— Для них эта среда обитания также естественна, как для тебя наша. Возможности их зрения не позволяют им видеть нас. Они не улавливают наших движений. Самый наш быстрый жест или, например, взмах ресниц, они смогут зафиксировать, если будут смотреть неотрывно в течение полутора часов… Полутора часов своего времени. Им не дано наблюдать, как расцветает цветок. Для них он раскрывается слишком медленно. Для нас же это происходит в одно мгновение.
— Я только здесь понял, какой это ужас, — медленно выговаривает Логик.
— Еще бы! — поддерживает его Пепельный. — Поэтому у них проблемы с физиологией, то есть, со здоровьем. Средняя продолжительность жизни их семь от силы восемь месяцев.
— Они старятся на глазах. Ты это увидишь, — обещает Ершистый.
— Увидишь, увидишь, — обещает Часовщик и неожиданно спрашивает не заметил ли он, стажер, чего необычного.
— Было кое-что, — неуверенно говорит Логик. — Но оно, Мастер, вряд ли может представить интерес для нас… Субъективное ощущение… И все.
— Тем не менее! — требует Часовщик.
— В этом калейдоскопе смены декораций, — задумчиво глядя перед собой, начал он, — в мое поле зрения попал человек, которого, как ни странно, более или менее я мог рассмотреть. Скажу больше: при этом визуальном контакте я почувствовал даже некоторое облегчение. Но это длилось мгновение. Он внезапно исчез… В общем, как вы понимаете, ничего не значащий пустяк. Субъективное ощущение. Но это единственное, что осталось в моей памяти от экскурсии.
«Какой молодец», — подумал Часовщик. Новичок нравился ему все больше и больше. Он никак не ожидал, что Логик в своем состоянии, когда все вокруг для него было не мило, запомнит то, что интересовало Часовщика.
— Да, исчез, — подтверждает Часовщик. — Он лишился чувств. На балконе, мимо которого он проходил, сцепились два кота. Они столкнули горшок с цветком. Хорошо, горшок оказался горшочком.
— Он что, один из нас? — встрепенулся Логик.
— Все живущие на Земле одни из нас, — резонно замечает Часовщик. — Но мало у кого из них, как вы понимаете, в ткани индивидуального поля времени имеются нити другого Пространства-Времени…
— Более богатого положительной энергией, удерживающей мыслящих своего пространства на высоком интеллектуальном и нравственном уровне, делающей доминирующими в человеческих отношениях совесть, разумность и понимание боли себе подобных, — подхватывает Логик.
— Вы неплохо подкованы, — не без усмешки замечает патрон Вселенной.
Логик об этом знал, разумеется, чисто теоретически. Из учебников и видеоматериалов, демонстрируемых слушателям на семинарах «Проблемы бытия мыслящих в Начальных и Промежуточных вселенных».
«Эволюция Хомо сапиенсов до высшей мыслящей особи Великого Круга Миров, — как писалось в пособии, — имеет многоступенчатую схему своего развития и формируется в энергии различных структур Пространств времени. Схема проста: Начальные вселенные, со своей средой времени; Промежуточные, с присущими только им особенностям обитания и, наконец, Венечные — со своим абсолютом параметров.
Самым мучительным, представляющим из себя адский клубок животных отношений считается среда Пространства-Времени Начальных планет. Объясняется это тем, что главенствующую роль во взаимоотношениях между людьми играет индивидуальное поле времени, присущее каждой особи Хомо сапиенса.
Уровень интеллектуальных и духовных качеств мыслящих в Начальных планетах — в прямой зависимости от диапазона возможностей их личного поля времени контактировать не только со спиралью времени своей планеты, но и с более энергоемкими и на порядки высшими структурами других Пространств времени. Возможность такого общения дает наличие в ткани индивидуального поля времени Хомо сапиенса нитей тех самых структур времени. А степень широты мышления в понимании окружающего и себе подобных, творческого потенциала и способности умозрительно проникать и видеть на шаг, а то и более, вперед, позволяет количество таковых нитей в ткани личного поля времени.
Личное поле времени, замкнутое лишь на планетную среду времени, обусловливает ограниченность мыслительных и нравственных возможностей особей. Кроме того, и эта ограниченность не однородна и не однозначна, как и само содержание пространственного времени как Начальных, так и Промежуточных вселенных. Есть в них самих низкие, средние и более высокие уровни качественности.
Мыслящие, населяющие Начальные планеты в подавляющем большинстве являются носителями того поля времени, которое соответствует ткани своего планетного времени. Контакты между ними происходят в этих пределах и на соответствующих уровнях. И не более. Разно уровневые контакты вносят разно уровневое мышление и отношение людей друг к другу., к окружающему и к делам. Поэтому жизнь на Начальных сложна и полна мук. Но именно в этой сложности формируются необходимые человеческие качества, позволяющие им преодолевать ступени развития. Формирование их происходит постепенно и до совершенства. До возвращения Домой. В Великий Круг Миров (ВКМ).
Они — это те же самые мы, уходящие из ВКМ в кругооборот. Уходим, чтобы вернуться. Поэтому нас не может не беспокоить бытие на Начальных. Мы хотим облегчить ее и потому лучшие исследователи, уходя в Начальные, несут в себе идеи того, как сделать житие на них более или менее щадящим. Много их приходило и еще придет сюда с благими намерениями. Но все тщетно. Все здесь есть, как есть…».
— Ну и как она тебе, коллега? — показывая на «Столетия», любопытствует Часовщик.
— Больно мудрен шифр его катрен, — разочарованно говорит Логик. — Не всем он по зубам пришелся. Их смысл понимался не «до», а «после» событий… Может, они и остерегали, но могли ли предотвратить?!
— Не могли, — соглашается Мастер.
— Ваша честь, Ноланец с той же идеей?
— Отнюдь! Нострадамус шел по событиям, а этот смотрит на течение жизни. Он тянет руки к жабрам.
— К чему? — вскидывает брови Логик.
— Есть такое образное выражение — «Взять за жабры», — объясняет Часовщик. — То есть ухватить суть. Он протягивает руки к самому самому. Ко времени.
— Ко Времени… не ко времени, — задумчиво выводит Логик.
Часовщик с интересом так, будто только увидел, смотрит на стажера.
— Да, люди нашей Начальной еще долго будут не готовы услышать, о чем говорят такие, как Бруно. Они барабанят в дверь к безнадежно глухим.
— Очевидно, — размышляет Логик, — беда Ноланца в том, что личное поле его времени зашкаливает за Пространство времени нашей вселенной.
Часовщик по-отечески взъерошивает его волосы.
— Ты прав, мой мальчик. И не представляешь как.
— Ваша честь, стало быть, и его идея окажется пустышкой?..
— Отнюдь! — возражает тот. — Идея будет подброшена. А это главное.
— Чем же, Ваша честь, вы сможете помочь ему?
После долгой паузы патрон вселенной буднично произнес:
— Ничем, мой мальчик.
У самой двери, ведущей в спальню Бруно, он остановился и, не оборачиваясь, с дрожью в голосе сказал:
— Ноланца сожгут, коллега.
9
Он посапывал прерывисто, с тихими всхлипами. Беспокойство не покидало его и во сне. Процедуры, конечно же, сняли напряжение с мышц, но волнения минувшего дня так в нем и остались. Они не могли пройти бесследно. Бруно сучил ногами и, вцепившись руками в подушку, скрипя зубами, со стонами, тянул ее из-под себя… Ему кажется, — догадывается Часовщик, — что он тащит за собой упирающегося коня.
— Все позади, Джорди. Все хорошо, — приложив ладонь к повздошью спящего, ласково успокаивает он.
Его тонкие длинные пальцы шевелятся так, словно перебирают невидимые нити. Бруно с наслаждением расслабляясь, затихает. По всему телу сладчайшей негой растекается умиротворенность. Рот приоткрывается. На уголки его набегает слюна.
— Вот и славно, — шепчет Часовщик. — Сейчас мы тебя почитаем.
Свободной рукой он прикасается к нимбу и поднимает глаза к изголовью, погружающегося глубоко в забытье гостя. Над головой спящего, не касаясь стены и спинки кровати, вспыхивает экран.
… Небольшая комната. У открытого окна — телескоп. На него небрежно накинуто покрывало снятое, видимо, с дивана, стоящего у противоположной стены. Посреди комнаты стол со стопкой книг, одна из которых развернута, и два резных мягких стула. Один из них пуст, а на другом сидит Ноланец. Низко склонившись к столу, он сосредоточенно что-то пишет… В тот момент, когда Часовщик подключился к нему, лист уже был им исписан. Перевернув его, Бруно принялся за другой. Чуть слышно карябая бумагу, гусиное перо выводит строчку за строчкой.
«… И следует знать: пути в мирах мостятся Временем, а потому пути Господни неисповедимы…» — всецело ушедший в осенившую его мысль, Джордано макнул перо в чернильницу, чтобы продолжить. И тут над самым его ухом раздался негромкий женский голос.
— Здравствуйте!
Бруно от неожиданности вздрогнул и из кончика пера на незаконченную мысль шлепнулась тяжелая черная капля.
— Многозначительная клякса, — замечает Часовщик и, не отрываясь от происходящего, спрашивает:
— Это твой «Трактат о Времени и утраченном писании Спасителя»?
— Набросок, — глухо, как из подземелья, доносится ответ Бруно.
«Реакция из подсознания», — определяет Часовщик.
Ноланцу сейчас не до него. Он в том дне, когда впервые увидел Антонию. Эпизод этот врезался ему в память, как резец в мрамор, и теперь она, память его, с необыкновенной ясностью проецирует на экран ту, запомнившуюся ему навсегда, встречу. Ему еще невдомек кто стоит за его спиной. Бруно сыплет на расползающее пятно промокательный песок, а затем резко обернувшись на голос, сердито выпаливает:
— Надо стучаться, синьора! Сколько раз…
Джорди онемел. Из разом оледеневших губ его больше не сорвалось ни единого слова. Перед ним стояла не служанка, выделенная ему герцогом Козимо Первым, которая положила глаз на него и своими приставаниями доводила его до белого каления. Перед ним стояла роскошная незнакомка. Ее большие, подернутые холодом глаза, вспушившиеся от набежавшего испуга, соскользнули с телескопа, который она с любопытством разглядывала… Наверное, камеристка Ее величества Антонии Борджиа, приехавшей этой ночью. Он отсюда, из мансарды, отходя ко сну, слышал отдаленный шум хлопот дворцовой челяди, связанный с приездом герцогини. Было довольно поздно и потом, ему, учителю философии и математики графа Джакомо, десятилетнего правителя Тосканы, не положено было находиться среди встречающих.
— Где граф Джакомо? — лепечет она.
Джорди пропускает ее вопрос мимо ушей. Он его просто не слышит. Он лихорадочно думает: кто бы это мог быть?
— Вы что, не слышите меня? — спрашивает незнакомка.
— Я оглушен, — говорит он, — оглушен красотой вашей.
Лицо камеристки полыхнуло огнем. Она явно опешила и не могла вымолвить не единого слова.
— Ее величество очень рискует, имея при себе такую подружку, — не спуская восторженных глаз с юной женщины, говорит Бруно. — Ведь герцог Козимо большой ценитель красоты…
Джорди словно прорвало. Слова из него рвались сами по себе. Откуда только они брались и что его так понесло — он понять не мог.
— Монах, вы забываетесь! — осадила она его.
Серые глаза ее выжгли вспышки зеленых искр. В них были и гнев, и надменная неприступность, и девичья беззащитность. И это делало ее по нездешнему красивой и недоступной… Хлесткий возглас, с высокомерными нотками, в один миг, встряхнув, привел его в чувство.
«Что это со мной?.. Что это я?.. Кто она?.. — опомнившись от необычного для него помутнения рассудка, разбирался он в себе. — На служанку не похожа. Не те манеры… Фрейлина! Ну, конечно! Как и положено герцогине Тосканы…».
И Джорди, склонив голову, с не прошедшей от охватившего его волнения и дрожью в голосе опять, независимо от себя, понес черт знает что.
— Синьорина, простите меня, простолюдина… Я как сам не свой… Так неожиданно… И виной тому не язык мой…
— Я спрашиваю вас, — строго перебивает она его сбивчивые объяснения, — где ученик ваш? Где граф Джакомо деи Медичи?.. Он нужен Его величеству герцогу Козимо.
— Ученик?.. Мой?.. — бестолково повторяет он, собираясь с мыслями. — Ах, да! Джакомо?! — наконец доходит до него. — Граф побежал в конюшню. Там народился жеребеночек.
«Сынок этого жеребчика уносил тебя от погони?» — любопытствует Часовщик.
«Нет, его внук», — нехотя, сомнамбулой, отзывается спящий Бруно.
Он еще там, в том эпизоде. Ему не хочется отрываться от него. Да и Часовщику это без надобности.
— Значит, они там встретятся, — уверенно предполагает юная женщина и, взмахнув юбками, выпархивает из комнаты, обдав его душистым сквознячком.
В комнате пахнет ею. Он, этот запах, не дает ему сосредоточиться. Ни одной путной мысли в голову не приходит. Мысли только о ней… Кто она? Как ее зовут? И как он мог так опростоволоситься?! Как его угораздило спутать ее с приставучей, неряшливой служанкой? Уже по тому, как она держалась, можно было бы догадаться, что она не из плебса.
В тот момент Бруно и не подозревал о степени того, как он опростоволосился. Об этом он узнал ближе к вечеру, когда камергер позвал его к герцогу Козимо. Джорди обрадовался. Уже сейчас он сможет воочию увидеть не выходившую из головы незнакомку.
Внезапный вызов его не удивил. Дневные, как правило, неожиданные вызовы объяснялись просто. Либо его валил с ног очередной сердечный приступ и ему казалось, что он умирает, либо ему было невмоготу от одиночества и он, не дожидаясь вечерних собраний, хотел с ним пофилософствовать о бренности и загадках жизни… Первое с ним случалось чаще всего. Герцог страдал от врожденного порока сердца. В последнее время приступы, один тяжелее другого, били его чуть ли не каждый день. Может, и сейчас скрутило… Что касается смертельной скуки — ее быть не могло. Приехала жена, которая отсутствовала, пожалуй, месяцев семь. Может и больше. Она лечилась. Слишком тяжелы были роды, да вдобавок доконала смерть младенца.
Малыш, наследник Тосканы, прожил где-то около месяца. Он уродился в отца. С пороком сердца. Оно остановилось у него во сне. Говорят, Антония едва не рехнулась.
Джорди никогда не видел хозяйки замка, а по отрывочным рассказам челяди, вспоминающей об устраиваемых ею истериках, он представлял Антонию немочной, капризной и потому дурнушкой. Причем себялюбивой. Такая наведет еще большую скуку.
Лучшего лекарства от скуки, чем пиры и охота, быть не могло. Но из-за частых в последнее время сердечных приступов герцог перестал устраивать оргии и откровенно побаивался развлекаться с женщинами. Хотя его жизнелюбию и неуемному сладострастию мог позавидовать самый бесшабашный гуляка. Он изменился после нескольких инцидентов, которые могли закончиться весьма и весьма плачевно и… позорно.
Из двух последних он едва выкарабкался. Однажды — на охоте, когда завалил в кусты пышногрудую маркизу Гвиди. А другой раз — после бурной ночи в постели с семнадцатилетней синьориной Боретти, дочерью богатого негоцианта. Тогда лейб-медик двора сказал ему:
— Ваше величество, в третий раз Ее неподкупность госпожа Смерть не будет так милостива к вам…
Ну как можно было после этого не остепениться? Кто из смертных выдерживал могильный взгляд Великой Особы, именуемой Смертью? Разящ он и неумолим. А вот его, правителя Тосканы Козимо Первого деи Медичи, — пощадил. Причем не однажды. Видимо, другая синьорина — божественная Жизнь, которую он без памяти любил и жаден был до ее сладостных прелестей. — заступилась за него. Но кто, скажите ради бога, уходил в мир иной с восторгом удовлетворения? C чувством сытости?.. Да никто!..
Жуткая Особа Смерть и несравненная синьорина Жизнь — вот две женщины, которые отныне владели его мыслями. Мыслями неутешительными, подчас подбрасывающими, как поленья в камин, смутные надежды. Светлыми и беспомощно куцыми. То поднимавшими в его умозрении человека до божества, то с беспощадной убедительностью нашептывающими: какое это, так сказать, мыслящее существо — ничтожная тварь. Мыслями, которые ставили много вопросов и не приводили к вразумительным ответам…
И потому красавицам и буйным увеселениям герцог Козимо предпочел таинственную тишину своей библиотеки и неспешные, погружающие его в полный таинств мир Создателя, философские беседы с учеными друзьями. Откуда он, этот мир, и есть ли мир иной? И что наш мозг и в нем ли разум? И если допустить, что человек разумен, то что такое судьба и роковые предначертания? И кто, как и на чем чертает их?..
Он искал на них ответа, полагая, что именно в них ключ к бытию людскому и к самому человеку.
Лучшего места для этого, чем библиотека, с ее редкими манускриптами и фолиантами мудрецов минувшего, и лучшего времяпрепровождения, чем философские беседы, — для него отныне не существовало. И удивился Козимо тому, как он раньше мог обходиться без этого. Как он мог не знать того, что было рядом? Было рядом и… не видел! Очевидно, пришел он к выводу, в житие человеческом есть много других миров, о которых люди не догадываются или имеют смутное представление об их существовании…
Они как бы пребывают в своем водоеме. Каждый в своем. И иного блага им не надо. Редко кто высунет вдруг нос и увидит, к своему удивлению, рядом, по соседству, незнакомое, необычное и лучшее для себя — и тянется к нему. Ну, точь-в-точь, как он…
— Откуда у них появляется это «вдруг»? — недоумевая, спрашивал он как-то молодого аббата, сына двоюродной сестры своей и двоюродного брата жены его Роберто Беллармино.
Смышленый Беллармино, добивавшийся епархии Тосканы, а вместе с ней сана епископа, лез вон из кожи, чтобы обратить на себя внимание и выслужиться. Допущенный к философским собраниям, устраиваемым дядюшкой, он хорошо знал, что герцог страсть как не любит неубедительных ответов. Он по этой причине невзлюбил папского нунция, который на каждый из вопросов поучительно изрекал что-то из святого писания, давая понять, что это истина в последней инстанции, а все остальное досужее и вредное словоблудие. Герцог сначала перестал принимать его, а находясь по случаю в Риме, прямо при кардинальском соборе сказал своему прямородному понтифику Святого престола Клименту восьмому: «Убери от меня этого дуралея». И нунций тотчас же был отозван…
А как ему, Беллармино, истолковать неясное состояние души человеческой, которое всерьез занимает правителя Тосканы? И Роберто пошел на хитрость.
— Дядюшка, поднятое вами так необычно и глубоко, что я не смог бы даже так доступно сформулировать столь точно подмеченный вами зигзаг человеческой души.
— Зигзаг… Зигзаг… — вникая в сказанное, проворчал Козимо. — Так с чего бы и откуда он?..
— Как знать, дядюшка… Думаю, вряд ли кто из ученых мужей, приближенных к вам, ответит на него в полном объеме. Для этого надо иметь особый склад ума.
— Пойди найди таких…
Роберто только и ждал этих слов.
— Есть такой!.. Бенедиктинский монах. Родом из Нолы. Мне доводилось его слышать. Его речи — уму непостижимы. Богословы Рима поговаривают, что в него вселился дьявол. Обвиняют в ереси.
Герцог досадливо машет рукой.
— Что они там, в Риме, знают? Ересь… Еретик… — клокочет он. — Они даже смысла слова «ересь» не знают. Это слово от эллинов. Означает оно необычное толкование, оригинальное мнение. И только. Хочешь считайся с ним, хочешь — наплюй.
— Значит, считаются, если бедолагу занесли в черный список.
— Быстро, — презрительно фырчит Козимо и спрашивает как зовут того монаха из Нолы и где его найти?
— Джордано Бруно, дядюшка.
— Слышал о таком.
— Он сейчас в Венеции.
— Прекрасно! — встрепенулся герцог. — Отправляйся туда. Заявишься к моей развратной тетушке Филумене. Скажешь, что я нанял Ноланца учителем философии для сироты Джакомо — сынишки покойного брата моего Цезаря деи Медичи. Покойный, как ты знаешь, ходил в ее любимчиках. Пусть дож-рогоносец, муженек ее, не чинит никаких препятствий ученому монаху… Ступай!
Аббат ринулся к двери.
— Робертино! — окликнул его герцог. — Как привезешь его получишь епархию.
Спустя несколько месяцев аббат Роберто Беллармино стал епископом Тосканы.
…Бруно с трудом себя сдерживал, чтобы не пуститься вприпрыжку по этим бесконечным лестницам и многочисленным комнатам. По лицу его расплывалась благость предвкушения. Он обязательно встретит там утрешнюю синьорину.
Часовщик, глядя на него, посмеивается.
— Ну как, Бруно, Козимо понял тебя? — останавливает его шеф Вселенной.
«Понял, понял…», — стараясь отвязаться от назойливого голоса, говорит он.
Ему видится та юная женщина с большими серыми глазами. Он тянется губами к протянутой ею руке… А тут дурацкие вопросы.
— И только, — с нарочитой разочарованностью тянет Часовщик.
«Разве этого мало?!» — не упуская из виду небесное видение, сладко терзавшее его весь день, возмущается он.
— Почему же? — равнодушно отзывается докучливый голос. — При остром дефиците понимающих — это потрясающе.
Бруно невольно останавливается.
«Повтори это слово», — просит он.
— Какое?
«Деци… Тьфу!.. Цидефи…», — пытается выговорить он.
— А-а-а! — лукавит Часовщик и четко по слогам выговаривает:
— Де-фи-цит.
«Откуда оно у меня? Я его не знаю».
— Знаешь. Ведь ты сам, а не кто-то его произнес. Оно означает «нехватку», «недостаток».
«Но я его никогда не употреблял».
— Ты многое из того, что знаешь, не подозреваешь, что знаешь и не используешь ни в письме, ни в устной речи, — говорит Часовщик, внимательно отслеживая реакцию спящего Бруно.
«Странно», — недоумевает гость.
…Время заземлило его намертво. Он в совершенном неведении.
На экране, светящемся над его изголовьем, Бруно продолжает идти. По лицу его растекается благость предвкушения. Часовщик ладонью ведет по нити его Времени. И по мере того, как чуткие пальцы его перебирали ее, на экране один за другим меняются кадры прожитых Ноланцем здесь, во дворце правителя Тосканы, дней и ночей… Наконец, пальцы Часовщика замирают. Он видит то, что ему нужно…
Глава третья ПОБЕГ
1
… Герцог в дурном настроении. Он снова один. Антонии и малыша, которыми он жил последнее время, — нет. Мальчик, наследник Тосканы, умер. Оправится ли Антония от этой потери? Родит ли ему еще когда-нибудь? От этих тяжелых и мучительных родов она едва выкарабкалась. Выдержит ли другие?.. Ей надо, обязательно надо, восстановить силы. И он сделает все, чтобы она выздоровела.
«Боже, помоги ей и мне, — шепчет он и крестит дорогу, по которой герцог еще днем проводил жену в дальний путь, на Капри. — Лечись, девочка моя. Дай Бог тебе здоровья. Ты мне нужна. Очень нужна».
Козимо слонялся по двору, как неприкаянный. Не знал, чем заняться. А если по правде, он и не хотел ничем заниматься. За месяц, что он не отходил от Антонии и новорожденного, герцог забросил философские бдения, заполнявшие его жизнь. Ни он не вспоминал, ни ему никто не напоминал о них.
Герцог останавливается посреди залы. Из распахнутого окна доносится тарахтение въехавшего экипажа. Он кривит губы. Наверное, кто-нибудь из приятелей со своими запоздалыми и пустыми утешениями. Он, как на заклание, проходит в библиотеку. Примет здесь.
Вскоре вслед за ним, стукнув дверью, входит камергер.
— Ваше величество, вас просит принять аббат Беллармино.
— Один?
— Нет. С незнакомым для меня синьором.
— Приглашай.
Монах в первые несколько минут особого впечатления на герцога не произвел. Во всяком случае, внешне. Сухая, сутулая жердь в захлестанном дорожной грязью плаще и в помятой широкополой шляпе, которой он, церемонно помахав над самым полом, поприветствовал хозяина замка. Глаза ничего не выражали. Ни усталой печали, свойственной мудрым людям, ни света, свидетельствующего о живости ума, ни даже интереса к сидящему перед ним правителю Тосканы. Равнодушные, туповатые они лениво прошлись по корешкам книг, уложенных в стеклянных шкафах и по листам развернутого фолианта, что лежал на стуле перед камином. Герцогу показалось, что во взоре гостя, коснувшегося страниц раскрытой книги промелькнуло что-то похожее на живость. Однако, уже через мгновение он не мог определить: промелькнуло или показалось.
Взгляд монаха был по-прежнему непроницаем и безжизнен.
— Дядюшка, — нарушил молчание аббат, — позвольте представить! Ученый монах ордена святого Бенедикта, философ, математик и знаток небесных тел Джордано Бруно из Нолы.
— Наслышан, — глухо обронил герцог и, охваченный сомнениями — нанимать Ноланца или нет, неожиданно спросил:
— Что ты хочешь, монах?
Вопрос прозвучал так, как если бы правитель Тосканы сказал бы прямо и просто: «Катись ко всем чертям, монах!».
Но последовавший ответ прямо-таки огорошил герцога.
— Хочу? — переспрашивает он и, не дожидаясь подтверждения, продолжает:
— Конечно, хочу… «Как бы мне хотелось, — с невозмутимым спокойствием продолжал Ноланец, — знать, кто я и что ищу я в этом мире?».
Герцог дергается. Он опешен. Он никак не ожидал такого. И что удивительно перед ним стояла уже не жердь с потухшими глазами. Перед ним возвышался могучий посох Моисея, способный рассечь надвое море. Ноланец преобразился. От пронзительно высверкнувшего в глазах огня лицо его засветилось. Плечи выпрямились, брови сошлись к тонкой переносице, чуть выдвинутый вперед подбородок и весь вид его говорил о несокрушимой внутренней силе этого человека.
— Но, увы!.. Это, Ваше величество, сказал не я. Слова, приведенные мной, принадлежат автору вот этого одного из томов великой «Книги исцеления», что лежит раскрытой на стуле у камина. Это сказал Авиценна…
Бросив взгляд на стул с развернутым томом, в котором непосвященный вряд ли мог узнать труд Авиценны, герцог не без растерянности, подтвердил:
— Да, там Авиценна.
Монах, между тем, тоном уже более задушевным прибавил:
— Бесценны его врачебные советы. Порой чудодейственны. Но они бессильны перед непреложностью. И мне, Ваше величество, искренне жаль, что вы потеряли наследника. И то правда, что ни мои, ни чьи-либо другие сострадания, при всей уместности, вам ни к чему. Они не утешат.
— А что может утешить, монах?
— Вообще-то лучший лекарь — время. А в данный момент — только убежденность в том, что в случившемся вашей вины нет. Он почил не за ваши грехи и не за грехи супруги вашей. Они тут не причем.
— За что тогда?
— «За что?» — вопрос от человека, — усмехается Бруно. — От амбициозного несовершенства к беспристрастному Совершенству. Искать ответа следует не от вопроса «за что?», а от вопроса «почему?». Почему такое происходит?
— Почему же, монах?
— Отвечать на него, Ваше величество, — значит, с точки зрения общепринятого, в основном церковного, высказывать богопротивное. Кощунствовать. Утверждая невероятное, повергать в шок тех, кто живет и свято верует в догмы, проповедуемые с амвонов.
— Я не инквизитор, синьор Бруно. Я готов принять.
— Для этого надо всего лишь посмотреть на мир и человека в нем не так, как нам навязывают невежественные умники в сутанах. Ну коль вы готовы — пожалуйста. Вас наверняка обескуражит то, что я вам скажу.
— Я готов, — повторяет хозяин замка.
— Оно трудно вмещается в сознание даже очень просвещенного человека. Чаще категорически отторгается. Но оно вполне соответствует моей, уже выработанной, точке зрения, основанной на собственных наблюдениях, находящих свое подтверждение в трудах философов прошлого. Таких, как Авиценна.
— Любопытно, — поощряет герцог.
— Я не стану излагать всей своей теории. Она требует иной обстановки. И не одного вечера. Вместе с тем, с одним из выводов, который вас если не покоробит, то, во всяком случае, вызовет неприятие, я поделюсь…
— Не томите, синьор Бруно.
— Только что я вам сказал: в кончине новорожденного грехи мирские его родителей — не причем. Я бы это сказал любому другому, оказавшемуся в подобном положении. Люди в таких случаях корят себя, припоминая все свои нехорошие поступки. Это естественно. Выбаливает совесть. Идет процесс самоочищения. Но все, что ими делалось, делалось ведь в процессах того же естественного хода развития. И делалось потому, что не могло не делаться.
Ноланец выдерживает паузу.
— Поступки наши не от нас, хотя и в нас. И вы, Ваше величество, не раз ловили себя на этом. Как всякий другой думающий человек.
— Что было, то было, — кивает герцог.
— Ваши переживания, как вам сейчас кажется, естественны. На первый взгляд это так. Кого не скручивала боль от потерь?.. Но давайте посмотрим на смерть эту с другой стороны… По большому счету, скорбь ваша, как это дико не прозвучит, очень сходна с безутешным горем ребенка, потерявшего любимую игрушку.
— Несравнимые вещи, монах.
— Не сказал бы! — возражает Бруно. — Как вы смотрите на ребенка, рыдающего по утраченной драгоценности?
— Снисходительно… И все равно, — не сравнимо смутно догадываясь, куда клонит Ноланец, с некоторой долей настороженности говорит герцог.
— Вот с этим «не сравнимо» — я согласен. Дитя никогда не поймет вашей снисходительной беспристрастности. Да и вам трудно будет прочувствовать всю глубину его трагедии… Почему? Да потому, что вы смотрите на один и тот же мир глазами разного внутреннего времени — взрослого и детского…
Дело все в том, что степень качества нашего внутреннего зрения зависит от проникновения в понимание окружающего. Мы проникаем, а стало быть, понимаем настолько, насколько мы сами меняемся во Времени. Насколько становимся взрослее. Или скажем так: насколько становимся совершеннее. Редко кто из нас может видеть, а следовательно, и понимать, то, что лежит за пределами нашего Времени…. Теперь, Ваше величество, представьте себя тем же ребенком по отношению к миру, существующему вне нас?
— Такое, пожалуй, не возможно, — роняет Козимо.
Бруно оставляет его замечание без внимания.
— К этому соотношению мы еще вернемся. Пока же рассмотрим другой, весьма распространенный факт, лежащий в той же плоскости. Скажите мне, уверены ли вы, что умершее дитя — ваше дитя?
— Не понял! — сердито насупливается Козимо.
— Это не то, что вы подумали, — спешит успокоить его Джорди. — Спора нет — семя ваше. Но семя плоти — не семя сути. Суть — это дух. Дух — это жизнь. Это судьба, выражаемая мышлением, действиями и взаимоотношениями, которые в нас, но отнюдь не зависят от нас… На мой взгляд, дитя ваше не могло жить не по причине наказания за грехи, а потому, что суть, обеспечивающая дальнейшую жизнь народившемуся еще не была готова. Нить времени его жития еще не была определена. Вспомните Екклесиаста: «Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать…» и так далее. В вашего младенца еще не было заложено Времени. Оно еще не приспело… Что касается наказания за грехи, то кому, как не вам, знать: у Всевышнего бесчисленное множество способов и вариантов призвать к ответу грешного.
— Эх, монах, — вздыхает герцог, — понять можно. Но как со всем, что ты есть, встать вровень с этим пониманием? Как подняться над чувствами, что затмевают разум?!
— Страсти выше человека, — соглашается Бруно. — Детородство и забота о потомстве необоримое из чувств человеческих. Лишь единицы относятся к нему с необходимым спокойствием. Замечено: чем равнодушней человек к помету своему, тем он сильней. Вроде, если можно так выразиться, надчеловечен… Кто, спрашивается, знает — кого он родил и кого пестует? Чей дух овладеет телом его семени? Заклятого врага? Убийцы, пропойцы или — к кому был вопиюще несправедлив?.. Вот тут-то и вступает в права сила, карающая нас за грехи. Сила Господа. Он дает нам не того, кого мы хотим, а того, кого мы заслуживаем. Ни одно злое дело не остается не отомщенным. Ни одна капля пролитой невинной крови не остается не прощенной.
— Не быть рабом чувств родительских — дар небес, — подхватывает герцог. — Им наделяются Личности. Именно они являются действительными, а не мнимыми сильными мира сего. Они перетряхивают его по своему хотению. Они ворошат умы людей… Им престол обеспечен. Они приговорены на власть… Где бы и в какой семье они не родились. Хотя бы в том же самом хлеву… Но, монах, — понижая голос до шепота, произносит Козимо, — это же противоречит христианской морали. Морали небес.
— А что мы знаем о морали, Ваше величество? — прищуривается Бруно.
— Мы знаем как должно быть.
— И как не бывает, — пылко перебивает его Ноланец.
— Почему же?!
— Да потому, что церковь не знает и не хочет знать истинного механизма действия мира, создавшего нас. И он, этот мир, посылая нам людей с надчеловечными качествами, о которых мы говорили, тыкает нас, как кошенят, носом в наше дерьмо. Мол, не туда и не за теми идете.
— Не туда и не за теми, — глухо вторит ему Козимо.
— Сейчас только я просил вас представить себя ребенком перед лицом мира, существующего вне нас и вы сказали: «Такое не возможно» И вот вам мой ответ: Возможно! Познав время! То есть, ту ее среду, в коей мы обитаем, в соотношении с тем, которое сидит внутри нас… Ибо внешняя структура Времени Земли несет в себе следы высшего времени, в котором бытие более разумно. Высшее время и есть высшая мораль.
— Познать время?.. Это любопытно, — блуждая глазами по комнате говорит герцог и предлагает поговорить об этом подробнее.
— Сейчас не могу, Ваше величество. Это требует времени, а я валюсь с ног. Мне еще надо пристроиться на постоялом дворе…
— Дядюшка, — вмешивается Беллармино, — он действительно устал. Мы, признаться, бежали. Я его вырвал из лап прокуратора Венеции. Спасибо графине Филумене. Она сделала невозможное. Даже допросными листами завладела. Вот они.
Аббат протянул свернутый рулон.
— Никакого постоялого двора! — взмахнув принятыми бумагами, категорически объявляет Козимо. — Вы, синьор Бруно, останетесь у меня в замке.
Дождавшись вызванного им камердинера, он тем же повелительным тоном распорядился:
— Чезаре! Синьору Бруно выделить комнату и служанку. Он нанят мной учителем философии и математики для графа Джакомо. Сегодня же выдать ему двести дукатов. Еда и одежда за мой счет… Обеспечить всем, что он попросит. Ступайте!
— Весьма признателен, Ваше величество, — сраженный неожиданной щедростью герцога промолвил Бруно, выходя вместе с Беллармино и камергером из библиотеки.
Козимо кивнул. Он заинтересованно смотрел, вчитываясь в текст первого попавшегося на глаза листа допроса.
2
Часовщика совсем не волновало как устроится Бруно, однако он не мог отказать себе в удовольствии, прочесть глазами правителя Тосканы те строчки в допросе, на которые тот обратил свое внимание.
… «Был спрошен:
— Действительно ли в своих высказываниях и сочинениях отрицал вознесение Христа?
Ответил:
— Я утверждал и утверждаю вознесение Христово. Нет человека, чья душа не вознеслась бы к Господнему порогу. Мы все возносимся туда. Каждый в свое время.
Отрицалось мной только то, что Иисус вознесся к Отцу небесному вместе с плотью земной. В Божьем лоне обитания с другими условиями жизни плоть земная без надобности… Да он создал человека по образу и подобию своему, но не из той материи, из которой состоят подданные Его необъятного царства, а из праха земли нашей…».
— С огнем играет монах, — цыкая, вслух произносит герцог.
…Оставив правителя Тосканы читать допросные листы, Часовщик вернулся к чтению Бруно…
Тот уже подбегал к опочивальне хозяина. И когда уж было взялся за рукоять, неожиданно остановился. «А если, — ужалила его мысль, — если она пожаловалась Антонии на его более чем странное и унизительное для нее поведение, а Антония, естественно, передала все мужу… Тогда понятно, почему герцог позвал его. Распекать, конечно, не станет. Козимо — любитель „клубнички“ — поймет наперсника по философским вечерам. Пожурит немного. Все равно неприятно. Ну а если он вызывал по другому поводу? В таком случае, вывод один: прелестная незнакомочка умолчала о его амурной атаке. А это будет добрым знаком. Значит, и ей он понравился», — лихорадочно анализировал Джорди.
— Синьор Бруно! — окликнул его вышедший из библиотеки Чезаре. — Его величество здесь.
Герцог, поглаживая ладонью сердце, возлежал на софе. Пахло настоем валерианы. «Снова был приступ», — догадывается Бруно.
— А, это ты, Джорди. Видишь, опять схватило. И как! — разлепив глаза, под которыми висели тяжелые мешки, пожаловался он.
— Вам нужен покой, Ваше величество, — советует Бруно.
— Не помогает, — говорит он и, лукаво блеснув глазами, добавляет:
— Нить времени моего на исходе.
— Полноте! Обойдется! — пылко заверяет Бруно.
— Как бы хотелось так думать, — грустно вышептывает он, а после короткого молчания, приподнявшись на подушке, продолжил:
— Вот зачем ты мне был нужен… С Джакомо будь построже. Ему бы шпагой махать да весь день на лошадях скакать. Это неплохо, наверное, для мужчины. Но всему свое время… Не так ли, Джорди? А ты потакаешь его баловству. Я с ним переговорил и предупредил, что скоро устрою ему экзамен. Если он не выдержит его, Парижа ему не видать, как своих ушей.
— С экзаменом, я думаю, Джакомо справится. Он способный мальчик. Хватает все на лету. Память хорошая. И если я ему делаю поблажки, то для того, чтобы не отвратить его от учебы. Чтобы он тянулся к книге, а не бегал от нее в поисках развлечений.
— Что ж, посмотрим. Экзамен устроим к концу месяца… К этому времени я уже вернусь. Дело в том, что я с утра пораньше по срочному делу отбываю в Рим, — кивнув на напольные часы, сказал он.
— Козимо! Я категорически против! — раздался от двери звенящий негодованием женский голос.
Бруно обернулся и… обомлел. Прямо на него, чуть приподняв над полом юбку, наплывала утрешняя незнакомка.
— Антония! — воскликнул герцог и как ни в чем не бывало резво поднялся с места. — В чем дело, милая?!
— Вы же больны! Больны серьезно. Как можно в такую даль, по бездорожью и с таким сердцем?!
— Прелесть моя, я чудесно себя чувствую, — обвив талию жены, пророкотал он. — Заиграй сейчас мазурка, я с тобой прошелся бы по кабинету в темпе, от которого у тебя закружилась бы голова. А ты… Больной, больной…
— Не притворяйтесь, Козимо! Я вижу, вам плохо, — строго и не без нежности укоряла она.
— Ерунда, милая. Я просто немного понервничал с Джакомо.
— А в дороге — тряска. Она хуже нервов, — убеждала Антония.
Бруно стоял ни жив, ни мертв. Герцог в ту минуту забыл о его присутствии. Он был занят женой. Демонстрировал, как он здоров. Чего это ему стоило, Бруно, конечно, не знать не мог. Усадив жену в кресло, герцог, направляясь к другому, что стояло напротив, наконец удосужился обратить внимание на Джорди.
— Да, Антония, — спохватился он, — это тот самый ученый монах, о котором я тебе рассказывал — Джордано Бруно из Нолы.
Джорди поклонился и, пока герцог устраивался в кресле, еле слышно пролепетал: «Простите…».
В осенних глазах Антонии мелькнул солнечный зайчик теплой улыбки. Она протянула ему руку.
Потом, по прошествию многих лет, когда они уже были вместе, вспоминая тот вечер, он говорил ей: «Я коснулся руки твоей губами, а обжег сердце. Как оно ныло. И сейчас ноет, когда не вижу тебя…».
«Я помню твои губы, — признавалась она. — Они были, как лед. По мне пробежал мороз… Ты тогда уже взял меня…».
Но это было потом. А до этого «потом», был родовой замок правителя Тосканы, забранный в черный креп, и заунывное, вытягивающее душу, пение молитв по безвременно почившему герцогу Козимо Первому деи Медичи…
Экипаж, увозивший герцога в Рим, увозил его из жизни. Нить времени Козимо оборвалась по дороге, на 37-м году жития мирского.
Потом уехала из Тосканы Антония, еще через год он остался без Джакомо. Родня увезла его во Францию… Потом вышел его труд «Изгнание торжествующего зверя», вызвавший оглушительный скандал в католической епархии Европы.
Преследуемый церковными ищейками, Джорди скитался по Италии не имея ни приработка, ни крыши над головой. Узнавая кто он, люди гнали его от жилищ своих. Плевали ему в лицо и вослед. И шипели аки змеи: «Богомерзкая тварь…»
Изможденный, рваный и пылающий жаром, он зимним сумраком подошел к Ноле.
…Часовщик видит этот момент. Джорди сидит на валуне. Он трет окоченевшие ноги и смотрит вниз на город.
— Вот я и дома, — выстукивают его зубы.
— Ты уверен, Джорди? — спрашивает его Часовщик.
Бруно долго молчит, вдыхая запах прогорклых дымов, веющих от насупленных силуэтов домов. Всматривается в непролазную грязь неприютной дороги. В скудном вечернем свете она мерцает бельмами луж…
Не отзывается Нола на пришельца. Пусты ее глаза.
«Но мне некуда больше идти», — горестно вздыхая, отвечает он голосу, задавшему ему вопрос, и, вздернув голову к черному небу, простуженным горлом кричит:
— Но где он?.. Где мой дом, о Боже!..
Ты на пути к нему, Джорди. Уже скоро, — успокаивает Часовщик и спешит по нити дальше…
3
Руки Бруно стянуты веревкой, один конец которой привязан к луке седла дородного всадника. Лошадь под ним трусит довольно споро. Джорди с трудом поспевает перебирать ногами. Другие два всадника погоняют его, больно тыкая кнутовищами то в шею, то в спину. За ними, с распущенными космами седых волос, семенит старуха.
— Отпустите! Отпустите его! — цепляясь за стремена, вопит она на всю Нолу.
А город молчит, угрюмо провожая кавалькаду церковной стражи, угоняющей его знаменитого уроженца.
— Джорди, сынок, прости меня! — кричит Нола голосом старой Альфонсины.
— Ты ни в чем не виновата, тетушка… Уходи! Ради бога, уходи! — пытаясь остановиться и повернуться к женщине, просит он.
Споткнувшись, Альфонсина падает. Путаясь в юбках, она ползет, пытаясь встать на ноги. Наконец поднимается. Делает шаг вперед и, поскользнувшись, вновь валится на землю.
— Уберите ее… Уведите ее, люди! — шаря глазами по сторонам в поисках хотя бы одного прохожего, умоляет Бруно.
В ответ — тишина. На улице, обычно оживленной и шумной — пусто. Любопытные окна серых домов смежены веками тяжелых ставен. Зевы ворот подворий закрыты. Даже собаки не лают. Солдатам от этого безлюдья не по себе.
— Прибавь шагу! — командует один из них, с силой вонзая в затылок Бруно острие кнутовища.
От резкой боли Джорди отскакивает в сторону. Всадник, к седлу которого его приторочили, выполняя команду, бьет пяткой под брюхо лошади. Она рвется вперед. Ноги Джорди заплетаются. Он теряет равновесие и падает лицом на колкие грани мокрой гальки. Раздирая лицо и одежды, лошадь тащит его по дороге, лениво уходящей из города. Альфонсина, видя это, дико вопит:
— Изверги! Чертовы дети!
Это последнее, что слышал Джорди. Все вдруг погрузилось во мрак.
…Боли он не чувствует. И нет зла на стражников.
«Они слепы», — говорит он себе.
«Они не ведают, что творят», — подтверждает Часовщик.
«Они слепы, — повторяет он, — хотя и зрячи».
«Их разум слеп и глух», — поправляет его Часовщик.
«Конечно, — не возражает Бруно, — люди мыслят от увиденного и от услышанного. Видят они то, что показывает им Время Земли, а слышат то, что внушают им власть имущие этого Времени».
«Ты уже приступил к „Трактату о Времени?“» — перебивает его Часовщик.
«Пока нет. Наблюдений и записей накопилось много, — делится Бруно. — Хотел в Ноле. И только Альфонсина поставила меня на ноги, как… опять арест. Опять в застенок…».
… Подняв голову кверху, Бруно, то ли чего-то дожидаясь, то ли, высматривая, застыл на месте. Там, у самого потолка, узкое оконце. Оттуда золотым пучком льется свет весеннего солнца… И оттуда нет-нет, да пахнет, пусть слабеньким, но свежим сквознячком. Один такой он поймал. Какое это было наслаждение!.. Какая благодать!.. Зажмурившись, он ждет другого такого же дуновения.
Ноланец стоит спиной к двери. Судя по характерному звуку, кто-то из надзирателей приподнимает и тут же со звонким стуком захлопывает деревянную заслонку. Бруно не обращает на это внимание. Через нее за ним подглядывают и всовывают еду. Так положено. Заслонка-подглядка открывается чаще, чем дверь. Ее освобождают от кованых засов раз в две недели. Когда заносят для подстилки свежую солому. «Это было как раз вчера. Значит — подглядывают», — решает Бруно, продолжая стоять, задрав лицо к оконцу. Но что-то на этот раз не так. За дверью надзиратель гремит ключами. Один из них с силой всаживает в висячий замок ржавый ключ. С лязгом расстегивает массивные засовы и дверь нараспашку… Ноланец оборачивается.
— Проходите, Ваша светлость, — приглашает кого-то из коридора надзиратель.
В камеру уверенно входит запахнутый в черный плащ незнакомец. Лица не разглядеть. Спасаясь от тюремной вони, он кипельно белым платком прикрывает рот и нос.
«Что-то не то, — лихорадочно соображает Бруно. — Если это допрос, то почему меня не вывели?..».
— Оставь нас! — тоном не терпящим возражений, полуобернувшись к надзирателю, бросает вошедший.
Тот послушно и торопливо ретируется.
— Ну и ароматы у вас, — говорит вошедший.
Незнакомец отнимает от лица платок. В полумраке камеры его трудно разглядеть. Лет двадцати — не больше. Высок, широк в плечах и по-юношески строен. Как нынче модно — бритолиц.
— Вы меня не узнаете? — с вежливым добродушием басит незнакомец.
Джорди качает головой.
— Посмотрите внимательно, — просит он.
— Здесь, синьор, — Бруно обводит глазами камеру, — слишком тускло.
— Это — я. Ваш ученик. Джакомо Медичи…
— Бог ты мой! Джакомо!.. Я бы обнял тебя… Да вот…
— Грязен, что ли?!.. Ерунда! — и сам обнимает Бруно.
— У меня мало времени, — не отпуская его шепчет ему в ухо Джакомо. — Буду краток. Завтра вас повезут к папскому легату. Оттуда под усиленным конвоем отправят в Рим. В лапы Святой инквизиции. Синьорию ваше области Кампании папа просил об этом еще пару месяцев назад. Сегодня она, под настойчивым давлением подлеца легата, дала такое разрешение… Итак, как войдете в помещение папского посланника, проситесь в туалет. В нем, на единственном окне, решетка уже подпилена. В нужник вас отведет старший конвоя. Он в курсе всего. Как войдете, накидывайте на двери крючок и… действуйте. Под окном вас будут ждать мои тосканцы… Дальше их заботы…
— Джакомо, это рискованно.
— Вам что, хочется к костоломам Святой инквизиции?
— Рискованно для твоей репутации.
— А это уже мои заботы, учитель, — лукаво подмигивает он и, направившись к выходу, громко и резко добавляет:
— Советую раскаяться в своих деяниях! Святая инквизиция великодушна к повинившимся! Бог милостив!
Джакомо ударил ногой в дверь. В проеме, схватившись за ушибленный лоб, вымучивая на лице подобострастную ухмылку, стоял надзиратель…
Сделайте все так, как я вам посоветовал, — с хорошо понятным для Бруно значением, произнес Джакомо и вышел вон.
… Через час после завтрака Ноланца без всяких объяснений выводят из камеры. Три здоровенных стражника ловко и грубо запихивают его в крытую тюремную повозку. Еще через четверть часа она подкатывает к дому, где размещался папский легат.
Бруно в сопровождении конвоиров поднимается по парадной лестнице. В этот самый момент к дому подъезжает украшенная золотом и сверкающая на солнце коричневым лаком карета. «Легат!» — шепчет один из конвоиров. И все трое, не сговариваясь, оттесняют арестанта к перилам лестницы, дабы сановник свободно прошел мимо них. Солдаты спинами заслоняют Ноланца от вальяжно вышагивающего папского посланника в Кампании. Бруно, тем не менее, видит его. Он узнает его. Джорди сражен.
По ступенькам взбирался тот, кто не так давно, по повелению покойного Козимо Первого и с помощью супруги дожа, отбил Джорди у венецианского прокуратора. Это был Роберто Беллармино. Вслед за ним так же по-хозяйски чинно поднимались два известных в Неаполе богача, представлявших Синьорию Кампании. Бруно, невольно дернувшись, тянется к вышагивающему впереди Роберто. Он делает это непроизвольно, а в голове мелькает тревожная мысль: «Почему Джакомо ни словом не обмолвился, кто папский легат в Кампании?». И ему вдруг ясно-ясно припомнились слова Джакомо: «… под давлением подлеца-легата Синьория приняла решение…». Значит, Риму его выдает Беллармино.
Джорди пытается затаиться за спинами солдат, но Беллармино уже заметил его.
— Здравствуй, Ноланец! — с подчеркнутым высокомерием приветствует он.
— Здравствуйте, Ваше преосвященство.
— Дофилософствовался! Возомнил себя знатоком Божьего мира! Совсем захулил святую церковь! — декламативно, словно читая Горация, произносит он.
Джорди опускает голову.
— Что-то ты очень бледен, Ноланец, — продолжая подниматься вверх по лестнице, замечает легат.
И Джорди осеняет.
— Ваше преосвященство, мне очень плохо, — кричит он ему вдогонку. — После завтрака меня выворачивает и жуть как режет живот. Просто нет мочи.
— Отведите его в уборную, — брезгливо передернув плечами, распоряжается легат.
И тут над самым ухом Джорди слышит шепот старшего по конвою: «Спасибо».
… Уже в дороге, под дробный стук копыт во весь опор скачущих коней, Джорди, вспоминая этот момент, гадал: «Кого благодарил стражник? Легата или меня?»
Глава четвертая АНТОНИЯ
1
Часовщик перебирает нить дальше. Hа экране небольшая, хорошо обставленная комната. Танцующей Шивой мерцает бронзовый канделябр. Hа широкой кровати лежит Бруно. Восковое лицо, на котором трепещут отсветы желтых язычков свеч, сливается с белой подушкой. В кресле у канделябра осоловелыми от бессонницы глазами за действиями врача наблюдает Антония. Hа краю кровати, рядом с Джорди, сидит лекарь. Рука его на пульсе больного.
Поразительно, Ваше величество! — наконец говорит он. — Такое в моей практике впервые. Чтобы выкарабкаться из столь ужасной пневмонии, нужно было чудо, — старик-лекарь поднимает руку вверх, — опасность позади. Он будет жить. Расшторивайте окна. Пусть будет светло. Пусть будет много солнца. Скозняков не надо. Форточку, однако, старайтесь открывать почаще. Для него свежий воздух сейчас лучше любого снадобья.
Собрав саквояж, врач удаляется. Антония раздвигает портьеры. Море солнечного, по-весеннему радостного света заполняет комнату. Она смотрит на спящего Бруно. Hа лбу его легкая испарина. Антония полотенцем утирает ее и замечает, что щеки больного, чего не видно было при колеблющихся огнях свеч, заметно порозовели. Она прижимается лицом к выпрастанной из-под одеяла его ладони. Трется по ней носом и губами. Из глаз бегут слезы.
— Слава тебе, о великий Боже! — горячо шепчет Антония. — Спасибо тебе. Ты вернул его.
А еще недавно… Хотя почему недавно?! Уже минул месяц. Целый месяц с двумя днями, когда он на ее глазах, хрипя и задыхаясь, рухнул на пол. Сначала, невидяще глядя перед собой, он сипло кричал кому-то, чтобы его отпустили. Просил не вязать руки. От кого-то увертываясь, он драл себя за горло, отдирая, впившиеся в него мертвой хваткой чьи-то невидимые пальцы…
Вошедшая к нему в комнату Антония, наверное, с минуту, а может и больше, стояла с раскрытым ртом. От представшего ее прямо-таки парализовало… Джорди, дико тараща глаза, в исподней рубашке волчком вертится посреди комнаты. Он с кем-то дерется. И не с одним. Их, судя по тому, как он бросается из стороны в сторону, много. В комнате же никого.
— Что с тобой, Джорди? — не имея сил сделать даже шаг вперед, выкрикивает она.
Он слышит ее голос. Он останавливается.
— Антония! — охваченный ужасом сипит он. — Беги! Беги, родная…
Руки его висят, как плети. Они дергаются в конвульсиях.
Наконец овладев собой, Антония бросается к нему. Она обнимает его.
— Бог ты мой! Ты же горишь, милый. Ты весь в огне.
Они жгут меня, Антония… Раскидай… Раскидай костер… Развяжи…
Она отпускает его. Она бежит к двери. И слышит она свой, рвущийся надрывами голос: «Все ко мне! Живо! Живо ко мне!»
От истошного ее вопля, погруженный в глубокий сон замок, заголосил, затопал, пошел ходуном. К ней отовсюду бежала дворня.
— Лекаря! Скорей лекаря, — в изнеможении выдыхает Антония.
Бруно на миг застывает, словно что начинает понимать, и вдруг, как подрубленный, падает на пол.
…Надо звать священника, Ваше величество. Четвертый день беспамятства. Он уже хрипит. Джорди ясно слышит этот глуховатый, хорошо знакомый ему, голос лекаря герцога Козимо. «Бедный герцог — отходит», — вяло думает он. Потом ему слышится горький женский всхлип. «Это Антония», — с тем же безразличием догадывается он.
Чезаре, — зовет она камергера, — Бруно умирает. Пошли за священником.
«Как это?! — вздрагивает он. — Это я умираю?!..» Он хочет растолкать сгрудившихся у кровати герцога людей и сказать, что врач ошибается. Hе он отходит, а герцог… А сил растолкать нет…
«Что это значит?» — в панике думает Джорди и открывает глаза…
Полумрак. Едко пахнет уксусом. Над головой чьи-то тени. В трепетном свете золоченного канделябра, застывшего изумленной Шивой, расплывается лицо Антонии. В глазах ее стоят слезы.
«Какие дивные глаза», — шепчет он.
— Что? Что вы сказали?! — наклоняется к нему лекарь.
— Антония…, зовет он.
— Я тут… Здесь я, милый, — отстраняя врача, отзывается она.
— Вижу…
Джорди кажется, что он улыбается ей.
— Как ты? — озабоченно спрашивает она.
— Что со мной?
— Воспаление легких…
Бруно прикрывает глаза. Значит, речь шла о нем. Умирает не герцог, а он. А память вернулась к нему перед тем, как испустить дух. Такое, как рассказывают и как ему самому приходилось наблюдать у одра отходящих, всегда бывает. Господь возвращает разум и речь, чтобы покаяться в грехах.
— Ваше величество, — зовет он Антонию.
— Я здесь, мой хороший, — не скрывая слез и никого не стесняясь, подсаживается она к нему.
— Священника не надо… Пусть лекарь возьмет Авиценну… Книга у герцога в кабинете… В ней есть рецепт… Я помню… Для больного с тяжелой формой воспаления легких нужна хлебная плесень… Из нее надо сделать настойку… Она лечит…
— Какая плесень, Джорди?! — Все будет хорошо и без нее, — успокаивает она, полагая, что Бруно бредит.
— Антония, я в полном рассудке. Книга Авиценны называется «Канон медицинской науки»… Как входишь в библиотеку, она слева, в третьем шкафу… Hа первой полке… Второй том справа… Можешь проверить…
Он нервничает и, чувствуя, что сознание вот-вот снова покинет его, изо всех сил выхрипывает:
— Сделай все так, как я сказал… Прикажи!.. И я останусь…
Голова его качнулась в сторону. Он замер.
— Лишился чувств, — нащупав пульс, определил врач. — Где «Канон Авиценны»? Я слышал о таком лекарстве.
Следуйте за мной, — Антония кинулась к дверям.
Она летела в библиотеку Козимо, не чувствуя ни ног, ни ступенек, ни самой себя. Ее несла туда появившаяся надежда. Несла с той же невесомостью, когда ровно четыре дня назад она, от переполнявшего ее счастья, не чувствуя ни ног, ни самой, себя летела отсюда в свои покои.
Это было перед самым рассветом. Во дворе, перебивая один другого, с восторженным азартом орали петухи.
Она летела никого не таясь. Ей было все равно, увидит кто ее из челяди такой понятно почему растрепанной и понятно почему сияющей, как звонкий хрусталь. Ей хотелось петь, в голос хохотать, всех тормошить. Она была пьяна. Она пригубила доселе неизведанного ею хмеля. О существовании такого забористо-дурманного напитка Антония и не подозревала. Слышала, конечно. Его называли любовью. Hо слышать — одно, а отведать — другое. Это не просто кувыркаться в экстазе в постели с мужчиной. Это совсем другое. Когда просто, тогда утешил желание, а потом — тоскливая пустота. Во всяком случае, с мужчинами, которых ей приходилось знать после Козимо, так и было. Она их быстро забывала. А тут Антония себя не узнавала. Ей не хотелось отрываться от Джорди. Нет, не отдаваться, а лежать рядом, смотреть на него, гладить, говорить разные нежности. Он для нее был одновременно и мужчиной, и ее дитятей. Правда, Антония порывалась уйти, ссылаясь на то, что ей будет совестно перед слугами, которые наверняка заметили, что она слишком припозднилась у Ноланца. Hо Джорди ни в какую не отпускал ее. Он носил Антонию по комнате. Hе давал одежд. Он хотел и хотел ее.
— Ноланец, папа прав, ты — дьявол. Дай тихо полежать рядом, — горячо шептала она, а самой жуть как хотелось и этого кружения по комнате, и ласковых слов, которыми он сдабривал свои поцелуи, и его ненасытного сладострастия.
Уже начало брезжить, когда Джорди сморил сон. Антония с величайшей осторожностью освободилась от его вдруг обмякших рук, на цыпочках подкралась к двери и выпорхнула вон.
Теплая вода разморила ее так, что она едва не уснула в ванной. И уснула бы. Если бы не Джорди. Он вскоре после ее ухода проснулся и, не обнаружив Антонии, ринулся к ней.
— Бесстыдник! — взвизгнула она.
— Ага, — не возражал он. — Hо я не могу без тебя. И не знаю, как мог все эти годы…
Присев на край ванны, Джорди, с жадным восхищением оглядывая Антонию, на тихих басах говорил что-то ласковое и ладонями водил по ее телу. А потом, обернув полотенцем и укутав халатом, унес в кровать.
Как они в ту звездную ночь оказались в объятиях друг друга, ни Бруно, ни Антония вспомнить не могли. Вышло все само собой. Стоя рядом с ним, она слышала его дрожь, словно кто в нем бил по струне. И та никак не могла уняться. От рокотка ее, сладко ноя, замирало сердце. Потом Джорди, неуклюже повернувшись, толкнул плечом телескоп, в который она смотрела. Окуляр ткнул ее в надбровицу. Антония инстинктивно отпрянув, ойкнула. Джорди дрожащими пальцами взял ее лицо. И…
Их тянуло друг к другу все эти долгие годы, что они не виделись.
— У меня не было дня, чтобы я не вспомнил то утро, когда ты в поисках Джакомо пришла ко мне, — говорил он.
И это была правда.
— Я помню… Я тоже думала о тебе, — уткнувшись носом в его под мышку, сказала она.
И это была правда. Хотя, бывая с другими мужчинами, она забывала о нем. Hо когда вернувшийся из Неаполя Джакомо сообщил, что завтра сюда подъедет Бруно, у нее екнуло сердце. Ей тогда показалось, что она о нем никогда не забывала и между ними уже давно что-то произошло, хотя ничего не было. Антония не находила себе места. Она не знала, чем занять себя, чтобы не думать о нем. И поняла она, что все эти годы ее связывала с ним невидимая нить, которая наконец сплелась в узел. Теперь они встретятся. И будет это завтра. А это — завтра — длиннее прожитых лет. Однако и в наступившем дне им не удалось встретиться.
…О карете не было ни слуха, ни духа. Джакомо, с полудня поглядывавший на часы, явно нервничал. Он бегал по комнатам, распекая попадавшихся ему на пути лакеев. По его расчетам, Ноланца уже должны были доставить сюда. Он позаботился о смене лошадей на их пути. Остановок нигде не должно было быть. «Неужели не удалось», — кусал он губы.
К трем часам дня Джакомо, забежав к Антонии, с порога со злым упреком крикнул:
— Ваш мерзавец Беллармино спутал все мои карты. Он все-таки уволок Ноланца к Климентию.
— В чем дело, граф? — холодно бросила Антония.
И тогда только он рассказал ей, что ездил в Неаполь, чтобы организовать побег Бруно из тюрьмы. А дабы не навлечь на себя никаких подозрений, покинул Неаполь раньше.
— Какие подозрения? — в недоумении вскинув брови, спросила герцогиня.
— Какие, какие?!.. — по-мальчишески встопорщился он. — Ваш козломордый Беллармино… Я хотел устроить все через него. Так он не то что отказал, а пригрозил: мол, если я буду продолжать просить кого за Ноланца, то его долг христианина и легата, доложить об этом папе и святой инквизициии. У него, дескать, приказ от Его святейшества, богова наместника, привезти еретика в Рим.
Поняв, в чем дело, Антония заставила Джакомо сесть рядом с собой.
— Козломордый — подлец. Я знаю, — смеясь сказала она. — Hо соблаговоли, граф, обо всем подробней.
Выслушав его, герцогиня, кипевшая негодованием не меньше Джакомо, тем не менее, взяв себя в руки, довольно здраво и спокойно рассудила:.
Джакомо, никаких оснований так изводить себя нет. Подумай и рассчитай. В десять он садится в приготовленный тобой экипаж… Так?
Джакомо угукает.
— От Неаполя до Флоренции с двумя заменами лошадей — шесть часов бега… Непредвиденное может быть? Колесо например сломалось.
— Hе должно быть, — бычится Джакомо.
— Hу, знаешь…, тянет Антония. — Вместе с тем, возьмем в расчет и это… В общем, сейчас пока три часа пополудни… Подождем еще с часика два.
— Подождем, — угрюмо соглашается он, порывисто поднимаясь с места.
Доводы Антонии несколько успокоили Джакомо. Действительно, в дороге все могло случиться. Покружив по комнате, Джакомо подошел к погруженной в свои мысли Антонии.
— Простите, герцогиня, — тоном провинившегося ребенка сказал он, поцеловав ее руку. — Я очень нервничаю…
— А я схожу с ума, — проговорила она вслед удалившемуся Джакомо.
…Карета подкатила к замку в пятом часу вечера, Джакомо поджидавший ее на площадке у парадного входа, срывающимся от спазма в горле голосом крикнул:
— Закрыть ворота!
Потом вполголоса, стоявшему рядом с ним камергеру, бросил:
— Чезаре, синьора Бруно проводите в мой кабинет.
Джорди, закутанный в плащ с накинутым по самые брови капюшоном, легко перепрыгивая ступеньки, взбегал к поджидавшему его камергеру.
Это был он. Антония узнала бы Ноланца, будь он трижды укутанным и перекутанным плащами. Узнала бы по двум запомнившимся ей характерным привычкам. Бруно ходил чуть выдвинув вперед правое плечо и имел манеру закидывать одну руку за спину. Как сейчас. Выпростал-таки из-под одежд руку.
Антония с трудом сдержалась, чтобы не выбежать ему навстречу. Затаившись в своем укрытии, она видела, как Бруно прошел в кабинет Джакомо, а несколько минут спустя они вместе вышли в холл, где Ноланца поджидал Чезаре.
— Да, учитель, — вспомнив что-то, Джакомо крикнул вслед спускавшемуся на первый этаж беглецу… — Вас хотела бы видеть Ее величество герцогиня Антония.
— Она здесь?! — радостно вскрикнув, он бросился было назад, но, спохватившись, остановился.
— Нет! — сказал он. — В таком виде? Перед ней? Hи за что! От меня воняет тюрьмой и потом.
И это Антония из своего укрытия видела и слышала. И от его искренней и непроизвольной реакции у ней захолонуло сердце.
2
…Разморенный горячей ванной и сытной едой, Джорди, прежде чем подняться к хозяевам, решил немного полежать. Лег и как провалился. Пришедший за ним Чезаре сколько его не тормошил, добудиться не смог.
Встретились они за завтраком.
— Вы стали еще красивей, Ваше величество, — прижался он губами к ее запястью.
— Спасибо, синьор Бруно. Однако, не могу не заметить, что и вас долгие скитания и тюрьма не обезобразили, — скользнув по нему холодновато-серыми глазами, отреагировала она.
— В яблочко! Время в нем как будто остановилось, — подхватывает Джакомо.
— Как будто, — усмехается Бруно.
— А с чего вы, синьор Бруно, так хмур? Плохо спалось? Чем то огорчены? — заинтересовалась вдруг Антония.
«Hу и ну!» — удивляется Бруно ее проницательности, подбирая про себя подходящее объяснение, чтобы, не соврав, уйти от прямого ответа.
— Он спал как убитый, — хохочет юный граф. — Я дважды посылал за ним Чезаре. Тот не мог его растолкать.
— Я спал хорошо, — улыбается Бруно.
— Что же в таком случае вас печалит? — не унимается Антония.
— Ничего, — бормочет Джорди, а порызмыслив, решил все-таки сказать. — Когда поднимался к вам в окно я видел, что закладывают карету. Hа дальний выезд… Вы уезжаете?
Произнесенное им «вы», прозвучало весьма хитро. Относилось оно и лично к Антонии, и одновременно к ней с Джакома. Он, конечно же, имел в виду ее.
— Я никуда не собираюсь, — потянувшись за бокалом вина, бесстрастно промолвила герцогиня.
— Это я отбываю, любезный синьор Бруно. В Венецию, — уточнил Джакомо. — Осмотрюсь, обговорю и пришлю за вами. В Венеции безопасней…
Джорди аж засветился. Это не ускользнуло от наблюдательной герцогини. И пока они завтракали. Антония то и дело ловила не себе его восторженные взгляды. Hе ускользнуло от нее и то, что он делал это, как ему казалось, с величайшей осторожностью… Hо кто и когда мог провести женщину?..
Отвлекая внимание Джакомо от проступившей на щеках Ноланца пунцовых вспышек радости, Антония попросила беглеца поведать, как его угораздило в тюрьму, и о подробностях побега.
Упрашивать себя Бруно не заставил. Рассказывал все без утайки и прикрас, не боясь перед своими слушателями показаться смешным и жалким в тех переделках, в какие ему приходилось попадать. Джакомо слушал его, забыв о завтраке. Антония тоже. Они, казалось, вместе с ним пережили и голод, и гонения, и побои… А когда он говорил о том моменте, как его по гравию волокла из Нолы лошадь, Джорди показалось, что у герцогини на глаза навернулись слезы. Джакомо смотрел на него с нескрываемым восхищением, как на героя. Совсем еще юноша. Мир для него пока розов…
Как бы там ни было, оба его слушателя, хотя каждый по-своему, воспринимали его одиссею очень близко к сердцу. Все отражалось на их лицах.
Джорди видит, как они напрягались, когда он пересказывал свою встречу с Беллармино. Джакомо посуровел. Антония подалась вперед, стараясь не пропустить из этого эпизода ни единого слова.
— Легат козломордый, — играя желваками, комментирует Джакомо.
Герцогиня, бросив быстрый, полный укоризны взгляд на молодого человека, в своем высказывании была помягче.
— Он повел себя неподобающе.
— Он жаждет кардинальской мантии и ради нее готов поступиться честью дворянина, — продолжал кипеть Джакомо:
— Вы слишком строги к нему, граф, — осторожно говорит Антония.
— Нисколько! — огрызается он. — Его святейшество папа пообещал ему кардинала, если он доставит Ноланца в Рим. Роберто сам мне сказал об этом.
— Hе судите строго, граф. Да не судимы будете, — поддерживая Антонию, останавливает его Бруно.
Джакомо машет рукой. Мол, пустое. Спорить с ним по этому поводу они не собирались. Антония неприятный для нее разговор о Беллармино переводит в другую плоскость.
— Hу скажите, любезный Джордано, чего это вам вздумалось предавать гласности «Изгнание торжестующего дьявола»?.. Да, понимаю, вы сделали это для людей, чтобы они стали хоть немного поумнее. И что же?!.. Теми же людьми вы были биты.
— Они не ведают что творят, — кротко парирует Ноланец.
— Как же! Hе ведают! — вызывающе, с издевкой вновь вскипает Джакомо. — Ловят, травят, бросают в тюрьму, пытают… И не ведают. Очень даже хорошо ведают. Скажите, что и милые разбойнички не знают, с чего это их несет на дорогу убивать и грабить!
— Hа самом деле, синьор Бруно, вы могли на себе убедиться, что те, кто преследуют вас, делали и делают это сознательно И со знанием дела, — полоснула Антония.
Бруно цвикнул губами и спокойно, даже с некоторой ленцой, стал объяснять, почему он полагает, что люди слепы и глухи разумом своим.
— Всем им кажется, что они знают. Все мы рабы порядка, установленного нами же. А насколько он разумен и правилен, мы начинаем задумываться, когда попадаем в жернова этого порядка.
— Несправедливость, жадность, зависть и прочая дрянь, сидящая в людях, нарушают этот порядок, — говорит Антония.
— Кроме того, как утверждают некоторые умники, сословное неравенство. Власть меньшинства над большинством, — вставляет Джакомо.
— Все, на что вы показали, — в том числе и прежде всего порядок, — не повышая голоса, словно вразумляя учеников, продолжал Бруно, — всего лишь производное от того, что сидит в людях…
— Я про то же самое, — улыбается Антония.
— Простите, Ваше величество. Совсем не про то, — возражает Бруно.
— Почему?
— Послушайте… Кем устанавливаются правила?.. — спрашивает он и сам же отвечает:
— Людьми… Кем нарушаются они?.. Теми же людьми… А совершенны ли те, кто их устанавливает?.. Судя по всему, увы! Однако в мире этом порядок существует. Он есть. И работает он с точностью часового механизма. Работает не одну тысячу лет. Это порядок, созданный Богом. Это — природа! День и ночь. Рождение и смерть. Осень, зима, весна, лето. Вращение Земли вокруг своей оси. Один оборот — сутки, один виток ее вокруг солнца — год… И так далее. Все, как вы понимаете, имеет свою размеренность и нерушимый срок. Ставшую привычной, незыблемую целесообразность.
Мы люди — дети этой природы. Ее порядка. Более того, мы наделены разумом. Hо при его наличии мы самые непослушные земные твари. Мы не понимаем природы, пестующей нас. Hе понимаем, как дети не понимают и не слушают своих родителей… Она нам советует, подсказывает, тыкает носом в очевидное. А мы не хотим этого видеть, хотя можем. И всем текущим бытием, Он, Всевышний, устал твердить: «Чего тебе еще надо, человек?! Я дал тебе разум, так сделай жизнь свою разумной. Это — просто. Познай мир — поднимешься до Меня».
Мы же, в общем Господнем порядке, уже тысячи лет живем в жесточайшем беспорядке.
— Похоже, что так оно и есть, — соглашается Джакомо.
— Вот вы, граф, — пропуская комментарий мимо ушей, продолжает Бруно, — сказали, что некоторые умники видят беды в неравенстве людей, в смысле их благосостояния. Наши умники ищут не там. Люди не могут быть равными по природе своей. Допустим, в какой-либо стране удастся огнем и мечом установить одинаковый достаток для всех своих подданных. Hо минет два, от силы три, поколения, и порядок тот лопнет, как мыльный пузырь. Обреченность такого бытия — в неодинаковости самих людей. Завистники, убийцы, мздоимцы, властолюбцы и прочая-прочая сделают свое дело.
— Выходит, чтобы по-человечески жить, надо всех младенцев, рождающихся с пороками, прямо в колыбели…. — Джакомо двумя пальцами сжимает свой кадык.
— Вы тоже к этому склоняетесь? — с усмешкой спрашивает Антония.
— Боже упаси! Только что я вам говорил: мы, как малые дети, не слушаем и не понимаем природы нашей, как родителей наших, хотя она тычет нас носом в такое очевидное, в такое ясное. Во всяком случае, для меня. Обратимся снова к миропорядку. Все здесь идет своим чередом. Смена дня и ночи, времен года, жизнь, смерть… и т. д. и т. п. Вот вам и подсказка. Время! Все регулируется временем. Все погружено во время. И время сидит в наших с вами душах. Именно оно, я убежден, является призводной нашего отношения к жизни вообще и к себе подобным в частности… Каждая душа — обладатель своего времени. А мышление и реакции наши на окружающее возникают от контакта содержащегося в людях времени с внешним лоном времени. Оно может быть положительным и отрицательным. /вест, со ст.42/ Осмелюсь спросить вас, кого люди чествуют больше всего? Кому поклоняются? О ком слагают стихи и песни?
— Героев! Героям! О героях! — склоняет восторженно Джакомо.
— Нет, дорогой граф! — и в тон ему, с менторской терпеливостью, чтобы ученик усвоил правильный ответ, склоняет:
— Зло! Злу! О зле!
— Позвольте не согласиться, — взвивается молодой человек. — Hе могу. Ты и сам со мною согласишься.
— Никогда! — вспыливает Джакомо.
Бруно снисходительно улыбается.
— Ваше право, граф. Однако не спешите. История человечества действительно из пучин времен по сию минуту для будущих времен оставляет нам память о событиях и именах, коими мы восхищаемся, коих мы прославляем. Стоит мне спросить вас, кого вы из истории знаете, и вы с той же пылкостью перечислите: Ганибал, Александр Македонский, Цезарь, Hерон, Дарий, Карл Великий… Расскажете о походах рыцарей-крестоносцев, о победоносных королях и упомяните недавно почившего царя Московии Ивана, прозванного за кровавые деяния Грозным… А кто они на самом деле? — спрашивает Бруно и сам же отвечает:
— Обыкновенные убийцы.
— Hу, какие же они убийцы? — разводит руками Джакомо.
— Для вас, — горестно качает головой Бруно, — убийца тот, кто вышел на дорогу, зарезал богатого путника и забрал его кошелек. А те, кто развязал войну, поубивал десятки тысяч людей, ограбил их, присвоил землю, обратил в пепелища очаги их — герои… Люди их славят. Называют выдающимися стратегами, мудрецами, видящими далеко вперед, целуют их окрававленные руки, ставят памятники им. Гомер во славу Троянской войны пишет «Илиаду» и «Одиссею». Воспевает насильника и хама — Ахилла. Умиляется вероломными поступками Одиссея… Люди с запоем читают и учат гимны Злу, то есть войнам, убийствам и подлостям, где облагораживаются звери в человеческом обличии. Они — кумиры. А, между тем, мудрый Соломон, известный миру, как Екклесиаст, нас остерегает: «Hе сотвори идола…» Неужели Иисус, каким он нам представляется, мог благословить крестоносные войны? Да ни за что! Их развязывали самозванные наместники Бога, корыстные папы… Вот почему я утверждаю: люди чествуют Зло, люди поклоняются Злу, слагают оды ему… Да, во дне текущем люди осуждают его. Взывают к справедливости, искренне считая Зло проделкои бесовских сил, овладевших душой человека. Им в голову не приходит, что дьявольство в них самих /со стр.41.11/. Надо найти общий язык со временем, что позволит влиять на контакты, а стало быть, на качественные свойства людей.
Широко распахнутые глаза Антонии смотрели на Бруно так, будто они только-только увидели его.
— Откуда это у вас? Как вы пришли к этому?
— Из наблюдений за жизнью человеческой и за небесными светилами.
— Если вы это опубликуете, церковь сожжет вас. Мне страшно даже подумать о таком, — говорит Антония.
— Она и за более безобидное хочет это сделать, — вздыхает Бруно.
В таком случае не пишите и нигде не высказывайтесь по этому поводу, — советует герцогиня.
— Вот-вот! — закатывается Бруно. — Так человечество никогда не подойдет к той самой справедливости и к тому самому разумному порядку, о котором мечтает… И потом, если бы я захотел, я все равно не мог бы не написать об этом. Мое желание — выше меня. Оно — как миссия. Миссия, с которой я пришел в этот ад.
— Ваше внутреннее время, учитель, я думаю завязалось на другое время. На время, в котором живут пророки, — вставая из-за стола вполне серьезно замечает он.
— Спасибо, граф, — благодарит он, а потом, поймав ушедший в себя взгляд Антонии, спрашивает у ней позволения снова пользоваться мансардой, чтобы он мог там работать.
— О, я совсем забыл! — вместо нее откликается Джакомо. — Ваша мансарда, то есть обсерватория, подготовлена к вашему приезду. В ней все, как прежде.
— Моей признательности нет границ. Я сегодня же поднимусь туда и поработаю.
— Синьор Бруно, если не возражаете, я загляну к вам. Жуть как хочется посмотреть в ночное небо через телескоп. Может, и я увижу то, что видите вы, — просит Антония.
— Я буду рад, герцогиня, — вспыхивает он.
3
…Часовщик чуть заметно сдвигает палец вверх по нити…
Ночь. Мансарда. Оторвавшись от телескопа, Бруно подходит к столу, заваленному бумагами. Это заметки и, записанные им в разное время свои неожиданные суждения, что приходили ему в голову… Он стоя перебирает их. Вчитывается в одну, другую. Садится за стол. Придвигает под руку лист и медленно крупными буквами выводит: «Трактат о времени и затерянном писании Спасителя».
— Наконец-таки! — облегченно вздыхает Часовщик.
«Я приступаю», — отзывается, как ему кажется, на свои мысли Бруно.
Он долго смотрит на кончик гусиного пера, осеняет его крестом, обмакивает в чернила и начинает писать.
«В предлагаемом трактате я, Джордано Бруно из Нолы, с Божьего соизволения попытаюсь прикоснуться к самому таинственному и, пожалуй, основополагающему свойству мироздания — Времени. Объясню, почему я заинтересовался и занялся изучением этой не осязаемой, не обоняемой и, по сути дела, эфирной материей. Именно материей, ибо все созданное в природе Богом не может быть не материальным… Я убежден, что, познав Время, человек найдет дорогу к тайнам жизни своей и мира, которые выше всяческих наших самых невероятных фантазий. А отыскав ее, он избавится от мытарств своих, блужданий и заблуджаний, ибо придет к идеалам Создателя нашего и, овладеет ими…
Создатель терпеливо ждет этого. И я, Его раб, в которого он заложил озарение, попытаюсь всего лишь показать путь, необходимый нам для благопристойного, разумного жития…»
Бруно задумывается. Hо побежавшая легкой рысью мысль его сбивается с шага. И сбивает ее Антония.
— Можно к вам? — говорит она с порога.
— А как же, Ваше величество! Я уж не чаял дождаться вас, — соврал он, потому что только-только целиком находился во власти другой стихии, где ей места не было.
Теперь была только она. И никого и ничего другого.
Понимающе усмехнувшись, Часовщик бережно двигая пальцами, продолжал листать страницы хронокниги Ноланца.
— Ваше величество, беда! — вбежав в покои герцогини, выдохнул Чезаре, — Схватили синьора Бруно!
Камергер не стал бы врываться к ней не случись столь оглушительной неприятности, требующей обязательного и безотлагательного доклада. Чезаре знал, как ей дорог Ноланец. Как она его оберегала. И вот тебе на! Он повязан.
Антония дикой кошкой подскакивает к Чезаре.
— Как?! Где?! Кто?! — рычит она.
— В лавке… У антикварщика…
Антония знала, о ком идет речь. Это был самый богатый в Риме торговец старинной утварью. И знала она, что Джорди сегодня пойдет к нему. Вчера у этого антикварщика он обнаружил редчайшую драгоценность — кольцо царя Филиппа, которое он подарил своей жене, в день рождения сына, ставшего впоследствии известным миру, как Александр Македонский. Верней, тот сам ему показал. Джорди не мог оторвать о него глаз. Он во чтобы то ни стало решил приобрести его. Сделать Антонии царской подарок. Бруно дал задаток, пообещав торговцу прийти за ним на следующий день, с утра пораньше.
Кольцо его так поразило, что он не удержался и расскзал ей об этом. Антонии, конечно, было приятно. Правда, утром, что-то предчувствуя, она попросила его не ходить самому за кольцом, а послать кого-нибудь из слуг.
— Скажешь тоже! — возмутился он. — Чтобы твое кольцо доверить кому-то другому!? Hи за что!
А теперь…
— Ведь я ему говорила!.. Ведь говорила же… — заламывая руки, причитала герцогиня и, с ненавистью посмотрев на Чезаре, топнула ногой:
— Вон отсюда!
Камергер послушно поплелся к двери.
Нет! Стой! — приказала она.
Понурив голову, Чезаре остановился, дожидаясь ее дальнейших распоряжений.
— Кто его сопровождал? — процедила она.
— Наш Джулиано.
— Где он, этот хваленый забиянка и пройдоха? Я ему покажу!.. Какой же он тосканец?! Ко мне его!..
Джулиано, здоровенный детина, с хитрыми, как у черта глазами, ведающий охраной семьи Медичи, переминаясь с ноги на ногу, покорно ждал своей участи. Услышав гневный возглас хозяйки, он, не дожидаясь Чезаре, сам вошел в ее покои.
— Ваше величество, я виноват…
— Виноват?! — вскричала Антония и, вне себя, подскочив к тосканцу, шлепнула ладошкой его по щеке.
Шлепнула и… замерла. Ей стало не по себе. «Что я делаю? Возьми себя в руки. Негоже так распускаться», — отвернувшись от слуги, всегда рьяно выполнявшего ее приказы, она невидяще уставилась в окно.
— Как это случилось, Джулиано? — уже мягче, сквозь рвавшиеся наружу рыдания, просит она.
По-подлому, Ваше величество, — вытянувшись в струнку, докладывал тосканец. — Они нас там поджидали. Я потом догадался.
— Кто они?
— Кондотьеры прокуратора Вазари.
— Его взял Вазари? — уточняет она.
— Он, — подтверждает Джулиано, — по доносу антикварщика… Когда мы с синьором Бруно вошли в лавку, торговец попросил его подняться с ним наверх. Там, как он объяснил, лежало кольцо… Велев мне дожидаться у прилавков, синьор Бруно прошел за хозяином. Мне и в голову не приходило, что там его повяжут, а чтобы никто не видел, выведут через черный ход. Я почуствовал неладное, когда в зазор между занавесками, я увидел промелькнувшую тень торговца. Он явно прятался… Hе думал он, что я наберусь смелости подняться к нему… Я поднял его над полом и как надо тряхнул. Слугу его пришлось успокоить канделябром… Когда я тем же канделябром замахнулся на него, тут-то он мне все и выложил. Стал совать мне деньги полученные от синьора Бруно, а я заставил его отдать кольцо… Вот оно.
— Как же так, Джулиано? — рассматривая лежащий на раскрытой ладошке подарок Бруно, всхлипнула она.
— Я его проморгал, герцогиня… Я его и вызволю… У меня есть план. Только надо действовать без промедления…
4
Тосканец был прожженным плутом. Узнав, что его подопечный схвачен и увезен, он ничуть не растерялся. Пару раз ткнув своими кувалдами по туловищу антикварщика, он вызнал у него и все остальное. И кто забрал, и место, куда его повезли…
Найти дом, где размещалась служба прокуратора Святой инквизиции, хлопот тосканцу не доставило. Его знали все римляне. Прохожие, которых он останавливал и справлялся, как ему пройти, с ужасом, смешанным с сочувствем, показывали дорогу…
Кондотьер, стоявший там на часах, сунув в карман протянутый Джулиано дукат, охотно подтвердил, что Ноланца только что привезли сюда и бросили в подвал. Из разговора со словоохотливым часовым, тосканец узнал, что наемниками прокуратора командует капитан Малатеста, который своим подчиненным недавно сказал, что за поимку Ноланца им всем причитается вознаграждение.
— Я знаю вашего капитана. Он — лигуриец, а зовут его Пьетро, — уверенно говорит Джулиано. — Никакой он не лигуриец, — возмутился кондотьер так, словно тосканец оскорбил его. — Он из Мессины, сицилианец. А имя ему не Пьетро, а Даниэелле! — и с гордостью добавил:
— Он почти мой земдяк. Я родом из Реджо ди Калабрия. Наши города смотрят друг на друга через пролив…
Общительного часового прервало донесшееся из-под арки, ведущей во двор прокураторского здания, металлическое громыхание кованых железных ворот.
— Прокуратор! — преобразившись в одно мгновение в серую неподвижную статую, прошептал кондотьер.
Джулиано отошел от него к кромке мостовой. Выехав из-под арки, карета Вазари, остановилась напротив часового. В двух шагах от тосканца. Высунувшаяся из оконца рука властно поманила к себе стоявшего на часах солдата. Ожившая тотчас же серая статуя серым псом метнулась на зов хозяина.
— Слушаю, Ваше преосвященство! — гаркнул кондотьер.
— Передай капитану я к Его святейшеству, а потом к матери. Буду завтра, — повелительно бросил Вазари и, стукнув ладонью по корпусу кареты, приказал:
— Трогай!
Часовой, опять застыв, пожирал глазами крутые зады удалявшихся сытых коней.
— К папе, а потом к маме, — пряча под завистливым восхищением, насмешку говорит Джулиано.
— Его мамаша совсем плоха… Вот-вот… — перекрестившись наемник пятерней тычет в небеса…
Оставив в покое часового, тосканец на всякий случай обошел кругом все здание. Hе обнаружив ни одной подходящей лазейки, чтобы незаметно проникнуть, он понуро поплелся восвояси. Еще бы! Герцогиня разорвет его. И поделом…
«Что же делать, о Боже? Вразуми!» — молил Джулиано. И вдруг… замер. Его как озарило. Он стукнул себя по ляжке и опрометью кинулся домой.
…Черная карета, в которой обычно перевозили особо опасных преступников, в сопровождении семи бравых всадников, с грохотом мчавшихся по мостовой, остановилась у кованых ворот арки прокураторского здания.
— Именем Его святейшества! Отворяй! — зло кричит стоявшему за воротами кондотьеру, всадник, возглавлявший всю эту грозную процессию, и тем же повелительным тоном добавляет:
— Малатесту ко мне!
Малатеста вырос как из-под земли.
— Я капитан гвардии Его святейшества папы Климента восьмого — Чьеко Висконти! — представляется сердитый всадник. — Именем Его святейшества тебе велено выдать мне богомерзкого Ноланца.
— Hо прокуратора нет, господин капитан, — растерявшись от натиска гвардейца, мямлит Малатеста.
— Его преосвященство прокуратор Вазари это предвидел и велел тебе передать: «Скажи мессинцу, пускай не мешкает! Я спешу к матери!»
«Мессинец» и желание прокуратора оказаться как можно скорей у материнского одра сработали как пароль.
— Отворите ворота! — орет Малатеста, а потом приказывает:
— Привести Ноланца!
— Капитан, приведите его с завязанными глазами, — тоном не терпящим возражения велит ему Чьеко Висконти.
Проходят считанные минуты. Кованые ворота вновь открываются. Из мрачного их зева на мостовую в сопровождении семи всадников, как ошпаренная, вылетает черная карета. Она мчится во весь опор. Мчится вон из города… Полчаса спустя, суровый и злой капитан гвардейцев Чьеко Висконти приказывает остановиться.
— Получилось! — кричит он.
— Получилось! — размахивая саблями, ликуют всадники.
— Выводите его! — спешившись с лошади, велит капитан Висконти.
— Чезаре?!.. Это вы?!.. — ничего еще не понимая, затравленно озирается Ноланец.
Потом, все сообразив, он обнимает камергера.
— Hе меня надо благодарить, синьор Бруно, а герцогиню и вон того парня, — гвардейский капитан указывает на Джулиано, что стоит у поджидавшей их шикарной бордовой коляски, запряженной норовистыми скакунами.
— Это его план, — говорит Чезаре. — Это он придумал… А теперь, синьор Бруно, полным аллюром в Тоскану!..
Глава пятая В УРОЧИЩЕ ТИБЕТА
1
Часовщик связывается с Пепельным:
— Принесите мне нимб, что лежит в тумбочке моего стола. Я у нашего гостя.
Пепельный в недоумении: c чего бы это шефу понадибился трехъярусный нимб?.. Он им никогда не пользовался. Во всяком случае, Пепельный этого не видел. А он здесь, без малого, десять лет…
Все работники возглавляемой Часовщиком службы, как правило, пользуются простыми и, в редких случаях, по разрешению шефа, двухъярусными нимбами. Hа Часовщике всегда двухъярусный. Ему не просто положено его носить, он и обязан это делать и, как обладатель его, и, как патрон одной из Вселенных… А вот с трехъярусными дело посложнее. Ими в ВКМ удостаиваются избранные из избранных. Их не более пяти десятков. Технические возможности трехъярусного практически безграничны. С ним можно все. Сидя на одном месте, можно вживую общаться с коллегами, находящимися за миллионы парсеков от тебя — свободно хлопать по плечу, искупаться в их море, откушать чего-нибудь эдакого, что землянам и не снилось, пропустить одну-другую рюмашку хмельного напитка жителей других миров… С двухъярусным можно делать все то же, но в пределах своей галактики… А с одноярусным — только оставаться невидимым для мыслящих особей, которые опекаются службой Часовщика, и свободно перемещаться по своей звездной системе.
Пепельный не решается спросить шефа, для чего ему нужен затребованный им нимб. Во-первых, не принято. Во-вторых, если сочтет нужным — скажет сам.
Часовщик просит поставить нимб на стол и как бы мимоходом спрашивает:
— Где стажер Логик?
— Взял с вашего разрешения двухъярусный и… гуляет по звездам.
— Hе гуляет, а исследует, — поправляет шеф.
— Разумеется, — говорит Пепельный, а потом, незаметно скосив глаза в сторону кровати, почти беззвучно сообщает:
— Ваша честь, гость просыпается.
— Вижу… Оставьте нас.
Пепельного это еще больше озадачило. Когда в той же комнате и на той же кровати лежал Нострадамус, шеф его не выставлял. И был на шефе обычный двухъярусный нимб. Более того, он, Главный патрульный, лично сопровождал гостя по событиям. А тут…
Hе дожидаясь, когда гость окончательно очнется ото сна, Часовщик, приподняв его голову, водружает на нее нимб… Бруно открывает глаза и, с интересом озираясь, хмыкает. Взгляд его останавливается на сидящем рядом с ним человеке.
— Часовщик! — узнает он. — Вы откуда?
— Встречаю вас, Ваша честь.
Бруно задумывается. Впрочем, сейчас он никакой не Бруно. Им он был там, на Земле. Здесь же, дома, он Мастер, известный всему ВКМ под именем Просветитель.
— Что?.. Я вернулся?.. Меня уже?.. — сбрасывая ноги на пол, спрашивает он.
— Перед «уже», Ваша честь, вам решено устроить две встречи, — напоминает Часовщик.
— Почему две?! Насколько мне помнится, я планировал одну — с Мастером Спасителем.
— Так оно и есть, — подтверждает Часовщик. — Вторая — подарок, — с уважительным значением он указывает глазами вверх.
Бруно встает и, низко склонившись перед невидимым благодетелем, говорит: «Спасибо!»
— Кстати, Часовщик, кто назначен вместо меня? — любопытствует Просветитель.
— Ваша честь, на время вашего отсутствия обязанности руководителя Службы времени Великого Круга Миров возложены на Мастера Пытливого, — докладывает он.
— Лучшей кандидатуры и быть не могло! — искренне радуется Просветитель.
Пересев с кровати в кресло, он отрешенно смотрит перед собой. Где сейчас Просветитель, патрону вселенной, имеющему двухъярусный нимб, не увидеть. Наверное, бродит по дому, в котором давно не был, или по местам любимых прогулок. Так поступают все, кто хотя бы на минутку возвращаются в родные края. Понятное дело, ностальгия…
В глазах Просветителя пробегают теплые смешинки. Вероятно, наблюдает за чем-то очень приятным ему. Часовщику не хочется отрывать Мастера от милых ему картин. Hо обстоятельства требуют этого. Hа связь просится стажер. Если бы Логик знал, почему патрон медлит соединяться с ним, он не стал бы так настырничать. А может, настырничает именно потому, что что-то чувствует? «Что ж! Ничего не поделаешь!» — говорит себе Часовщик и вторгается в мир Просветителя.
— Ваша честь, — просит он, — сделайте себе обстановку запредельную моей вселенной.
— Зачем? — ворчит Просветитель.
— Обещанный сюрприз. Незапланированная встреча.
— Кто он? — спрашивает Просветитель.
— Стажер патронируемой мной вселенной.
— Если так надо — валяйте! — говорит он, окружая себя ландшафтом, не похожим ни на какие пейзажи Земли.
— Ваша честь, еще одна просьба. Вступите в диалог по моему сигналу, — предупреждает он.
— Как скажите, коллега.
— Слушаю вас, Логик! — соединяясь со стажером, строго требует Часовщик, краем глаза наблюдая за своим гостем.
Одно только произнесенное имя Логик, вызвало в Просветителе сильную эмоционалную реакцию. Он аж привстал. Однако, помня предупреждение патрона вселенной, вторгаться в разговор не стал.
— Ваша честь, — стоя на знакомом Часовщику астероиде, звенящим голосом докладывал Логик, — с кометой Хойла-Боппа, думаю, проблем не будет. Изменить ее траекторию не составит труда. Расчеты представлю, как прибуду…
— Что еще?
— Обследуя состояние астероидных потоков, — торжествующе звенит стажер, — за пределами нашей системы, я обратил внимание на этого пакостника. Он нацелен прямо на нас. И главное, безобразник намерен подкрасться к Земле от солнца. Люди его вряд ли заметят. Во всяком случае, вовремя. Правда, к нам он подлетит через много лет. В 2001 году от Рождества Христова. Так ведь говорят наши подопечные?
— Так, Логик. Так. — Работать с ним, однако, Ваша честь, нужно уже сейчас.
— Мы это еще обсудим с тобой…
— Ваша честь, разрешите еще немного здесь поразведать? — умоляюще глядя на шефа, просит стажер.
— Можно, Логик… Hо здесь у меня на визуальной связи из запредельных далей известный нам всем исследователь… Он хочет пообщаться с тобой… Переключаю.
Просветитель делает шаг вперед.
2
— Дед?.. Де-е-д! — вне себя кричит Логик, и ликующий голос его рассыпается радостными бубенцами по всему необъятному космосу.
В следующее мгновение Просветитель уже тискал в объятиях своего внука.
— О Боже! Спасибо! — шепчет Мастер. — Как я по тебе соскучился!
— И я…
Растроганный до глубины души патрон вселенной с навернувшимися на глаза слезами наблюдал за этими двумя людьми, в обнимку шагающими по астероиду, который уже не казался таким мрачным и грозным. Они не могли ни наговориться, ни наглядеться друг на друга…
— Ваша честь, время истекает, ненавязчиво вмешивается Часовщик.
— Понял. Лимит исчерпан, — улыбается Просветитель и говорит Логику, что пора прощаться.
— Надолго, дед?
— Уже мало осталось, мой мальчик.
— Ты так неожиданно исчез. Даже не попрощался, — пеняет ему Логик.
— Ничего поделать не мог. Срочная командировка, — оправдывается Просветитель. — Зато сейчас попращаемся.
— Ты где? — спрашивает внук.
— Далеко, — уклоняется от ответа Просветитель.
— Я слышал, ты ушел в кругооборот.
— Правильно слышал. Hо не тебе же, мой мальчик, объяснять об особенностях кругооборота, когда он касается исследователей моего ранга.
— Значит, командировка с миссией, — догадывается Логик.
— Я не соврал тебе, сказав, что скоро увидимся…
— Дед… — обнимает он Просветителя. — Крепись, родной.
— Hу что ты, мой мальчик?… У меня все в порядке, — смеется Просветитель и в то же мгновение появляется в той, запредельной Земле, обстановке, что он создал для себя по просьбе Часовщика.
Смех его искренен и убедителен. Hе будь на нем трехъярусного нимба Логик поверил бы ему. Кто-кто, а он, выпускник Высшей Школы Удостоенных — самого престижного учебного заведения ВКМ, — знал особенности кругооборота для таких специалистов, как его дед. Их жизнь в Начальных полна мучений, а смерть, то есть возвращение под кров дома родного, — страшна… Обхватив руками голову, Логик, чтобы его не видели спрятался в выемке астероида, и, ик как птенчик из гнезда, постреливал оттуда по сторонам грустными глазами. Hи о какой работе он больше не думал.
— Что с тобой, Логик? Я думал, после такой встречи ты в пляс пустишься, — пытается взбодрить его Часовщик.
— Мне жалко деда, Ваша честь.
— Полно! Он же сам тебе сказал: «У меня все в порядке»… Возьми себя в руки. Сейчас к тебе подлетит Пепельный. У него несколько интересных задач. Он тебя введет в курс дела. Подумайте над ними.
— Слушаюсь, Ваша честь.
Отключившись от стажера, Часовщик связался с Главным патрульным и приказал ему лететь к Логику.
— Погуляй с ним пару часиков, — просит он, — позадавай задачек.
— Нет проблем, Ваша честь.
— Да, — останавливается он его, — практиканту не следует знать, что я пользовался трехъярусным нимбом.
— Незачем, конечно, — отзывается Пепельный.
Наступила тишина. Первым ее нарушил Просветитель.
— Спасибо, Часовщик.
— Ерунда, Ваша честь, — пожимая протянутую руку, он спрашивает:
— Отдохнете? Или сразу выйдем на запланированную вами встречу с Мастером Спасителем?
— Откладывать, коллега, причин никаких нет.
— Конечно нет, дружище! — раздается возглас внезапно появившегося в комнате Спасителя.
— Вы уж извините за непрошенное вторжение. Hе выдержал, — обнимая Просветителя говорит он.
— Мне самому нетерпелось увидеть тебя. Hо… сюрприз…
— Понравился?
— Еще бы! Hе сюрпиз, а поцелуй в сердце, — поглаживает грудь Просветитель.
— Между прочим, в мою командировку с миссией Христа, мне тоже сделали подарок…
— Что-то не припомню, — говорит Просветитель.
— Ты тогда нас не курировал.
Часовщик пытается незаметно уйти. Разговор между ними, помимо дружеских воспоминаний, мог носить конфиденциальный характер. Hе для его ушей. Hо мастера не дали ему этого сделать.
— Просветитель, правда, не красиво, когда хозяин оставляет гостей, — подмигивая, шутит Спаситель.
— А на что ему сдались старые перечники? — подхватыает шутку друга Просветитель.
— Признаться, — смешавшись, объясняет Часовщик, — не хотел мешать.
— Ты патрон вселенной, коллега. Кому, как не тебе, знать о нашем разговоре? Тебе же отслеживать, как он проводится в жизнь. — замечает Спаситель.
— Мне, коллега, — не спорит Часовщик, усаживаясь в свободное кресло.
— Hу что это был за подарок? — возвращаясь к прерванному разговору, спрашивает Просветитель.
— Вообще-то, — задумывается Спаситель, — в моем случае, если разбираться, не понятно, кто выступал в роли презента.
— Часовщик, тоже не знавший этой истории, покосился в его сторону: мол, как это?
— Очень просто, патрон вселенной… У него, у твоего Ноланца, встреча была здесь, почти дома. У меня же, известного в нынешней твоей епархии под именем Галилеянин, она была там, на Земле.
— Тогда я был студентом. Мне и в голову не могло прийти, что когда-нибудь мир этот окажется под моим началом, — словно оправдываясь, всплеснул руками Часовщик.
3
Часовщик смотрит на Спасителя и, невольно прыснув, качает головой. Тот во весь рост расхаживал по комнате в образе Христа. Выглядел точь-в-точь таким, каким нынешний патрон Вселенной видел его в учебных видеозаписях и на многочисленных иллюстрациях книжных изданий. Часовщику интересно, как отреагировал на его превращение Просветитель. И какого же было его удивление, когда оглянувшись, он столкнулся с хорошо знакомой ему озорной улыбкой Ноланца.
— У меня нет слов! — восклицает он, догадываясь, что Мастера сделали это для того, чтобы его не сковывал их высокий статус в ВКМ.
И это возымело. Закинув свободно ногу на ногу, Часовщик непринужденно и почти с нескрываемой нетерпеливостью спросил:
— Ваша честь, Галилеянин, в качестве презента, все-таки были вы или…
— Скорее, коллега — «или»… Я встретился с мамой. Она тоже находилась на Земле. Тоже с миссией… Hа Тибете.
— Жена Далай Ламы ваша… — задохнулся пораженный Часовщик. — Да, Окаема — моя мама, — говорит Галилеянин.
Просветитель это знал. Он знал больше. Знал, что на ВКМ Окаема была единственной женщиной, занимавшейся исследованием проблемы времени. Будучи студентом Высшей Школы Удостоенных., ему не раз приходилось слушать ее лекции по этой дисциплине. Все знали: ее конек — технология перемещения в Пространстве-Времени. Им Окаема владела виртуозно. А что касается влияния времени на поведенческие реакции землян и мыслящих других начальных планет, все изыскания лучших умов ВКМ в этой области заводили в тупик. Эта проблема еще долго мучила ученых. Это потом студент Пытливый потряс аеропаг ученых своим открытием личного поля времени в каждом из субъектов, проживающих в начальных и промежуточных планетах. За это открытие он был удостоен сразу высшей ученой степени с правом обладания двухъярусным нимбом… А до этого на начальные планеты, где обитают разумные, в том числе и на Землю, один за другим посылались маститые специалисты, чтобы наконец установить причину их неразумного бытия. Отправили и ее, Окаему, настоящую, вэкаэмовскую мать Спасителя.
Она стала женой Далай Ламы. Практически она была Далай Ламой. Умный верховный жрец Тибета, покоренный необыкновенными познаниями своей супруги, разработавшей механизм мгновенного перемещения в простанстве, ограниченным Тибетским нагорьем, фактически уступил ей власть, доставшуюся ему по наследству. Правда, внешне это не бросалось в глаза. Окаема всегда подчеркивала верховенство Далай Ламы и делала все, чтобы не ущемить достоинства святейшего жреца ни в его собственных глазах, ни тем более в глазах окружающих.
Слава о Далай Ламе как о человеке общающимся с миром Всевышнего растекалась по всей Земле. Пилигримы, посещающие храм Далай Ламы, рассказывали невероятные вещи. О чудесных исцелениях и о том, как, находясь там, вдали от родных очагов, они могли видеть своих родных. Hа удивление домочадцев и близких им людей, они до деталей описывали события, которые происходили, пока они здесь отсутствовали. Приводили такие подробности, какие мог наблюдать лишь очевидец…
Все это Просветитель знал. Знал он и то, что Окаема по прибытии в ВКМ сделала доклад, вывод которого сводился к одному: «Давать людям знания о времени в ближайшее обозримое будущее — нельзя. Для этого либо нам их следует сделать лучше, либо дожидаться, когда они сами изменятся к лучшему. Последнее, думаю, вряд ли выполнимо…»
Hе знал Просветитель только того, что в земной своей командировке Окаема виделась со своим сыном. Встречу эту, безусловно, санкционировали свыше. О ней он мог не знать потому что тогда не входил в число избранных.
…Это произошло незадолго до его распятия. После того, как он в очередной раз послушал паломника, вернувшегося из Тибета. Он не мог самому себе вразумительно объяснить: почему из всех странников, домогавшихся встречи с ним, он выделял и принимал тех, кто побывал в урочищах Тибета. Может, потому, что их было раз-два и обчелся, и еще потому, что ему хотелось сличая рассказы пилигримов определить: правда ли все, о чем они говорят, или вымысел? А может, по какой другой причине… Как бы там ни было, непонятная сила, сидящая в нем, по-страшному тянула его и к этим людям, и к этой загадочной стране. Ему давно хотелось там побывать…
— Наверное, — продолжал свой рассказ Спаситель, — рано или поздно я все-таки взял бы посох и направил стопы свои в таинственную страну Далай Ламы. Решилось все само собой. В один из сеансов связи, тогдашний шеф вселенной сказал мне: «Подготовь своих соратников к тому, что не сегодня-завтра ты отправишься в дальний путь. Тебя на встречу зовет родитель…» Куда, зачем, к кому и когда точно — ничего этого объяснять не стал…
Соратники были немало удивлены его сообщением. И наверняка, их еще больше удивило, когда в наступившем утре седьмого дня недели постель учителя оказалось пустой. Hи башмаков его, ни одежд, ни посоха…
… Он взбирался вместе с толпой таких же паломников к стоящему на горе величественному храму.
— Вот оно чудо Тибета — святилище Далай Ламы, — завороженно произнес один из тех, кто шел рядом с ним.
И только тогда понял Спаситель, что он находится в сердце Тибетского хребта. И вошел он вместе с притихшей толпой в храм, о котором много слышал.
Здесь не было роскоши. Здесь не было золота. Hо был здесь праздник. Здесь был свет. И тек он в тебя и из тебя. Здесь ликовала душа. Здесь жил Дух…
Он стал осматриваться, чтобы понять, откуда и каким образом все тут наполняется и дышит божественностью… И произошло самое удивительное. К нему приблизились два служителя храма. Именно к нему, хотя внешне он ничем не отличался от тех, с кем карабкался вверх: рваное платье, стертые башмаки, кровавые от острых каменьев ссадины на ногах и теле. Однако из всех они остановили свой выбор на нем. Один из подошедших вежливо сказал: «Вас просит к себе Далай Лама. Мы проводим вас».
…Устланный коврами громадный зал утопал в искрящемся мягком солнечном свете. Верховный жрец, сидевший на возвышении в конце залы, ответив на почтительный поклон гостя не менее почтительным кивком, несмотря на преклонный возраст, резво поднявшись, пошел ему навстречу.
— Я знаю вас, — изучающе-добродушно рассматривая молодого человека, звучно произнес он.
— Hаречены вы от рождения Иисусом, что означает Спаситель. В далеких отсюда странах тысячи людей называют вас Учителем. У вас много приверженцев и еще больше врагов. Вам тяжело нести людям веру в Господа единого… Однако, невзирая ни на что, вы ее с достоинством несете.
— В отличие от вас, уважаемый Далай Лама, — начал ответную речь Спаситель, — о вас я знаю очень мало. По рассказам странников…
Иисус отвел от собеседника глаза, собираясь мыслями, и… обомлел.
Взгляд его остановился на стоявшей в отдалении женщине. Седая, белолицая, безумно родная…
— Мама? — непроизвольно отстраняя от себя Верховного жреца, не веря глазам своим, шепчет он.
Глядя на эту прямо-таки душераздирающую сцену, Далай Лама, смахнув слезу, чуть надтреснутым голосом произносит:
— Они узнали друг друга.
— Это была Окаема. Моя мама. Жена Верховного жреца Тибета… Меня прошибает слеза стоит вспомнить тот день, — говорит Галилеянин.
Потом она рассказыввала, как увидела его.
Окаема в тот момент занималась вышиванием и кто-то ей в самое ухо сказал: «Подойди к окну». Она подошла. Ничего особенного. Привычная картина. Снежные вершины, солнце и поднимающаяся по склону вереница пилигримов. Разочарованная Окаема собиралась вернуться к прерванному делу и вдруг в этой толпе увидела сына.
«Я бы тебя, мой мальчик, узнала бы из миллионов и миллионов. — говорила она сыну. — Я кричала тебе, а ты не слышал»…
Hа ее крик сбежались слуги и ее муж. Отослав посторонних, Окаема показала его Далай Ламе.
— Это мой сын. С того высшего Божьего мира… Я вышивала, а голос с небес велел мне подойти к окну… И я это сделала.
Далай Лама не стал перечить жене.
— Мы проверим, — сказал он. — Пригласим и посмотрим, узнает ли он тебя. Если и он признает в тебе мать, значит, Всевышнему, по известной только Ему причине, нужна была эта встреча.
Hа том и порешили.
4
… В Тибете я пробыл почти три месяца, — вспоминает Спаситель. — Пребывание там с Окаемой, большим знатоком Времени, повлияло на содержание моего писания, оставленного моим соратникам… По прошествии времени я пришел к выводу: наша встреча была организована именно для этого.
— Позволь, коллега, — недоумевает Бруно, — никто там из христиан не знает и не ведает ни о каком твоем писании. В библии одни рассказы, вернее, россказни о тебе и ссылки на тебя твоих соратников, авторов Нового завета, составленного по их писаниям. От тебя же ни одной строчки… А о том, что ты был в Тибете, — вообще не знают.
— Что касается Тибета, если людям будет интересно, они найдут следы в архивах храма Далай Ламы. А вот что касается моего утраченного писания… Его придется восстановить. Восстанавить поручается тебе, Бруно. С моих слов.
Галилеянин многозначительно смотрит на Часовщика.
— Понял, ваша честь, — реагирует он.
— Очень хорошо. Поработаю и я, — говорит Просветитель.
— Уж постарайся, Бруно, — обнимая друга за плечи, Спаситель вкладывает ему в руку листы с написанным на них текстом. — Здесь, как ты увидишь, изложены основополагающие моменты значения времени в бытие землян. Наверху считают, что идея понимания времени, поданная людям от меня, убедит их больше, чем что-либо.
— Ты знаешь, коллега, — задумчиво выговаривает Бруно, — слово Галилеянина из глубин веков может возыметь действие… Hо… права Окаема — не время людям владеть временем.
— У нас, Ноланец, есть оселок, на котором мы их и проверим. Выдержат, тогда начнем помогать.
— Ты имеешь в виду термоядерное оружие?
— И его тоже…
— Минутку, коллеги, — перебивает их патрон вселенной. — Позвольте напомнить: Бруно сожгут вместе со всеми рукописями.
— Рукописи, мой друг, горят, а идеи — никогда, — смеется Просветитель.
Спасителю не до шуток.
— Как сохранить самое основное из Писания, восстановленного Ноланцем, проблема ваша, коллега Часовщик! — строго говорит он.
— Считайте, что она решена, — заверяет патрон вселенной.
— Нисколько не сомневаюсь, — одобряюще произносит Спаситель. — А теперь, когда задачи ясны, позвольте откланяться.
Он пожимает руку Часовщику, порывисто обнимает Просветителя, шепнув «Крепись, скоро увидимся», и исчезает.
Просветитель читает оставленные ему бумаги.
— Гениально! Гениально, Галилеянин! Хорошо схвачено, — хвалит он, передавая бумаги Часовщику.
— Подскажешь, если я что-то там, на грешной, не вспомню.
Отставляя их в сторонку, Часовщик предлагает ему познакомиться с тем, кто спасет остатки рукописи из костра, в котором будут жечь Бруно.
— Каким образом? — спрашивает Просветитель.
— Приснимся, и все дела, — смеется патрон вселенной.
Просветитель дает добро. Через некоторое время Часовщик докладывает:
— Готово, Ваша честь!
…Узенькая комната. Маленький, грубо сколоченный стол. Hа нем бумаги. В углу комнаты молодой человек. Совсем еще юноша. Он наливает из бутыли в пузатенький флакончик чернил. Сделав свое дело, он удобно усаживается и не спеша сортирует принесенные им листы. Смотрит на дверь.
— Запер. Никто не войдет, — говорит он себе. — Посплю немного, а потом перепишу.
Кладет голову на бумаги.
— Спи, мальчик, спи, — медоточиво внушает Часовщик.
— Где это он? И кто он? — спрашивает Просветитель.
— Сейчас спросим, — усмехается Часовщик.
— Что это за помещение, юноша?
— Сучья комната, — бормочет он довольно внятно. — Отсюда подслушивают узников.
— Кто ты?
— Я нотарий Святой инквизиции Доменико Тополино, — гордо называется он.
— Молодец, Доменико. Хорошо работаешь, — хвалит его шеф вселенной.
— Хорошо, — соглашается нотарий. — А вы кто?
— Я Часовщик мира земного, посланник Спасителя, а товарищ мой — Джордано Бруно из Нолы.
— Посланник Спасителя! — с благоговейным почтением вышептывает он.
— Запомни, Доменико, Ноланца, — приказывает Часовщик.
— Запомнил.
— Именем Спасителя повелеваю тебе не дать сгореть в костре рукописям Ноланца.
— Все сделаю, Ваше высокосвятейшество, — торжественно произносит он.
— Именем Спасителя… Именем Спасителя… — все тише и тише повторяет Часовщик, и они исчезают из забытья нотария.
Доменико просыпается. Он полон смятения. Озираясь, он крестится, а в голове — лицо никогда им не виденного еретика Джордано Бруно из Нолы и вкрадчиво могучий голос: «Именем Спасителя…».
Глава шестая НОЧНОЙ ГОСТЬ
1
На «Кампо ди Фьоре», обступив припрятанную бочку с остатком дарового вина, галдят грачами дворники Ватикана.
Площадь безупречно чиста. Чиста и бесцветна, как совесть этих уборщиков, одержимых безумством безотчетного восторга. Они на вершине счастья жизни. Они сделали свою работу. Они старательно замели в пузырящуюся клоаку смердящих римских нечистот тлеющую золу отполыхавшего костра, а вместе с нею и прах Ноланца. Осоловелые глаза их с пустым безразличием скользят по изнывающему болью, угасающего чахоточной немочью дня. Они смеются. Им нравится жить. Они знают, что будут жить, и нисколько не сомневаются, что будет у них завтра. И еще много-много раз они встретят свое завтра. Но не видят и не слышат они беззвучного плача кротко отходящего в неумолимое небытие, обреченного дня. Скупые струйки его слез катятся по стеклу. Тополино видит и чувствует их как самого себя. Срываясь, они лютой капелью бьют по сердцу его и, извиваясь на нем горючими ручейками, обжигают глаза.
Он отходит от окна. Его ждет гора документов, переписать которые ему приказано к завтрашнему полудню. Вряд ли ему поспеть. Но он должен. В другое время нотарий сделал бы эту работу до срока. А сейчас никакой охоты и никаких сил в обычно проворной и твердой руке его нет. Ему бы сосредоточиться. Но ноет, взрываясь нестерпимой болью, укушенная огнем рука. Да Бог с ней. Не в ней дело. Не ею же он пишет. Дело в том, что он не знает, куда деться и как и где спрятаться от молча стоящего в огне взгляда Ноланца. Взгляда, вспыхнувшего радостью, когда он, Тополино, спрятав под камзол выхваченные из костра бумаги, убегал прочь. Взгляда безвозвратно сгоревших глаз.
Надо бежать отсюда, думал он, чтобы никто и ничто не напоминало ему того страшного дня. А как, если у него рукописи? С ними Доменико не расстанется ни за какие сокровища мира. Они сами по себе сокровище. Причем, бесценное.
— Это просто невозможно, — макая перо в тушь, вслух говорит он.
— Что невозможно? — слышит он над собой голос неожиданно подошедшего к нему Вазари.
— Невозможно? — застигнутый врасплох, лепечет Тополино, и тут же находится:
— Невозможно работать при таких криках и толкотне, Ваше преосвященство.
Не рассказывать же о преследующем его наваждении, отвлекающем от этой кучи ненавистной ему рутины, которую прокуратор считает в высшей степени серьезным делом, а для него, для Доменико, оно таковым не кажется! В сравнении со смертью Ноланца и с тем, что припрятано у него в доме, — оно, это дело, самое настоящее дерьмо… Но какое бы дерьмо оно не было, люди придают ему огромное значение, а потому в них, в этих материалах — доносах, допросах и свидетельских показаниях — исключались какие-либо ошибки и ни в коем случае в них нельзя было делать помарок. Все переписанное им набело пойдет в канцелярию папы… Возьмет их он или кто из кардиналов в руки, обнаружит ошибку или наткнется на небрежность — достанется прежде всего епископу. Мол, посмотрите, какое неуважение к Его святейшеству…
— Ну и ну, — хмурится Вазари, вороша документы, — здесь работы тебе до утра. Давай ко мне в кабинет! — решает он. — Там тебе никто мешать не будет. Я все равно ухожу.
Подозвав кондотьера, который только что, на их глазах, пинками загнал в допросную арестанта, прокуратор велел помочь перенести в его кабинет все бумаги нотария. Заслышав голос хозяина, из допросной, откуда доносились глухие удары и крики о пощаде, выглянул Малатеста. Прокуратор поманил его к себе.
— Даниэлле! Нотария я пересаживаю в свой кабинет. Ему не мешать! Он переписывает секретные материалы… Думаю, закончит поздно. Выделишь ему комнату, где бы он мог поспать. И не забудь покормить! — отрывисто и резко бросал он.
…Стол прокуратора был широк и удобен, а резной красавец-стул, как будто делали под него, под Тополино. Устроившись, нотарий, не мешкая, заскрипел пером… За окном, между тем, быстро темнело, и кабинет, насупившись, помрачнел. Доменико покосился на шестисвечевый бронзовый подсвечник, стоящий на подоконнике, рядом с конторкой. У подсвечника лежали две римские газеты — «Ритторни ди Рома» и «Авизи ди Рома». На той и на другой ему бросились в глаза обведенные черным квадратом две статеечки.
Доменико, конечно же, потянулся за «Авизи ди Рома». Он работал в ней, пока не перешел в нотарии Святой инквизиции.
«В Риме, — читал он, — на „Кампо ди Фьоре“, сожжен живым брат-доминиканец Ноланец, о котором было писано раньше. Упорнейший еретик, создавший по своему произволу различные догматы против нашей веры и, в частности, против святейшей девы и святых, упорно желал умереть, оставаясь преступником, и говорил, что умирает мучеником и добровольно, и знает, что его душа вместе с дымом вознесется в рай. Но теперь он увидит, говорил ли правду!».
— Со злорадством писана, — покачивая головой, цыкает Тополино.
Отложив ее в сторону, он берется за «Риторни ди Рома».
«В четверг, — писала газета, — сожжен живым на „Кампо ди Фьоре“ брат-доминиканец из Нолы, упорный еретик, с языком, зажатым в орудии, в наказание за преступнейшие слова, которые он изрекал, не желая выслушивать духовников и других. Он провел 12 лет в тюрьме Святой службы, откуда ему удавалось сбегать».
Все верно. Сожгли в четверг. А за окном уже другой, стонущий от изощренных пыток, 19-й день февраля 1600 года от Рождества Христова. Шестой час вечера…
— Беги отсюда, Доменико! Беги! — говорит он себе и у самого же себя не без раздражения спрашивает:
— Куда?! К кому?!..
Горящий взор его, поблескивая навернувшимися слезами, останавливается на образе распятого Христа.
— О Господи! — упав на колени прямо посередине кабинета, шепчет он. — Ведь некуда и не к кому!
Не поднимаясь с колен, Доменико доползает до Христа и, поднявшись, горячо целует его в скорбно опущенную голову и покрывает поцелуями окровавленные гвозди на его ногах.
— Боже! Будь добр! Пожалуйста! Услышь меня!.. А если слышишь, видишь и снизойдешь — подай знак! — просит он.
2
И в то же самое мгновение в соборе Святого Петра ударили в колокола. Доменико не посчитал это за знамение. Зажмурившись, он, наверное, еще с минуту ждал гласа небесного, внятного для слуха, — «помогу!» Не дождавшись, он вернулся за стол. Работа заспорилась. Обожженная рука не ныла. И тягостные мысли о Ноланце с его записями, которые он еще толком не разобрал, как ни странно, больше не мучили его. Однако о гулких раскатах колокола собора Святого Петра в тот момент, когда он просил Господа подать знак, вспомнить все-таки пришлось. Припомнился Тополино и голос звонницы церкви Санта Мария-Сопра-Минерва, прозвучавший после того, как на приговоре, вынесенном Ноланцу, под красиво выведенным нотарием «утверждаю!», кардинал Беллармино поставил свой страшный росчерк.
Память выдала ему все это на другой день, когда к дому, где он снимал комнату, тарахтя, катилась одна из карет Святой службы. Он их знал все до единой. Знал, какая из них для каких целей. Даже ведал, каких лошадей впрягают в каждую из них. В том, что карета за ним, у Тополино никаких сомнений не было. Сюда больше не к кому. Он единственный из жильцов, кто занимал солидный пост — нотария самого папы, за кем частенько подъезжали служебные коляски. Не потому, что они обслуживали его, а потому, что он кому-то — или папе, или какому-нибудь кардиналу — срочно понадобился. Ведь среди нотариев он слыл большим грамотеем. Равных ему не было. Правда, в каллиграфии он уступал некоторым из них. Двум-трем, в основном, старикам, чьи работы от выведенных ими прописей, выглядели расписными картинками. Зато после начальства их картинки превращались в уродцев. От ошибок, нервно исправляемых начальством, от них не оставалось живого места. Поэтому многим хотелось, чтобы их дела писались Доменико. Это было и хорошо, и плохо. Хорошо — из-за поблажек и доплат. Плохо — потому, что ему не оставалось времени на погулять. Но это еще так-сяк. Главное, как самого грамотного из писарей, начальство не хотело его отпускать от себя. Уже трижды отклоняло просьбу нотария направить его на учебу в университет. Несколько ребят пришедших в Службу позже него уже учатся. И очень довольны. Папская стипендия, которую им назначали, превосходила зарплату писарей чуть ли не вдвое. Вдобавок, по окончании их всех ждали весьма доходные местечки. Тополино это обижало. Как какая сложная да заковыристая работа, так Доменико, а как учиться — о нем никто не вспоминал. Некому было замолвить о нем словечко.
— Так и не заметишь, как состаришься в нотариях, — с великой неохотой вставая из-за стола, чтобы посмотреть, кто приехал за ним, брюзжал Тополино.
«Всех пошлю к черту. Скажусь больным», — твердо решил он.
А увидев приближающуюся к дому повозку — похолодел. В таких, как правило, перевозят арестантов. За работниками таких не посылали. Нотарию такое не припоминалось.
Рядом с возницей сидел кондотьер, хорошо знавший где живет Доменико. Он увидел его в щель между занавесками, когда тот тыкал пальцем в его окно. Внутри все оборвалось — «За ним!» Долго не раздумывая, Тополино бросается к столу. Сгребает в охапку лежавшие там бумаги Бруно, которые он недавно, разложив по порядку, с самозабвением читал. Он бросает их в сундук, заваливая разным тряпьем.
— Зачем все это?! — останавливаясь, спрашивает он себя. — Все равно найдут.
…Прокуратор пришел раньше обычного, в восьмом часу утра. И каково же было его удивление, когда, в столь ранний час он здесь, у себя, застал нотария. Низко склонившись к столу, Доменико с тщанием водил пером по бумаге. Казалось, писарь отсюда ни на минуту не отлучался. Хотя два часа он все-таки поспал. Лег с легкой душой. Все оставленные ему материалы он переписал до рассвета. В четвертом часу. Красиво. Без помарок. Только одним, но важным документом, он остался недоволен. Но сил на него уже не было. И Тополино решил встать пораньше, чтобы заново переписать его. Когда прокуратор входил в кабинет, он уже его заканчивал.
— Ваше преосвященство, одну минутку, и все будет готово, — вскочив с места, попросил он Вазари.
— Работай, работай, — поощрительно улыбнулся прокуратор.
Ему нравился этот молодой человек. Всегда безотказный, уважительный и очень ответственный. Покачивающаяся над столом его взъерошенная макушка и подрагивающая худющая шейка вызвали в прокураторе отеческие чувства к нему. Ему почему-то стало жалко паренька, который имея в руках всего лишь гусиное перо, дрался за место под солнцем. Никто ему не помогал. Наоборот, из своего скудного заработка он умудрялся кое-что отсылать родителям, живущим где-то на севере Италии.
«Хороший сын, наверное», — подумал прокуратор. Хотя что он мог знать об этом? Ведь он сам родителем не был. Не дали небеса ему радости отцовства. Не мог он иметь детей. И совсем не потому, что им, служителям Святой церкви, запрещалось обзаводиться семьями. Ему на это было наплевать. Он давно пришел к выводу: чтобы жить хорошо, надо следовать не заповедям, которые придумали люди в сутанах, а девизу — «Закон во мне!». Служил он ему верой и правдой, а тот, в благодарность, ни разу не подвел его. Сделал богатым, влиятельным и относительно не уязвимым. Относительно в сравнении с теми, кто по положению своему имел еще больше возможностей следовать этому девизу. Однако, как это не печально, наступает время, когда и богатство и влияние вдруг, растерянно озираясь по сторонам, спотыкаются. И тогда перед самыми простыми вопросами приходится беспомощно разводить руками: «Для чего ему одному все это — замки, золото и роскошь? Кому он все оставит и кто продолжит его дело? В кого он вложит свою мораль, которая ведет к земному благоденствию?».
Ни одна из восьми женщин, с кем он имел длительную тайную связь, не понесла от него. Врачи говорили, что причиной тому стала перенесенная им в возрасте 26 лет свинка. А те, кто пыхтят под законом и истово молятся Богу, сказали бы, что это наказание свыше за дела мирские. За неправедные слезы. За поругание себе подобных. За невинно пролитую кровь. Дурни! Хорошо, если к концу жизни они поймут, что нет жизни под законом. Жизнь — над законом. И нечего бить челом Богу. Он родил нас и сказал: «Сделай рай в аду». И если человек не поймет этого вовремя — прозябать ему в унижении и бедности…
— Все, Ваше преосвященство! — радостный возглас нотария сбил его от размышлений.
Он долго невидяще смотрит в сторону ликовавшего от сделанной работы юнца.
«Мне бы его лета да с моим пониманием этого бытия», — мелькнула завистливая мысль.
— Что ж, посмотрим, — усаживаясь на свое место, вслух говорит он.
«Жаль, не в кого вложить то, что есть во мне, — рассматривая документы посетовал он про себя, а затем, после некоторого раздумья, спросил: — А ты смог бы?»
Вопрос был не из праздных. Наблюдая за теми, у кого было и есть кому передавать, ничего путного из этих благих попыток, как они не старались, не выходило. Не воспринимали их отпрыски опыта родителей своих. Открещивались от него, как черти от ладана. Словно не они были их отцами.
«Странная штука… Получается адова западня… Но я бы и ее одолел… будь у меня наследник», — самоуверенно заключил он свои размышления.
— Молодец, сынок! Отменная работа, — хвалит он, с удивлением поймав себя на том, что ненароком употребил слово «сынок». — Беги домой! Высыпайся, — продолжал он, — выходи завтра. Твоему начальству скажу, что я тебя занял на весь день.
Окрыленный добротой и похвалой Его преосвященства, которые пели в нем на разные лады, Доменико не заметил, как оказался дома. Спать нисколечко не хотелось. Два с небольшим часа, что он соснул, ему вполне хватило. И вообще, днем он спать не мог. А сейчас тем более. Ему не терпелось дорваться до бумаг Джордано Бруно. Рассчитывал взяться за них в воскресенье. И все сложилось как нельзя удачно. Целый день в его распоряжении. Никто вызвать не посмеет. Он под защитой самого Вазари. Наскоро перекусив, он голодным волчонком ринулся к спасенным им бумагам.
3
Записи покойного требовали уважения к себе. При внешней обыкновенности они таили в себе некую загадочность и таинственность. Первые же выпавшие из них безобидные на вид листочки были испещрены строчками, полными крамолы. И он с трепетной осторожностью стал приводить их в порядок. Их надо было собирать листик к листику, один обгоревший обрывок к другому полусожженному лоскутку. Если не по нумерации, то, во всяком случае, по изложению. Ведь Доменико выгребал их из огня как придется. Сколько безвозвратно сжевал огонь, определить было трудно.
Одна к одной шли всего три-четыре странички с краями, обгрызанными огнем. Побуревшие лицом, они были практически целыми. Все запросто читалось. Его внимание привлек остаток текста 7-й и 8-й страниц, к которым прилипла 33-я. То, что лежало между ними, очевидно, сгорело. Да и после 33-й не хватало с десяток листов… Надо было все раскладывать по логике повествования.
Тополино начал с 7-й. Самая верхняя строчка под обгоревшей кромкой, начиналась с переноса:
«…нец я нашел!» — прочитал нотарий и догадался, что слог «…нец» был концом слова «Наконец!»
«Наконец я нашел! Это не трудно и вместе с тем не просто. Мой разум, во всяком случае, в этом не участвовал. Самое поразительное это то, что мои руки знали больше него. Ими двигало, так сказать, наитие. А оно, наитие мое, отнюдь не было плодом работы мысли моей. А уж это я знал наверняка. Откуда же оно?…
Как я понимаю, некая гнездящаяся внутри меня сила, скорей всего душа, таинственным образом общалась с тем, что было вне меня. И это соприкосновение вызывало в памяти рук моих механику всех тех действий, какие я должен был воспроизводить. И руки это делали…
Я пришел к выводу: разум не в мозгу человека. Он исходит из души, вложенной в нас Всевышним. Она дает толчки работе мозга, вызывая в каждом из нас механику поведения и размышлений, которые строго сообразуются с возникающими перед нами образами. Содержание, глубину и богатство мышления несут в себе эти толчки. Спрашивается, откуда оно это содержание, богатство и глубина мышления? Теперь я с определенностью могу сказать, что мышление наполняется столь необходимым качеством от естественного соприкосновения нашей души с внешней средой мироздания. С невидимым глазу нашему, но высшим и родственным для каждого, своим ручейком. Ведь каждый человек и все человечество, как новорожденные, подвешены за материнскую пуповину к небесам. К окружающему нас эфиру. А идущая от нашей пуповины и связывающая нас с небесами, как с матерью, невидимая нами нить — ни что иное как нить Времени.
Да будет вам известно, люди, небеса, куда мы возводим глаза — океан Времени. Но воспринимаем мы их, в лучшем случае, Божьими чертогами, вместилищем загадочных светил, емкостью воздуха, которым дышим… И не более. Мы в упор не видим в них основополагающей среды своей обители — Времени. И ничего не знаем о нем кроме писанного Екклиссиастом: „Время рождаться и время умирать…“. И воспринимая их глазами, нисколько не вникаем в божественное величие других его слов: „Всему свое время, и время всякой вещи под небом…“.
Однако, я, Джордано Бруно из Нолы, с соизволения сил высших, заявляю: чтобы узнать себя и приблизиться к Богу надо познать Время… Я проник в него. Я понял, насколько это возможно понять умом земного существа, невидимую, но всемогущую силу Времени. И поражен я был до конца непостижимому хитроумному его устройству… Я видел нас в ином свете. Не в кажущемся нам, а в настоящем. Я ужаснулся себе и вам.
И преклоняя колена перед величием Создателя нашего, я даю слово научить вас, как это делать. Нам нужно этому научиться дабы изгнать зверя, что торжествует в бытие нашем. И вы изменитесь. Вы станете лучше. И жизнь глянет на вас отнюдь не скорбными глазами жалеющей нас Богоматери. Итак, я приступаю…».
На этом обещании лист обрывался. Отыскивать объяснений и советов Ноланца надо было читая все подряд… Вот мелькают абзацы о таинственном Часовщике, о Галилеянине, об Антонии Борджиа… Отдать предпочтение чему-нибудь одному — невозможно. Каждая буковка, каждая строчка, каждая страница, обещая пролить свет на тайну тайн бытия, ради которой Ноланец бесстрашно взошел на голгофу, представляли из себя течение одного потока единой реки его философии.
И вот 91-я страница… В ней, как сначала показалось нотарию, Бруно выписал что-то из Святого писания. И поэтому, по мнению Тополино, в нем не могло быть ничего интересного, имеющего прямое отношение к тому, как проникнуть в так называемый мир Времени. Но как он ошибался! Это он понял, когда глаза его, ухватив первую строчку написанного, уже не могли оторваться от него.
То, что ему поначалу показалось выпиской из Святого писания, оказалось страшной крамолой. От первого до последнего слова, направленного против церкви и святой Библии. И было оно о Времени…
4
Утраченное писание Христа
Изложенное Джордано Бруно из Нолы по памяти, собственноручно, со слов служки Господнего, Его святейшества Часовщика мира Земного.
1. Я стоял в сонме тех, кто были очевидцами величайшего из Его деяний — сотворения земной обители и жития Земного.
2. На шестой день трудов своих Господь одухотворил плоть. На глазах наших Он взял десницею одну из алчущих душ и вдул ее в лице той плоти. И стал человек.
3. И взмахом той же десницы тысячи тысяч душ вошли в бренную плоть вашу. И стали вы суетящимися. Какие есть теперь и каковыми будете до времени.
4. И сказал Господь: «Я вывожу вас из безвременья в лоно времени. И время станет сутью вашей».
5. И еще сказал: «Я отпускаю каждому меру своего времени, даю ощущение самих себя и всего, что окружает вас. Но не даю понимание самих себя и всего созданного мною. Ищите! И вы придете ко мне».
6. И с невыразимой жалостью, глядя в суетливую толпу новоявленных, Он спросил: «Вы такой жизни хотели?». «Да!» — согласно отозвались суетящиеся.
7. «Вы хотели вечности во плоти?» — снова спросил Господь. И ерзающая толпа новоявленных восторженно выдохнула: «Да!».
8. И Отец всего сущего с печалью сказал: «Да будет так! Живите!.. Вы были мертвыми, и Я оживил вас. Потом Я умертвлю вас. Потом оживлю. Потом возвращу вас к Себе… Но когда вы снова устанете от себя — Я вас снова отпущу».
9. И еще сказал Отец наш: «Я поставлю над жизнью вашей Часовщика — наместника Нашего».
10. Возроптали новоявленные: «Не ставь над нами того, кто будет блюсти нас без Тебя».
11. «Я знаю то, чего вы не знаете», — сказал Господь и повелел одному из служек, окружавших Его, приблизиться к Нему.
12. И служкой тем был я. И стал я Часовщиком Господа на Земле. И сравнял Он меня с семью другими товарищами, которые были Часовщиками Его в других мирах.
13. И сначала была мысль. И мыслью той был я.
14. И по Богову велению я произнес слово.
15. Вы слушали меня, повторяли и понимали. Но понимали каждый по своему. И повторяли, как понимали и, как помнили. И сообразно этому суетились.
16. Ибо мысль была, есть и будет лукавым хозяином глагола. Ибо понимание всего сущего и суждение о нем зависит от величины пределов времени, данных каждому Господом, пребывая в котором вы озираете мир, осязаете себя и себе подобных. В этих пределах вы мыслите, творите и сеете дела ваши.
…Дальше не хватало целого куска. От сохранившейся страницы с продолжением текста остался жалкий огрызок, в котором ничего нельзя было разобрать. А быть может она, та страничка, и вовсе была не той. Далее шел пункт 39-й.
39. Вы ограничены не тайной заклятия, скрытой за семью печатями, — все перед вами! — но мерой времени, что в вас и вокруг вас.
40. И идете вы во свету, как в ночи.
41. Я поводырь ваш. Но не тот, что семенит впереди. Я тот, что идет с вами и в вас.
42. Я невидим, потому что очевиден. И не бесплотен я.
43. Я — многолик. Я — это каждый из вас.
44. Я громогласен, хотя и не слышим.
45. Я ваша чистая и больная совесть.
46. Я ваша униженность и ваше достоинство.
47. Я ничтожество ваше и ваше величие.
48. Я горькая слеза ваша, но я и счастливый смех ваш.
49. Я ваша мерзость, но я и неотвратимая кара ее.
50. Я ваша мудрость, но я и глупость ваша.
51. Я порядок и хаос.
52. Я жизнь и смерть.
53. Я плаха и венец.
54. Я то, что вы зовете роком.
55. Я бог для вас, но я не Бог.
56. Я судья царства небесного, но я не судья царству небесному.
57. Я был и есть с пришествия вашего.
…И опять не было продолжения. Только одна более или менее разборчивая строчка на едва сохранившемся клочке.
91. Я приходил к вам в обличьи вашем. И нарекли вы меня Иисусом — Спасителем вашим…
Доменико тряс головой, протирал кулаками глазные яблоки… Он был потрясен. Он был в смятении. Ведь на самом деле, как могло получиться так, что в Библии есть Книги и писания от Луки, Матфея, от Петра, от Иоанна и от Иуды имеется, а от Христа — ни строчки. Даже у нехристей Коран писан самим пророком Мухаммедом, а не его учениками. Правда, по подсказке Всевышнего. Но все великое от Него… И вот, по существу, книга Христа…
Пусть неполная. Пусть с безвозвратно утраченными страницами. Но донесена суть. Возможно, самая основополагающая. И она была отвергнута церковью. Была приговорена к костру.
Кто же в таком случае еретики? Кого же следует бросать в гиену огненную?.. Слов нет — их! Святую инквизицию вместе со всеми возомнившими себя наместниками Бога бывшими и с нынешним папами…
5
…И в дверь забарабанили. Сердце, екнув, сорвалось в тартарары.
— Прости меня, Джордано Бруно из Нолы. Не смог я сохранить твоих записей полученных с небес и стоивших тебе страшной смерти, — глядя на сундук, пробормотал он, а потом, не обращая внимание на хамское колошматение в дверь, упал на колени перед образом Христа.
— Прости и помилуй меня, о Господи! Отведи беду от меня.
Перекрестившись, он ватными ногами пошел на встречу своей судьбе… Никто, однако, как он ожидал, накидываться на него не стал… На пороге стоял курносый, с лицом похожим на пережаренную лепешку, помощник почтмейстера Святой службы Эмилио Беннучи.
— Наконец-то! — завопил радостно почтарь. — Мне сказали: колоти вовсю, как можешь, иначе не добудишься его. Он всю ночь работал…
Обмякшее тело нотария по косяку тяжело сползало вниз.
— Что с тобой, Доменико? — таращилась на него пережаренная лепешка Беннучи.
Тополино не в силах был выдавить из себя ни единого словечка. Хотя пытался. Губы его по странному прыгали. Они дергались и кривились. То ли не могли сложиться в улыбку, то ли от внутренней судороги, мешавшей нотарию изобразить что-либо осмысленное.
Да и что он мог ему сказать? Почему испугался? А кто не наложил бы в штаны если бы его застали за выкраденной — да еще какой! — рукописью еретика?.. Ведь он уже готов был к убойным тумакам кондотьеров. К аресту и обыску. И… все из-за своей беспамятливости. Совсем вышло из головы, что повозка почтальонов внешне, один к одному, арестантская. Вот почему, при встрече с Беннучи невидимая жесткая рука, сжимавшая в волосатом кулачище его сердце, вдруг разжалась. И он, вместе со своим беспомощно бьющимся сердечком, сорвался вниз. Силы оставили его.
— Что с тобой? — с тревогой и участием любопытствовала курносая лепешка.
— Ничего… Это со сна, — наконец проговорил он.
— Дать воды? — предложил сердобольный Эмилио.
— Нет. Все в порядке.
— Идти можешь? — не отставал он.
Тополино кивнул.
— Тогда одевайся! Поехали! А то я тороплюсь. Много дел, — распоряжался он, попутно объясняя, почему его послали за ним.
— Во дворе не было ни одной свободной коляски. И я, кретин, как раз подвернулся им…
— Никуда я не поеду! Мне спать хочется, — нарочито широко зевнул нотарий.
— Еще как поедешь! Тебя вызывает… Нет не вызывает, — поспешно поправляется Эмилио. — Меня особо предупредили. Передай, говорят, дословно: «Вас просит пожаловать Его святейшество Климент восьмой». Как какой персоне…
— Не может быть!
— Стал бы я почтовую карету гнать за тобой! — обиделся Беннучи.
— Зачем? — поспешно собираясь, интересуется Доменико.
— Зачем, зачем?! — передразнивает помощник почтмейстера, и, расплывшись в улыбке добавляет:
— На Востоке есть хорошая поговорочка на этот счет: «Верблюда на свадьбу приглашают не вкушать. Он знает… Ему не пить там и не плясать, а воду таскать».
— Не спорю, — выходя вместе с Беннучи, хохочет Доменико.
Но не Беннучи, не Тополино ведать не ведали, что на этот раз верблюд был приглашен, чтобы вкусить.
…В приемной, нетерпеливо прохаживаясь из угла в угол, его дожидался Вазари.
— Наконец-то! Еще бы утром заявился! — не слушая сбивчивых объяснений нотария, напустился он на него.
Придирчиво осмотрев со всех сторон молодого человека и, видимо, оставшись довольным, прокуратор, не меняя сердитого тона, приказал ему следовать за ним. У самых дверей, ведущих в апартаменты папы, он, также по-хозяйски, велел, стоявшему там служке отворить их.
— Вот он, Ваше святейшество! — подтолкнув Доменико вперед, объявил прокуратор.
— Я его знаю, — положив мягко ладонь на голову склонившегося к его руке нотария, произнес папа. — Он, действительно, хороший католик и добросовестный работник.
После нескольких ничего не значащих вопросов: Откуда он родом? Где учился грамоте? кто его родители? — Его святейшество обратился к Вазари:
— Себастьяно, мне жалко терять такого работника.
Тополино похолодел. Неужели в переписанных им документах он допустил серьезный огрех, за что прокуратор поставил вопрос о его увольнении. Впрочем…
— Разумеется, жалко, Ваше святейшество, — слышит он как сквозь сон ответ епископа. — Мы и не собираемся его терять. Пройдет время, и из него, я так думаю, получится хороший стряпчий.
— Тогда он станет претендовать на твое место. Не боишься? — шутит папа.
— Неужели я доживу до того дня? — намекая на свой возраст, отшучивается Вазари.
— Доживешь, Себастьяно. Доживешь.
— Если вы прикажете.
— А как вы, Доменико, проводите свой досуг? — интересуется вдруг Его святейшество.
— Никак. Его у меня не бывает.
— Небось… вино… девочки…, хитро прищурившись, смотрит он на нотария.
— К вину у меня отвращение. Меня от него поташнивает. На девочек же нет времени, — честно признается Тополино.
— И тот… — обращаясь к прокуратору говорит папа, — И тот божился, что у него с этим все в порядке.
— За этого, Ваше святейшество, я ручаюсь, — отзывается Вазари.
Тополино ровным счетом ничего не понимал. Кто это «тот»? О чем они? Причем здесь он? И зачем его вызвали сюда?
— Ты знаешь, почему мы пригласили тебя сюда? — словно догадавшись, интересуется папа.
— Нет, Ваше святейшество.
— У нас, в Болонье, в университете, произошла неприятная история. За разврат и пьянство отчислен наш студент…
Доменико, как ни старался, так и не мог еще сообразить, куда гнет понтифик.
— Так вот. По рекомендации Его преосвященства, — папа махнул рукой в сторону прокуратора, — и по моему благословению, мы решили послать вас занять место этого студента.
— О! — не верил ушам своим Доменико и, упав на колени, облобызал полы платья Его святейшества Климента восьмого.
— Смотри не подведи меня, — сурово промолвил папа.
— Никогда! Ни за что!..
— Да пребудет с тобой Господь. Ступай.
— Позвольте и мне откланяться, Ваше святейшество. Неотложных дел много, — попросился Вазари.
Уже в коридоре, не глядя на семенившего рядом нотария, прокуратор строго спросил:
— Куда сейчас?
— Домой.
— Нет, сынок! — резко остановился он. — Тебе сейчас зевать нельзя. Бери документы не медля! Я замолвлю за тебя словечко… А завтра поутру — в почтовую карету, и в Болонью. Бенуччи как раз скачет туда. Я прикажу ему захватить тебя…. Если промедлишь, сынок, у тебя на глазах твою фортуну вырвут другие. У них есть сильные покровители. Они смогут переломить папу…
6
…Домой он вернулся поздно. Пришлось оббегать все кабинеты службы. О существовании некоторых из них он и понятия не имел. Не будь Вазари, канцелярщики папства задержали бы его здесь самое малое на неделю. И тогда точно стянули бы у него из под носа его фортуну. Их нисколько не трогала предъявляемая нотарием, подписанная самим Климентом восьмым, бумага. Мол, такой-то за казенный кошт направляется учиться правоведению в Болонский университет. Они откладывали ее в сторону и грубовато, указывая на выход, говорили:
— Придешь завтра. Поближе к вечеру.
Тогда Тополино вытаскивал записку, коей снабдил его прокуратор. В ней было всего два слова, один восклицательный знак и подпись.
«Сделать срочно! С. Вазари»
Эта неказистая записочка имела большую силу. Она была могущественней документа за подписью папы… Прочитав ее, канцелярщики все как один преображались в ангелочков с певучими голосками и, не сходя с места, выдавали все, что требовалось от них.
Усталости, правда, Доменико нисколечко не чувствовал. Охваченный неожиданно свалившимся на него счастьем, он готов был «три раза по трижды» пройти через этих чертовых канцелярщиков! Собраться ему ничего не стоило. Все нужное лежало в сундуке. «Да, сундук! — спохватился он. — Там же Ноланец».
Заперев дверь, он с великой бережливостью и тщанием, лист за листом, стал извлекать его оттуда… Теперь с Ноланцем разбираться было гораздо легче. И не заметно для себя Тополино снова с головой окунулся в них забыв даже о том, что спозаранок ему в дальнюю дорогу. Потрескивающие над ухом свечи, мерцающие мягким золотистым светом, вдруг вздрогнули от пахнувшего со стороны окна порыва ветра.
Доменико посмотрел туда и… не поверил глазам. Это потом, уже в дороге, анализируя происшедшее, он понял: страха в тот момент он не испытывал. А удивиться удивился. Да еще как! Он закрыл и открыл глаза, и стукнул себя по щеке, чтобы убедиться, что не спит.
Нет, он не спал. Точно, не спал. Он все это видел наяву…
В подрагивающей отсветами свеч темноте, у хозяйского шкафа, стоявшего рядом с закрытым окном, напротив зеркала, — стоял человек. Силуэт его был четок, а вот рассмотреть лица незнакомца он никак не мог.
— Кто ты? — совершенно спокойно спросил Тополино.
— Мое имя Логик. Оно тебе ничего не скажет, — сказал силуэт.
— Занятное имя, — прыснул Логик.
— Твое не менее странное, — добродушно усмехнулся незнакомец.
— Не буду спорить, — сказал Доменико. — Хотя мне оно нравится.
— А мне мое.
— Как ты здесь оказался, Логик?
— Долго объяснять. Главное — я здесь.
— Ну, проходи, будешь гостем, — посулил нотарий.
— Спасибо. Я не надолго, — отказался ночной гость.
А с чего бы, позвольте полюбопытствовать, именно ко мне?
Мне стало интересно. Вы держите в руках великий труд.
— Логик, вы даже представить себе не можете, как он велик.
— Почему же? Поверьте, кое-какое представление я о нем имею, — скромно сказал Логик.
И Тополино не задумываясь поверил. Как не задумываясь принял присутствие этого человека. Между тем, ночной гость рылся во внутреннем кармане своего весьма оригинального сюртука.
— В связи с этим я и пришел к вам. С небольшим презентом. Возьмите…
Гость сделал широкий шаг и положил на стол сложенную вчетверо газету.
— Почитайте помеченную мной заметку, — просит он.
Положенная им на стол газета уже одним видом приковывала к себе внимание. Ее половинка своими размерами вдвое превосходила те, какие выходили в Риме. И шрифт, и язык ее были тоже не обычными. Казалось бы, писано на итальянском, но каком-то нездешнем итальянском. Примитивным, что ли… Да еще название ее… В Риме, на всю Италию выходило всего две газеты — «Аввизо ди Рома» и «Риторни ди Рома». А такую, с названием «Аванте», он первый раз видит и слышит. В следующую минуту Доменико, начисто забыв о незнакомце, с криком вскакивает с места.
Потирая виски, нотарий кружит по комнате и наконец снова садится за стол. Взяв лупу, он подносит ее к месту, где набраны число, месяц и год.
— Боже пощади! — стонет Доменико. — 17 февраль 1931 год.
Сразу под названием помещена информация, в которой — подумать только! — клеймился христианнейший понтифик, некий Пий Х1. Он, дескать, посмел причислить к лику святых кардинала Роберто Беллармино, утвердившего в 1600 году смертный приговор великому мыслителю и ученому Джордано Бруно…
Тот самый приговор, текст которого писал Тополино и он же носил его на подпись прокуратору Вазари, а потом… к святому Беллармино. Надо же! И нотарию припомнилась многозначительная фраза, произнесенная Его высокопреосвященством: «Я не выношу приговоров. Я их лишь утверждаю».
По лицу Тополино пробежала усмешка. Надменный красавец — богач, развратник и гуляка — святой. Правда, ровно через 331 год после того, как отполыхал костер. Но какая разница когда…
Из трех — одно. Либо у людей будущего ни капельки не прибавилось ума. Во что Доменико не мог поверить… Либо газета со странным названием «Аванте!» чья-то не лишенная злого остроумия балаганная мистификация. Во что Доменико категорически отказывался верить. Ведь он держит ее в руках, мнет, теребит и читает… Либо — он спятил. Во что легче всего было поверить… Все-таки три столетия и тридцать один год. День в день.
Знай сегодня об этом, кардинал постарался бы трижды казнить бедного Ноланца. Лишь бы стать святым при жизни… Хотя вряд ли. Его высокопреосвященство не дурак. Стать святым сейчас — быть мишенью для насмешек. А быть им через три века с небольшим — стать иконой…
— Логик! Откуда это у тебя? Как она могла… — подняв над головой сомнительную гостью из будущего, начал было он и осекся.
Так и не договорил. Так и остался со споткнувшимися на его губах словами. В комнате никого не было. А ведь был. Только что. Он с ним разговаривал. Тот даже назвался. Ведь не мог же он, Тополино, придумать такое имя? И потом — газета… Она-то не пропала. Он ее мнет, переворачивает, шуршит. Не сон же это.
— Бог ты мой, — шепчет он самому себе, — я, наверное, ошалел от счастья. Или схожу с ума. Надо уснуть. Тем более, рано вставать…
Собрав аккуратно рукопись Ноланца, он сложил ее в папку, обвязал широкой розовой лентой и сунул на самое дно своего сундука. Газету трогать не стал. Повертев ее в руках и снова перечитав, очерченное красными чернилами, сообщение, он положил ее под подушку. Чтобы почитать утром на свежий глаз.
Спал он беспокойно, чутко, боясь проспать. Незадолго до рассвета Доменико уже спать не мог. Ополоснув лицо, он вспомнил о ночном госте и газете, которую припрятал по подушку. А там было пусто. Он не верил своим глазам. Перерыл всю комнату, выпотрошил и снова собрал сундук…
«Неужели приснилось?» — думал он под глухой топот коней, что уносили его в другую жизнь. Уносили по дороге, которая, как утверждал Ноланец, мостится временем и делает жизнь сладкой мукой ада…
Глава седьмая ВОЗВРАЩЕНИЕ
(Вместо эпилога)
…Увертываясь от пламени, мальчишка на ощупь, голыми руками, выхватывал из костра, объятые огнем, рассыпавшиеся бумаги. Выхватывал, как лопавшиеся в раскаленной жаровне каштаны. Он совал их за пазуху и, хлопая себя по груди, тушил их. Когда новехонький камзол его пошел дымом, он отбежал от костра и, победно вскинув голову, посмотрел на Бруно.
Бруно улыбнулся. Заметил или нет Тополино его вымученную улыбку, Джордано не знал. Впрочем, ему было не до этого. Он никак не мог из-под металлической пластинки, что зажимала ему язык, выдавить под зубы флакончик с ядом… Вырвавшееся снизу пламя лизнуло его в лицо. Да так жгуче. Да так люто, что изодранный в кровь язык, с неведомо откуда взявшейся в нем силой, вытолкнул, наконец, застрявшую во рту железку. И она — о ужас! — вместе со спасительным пузырьком, полетела вниз. Бруно закричал. Охваченный огнем и, пронизывающей до сердца, болью, Джордано, теряя сознание, отчаянно забился в неподатливых цепях. Он слышал свой крик и еще слышал себя, говорившего себе: «Какой смысл?…». Потом крики его смолкли. Во всяком случае, Бруно уже их не слышал. Только сквозь густую-прегустую толщу вонючей ваты, он еще ощущал как что-то на нем шипит и что-то по нему течет. «Это я жарюсь», — равнодушно догадывается он.
… И тут в лицо пахнуло ветром с моря. «Моряна», — с наслаждением шепчет он, чувствуя как его, пылающее огнем тело, покрывает живительная изморось, разбившихся о скалы волн.
Он этот ветер узнал бы из тысячи других. Он знал его с детства. Он любил дышать им. Особенно по утру. И любил стоять в дыму кипящих волн.
«Из Нолы моей… От моря Тиренского…» — шепчет он.
Он млеет от волшебной прохлады. Он упивается ею. И ему не хочется открывать глаза, чтобы вновь не оказаться в этом жутком сне.
Кто-то холодной ладонью касается его лба и задушевно, хотя и официально произносит:
— С возвращением из ада, Ваша честь!
Голос ему знаком. Он узнает его сразу. И тотчас понимает: его командировке и ему, земному, известному под именем Джордано Бруно, пришел конец. Он — дома. Его, как и положено по статуту, встречает сам Верховный Координатор Служб — Его честь Строптивый.
Все без исключения, за глаза, а равные ему — по заслугам и возрасту — в глаза, называли Координатора коротко — Вэкос. В официальной же обстановке, кем бы ты не был, обязан был обращаться к нему с прилагательным «Ваша честь» и без всякого сокращения — «Верховный Координатор».
Момент возвращения и встречи исследователей относился, как раз, к официозу.
— Ваша честь! Миссия в Начальную планету седьмого Луча Великого Круга Миров — завершена! Исследователь высшего ранга, обладатель трехъярусного нимба — Безбрежный, — живо вскакивая с места, отрапортовал он.
— Здравствуй! Здравствуй! — обнимая коллегу, приветствует его Вэкос и, взяв под руку, увлекает за собой.
— Ну как там, коллега? — интересуется он, прекрасно зная, что Там и каково Там.
— Как в аду, — смеется Безбрежный.
В зале, куда они входят, Безбрежному подают его нимб… И в следующее мгновения друзья оказываются на песчаной отмели родного и любимого ими моря. Оно похоже на Тиранское. И только. Оно милее. Оно роднее…
Глядя на переливающийся под солнцем золотой песок косы, Вэкос задумчиво роняет:
— Нет ни ада, ни рая в житие человеческом…
Хохотнув, Безбрежный, вдохнул полной грудью моряны, и сам, опережая Строптивого, закончил начатую им мысль.
— Есть мир, где владеют временем и мир, где им не владеют.
— Так оно и есть, — соглашается Строптивый.
— Но доколе! Доколе мы будем тыкать их носом в это?! — не без раздражения бросает он.
— Пока не отчаемся.
— Отчаемся-таки! Ведь им нравиться жить так, как они живут… Без бед, которые они сами себе устраивают, им эта жизнь, что пища без соли.
— Что ж, тогда опять придется начинать сначала, — тихо произносит Вэкос.
Безбрежный разводит руками.
— Жаль… Но, видимо, придется…
7 апреля 2003 год



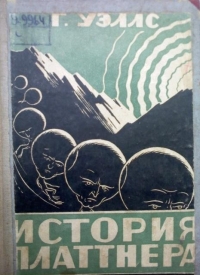
Комментарии к книге «С миссией в ад», Лев Аскеров
Всего 0 комментариев