Евгений Филенко Бумеранг на один бросок
Что-то демоны распелись
При полной луне…
Март наступает.
КётансубекиПРОЛОГ
Меня зовут Северин Морозов. Я обычный человеческий детеныш. Ну хорошо, не совсем обычный… Скоро мне исполнится восемнадцать лет. Я удрал из дома, за десять дней пересек пол-Галактики, пережил множество удивительных приключений, горел в огне и тонул в воде, сражался с дивовидными монстрами и злобными инопланетянами, разрушил полдюжины планет и взорвал пару сверхновых…
Ну, шутка. Ничего этого не было. Про десять дней — это правда. Все остальное — несбывшиеся ожидания самого мрачного свойства.
Честно говоря, нисколько не сожалею, что они не сбылись. Я не самый большой любитель приключений. Зато я любитель старинной музыки, своей мамы, а еще одной кошки и одной собаки. И сам уж не рад, что вдруг бросил все, что любил, и плюхнулся с головой в эту авантюру.
Двести парсеков — вовсе не половина Галактики, это я, можно сказать, только чиркнул по краешку. Монстров тоже не было, а вот инопланетяне были, но вполне дружелюбные и вовсе не безобразные. Даже симпатичные. Если не считать одного или двоих… хотя я так и не уверен, что их было двое. Нигде я, конечно, не горел и не тонул, а почти все время прилежно дрых, с небольшими перерывами на приведение себя в относительный порядок, на еду и пересадки с корабля на корабль. Отчего у меня в данный момент опухла физиономия, одеревенел загривок и тормозят мозги.
В общем, это было самое скучное путешествие в моей жизни.
Но теперь оно завершилось. Или нет? Или все только начинается?
Это я и пытаюсь сейчас понять, прилагая громадные усилия, чтобы заставить свои мозги проснуться и работать.
Я стою посреди гулкой пустоты чужого космопорта. Все космопорты одинаковы, в этом я имел прекрасную возможность убедиться. Хотя бы потому, что по Галактике летают в общем одинаковые корабли, да и маршрут был специально проложен через миры, чьи обитатели ходят на двух ногах и думают головой, в затылке которой обычно чешут пальцем руки, а не щупальцем… И все космопорты по-своему чужие. Чужое солнце, или даже несколько солнц… чужие запахи… Этот — не исключение. Хотя, в силу обстоятельств, мне бы полагалось видеть в нем дверь в родной дом. Но ничего похожего на радость возвращения я не испытываю. Ну, долетел, ну, респект тебе в хобот. Дальше-то что? И если кто-нибудь спросит, зачем я вообще все это затеял, пускай не ждет вразумительного ответа.
Поэтому я молча таращу глаза на раскинувшееся за высокими стрельчатыми окнами плотное, темно-серое с белыми разводами и легкомысленными завитушками, чужое небо.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ГОСТИ В ДОМЕ
1. Бегство домой
Когда мне исполнилось четырнадцать, мама забрала меня из колледжа «Сан Рафаэль» в Алегрии и привезла домой. Зачем она сделала это в самый разгар учебного процесса, я тогда не понимал. Сейчас-то я могу предполагать, что это была паническая попытка сберечь меня для себя. А в ту пору я был всего лишь глуповатым тощим подростком, вернее — переростком, на полторы головы выше любого из своих сверстников, Дылдой, Веретеном, Жирафом, кем угодно… и, однако же, таким, как все. И потому не понимал ни фига.
Мама явилась в колледж утром, а уже к обеду я сидел в кабинке гравитра, летевшего над средиземноморской волной из Пуэрто-Арка в Валенсию, нахохленный, растерянный, сердитый и очень раздосадованный тем, что вечером матч по фенестре с «Бешеными пингвинами» из Картахены пройдет без меня.
Я был раптором, очень перспективным раптором, в основном — благодаря своему росту; сравниться со мной мог только один негр у «Панголинов», но он куда хуже прыгал. К тому же я пользовался успехом у группы поддержки, что само по себе льстило моему самолюбию, и по меньшей мере две девчонки — Линда-Барракуда и Экса-Мурена — были мне небезразличны. Не сказать, чтобы как-то особенно небезразличны… в общем, мы дружили как умели.
А теперь я маялся на заднем сиденье гравитра, согнувшись в три погибели, и старательно дулся на маму.
Мама выглядела взволнованной, хотя изо всех сил старалась не подавать виду. Она сама вела машину, и делала это прекрасно. То есть, конечно, управлять гравитром дело нехитрое, на это способен любой олух, даже я, — достаточно отдавать осмысленные команды автопилоту. Ха! Попробуй только гнать ему идиотские команды, или веди себя как идиот, и он попросту посадит машину на ближайшей стоянке, и шиш его заставишь тронуться с места!.. Мама всегда отключала автопилот и вела гравитр сама, руками. Отчего заурядная летающая коробка для транспортировки пассажиров из пункта А в пункт Б превращалась в элитный гоночный болид. «Пристегнись, малыш», — говорила мама и закладывала такие виражи, что чертям становилось тошно. «Ты уверен, что хочешь этого?» — спрашивала она, хитро выгнув бровь. «Да-а!» — самонадеянно пищал я, замирая от восторга. И она показывала мне, что такое классическая «петля Нестерова», «разворот Иммельмана», «гамадриада» или «циклоида Фалькенберга». Вряд ли я был в состоянии оценить ее пилотаж по достоинству, потому что чаще всего зажмуривал глаза, втискивался в кресло и ждал, когда закончится этот ужас… «Примерно так», — буднично говорила мама, легкими касаниями выравнивая гравитр. Она была фантастическим водителем — чем я гордился, пожалуй, больше, чем она. Потому что мама скрывала это неоспоримое достоинство от всех, кроме меня. Такой вот досадный факт… Да и мне-то демонстрировала свое искусство, как порой казалось, не затем, чтобы поразить детское воображение или, тем более, провести наглядный урок истории авиации, а что-то доказывала или напоминала самой себе.
Вдобавок мама не терпела слово «водитель», старательно заменяя его на «драйвер». «Водят хороводы, — ворчала она, — водят за нос…» — «А гравитр — драйвят!» — поддакивал я со всей серьезностью, старательно выговаривая все эти «тр-др». «Все равно, — не сдавалась она. — Драйв — это порыв, это устремление вперед. Драйвер — звучит гордо!»
Это словечко она перетащила в свою нынешнюю жизнь из жизни прежней, о которой мне, грубоватому и нелюбопытному балбесу, известно было очень немного.
Я знал, что она много и тяжело работала за пределами Земли, «в Галактике», как говорила она сама, вкладывая в это слово столько смысла и произнося его с такой неповторимой интонацией, что оно звучало как бы с большой буквы. Та «галактическая» часть жизни, очевидно, была несравнимо ярче и полнее теперешнего существования. В ней были настоящие приключения, опасности и даже, кто знает, подвиги… Но мама никогда и ничего не рассказывала. У нее никогда не было гостей из прежней жизни, она никогда не связывалась с друзьями и коллегами, чтобы устроить какой-нибудь там вечер воспоминаний у костерка… Впрочем, сейчас-то я подозреваю, что по причине полного отсутствия любознательности я просто не знал об этом, и эти встречи, возможно, случались за моей спиной, и гости жаловали в мое отсутствие. В конце концов, почти все свое время, как и все нормальные дети, я проводил в колледже, в спортивных лагерях, в походах и экскурсиях…
Нет, кажется, одного гостя я все же видел.
Как-то, вернувшись из Алегрии раньше запланированного, своим ходом, на перекладных (вообще-то нас таких было трое — я, мой дружок Хесус Карпинтеро, которого все звали Чучо, потому что в Испании всех Хесусов, кроме Спасителя, называют Чучо, и еще одна девчонка, Экса, которую все звали Муреной за вредность: отчего-то считалось, что у рыбы-мурены скверный характер; кажется, это заблуждение происходило от какого-то забытого уже мультика; она увязалась за нами именно из вредности, всю дорогу ныла и пилила нас за то, что мы вовремя ее не отговорили, жаловалась на неудобства путешествия в товарном отсеке «огра», строила глазки моему приятелю, требовала, чтобы я не пялился на нее, когда она переодевалась в закуточке — в общем, всячески скрашивала наш досуг; Чучо хотел посмотреть на собор Парижской Богоматери, Мурена сама не знала, чего хотела, и они соскочили в Орлеане, а я двинулся дальше), я ввалился на веранду, пыльный, усталый, с криком: «Мама, я дома, я хочу есть!» — и увидел, что она не одна. Вместе с ней в гостиной находился очень странный тип, в странном костюме и со странной прической… Все в нем было необычно, будто он явился из другого мира, что, по всей видимости, и имело место. Лицо его было зеленовато-коричневым от нездорового, неземного загара; посреди этой прозелени ясно-синим светом горели запавшие глаза, вороные волосы заплетены были в тысячу косичек и украшены бусинами всех цветов и размеров. Комбинезон из грубой синей материи выглядел так, словно им несколько лет мыли полы, потом выбросили на свалку, и уже там подобрали, чтобы носить. Когда этот тип встал из-за стола, чтобы приветствовать меня, то показался мне сущим уродом. Я выронил все из рук и стоял с открытым ртом, не зная, что сказать и как себя вести при виде этого монстра. Но тут мама схватила меня за руку и со словами «Боже, на кого ты похож, а ну-ка марш в ванную!» увела меня прочь. Когда же я вернулся, незнакомца и след простыл, все было прибрано, расставлено по прежним местам, как если бы все мне пригрезилось.
Удивительно, что я почти ничего не помню об этом эпизоде: ни того, как выглядела мама рядом с этим чудиком, что выражало ее лицо, что было у нее в руках, во что она была одета, что находилось на столе; ни того, сказал ли он мне хоть слово до того, как я был удален прочь, или был деморализован не менее моего и точно так же по-рыбьи шлепал губами.
А еще удивительнее, что я даже не спросил у мамы, кто был этот неведомый визитер, как его зовут, откуда он прибыл, такой чудной, и куда в конечном итоге убыл.
Повторяю, я был нелюбознателен тогда. Я и сейчас этого не знаю, и все еще не могу набраться решимости спросить о нем у мамы, хотя многое изменилось во мне и вокруг меня, и я уже не такой, как в те годы. В одном я совершенно уверен: это был выходец из прежней маминой жизни, и уродский загар его говорил об этом яснее ясного — «загар тысячи звезд», какой против воли, словно несмываемую отметину, приобретают вечные космические скитальцы-звездоходы.
Впрочем, здесь я ошибаюсь. Маме за долгие годы земной жизни удалось от него избавиться. Наверное, она смыла его с себя вместе с собственным прошлым. Во всяком случае, не помню, чтобы ее лицо когда-нибудь было таким отвратительно зеленым. Хотя, может быть, все дело в том, что ее лицо для меня было всегда самым родным, какого бы оттенка ни был его загар.
Итак, я возвращался домой, злясь на весь белый свет, мама сидела за пультом гравитра, прямая и недвижная, как изваяние, уставясь вперед, не проявляя даже тени обычных наклонностей к лихачеству, а в это время «Бешеные Пингвины» рвали моих ненаглядных «Архелонов», как кошка тряпку.
Спустя час мы уже сидели на палубе пассажирского «симурга», державшего путь на Дебрецен. Я все еще дулся, а мама все еще молчала, и вот так, молча, мы слопали с ней по три порции бананового мороженого и запили четырьмя бутылками альбарикока.
А еще два часа спустя мы уже поднимались на веранду нашего дома в Чендешфалу, и Фенрис облизывал мои липкие от мороженого щеки, стоя на задних лапах, а передние устроив у меня на плечах, что не составляло ему никаких трудов (при моем-то росте!), а Читралекха валялась на скамейке, языком суслила себе пузо и не проявляла ко мне никакого интереса, как и четыре, и два года назад, словно я никогда и не покидал этого порога.
Я прошел в свою комнату, метнул сумку в дальний угол (комната тоже выглядела так, будто я покинул ее прошлым вечером, даже мемокристалл с «Лабиринтом Ужаса» валялся под кроватью, куда я его и обронил) и вернулся в гостиную.
— Я что, могу забыть про колледж?!
Драматические ноты в моем голосе были непритворны.
Мама стояла у открытого окна и курила.
— Можешь забыть, — сказала она через плечо.
Коротко и твердо, как всегда.
— Я что, под домашним арестом?!
— Ты просто дома, — сказала мама.
— Что происходит?! — закричал я. И осекся, потому что понял, что она плачет.
Мама никогда не плакала — при мне. Скорее заплакали бы каменные болваны в нашем саду. Скорее заплакала бы Читралекха.
Ей было плохо. Ей было во сто крат хуже, чем мне. Потому что у меня была она, опора и защита, а у нее не было никого. Вдруг оказавшись в тупике, о котором я даже не подозревал, она не знала, как поступить. Для мамы, с ее железным характером, такое положение было невыносимо.
— Можно я поговорю с ребятами? — спросил я потрясение.
— Конечно, — сказала она, не оборачиваясь. — Можешь даже пригласить их на выходные…
Я ушел в свою комнату, но ни с кем говорить не стал, а просто свалился на кровать не раздеваясь и целую вечность таращился в потолок, без мыслей, без чувств, будто какой-нибудь гриб-мухомор.
А пришел в себя от того, что настольный видеал пропел песенку вызова. Это Чучо не запозднился, чтобы сообщить: злосчастные «Пингвины» выиграли у родных моих «Архелонов». Они, наверное, все равно бы выиграли, но со мной не случилось бы такого позорного разгрома.
Мы потрепались еще минут десять: я узнал, что на ужин были фаршированные ананасы с соусом «калор тропикаль» (вот дрянь-то!..), что Мурена едва не подралась с Барракудой непонятно из-за чего, как это у них всегда и бывает, что «Гринго Базз» оказался полным отстоем, а «Тернистый Путь» — напротив, полный улет, что в муниципальном театре будут давать спектакль «Черные лебеди, белое небо», что Чучо еще не решил, с кем будет сидеть рядом после моего ухода, и для всех было бы лучше, чтобы я вернулся до того, как он определится с выбором, что жизнь — сложная штука, что Барракуда — дура, но Мурена не в пример дурнее, что медики всех замучили, что тренер спрашивал, не приеду ли я на игры кубка, что позавчерашняя новенькая ничего себе, и что жизнь — штука все же довольно-таки простая.
Хорошего не бывает в избытке: разговор сошел на нет, и я завел «Тернистый Путь» — на пробу, без картинки. Что бы ни твердил Чучо, но для меня что «Базз», что «Путь» — все едино отстой… Чтобы не страдать попусту без музыкального сопровождения, я поставил «Кто-то постучался» Эйслинга и просто лежал и слушал, пока не уснул.
Сквозь сон я слышал, как заходила мама, но ничего не делала, а тихо постояла надо мной немного и ушла.
На смену ей явилась не запылилась Читралекха, долго умащивалась у меня в ногах, вылизывалась и копошилась, и наконец успокоилась, уснула, наполняя мою келью вечным домашним теплом.
2. Маленькие хитрости большого мальчика
День, когда все изменилось.
Ну, начинался-то он как обычно.
— Мам, можно я слетаю к ребятам?
— Нет.
— А в город?
— Здесь нет никакого города.
— Но я же видел…
— До него далеко. Ты заблудишься.
— Как заблужусь, так и найдусь. Тоже мне, джунгли!
— Там нечего делать.
— Это тебе нечего делать, а я бы нашел…
— Ты что-то желаешь возразить мне, Северин Морозов?
— Ну можно я посмотрю на него из гравитра?
— Там не на что смотреть. Город как город. И, между прочим, ты еще не приготовил уроки и не убрал за кошкой.
И так всякий раз.
Нет, если это не домашний арест, тогда и Эдмон Дантес в своем замке Иф попросту бил баклуши, гонял слонов и загорал на солнышке…
Ворча и стеная, тащусь убирать за Читралекхой.
«Убирать за кошкой» — вовсе не то, что можно подумать навскидку применительно к кошке, а гораздо более сложная и утомительная процедура.
Нужно обойти весь дом и поставить на место всякую мамину финтифлюшку, которую злокозненное животное срыло на пол за время своих ночных обходов вверенной его попечению территории.
Нужно повесить как висели все картины, до которых дотянулась эта тварь.
Нужно найти, а затем с боем изъять похищенные ею и употребленные в качестве стройматериала для уютного гнездышка теплые шерстяные вещи, как-то: мамины кофты и шали, мои носки и свитера — словом, все, что было опрометчиво оставлено в гостиной на ночь.
Нужно найти грызунов, задушенных этой жертвой первобытных инстинктов и принесенных в дом для отчета о проделанной работе, и сделать это до того, как их найдет Фенрис, нажрется падали, заболеет и умрет (махровый мамин предрассудок: несколько раз Фенрис использовал мою халатность себе во благо, с громадным аппетитом сжирал дохлую садовую крысу и делался от этого только веселее и жизнерадостнее, чего нельзя было сказать о Читралекхе, которая долго потом блуждала по дому и искала добычу с самым оторопелым видом — мол, вот только что положила на место… и вот те нате, лещ в томате… хвать-похвать, уже кто-то стырил… ничего, ну буквально ничегошеньки нельзя в этом доме оставить без присмотра!).
Нужно найти саму виновницу торжества и провести воспитательную работу, то есть: строго-настрого, помавая пальцем перед чумазым равнодушным мордулятором, запретить впредь поступать подобным образом и пригрозить какими-нибудь страшными с кошачьей точки зрения карами.
(…Неужели мама надеялась, что наступит день, и Читралекха поймет, что поступает скверно, устыдится и раскается, и уйдет, чтобы впредь не грешить?! Похоже, я лучше знал эту кошку. Не было ни единого шанса на ее раскаяние. Поэтому я ограничивался тем, что брал ее за передние лапы, ставил на дыбки и, глядя в бесстыжие голубые глаза, говорил одно и то же: «Однажды ты дождешься!» Если только Читралекха хоть что-то понимала в обращенных к ней речах, они должны были ее бесконечно интриговать: чего же она в конце концов дождется? Что же это будет за изысканный сюрприз или новая забава?.. Но, может быть, это не мама совершала ошибку, а я: собственно ожидание и делало Читралекху такой несносной, и она всякую ночь творила свои злодеяния, искренне рассчитывая, что вот теперь-то, после всего, что случилось, этим-то утром наконец утолят её безмерное кошачье любопытство!..)
Линялую шерсть по дому за Читралекхой подъедал робот-уборщик, которого, словно бы ей назло, сделали похожим на крысу, только оранжевую с полосками. А все остальное Читралекха справляла в саду, и меня это не касалось.
Чтобы как-то облегчить свой труд, однажды я целый день убил на составление точной объемной модели дома с обратной связью, после чего перед сном зафиксировал местонахождение каждого предмета и отправился баиньки. Утром мне оставалось только учесть все отклонения от сохраненного состояния и вручную восстановить статус-кво… Как бы не так! Модель честно и скрупулезно отметила каждую крошку, каждую былинку, переместившиеся за ночь хотя бы на микрон. Я таскался по дому, занятый все тем же обычным мартышкиным трудом, и придумывал, какие ввести ограничения и как учесть фактор «кошачьего участия», а когда понял, во что ввязываюсь, махнул рукой и вернулся к прежней технологии.
Итак, я слоняюсь по дому, по всем его комнатам и этажам — на фига нам столько места двоим, с собакой, кошкой и рыбками?! — подбираю, поднимаю, укладываю и ворчу, ворчу, ворчу… Возле чердачной лестницы набредаю на Читралекху, которая, похоже, меня дожидается. Беру ее под локотки, ставлю на цыпочки:
— Однажды ты дождешься!
В голубых зенках, похожих на две стекляшки, ни единой мысли, ни малейшего отклика на эти слова. Кошки не выражают эмоций глазами. Они замечательно делают это всем телом. Я отпускаю Читралекху, и та демонстрирует спиной, хвостом, ушами, как сильно она разочарована. «Ну вот, — говорят ее уши. — Я так и знала. Опять обманули. Ждала, ждала и снова не дождалась. Эх… ужо устрою я вам нынче Варфоломеевскую ночку!»
Я спускаюсь на первый этаж.
— Иду делать уроки!
— Хорошо! — отзывается мама из своей комнаты.
Беру в охапку свой мемограф, пригоршню кристалликов, ухожу в сад и там прячу все добро в укромном месте. В дупле одного очень старого дерева, название которого по своей нелюбознательности так и не удосужился выяснить. Совершенно определенно это не дуб и не береза — вот и все, что я о нем знаю, день за днем беззастенчиво эксплуатируя его достоинства.
И я отправляюсь гулять.
Иду между деревьями, по усыпанной палыми листьями упругой земле, на слабый, едва различимый шум воды. Безымянная речка в черте поселка давно упрятана в позеленевший от времени каменный желоб. Но мутная вода все равно пахнет лесом, тьмой и дикостью. Я стою на горбатом мостике над несущимся бурым потоком, слушаю его голос, и сквозь прижмуренные веки он представляется мне спиной гигантского змея, который ползет по своим чудовищным делам и, по счастью, не обращает на меня внимания. По ту сторону мостика начинается собственно поселок Чендешфалу. Дома прячутся среди деревьев; то тут, то там выглядывает кусочек стены, лоскуток крыши, палисадничек, пробегает озабоченная незнакомая собака, предупредительно вильнув хвостом, и совсем уж редко можно встретить кого-нибудь из жителей поселка во плоти. Наверное, здесь все такие же отшельники и нелюдимы, как и мама. И ни у кого нет детей. Простому человеку четырнадцати лет от роду не с кем словом перемолвиться… А когда-то, еще на моей памяти, поселок был как поселок, и людей было полно, и раскланивались, когда мама вела меня за руку по этой самой тропинке, и приглашали в гости, и мы заходили!.. и детей хватало — с кем-то же я качался на тех качелях, и носился по той площадке, и бултыхался в той заводи!.. Куда все подевались? Что с ними случилось? Повальная эпидемия анахоретства?.. Не напевая, а скорее нервно бубня под нос кантилену Эйслинга, пересекаю поселок. Ишь, затаились! А сами, небось, подглядывают из-за прикрытых ставен, из-под приспущенных шторок, кто это в такую пору, средь бела дня, тащится через их земли, с какой такой целью, и не замышляет ли чего дурного против них… Инстинктивно держусь поближе к деревьям, чтобы в случае чего укрыться за стволами…
— Мальчик!
— А-а!!!
Так и последнего ума лишиться можно!
На подкашивающихся ногах пробегаю несколько шагов и только тогда оборачиваюсь.
Человек маминых примерно лет, то есть вовсе без возраста, в изысканных, я бы сказал, городских одеждах (в нашей глухомани все же одеваются проще): кремовые брюки, заутюженные в стрелку, и щегольская бежевая рубашка с короткими рукавами. Лицо совершенно обычное, неприметное, слегка заостренное во всех чертах. Волосы светлые, редкие и гладко прилизанные. Росточка небольшого, и сам весь такой ладный, аккуратный, не лишенный изящества. Глядит на меня снизу вверх (тоже, нашел мальчика! В состоянии покоя и сытости — два метра от пяток до макушки!..), и в руках… нет, не кольт-магнум, не винчестер, ни даже фогратор модели «Калессин Марк X», а обычный старомодный зонтик, из тех, что в сложенном состоянии в половину твоего роста, а не помещаются в кармане, как положено. Голос ровный, участливый, немного ироничный.
— Ты не заблудился?
— Н-нет… Я здесь живу… неподалеку.
— Правда? Никогда тебя прежде не встречал.
Можно подумать, я хоть когда-то встречал этого хмыря!
— Тебя как звать?
— Северин…
Стоп, стоп, мама как-то говорила: «Если можешь, не разговаривай с незнакомыми людьми». Что она при этом имела в виду, я, как всегда, не понял и, как всегда, поленился уточнить. Но, наверное, у нее были какие-то на этот счет свои резоны. У нее всегда и на все существует пропасть резонов, которыми она не считает нужным делиться со мной!
— М-м… До свидания.
— Северин, — промолвил он задумчиво. — Северин Морозов. Вот ты какой…
Ну вот, пожалуйста, он знает, кто я, но спрашивает. Уточняет.
Произвожу конечностями некое подобие прощального жеста и в спешке удаляюсь.
— Северин, — говорит он мне вдогонку. — Передай маме, что ей не нужно прятаться.
«А никто и не прячется!» — думаю я с досадой. И уже на выходе из поселка, немного придя в чувство, начинаю обдумывать его слова и все обстоятельства этой странной встречи.
И, к своему неудовольствию, понимаю, что мы с мамой как раз и прячемся самым возмутительным образом. и все, что мы делаем в последнее время, с самого момента моего несуразного похищения из колледжа, где мне было неплохо, хорошо и прекрасно, есть не что иное, как натуральная игра в прятки со всем белым светом!
Слава богу, на стоянке за поселком есть свободный гравитр. (У нас дома — тоже, но не мог же я воспользоваться маминой машиной, специально, кстати, перенастроенной под ее драйверские ухватки, без ее ведома!) Даже два: один старенький, серо-стального цвета с облупившимися опознавательными знаками, а другой — хоть куда, в моем вкусе, раскрашенный под тигра, с тигриной же мордой на носу. Да вот беда: в «тигре» уже есть пассажир — сидит и чего-то ждет, не взлетает. А серый старикан как раз наоборот — совершенно свободен и к моим услугам. Увы, этот мир все еще далек от гармонии! Вздыхая и ворча (в последнее время это мое обычное состояние, и мама всегда называла меня «маленький старый ворчун», даже когда я перерос ее на полторы головы), плетусь к свободной машине.
— А ты с управлением справишься?
Вот еще напасть на мою голову! Из «тигра» выглядывает сиделец и проявляет всевозможный интерес к моей персоне.
— Вообще-то мне четырнадцать, и я довольно-таки большой мальчик… — ворчу я.
— Да уж, Северин, мальчик ты очень крупный, — хмыкает сиделец.
И этот, как я погляжу, знает мое имя.
Похоже, сегодня мне не суждено совершить запланированную вылазку во внешний мир. Сегодня у меня сплошные непредвиденные встречи. И все незнакомцы, попавшиеся на моем пути, имеют передо мной весомое преимущество: они знают, кто я такой, а вот я не имею ни малейшего представления ни о ком, каждого вижу впервые в жизни и назавтра уже не узнаю в лицо. А самое главное — вовсе не горю желанием расширять круг своих знакомств. И лучше мне, пожалуй, оставить попытки к бегству на свободу до лучших времен, а сейчас с максимальной поспешностью вернуться к домашним обязанностям, к маме под крылышко. Мама все понимает, мама все знает, мама разберется, что к чему.
Приближаюсь к гравитру (сиделец внимательно, с легкой дружелюбной улыбкой, следит за моими эволюциями), обхожу его, словно оценивая состояние этой рухляди. И, вместо того чтобы залезть в кабину, неспешно удаляюсь в сторону леса.
Спиной чувствую недоуменный взгляд незнакомца. Даже между лопатками чешется!
Домой я намерен вернуться лесом, а не через этот угрюмый поселок, больше похожий на кладбище. Ну его на фиг! Я примерно представляю направление, знаю, что мне нужно выйти к реке… там есть другой мост, такой же старый и горбатый, но деревянный… мы как-то переходили по нему с мамой, гуляя в окрестностях в поисках сизого папоротника… а оттуда рукой подать до родных пенатов. Между прочим, я даже знаю, как этих самых пенатов звать: Фенрис и Читралекха.
Но человек предполагает, а лес — это такой своеобычный организм, который располагает. И пройдя с полкилометра, я обнаруживаю, что заблудился.
3. Леший цитирует Блейка
Ничего страшного. Для начала, у меня на руке браслет, и я, если только я — сопливый маменькин сынок-lacasito,[1] а не четырнадцатилетний macho,[2] могу позвать мамочку на помощь. А если я — означенный крутой macho, а не означенный lacasito, то и сам отлично выпутаюсь из передряги. Тем более что мама еще пару часов должна пребывать в убеждении, что я корплю над уроками, а не учесал в самоволку, и знать ей о моих подобных самоволках вообще ни к чему… Тогда так: я стою лицом к северу, слева от меня — запад, а дом наш должен находиться ориентировочно к норд-норд-весту. И если я начну забирать чуть влево, то непременно выйду к реке и, если повезет, увижу деревянный мост. И хорошо бы успеть к обеду.
Бью себя кулаком по лбу. Вот же балда! Нужно было сесть в обшарпанный гравитр и лететь на нем — домой! И сейчас я не торчал бы посреди чащобы, как языческий истукан, а сидел бы за столом в своей комнате, попивал бы местное ситро — увы, не идущее ни в какое сравнение с алегрийским альбарикоком, и набирался ума-разума от Глобальной системы фундаментального образования…
Начинаю движение, забирая влево. Нелегкая заносит меня в какой-то мрачный бурелом… очень похоже на брошенную медвежью берлогу, а мама как раз говорила, что в здешних краях изредка встречаются совершенно дикие звери, хотя, кажется, имела в виду все же не медведей, а белок и лис. Я поднимаю голову. В сплетении крон запутался светлый лоскут неба, а прямо надо мной сидит серо-бурый зверек с облезлым длинным хвостом и таращится на меня выпученными бессмысленными глазенками. Того и гляди, скажет: «Что, Северин Иванович Морозов… четырнадцать лет, рост два метра пять сантиметров, вес восемьдесят два килограмма… заблуди-и-ился?!»
Самое подлое, что я давно уже должен бы слышать шум реки, а я все еще ничегонюшки не слышу.
— Что, заплутал?
— А-а!!!
Но это не зверек заговорил со мной. Это очередной незнакомец, уже третий по счету. Хотя все они кажутся мне на одно лицо…
— Пойдем, провожу.
«Я сам», — говорю я. И обнаруживаю, что не могу выдавить ни слова вслух. Челюсти свело.
— Ну, что ты? Испугался? Такой большой…
— Не надо, — шепчу наконец. — Я знаю дорогу.
— Ничего ты не знаешь. Пошли, пошли, а то опоздаешь к обеду.
Он топает впереди, спокойно и уверенно, словно жизнь провел в нашем лесу. Может быть, это местный леший? Вон и белка здесь, если это, разумеется, белка, а белки и зайцы, по сказкам, у леших — первые любимцы, вроде домашней скотины. Как там нужно вести себя в подобных случаях? Надеть правый лапоть на левую ногу, и наоборот… одежду вывернуть и снова надеть… про овцу что-нибудь ляпнуть: говорят, они овец боятся…
— «How sweet is the shepherd's sweet lot, — бормочу я. — From the morn to the evening he strays; he shall follow his sheep all the day…»[3]
— А вот еще, — с охотой откликается мой провожатый. — «Farewell, green fields and happy groves, where flocks have took delight. Where lambs have nibbled, silent moves the feet of angels bright…»[4]
Мне приходится принимать свою участь безропотно. Овцы его не пугают. На ногах у меня вовсе не лапти, а выворачивать штаны при постороннем я постесняюсь. И все же… белка-то следом увязалась, скачет с ветки на ветку. Но, с другой стороны, он сам предложил свои услуги, а лешие, если верить той же традиции, предлагая услуги, всегда делают это искренне и без подвоха.
— Не скучно в этой глуши, после Алегрии? — спрашивает он.
— Нет, — коротко режу я.
— Это неправильно, — говорит он, рассуждая сам с собой. — Подростки должны общаться с ровесниками, а не торчать в четырех стенах. Прыгать, бегать, бросать мяч в корзину, с девчонками гулять…
Не очень-то мне охота слушать эту пустую трескотню. Будто я и сам не знаю, что мне лучше! Но выбора у меня нет, я просто молчу и плетусь за ним, соблюдая дистанцию. Тем более, что он ведет меня, кажется, в верном направлении, и вот уже слышится в отдалении голос реки, а вот уже и деревянный мостик завиднелся…
А кто это стоит на мостике в суровом ожидании?
(Ох, и вломят мне сегодня!..)
Мама, в компании обоих пенатов сразу. Фенрис лежит у нее в ногах, вывалив сизую языню до земли, ко не сказать, что вид у него по-обычному благодушный — скорее, исполненный скрытой угрозы. Фенрис вообще-то и по жизни основательно страшен, и для тех, кто не знаком с ним лично, выглядит скорее персонажем самого мрачного центральноевропейского фольклора, нежели большой домашней собакой. Что же до Читралекхи, то она сидит чуть в сторонке, вылизывая лапу и ни на кого специально не обращая внимания, но при виде — не меня, нет! — моего спутника встает, выгибает спину и хвост дугой, вздымает шерсть дыбом, с шипом разевает пасть и делается похожа на небольшую, но очень злую пуму. Это производит на «лешего» необходимое впечатление.
— Ого! — говорит он. — Баскервильская кошка! Не думал, что они еще сохранились…
— Стоять, — произносит мама неприятным металлическим голосом, какого я у нее никогда не слыхал. — Еще один шаг, и я вас убью.
«Леший» охотно останавливается и разводит руками.
— Я только хотел вернуть вам вашего мальчика, — говорит он без особенного удивления.
— Убирайтесь, — приказывает мама.
— Конечно, — кивает «леший». — У нас нет намерений вмешиваться в вашу личную жизнь. Но это касается не только вас, но и вашего паренька. Почему бы вам не спросить его, хочет ли он…
— У вас три секунды, чтобы замолчать и уйти, — говорит мама, прикрывая глаза.
Он замолкает. Он верит, что мама его убьет. Даже я на мгновение готов в это поверить. (Чем, как?.. голыми руками?!) Он поворачивается и уходит. Быстро, и не оглядываясь. Когда он проходит мимо меня, я вижу, что он смущенно улыбается, чтобы окончательно и бесповоротно не потерять лицо, и слышу оброненную им фразу: «Уж эти мне патрульники…»
— Сева, иди домой, — говорит мама все тем же лязгающим голосом.
Нет, определенно в этой ситуации самый глупый болван — это я.
4. Удары судьбы
— Что все это значит? — спросил я, когда мы поднялись на веранду.
— Это я должна задать тебе этот вопрос, Северин Морозов, — сказала мама. — Вместо того чтобы делать уроки…
Меня затрясло. Окружающий мир сделался гнусным, серым и плоским. Внутри меня извергались вулканы и фонтанировали гейзеры. Я стянул с себя футболку и швырнул в угол. Я содрал сандалии и выбросил на улицу. Я пнул подвернувшуюся под ноги Читралекху. Мне хотелось заорать во всю глотку, наговорить грубостей, что-нибудь разбить, а потом заболеть и умереть, только побыстрее, чтобы не мучиться. Вместо этого я отыскал глазами среди сплошной серости маму и раздельно произнес:
— Я хочу в Алегрию.
После чего ушел в свою комнату и рухнул на кровать, чувствуя себя самым несчастным человеком на белом свете. Жизнь представлялась мне потерянной. Впереди ничего не было. Только четыре проклятых стены, как и предупреждал этот странный тип.
Дверь тихонько отворилась. Я не пошевелился. Пускай мама видит, как я жестоко страдаю взаперти.
Это была не мама. Читралекха, которая уже забыла обиду и припожаловала утешать меня, в меру своего понимания проблемы. Она считала, что если удостоит меня своим обществом, соблаговолит устроиться на моем пузе и позволит себя погладить, то это, несомненно, послужит лучшей наградой и кому угодно скрасит самые тяжелые моменты жизни. Может быть, она была права.
— Ты, баскервильская кошка, — бормотал я, почесывая ей за ухом.
И только потом вошла мама.
Я продолжал валяться на кровати, механическими движениями наглаживая разомлевшую Читралекху, а мама металась по комнате. Я никогда не видел ее в панике. Теперь привелось. Скажу честно: не понравилось мне это зрелище.
(Все последние дни я только и делал, что узнавал маму с новой стороны. С самого прилета из Алегрии она не переставала преподносить мне сюрпризы. По преимуществу неприятные. И самое-то обидное, что всему причиной был я. Это я самим фактом своего существования выводил маму из душевного равновесия. Это из-за меня она совершала нелогичные и даже безумные поступки. Это благодаря мне она из доброй и ласковой человечьей мамы превратилась в бешеную звериную самку, обороняющую потомство. И я не понимал тогда, почему она ведет себя так, словно я чем-то отличаюсь от всех прочих четырнадцатилетних пацанов этого мира, словно я требую какой-то неординарной заботы… или мне угрожает опасность.
И я не предполагал тогда, что пребывать в счастливом — да, именно так! счастливом, несмотря ни на что! — неведении мне оставалось считанные часы…
Ну так вот: если я, выйдя из себя, швырял что попало куда попало, но не мог выдавить ни слова, то мама, наоборот, не знала, куда подевать руки, за что схватиться, и говорила, говорила, говорила…
Я ни о чем не должен ее спрашивать. Я ни в чем не виноват. Я просто ее сын. И никто не смеет это оспаривать! (Как будто кто-то пытался!) Ради меня она пойдет на что угодно, даже если на том свете будет гореть в аду. Я слишком мал, чтобы все правильно понять, и поэтому лучше мне ничего не знать до поры. Этот человек, что привел меня к мосту, несмотря на свой безобидный и миролюбивый облик, преследовал дурные цели. И речи его лживы. (Да ведь он только и успел, что процитировать Блейка!) Они всегда лгут, когда хотят добиться своего. И коли уж они добрались до нас, то не отступятся. (Хорошо еще, что я не успел рассказать ей о первом, встреченном в поселке, и втором, на стоянке гравитров, — ее бы точно хватил удар!) Поэтому нам нужно все бросить и уезжать отсюда, и как можно скорее.
— А кто такие «патрульники»? — вклинился я, когда она остановилась, чтобы перевести дух.
— Где ты это слышал? — внезапно севшим голосом спросила мама.
— А почему Читралекха — «баскервильская кошка»? — не унимался я.
— Кто тебе такое сказал?!
— А почему в поселке никто не живет?
— Откуда ты знаешь?..
— А почему я, гражданин Федерации, наделенный всеми правами личности, никому не сделавший ничего дурного, должен прятаться?
Мама открыла рот и снова закрыла. Теперь она выглядела несчастной-разнесчастной. Новое открытие, будь оно неладно!.. Она села на краешек кресла в углу, сложила руки на коленях и поглядела на меня так, словно у меня вдруг проклюнулись рога и выросло копыто. Фенрис, когда его прогоняют с кухни в самый разгар готовки, и тот не покажется таким расстроенным.
Похоже, она не ожидала от меня претензий на самостоятельные суждения. Что и застало ее врасплох.
— Это как же мы бросим наш дом? — продолжал я развивать успех. — То есть, дом — он и есть дом… стены, крыша… какая разница, где есть, где спать… все равно я здесь никого не знаю… А как же пенаты? Ладно еще Фенрис, он собака, ему начихать, а Читралекха?! Она же сойдет с ума, если мы перетащим ее в новый дом. А если мы оставим ее здесь, а сами уедем, тогда с ума сойду я!
— Это всего лишь кошка, — проронила мама.
— Все человеческие проблемы, вместе взятые, не стоят одной поломанной кошачьей жизни! — почти закричал я.
— Ты сам это придумал?
— Нет, Читралекха нашептала… А еще вот что, — сказал я, садясь. — Непонятно почему, непонятно зачем, но, по-твоему, я что — всю жизнь должен буду прятаться?
— Я не знаю, — сказала мама.
— Но я так не хочу. Мне не нужна такая жизнь. Лучше умереть сразу.
— Ты еще не знаешь, — горько произнесла она, — что бывают ситуации, когда и впрямь легче умереть, чем жить.
— Надеюсь, это не мой случай?
— Не твой.
— Потому что мне светят всего лишь какие-то нелепые скитания вместе с тобой с планеты на планету, а я даже не знаю, в чем провинился перед этим миром?
— Наверное, ты прав, — вдруг сказала мама. Словно ее осенило или она приняла внезапное решение. — Разумеется, ты прав. Когда не уклониться от ударов, нужно их отражать.
— Уклониться! — завопил я. — От ударов! Чьих ударов?!
— Судьбы, дурачок, судьбы…
— Ты что, беглая каторжница? — спросил я упавшим голосом.
Мама невесело засмеялась.
— Конечно, нет, — сказала она. — Мы не совершили ничего дурного. Мы ни в чем ни перед кем не виноваты. Просто… просто… — Она посмотрела куда-то поверх моей головы. — Ты не все знаешь.
— А могу я тогда узнать все?
Она не ответила.
— Мне уже четырнадцать, и я довольно-таки большой мальчик, не так ли? Я даже могу водить гравитр без присмотра старших.
Этот аргумент не подействовал.
— Ладно, ладно… Как за кошкой убирать, так я взрослый, а как что другое, так сразу маленький…
И этот довод ушел в молоко.
Ворча и сетуя на судьбу, я уполз зализывать раны на веранду.
Фенрис пригласил меня поиграть, а Читралекха снова попыталась устроиться на коленях, но я всех разогнал. Ожесточенно раскачиваясь в кресле, я видел, как мама сдувает пыль с пульта видеала и роется в своих записях, очевидно, желая найти какой-то код. На моей памяти это было впервые — чтобы мама сама пыталась с кем-то связаться из нашего дома… Потом она ввела найденный код, — я невольно прекратил свои колыхания и подался вперед, — но экран оставался темным. Это было в ее стиле… Мама что-то сказала, обращаясь к темному экрану, кажется: «Нужно поговорить… ты знаешь, о ком…», и сразу разорвала связь. А после застыла на месте, нервно перебирая пальцами перед лицом, словно проясняла для самой себя, верно ли она поступает.
«О ком, о ком, — подумал я. — Обо мне, понятно. Эй, неужели она вызвала моего отца?!»
О том, что у меня есть отец, я подозревал. Я же не полный идиот… Но я никогда его не видел, ничего о нем не знал, и его отсутствие в моей жизни определенно не причиняло мне неудобств. А сейчас мне вдруг стало нестерпимо интересно знать, что же это за человек, чем занимается и как выглядит.
Ну, поскольку на маму я походил очень мало, то мог себе представить, что это наверняка здоровенный блондин, может быть даже скандинав… хотя типичные скандинавы обычно голубоглазы, а цвет моих глаз подружка Экса как-то назвала «тигриным», но, конечно, она сильно преувеличивала и просто хотела сделать мне приятное.
Возможно, он неплохой спортсмен или артист, ни фига не смыслит в поэзии, ненавидит попсу и обожает старинную музыку, в особенности струнную… хотя такие пристрастия, кажется, по наследству не передаются, но генетически все же как-то обусловлены…
Я закрыл глаза и стал думать, что же я ему скажу при встрече; ничего толкового в голову не шло, и решено было, что пускай эта проблема напрягает сначала его, а уж потом меня. В конце концов, это он ни разу не возникал в моей жизни, и это как же нужно было обидеть маму, чтобы она столько лет не подпускала его ко мне…
А потом вдруг я уразумел, что раз у меня есть отец, то, наверное, должны быть и братья, и сестры… пускай даже сводные и двоюродные… и дед с бабкой у меня тоже обязательно должны быть, и даже два комплекта. И все эти годы я, нелюбопытный, ленивомысленный балбес, даже не задумывался о них.
А они обо мне?
5. Удивительные визитеры
Гости прибыли вечером следующего дня.
Их гравитр сел на полянке перед верандой. Это был очень большой гравитр, и вскоре выяснилось, почему… Мама стояла на крыльце, сложив руки на груди, неподвижная и величавая, как древнегреческая статуя. Афина Варвакион. Но на щеках ее горели пятна, а нервный перебор пальцев выдавал всю степень ее волнения. На ней было длинное платье из пестрого индийского шелка, на плечи наброшена такая же цветастая шаль, и я никогда еще не видел ее такой красивой. Она не кинулась навстречу, даже не сошла по ступенькам, а просто стояла и ждала, когда они выберутся из кабины на свет божий.
Вначале свету божьему явлен был огромный macho, похожий на профессионального борца, — необъятные плечи, бычья шея, медвежьи волосатые лапы. Ростом он был с меня, может быть — чуть пониже, но я и не встречал еще человека, который был бы выше меня. Зато он был в три, нет — в десять раз мощнее. Когда он шел к дому, мне казалось, что земля под ним прогибается и стонет. Много позже, присмотревшись и пообвыкнув, я уяснил, что это лишь начальное, шоковое впечатление. Не такой уж он впоследствии оказался монстр. Ну да, здоровенный, могучий hombre,[5] но не великан, вовсе нет. Просто все в нем подавляло, и неокрепшие натуры, вроде моей, разило наповал. Этот темно-бурый застарелый, запущенный «загар тысячи звезд»… это непроницаемое, будто вырубленное из гранита лицо… эта звериная пластика: при всей своей осязаемой массе он перемещался бесшумно, не так, как кошка (уж я-то знаю, сколько шума способна производить по ночам ординарная баскервильская кошка вроде Читралекхи!), а скорее как привидение… эта потрепанная, мешковатая куртка черного цвета и запиленные до белизны джинсы, смотревшиеся на нем круче любого смокинга… эти зловещие черные очки, мало сходные с обычными «мовидами», мобильными видеалами индивидуального пользования, которые носили и стар и млад… «Неужели это мой отец?» — подумал я с ужасом и восторгом, стоя позади мамы в тени веранды, но в этот момент он снял очки, и я понял, что он не мог быть моим отцом. У него обнаружились обычные зеленовато-серые глаза, и в их взгляде не было ничего тигриного, одна только мрачноватая ирония. И на скандинава он вовсе не походил.
— Привет, Елена Прекрасная, — сказал он звучным голосом, неожиданно мелодичным, даже певучим, обращаясь к маме.
Я едва не сел где стоял.
Чего это он назвал мою маму «Еленой»?! Всю жизнь она была Анной, Анна Ивановна Морозова…
Всю мою жизнь.
Но ведь была у неё жизнь и до меня.
— И тебе привет, Костик, — сказала мама.
— А это… — начал он было, протягивая руку своей спутнице, следовавшей за ним в некотором отдалении.
— Мы, кажется, знакомы, — сказала мама.
— Да, я запамятовал, — смущенно проговорил он.
Стоя на нижней ступеньке, он склонился и поцеловал мамину руку — это получилось у него легко, непринужденно и даже изящно. Должно быть, много практиковался.
— Здравствуй, Леночка, — промолвила его спутница. Голос у нее был, что называется, грудной, немного в нос, и потому с особенными, мяукающими интонациями. Так могла бы разговаривать пантера Багира. — Как ты хороша в этом платье!
— А ты никак не меняешься, Оленька, — слегка напряженно улыбнулась мама.
Теперь все мое внимание было занято этой необыкновенной женщиной. Даже более необыкновенной, чем громила, которого мама с неуловимой нежностью назвала «Костиком».
Во-первых, она была некрасивая. Нет, не так: все в ее лице было неправильно, необычно. Все было слишком: синие глаза на пол-лица посажены слишком близко и сверкали слишком ярко, нос слишком крупный, рот слишком большой, губы слишком толстые, скулы слишком широкие. И короткие пепельно-серебристые волосы, не светлые, как у мамы, а именно серебристые. Я даже вначале подумал, что она седая. И все это на фоне точно такого же буро-зеленого загара, как и у ее спутника. Сущая уродина!
А во-вторых… Я уже говорил, что не встречал еще человека выше меня ростом. Сегодня этой смешной традиции был положен конец. Эта женщина была не просто выше меня. Она была намного выше. Подол ее легкого синего в горошек платья заканчивался там, где у мамы был поясок, и голые ноги-колонны тоже отливали старинной бронзой.
Нужен был очень большой гравитр, чтобы вместить двух таких великанов.
«Дылда, Жираф, — подумал я. — Если это все про меня, то как же ее-то в детстве дразнили? Годзиллой?!»
Между тем, «Костик» заметил меня. Мы встретились глазами. Если я был немного разочарован — все же надеялся встретиться с биологическим отцом, а приехал непонятно кто, непонятно зачем… — то в его взгляде сквозил жаркий, трудно скрываемый интерес к моей скромной персоне. Он наконец отпустился от маминой руки (то, что он не слишком-то спешил это сделать, не укрылось ни от чьих глаз; маме это было, кажется, приятно, а прекрасной великанше — забавно, ему же самому — непонятно как, на его каменной физиономии не отражалось почти ничего, но что-то его с мамой связывало, какое-то давнее, почти забытое, но очень и очень сильное переживание…), взошел на веранду — там сразу стало не повернуться — и протянул мне свою чудовищную лапу. Я осторожно вложил в эти клещи свою конечность. «Сейчас он назовет мое имя, рост, вес и дату рождения», — подумал я досадливо.
Однако же он пропел:
— Леночка, представь нас.
— Севушка, это Костя… Константин Васильевич, мой очень давний хороший друг, — сказала мама. — Мы знакомы с детства. И потом еще несколько раз встречались в Галактике. Он — весьма известный ксенолог.
— Широко известный в узких кругах, — улыбнулся он. — Не только в ближнем, но и дальнем коттедже. Можешь звать меня «дядя Костя».
— А я — тетя Оля Лескина, — в тон ему промолвила великанша. В ее устах это прозвучало как «Уоля». — Я действующий навигатор Корпуса Астронавтов, а сейчас в отпуске.
— А это, дядя Костя и тетя Оля, мой сын, — продолжала мама. — Сева… Северин Морозов.
— Очень, очень большой мальчик, — хмыкнул дядя Костя.
«И зачем же вы все здесь собрались?» — вертелся у меня на языке вредный вопрос.
— А собрались мы здесь, — сказал дядя Костя (я почувствовал, как лицо мое вспыхнуло; неужели он читает мысли?!), — чтобы вернуть все, что довольно давно поставлено с ног на голову, в натуральное положение.
— Ага, — брякнул я.
Нужно же было как-то реагировать на его слова!
— Пойдемте пить чай, — сказала мама.
— Чай — это грандиозно, — кивнул дядя Костя. — Только чуть позже. Давай, Леночка, вначале разберемся, что к чему.
— А ты не знаешь? — усмехнулась мама.
— Представь себе, нет, — сказал он. И тут же поправился. — Допустим, далеко не все. Ты же такая скрытная. Даже имя сменила… Кстати, не хочешь ли тоже представиться… собственному сыну?
— Пожалуй, — сказала мама. — Севушка, раньше… до твоего появления… меня звали Елена Егоровна Климова. Я командор Звездного Патруля в отставке. В той, прежней жизни мы все и встречались.
Эй, вы все — чтобы знали: моя мама — командор Звездного Патруля!
Это была такая обалденная новость, что в тот момент я даже не отреагировал на нее надлежащим образом. А только пробормотал глупо и безучастно:
— Патрульники… вот оно что… А зачем ты изменила имя?
— Что бы ни случилось, как бы ни сложился наш разговор с дядей Костей — ты сегодня же все узнаешь, — пообещала мама.
— Позволь уточнить, Леночка, — сказал дядя Костя. — Разговор наш сложится успешно, и только так. Потому что иначе нам с тобой нельзя. Ты согласна?
— Нет, — сказала мама.
Он снова хмыкнул, взял маму под локоток — она не протестовала — и увел в гостиную.
6. Внезапная тетушка
Мы с удивительной великаншей остались на веранде — два этаких долдона.
— А ты вот так умеешь? — вдруг спросила она и замысловато переплела руки.
— Чего тут уметь? — приглядевшись, удивился я. И со второй попытки сделал то же самое.
— Чего, чего, — передразнила тетя Оля. — А того, что на этой планете на сей фокус способны только мы с тобой.
— Почему?!
— Кости рук у нас так устроены, — сказала она.
Я пожал плечами: устроены так устроены, чего голову ломать!
Тетя Оля, прищурившись, посмотрела на меня сверху вниз. Теперь она уже не казалась мне такой уродиной, как вначале. Просто к ее лицу нужно было привыкнуть, приглядеться. И тогда впечатление резко менялось. Собственно, у меня оно уже изменилось.
— Знаешь что? — продолжала она. — А я ведь есть хочу! Я ведь досюда через пол-Европы пробиралась! Имеется тут у вас какой-нибудь огород?
— Ага, — сказал я.
— Не «ага», а «разумеется, сударыня», — строго поправила она. — Тебе не в лом будет утащить с кухни немного хлебца?
— Угу, — сказал я.
— Отлуплю! — пригрозила она.
Мне было не в лом, и я сбегал на кухню за хлебом, а заодно прихватил немного масла в масленке и солонку — кто знает, что взбредет этой новоявленной тетушке в голову! Проходя мимо веранды, я видел, как дядя Костя что-то внушал маме, помогая себе экономными жестами, от которых по гостиной гулял ветерок, а мамуля молча слушала его, подперев щеку, а вот слов его было не разобрать, как ни старайся.
— Веди на огород, — сказала тетя Оля, по-хозяйски беря меня за руку. — Мама не станет ругаться, если мы стырим парочку огурцов и помидоров?
— Не-а, — сказал я.
— Ты как, прикидываешься лопухом или лопух и есть?! — рявкнула она. — Отвечай развернутыми фразами: дескать, полагаю, что не станет…
— Ладно, — сказал я.
— Не ладно, а «хорошо», горе луковое.
Мы обогнули дом и попали на мамины грядки. Тетя Оля сразу же сорвала самый красный помидор и отдала мне, а себе нашла самый большой. Мы вымыли их под ржавым рукомойником с пипкой, синхронно посолили, надкусили и моментально обляпались в одних и тех же местах.
— Я знаю, о чем ты думаешь, — сказала тетя Оля, утираясь сорванным листиком.
— О чем?
— Ты думаешь — ты и говори.
— Еще чего! — возмутился я. — Вдруг я какую-нибудь глупость думаю! Стану я ее вслух говорить…
— Пока что ничего умного ты и так не сказал. А вот когда начнешь выражать свои мысли вслух, авось и обогатишь свою речь. У тебя же на лице все написано, малыш!
Малыш… Пожалуй, она была единственная, в чьих устах такое обращение не звучало аллегорически.
— Но ведь это же вы сказали, что знаете, — упирался я.
— Конечно, знаю!
— А если я думаю о чем-то другом?
— Давай играть честно, — сказала она. — Согласен?
— Угу…
— Не «угу», а «ау-ау, та'ат!»[6]
— Чего-о?!
— Не обращай внимания… Если я угадаю, то вот что: поцелуешь меня в щеку.
— А если не угадаете?
— Тогда я везу тебя на закорках вокруг дома.
— Вам меня не поднять!
— Ха! — воскликнула она. — Малыш… К тому же, я ничем не рискую.
— Ну-ну, — сказал я.
— Так вот: когда мы уделались помидорками, ты подумал, что уж кто-то, а эта здоровенная халда — определенно твоя родная тетя… — Я вспыхнул, как упомянутый помидор. — Ну что? Я права? Давай целуй, оболтус!
«Обуолтус»… Это звучало забавно и волнующе.
Ее бронзовая щека приблизилась к моему лицу. Я увидел серебристый пушок возле уха, крохотную сережку с синим камушком в ухе и короткую пепельную прядку за ухом. Я услышал запах ее духов… Внутри моей башки взорвался фейерверк. Я зажмурился, качнулся вперед и ощутил своими губами ее горячую упругую кожу. Мне было безразлично, угадала она или нет: я все равно сделал бы это. Хотя, конечно, она угадала. Сердце оборвалось и рухнуло куда-то в желудок. Не было никаких сил убрать губы от ее щеки. Никогда еще со мной не приключалось ничего подобного.
— Но я не твоя родная тетя, — сказала она, отстраняясь и отправляя в рот остатки помидора. — Увы! Хотя… — Она задумчиво облизала пальцы. — В этом мире у тебя нет никого ближе по крови, чем я.
— Вот еще! — возразил я, все еще немного оглушенный новизной впечатлений. — У меня есть мама.
— Конечно, есть.
— У меня, наверное, есть отец…
— Несомненно! И ты, наверное, подумал, что Консул — твой папочка?
«Куонсул»… Я едва сдержался, чтобы не передразнить ее. А вместо этого быстро переспросил:
— Кто-кто?!
— Мм-м… дядя Костя.
«Куостя»… Тоже не подарок.
— Видишь ли, «Консул» — это его прозвище в Галактике… Нет, он и взаправду просто старинный мамин друг. Ты разочарован? Не лги же мне, несносный ребенок!
— Ну… если бы он был моим отцом, я… я… Такой отец все равно лучше, чем никакого.
— Браво! — воскликнула она и взъерошила мне макушку. — Я передам Консулу твои слова, чтобы он не задирал нос! Как это ты выразился: лучше фиговый отец, хотя бы даже и такой, чем никакого… Он, правда, и не задирает, но крутизна из него порой так и прет, помимо воли и желания. А тебе очень не хватает отца?
— По правде сказать… нет. Еще вчера я даже не задумывался об этом.
— А теперь задумался? И что решил?
— Еще месяц назад я жил в Алегрии, учился в колледже, — сказал я. — Само собой, я не против, чтобы у меня был отец. Но друзей мне не хватает больше…
— Это как раз поправимо, — промолвила она. — Ты, по крайней мере, знаешь, где остались твои друзья. Значит, всегда можешь туда вернуться.
— Вернуться, как же! — проворчал я.
— А вот что касается твоего отца, то где он, кто он — не знает никто.
— Мама знает, — предположил я.
— Ты будешь удивлен, — заметила она, — но этого не знает даже твоя мама.
— Так не бывает!
— Еще и не так бывает… Послушай, малыш, а чердак у вас в доме есть?
— Угу.
— Не «угу», a «oui, mademoiselle».[7] Обожаю чердаки! Паутина, сундуки, старые игрушки… м-мм! Клёво! — Она даже зажмурилась. — А нельзя ли мне к вам на чердак?
— Там же ничего интересного, — сказал я с сомнением.
— Это для тебя ничего, — возразила она. — А я уж найду.
И мы полезли на чердак.
Попасть туда можно было двумя способами: со второго этажа по винтовой лестнице и с улицы — по приставной. Нет нужды объяснять, что мы воспользовались последним способом. «Привидения есть?» — деловито осведомилась тетя Оля. «Н-нет… не знаю», — сказал я. «А ты боишься привидений?» — «Чего их бояться…» — «Привидения для того и существуют, чтобы их боялись. Пугать — их основная функция. Или, если угодно, предначертание. Это все равно как если бы я спросила, ешь ли ты помидоры, а ты бы отреагировал в том смысле, что, мол, чего их есть?.. Тэ-э-эк-с, посмотрим. Дом старый, добротный. Построен из хорошего натурального камня, обшит деревом — в декоративных целях. Дерево — какая-то разновидность дуба… Должны, должны быть гости…» — «Почему — гости?» — «Игра слов. Во-первых, все мы гости на белом свете. А такие, как Консул или, к примеру, я — гости даже в собственном доме. Привидения же, говоря фигурально, на этом свете загостились. Во-вторых, есть очень созвучное английское слово „ghost“…» — «Я знаю». — «…и ни один нормальный звездоход в рейсе не помянет нечисть и потусторонние силы иначе, как используя эвфемизмы. Не то жди — непременно заведется какая-нибудь дрянь, ищи потом в окрестных мирах живого священника со святой водой!» Она смерила взглядом лестницу, поплевала на ладошки и полезла первой, не переставая разглагольствовать. «Однажды на „Кракене“… это такой галактический стационар, ты, наверное, не знаешь… галактический стационар — это такое большое искусственное поселение в открытом космосе, вроде научного городка… появился второй субнавигатор, непроходимо отвязный тип, храбрый до неприличия, а я была третьим субом. Это уж я потом поняла, что чрезмерная отвага вовсе не достоинство, а клинический симптом, нарушение базовых психологических реакций… И вот он, этот храбрец, чертыхался через слово, а первому субнавигатору как-то сказал в том смысле, что, мол, чего это вы всегда так тихо ко мне подкрадываетесь, ровно привидение, я ведь и напугаться могу! Ну, это я излагаю своими словами, у него смешнее прозвучало… Первый суб от такого неподобства дара речи лишился, а я, дура глупая, только захихикала. Нравился он мне, что греха таить, дело прошлое… Ты меня слушаешь, племянничек?» Я честно пытался. Но в данный момент я карабкался по лестнице за ней следом, и ее бронзовые ноги были в нескольких сантиметрах от моего лица. Можно было рассмотреть каждую трещинку на ее сандалиях, каждую пушинку и каждую царапинку на ее икрах, нежную, почти не тронутую загаром кожу в ямках под коленками… а когда я задирал голову, то мог увидеть ее трусики. Узкую полоску белой паутинчатой материи, утонувшую между двумя полушариями, которые жили своей очень активной жизнью внутри распахнувшегося парашютным куполом платья… Так что весь я обратился в зрение, а все остальные органы чувств попросту на время отключились. Только и сумел я, что промычать в очередной раз свое «угу».
Я мог только мечтать о том, чтобы чердачная дверь оказалась закрыта, и нам пришлось бы одолеть этот головокружительный путь еще раз — в обратном направлении.
Но чердачная дверь никогда не запиралась. Глупо навешивать замки, имея в доме такую любопытную и деятельную тварь, как Читралекха.
«Свет здесь, конечно же, не предусмотрен», — проворчала тетушка, шаря вокруг себя и опрокидывая какие-то пыльные коробки и ветхие ящики. И тотчас же вспыхнул свет, теплый и очень слабый. «Уой… Кресло! — выдохнула тетя Оля с восторгом. — Да не простое, а качалка… Всю жизнь мечтала о такой!.. Бабушкино, наверное?» — «Это…» — начал было я и замолчал. Откуда мне было знать, кому в стародавние времена принадлежало это плетеное кресло с выгнутыми салазками вместо ножек. Тетушка с размаху плюхнулась в него и едва не опрокинулась вверх тормашками. Ее бесконечной длины ноги взмыли под крышу. У меня пресеклось дыхание. «Уой… О-бо-жа-ю!» — произнесла она удовлетворенно. Кресло стонало под нею. Я нашарил позади себя какой-то сундук и поспешно сел, потому что конечности отказывались служить. «Так вот, продолжаю дозволенные речи… Однажды после вахты он, то есть упомянутый второй суб, находит меня, глаза красные, как у белого кролика, сам, впрочем, отнюдь не белый, а зеленый… и спрашивает, мол, не было ли у меня какой нужды прошлой ночью бродить по восточному переходу, завернувшись в белую простыню. Челюсть моя отпала, и он сам снял поставленный вопрос, как идиотский, но озабоченности явно не утратил. Спустя какое-то время я заметила, что он достает тем же вопросом старшего инженера, тоже даму приятную во всех отношениях, и точно гак же немедленно все заминает на корню. Оказывается, всякий раз, когда он стоит вахту на центральном посту в одиночестве, видится ему за спиной некая леди в белом, что является чаще из восточного коридора, реже — из западного, но, заметь, никогда из центрального. А стоит бедняге обернуться — и нет ничего. Тогда уж и у меня сам собой родился вопрос: каким же конкретно органом восприятия он обнаруживает ее присутствие, если находится к входу на пост спиной, с учетом того обстоятельства, что глаз на затылке у него не имеется. А парень делается совсем плох и деморализован. Вот он уже принимает успокоительное. Вот он уже на приеме у медика. Вот он уже просит меня стоять вахту с ним вместе, за что впоследствии, по прибытии в пункт назначения — кажется, это была система Шератан… или федеральный форпост Шедар… определенно что-то шипящее… — вот там-то он всемерно меня отблагодарит. Я же, будучи по молодости особой крайне любопытной, вполне созрела, чтобы посмотреть на живое, с позволения сказать, привидение собственными глазами… А вот интересно, что в этом сундуке под тобой? Вдруг старый мамин скафандр с регалиями Звездного Патруля! Или чей-то скелет!..» Мне было положительно наплевать, что хранилось в сундуке под моим задом. Я сидел перед ней, уставясь на ее круглые коленки, краснел, бледнел, шел пятнами, потел и не мог собраться с мыслями. Мне хотелось одновременно нескольких вещей. Во-первых, немедленно уйти отсюда, чтобы не выглядеть таким круглым дуралеем и дальше. Во-вторых, чтобы ушла она со своими коленками, ногами, руками… духами. В-третьих, чтобы я не уходил, чтобы она не уходила, а вместо этого избавилась бы от своего платья в дурацкий горошек, которое все равно ничего толком не скрывало. Единственное, что мне сейчас было по-настоящему интересно, так это как она устроена под этим платьем.
В довершение ко всему, в моем затуманенном сознании неоновой вывеской вспыхнула мысль: «Когда я вырасту, она станет моей женой!..»
— Эй! — тетя Оля пощелкала пальцами у меня перед носом.
— Что? — встрепенулся я.
— Ты знаешь, какое прозвище было у твоей мамочки в Звездном Патруле?
— Нет. Я… я даже не знал, что она была «патрульником».
— Восхитительно! И так похоже на нашу Елену Прекрасную… Титания — вот как ее называли. И если кто-то думает, что в честь сказочной королевы эльфов, то трагически заблуждается.
— Не думал, что у юфмангов когда-то была королева! — фыркнул я. — Даже сказочная! С их-то замшелым патриархатом…
— Что, историю Великого Разделения уже преподают в школах?!
— Угу… Да, сударыня, — поправился я и хихикнул.
— А Шекспира?
— Конечно!
— Но уж никак не «Сон в летнюю ночь»… Так вот, малыш, Титания была супругой Оберона, а он был королем наших эльфов, из наших сказок, и к юфмангам они не имеют почти никакого касательства. То есть, разумеется, имеют, но находятся в том же соответствии, что мифические драконы и вполне реальные неодинозавры. Если уж на то пошло, то юфманги вообще гномы, а не эльфы!.. В нашем случае действовала нелинейная ассоциативная цепь: имелся в виду одноименный третий спутник планеты Уран… диаметр… диаметр… черт, не помню уже ни шиша… примерно тысяча шестьсот километров, масса — три с половиной квинтиллиона тонн, среднее расстояние от поверхности планеты — четыреста тридцать шесть тысяч километров, период обращения вокруг Урана — без малого девять земных дней, что совпадает с периодом обращения вокруг собственной оси, из чего следует что?
— А… что?..
— Нет, астрономию ты в своем колледже явно прогуливал. Из этого следует, что у Титании, как и у Луны, есть своя невидимая с поверхности главной планеты сторона, с которой связана старая неприятная история. В двадцать четвертом году о поверхность Титании разбился пассажирский трамп. Отказала автоматика наведения, выдала ошибочный курс. Такое раньше бывало… Погибло триста человек — весь сменный персонал местной станции слежения. Перед тем, как связь прервалась, первый навигатор трампа Билл Сми мрачно пошутил: «Не знал, что окажусь капитаном „Титаника“!» — «А на что ты рассчитывал, с такой фамилией?» — подыграл ему напоследок оператор связи. Билл оценил шутку, засмеялся… и все кончилось.
— Не понял прикола, — сказал я.
— Это потому что ты неграмотный и нелюбопытный.
«Что верно, то верно», — вынужден был мысленно согласиться я.
— Был такой океанский лайнер «Титаник»…
— Про это я слыхал.
— А его капитана звали Эдвард Джон Смит.
— Теперь понятно… Но мама-то при чем?
— А при том, что сколько она разбила мужских сердец, знает один Господь. Не триста, конечно, но не намного меньше, поверь мне. И даже Консул, олицетворение железной выдержки и неподдельной отваги… да и ловелас порядочный… и его, ходят легенды, во время оно не минула чаша сия. Кроме того, спутник Урана в естественном своем виде представляет холодную глыбу камня пополам со льдом. И если бы ты встретил свою маму в пике формы, то. согласился бы, что именно из перечисленных ингредиентов она и состоит, с явным преобладанием самого морозного льда, какой только можно себе вообразить. Так что никак иначе твою маму было не назвать, кроме как Титанией…
— Но ведь у нее в этом самом Патруле… все получалось?
— Получалось? — оживленно переспросила тетя Оля. — Уой, насмешил! Да она была одним из лучших командоров во всей человеческой Галактике! Еще немного — и она вошла бы в фольклор, как тот же Консул, а он-то как раз вошел, и стал его неотъемлемым персонажем, и о нем рассказывают легенды и травят анекдоты приблизительно в равной дозе.
— Почему же тогда она все бросила и ушла?
— Да потому что появился ты, глупый.
— Допустим. Но почему тогда она пряталась и хотела спрятать меня?
— Боялась, что тебя отнимут, — просто сказала тетя Оля. Я не успел сформулировать следующий естественный вопрос: кому и зачем я понадобился в монопольное владение… тоже мне, сокровище!.. как она продолжила в том же беззаботном тоне: — Теперь-то уже все позади. Если Консул вмешался — считай, что ваш дом огородили крепостной стеной, выставили дозоры и пустили боевые машины шагать по периметру. Для начала, он не слишком-то любит все эти дела…
— Какие дела? — все же ухитрился вклиниться я.
— Всякие эти… оборонные проекты. Потом, он до сих пор очень и очень неплохо относится к Титании. Ему осталось только уговорить ее принять его помощь. Леночка… твоя мама может думать о себе все, что угодно, но без влиятельных друзей ее в покое не оставят. То, что она обратилась к нему, — самое умное, что она сделала за последние двенадцать лет.
— Маму довольно трудно уговорить, — заметил я.
— Он и не таких уговаривал, — пожала плечами тетя Оля. — Ты его как-нибудь порасспроси, он тебе порасскажет. Я со своими байками по сравнению с ним — жалкая курортная анекдотчица.
«Ничего, — подумал я почти спокойно, насколько это понятие было применимо к моему отравленному тестостероном мыслительному аппарату. — Я скоро вырасту. Еще до того, как ты состаришься. Я успею». На более здравые рассуждения меня уже не хватало. Мне и в голову тогда не приходило, что у нее прямо сейчас мог быть абсолютно другой мужчина. Что у нее могли быть дети. И, может быть, даже моих лет. И что уже поэтому в ее глазах я навсегда останусь обычным переростком-несмышленышем.
Похоже, я влюбился в некрасивую гнусавую женщину, которая годилась мне в тети и по возрасту вполне могла быть моей матерью. Поздравьте меня с такой радостью.
— Так вуот, возвращаясь к нашей леди в биелом… — сказала она.
Но тут нас позвали за стол.
7. Точки над «и»
Мы явились с чердака по внутренней лестнице, чем всех привели в замешательство. Хотя, по правде сказать, мы лишь добавили им стресса. Мама сидела прямо, будто аршин проглотила. Она была бледна, как лунный свет, лишь губы выделялись на помертвевшем лице двумя алыми кляксами. Дядя же Костя, напротив, спиной был согбен, ликом темен, мрачен и напряжен. Между его кулаками валялись осколки фарфоровой чашки, которую он, по всей видимости, раздавил в пылу полемики. При виде тети Оли, что от уха до уха сияла самой лучезарной улыбкой, какую только способно вместить человеческое лицо, на его пасмурную физиономию тоже невольно наползло некое подобие добродушия. Вслух же он строго осведомился:
— Ольга, ты опять хулиганишь?
— Ну разве что чуть-чуть, — хихикнула великанша. — Леночка, твой птенчик такой смешнуой! Я просто влюбилась в него…
От этих ни к чему не обязывающих слов сердце мое сладко екнуло. Я обогнул стол и сел на свободный стул рядом с мамой и напротив тети Оли, которая подтащила пустовавшее кресло и взгромоздилась в него с ногами. Поймав мой ошалелый взгляд, она скорчила мне потешную гримаску.
— Так, — сипло сказал дядя Костя и шумно прочистил горло. — Сева… Мы с твоей мамой все обсудили и решили расставить все точки над «и». В конце концов, ты уже довольно большой мальчик и все поймешь. Ну, почти все.
— Кругом только и твердят: большой, большой… — проворчал я.
— Помолчи, — сказал дядя Костя. — Большой — это значит крупный, а не взрослый. Когда мне захочется выслушать твое мнение и ответить на вопросы, я дам тебе знак.
— Oui, monseigneur,[8] — смиренно произнес я.
— Ольга, — сказал дядя Костя укоризненно.
— Чуть что, сразу Ольга! — с готовностью парировала та, и теперь уже на мамино лицо нашла тень озабоченности.
— Так, — повторил дядя Костя звучным баритоном. — Нужно как-то начать излагать эту длинную историю… Лена, у тебя есть что-нибудь выпить?
— Водка, вино, пиво, — сказала мама.
— Выноси все.
Мама ушла на кухню, а дядя Костя посмотрел на тетю Олю совершенно неподобающим его стати затравленным взглядом и спросил:
— Чего вы там делали, на чердаке?
— Цаловались да обнимались! — объявила моя прекрасная великанша и захохотала.
Дядя Костя переместил взор на меня, и я, в сотый уже раз за день залившись краской, поспешно ответил:
— Тетя Оля рассказывала мне историю про привидение.
— Помнишь тот случай с Диомидовым, на «Кракене» в сто тридцать девятом? — спросила тетушка.
— А-а, — протянул дядя Костя. — Мне, кстати, так и не доложили, чем закончилось.
— Мне тоже, — буркнул я.
— Все потому, что Шахразаде никак не дают закончить дозволенные речи, — кротко заметила великанша. — Все перебивают…
Мама вернулась, катя перед собой столик с бутылками, бокалами и огородной зеленью в маленькой корзинке.
— Мне вино, — сказала тетя Оля. — Что это? «Шато Бомон» урожая сто тридцатого года? Уой… о-бо-жа-ю! А это зачем?! Кто здесь трескает эти луковицы?
— Я трескаю, — промолвил я застенчиво.
— Ну и вкусы же у некоторых…
— Все пиво мне, — сказал дядя Костя. — И всю водку. А сами пейте что хотите.
— Ты ставишь нас перед трудным выбором, — с иронией произнесла мама.
Дядя Костя налил себе полный бокал водки (тетушка следила за ним с ужасом и восторгом, а мама — просто с ужасом). Затем он смерил меня оценивающим взглядом, набулькал в пустой бокал вина до половины и подтолкнул в мою сторону. Я посмотрел на маму. Теперь ее лицо сделалось обреченным.
— Не люблю вино, — сказал я.
— Я тоже, — проговорил он, в три глотка опустошил свою емкость и зажмурился.
Тетя Оля крякнула и наморщила нос.
— А я плу-оддера-а-а узнаю-у-у по походки-и-и, — пропела она непонятную фразу.
Дядя Костя не глядя нашарил в вазе перед собой лимон, подкатил к себе, так же наощупь ухватил нож и двумя ударами развалил плод на четыре доли, каждую из которых с незначительными интервалами отправил в рот вместе с кожурой.
— Не вздумай повторять за мной, приятель, — сказал он невнятно.
Я закрыл глаза и сделал глоток. Вино пахло дубовой пробкой и ею же отдавало на вкус. Кроме того, оно показалось мне неприятно теплым и вяжущим, словно его делали из недозрелого винограда.
— Сева, — сказала мама. К своему бокалу она даже не притронулась. — Нужно тебе знать, что ты мой сын, но я тебя не рожала.
— Угу, — сказал я, больше занятый новизной ощущений.
— Ты мне не родной сын, — продолжала мама. — Я тебя нашла.
— В капусте? — уточнил я.
— В капсуле, — ответила мама.
— Даже созвучно, — ввернула тетя Оля и одобряюще улыбнулась мне.
— Не родной? — переспросил я, и до меня наконец дошел смысл ее слов.
Все молчали и глядели на меня. А я все еще не понимал, какой реакции они от меня ожидают.
— И что? — осторожно спросил я. — Ты хочешь меня отдать? Этим… родным и близким? Мне что, придется уйти от тебя?
— Да нет же, дурачок, — сказала мама и вдруг заплакала. Второй раз за последние дни.
— Ленка, перестань! — сказала тетя Оля. — Это тебе не идет. А ты, — обратилась она ко мне, — тоже не говори ерунды. Ты просто не понимаешь…
— Он все правильно понимает, — заступился за меня дядя Костя. — Это только в мыльных операх герой от таких слов вначале падает в обморок, а потом бьет посуду и уходит в горы. У парня здоровая, устойчивая психика. Первый удар он принял достойно, дай бог каждому…
— А что, будут еще удары? — спросил я, глуповато ухмыляясь.
— А то! — сказал Консул.
«Ладно, — подумал я. — Важное дело — родной, не родной… Это все генетика. Хромосомы всякие дурацкие… Главное — никто меня у мамы не заберет. Хорошо бы еще вернуться в колледж. Все остальное — ботва. И если другие обещанные „удары“ окажутся той же силы, то чихать я на них хотел. Ну чем они еще могут меня ударить? Наверное, сейчас мне расскажут про настоящих родителей. Приоткроют тайну личности. Что же, у меня, как было сказано, устойчивая психика. Я готов».
— Я готов, — сказал я и шумно отхлебнул из своего бокала.
Мама вытерла слезы, высморкалась и продолжала:
— В сто тридцать шестом году, пятого октября по земному летоисчислению, во время патрулирования на окраинах звездной системы Горгонея Терция, мы получили сигнал бедствия.
— Горгонея Терция, она же ро Персея, — пробормотала под нос тетя Оля. — Красная полупеременная, расстояние до Солнца девяносто парсеков, обитаемых миров нет и быть не может…
— Мы тоже удивились, — кивнула мама, — потому что точно знали, что никого из членов Галактического Братства там нет. А патрулировали потому лишь, что Горгонея Терция попадала на периферию одного из октантов…
— Что такое «октант»? — перебил я.
— Условно говоря, это часть куба, образуемая пересечением трех плоскостей, рассекающих его на равные объемы. Один из восьми маленьких одинаковых кубиков внутри одного большого. Ну, это между нами, патрульниками…
— И между нами, навигаторами, — сказала тетя Оля.
— И между нами, плоддерами, — проворчал дядя Костя. — Еще есть такое созвездие и такой старинный угломерный инструмент. Лена, если ты хочешь закончить свою историю до темноты, излагай ее языком, доступным четырнадцатилетнему подростку.
— Я постараюсь, — промолвила мама. — То есть, делать там было особенно нечего, и мы развлекались как умели. Я, например, научилась раскладывать пасьянс «пирамида Тутанхамона»… Сигнал бедствия передавался в двух диапазонах — в стандартном для Братства гравидиапазоне и еще в одном, которым никто и никогда не пользовался. Вернее, мы так думали, потому что ничего тогда не знали… Дело в том, что у Горгонеи вообще нет планет, а есть три концентрических пояса астероидов. Разнокалиберная щебенка, нанесенная блуждающими потоками со всей Галактики. И, как видно, чей-то корабль угораздило выброситься из экзометрии в субсвет внутри этой свалки. Ну, свалка-то свалка, а смотрится красиво… со стороны. Гигантские, размытые, подсвеченные красным светилом кольца. Как наш Сатурн, только в тысячу раз грандиознее, и кольца эти лежат в разных плоскостях… Мы вызывали терпящий бедствие корабль, но он не отвечал и просто продолжал слать свои сигналы — наш… чужой… наш… чужой… Мы уже готовились нырнуть в этот каменный ад, рискнуть хрупкими девичьими шейками…
— Почему девичьими? — спросил я.
— Потому что весь наш экипаж состоял из девушек.
— Амазонки, — сказал дядя Костя со странным выражением лица.
— Зачем из девушек? — снова спросил я.
— Ну… мы так решили. Сейчас это несущественно… Так вот, мы уже маневрировали в плоскости внешнего кольца, когда оттуда центробежной силой начало выносить обломки корабля. Может быть, даже нескольких кораблей или стационара — потому что обломков было много, и они были громадные. С одного из фрагментов корпуса шел «наш» сигнал, но в живых там определенно никого не оставалось. А немного погодя выбросило кассету спасательных капсул, не успевших расцепиться. Хотя, может быть, просто некому было дать команду на расцепление. Маяк одной из капсул подавал «чужой» сигнал.
— Это был наш корабль? — вклинился я. — Земной?
— Мы решили, что наш, хотя, повторяю, здесь не могло быть наших кораблей, а тем более стационаров. Это могли быть какие-нибудь аутсайдеры с частными поисковыми миссиями — хотя что здесь было искать, кроме камней? Разве что какие-нибудь артефакты… Собственно говоря, ответ дали бы капсулы, потому что в них могли находиться уцелевшие члены экипажа. И мы стали ловить эту кассету.
— Поймали?
— Глупый вопрос, — сказала тетя Оля. — Это была их работа!
— Конечно, поймали, — сказала мама. — Капсул было тридцать две, и почти все они были пустыми. Во всяком случае, те, что были во внешнем слое. Но скоро мы добрались до внутренних слоев, и там стали попадаться… не пустые. — Она поднесла бокал к губам и сделала большой глоток. Лицо ее было неподвижным. — Там были мертвые дети.
8. Мертвые дети
— Дети, — сказал я. — Мертвые дети.
Мне понадобилось какое-то время, чтобы привыкнуть к этому новому для меня словосочетанию.
Я не кисейная барышня, чтобы падать в обморок из-за ерунды. Я знал, что такое смерть. Все рано или поздно умирают…
Я даже видел смерть — на экране и на сцене. Когда Ромео в истрепанных джинсах умирал от любви к Джульетте в холщовом сарафане, девчонки начинали хлюпать носами, а мы, пацаны — громче хихикать. Ромео умирал слишком красиво, чтобы заставить нас сопереживать. И мы абсолютно точно знали, что закроется занавес, и этот парень встанет и уйдет домой, быть может — даже не попрощавшись с Джульеттой, которая тоже встанет и тоже уйдет. Когда Анна Каренина бросалась под поезд, мне требовалось усилие, чтобы представить себе эту сцену, оценить ее трагизм и проникнуться сочувствием. Почему Анна не могла просто отвесить этому баклану Вронскому оплеуху и пойти с другим парнем в театр? По какому такому праву старый черт Каренин не подпускал ее к сыну, он что — сам носил и рожал его?! Чего все эти светские дамочки так разорялись — разве она обязана всю жизнь любить одного и того же пельменя, будь он хоть самый крутой сенатор?.. И уж ничто так не раздражало меня, как смерть Гамлета — неожиданная, нелепая и необязательная. Стоило ли городить весь этот заморочный огород, чтобы в конце тупо наступить на отцовские грабли: ни с того ни с сего умереть от отравы, а после, наверное, на пару с папулей-призраком шататься по сырым стенам Эльсинора…
Слова о том, что когда-то, много лет назад, люди умирали от того, что их убивали другие люди, от каких-то невероятных болезней, просто от голода, ничего для меня не значили. Да, люди умирали. Много умирало. Среди умиравших были женщины и дети. Может быть… Это была лишь фигура речи, не подкрепленная никаким конкретным содержанием.
Я видел смерть в жизни. Много раз я видел дохлых крыс и хомяков, которых временами приносила в дом Читралекха. Они походили на неопрятные старые игрушки и не будили во мне никаких чувств, кроме отвращения. Их нужно было просто уничтожить прежде, чем до них доберется Фенрис; вот и все, на что они годились.
Никто из моих родных и близких еще никогда не умирал и даже не болел. У меня просто не было родных — только мама. А близкие были слишком юны, чтобы умирать или болеть — если не считать простуд, синяков и ссадин.
Мертвые дети. Разве так бывает?
— Почему? — наконец спросил я. — Почему — дети? Почему — мертвые?
— Очевидно, взрослые и не пытались спастись, — сказала мама. — К примеру, решили бороться за корабль до конца. А потом стало слишком поздно. Поэтому было так много пустых капсул. На борту были дети, и экипаж решил спасти хотя бы их. Но корабль разрушился до того, как эвакуация была завершена штатно. И много капсул пострадало. Дети просто погибли от холода и удушья.
— Сколько их было?
— Семь. Пять мальчиков и три девочки. В возрасте примерно от двух до десяти лет.
— Восемь, — поправил я. — Пять плюс три равняется восьми.
— Правильно, — сказала мама. — Семеро погибших. Но один мальчик, в самой внутренней капсуле, был жив.
— И где он сейчас? — спросил я, понимая, что задаю самый дурацкий вопрос из всех возможных. Хотя бы потому, что уже знал на него ответ.
— Он сидит рядом со мной, — сказала мама. — И задает глупые вопросы.
— Я ничего не знала, — сказала тетя Оля с отчаянием в голосе. — Господи, Ленка, я ничего этого не знала!
— Я тоже, — сказал дядя Костя. — А уж когда узнал, то очень многим захотел свернуть шеи…
Теперь и я тоже все это узнал.
На пятнадцатом году внезапно выяснилось, что был такой момент в моей жизни, когда вокруг меня были мертвые дети.
Наверное, я мог быть таким же мертвым, как и они. Но по какой-то, несомненно, существенной причине оказался живым.
Я сидел молча и понемногу осознавал, что мне очень важно знать, почему они все умерли, а я — нет.
— Это было больно? — спросил я.
— Что? — не поняла мама.
— Умирать… от холода и удушья?
— Да, — ответил за маму дядя Костя. — Очень больно и страшно.
На какое-то мгновение я ощутил, как это происходит. Что ты испытываешь, когда падаешь в тесной металлической скорлупке в черную пустоту, вокруг тишина, темнота и ужас, нескончаемый ужас, с каждым ударом сердца становится все холоднее, все труднее дышать, а ты никуда не можешь отсюда сбежать, все, что тебе осталось, это кричать, плакать и колотить руками в стенки, и ты кричишь и бьешься, понимая, что это все равно не поможет, никто тебя не услышит, не придет на помощь, не вытащит из тьмы и холода, не утешит и не согреет, никогда, никогда, никогда…
Я тряхнул головой, пытаясь избавиться от наваждения, но оно не отступало.
«Они все умерли. Четыре мальчика и три девочки. Задохнулись и замерзли. А я — нет».
Но частица меня самого сейчас умирала вдогонку вместе с ними.
— Мои отец и… настоящая мать, — проговорил я, чувствуя, что каждое слово дается мне с нарастающим усилием, — они были на этом корабле?
— Наверняка, — кивнула мама. — Иначе как бы ты там оказался…
— А эти дети, которые погибли… были моими братьями и сестрами?
— Никто этого не знает. Может быть, на борту было несколько семей, и это были просто твои сверстники.
— И сколько мне было тогда лет? — спросил я и тут же прикинул сам. — Что-то около двух?
— Ты был самый маленький среди них, — сказала мама. — Маленький, белокожий и рыженький. И ты спал с большим пальцем во рту.
— Я мог умереть во сне?
— Тебе ничто не угрожало, — произнесла мама. — Твоя капсула была в полном порядке. И мы были уже рядом.
— А они — они могли спать, когда умирали?
Мама открыла рот, чтобы ответить, и, быть может, солгать, но дядя Костя снова опередил ее.
— Если бы температура и давление в капсулах снижались постепенно, — сказал он, — была бы некоторая надежда на то, что они уснули от кислородного голодания. Но все происходило слишком быстро.
— Но ведь я-то спал!
— Ты спал, потому что был маленький, — с отчаянием сказала мама. — И тебя хорошо покормили перед тем, как случилась беда. Только поэтому.
— Можно мне еще вина? — спросил я почему-то шепотом.
— Можно, — сказал дядя Костя. — Только не надейся, что это поможет. Ты еще не все знаешь.
— Еще не все?! — усмехнулся я. — По-вашему, голова у меня резиновая, чтобы в нее вместилось столько новых впечатлений? Мало того, что тебе сообщают, что ты найденыш…
— Дело в том, сынок, — сказала мама, — что погибший корабль не был земным.
— Чего-о-о?! — завопил я.
— Того-о-о!!! — передразнила меня тетя Оля.
— Я что же, по-вашему, теперь уже и не человек получаюсь?!
— Получаешься, — серьезно проговорил дядя Костя.
— А кто же я тогда, по-вашему, получаюсь? — спросил я, вложив в свой вопрос все наличные запасы сарказма.
— Это долго объяснять, — сказал дядя Костя и вздохнул. — Понимаешь, Сева… еще на заре человечества…
— Консул, Консул, — укоризненно промолвила тетя Оля. — О Великом Разделении сейчас рассказывают в школе.
— Ну и какой же из меня, позвольте спросить, юфманг? — осведомился я, сдобрив свой голос остатками яда.
— Хреновый из тебя юфманг, — сказал дядя Костя с каменным лицом.
— Ты мой сын, — сказала мама. — Тебя зовут Северин Морозов. И ты эхайн.
9. Полным-полно эхайнов
— Ну, знаете… — только и сумел, что брякнуть я.
После чего решительно схватил бокал обеими руками и моментально выхлебал до дна это дубовое пойло. Вытащил из корзинки очищенную луковицу и захрустел ею. Внутри меня черти разводили адское пламя, а сатана самолично подбрасывал в костерок полешки. Голова сделалась огромной, совершенно пустой, как воздушный шарик. И такой же своевольной. Болталась на шее, как на веревочке, да так и норовила оторваться и улететь.
Все молча смотрели на меня.
— Я не эхайн, — сказал я со слабой надеждой.
— Точно, — кивнул дядя Костя. — Если верить твоей маме, ты не просто эхайн. Ты Черный Эхайн.
— Непохоже, Костя, что ты сильно удивлен, — заметила мама.
— Ну, я… ожидал чего-то подобного.
— Все-таки темнило ты, Шар…
«Интересно, почему мама назвала это квадратного, даже кубического громилу Шаром?» — подумал я рассеянно. А вслух произнес:
— Черный… Эхайн… — Будто попробовал эти слова на вкус. Они ничего не значили для меня. — Это хорошо или плохо?
— Это никак, — проворчал дядя Костя. — Этнически ты чистокровный Черный Эхайн. Во всем остальном ты обычный человеческий детеныш четырнадцати лет.
— Маугли, — произнесла тетя Оля с нежностью. — Лягушонок Маугли…»Мы с тобой одной крови, ты и я!» Чур, я Багира!
«Кто же еще», — подумал я.
— Пожалуй, — сказал дядя Костя. — Я согласен быть в этой ненормальной Сионийской стае медведем Балу. А из тебя, Леночка, получилась отличная Ракша-Демон.
— Осталось узнать, — сказала мама, — кто же тогда Шер-Хан. И что это за шакал Табаки рыщет вокруг моего дома.
— Ты не права, Лена, — поморщился Консул. — Ты чертовски не права. Я же тебе все объяснил. Они делают свое дело. Вся загвоздка в том, что они считают, будто весь мир должен решать их проблемы, тогда как я полагаю, что на самом деле это исключительно их проблема, и моя, пожалуй, но уж вовсе не твоя и не твоего сына. И я еще успею разъяснить им, — прибавил он многозначительно, — куда они могут засунуть свой бумеранг…
— Ты обещал, — сказала мама.
— Ну да, — согласился дядя Костя. — Разве случалось, чтобы я обещал и не делал?
Очень странный вышел у них диалог. Тетя Оля следила за ним, приоткрыв рот, и, похоже, понимала не больше моего. Но когда мама и Консул вышли на третий круг: «ты обещал» — «обещал, значит сделаю», мама вдруг словно спохватилась и вспомнила о нашем присутствии.
— Севушка, — сказала она. — У меня кое-что сохранилось для тебя.
Она протянула мне руку — на ладони лежал овальный медальон из металла цвета жженого сахара.
— Возьми. Это твое. Это было на твоей шейке, когда я взяла тебя из капсулы на руки.
Я принял медальон, повертел его в пальцах. Ничего, никаких новых ощущений. Обыкновенная металлическая безделушка. Еще теплая после маминых рук.
— Здесь какие-то иероглифы, — сказал я.
— Дай-ка, — проговорил дядя Костя.
Он поднес медальон к свету. От усердия его коричневый лоб собрался в гармошку.
— Эхайнский шрифт, — сказал Консул. — Прописной эхойлан, архаичное начертание… — Потом он бросил на меня быстрый взгляд своих светлых, почти прозрачных глаз, контрастно выделявшихся на загорелом лице, и произнес: — Здесь написаны твое имя, место и дата рождения. Хочешь знать, как тебя зовут?
— Нет, — сказал я и для убедительности помотал головой.
— Я все равно скажу. Тебя зовут Нгаара Тирэнн Тиллантарн. Судя по имени — а я кое-что в этом смыслю, — ты принадлежишь к древнему аристократическому роду, и в твоих жилах течет янтарная кровь. Ты родился в городе Оймкнорга в три тысячи сотом от Великого Самопознания году. Я слышал об этом городе: он расположен на планете Деамлухс, принадлежащей Черной Руке. О событии, кичливо именуемом Великим Самопознанием, мне ничего не ведомо. Может, письменность изобрели… эхайны любят, чтобы все было «великое», и непременно с большой буквы. Что же до твоего возраста, то… — он лукаво хмыкнул, — отважного командора Звездного Патруля материнское чутье не обмануло.
— Запишите все это на бумаге, — сказал я. — Так сразу не запомнить.
— Я запишу, — пообещал он. — Хотя эти имена собственные ничего не значат для тебя. Не должны значить. Запомни одно: до тебя лишь довели некоторую информацию — и все. Ничего в твоей жизни от этого не изменится. Я пообещал это твоей маме и теперь обещаю тебе.
— Наверное, у вас есть на это право, — проговорил я уклончиво.
— Конечно, есть, — согласился он. — Я довольно влиятельная персона. Кроме того, я, чтоб ты знал, тоже эхайнский аристократ, хотя и не этнический эхайн. Я т'гард Светлой Руки, что по-русски означает «граф». Этот титул я отнял у прежнего его носителя в честном поединке, при большом скоплении моих личных врагов. Когда-нибудь я тебе расскажу эту историю… Так что говорю тебе, как аристократ аристократу — не обращай внимания на взаимное расположение букв…
— «Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет»,[9] — продекламировала тетя Оля.
— Константин, — сказала мама. — Я почти все понимаю. Но… Оленька, прости… зачем ты впутал в наши дела Ольгу?
— Видишь ли, Леночка, — нежно проворковала тетя Оля, — ведь я тоже эхайн. Простая эхайнская девушка. Я уже сообщила об этом Северину, но, боюсь, он не придал моим словам надлежащего значения.
«Час от часу не легче», — подумал я.
— Час от часу не легче, — вздохнула мама. — Тебя-то как угораздило, девушка?
— Это тоже совершенно отдельная история, — улыбнулась тетушка, поигрывая бокалом.
— Трагедия весьма ко времени превратилась в фарс, — заключил дядя Костя. — Все, на сегодня хватит!
10. Я — эхайн
«Я — эхайн. Меня зовут Нгаара Тирэнн Тиллантарн».
Я стою перед зеркалом в ванной комнате, вновь и вновь повторяя эти слова. Поначалу мне приходилось нырять за собственным именем в шпаргалку. Теперь я его выучил, хотя не поручусь, что удержу в памяти до утра.
Примеряю его к себе, как новый свитер.
Дядя Костя прав. Это варварское имя — пустой звук. За ним нет ничего.
Нет, я неправ. За ним — семь мертвых детей. Зачем они… зачем мы оказались на том корабле? Что с ним случилось? И, господи — почему, почему они умерли, а я остался жить?!
Я что, теперь всю жизнь стану мучиться этим вопросом?
Я — эхайн. Я — эхайн…
Но нас двое. Я и эта дикая тетушка. «В этом мире у тебя нет никого ближе по крови, чем я…» Свалилось, можно сказать, сокровище! Вот же напасть! С этими своими «уой»… Мне добрых четырнадцать, и я многое повидал. Я видел изображения голых женщин. Я видел голых женщин в кино. Я видел живых голых девчонок (и слышал!.. и как только несколько не так чтобы крупных голых девчонок могут производить такое количество визга?!). Не могу сказать, чтобы эти картинки произвели на меня какое-то особенное впечатление. Что зря спорить, интересно — и не более того… Но с нею все не так. Меня трясет от ее бесстыжего взгляда, меня бьет электричество, исходящее от ее тела, меня оглушают звуки ее кошачьего голоса, меня валит с ног запах ее духов. Стоит мне только закрыть глаза — и я вижу ее ошеломительные бронзовые ягодицы и белую полоску трусиков между ними, и все, о чем я мечтаю, это чтобы не было на ней этих несчастных трусиков, и вообще ничего не было…
Что это — голос крови?!
«Я — эхайн. И эта эхайнская женщина будет моей… Я так сказал, я так решил. А теперь мы, древний аристократ Черной Руки, изволим отвалить на боковую».
Отправляюсь в спальню.
Мама на веранде разговаривает с Консулом. Слов, конечно, не разобрать. Голос тети Оли оттуда не долетает. (Где же она? Неужели после всего случившегося спокойно улеглась спать? Интересно, как она спит? И, самое важное, в чем? Или вовсе без ничего?..)
Зато прекрасно слышен голос Читралекхи, запертой в одной из спален по соседству, и скрежет ее когтей по двери. Несчастная баскервильская кошка во весь свой темперамент протестует против такого неслыханного ущемления ее неотъемлемых прав. Мне приходится свернуть в боковой коридор и плестись на выручку, потому что иначе этому дому не знать ночной тишины.
Читралекха продолжает жаловаться даже у меня на руках, перемежая стоны нервным взмуркиванием и меся мои плечи мощными лапами. Но когда мы заходим за поворот коридора, она мигом умолкает и напрягается. Я — тоже.
Тетя Оля стоит на балкончике, которым заканчивается коридор, спиной ко мне. В прямом лунном свете ее тонкая сорочка превращается в эфирное облачко. Но я вижу только плоский силуэт, словно вырезанный из плотной черной бумаги. Все остальное легко дорисовывается моим воображением.
Я хочу подойти к ней, просто встать рядом, ничего не говоря. Но понимаю, что не сделаю этого. Для начала, я без штанов. Затем, на руках у меня очень злая Читралекха, которую уже трясет от буквально наводнивших вверенную ее заботам территорию чужаков. (Читралекха — мне, одними глазами: «Можно я убью этого здоровенного приблудного грызуна, пожалуйста?») И, наконец, если я приближусь к этой эхайнской женщине хотя бы на шаг, то взорвусь от клокочущих во мне гормонов. У меня и без того такое чувство, будто все мои естественные довески налиты раскаленным свинцом…
«Дрыхни, эхайн несчастный. Твой час еще не пробил…»
Едва только Читралекха устраивается в моих ногах со всеми удобствами и приступает к обязательному ночному умыванию, как в дверь начинает ломиться Фенрис. Куда же еще податься этому здоровому дуралею, как не ко мне?!
К вопросу о ро Персея и Титании. Я не поленился и слазил в Глобальный инфобанк, или как его называют между собой все нормальные люди — Глобаль, проверить. Тетушка ничего не переврала. Ничегошеньки. Ну, может быть, слегка округлила цифры. Видно, в голове у нее свой маленький когитр или терминальчик того же Глобаля.
«Баскервильские кошки», они же «сторожевые», они же «кошки-убийцы», появились в середине позапрошлого века. Выведенные из обычных домашних кошек сиамской породы специально для охраны жилищ (тогда еще нужно было охранять жилища), были куда опаснее самой крупной и злобной сторожевой собаки. Хотя бы потому, что считались умнее и коварнее. Я всегда подозревал, что Читралекха умнее Фенриса, какой бы дурочкой ни прикидывалась, и даже однажды спросил у мамы, что она об этом думает. Мама сказала: «Еще бы! Ты когда-нибудь видал упряжку кошек, тянущую нарты с поклажей и каюром по заснеженной тундре?» Она, конечно, по своему обыкновению прикалывалась надо мной, но не без оснований… Так вот, о «баскервильских кошках». Сохраняя все внешние видовые признаки, они были крупнее, мощнее и агрессивнее домашних. Охраняли дом неукоснительно и самоотверженно. На новом месте не приживались — хирели и умирали. Признавали только хозяина, были преданы ему от кончика усов до кончика хвоста, терпели его домочадцев, остальных могли порвать в клочья. Отсюда выражение: «как кошка тряпку»… При появлении гостей в охраняемом доме кошек сажали под замок. Их дикие вопли протеста служили недурным звуковым оформлением любой дружеской вечеринке. После нескольких случаев убийства ими грабителей, проникших в дом, были приравнены к огнестрельному оружию и в большинстве стран запрещены. Потом случилось несколько абсолютно кошмарных инцидентов: кошки убивали новорожденных детей своих хозяев. Тотальная компания за полное истребление маленьких монстров натолкнулась на хорошо организованный отпор общества защиты животных. В качестве компромисса решено было запретить их коммерческое разведение, содержание в крупных населенных пунктах и в семьях с грудными детьми, и генетически ограничить продолжительность жизни. Началось вырождение сторожевых пород. Ситуацию усугубило появление «спальных кошек» с их строго дружественной реакцией на человека, почти собачьей мотивацией поведения, а также мягкими боками-подушками. Мода на «кошек-убийц» канула в лету… Где мама раздобыла Читралекху, знали только они двое. Зачем — мне было вполне понятно: меня охранять. Я принадлежу этой кошаре, и она никому меня не отдаст, никогда и ни за что. Читралекхе девять лет, что по ее кошачьим меркам довольно много. Весит она килограммов двенадцать (как мы с мамой ее взвешивали — отдельная песня), а нажравшись — и того больше, вроде бы — пустяк, но это двенадцать килограммов стальных мышц и алмазных когтей… с пола вспрыгивает на самый высокий шкаф, откуда все по каким-то своим соображениям швыряет вниз, попыткам стащить себя на грешную землю сопротивляется шумно, отчаянно, но бескровно. Не припоминаю, чтобы она хоть раз меня оцарапала… Котят никогда не имела по очевидным причинам: справиться с ней способен только такой же сильный зверь, как и она сама. Но камышовые коты в наших краях не водятся, рыси давно вымерли, а заурядного кошака она бы просто убила.
«Читралекха» в переводе с языка хинди означает «картинка». Так звали нимфу, обладавшую даром рисовать волшебные картины. Бхагаватичаран Варма посвятил ей целый роман, который я, увы, не нашел, и не слишком по этому поводу переживал.
Фенрис же был просто собакой, выглядел как собака и вел себя по-собачьи. Правда, он был очень большой черной собакой редкой породы «исландский хельгарм», но дела это не меняло. При взгляде на него не возникало никаких вопросов. В посвященной им статье «Энциклопедии редких и уязвимых пород домашних животных» было сказано: «Способности хельгармов охотиться на самую крупную и сообразительную дичь потрясают воображение и часто не находят должного применения ввиду отсутствия достойных противников. Ведь, как известно, тираннозавры вымерли сто тридцать пять миллионов лет тому назад». Ну-ну… Вообще-то, следовало признать, что иногда он вел себя не как собака, а как полный обалдуй. Вдруг его пробивало на меланхолию при виде полной луны, и он мог выть несколько ночей напролет, днем же становясь тем, кем он был всегда, хотя и чуть более смущенным, чем обычно. Или ни с того ни с сего набрасывался на какую-нибудь скамейку или даже дерево, и принимался грызть с остервенением, с пеной изо рта, и тогда мама со вздохом выносила ведро холодной воды и с размаху выплескивала этому ополоумевшему чудаку в морду. На моей памяти таким образом Фенрис сожрал три скамейки, пару огородных воротец, одно раритетное корыто («На пороге сидит его старуха, а пред нею разбитое корыто…»), четыре молодых деревца и — в три приема — одно вполне взрослое, а также поленницу сухих дров, по-видимому, припасенную специально для него, поскольку для камина мама обыкновенно использовала какие-то особенные, приятно пахнущие дрова с чердака, что внушали большое сомнение в своем земном происхождении. К чести Фенриса, в часы умопомрачения он напрочь игнорировал людей и, следовательно, был практически безопасен.
«Хельгарм» можно перевести с исландского как «адский пес». А имя свое пенат унаследовал, как выяснилось, от божественного волка из скандинавской мифологии, сына великанши Ангрбоды и бога-хулигана Локи. Характер у волка был скверный, за ним числилось не одно злодейство, включая съедение самого главного бога Одина. Мой Фенрис был не в пример покладистее, хотя… быть может, ему пока не представилось повода раскрыть себя с другой стороны.
Пассажирский трамп, расколовшийся о спутник Урана, с присущим масс-медиа цинизмом окрестили «Титаник Титании». В катастрофе погибло двести шестьдесят три пассажира и двадцать пять членов экипажа. Первым навигатором трампа был Уильям «Уизард» Смит.
Капитана же настоящего «Титаника» действительно звали Эдвард Джон Смит. Кроме него, на борту было еще, кажется, восемнадцать Смитов, да еще четверо Голдсмитов, да еще один то ли Смит, то ли Шмидт, что везения кораблю, увы, не добавило. Из гордых носителей этой фамилии спаслись только женщины.
Смит — фамилия очень распространенная, примерно как наш русский Иванов. Между тем, русские начали осваивать космос еще в двадцатом веке, а первый космонавт Иванов появился только в двадцать первом. Болгарин Иванов, который летал в 1979 году, не в счет — это его отчество, а настоящая его фамилия была Какалов, и в центре подготовки на него наехали, чтобы сменил, а то не полетит. Парень никак не мог взять в толк, чем этим ненормальным русским не угодила его прекрасная старинная болгарская фамилия. Я тоже не понимаю. Лично я запустил бы космонавта Какалова хотя бы для прикола. Между прочим, Иванову в полете не повезло так, как могло бы повезти Какалову. Вместо запланированной недели он и его русский командир Рукавишников пролетали только сутки, после чего аварийно с грехом пополам приземлились. Американцы отправили своего первого Смита на орбиту несколько позже. Корабль назывался «Челленджер».
Какая-то мистика с этими распространенными фамилиями!
Нет, если меня угораздит стать астронавтом, как мама, ни один Иванов, Кузнецов, Смит или Джонс не ступит на борт моего корабля. Конечно, Морозов — тоже не подарок… Или я уже не Морозов, а Климов? Или этот… как его… Тиллантарн?
Кру-у-уто!
Осталось только выяснить, что за бумеранг упоминал Консул, отчего его следует кому-то засунуть куда-то, и при чем здесь я.
Днем, как бы между прочим, я спросил у мамы, как называется старое дуплистое дерево в саду. Она тоже не знает.
А, вот еще, чуть не забыл:
Покинуть лес!.. Не думай и пытаться. Желай иль нет — ты должен здесь остаться. Могуществом я высшая из фей. Весна всегда царит в стране моей. Тебя люблю я. Следуй же за мной! К тебе приставлю эльфов легкий рой…[10]Очень похоже на маму. Заточила меня в своем лесу и держит. Хотя эльфы из Читралекхи и Фенриса никудышные. Так, гоблины пустяковые. Пенаты, одним словом…
Кажется, я становлюсь любопытным.
11. Мамина история
Утром ко мне пришла мама. Я уже не спал, а только зевал и потягивался. Читралекха умывалась у меня в ногах, а Фенрис сидел у запертой двери, улыбался во всю морщинистую физиономию и ждал, когда его отпустят погулять. Мама села на краешек постели и пощекотала мне нос.
— Ну, как ты? — спросила она.
— Мам, а мне вся эта блажь не приснилась? Ну, там, про эхайнов, про капсулу?
— Не приснилась, — вздохнула мама. — Хотя мне тоже порой это кажется каким-то вздорным сном.
— А гости еще не уехали?
— Тебе хочется, чтобы они уехали? — быстро осведомилась мама и на мгновение сделалась похожа на Читралекху, завидевшую кузнечика.
— Нет, нет…
— Я полагаю, — а слышалось: «надеюсь», — что они уедут вечером. Ведь они еще не рассказали тебе своих историй. Мне тоже будет интересно их послушать.
— Тетя Оля правда эхайн?
— Для меня это такой же сюрприз, как и для тебя, — промолвила мама.
— А почему ты назвала дядю Костю — Шаром?
— Шаром? Ах, да… Шаровая Молния — это его детское прозвище. Мы ведь росли вместе.
— Ага! — сказал я многозначительно.
— У него были длинные волосы, которые стояли дыбом, как у клоуна, и от них так и сыпались искры. И еще трудно было угадать, когда и по какому поводу он вдруг взорвется.
— Непохоже на него. Непохоже, что он вообще способен взрываться. Он такой спокойный, как… как китайский аллигатор в бассейне.
— Он сильно изменился. Даже прическа другая. Хотя, рассказывают, иногда он все же взрывается. Все мы сильно изменились…
— А ты расскажешь мне свою историю?
— Если хочешь. И если ты потом выгуляешь пенатов.
— Что они, сами не выгуляются? — привычно ворчу я. И тут же задаю предельно наглый вопрос: — А как мне теперь тебя называть — мама Аня или мама Лена?
— Я подумаю и скажу.
— А сам я теперь кто?
— Дед Пихто. Так всем и представляйся: Северин Иванович Пихто.
— А серьезно?
— Давай ты вначале всех выслушаешь, а потом уж сам решишь, годится?
— Не очень…
— Ну, выбор у тебя ограничен…
«…Мы открыли последнюю капсулу и увидели крохотного рыженького ребеночка. „Господи, неужели и он?..“ — сказала Зоя Летавина. Мы были на грани истерики, хотя в своей жизни повидали всякого. Поэтому, когда ты вдруг пошевелил ручками и, не открывая глазенок, зевнул, я заплакала, а за мной и все мои амазонки. Мы стояли над тобой и ревели в тридцать три ручья, одиннадцать здоровенных баб, сильных, как мужики, прошедших адский огонь, мертвую воду и архангеловы медные трубы, прожженных ненавистниц домашнего очага, поклявшихся не думать и не вспоминать о своей женской природе, пока не придет час выхода в отставку. Хлюпая носом, я взяла тебя на руки и прижала к жесткой ткани „галахада“, в котором только что выходила за борт, чтобы завести в грузовой отсек эти битые-мятые, а то и вспоротые капсулы. Прижала — и тут же в ужасе отстранила, чтобы ты не оцарапал свою нежную кожицу об эту грубую дерюгу, еще горячую после дерадиации. И тут ты открыл свои янтарные глазки, вынул пальчик из рта, улыбнулся мне и сказал что-то вроде „улва“ или „улла“… „Он назвал тебя мамой“, — сказала мне второй навигатор Эстер да Коста, и я машинально кивнула, хотя рассудком понимала, что это невозможно, ты уже большой мальчик и должен помнить свою маму. Только сегодня, спасибо Консулу, я узнала, что была права. Ты пролепетал на своем родном языке: „Пливет…“ А потом ты попытался оторвать один из кабелей моего скафандра, ярко-красный, и что-то при этом ворковал по-своему, по-птичьи, приветливо улыбаясь и настойчиво ловя мой взгляд. Будто пытался донести до меня какой-то очень важный детский вопрос. Наверное, ты спрашивал меня: а где мама, а когда мама придет за мной, а когда меня заберут домой, а что мне дадут покушать… Но я ни слова не понимала и только повторяла сквозь слезы: „Все будет хорошо, малыш, все будет хорошо…“ Хотя уже ясно было всем, что ничего хорошего ждать не приходится, что твои родители погибли в этой мясорубке, и бог его знает, чем тебя кормить на нашем амазонском корабле, и неизвестно, как донести до тебя, что ты в безопасности, если ты не то что наших слов — даже наших интонаций не понимал!.. Я передала командование субнавигатору Ким и унесла тебя в бытовой отсек, где в своем чудовищном громоздком „галахаде“ была как слон в посудной лавке. Мне пришлось на время поручить тебя заботам Зои, и когда я передавала тебя с рук на руки, ты уже начинал кукситься, а когда я вернулась, то ревел в полный голос, как обычный человеческий младенец… Мы уже тогда знали, что это был не земной корабль, и были поражены, когда увидели первого ребенка, внешне абсолютно неотличимого от человека. Наше удивление прошло на третьей капсуле, где лежала девочка с открытыми глазами цвета червонного золота. Именно тогда умница-разумница Джемма Ким сказала: „Похоже, это эхайны“, и среди нас только она знала, кто такие эхайны, но даже ей было тогда неведомо, что твоя раса считает нас, людей, врагами и ведет с нами необъявленную одностороннюю войну… На моих руках ты мигом успокоился, зато разревелась Зоя, в которой тоже внезапно и бурно проявился материнский инстинкт. Мне пришлось рявкнуть на нее, и сделать это со всей грубостью, на какую я была только способна, а в пике формы я была способна очень на многое. „Мы оставим младенца в ближайшем обитаемом мире, — сказала я. — Иначе вы все превратитесь из лучшей команды Галактики в стадо слезливых свиноматок!“ Мне приходилось из последних сил сдерживаться, чтобы не сюсюкать с тобой и не отвечать улыбкой на улыбку. Поэтому, когда Зоя приготовила некое подобие манной каши и ушла, я испытала невероятное облегчение. На этом злоключения мои не окончились: ты отказывался есть кашу, орал, махал ручонками и брыкался, как маленький звереныш. Мы оба вымазались в каше, но несколько ложек в тебя я все же втолкнула. Зато козье молоко пришлось тебе по вкусу, и фрукты ты слопал за милую душу, а стоило мне отвернуться, как ты стянул со стола очищенную луковицу и схрумкал в единый миг. У меня при одном взгляде на тебя с луковицей снова потекли слезы, а ты только улыбался и что-то лопотал. Джемма вызвала меня по внутренней связи, чтобы узнать, как поступать дальше. Сканирование обломков эхайнского корабля показывало отсутствие живых существ, на борту у нас было семь мертвых детей и один живой капризный младенец, так что далее циркулировать здесь не имело смысла. Я распорядилась взять курс на Тайкун — до него было ближе всего. А потом отдала команду, о которой потом много сожалела… Я попросила Джемму запросить таикунский инфобанк об эхайнской кухне. Впрочем, отчет о поверхностном исследовании места катастрофы в окрестностях ро Персея уже летел по каналам Звездного Патруля, и те, кому нужно было о нем знать, и без того уже знали. Вот только упоминания о детях в нем не было — я каким-то звериным чутьем почувствовала, что пока ни к чему об этом распространяться на всю Галактику. Это оказалось правильно и по формальным соображениям: как выяснилось много позднее, нас могли перехватить крейсеры Черной Руки. Они тоже получили сигнал бедствия и спешили к месту трагедии на всех парах, но опаздывали на пять-шесть часов. Вряд ли они стали бы с нами церемониться… Между тем, ты съел луковицу, показал мне свои пустые ладошки и сказал: „Соосуле!“ Что это означало, я могла только предполагать, и Консул мне вчера объяснил, что я угадала. Ты говорил: „Есё хосю!“ И я в полной растерянности почистила тебе другую луковицу. Ты съел и ее, и уснул у меня на руках… Спустя четыре часа мы были на Тайкуне, сели на грунт в районе космопорта Найдзан, минуя орбитальные причалы, что в общем-то было против правил… ты по-прежнему спал, и даже не проснулся, когда мы с Зоей укутали тебя в самое маленькое, теплое и мягкое одеяло, какое только нашлось на борту — слава богу, до той поры ты ни разу не описался и не обкакался, так что твой эхайнский комбинезончик был чист и опрятен, — и, как две заговорщицы, отправились в местное отделение Вселенского приюта святой Марии-Тифании. А в это время Джемма Ким отправляла по каналам Патруля дополнение к отчету, где впервые упоминались семеро мертвых детей. Не ведаю, кто управлял тогдашними моими поступками, бог или дьявол, но о тебе — ни слова… Тебя приняли в приюте, по их обычаю, не задав ни единого вопроса и нигде не отметив факта поступления. Я сказала: „Я могу вернуться“, и сестра-хозяйка равнодушно кивнула. Она слышала эти слова не раз… Мы вышли из чистенького белого пряничного домика с леденцовыми окошками и шоколадным крылечком, посмотрели друг на дружку и, не сговариваясь, произнесли одну и ту же фразу: „Здесь ему будет хорошо“. А потом обнялись и завыли, как по мертвому.
Больше на Тайкуне нас ничто не задерживало, но, вернувшись на корабль, мы застали там целую депутацию очень странных людей. Какие-то безукоризненно одетые, абсолютно вежливые, подтянутые молодые люди, внешне различавшиеся цветом волос, глаз и даже кожи, и в то же время похожие, как близнецы. Им было все равно, что при всех наших неоспоримых профессиональных достоинствах мы оставались молодыми красивыми девчонками. Они не реагировали ни на жгучие взгляда Эстер и Маризы, ни на кожаные шорты Джеммы, ни на декольте до пупа Виктории. Их интересовали только детские трупы. Руководил «операцией» человек постарше, зато с какой-то совершенно стертой, среднестатистической физиономией. Убедившись, что эвакуация тел идет своим чередом, он пригласил меня на пару слов без свидетелей. «Вы знаете, что это был за корабль?» — спросил он. «Да, — отвечала я. — Это корабль эхайнов». — «Там были живые эхайны?» — «Что означает этот ваш вопрос?» — удивилась я. «Но вы же запрашивали инфобанк об эхайнской кухне», — сказал он, глядя мне прямо в глаза. «Это простое любопытство», — пожала я плечами, не отводя взгляда. Тоже мне, испытание характера…» А для чего вы отлучались с корабля в город?» — «Опять же из любопытства, — усмехнулась я. — Никогда прежде не доводилось побывать на Тайкуне, решила повидать местные достопримечательности…» — «Отчего же вы так скоро вернулись?» — «Не нашла существенных отличий от того же Эльдорадо. А я могу задавать вопросы?» — «Пожалуй», — сказал он слегка растерянно. «Кто вы такой? — спросила я очень резко. — И как вы себя поведете, если я прикажу своим девочкам вышвырнуть вас с моего корабля?» К его чести, он тоже не потерял лица. «Меня зовут, к примеру, Иван Петрович Сидоров, — промолвил он, улыбаясь. — Или, если угодно, Сидор Иванович Петров. Джон Джейсон Джонс, Ким Пак Ли, Чжан Чжао Ван — выбирайте, что вам ближе. Я занимаюсь проблемой взаимоотношений человечества и эхайнов, это не мой праздный интерес, а моя работа, за которую я отвечаю перед административными структурами Федерации и еще нескольких галактических цивилизаций. На Тайкуне я случайно. Стечение обстоятельств… Мы покинем ваш корабль без посторонней помощи, и очень скоро. Ваши девочки весьма хороши в Звездном Патруле, но мои люди тоже прекрасно обучены. Никто из них не заденет ни одной прелестницы не то что пальцем — даже случайным взглядом, но ваш корабль они оставят только по моему приказу. И хотя вы взяли за правило уклоняться даже от самых моих безобидных вопросов, все же я осмелюсь задать еще один, последний…» — «Валяйте», — сказала я. «Тридцать две капсулы, — проговорил он. — Двадцать четыре без признаков активации. Семь трупов. Вы не находите, что цифры не сходятся?» — «Какие еще цифры?» — недоумевающе спросила я, понимая, что мой блеф на него не подействует. «Должен быть ещё один, — сказал он. — Труп или живой. Где он, госпожа Климова?» — «Кто, черт возьми?!» — «Восьмой эхайн!» — «Не знаю, что там у вас за арифметика, — сказала я злобно. — Все, что мы нашли, находится в грузовом отсеке. Забирайте и катитесь с моих глаз. На все про все у вас полчаса, а потом вы увидите, как мои прелестницы вышибут ваших ниндзя на свежий воздух…» Он вдруг налился кровью, придвинулся ко мне вплотную, и прошипел: «Мне нужен этот эхайн. Живой эхайн… Вы даже не понимаете, как он мне нужен. Отдайте мне его сейчас, потому что я все равно найду его и заберу…» Это было сказано без игры, от сердца, и я поверила: найдет и заберет. И, если ему потом вдруг понадобится мертвый эхайн, разрежет живого на кусочки и отпрепарирует. Такое у него поручение от административных структур Федерации и каких-то там других цивилизаций… Я закрыла глаза, чтобы успокоиться, а когда открыла — его уже не было. И вся его безликая гопа тоже улетучилась, оставив выдраенный до блеска, совершенно пустой грузовой отсек. Но кое-что все же осталось, и оно лежало во внутреннем кармане моего комбинезона. Твой медальон. Я сидела в кают-компании в полном одиночестве и приводила свои мысли в порядок. И с каждым мгновением понимала, что моей прежней жизни приходит конец. Я не могла позволить этому Сидору Паку Джонсу добраться до тебя. Мне нужно было уберечь тебя, и я знала, что сумею это сделать. Вне всякого сомнения, извлечь тебя из-под длани святой Марии-Тифании было бы для него сложной задачей, но я не могла рисковать. Ты приворожил меня своей воркотней, ты стал нужен мне — намного сильнее, чем я была нужна тебе. Я уже чувствовала себя твоей матерью, словно сама выносила тебя под сердцем. Сама мысль о том, что ты остался с чужими людьми, ни один из которых даже не понимает твоих слов, сделалась для меня невыносимой. Это сейчас я сознаю, что действовала безумно, в умопомрачении, что моими поступками руководил долгие годы угнетаемый, а тут вдруг вырвавшийся на волю дикий материнский инстинкт… Я протянула руку и нажала клавишу общего сбора, и через полминуты вся команда сидела вокруг стола, ожидая приказов. «Приказов будет два, — сказала я. — Прямо здесь, не сходя с места, клянитесь собой, своими родителями и всем святым, что у вас есть, что никогда не вспомните об этом малыше». — «Клянусь», — сразу сказала Джемма Ким. «Вы чего-то не поняли, командор, — проговорила Зоя Летавина. — Никто в этом мире не может причинить вред младенцу. Это невозможно, потому что… так нельзя! Каким же демоном из ада нужно быть, чтобы так поступить с малюткой?!» — «Я тоже так думала, — сказала я. — Пока не встретила этого субъекта». — «Что такого он вам наговорил?!» — «Он заверил меня, что найдет этого живого эхайна и заберет себе». — «Клянусь, — моментально сказала Зоя. — Но что вы намерены предпринять? Вам понадобится помощь?» — «Да, мне понадобится помощь всех вас. Я намерена сойти на берег прямо сейчас. Вы улетите без меня». Я говорила в полной тишине, уставившись в стол перед собой, и мои девочки даже не дышали, слушая мои слова. «Затем вы отправитесь на Эльдорадо, где зарегистрируете мою отставку, как если бы я сошла на берег в Тритое. Там это будет несложно и правдоподобно. Вы не будете меня искать ни по каким своим каналам. Вы не будете отвечать правдиво на вопросы о моем исчезновении. Как только я уйду, вы изберете себе нового командора. Это будет ваш выбор, я же рекомендую Зою Летавину. И… вы поклялись». Никто не проронил ни слова. «Сударыни, для меня было честью работать и летать с вами. Я хочу… хочу проститься…» Тут я снова заревела, они — тоже, и мы кинулись обниматься.
Мой корабль улетел, а я осталась одна, под зеленым ночным небом Тайкуна, чувствуя себя такой же голой и беззащитной, как, наверное, чувствовал себя ты. Я села в полупустой рейсовый роллобус до города, ничего не соображая, не разумея обращенных ко мне слов. Теперь мне предстояло выдержать самое первое испытание на пути к тебе: забрать тебя из приюта Марии-Тифании. Вторично я переступила порог пряничного домика и сказала: «Я вернулась». — «Чем мы можем помочь вам, сестра?» — услышала я в ответ. «Рыженький мальчик двух примерно лет от роду, — сказала я. — Ни слова не говорящий ни на одном из известных вам языков». — «Но у нас нет таких, сестра…» — «Хорошо. Я все понимаю. Тайна личности, и все такое… Что я должна сделать, что взорвать и кого убить, чтобы забрать своего ребенка?» Меньше всего я походила на женщину, у которой мог быть ребенок. Еще меньше — на ту, которая могла бы отказаться от собственного дитяти по глупости или легкомыслию… Тифанитки совещались почти час, а потом меня пригласили в офис сестры-настоятельницы, смуглой дамы моих лет, но в сто раз более степенной, и попросили сообщить точные и правдивые сведения о себе. Я сделала, как они просили. Обо мне навели все справки, какие только возможно. «Вы действующий астронавт…» — «Уже нет. С этого момента я в отставке». — «У вас нет постоянного места жительства ни на одной из планет…» — «Я жительница Земли. У меня будет любой дом в любой точке любого мира, как только я ступлю на его поверхность». Меня расспрашивали, и я отвечала, ничего не скрывая. Мне было все равно. Я уже знала, что спустя очень короткое время Елена Климова растворится в небытии, а на ее место придет другая, пока что незнакомая мне женщина. Ей нужно будет придумать имя, биографию, судьбу. Но у нее уже будет двухгодовалый сынишка…»Это беспрецедентное отступление от нашей традиционной практики, — наконец произнесла сестра-настоятельница. — Мы поступаем так лишь в исключительных случаях. Но сейчас именно такой случай… Мы испытываем трудности в уходе за этим мальчиком. Он довольно необычный. Не ведаю, какие высшие силы удерживают меня от вопроса, где и кем воспитывался этот Маугли… С момента вашего ухода он совершенно безутешен. Сделайте так, чтобы он перестал плакать, верните ему улыбку — и он ваш». Мне вынесли тебя, зареванного, недовольного всем на свете, брыкающегося из последних сил. Ты увидел меня, расцвел в ослепительной улыбке и сказал: «Улла!»
«Мы будем присматривать за вами», — сказала тифанитка, все еще сомневаясь. «Это будет нетрудно, — согласилась я. — Быть может, вы позволите мне провести несколько дней и ночей в этих стенах?» — «Да, — после краткого размышления сказала настоятельница. — Это было бы прекрасно». Все устроилось наилучшим образом. Они получили возможность убедиться в искренности моих намерений. А я — научиться быть матерью. И мне было крайне необходимо упорядочить свои мысли. Что же касается тебя, то, промурлыкав какую-то коротенькую речь, ты намертво ухватился за ворот моего свитера и уснул на руках. Меня отвели в уютную спаленку, но я не могла лечь. Боялась потревожить твой сон. Так, наверное, и просидела бы всю ночь, но ты проснулся сам и внятно произнес: «А'а». Это эхайнское слово не нуждалось в переводе.
Мы прожили в приюте без малого три недели. Я была уверена, что твой преследователь рано или поздно заявится сюда и станет предъявлять какие-то совершенно несусветные права на тебя. И могло статься, что он найдет аргументы, способные проломить неодолимую для обычного человека круговую защиту сестер-тифаниток. Поэтому я училась ухаживать за тобой и за другими такими же беспомощными крохами, что обитали в стенах приюта… но что не мешало им обладать и пользоваться всеми правами гражданина Федерации. Им-то уж никак не грозило оказаться в лапах этого монстра Ивана Петровича Сидорова. Любая попытка хоть как-то ограничить свободу любого из них натолкнулась бы на жесткое противодействие всей административной системы Тайкуна и Федерации. Да и не нужны были ему эти маленькие белокожие, светлоглазые мальчики и девочки. Ему нужен был живой эхайн. Рыженький, с янтарными глазенками… «Скажи „мама“», — повторяла я вновь и вновь. «Вл-вл-вл», — булькал ты что-то совершенно неразборчивое для моего человеческого слуха и смеялся. Иногда мне казалось, что ты делал это нарочно, что выводило меня из себя. Оказалось, что младенцы, эти ангелочки во плоти, порой бывают просто несносны, как самые отъявленные чертенята. «Ты издеваешься надо мной, поросенок, — говорила я, едва не плача. — Неужели трудно два раза шлепнуть своими губешками, чтобы прикинуться человеческим детенышем?!» Я ждала, что однажды ты устанешь от меня и скажешь: «Ладно, уговорила: мама так мама…» Но единственное, что я слышала от тебя каждое утро, было уже знакомое: «Улла!»
И все же я добилась своего. Не сразу, не за день, и даже не за месяц. Это было уже на Титануме, куда мы сбежали с Тайкуна и где я превратилась в никогда прежде не существовавшую женщину с простым русским именем Анна Ивановна Морозова. Расчет был на то, что в Галактике была не одна носительница такого имени, и даже не одна тысяча… И где ты стал Северином Ивановичем Морозовым, моим законным сыном, со всеми правами, присущими тебе от рождения. Мы прятались от знаменитого титанийского «оркана», местного стихийного бедствия, в темной комнатушке приземистой одноэтажной гостиницы. За стенами все дрожало и ходило ходуном, окна стонали под напором ветра, дождя и местной разновидности снега, похожей на лохмотья сдобного теста и здесь называемой «дег», что, собственно, и переводилось как «тесто». Меня этот разгул стихий не беспокоил, я и не такое видывала, поэтому ничто не мешало мне сидеть у видеала и выстраивать планы дальнейшего существования с помощью местного инфобанка. Ты же проснулся и перепугался, и в твоей глупышкиной головенке само собой родилось то слово, которое ты до сих пор всячески отвергал. Проще говоря, ты сел в кроватке и прохныкал: «Ма-а-ама…» До меня даже не сразу дошло все величие момента. Я просто отложила свои дела и взяла тебя на руки. Наверное, не существовало лучшего способа закрепить условный рефлекс. Ты понял, какое слово нужно сказать, чтобы эта взрослая тетка немедленно все бросила и занялась тобой и только тобой. А уж потом, наверное, сообразил, что именно так эта самая тетка и называется… Ты уже дремал у меня на руках, когда я осознала и прочувствовала случившееся. «Малыш, — попросила я, — повтори еще разок». Но ты был слишком занят своим кулачком, чтобы отвлекаться на пустяки.
С этого дня ты стал стремительно, буквально на глазах, превращаться в человеческого детеныша. Очень скоро ты накопил словарный запас нормального ребенка двух с небольшим лет от роду, одновременно забывая эхайнский язык. Человек без особых церемоний вытеснял в тебе эхайна. Последним, что сказал мне эхайн, было все то же сакраментальное «Улла!» Случилось это, кажется, зимой сто тридцать восьмого года. А следующим утром ты уже говорил мне: «Пливетик, мама!» Ты был выше и крупнее своих сверстников, ты медленнее соображал, ты уже не был рыженьким, а просто соломенным. Ты не любил детские песенки, отказывался петь про зайку серенького и мишку косолапого, а с годами возненавидел популярную музыку и всегда был равнодушен к Озме. Зато обожал Моцарта, Вивальди и Виотти, а в особенности отчего-то лютню Винченцо Галилея. Я даже размечталась, что вот ты вырастешь и станешь профессиональным музыкантом, но у тебя не нашлось никаких к тому задатков, чувство ритма и слух оказались самыми ординарными. Надеюсь, ты не очень расстроен?.. Да, и глаза. Глазки твои с возрастом потемнели и утратили чистый янтарный цвет, и все же оставались невольным напоминанием о твоем странном происхождении. Но там, где мы жили, и где ты бывал в кругу ровесников, это ни у кого не вызывало удивления. Федерация, расползшаяся по многим удаленным мирам, давно уже состояла из такого количества подвидов homo sapiens, что ты вполне мог сойти за еще один. Помню только, что в детском санатории на Магии местные ребятишки звали тебя «Тигрункуль» — так на местном языке звучало имя Тигры из «Винни-Пуха».
Однажды я рискнула поинтересоваться судьбой своего экипажа. К своему изумлению, обнаружила, что командор Елена Климова по-прежнему числится действующим астронавтом и патрулирует какой-то чрезвычайно удаленный октант за пределами нормальной досягаемости. А жаль, я была бы не прочь перекинуться словечком сама с собой… Уж не знаю, как моим девочкам удавалось водить за нос весь Звездный Патруль, но с того момента мое доверие к информационным каналам Федерации было сильно подорвано. И я уверилась, что могу использовать это обстоятельство. Федерация настолько же сложна и велика, насколько и беспечна, чтобы в ней нельзя было затеряться женщине с ребенком. И где же это было проще всего сделать? Конечно, на Земле. На старушке-Земле, с ее патриархальной простотой, с ее необъятными обитаемыми пространствами, с ее старомодным невмешательством в личные дела и строжайшим соблюдением персональных свобод.
Наконец-то я отважилась претворить в жизнь свое обещание настоятельнице тайкунского приюта. У нас действительно появился дом… этот наш дом в карпатских лесах, где мы жили, а вернее — прятались долгие годы. Где-то на Земле жили мои родители, моя сестра Лидия, мои племянники. Но я не встречалась с ними, потому что, если верить информационным каналам Галактического Братства, командор Елена Климова еще не вышла в отставку. Я начала свою жизнь с чистого листа. У меня не было прошлого, и пришлось его придумать. Анна Морозова работала драйвером в далеких галактических миссиях, настолько далеких, что на Земле о них никто и не знал. Потом она родила сына при обстоятельствах, о которых не желала бы распространяться, и это побудило ее обосноваться в лучшем из миров. Все. Точка. Дальше начиналось право на неприкосновенность личной жизни, которое на Земле безусловно уважали. Я старалась не попадаться на глаза прежним знакомым. Как правило, мне это удавалось. Как правило… Несколько раз моя конспирация давала сбои. Помнишь того странного типа с косичками? Это был Хлодвиг, парень с галактического стационара «Скорпион». Сто лет тому назад, в прошлой жизни, он долго и красиво за мной ухаживал, и хотя все быльем поросло, мне стоило немалых трудов от него избавиться.
Ты был устроен в прекрасный колледж «Сан Рафаэль» в Алегрии, на райском острове Исла Инфантиль дель Эсте. Жизнь твоя потекла обычным чередом — да что я тебе рассказываю о том, что ты знаешь лучше моего?! На какое-то время ты растворился среди себе подобных… пока вдруг не маханул ввысь. Тебе-то что, ты только радовался, что стал звездой фенестры! Но не так давно у меня состоялся нелегкий разговор с сеньором Эрнандесом, главным медиком колледжа. Сеньор Э. выразил озабоченность твоим здоровьем. Его обеспокоили явные признаки гормональных отклонений в твоем растущем организме, Пока ничего страшного, говорил сеньор Э., мальчик выглядит здоровым и жизнерадостным, но кто поручится, что этот его внезапный, бурный и фантастический рост не окажется первыми признаками гигантизма и, да хранит его святая дева Мария дель Map, акромегалии?! Не даст ли прекрасная сеньора Морософф согласия на углубленные генетические исследования в отношении своего «chico bonito», каковые исследования означенному «chico» не доставят никаких болезненных либо даже неприятных ощущений и уж тем более не отразятся на его здоровье иначе, как благотворно? Доброму сеньору Э. было невдомек, насколько он был близок к истине. Генетический аппарат моего «chico bonito» действительно был устроен не так и работал по другим законам, нежели у всех остальных детей не только Алегрии, но и всей Земли. Ведь это был генетический аппарат обычного и, быть может, заурядного, но — эхайнского мальчишки. И первая же генетическая экспертиза показала бы это как дважды два. И хотя на Земле не было эхайнов (как мне тогда представлялось — хотя Консул… дядя Костя привел несколько контраргументов и даже… гм… один из них прихватил с собой), историю Великого Разделения с недавних пор действительно проходят в школе, а эхайнский генотип и стандарты эхайнских же фенотипов описаны в специальной литературе и вполне доступны для серьезного исследователя. А очаровательный сеньор Э. менее всего смахивал на дилетанта. Так примерно я рассуждала мысленно, сидя у него в кабинете с зажатым в руке высоким стаканом прохладительного и машинально кивая в такт его напевам. И поэтому, едва только он закончил излагать и выразил глубокое удовлетворение течением нашей беседы и моей внешностью, я покинула кабинет с твердым намерением забрать тебя из колледжа.
И вот ты здесь, и никому от этого лучше не стало.
И не думай, пожалуйста, будто это твой маленький бунт стал причиной последних событий и откровений. Я давно уже чувствовала, что вовлечена в какую-то бесконечную цепь опрометчивых и безумных поступков, один из которых немедленно тянул за собой следующий, логически из него проистекавший и потому еще более опрометчивый и безумный. Мой рассудок был затуманен материнским инстинктом. И даже когда туман слегка рассеялся, я просто не могла остановиться и неслась уже по инерции. Я все более убеждалась, что в этом мире никто не может причинить тебе вреда. Нет таких законов, чтобы отнять ребенка у матери… Я испытывала тягостное ощущение нелепости происходящего, мое сознание было расщеплено, как у шизофреника: я почти срослась со своей новой сущностью, но в то же время не могла забыть, кто я на самом деле. Я вела себя странно, неадекватно. Наверное, это бросалось в глаза даже тебе. («Да уж…» — ввернул я.) А потом… вновь дал о себе знать Иван Петрович Сидоров.
Уж не знаю, как они прознали о тебе. Кто-то из посвященных в мою тайну проболтался… я что-то упустила в своей конспирации… чего-то недоучла… да ведь и они тоже профессионалы… Они готовились к твоему возвращению из Алегрии. Зачем это им понадобилось — ума не приложу, но поселок стремительно опустел. Хотя я никогда не славилась общительностью, но знакомые у меня были. «Здрасьте — здрасьте. Как настроение, госпожа Анна? — По погоде, господин Немет…» И вдруг — как отрезало. Куда-то пропали прежние соседи, а новых так и не появилось. Нарастало какое-то напряжение. Что-то должно было случиться. И я, пожалуй, была готова к новым переменам. Мне только хотелось быть уверенной, что и ты окажешься готов. И когда ты появился из леса под конвоем этого типа, я уже созрела, чтобы поставить их на место…
— Кого «их», мама?
— Этих… охотников за эхайнами. Ивана Петровича и его ягдкоманду.
— А они правда настолько плохие, как ты о них думаешь?
— Не знаю, сынок, ни в чем уже не уверена. Дядя Костя мне кое-что рассказал. Но… почему этот проклятый Сидоров так повел себя на борту моего корабля? Ведь он пытался мне угрожать. Он говорил о тебе, как будто ты — его вещь, которую он хочет получить назад любой ценой. Ненавижу, когда кто-то говорит: «Любой ценой»! Нет, я не боялась его. И все же он… испугал меня. Это он, он виноват во всем. В том, что эти годы мы не столько жили, сколько прятались. Это он отнял у меня мою жизнь.
— Зато у тебя есть я, ведь так?
— Конечно, так, балбесик. Я думаю, что… даже если бы не было на свете никакого Сидорова — да и нет, это же вымышленное имя! — если бы никто не вперся на мой корабль заявлять свои права на маленького рыжика, все равно я вернулась бы и забрала тебя. Ты меня и впрямь приворожил. И мы непременно были бы вместе, но только жизнь наша сложилась бы по-другому. Я осталась бы собой, а у тебя было бы другое имя и другое детство. Тогда, на Тайкуне, я непременно вернулась бы за тобой. Хотя…
— Что еще за «хотя», мамуля?!
— Зоя Летавина могла опередить меня.
12. Бутерброд с ветчиной
Дядя Костя сидел на крыльце, привалившись к перильцам, и, похоже, дремал. В его руке зажат был стакан с апельсиновым соком, черная куртка небрежно наброшена на плечи. Неестественно бугрившийся бицепс казался надутым, и хотелось ткнуть в него иголкой, чтобы выпустить воздух.
— Эта чертова кошка… — сказал он сипло, едва только я приблизился.
— Ее зовут Читралекха, — на всякий случай напомнил я.
— Это не повод, чтобы орать все утро.
— Она будет злиться, пока вы не уедете.
— Ты тоже хочешь, чтобы мы уехали поскорее?
— Я?.. Пожалуй, нет. Это мама… она не очень-то любит компании.
— Раньше любила… Знаешь, как мы ее звали?
— Титания, — сказал я горделиво.
— Черта с два! — фыркнул он. — Титанией она стала много позже, когда начала коллекционировать скальпы…
— Какие скальпы?!
— Мужские. Не дергайся, дружок, это метафора. Так вот, мы звали ее Лешка-Многоножка. Потому что она была тощая, как паук-сенокосец, и всюду за нами ползала. И все время обдирала коленки. Отсюда другое прозвище — Ленка Драная Коленка. Мы, если хочешь знать, росли вместе.
— Я узнал об этом нынче утром.
— Да уж, наверное… Был такой поселок Оронго, затерянный в монгольских степях. Сейчас на его месте город с тем же именем, там живет моя мама, а из нашей прежней оравы не осталось никого. Кроме меня, потому что, пока я на Земле, я живу в доме своей мамы.
— Значит, вы тоже маменькин сынок?
— Точно. Хотя, в отличие от тебя, своего отца я знаю. Мы даже виделись пару раз…
— Наверное, я тоже был бы не прочь повидать своего.
— Ты уверен?
— Что тут такого?
— Твой отец был аристократ из Черных Эхайнов. Что, смею заверить, не подарок. Скверный характер, дурные — по земным понятиям! — манеры. Склонность к насилию и немотивированному рукоприкладству. Тщательно культивируемая с детства ненависть к человечеству как к биологическому виду. Фактически мы находимся в состоянии войны.
— Вот глупости, — сказал я. — Как можно ненавидеть все человечество сразу?
— Ты ведь не любишь, наверное, змей? Или пауков?
— Ну… не знаю…
— Тогда ты очень необычный молодой человек… Сформулируем иначе: некоторые люди — и таких большинство! — на дух не переносят отдельных представителей пресмыкающихся и паукообразных. Кое-какие недоросли четырнадцати лет от роду не любят… ну-ка, что ты не любишь до мурашек по коже?
— Гречневую кашу, — проворчал я.
— …не любят гречневую кашу. И все же, те, кто терпеть не может змей, встречаются намного чаще. Потому что эту неприязнь мы унаследовали от дикого предка, каковой принужден был делить ночлег на деревьях с гигантскими рептилиями плиоцена, а те были сильнее и своим превосходством беззастенчиво пользовались.
— Наверное, змеи тоже до мурашек должны ненавидеть людей.
— О да, — оживился он, — хотя вряд ли они расскажут об этом в обозримом будущем! Вот и эхайны ненавидят людей на таком же генетическом уровне.
— Как змеи?
— Примерно.
— Тогда и я должен ненавидеть. Но я ничего не чувствую!
Он внимательно посмотрел на меня. Будто изучал.
— У тебя все по-другому. В тебе не культивировали этот атавизм специально. Напротив, его всячески подавляли, без устали повторяя простую мысль: человека надо любить, всякий человек достоин любви. И вот что я тебе скажу: это истинная правда. Погляди вокруг себя — можно ли не любить этих женщин?
— Нельзя! — легко согласился я.
— А можно ли не любить того же меня?
— М-мм…
— Знаю, знаю, что нельзя, и ты это знаешь, как бы ни пытался сейчас возражать своим инфантильным мыком. Просто ты не изведал еще всех моих достоинств, отчего и сомневаешься. Даю руку на отсечение, что нет среди твоих друзей и подруг ни единого экземпляра вида homo sapiens, не достойного любви. Я прав? Человеку нужно изрядно потрудиться, чтобы завоевать право на нелюбовь…
— Н-ну…
— Антилопу гну, — промолвил дядя Костя благодушно. — Я больше скажу: это следствие универсального правила, которое мне очень нравится. Сформулировать его можно примерно так: всякое разумное существо в Галактике вправе рассчитывать на любовь, любить и быть любимым. Хотя нескольким безукоризненно разумным индивидуям все же удалось добиться моей ненависти… — Он вдруг встрепенулся. — А ответь-ка мне откровенно, как мужик мужику, на совершенно мужской вопрос: у тебя есть подружка? Я имею в виду не абстрактного товарища женского пола, а такую подружку, с которой тебе хотелось бы проводить неоправданно много времени… шляться по морскому берегу… прыгать на танцульках… целоваться?..
— Н-ну… — снова сказал я и призадумался.
Не было у меня никого, вот что странно. Так, пустяки разные.
— К чему вы клоните? Что я какой-то ненормальный?
— Нормальный ты, успокойся. Вполне нормальный… мальчишка-эхайн. Будто я не вижу, как ты на Ольгу смотришь!
— Ну, и как? — спросил я с вызовом.
— Как… как голодный на кусок хлеба с маслом и ветчиной. Не очень удачная метафора, ты, небось, в жизни еще не испытывал настоящего голода, не знаешь, что это такое. В общих чертах, это выглядит так: вначале в твоем воображении возникает небольшой кусочек черствого хлебушка. Затем он увеличивается, заполняя твои мысли целиком и совершенно вытесняя все прочие рефлексии. Затем он сам собой покрывается толстым слоем желтовато-белого масла…
Я сглотнул.
— Но это еще не конец, — продолжал он безжалостно. — Конец наступает, когда на масло плавно опустится ломоть розовой, почти без прожилок, ветчины.
Уж как угодно, а мне сразу захотелось бутерброда с ветчиной. С розовой.
— А если на ветчину падет листик нежно-зеленого салата, — довершил он пытку, — такого, знаешь, с капельками изморози… тогда пиши пропало. Вот так, от малого к большому. Это, братец ты мой, природа.
— Какая еще… при чем тут природа?!
— А при том, что человек, что бы он из себя ни строил, как ни кичился бы своим интеллектом, культурой, цивилизацией и прочими прибамбасами, все равно в самой глубине своего прямоходящего и практически лишенного волосяного покрова организма, на уровне клеточной памяти, остается животным. Хотя и с фантазиями. Не просто хлеб, а бутерброд… И ты точно такое животное, как и твоя невозможная кошка, только наивно полагаешь себя более разумным, чем она, — хотя она-то, со своими кошачьими фантазиями, наверняка считает иначе.
— И вы тоже животное?
— Точно, — объявил он с удовольствием. — Совершенно несмысленная тварь, пробираемая звериными инстинктами и одержимая фантазиями самого разнузданного толка!
— В чем это выражается?
— Хотя бы в следующем: я люблю спать. Если бы не налет цивилизации, я спал бы двадцать часов в сутки! Еще я люблю есть не то, что полезно, а то, что вкусно. Если уж я начну в минуту голода сочинять в своем воображении бутерброд, то всем чертям станет тошно… Еще я люблю женщин.
— Что, всех?
— Ну, не всех, а, скажем, тех, что в пределах досягаемости. Я борюсь с этим инстинктом… с переменным успехом. — Дядя Костя вздохнул. — У меня две жены. И я обожаю обеих. Но сейчас я здесь, и мне очень нравится твоя мама. Наверное, при определенном стечении обстоятельств, я мог бы вдруг оказаться твоим отцом. — Он помолчал, о чем-то вспоминая. — Разумеется, в этом случае ты выглядел бы иначе. И у тебя к твоим четырнадцати была бы уже пятая по счету подружка на всю жизнь… Слушай, а не слишком ли я с тобой откровеней? В конце концов, ты всего лишь несмышленый неандертальский подросток…
— Пустяки, — скромно сказал я. Послушал бы он наши разговоры в раздевалке спортзала!
— Ну, так… к чему это я? А вот к чему: твоя мама мне нравится, а Ольга Лескина, при всех ее неоспоримых добродетелях, не пробуждает ровным счетом никаких эмоций. Мы с ней, веришь ли, давние и добрые друзья. Хотя, справедливости ради, отмечу, что отдельные прямоходящие животные ушли от своих генетических программ намного дальше, чем я, грешный, и пытались за Ольгой ухаживать. Увы, без видимого успеха.
У меня сердце ёкнуло.
— Ей… — сказал я с усилием, — ей нужно немного подождать.
— Неужели тебя? — усмехнулся он. — Не фантазируй. Победи свой голод прежде, чем привидится ветчина. И уж наипаче салат… Знаешь, сколько ей лет?
— Ветчине?
— Ольге.
— Не знаю… не хочу знать.
— Она втрое старше тебя. У нее…
Я напрягся, ожидая, что он скажет: «… дети твоих лет». Но услышал:
— …взбалмошный нрав и эксцентричное поведение. Стоит ей закатить глазки и молвить что-нибудь вроде «Уой… обожаю…» (Я хихикнул: получилось очень похоже!), и мужики валятся налево-направо в аккуратные поленницы. Что поразительным образом не мешает ей быть прекрасным звездоходом. Да чего ради я тебя уговариваю? Просто выкинь это из головы. Считай ее своей теткой и относись соответственно. Ты ведь можешь пойти на такую жертву?
Я отрицательно помотал головой.
— Чучело ты, — сказал он ласково. — Кажется, я начинаю любить Черных Эхайнов.
Странное дело: рядом с ним я не испытывал никакой скованности, как это бывает при разговоре с незнакомыми взрослыми. Наоборот, мне казалось, что мы знакомы много лет — уж года три, не меньше, и никакой он не взрослый, а chico[11] моих примерно лет, и такой же ненормально крупный. И никаких тайн у меня от него не было. Мне нестерпимо хотелось говорить ему «ты», позвать его в мою комнату, показать мою коллекцию морских раковин и узнать его мнение об этих чудилах из «Гринго Базз».
— Знаешь что? — промолвил он задумчиво. — Говори мне «ты».
Нет, он определенно читал мои мысли.
— У меня ничтожный опыт общения с подростками, — между тем продолжал дядя Костя. — С младенцами — еще куда ни шло, у меня крохотная дочурка… И я чувствую себя не в своей тарелке, когда ты, совсем меня не зная, пытаешься выказывать мне какие-то совершенно пока незаслуженные знаки возрастного уважения. Если бы твоя мама не отшила меня в тридцать втором… должен заметить, что и правильно отшила… кто я тогда был? грязный, замученный плоддер, а она — блистательный командор Звездного Патруля… то все могло бы сложиться иначе… — Он задумался еще тяжелее и бессвязно забормотал себе под нос: — Хотя нет, не могло бы, тогда я был еще слишком глуп, чтобы нравиться женщинам… да и сейчас не накопил великой мудрости…
Он почувствовал, что окончательно заплутал в своих рассуждениях, и стеснительно улыбнулся. Так мог бы улыбаться гизанский сфинкс (уверен, я не первый, кому в голову пришло такое сравнение!). Или Читралекха, если бы у нее было чувство юмора.
— Ну что? — спросил дядя Костя. — Годится? Пошли, скрепим наш уговор, выпьем на брудершафт.
— Чего-чего выпьем?!
— Это старинный русский обычай. Если двое переходят на короткую ногу, то обязательно выпивают по большому стакану томатного сока. Ну, там еще всякие глупости, вроде троекратного поцелуя, но это мы опустим…
— Мне кажется, «брудершафт» — не русское слово, — заметил я осторожно.
— Кто тебе такое сказал?! — поразился он. — Наплюй тому в глаза, кто говорит эти глупости. «Брудершафт», «бутерброд», особенно с ветчиной и салатом, и «бормоглот» — исконно русские слова. Никто не лишит нас национальной культуры! Может быть, и Северин — не русское имя?!
Где-то спустя полминуты, уже на веранде, до меня дошло, что он прикалывается. Нет, права была мама: я действительно туго соображаю, но теперь хотя бы знаю, почему. Во всем виновато мое темное эхайнское происхождение (ей-богу, неплохая отмазка на будущее, хотя вряд ли можно будет ею злоупотреблять). И я немедленно пустил этот аргумент в ход:
— Вообще-то, я эхайн.
— Тогда скажи мне что-нибудь по-эхайнски, — фыркнул дядя Костя. — Не можешь? То-то, эхайн липовый. Это я могу часами трындеть на эхойлане, как истинный т'гард Светлой Руки, а ты и русского-то еще толком не знаешь…
И он произнес длинную фразу на неприятном и абсолютно нечеловеческом языке, лязгая, щелкая и придыхая.
— Зато я могу вот так, — сказал я и переплел руки, как учила тетя Оля. — А вы нет. И кто из нас больше эхайн?
— Вздор! — закричал дядя Костя, попытался повторить и обломался.
Мы выпили томатного сока. Дядя Костя крякнул, утерся — я слегка струхнул, что он все же потребует троекратного поцелуя, — и сказал:
— Ну, теперь скажи мне что-нибудь, используя местоимение второго лица в единственном числе.
— Чего-о? — переспросил я и понял, что снова торможу.
— Обратись ко мне, как подобает после стакана томатного сока!
— Сейчас… сейчас… А вы…
— Дам по шее, — сказал он ласково.
— А ты… (Я поразился, как легко мне это далось.)… умеешь читать мысли?
— Умею, — кивнул он. — Но только самые дурацкие. К счастью, у большинства окружающих только такие и есть. У тебя, например. Открыть, о чем ты сейчас думаешь?
— Нет! — запротестовал я.
13. История тети Оли Лескиной
Тут на веранду пришла мама, а следом за ней и тетя Оля.
— Ну вот, примерно об этом, — сказал дядя Костя.
— Что это вы тут делаете с такими плутовскими физиономиями? — строго спросила мама. — Интригуете за моей спиной?
— Как ты могла такое подумать обо мне, Леночка! — воскликнул дядя Костя, скорчил плутовскую физиономию, как он ее понимал, и мамины подозрения стократно усугубились.
— Отвратительно выглядишь, — сказала она. — Ты знаешь об этом?
— Знаю, — согласился он. — В незапамятные времена моя матушка Ольга Олеговна, когда хотела всех повеселить, говорила: «Костик, сделай „крыску“». И я демонстрировал такую вот рожу.
— Ну, не знаю, — сказала мама с сомнением. — Трудно представить, что когда-то такое могло насмешить.
— Я же не всегда был мужиком сорока четырех лет, — пожал дядя Костя могучими плечами. — А вот теперь самое удивительное: Иветта… это моя дочка, если кто не знал… тоже умеет делать «крыску». И делает ее без чьих-либо просьб, когда чересчур напроказит или желает всем создать хорошее настроение.
— Надеюсь, это единственное, в чем она похожа на тебя… Не помню, спрашивала ли я, как зовут ее маму и заодно твою несчастную супругу.
— Марсель, — сказал дядя Костя. — А другую мою несчастную супругу зовут Рашида.
— Неужели всего две погубленных судьбы?!
— Ну, я только вхожу во вкус супружества…
Пока они пикировались, тетя Оля прошла к столу, налила себе бокал сока и стала рассматривать его на свет. Утром ее лицо уже не казалось таким притягательным. Под глазами залегли серые тени. Бронзовая кожа приобрела отчетливый зеленоватый оттенок. И даже платиновые волосы были какими-то неживыми… Вдобавок, на ней был чудовищный долгополый сарафан из тяжелой черно-коричневой ткани, с высоким воротником, на манер гребня древнего ящера, весь в нелепых складках, оборках и ремешках. Она поймала мой недоумевающий взгляд, истолковала его по-своему и промолвила, иронически улыбаясь:
— До этой ночи я думала, что люблю кошек.
— Это не просто кошка, — сказал дядя Костя. — Это, Оленька, баскервильская кошка. А теперь вообрази, как она не любит нас, незваных гостей, едящих с ее стола, спящих на ее постелях, слоняющихся по ее дому.
— Это ее нисколько не извиняет, — мрачно проговорила великанша и уткнулась в свой бокал.
Мама молча накрывала на стол: расставляла приборы, придвигала ко мне вазу с фруктами, наливала кофе. На ее лице застыло невиданное ранее выражение мстительного удовлетворения. «А вы думали, мне легко было все эти годы?» — читалось в ее глазах.
— Спасибо, Леночка, — сказал дядя Костя, принимая чашку кофе из ее рук. — А теперь не желают ли присутствующие послушать историю простой эхайнской девушки Ольги Антоновны Лескиной?
— Желают! — закричал я.
— Ну что ж… — сказала мама с напускным равнодушием, которое только добавило всем уверенности, что ей тоже интересно.
— Да нет никакой особенной истории, — с ходу объявила тетя Оля. — Я и сама толком ничего не знаю. Все так запутанно… хотя в последнее время кое-что все же прояснилось. В двух словах: в самом начале века моя матушка, Майя Артуровна Лескина, известный в своих кругах химик-теоретик, имела неосторожность сделать эпохальное открытие.
— Какое же? — с интересом спросил дядя Костя.
— А я не знаю! — вдруг хихикнула тетя Оля и сразу сделалась похожа на себя вчерашнюю. — Она мне называла, но там в определении одних нейропептидов упоминается семнадцать штук… разве же я упомню? К тому же, она постоянно делала какие-то открытия, так что и сама уже путается, что и когда. В общем, неважно. А важно то, что ее, юное дарование неполных тридцати лет, нобелевского лауреата… — Мама с легким недоумением и даже неудовольствием вперилась в тетю Олю, словно бы не понимая, как у нобелевского лауреата могло родиться столь ветренное существо. — … пригласили во Вхилугский Компендиум выступить с докладом черед известнейшими химиками Галактического Братства. По преимуществу, перед теплокровными гуманоидами, которым эта тематика была действительно любопытна.
— Вот ты, Оленька, по всем статьям теплокровный гуманоид, — задумчиво произнес дядя Костя. — Уж что-что, а этого у тебя не отнимешь. Отчего же тебе-то не любопытно, чем занимается твоя мама?
— Ну вот такая уж я, — сказала тетя Оля. — Вот ты много проявляешь интереса к работе своего отца?
— Н-ну… — замялся дядя Костя.
— Тогда и не перебивай, а то оставлю без истории на завтрак… Мама долго не хотела лететь, она вообще домоседка и не очень-то жалует открытые пространства, но к ней в дом прибыл сам Вольфганг Зее и пояснил, что последний раз такое приглашение поступало земным химикам пятьдесят лет назад, и вряд ли поступит в последующие пятьдесят, что это высокая честь… громадная ответственность… престиж земной науки… И мама согласилась. Вхилуг — это…
— Знаю, — сказали одновременно моя мама и дядя Костя.
— А я-то, я — нет! — жалобно взвыл я.
— Это научный центр цивилизации нкианхов, — пояснил дядя Костя. — Что-то вроде очень большого и сумбурного академгородка. Расположен в метрополии, на пятой планете системы сигмы Октанта, которая так и называется — Пятая Планета. Сами нкианхи — рептилоиды, но вполне симпатизируют нам, гуманоидам, и всячески привечают в своих эмпиреях.
— Ну да, — сказала тетя Оля. — И мама окунулась в эти самые эмпиреи, что называется, с головой… Она до сих пор не находит слов, чтобы выразить свои ощущения, и ограничивается примерно таким описанием: «Все было, Уоленька, уочень, уочень и уочень…» И возводит глаза к небу. Все, точка. А что «уочень» — так и не поясняет.
— И что же дальше? — спросила мама.
— Ну, с докладом она все же, как нам обеим представляется, выступила, хотя сама она определенно этого не помнит. Так или иначе, в анналах Вхилугского Компендиума ее имя присутствует, я проверяла. В установленный срок она вернулась домой, к любимой своей химии, чего-то там еще открыла… А спустя девять месяцев на свет появилась я.
— Вот прекрасно! — воскликнула мама. — И это вся история?!
— Я предупреждала, — кротко сказала тетя Оля.
— Но обстоятельства, предшествующие твоему рождению, при всей своей рассеянности, твоя матушка Майя Артуровна все же должна помнить! — не унималась мама.
— Должна, — кивнула тетя Оля. — И наверняка помнит. Но смутно.
— Вхилуг, — сказал дядя Костя и усмехнулся.
— Ну, Вхилуг, — нетерпеливо проговорил я. — И что с того?
— Это, братец ты мой, сумасшедший дом размером с самый большой город, какой только поместится в твоем воображении…
Я немедля попытался вообразить эту картинку. Необозримая плоская равнина, от горизонта до горизонта покрытая маленькими домиками, чьи крыши размалеваны в несочетаемые цвета, вроде зеленого с красным или красного с синим; по аллеям разгуливают, скачут на четвереньках или ползают на пузе люди в полосатых халатах с завязанными в узел рукавами (видел я такое в одном старом фильме); а в небесах там и сям недвижно парят воздушные шары, отчего-то в форме розовых слонов.
— И все-таки… — начала мама недоверчиво.
— Да нет же, — сказала тетя Оля. — Не надо преувеличивать. Кое-чего мне от мамы все же удалось добиться. Был короткий и феерический роман с каким-то молодым человеком из службы эскорта. Они там все по определению довольно смазливые, но мама говорила примерно следующее: «Он был такуой… такуой… не такуой, как все…»
— Понятно, — сказала моя мама, саркастически усмехаясь.
— Звали моего отца, если верить маме, Антон Готтсхалк. Когда родилась я, мама пыталась разыскать его, чтобы поделиться с ним радостью, — продолжала тетя Оля.
— Но не нашла, — покачал головой дядя Костя.
— Непохоже, Консул, что ты слишком удивлен, — повторила тетя Оля вчерашнюю мамину фразу.
— Пташки мои, только не ждите от меня возгласов изумления! — промолвил дядя Костя с лёгким раздражением. — Вы забываете, кто я по профессии. Чего-то я могу не знать, потому что не занимался специально тематикой «Эхайны на Земле». Но могу дополнить любую из ваших историй тем, чего уж точно не знаете вы.
— Отлично, я дам тебе такой шанс, — пообещала тетя Оля. — Так вот, я родилась и росла прелестным ребенком, ничем не выделяясь среди прочих прелестных детей моего возраста. У меня даже глаза, изволите видеть, не янтарные, а голубые. И волосы не рыжие, не соломенные, а такие, как есть. Но в двенадцать лет я сделалась выше и тяжелее всех ровесников, всех педагогов, всех взрослых, кто меня окружал, и, к ужасу мамы и педиатров, продолжала расти. Поскольку в ту пору эхайнский генотип широкой медицинской общественности был недоступен, было принято решение считать мой случай неким отклонением от нормы, на общем состоянии моего здоровья пагубно не отражающимся. Тем более что в остальном я действительно была совершенно нормальна.
— Только, наверное, мальчиками не интересовалась, — буркнул дядя Костя.
— А вот и не угадал! — захохотала тетя Оля. — Интересовалась! Это они меня обходили по синусоиде, потому что в свои четырнадцать-пятнадцать я была здоровущей дылдой, самой сильной в колледже, и выглядела на все двадцать! Поэтому первым моим мальчиком был тренер по фенестре, а тренером по фенестре у нас в колледже, чтоб вы знали, трудился Богумил Аккерман из «Реала».
Дядя Костя пожал плечами и бросил на меня короткий красноречивый взгляд: дескать, я тебя предупреждал, у этой дамы есть прошлое, и не просто прошлое, а весьма и весьма бурное, и началось оно задолго до твоего рождения.
— Мне это имя ничего не говорит, — сказал он.
— А мне говорит, — подал я голос, и все посмотрели на меня с уважением, а тетя Оля — можно сказать, с обожанием. Вернее, мне хотелось бы, чтобы это было так.
— Два восемнадцать, — пояснила она. — Рядом с ним я выглядела естественно — по крайней мере издали. А потом…
— Потом ты его переросла, — хмыкнул дядя Костя.
— Угу, — отозвалась великанша с наигранной удрученностью во взгляде. — Уж как он меня уговаривал посвятить свою жизнь спорту, уж какие сулил дары небес… Но я была равнодушна к публичным выступлениям и решила стать астронавтом. И стала.
— Наверное, нелегко было подобрать скафандр, — осторожно ввернул я.
— Были сложности, — согласилась тетя Оля. — Но чепуховые. В Корпусе Астронавтов крупные экземпляры — не редкость.
— Например, Йенс Роксен, — сказал дядя Костя, ухмыляясь, что твой Чеширский кот.
— А-а, дело прошлое, — отмахнулась она. — Рядом с ним я, по крайней мере, смотрелась естественно.
— Не помнишь, в каком году мы познакомились?
— В тридцать четвертом. Нет, кажется, позже…
— А когда ты узнала, что ты эхайн-полукровка?
— Так ты сам же мне и сказал! И было это… м-м… пять лет назад.
— Четыре, а не пять, — поправил дядя Костя. — Со мной связался один, скажем так, человек и сообщил следующее: Департамент оборонных проектов считает своим долгом поставить меня в известность о том, что среди моих знакомых есть по меньшей мере один эхайн, а если быть точнее, то половина эхайна. К моей чести, спустя положенных для изумления пять секунд я осведомился: уж не о субнавигаторе ли галактического стационара «Кракен» Оленьке Лескиной речь? После чего настал черед моего собеседника удивляться, и удивление это отняло у него существенно больше времени, нежели у меня. Опять же, к его чести, он не унизился до расспросов, каким образом я пришел к столь верному заключению. Это было очевидно: в моих знакомых числится только один человек безусловно эхайнских статей.
— Этого твоего собеседника звали, часом, не Иван Петрович Сидоров? — спросила мама, хмурясь. — Не Джон Джейсон Джонс?
— Нет, — возразил дядя Костя. — Его зовут Людвик Забродский. Во всяком случае, таково его подлинное имя, хотя не поручусь, что при определенных обстоятельствах он может называть себя иначе.
— И как же этот Забродский вычислил вражескую лазутчицу в наших рядах? — осведомилась мама.
— Очень просто. Эхайнский генотип в ту пору уже стал известен…
— …и очередное медицинское обследование наконец-то дало ответ на старый вопрос о причинах Оленькиного замечательного роста, — закончила фразу мама.
— Зато поставило перед Департаментом оборонных проектов новые вопросы, — сказал дядя Костя. — На которые они не могут дать исчерпывающего ответа до сих пор. То есть, кое-что им удалось установить. В службу эскорта представительства Федерации во Вхилуге был внедрен агент эхайнской разведки. Звали его действительно Антон Готтсхалк. Доклад, а скорее всего — само открытие доктора Лескиной представляло для эхайнов безусловный интерес, потому что их генотип, по понятным причинам, очень близок к нашему, а значит, биохимические процессы развиваются по тем же правилам. И, кстати, появление нашей Оленьки на свет божий — тому яркое свидетельство. Эхайнский агент легко сблизился с Майей Артуровной, наверняка получил доступ ко всей информации об открытии, после чего с легкой душой и приятным ощущением исполненного долга исчез навсегда.
— Подлец! — с театральными интонациями произнесла тетя Оля. — Обольстил бедную девушку… поматросил и бросил!
— Господи, Ольга! — вдруг всплеснула руками мама. — Это и в самом деле безнравственно! Они попросту провели над твоей матушкой генетический эксперимент…
— Не думаю, — сказал дядя Костя. — И вот почему. По сведениям все того же Департамента, эхайны не проявляли к судьбе маленькой Оленьки никакого интереса. Они вообще о ней не знали! И эти сведения достоверны. Согласись, что так генетические эксперименты не ставятся. Думаю, что эхайн-разведчик просто использовал близость с доктором Лескиной как формальный прием для извлечения информации. Либо же… если Майя Артуровна в ту пору была голубоглаза и светловолоса, как и Ольга, то он серьезно увлекся ею и наверняка впоследствии сожалел о мимолетности этого романа.
— Мама была именно такова, — кивнула тетя Оля. — Да она и сейчас хороша собой.
— Уж я-то знаю, насколько эхайны влюбчивы и сентиментальны, — сказал дядя Костя. — Эхайны обожают блондинок. Голубоглазые блондинки могут вить из них веревки. Если бы у нас нашлось достаточное количество голубоглазых платиновых блондинок, обязательно натуральных — клонессы Мерилин Монро изволят не беспокоиться! — да еще, по возможности, с «доминантой Озмы», мы бы давно покончили с этим дурацким межрасовым конфликтом…
Похоже было, что все забыли о моем присутствии. А у меня на языке вертелось столько вопросов сразу, что я даже не знал, с каким встрять в разговор в первую очередь!
— Какие еще выводы воспоследовали из этой истории? — сам себя спросил дядя Костя. — Например, что этот загадочный агент, возможнее всего, этнически был Светлым Эхайном — потому что Светлые Эхайны всегда были максимально толерантны к человечеству и не раз предпринимали попытки сближения. В том числе и весьма удачные… я имею в виду Нигидмешта Нишортунна и Озму. Или, что менее вероятно, он мог быть Лиловым либо Желтым. Последнее предположение целиком выстроено на методе исключения — мы просто слишком мало знаем об этих расах и об их стереотипах восприятия человечества. Но вряд ли он был Красным Эхайном, поскольку те избегают любых соприкосновений с людьми по принципиальным соображениям, и определенно не Черным — эти людей попросту спинным мозгом ненавидят…
Он осекся.
Все взгляды сразу обратились в мою сторону. Я сидел, втянув голову в плечи, и не знал, что сказать.
— Похоже, я сморозил глупость, — наконец вымолвил дядя Костя. — Ты… Черный Эхайн… как, не обиделся?
— Да вроде бы нет, — ответил я. — Не такой уж я и Черный… так, серенький.
— Ну и ладно, — сказал дядя Костя. — Моя история тоже закончилась. Давайте, что ли, завтракать.
— Подожди, Консул, — сказала тетя Оля. — Но я-то свою историю еще не закончила!
Дядя Костя недоумевающе приподнял бровь.
— Есть что-то, чего я не знаю? — спросил он.
— А вот я тебя и огорошила! — снова расхохоталась она. — С этим твоим вшивым Департаментом… Фокус в том, что доктор Майя Артуровна Лескина, уже после моего рождения, по меньшей мере трижды встречалась с моим отцом!
— Мыльная опера, — произнесла мама. — Целые горы мыльной пены.
Дядя же Костя безмолвствовал, хмуро уставившись в чашку остывшего кофе.
— Так, — наконец отверз он уста. — Фокус, конечно, нерядовой. Я понимаю, что не вправе задавать тебе, Ольга, какие-то вопросы, но…
— Мама не просила хранить это втайне, — сказала тетя Оля. — Но здесь есть тонкость: она не подозревает о том, что мой отец — эхайн. Она не знает, кто такие эхайны, и уж тем более слыхом не слыхивала про какие-то там межрасовые конфликты.
— Счастливейшая из женщин! — вздохнул дядя Костя.
— Она чистосердечно полагает, что он то ли датчанин, то ли титанид, работающий где-то в Галактике у черта на рогах и на Земле бывающий редкими напрыгами. К слову, мы даже с ним встречались — когда мне было полтора годика от роду…
— Все-таки эксперимент, — сказала мама.
— Ни фига, — упрямо возразил дядя Костя. — Когда в середине двадцать первого века лферры провели здесь один из своих несанкционированных экспериментов по межрасовой конвергенции, они установили над матерью с ребенком такой жесткий мониторинг, что в два счета засветились, что смешно, перед земными спецслужбами и вынуждены были спешно сворачивать всю деятельность, а затем, что не смешно, перед Советом тектонов, а уж те им прописали такую клизму с битым стеклом, что мало не показалось. Отчего, думаете, в конце двадцать первого века как бы по волшебству вдруг исчезли синдром приобретенного иммунодефицита и рак?
— Сплах… слап… спланхноспонгия Зеликовича-Бравермана, — осторожно предположила мама.
— Официальная версия для особо чувствительных натур, — возразил дядя Костя. — А на самом деле — репарации лферров человечеству. Асимметричное возмещение нанесенного ущерба по распоряжению Совета тектонов. Чтобы впредь было неповадно.
— Кто такие лферры?! — взмолился я, но не был услышан.
— А что стало с матерью и ребенком? — спросила мама, и была услышана.
— Все обошлось, — ответил дядя Костя. — На какое-то время у них появилась новая бонна, очень заботливая и разносторонне образованная. Ребенок стал нормальным и вполне здоровым. Потом он вырос. Звали его Роберт Локкен.
— Что, тот самый? — спросила мама.
— Тот самый, — кивнул дядя Костя.
— Но у него было много детей.
— У него не было ни одного собственного ребенка. А те пятнадцать, которых ты имеешь в виду, все приемные… Но мы, кажется, отвлеклись. Так что там, Оленька, у твоей матушки было с твоим батюшкой?
— Три или четыре краткие встречи, — ответила тетя Оля. — Всегда в местах грандиозного скопления народа. Пляж Копакабана. Тауматека в Рио-де-Жанейро. Поволжский мегаполис. В подробности я не посвящена, потому что мама… ну, вы уже в курсе, как у нее насчет подробностей. Вот это платье, что на мне, его подарок. Как он объяснил маме: национальный костюм, символ созревающей красоты.
— Ага, — сказал дядя Костя. — Вот оно что! То-то я гляжу, уродство какое, эти мне эхайнские кутюрье…
— Да ладно, — смутилась тетя Оля. — Сейчас схожу переоденусь. И, между прочим, он Лиловый Эхайн!
— Это тебе Майя Артуровна сказала? — осведомился дядя Костя недоверчиво.
— Точно. А ей — мой отец. Он попросил ее передать мне эти слова в точности, будучи в полной уверенности, что она все равно не поймет, о чем речь. Так оно и вышло.
— И случилось это… — проговорил дядя Костя, что-то про себя соображая.
— В прошлом году. Когда я уже знала, что я эхайнская девушка, но в самых общих чертах.
— Мог бы и сам сообщить, — буркнул дядя Костя. — Никаких формальных препятствий к тому не существует.
— Мы ни разу не оказывались на одной и той же планете Земля в одно и то же время. Так уж сложилось… Я даже знаю, как его зовут.
— Теперь и я тоже, — сказал дядя Костя. — Гатаанн Калимехтар тантэ Гайрон. Я угадал?
— Ты угадал, — проворчала великанша.
— Ну и папуля у тебя, Оленька, надо поздравить. Антон, стало быть, Готтсхалк. Ну-ну… Так вот, значит, кто работал в нашей миссии во Вхилуге в сто четвертом году!
— Ничем тебя не проймешь, — промолвила тетя Оля разочарованно.
— Даже и не пытайся, — сказал дядя Костя назидательно. — Просто я поименно знаю всех эхайнов, что посещали наш мир за последние десять лет. К счастью, их было не так много.
— Это тебе Забродский помог? — спросила мама напряженно.
— Он самый, Леночка.
— А он не пытался всех этих эхайнов изловить и поместить в какие-нибудь свои террариумы… для экспериментов?
— Перед ним и его Департаментом стоят иные задачи, — сказал дядя Костя с неохотой. — Во-первых, в прошлом году Гатаанн Гайрон прибыл к нам открыто и уже поэтому пользовался дипломатическим иммунитетом. А во-вторых, он Лиловый Эхайн, а им нужен был Черный.
— Мой сын был им нужен, — сказала мама недобро.
— Успокойся же, Елена, — строго сказал дядя Костя. — Никто не отнимет у тебя этого балбеса. Никто и никогда. Я клянусь. Тебе что, мало моего слова? Оно кое-что значит в этой Галактике, уж поверь.
Мама не ответила.
— Более того, — продолжал дядя Костя. — Чтобы окончательно закрыть эту тему, мы сегодня выслушаем еще одну историю… но уж, как видно, после завтрака.
14. Ждем еще одну историю
Как дядю Костю ни пытали, ни ломали, своей тайны он не выдал, а отделывался только ухмылками да междометиями. Мама даже предположила, что вскорости сам Консул тоже сознается в своем эхайнском происхождении, и будет у нас окончательно не дом, а черт-те что, какой-то эхайнаггский квинквумвират в миниатюре. На что тот возразил, что, мол, до полного квинквумвирата, а по-тамошнему — «Георапренлукша», — не достает еще двух членов, так что было бы логично, что и сама Елена Прекрасная сей же час обнаружит в себе эхайнские корни, да еще, пожалуй, эта чертова кошка, в которой, если судить по градусу ее вредности и гнусному голосу, непременно должно булькать не меньше литра эхайнской крови, но если серьезно, то ему такие глупости, как эхайнский генезис, ни к чему, он и так уже эхайнский аристократ, дай бог всякому, и без того хлопот да забот по исполнению всяких там графских обязанностей перед подданными и императором Нишортунном выше самой высокой крыши… Тут тетя Оля взмолилась, что-де у нее от всех этих эхайнов уже голова трещит, и она была бы признательна, чтобы до конца завтрака, а лучше — до конца дня никто не употреблял в ее присутствии слов, производных от корня «эхайн». С этим согласились все, кроме меня, но моего мнения за этим столом никто особенно и не спрашивал. Мы сидели, пили кофе с пирожными и болтали обо всякой ерунде, на веранде негромко звучала музыка — мой любимый Винченцо Галилей, из-за стенки как умела услаждала наш слух демоническим мявом посаженная под замок Читралекха, а из подвала ей в контрапункте отвечал меланхолическим басом взятый на цепь Фенрис. Все было хорошо. Дядя Костя как бы невзначай обронил, что в Алегрии полным ходом идут приготовления к ежегодному Морскому карнавалу, и что было бы не худо ему выбраться туда со всем семейством на пару деньков. «Ах, Морской карнавал!» — воскликнула тетя Оля и мечтательно закатила глаза. Я тотчас же заныл. Мама сердито попыхтела с полминуты, а потом сказала, что она прекрасно понимает, к чему все клонят, но она еще не готова к тому, чтобы принимать какие-то решения. Дядя Костя неопределенно хмыкнул. «Что ты тут хмыкаешь?! — взъелась на него мама. — Приехал и хмыкает! А я снова должна все менять в своей жизни, которую так долго и старательно устраивала подальше от глаз всяких этих хмыкунов… хмыкецов… хмыкарей!..» Было совершенно ясно, что на самом деле она все давно уже для себя решила, а ерепенится скорее для поддержания реноме своенравной и несговорчивой дамы, чтобы никто, спаси-сохрани, не подумал, что сумел оказать на нее влияние… Тетя Оля, не обращая внимания на их препирательства, заинтересованно расспрашивала меня о местных водоемах, какая в них водится живность, нельзя ли порыбачить или искупаться. «О-бо-жаю ловить рыбу! — восклицала она. — Особенно акул! Но их так мало осталось, что на всякую акулу приходится просить лицензию Департамента охраны природы! Или вот есть еще такая рыба — арапаима, но встречается еще реже… Хорошо, если бы здесь водились неучтенные акулы!» К моему стыду, все мои краеведческие познания были удручающе поверхностны. Я еще мог что-то рассказать о поселковой речке, хотя и не был уверен, что в ней обитала хоть какая-то рыба. С другой стороны, отчего бы ей там и не обитать? Поэтому я, охваченный внезапным и вполне безумным наитием, что-то врал о двухсотлетнем соме, который якобы проживал между опорами деревянного моста и раз в году непременно утаскивал зазевавшуюся утку или даже собаку, об элитных голубых раках, каких в незапамятные времена короля Жигмонда завезли и поселили в ледяных ключах монахи католического монастыря, стены которого еще сохранились по ту сторону леса, о диковинной зеленой форели, поймать которую никому еще не удавалось, хотя видели многие, да практически все жители Чендешфалу… «А много ли здесь жителей?» — спросила тетя Оля, и я окончательно потерялся. Как ей объяснить, что вот уже неизвестно сколько времени мы единственные, кто здесь остался? Но меня выручил дядя Костя. Он посмотрел на свой браслет, сделал значительное лицо — ему не требовалось для этого много усилий — и объявил:
— Пожалуй, пора.
— Что пора? — насторожилась мама.
— Встречать нашего гостя.
— Но я никого не жду.
— Я обещал вам еще одну историю. Но я не обещал, что расскажу ее сам.
— Интере-е-есно! — пропела тетя Оля. — Ну так поспешим! А где намечена встреча?
— Собственно, здесь, — сказал дядя Костя и выжидательно посмотрел на маму. Та молчала. — Мой гость в общих чертах представляет дорогу к дому, но человек он чрезвычайно занятой, а стоянки гравитра я здесь не заметил… и я бы хотел убедиться, что он не заплутает в здешних лесах.
— Что же, он сядет на окраине Чендешфалу? — удивилась мама.
— Нет, на берегу реки, по ту сторону моста. Не того, что деревянный, а того, что каменный. Он сам так пожелал.
— Странная прихоть, — сказала мама. — Ну что ж, пойдемте взглянем, кого ты нам приготовил для сюрприза…
И мы вчетвером отправились встречать гостя.
Впереди шагал дядя Костя, за ним топал я, ощущая на своем локте теплую ладонь тети Оли, слыша ее дыхание, впитывая ее запах. А позади всех, зябко кутаясь в махровую шаль, с самым несчастным видом плелась мама.
И мы сразу увидели гостя.
Его гравитр стоял на песчаной отмели, возле самой воды. Гость с самым озадаченным видом ходил вокруг машины, трогая ее за бока и толкая дверцу, которая всякий раз снова приоткрывалась. С гравитром явно было что-то неладно.
— Ну вот, — объявил дядя Костя, первым ступая на мост. — Прошу любить и жаловать. Директор отдела активного мониторинга Департамента оборонных проектов пан Людвик Забродский собственной персоной. И у него, как всегда, неприятности с земной техникой. Не любит его наша техника, не любит и не понимает. Эй, Людвик! — закричал он. — Что у нас дурного на сей раз?
— Это чертово насекомое… — раздосадованно откликнулся Забродский, несомненно имея в виду гравитр, и посмотрел в нашу сторону.
Не походил он на специалиста по обороне Земли от возможных угроз извне, хоть режьте меня. Маленький, лысоватый, бледный, в мягких помятых штанцах, в невзрачной курточке. Лица на расстоянии было не разобрать.
Но я за сотню шагов, что разделяли нас, почувствовал его взгляд. Как будто меня ткнули острой каленой спицей прямо в лоб.
Он глядел на меня, забыв о строптивом гравитре, забыв обо всем на свете. Больше в нашей компании никто его не интересовал.
Мне отчего-то показалось, что мы давно с ним знакомы. Всю мою жизнь. Всегда он был где-то рядом.
И я даже понял, отчего мне так показалось.
Потому что, обернувшись, вдруг обнаружил, что мамы уже нет с нами.
— Где мама?!
— Только что была, — беспечно ответила тетя Оля. — Консул, ты не видел, куда пропала Титания?
Дядя Костя остановился и даже слегка попятился. Как будто его вдруг осенила внезапная и очень неприятная мысль.
— Людвик, сукин сын, — пробормотал он себе под нос. — Да ведь ты не все мне рассказал…
Забродский уже направлялся к нам по мосту, одергивая курточку и оглаживая ладошками лысину.
— Стой! — вдруг закричал дядя Костя. — Стой там! Нет, не стой! Лучше запрись в кабине!
— Консул, что происходит? — спросила тетя Оля, поводя крутым плечом с явным намерением заслонить меня.
— Это же он… — невнятно проговорил дядя Костя. — Иван Петрович… Сидор Иванович… Дьявол, от этих архаровцев всегда одни неприятности!
Его маленькие холодные глазки вдруг потемнели, а тяжелые челюсти намертво сомкнулись так, что лицо стало похоже на каменное изваяние. Он смотрел поверх моей головы, в сторону дома.
А оттуда, безмолвно и страшно, как два демона смерти, неслись Фенрис и Читралекха.
15. Атака пенатов
— Собаку я беру на себя, — быстро сказал дядя Костя. — Ольга, ты сможешь остановить кошку?
— Консул, ты спятил! — воскликнула великанша. — Ты что? Думаешь, они нападут на нас?!
— Не знаю… Не на нас… надеюсь…
Все остальное происходило сумбурно и бестолково, как в дурном сне, когда воздух становится вязким, словно кисель, а звук обрывается и тает в этом вязле, не достигая границ восприятия. Поэтому в памяти сохранились бессвязные отпечатки событий.
Дядя Костя отгреб всех за себя одним движением могучей ручищи и оказался, можно сказать, один на самом острие атаки пенатов.
Первым на мост влетел Фенрис, в такт прыжкам взмахивая слюнявыми брылами, ощерив чудовищные клыки, казалось — ставшие вдвое больше и острее обычного. Я как завороженный следил за тем, как он надвигается на нас — огромный черный зверь, жуткий, незнакомый… мышцы переливаются под лоснящейся шкурой, как шары…
— Сидеть! — бешено гаркнул на него дядя Костя, выставив ладонь. — Сидеть, скотина, я кому сказал?!
И Фенрис… трудно поверить, его послушал!
Он затормозил передними лапами так, что едва не накрылся собственным задом, и застыл в нескольких шагах от нас, припав к влажным камням. В самых недрах его необъятного чрева родилось и прорвалось на свободу глухое зловещее рычание, чем все и ограничилось. Конечно, он был собакой, очень большой и страховидной, но всего лишь собакой, и всегда понимал, кто в стае вожак.
Иное дело Читралекха.
Ее никто не мог остановить.
Разве только я…
Пришла моя очередь отпихнуть тетю Олю и попытаться отодвинуть Консула. Наверное, легче было потеснить вековой дуб.
— Читра! — завопил я, пытаясь перехватить этот убийственный снаряд на лету. — Киса, киса, это же я!..
Она отмахнулась от меня, будто от мухи.
Это было как ожог — внезапно и очень больно, а потом уже не так больно, как противно. Я не сразу и понял, что моя правая рука распорота от кисти до локтя. Тетя Оля с каким-то звериным стоном попыталась прижать меня к себе, а ее платье вмиг усеялось темными брызгами. «Моя кровь, — подумал я безучастно. — Я ранен. Смертельно. Сейчас возьму и упаду. И делайте что хотите. Все равно никому не остановить эту лютую тварь».
В это время Консул оставил деморализованного Фенриса и попытался перехватить Читралекху. С тем же успехом можно было поймать солнечный зайчик… Огромная баскервильская кошка взбежала по нему, словно по стволу дерева, не позволив даже коснуться своей шубы, походя вспахала рукав куртки, разлиновала лицо, а затем спрыгнула с плеча, долго и красиво зависнув в воздухе… Консул взвыл и слепо шарахнулся, прижав к лицу ладони — между пальцев сочились алые струйки.
— В воду! — невнятно крикнул он. — В воду, Людвик!..
И тот с шумом ссыпался с моста в речку.
Ну и напрасно. Читралекха воды не боялась. Не любила — да, но не боялась. Она вообще не боялась ничего на свете, если видела цель.
Цель эта сейчас стояла по пояс в ледяном потоке под мостом, раскорячась, вскинув над головой сомкнутые руки. А Читралекха уже сидела на перилах, подобравши под себя лапы и балансируя распушенным хвостом — примеривалась, как бы точнее упасть сверху на голову жертвы. «Убить! Убить чужого!» — кричало ее тело.
Что там у Забродского поблескивает металлом в руках?..
— Нет! — заорал я.
Снова оттолкнул тетю Олю с неожиданной силой — она с размаху села. Я и сам едва не упал рядом с ней — ноги меня не держали.
— Людвик, не смей, курва мать! — проревел дядя Костя.
Тот что-то выкрикнул задушенным голосом, наводя на кошку свое оружие.
Это ее тоже не остановит.
Я схватил Читралекху за бока — она зарычала горловым рыком и попыталась вывернуться. Еще один хороший удар наотмашь лапой с изостренными когтями — и я труп…
Она не ударила.
Узнала меня. Меня, свою самую любимую вещь в этом мире. Этой вещи ничто не угрожало, никто на нее не посягал. Я прижал Читралекху к себе, притиснул к щеке ее круглую шерстяную башку… Она позволила мне эту вольность. Я ощутил жесткое касание ее усов и взволнованное пыхтение в своем ухе. Ее ставшее невероятно тяжелым и твердым тело содрогалось от возбуждения. Потом она лизнула меня в лицо, словно здоровалась. И в самом деле, мы не виделись с самого утра.
Я попятился, унося ее подальше от перил.
Потом я упал…
Меня успели подхватить. Это была мама. До смерти перепуганная, зареванная, трясущаяся. Она повторяла одно и то же: «Господи, что же ты натворил, что ты натворил…»
Ничего такого я не натворил. Ну разве что спас этому… Ивану Петровичу Сидорову-Забродскому… его несчастную жизнь.
А вот что натворила она!
Вокруг меня происходило какое-то движение, откуда-то издали, из-за плотной пелены доносились приглушенные голоса. Сил у меня не оставалось вовсе, и я просто закрыл глаза.
Потом отобрали Читралекху — она уже успокоилась и размеренно рокотала у меня на груди. Наверное, это была мама, потому что никому другому эта бестия не покорилась бы. Меня подняли на руки — право слово, как младенца! — и понесли.
16. Сидоров-Петров-Джонс, он же Забродский
Я сидел на веранде, держал в здоровой руке стакан сока, а больную, обработанную, с аккуратно заклеенной цапиной, прижимал к груди. Мне было больно и стыдно. Цапина зудела и ныла, голова немного кружилась. В общем, ничего страшного, отчего следовало бы лишаться чувств и позволять Консулу тащить себя, как младенца, на руках… На коленях у меня сидела умиротворенная Читралекха, жмурилась, урчала и нехотя вылизывала заднюю лапу. Ее безмятежность была обманчива: я чувствовал, как напрягалось ее тело всякий раз, когда кто-то из чужих оказывался в пределах досягаемости когтей. К счастью, чужие это понимали и благоразумно держались на расстоянии. «Убить бы всех этих грызунов…» — мечтала гадкая кошара всем своим существом.
Фенрис маялся на цепи в подвале и тоже, судя по скулежу, не находил себе места от стыда. Для его собачьего самолюбия, наверное, невыносима была мысль о том, что он, большой и сильный пес, дал слабину и позволил себя остановить, а растленная глупая кошка, ничего не понимающая в охранном деле, выполнила свой долг до конца — загнала чужака в реку, пускай не убила, так хотя бы унизила!..
Случившееся выглядело бы комическим курьезом: надо же!.. взрослые люди испугались собаки и пострадали от кошки!.. но все знали, что никто не играл ни в какую игру, и два выпущенных на волю демона всерьез готовы были убивать. И тот, кто их выпустил, знал это и согласен был принять на себя грех.
Гости слонялись по веранде, словно потерянные, поглядывая на меня сочувственно и виновато. Мамы с ними не было: она заперлась в доме и никого не пускала.
— Что у тебя там было? — спросил дядя Костя у Забродского.
Его правая щека, расписанная следами кошачьих когтей, лоснилась от заживляющей эмульсии. Легко отделался: сочти Читралекха его своей добычей, мог бы остаться без глаз.
— Ничего особенного, — ответил Забродский. — «Вопилка-тормозилка». Всегда ношу с собой, по привычке. Полезная игрушка. А ты что подумал?
— Да я уж и не знаю, что и думать.
— Не веришь?
— Не верю.
— Показать?
— Покажи.
Забродский достал из кармана куртки блестящую металлическую коробочку и отдал дяде Косте. Тот повертел ее в руках, зачем-то потряс возле уха и со вздохом вернул.
— Однажды, это было в Нгоронгоро, на меня напала львица… — с некоторым оживлением стал объяснять Забродский, но дядя Костя выразительно промолвил:
— Понятно, — и тот сразу замолк.
— Почему ты не сказал мне, что это ты на Тайкуне налетел со своими ребятами на Климову? — спросил Консул.
— Видишь ли, Константин, я не думал, что это произведет на госпожу Климову такое тягостное впечатление…
— Произвело.
— Все было не совсем так уж и удручающе, как она могла тебе описать…
— Я думаю, все было еще хуже.
Забродский развел руками.
— Почему все требуют, чтобы их понимали, и никто не хочет понять меня? — спросил он, ни к кому не обращаясь.
— Потому что должен быть другой способ, — жестко ответил дядя Костя.
— Мы пытаемся. Мы честно пытаемся. Вот уже пятнадцать лет, изо дня в день, из ночи в ночь, пытаемся.
— Значит, плохо пытаетесь.
— Мы делаем все, что можем. Наверное, нам не хватает ума, интеллекта, полета фантазии, но… ведь ты же не хочешь работать с нами. И другие не хотят.
— Я редко в чем отказывал вам. В особенности, когда речь заходила об… этом направлении вашей деятельности.
— Знаю, знаю и ценю это. Но тебя одного недостаточно, какой бы хороший ты ни был. И есть те, кто нам нужен, но попросту воротит нос при одном упоминании Департамента…
— Ты плохо уговаривал их. А я не могу уговорить всех. Меня просто не хватит. Но ты даже не пытаешься научиться уговаривать.
— Курва мать, мне просто никто не дает шанса уговорить себя! — шепотом вскричал Забродский. — Все такие гордые! А как быть с теми двумястами?
— Я не знаю, — сказал дядя Костя устало. — Честное слово, не знаю. Вот, посмотри, — он кивнул в мою сторону. — Простой четырнадцатилетний шалопай. Обычный человеческий детеныш. Это и есть тот, в расчете на кого ты строишь свои планы.
— Нет, не тот, — возразил Забродский. — Вот если бы тогда, на Тайкуне, он оказался у меня…
— Через четыре года он получит право принимать осознанные самостоятельные решения. И еще года через два-три, может быть, станет тем, кто тебе нужен.
— Он никогда уже не станет тем, кто мне нужен, — горько проронил Забродский. — Время упущено. Ты прав, это обычный человеческий детеныш. И он боится вида крови.
— Через четыре года, Людвик. Ни днем раньше. Он сам должен решать за себя, а не ты за него, и не я за него, и никто во всем мире, кроме него самого.
— А как же те двести?..
— Людвик, тебе пора.
Забродский суетливо, в двадцатый, должно быть, раз одернул куртку и выпрямился во весь свой невеликий росточек.
— Я бы хотел принести свои извинения госпоже Климовой за причиненные ей неудобства и переживания, — звучно объявил он.
— Валяй, — хмыкнул дядя Костя.
Забродский на цыпочках приблизился к запертой двери и деликатно постучал.
— Госпожа Климова! — позвал он.
Молчание.
— Наверное, она ушла в дальние комнаты, — растерянно предположил Забродский.
— Никуда она не ушла, — криво, здоровой половиной лица усмехнулся Консул. — Она стоит по ту сторону двери и ждет, когда ты сгинешь с ее глаз. А в руках у нее большая железная штука, и хорошо бы, чтобы это была заурядная кочерга, а не то, что я думаю. И не прикидывайся, что ты всего этого не знаешь, нас учили одни и те же учителя…
— Что же мне делать? На колени встать?
— Это было бы эффектно.
Забродский в замешательстве огляделся. Тетя Оля, вынужденно сменившая заляпанное кровью — моей кровью! — платье на известный уже уродский сарафан, в странном и малопонятном постороннему уху разговоре не участвовала, а лишь наблюдала за Забродским с безжалостным интересом. Консул, опершись задом на перила, иронически щурился. Читралекха приоткрыла потемневший от ненависти глаз. «Убить бы его», — промурлыкала она. Один я сидел мирно и бездумно, как растение. Все происходившее протекало сквозь мои мозги, не задерживаясь, как река между опор моста…
— Уговаривать, — злобно проговорил Забродский. — Все хотят, чтобы их уговаривали… упрашивали… и никто не думает, зачем это мне нужно… как будто это нужно одному мне… как будто это мне нужно больше всех… да мне это вовсе не нужно, чтобы вы знали… я жив, здоров, я в полном порядке, а те двести… Госпожа Климова! — воззвал он. — Если это так необходимо… Вот я, вот мои колени, а вот этот грязный пол веранды вашего несчастного дома…
— С чего это он грязный? — фыркнула тетя Оля.
— Оставь, Оленька, это фигура речи, — заметил дядя Костя.
Забродский шумно выдохнул и встал на колени.
— Вот я, гордый и сильный человек, стою на коленях, — сказал он. — И униженно молю вас о прощении. То, что случилось тогда, нелепо, неправильно. Этого не должно было случиться. Простите меня. Простите… Но, если бы вы согласились выслушать меня, вы поняли бы мое состояние в тот проклятый вечер, поняли бы, что дело не в моих личных качествах, не в моих скверных манерах. Все дело в судьбах совершенно посторонних, незнакомых ни вам, ни мне людей.
— Людвик, заткнись, — приказал Консул.
— Я уже наказан, — не слушая его, продолжал Забродский. — Наказан всеобщим непониманием. Наказан каждодневной нервотрепкой и еженощной бессонницей. Да, я плохо сплю вот уже полтора десятка лет. Это чуть больше, чем исполнилось вашему мальчику. Если бы моя природа не бунтовала, я не спал бы вовсе… Я наказан непреходящим чувством вины перед незнакомыми мне людьми. Я не могу им помочь, хотя из кожи вон лезу, чтобы сделать это. А мне помочь никто не хочет. Вот и сегодня… меня выкупали в грязной ледяной воде, а ваша паскудная кошка чуть меня не убила. За что мне это? Чем я хуже вас всех? Господи, чем я провинился перед тобой? Я тоже хочу сидеть на веранде чистенького дома — своего, заметьте, дома! — кушать варенье, обнимать красивую женщину и воспитывать своих детей. Но вместо этого я стою здесь, на коленях, на чужой веранде чужого дома, и выклянчиваю у вас прощение. Ну так простите же меня!
Было, тихо. Так тихо, что самым громким звуком в этом мире сделался отдаленный голос речушки. Забродский стоял на коленях, все смотрели на него, мама не отвечала, а мне было стыдно, и я не знал, куда деться от этого несуразного и позорного зрелища.
— Добро, — сказал Забродский досадливо. — Нет так нет. Что я тогда, спрашивается; торчу здесь, как дурак?
Он встал и отряхнул брючины.
— С каждым днем, — проговорил он, — с каждым чертовым днем я все глубже увязаю в этом деле, как болоте. Я уже утонул в нем с головой, меня не видно… Неужели Ворон был прав, и нужна была силовая акция в первые же часы?
— Ворон был неправ, — сказал дядя Костя.
— Мы все такие добрые, мы все такие осторожные, мы все пацифисты… Константин, но могу я хотя бы мальчику объяснить, что заставляет меня выглядеть дураком в его глазах и негодяем в глазах его мамы?
— До дупы пана, — ответил дядя Костя. — Через четыре года ты все ему расскажешь. И он сам решит, как обойтись с тобой и с твоим рассказом.
— Четыре года! Четыре года, Консул! Тысяча четыреста шестьдесят один день!
— У тебя нет выбора, Людвик. Этот мальчик — такой же гражданин Федерации, как ты или я. Никто в Галактике не волен распоряжаться его судьбой, кроме него самого. Но — через четыре года.
— Еще четыре года адских дней и ночей для меня…
— Тебе не позавидуешь, Людвик.
— И для них — тоже…
— У тебя еще есть время найти другой способ. Я буду помогать тебе. А если кто-то откажет тебе в помощи… ты знаешь, я могу уговорить любого.
— Никто особенно и не отказывает. Это я так, к слову… Да все без толку, Константин, все без толку, мы уперлись в стену, которая сильнее нас и наших традиционных средств… — Он снова одернул курточку. — Могу я просто поговорить с мальчиком?
Дядя Костя вопросительно посмотрел на меня.
— Я не против, — сказал я.
— Людвик, убедительно прошу: следи за речью, — предупредил дядя Костя, приблизился и встал у меня за плечом.
— И вообще я хочу знать, что происходит, — вяло запротестовал я.
— Нет, — отрезал Консул.
— Ну почему, почему?!
— Потому что ты еще ребенок и все равно ничего не можешь изменить.
— Но я имею право! Мне уже четырнадцать! Вы же сами только что говорили, что мне решать!
— Когда тебе будет восемнадцать, так и произойдет. А до тех пор самые главные решения будет принимать твоя мама. И, в какой-то мере, я — потому что она доверила это мне.
— Я все равно узнаю!
— Не торопись взрослеть, Сева. У тебя еще будет время стать Атлантом и потаскать на плечах тяготы этого мира…
— Ладно, — сказал я досадливо. У меня не было сил с ним спорить. — Все такие взрослые, все такие большие и умные… один я здесь маленький дурачок.
— Не маленький, — возразил дядя Костя. — Отнюдь не маленький. Два погонных метра…
Наверное, это была шутка. Нынче все взяли моду потешаться над моим ростом, как будто во мне это было самое забавное.
17. Деликатное интервью с эхайном
ЗАБРОДСКИЙ. Скажи, Северин: тебе снятся странные сны?
СЕВЕРИН. Нет… смотря что называть странным.
ЗАБРОДСКИЙ. Такие, которым ты не можешь найти объяснения доступными тебе словами.
СЕВЕРИН. Ну, я много чему не могу найти объяснения!
ЗАБРОДСКИЙ. Мне кажется, ты понимаешь, что я имею в виду.
СЕВЕРИН. Не очень… Н-ну… всем иногда снятся сны, которые не поддаются объяснению. И вообще сны — это какая-то фантастическая реальность, отголоски взаправдашних событий, искаженные в кривом зеркале подсознания.
ЗАБРОДСКИЙ. О! Это ты сам придумал?
СЕВЕРИН. Нет, не сам. Слышал от учителя Карлоса Альберто дель Парана. Он преподает психологию в колледже «Сан Рафаэль».
ЗАБРОДСКИЙ. Гм… весьма поверхностно. Что ж, оставим сновидения. Северин, ты когда-нибудь выходил из себя?
СЕВЕРИН. Ха, еще бы!.. Н-ну, если и выходил, то… не слишком далеко.
ЗАБРОДСКИЙ. Тебе хотелось в порыве ярости что-нибудь разбить?
СЕВЕРИН. Зачем?
ЗАБРОДСКИЙ. Чтобы дать выход негативным эмоциям.
СЕВЕРИН. Глупость какая!
ЗАБРОДСКИЙ. Как же ты тогда стравливаешь пар, избавляешься от гнева?
СЕВЕРИН. Н-ну…
ЗАБРОДСКИЙ. Не мычи, будь ласков, отвечай развернутыми фразами.
СЕВЕРИН. И вы туда же!
ЗАБРОДСКИЙ. Куда «туда же»?
СЕВЕРИН. Что-то нынче все только и делают, что домогаются от меня развернутых фраз.
ЗАБРОДСКИЙ. Значит, не я один пытаюсь приучить тебя к человеческому способу общения. Так ты не ответил на мой вопрос.
СЕВЕРИН. А, насчет гнева… Нет, я не хочу ничего бить и ломать. Ведь вы это хотели услышать? Могу, конечно, запулить подушкой в стену. Сумку какую-нибудь подфутболить. Да и на что мне гневаться-то?
ЗАБРОДСКИЙ. Я слышал, мама забрала тебя из колледжа. Лишила тебя привычного окружения, друзей, развлечений. Разве не повод разозлиться?
СЕВЕРИН. На кого? На маму, что ли?
ЗАБРОДСКИЙ. А хоть бы и так?
СЕВЕРИН. Да ну, глупость… Как можно злиться на маму? Наверное, она лучше знает, что делать. Забрала — значит, так было нужно.
ЗАБРОДСКИЙ. Мама тоже может ошибаться.
СЕВЕРИН. Ну, наверное… Ну да, мне это не понравилось. Может, я и вспылил пару раз. Мне было обидно. Но злиться… К чему вы клоните?
ЗАБРОДСКИЙ. Только не думай, что я хочу поссорить тебя с мамой. Ваши семейные отношения меня не касаются. Если хочешь знать, я бесконечно уважаю твою маму. Она… незаурядный человек. Поверь, меня нелегко поставить в тупик, заморочить, сбить со следа. Госпожа Елена Климова — одна из немногих, кому удавалось водить меня за нос целых двенадцать лет. Где мы только вас не искали! А вы все время были под самым носом, практически на виду… Я даже преклоняюсь перед ней. Можешь ей так и передать, потому что она, увы, не оставляет мне шанса выразить свое восхищение лично… но это проблема нашего с ней аномально затянувшегося непонимания. Сейчас меня интересуешь ты и только ты. Так как, Северин, ответишь ли ты еще на пару моих вопросов?
СЕВЕРИН. Отвечу, почему бы нет.
ЗАБРОДСКИЙ. Северин… прекрасное польское имя. Я этнический поляк. Мне приятно, что тебя так зовут. Ты знаешь, почему тебя так странно назвали?
СЕВЕРИН. Что тут странного?!
ЗАБРОДСКИЙ. Фонетика твоих имени и фамилии такова, что приводит к семантической тавтологии. Северин… а слышится «северный». Морозов… мороз… бр-р, холодно. Разве не тавтология?
СЕВЕРИН. Мама говорила, что «северус» по-магиотски означает «строгий».
ЗАБРОДСКИЙ. Не по-магиотски, а по-латыни. Жители Магии говорят на слегка осовремененном и видоизмененном варианте языка древних римлян.
СЕВЕРИН. Да, я знаю, мама рассказывала.
ЗАБРОДСКИЙ. Озма поет на латыни. Ты любишь Озму?
СЕВЕРИН. Не-а. Не понимаю, отчего все так сходят по ней с ума.
ЗАБРОДСКИЙ. Хм… А что ты чувствуешь, когда слушаешь Озму?
СЕВЕРИН. Да ничего особенного. Все зависит от настроения. Могу читать под ее музыку. Могу спать. Могу играть с кошкой. Она кажется мне слишком манерной и монотонной, и скоро надоедает. И я включаю Виотти или Галилея.
ЗАБРОДСКИЙ. Тебе нужно хотя бы раз побывать на ее концерте. Все же, записи не передают всего очарования.
СЕВЕРИН. Когда-нибудь… может быть. Если она захочет выступить у нас в Чендешфалу.
ЗАБРОДСКИЙ. Я гляжу, ты нелюбознателен.
СЕВЕРИН. Ну, это как сказать… Хотя, конечно… Я люблю путешествовать, но только спокойно, без приключений, просто смотреть на землю с высоты полета. Люблю сидеть на берегу моря и слушать прибой. Люблю наблюдать, как кошка играет или спит на солнышке. Мама говорит, что по натуре я созерцатель, а не исследователь. Однажды я смотрел на Читралекху часа полтора кряду.
ЗАБРОДСКИЙ. А потом?
СЕВЕРИН. А потом уснул рядышком.
ЗАБРОДСКИЙ. Ты любишь эту жуткую тварь… эту акулу в кошачьей шкуре?
СЕВЕРИН. Ее нельзя не любить.
ЗАБРОДСКИЙ. Хм… Отчего же, можно. И даже не прилагая особенных стараний… А она тебя любит?
СЕВЕРИН. Ну, не знаю… Мама говорит, кошки не умеют любить. Их привязанность строится на инстинкте обладания. Читралекха считает, что я принадлежу ей. Она жуткая эгоистка и ни с кем не хочет меня делить.
ЗАБРОДСКИЙ. То есть, она и сейчас так настроена? (Опасливо протягивает руку в мою сторону.)
ЧИТРАЛЕКХА. Хххххххххх!
ЗАБРОДСКИЙ. Я пошутил.
СЕВЕРИН. Не делайте так. Она понимает только собственные шутки.
ЗАБРОДСКИЙ. Какие мы серьезные… Тебе не кажется, что эгоизм заключен в самой природе любви?
СЕВЕРИН. Может быть… я не думал. Конечно, я читал, раньше из-за любви происходили дикие вещи. Убийства, самоубийства, все такое… Наверное, вы правы: никто не хотел расставаться со своей подругой, как с любимой игрушкой. Или старался навредить тому, кто эту игрушку забирал. Это можно объяснить, но это… это неправильно. Думаю, сейчас все по-другому.
ЗАБРОДСКИЙ. Ты глубокий оптимист, Северин Морозов.
СЕВЕРИН. Угу, все так говорят.
ЗАБРОДСКИЙ. Во Вселенной полно миров, где убийство соперника — обычное дело. И даже не всегда наказуемо.
СЕВЕРИН. Ну, наверное…
ЗАБРОДСКИЙ. И есть миры, где считается нормальным убивать женщину, заподозренную в измене. Например, планета Яльифра.
СЕВЕРИН. Никогда не слышал о такой.
ЗАБРОДСКИЙ. А про юфмангов ты слышал?
СЕВЕРИН. Еще бы!
ЗАБРОДСКИЙ. Это их мир.
СЕВЕРИН. Ни за что бы не подумал… Они выглядят такими добродушными. Хотя в сказках у гномов обычно скверный нрав. Но ведь их женщины, я слышал, очень красивы!
ЗАБРОДСКИЙ. Не просто красивы, а красивы фантастически. Это феи из европейского фольклора.
СЕВЕРИН. Если это правда, у кого поднимется рука на такую красоту?!
ЗАБРОДСКИЙ. И тем не менее… А что бы сделал ты, если бы кто-то попытался забрать твою любимую игрушку?
СЕВЕРИН. Отдал бы, наверное. Если ему так хочется…
ЗАБРОДСКИЙ. А если бы он сделал это силой?
СЕВЕРИН. Ну, треснул бы разок по тыкве. Чтобы научился манерам… Разве трудно попросить?
ЗАБРОДСКИЙ. Хорошо, поставим вопрос по-иному. А если бы это была не игрушка, а любимая девушка?
СЕВЕРИН. Да откуда мне знать?! Я еще маленький, у меня еще не было любимой девушки. Вот появится, тогда и узнаю.
ЗАБРОДСКИЙ. Ты не маленький, Северин. Тебе четырнадцать, и все твои сверстники имеют подружек. И даже дерутся из-за них.
СЕВЕРИН. Да знаю я… Делать им, дуракам, нечего. И потом, девчонки сами их подначивают. Им это почему-то нравится. Какие-то их девичьи заморочки…
ЗАБРОДСКИЙ. Почему же у тебя до сих пор нет подружки?
СЕВЕРИН. Я не думал об этом… до этого утра. Может быть, я заторможенный. В том смысле, что еще не вырос как следует… ну, не в высоту, а… ну, в общем, вы сами понимаете…
ЗАБРОДСКИЙ. А почему «до этого утра»?
СЕВЕРИН. Ну… я узнал о себе кое-что новое.
ЗАБРОДСКИЙ. Что ты эхайн?
СЕВЕРИН. В общем… да.
ЗАБРОДСКИЙ. И кто-то из числа наших общих знакомых попытался объяснить твое равнодушие к юным девам генетическими особенностями?
СЕВЕРИН. Угу.
ЗАБРОДСКИЙ. Так узнай же, юный несмышленый эхайн: это чушь собачья. Эхайны вполне благосклонно относятся к земным женщинам, и за примерами нет нужды ходить далеко.
СЕВЕРИН. Да, я уже знаю… про тети-Олину маму.
ЗАБРОДСКИЙ. Или про Озму.
СЕВЕРИН. Про Озму я не знаю. Она что, тоже мулатка?
ЗАБРОДСКИЙ. Дикий ты человечек, Северин Морозов. Лесное дитя. Хочу, чтобы у тебя после общения с этими знатоками эхайнской культуры не возникло никаких ненужных комплексов. То, что ты эхайн, homo neanderthalensis echainus, никак не служит препятствием к тому, чтобы тебе нравилась девушка вида homo sapiens. Когда я учился в колледже, мне тоже были безразличны однокурсницы. И их это жутко раздражало. А потом я как-то оказался в Карпатах, в лагере «Рыси троп», встретил там одну юную особу… и началось.
СЕВЕРИН. Я был в Карпатах. И никого там не встретил.
ЗАБРОДСКИЙ. Она была одна такая… К чему это я? А к тому, что ты просто еще не встретил ту, что закружит твою глупую башку. И тебе еще предстоит захотеть подраться из-за нее.
СЕВЕРИН. Нет уж, пускай она сама выбирает, кто ей нужен. Но драться… из-за девчонок… глупость какая.
ЗАБРОДСКИЙ. А есть ли в этом мире что-то, из-за чего ты был бы готов немедля кинуться в драку?
СЕВЕРИН. Я еще не знаю. Хотя… пожалуй, есть.
ЗАБРОДСКИЙ. Ну, продолжай.
СЕВЕРИН. Если бы кто-то попытался обидеть маму… если бы сказал про нее что-то плохое…
ЗАБРОДСКИЙ. Ты бы убил его?
СЕВЕРИН. Не знаю… сразу уж и «убил»! Но людей бы навешал, это точно.
ЗАБРОДСКИЙ. И последний вопрос: как ты думаешь… ты знаешь, кто ты такой?
СЕВЕРИН. Конечно, знаю: Северин Морозов, мне скоро пятнадцать, и я необычно высокий мальчик. И еще, как говорят, я какой-то там, ха-ха, Черный Эхайн.
ЗАБРОДСКИЙ. Ничего-то ты не знаешь, высокий мальчик…
18. Гости уходят, мы остаёмся
Потом я поскребся в дверь дома, и мама отперла. Едва только я переступил порог, как за моей спиной снова защелкнулся замок. Ну и ладно… Я плюхнулся в придвинутое к стене кресло — так, чтобы слышать разговоры на веранде и хотя бы краем глаза видеть происходящее там, не раздражая своим вниманием маму, которая желала бы, чтобы я ничего не видел и не слышал.
— Не хочешь ли подняться в свою комнату, Северин Морозов? — спросила она без особой уверенности.
— Не-а, — сказал я, для убедительности скорчил страдальческую гримасу и завел очи. — Мне нехорошо… я тут посижу тихонечко… с кошкой…
Мама недовольно поморщилась, но не возразила.
На веранде гости продолжали свои негромкие разговоры.
— Зачем понадобилось выселять людей из поселка? — спрашивал дядя Костя.
— Никто никого не выселял, — отвечал Забродский. — Они сами, по своей воле, рассредоточились в течение месяца. У кого-то значительно снизилась нагрузка по работе и внезапно наступил долгожданный отпуск. Кто-то получил приглашение посетить Коралловый карнавал в Южной Нирритии на Эльдорадо. Кому-то захотелось повидать дальних родственников, о которых он и думать забыл. Да мало ли причин…
— Ты уклонился от ответа.
— Ну хорошо, хорошо… Это была мера разумной предосторожности. Мы же знали, с кем имеем дело…
— А именно? — нахмурился дядя Костя.
— С бывшим сотрудником Звездного Патруля, — отчеканил Забродский, — у которого старинные к нам счеты, право на защиту жилища и личной неприкосновенности, а также натянутые нервы и чрезвычайно скверный характер.
Дядя Костя недовольно покачал головой.
— Мы знали о боевых зверях, — хладнокровно продолжал Забродский. — О двух боевых зверях. Но сканирование показало наличие под домом глубокого и тщательно укрепленного подвала. Что за сюрприз мог там соблюдаться, оставалось только гадать. Дрыхнущий ратный дракон класса «мнаркморор». Тяжелый орбитальный фогратор «Рагнарёк». Черт с рогами. Все это могло пойти в ход так же легко и необдуманно, как хельгарм и баскервильская кошка.
— Параноики… — проворчал дядя Костя.
— Лучше посмотрись в зеркало, какой ты нынче красивый… Мы не могли рисковать благополучием посторонних людей. И мы их ненавязчиво удалили под самыми натуральными предлогами.
— Вам следовало просто сыграть отбой и вызвать меня.
— А никто и не наступал, не ломил в штыковую. Была создана надлежащая психологическая атмосфера, в. которой госпожа Климова сама склонилась к единственно верному решению. То есть сделала то, о чем ты говоришь: вызвала тебя.
— А если бы она… хм… не склонилась к верному решению?
— Но ведь все обошлось, не так ли?
Тетя Оля не выдержала, театрально охнула и с большим шумом покинула веранду, убредя куда-то в сторону палисада.
— Консул, Консул, — печально сказал Забродский. — У меня мог бы быть Черный Эхайн. Генетически безупречный, прекрасно кондиционированный Черный Эхайн. Но у меня его отняли.
— Ладно, не переживай.
— Ты не понимаешь. Мы решили бы все проблемы. Я мог бы плюнуть на дела и уйти в отставку. Мы бы с тобой больше не ссорились, а встречались бы у меня дома, пили пиво и рассуждали о цветочках.
— Ничего ужаснее я и вообразить не могу.
— А самое важное — послушай, Консул! — еще двести человек могли бы заниматься примерно тем же.
— Что ты уперся, как баран? Вынь да положи ему Черного Эхайна… Сбрось шоры, раскрепости мозги, ищи другое решение!
— Нет другого решения, ты же знаешь. Только военная операция — но неподготовленная, авантюрная, без серьезных шансов на удачу, как и предлагал Ворон…
— Да, это плохая мысль. Никто не одобрит.
— Этот мальчик… он уже не эхайн. Что-то в нем еще сохранилось… слабые проблески… неясные тени… но эта упрямая женщина вытравила из него все природное естество. Он — человек. Не очень обычный, но… среди нас полно необычных людей. Ты тоже был необычным, и я был. И он — простой необычный человек.
— Похоже, тебе приглянулась Читралекха.
— Читралекха — приглянулась?!
— Маленькая злая кошка, которая час тому назад играючи преодолела кордон из двух крутых звездоходов и посрамила выдающегося специалиста по активному сбору информации, знатока разнообразных систем самозащиты. Ты хотел бы и из этого мальчика сделать такую же кошку?
— Нет, — задумчиво произнес Забродский. — Нет, друг мой Консул. Я бы сделал его неизмеримо более ловким и опасным…
Дядя Костя молчал, и в его молчании было больше угрозы, чем в словах, какие он мог бы произнести вслух. Потом он сказал:
— Завтра жду тебя в гости. Со всеми материалами. Сколько же можно, в конце концов…
— Хорошо, — коротко ответил Забродский, и сразу перестал походить на невзрачного нытика. Подобрался, отвердел и даже, казалось, сделался выше ростом. — Все материалы, до последней буковки. Даже те, которые тебе неприятно видеть.
Он щелкнул каблуками, кивнул и ушел из нашего дома.
Немедленно возникла тетя Оля, про которую все забыли, приблизилась к Консулу и прислонилась к его плечу. Рядом с ним она не выглядела такой уж великаншей.
— Почему мне, послушав все ваши речи, нестерпимо хочется вымыться? — спросила она задумчиво.
— Потому что ты, Ольга-свет Гатаанновна, тоже не знаешь всей правды, — сказал дядя Костя. — Он хороший человек. Он мой старинный друг. И он действительно очень несчастен, потому что душа его болит о тех бедах, о которых всем нам не хочется даже подозревать. Понимаю, ты мне не поверишь…
— Конечно, не поверю, — сказала тетя Оля.
— Вот и никто не верит, — вздохнул Консул. — А в то, что обычная баскервильская кошка сегодня меня убила, ты поверишь?
— Тоже нет.
— А вот убила. Наповал. Дурацкое ощущение полной беспомощности. Она меня рвет, а я ничего не могу с нею поделать. Конечно, будь на мне «галахад»…
— А в руках фогратор… — хихикнула тетя Оля.
— Больно, — дядя Костя вздохнул еще горше и потрогал свои раны. — Больно, противно и стыдно. Взрослый, сильный мужик — и небольшая, в общем-то домашняя тварь! Кто мы, с нашей древней культурой, против природы? Так, плесень…
— Ты забываешь, что в природе баскервильских кошек не существует, — мягко напомнила великанша.
— Поэтому я убит всего лишь морально. А будь на ее месте какая-нибудь пума?! Нет, справедливо, что их запретили разводить. Надеюсь, Ленке достался самый последний экземпляр породы. И знаешь что, милая?
— Что, милый?
— Поехали-ка мы отсюда по домам. Загостились, право.
Мама поглядела на меня. Было видно, как сильно она не хотела впускать их, с их бедами и разговорами, в нашу крепость. Она надеялась переложить непосильный гнет гостеприимства на меня.
Но я чрезвычайно удачно прикинулся овощем:
— Мамочка, не могу я встать, у меня кошка на руках…
Это был серьезный довод, и маме пришлось вставать, идти, отпирать дверь.
Первой вошла тетя Оля.
— Соберу вещи, — сказала она в пространство.
Потом появился Консул.
— Лена, — проговорил он. — Мне бы следовало просить у тебя прощения.
— А ты как думал, — с вызовом промолвила мама.
— Но я не стану этого делать. Потому что ни в чем перед тобой не виноват. И еще вот что: мне кажется, ты от своего затворничества потихоньку сходишь с ума.
— Как ты мог привести его в мой дом?!
— Я не знал, что мой друг Людвик Забродский и есть твой кошмар. Тебе придется поверить… Я просто хотел, чтобы все стало на свои места. Чтобы все собрались в одном доме, за одним столом, и объяснились раз и навсегда. Не получилось. Очень жаль. И все же: эта затянувшаяся нелепость должна закончиться здесь и сейчас. Считай, что это случилось. Ты и твой сын — вы оба под моей защитой.
— Ты не сможешь защитить нас…
— Еще как смогу. Все закончилось, Лена. Пора тебе возвращаться в наш мир. Знаешь, как бы я поступил на твоем месте?
— Не хочу этого знать. Ты никогда не был на моем месте…
— Я вернулся бы на свой корабль.
— Нет! — почти закричала мама. — Никогда!
— Хорошо, хорошо, — Консул досадливо всплеснул огромными ручищами. — Я обмолвился. Не хочешь жить своей жизнью — твоя воля. Но вот что: позволь парню жить его жизнью. — Он помолчал, переминаясь с ноги на ногу. — Прощай, Елена Прекрасная.
— Прощай, Шаровая Молния, — едва слышно проронила мама.
Тетя Оля спустилась по лестнице из своей комнаты, по-прежнему закованная в свой бронебойный сарафан.
— Пока, Титания, — сказала она.
Мама кивнула.
Тетя Оля задержалась возле моего кресла и сделала такое движение, словно хотела погладить меня по щеке. Читралекха вздыбила шерсть на загривке и упреждающе зашипела.
— Не грусти, дружок, — сказала великанша. — Мы непременно увидимся.
Лицо мое горело. Горло перехватила шершавая удавка. Мне хотелось плакать. Я отвел глаза, чтобы никто не видел стоящих там слез.
Дверь за ними закрылась.
Уже на пороге дядя Костя поглядел в небо и поднял воротник куртки.
— Сейчас будет ливень, — услышал я его голос.
И на нашу веранду обрушился ливень.
«Ни фига себе!» — подумал я.
— Ни фига себе! Уой-ей-ей! — закричала тетя Оля и растаяла за дождевыми струями.
Ничего я так не хотел, чтобы мама всплеснула руками, выбежала на крыльцо и вернула их из непогоды в тепло и уют нашего дома.
Но мама не сделала этого.
— Завтра полетишь в Алегрию, — сказала она. — Если хочешь.
19. Лферры, оркочеловек Локкен и другие познавательные истории
О лферрах в Глобале сообщается всего ничего. Зато история их земных похождений, с которой давно уже сняты все печати конфиденциальности, расписана в деталях, и даже с некоторой долей злорадства… Это проксигуманоиды с планеты Гнемунг, что в звездной системе Муфрид, иначе известной как бета Волопаса. Что означает термин «проксигуманоид», я толком не понял. Что-то вроде «приблизительно человек» или «близко к человеку, но далеко не человек», или «даже близко не человек»… Это и понятно: облик лферров по нашим понятиям не то чтобы непривычен, а попросту безобразен, за что их еще называют «орками». Самим лферрам это не нравится, но, похоже, никто их об этом особенно не спрашивает. Судя по всему, в Галактике у них дурная репутация. Всеми виной их непредсказуемость и наклонности к рискованным, порой скверно пахнущим предприятиям. Если я правильно разобрался в системе астрографических описаний, наши планеты разделяет восемьдесят восемь световых лет. И чего они приперлись на Землю? Не нашли другого места для своих дурацких экспериментов по «межрасовой конвергенции»? Похоже, их настолько достало собственное уродство, что они решили подыскать себе подходящую расу, вполне на их вкус гармоничную, чтобы незаметно в нее влиться. Мы, люди, их требованиям во время оно вполне отвечали. Мы были относительно цивилизованны, хороши собой (в сравнении с лферрами, разумеется! О красоте женщин-юфмангов ходят легенды, к тому же, мы происходим от общего предка… но до них еще нужно докопаться, а никто не шифруется лучше, чем гномы, охраняющие своих фей!), и абсолютно беззащитны перед хорошо спланированной галактической экспансией. Если бы эксперимент лферров удался, человечеству вполне реально светила генетическая экспансия, а как следствие — утрата собственной истории и культуры. Но, во-первых, лферры потерпели обидное фиаско, и единственный оркочеловек оказался неспособен к репродукции. Во-вторых, они так увлеклись и поверили в собственную неуязвимость, что их вычислили даже медлительные шведские спецслужбы (упоминается некий комиссар Прюзелиус), которые, что естественно, не поверили своим глазам и не нашли ничего более умного, как обратиться за помощью в Интерпол. Там тоже своим органам чувств не поверили, не долго думая двинули группу захвата брать предполагаемых инопланетных агрессоров (упоминается некий сержант Белленкорт), застали их врасплох, забили в колодки… или что там было?.. в кандалы и упрятали в сверхсекретную лабораторию тюремного типа где-то на Шпицбергене, где много удивлялись внешнему безобразию незваных гостей. В-третьих, к этому моменту история уже стала достоянием гласности в Галактическом Братстве, и тектоны, у которых щупальца давно чесались врезать лферрам по первое число, немедля оным врезали с первого числа по десятое включительно. На Землю высадилась спецгруппа виавов (упоминается некий экцель-магистр Артаулор Куэнту Куэронау), которые ловко вынули дураков-орков из узилища, обставив дело так, чтобы никто из ответственных за их содержание под стражей не то что не пострадал, а даже получил повышение по службе, чтобы лица, причастные к адвентивному знанию, внезапно погрузились в более приятные хлопоты, и все без исключения спустя короткое время вспоминали бы инцидент с уродливыми пришельцами как фантасмагорический анекдотец для травли на барбекю. Затем представительную делегацию лферров призвали на Совет тектонов, где вздрючили еще более основательно, рассчитывая надолго отбить у них охоту к экспериментированию над цивилизациями-аутсайдерами, одной из которых в то время было человечество. В нос оркам ткнули накопленными и вновь вскрывшимися фактами, причем полученными с самых разных концов Галактики, сообщили, что чаша терпения переполнилась, и обещали суровые санкции вплоть до моратория на экзометральные перемещения. С них были также взысканы «асимметричные репарации» в пользу пострадавших культур (содержание термина оставлено без объяснений, так что приходится верить Консулу на слово). Судьба же оркочеловека была поручена все тем же виавам, которые с охотой приняли в ней самое живейшее участие. Нет худа без добра: довольно-таки эфемерная угроза благополучию одного-единственного младенца (лферры, при всей их эксцентричности, все же не были ни идиотами, ни маньяками-агрессорами, ни даже злодеями-ксенофобами, а всего лишь хотели сделать как лучше, разумеется, в своем понимании) повлекла за собой разнообразные и далеко идущие последствия самого благотворного свойства. Среди таковых можно назвать вспыхнувшую симпатию виавов к легкомысленной, веселой и пассионарной расе, их активное лоббирование интересов человечества в Галактическом Братстве и лавинообразное ускорение процесса вхождения Федерации в пангалактическую культуру.
После фиаско на Земле лферры притихли и усердно изображают, что стали белыми и пушистыми, а о генетической экспансии более не помышляют. Я думаю, прикидываются.
Кстати, оркочеловека звали Роберт Локкен.
Сейчас о нем почти никто не помнит, кроме историков и эрудитов. То, что он был оркочеловеком, сообщается вскользь, безо всяких ссылок на лферров и их опыты. Ну, был и был, что из этого делать тайну?.. но и сенсации, в общем, никакой… А в XXI веке сказать, что Роберт Локкен являл собой известную личность, значило не сказать ничего. Им восхищались, ему удивлялись, над ним посмеивались, он был постоянным объектом приколов, пародий и карикатур. А еще одним из богатейших людей своего времени. В ту пору личное богатство служило главной причиной болезненного социального расслоения, и потому у многих вызывало раздражение. Ты умный, образованный, талантливый, но почему-то еле сводишь концы с концами. А кто-то другой — глуп, ленив и бездарен, и вынужден бесцельно слоняться по своим мраморным дворцам с золотыми ваннами и жемчужными занавесками, околевая от скуки, в компании таких же роскошных лоботрясов, и все потому, что папаша или дедушка где-то чего-то вовремя и много наворовал… Относилось ли это к Локкену? И да, и нет.
У него были биологические родители, которые не подозревали, что. против воли стали объектами генетического эксперимента (подробности лферровского вмешательства в развитие их первенца охарактеризованы следующим образом: «имели место» — и точка). Вполне благополучные люди, свой дом в Якобсберге, свой маленький бизнес… То обстоятельство, что младенец походил не на папу и маму, а скорее на обезьянку, печалило их и тревожило. Но директор медицинского центра прочел им лекцию про атавистические отклонения, обещал постоянное наблюдение за маленьким Бобби, а также порекомендовал бонну по имени Агнес-Вивека Понтоппидан, молодую, блестяще образованную, полную энтузиазма и нерастраченной любви.
Собственно, бонна Понтоппидан и взрастила это диковинное растение своей заботой и нежностью. Благодаря ей Роберт Локкен стал тем, кем стал.
Вообще-то он был натуральный, рафинированный раздолбай. Это заметно даже на графиях. Лохматый, с вечной блуждающей улыбочкой на небритой физиономии, в каких-то обтерханных джинсах и ржавой футболке с надписью «Буросский текстиль». Между прочим, далеко не красавец, но и не урод, как можно было ожидать…
Он все время где-то учился, и ни разу не достиг хотя бы магистерских степеней. Что не мешало ему быть безусловно умным и разносторонне, хотя и безо всякой системы, образованным человеком. Я вспомнил, что где-то у меня была подходящая цитата на такой случай, покопался в своем мемографе и вот что нашел у Сергея Довлатова: «… нищета и богатство — качества прирожденные. Такие же, например, как цвет волос или, допустим, музыкальный слух». Точь-в-точь про Роберта Локкена. Богатство само к нему шло, плыло, падало в руки с небес и лезло в плохо запертые окна. И ни лферры, ни виавы тут ни при чем. Хотя… эта тема открыта для дискуссий. Но, наверное, он просто оказывался в нужном месте в подходящий момент, и не упускал шанса сделать необходимый шажок.
Иногда это происходило случайно. Престарелый профессор Упсальского университета Якоб Холст в качестве ликвидации академической задолженности поручил нерадивому студенту-естественнику Бобби Локкену выполнить серию наблюдений на культурой «клубящейся губки» Aphrocallistes undarus, чтобы только занять этого балбеса сколько-нибудь полезным делом. Бобби отнесся к поручению со всей халатностью, на какую только был способен: заперся в лаборатории ночью, обставился аквариумами с мирно дремлющими губками, закурил, дернул пивка и уснул на диванчике. Уж что он там уронил в воду, одному богу известно, то ли сигаретный пепел, то ли чипсы из пакетика, то ли собственную руку… но поутру его пришлось вырезать из заполнившей все свободное пространство пористой массы корундовыми пилами, потому что прочие режущие инструменты эту твердыню не брали. Горе-студиозус был извлечен из узилища в целости и добром здравии, даже не слишком напуганный, поскольку внезапно и сверх меры разросшаяся «клубящаяся губка» великодушно оставила ему некоторое пространство для существования, и к тому же не посягнула на пиво. Профессор Холст, взволнованно сообщив Локкену, что он есть самородный stjarthal (какое-то нехорошее слово), потребовал от того восстановить контекст эксперимента. Локкен не сразу вспомнил, с какой начинкой у него были чипсы… Спустя месяц удалось составить необходимую гремучую комбинацию факторов, при наличии которой безобидный глубоководный полип начинал безудержно и с дикой скоростью разрастаться, наполняя все пустоты сверхлегкой и сверхпрочной, да к тому же моментально затвердевающей, скелетной структурой. Пока Бобби трындел с лаборантками и пил пиво, профессор Холст выявил зависимость между бытовыми магнитными полями и направлением роста губки. Нобелевскую премию, впрочем, получали вместе. Новый строительный материал, получивший составное название «локхол», навсегда закрыл жилищную проблему в слаборазвитых странах. Увы, профессор Холст вскоре покинул наш мир, не оставив наследников. Поэтому все — доходы от неожиданного открытия стекались на банковский счет шалопая Локкена.
Отринув учебу в Упсале, молодой нувориш собрал в кучу всех друзей-подружек и пустился в кругосветное плавание на самой большой яхте, которую ему подыскали на Скандинавском полуострове. Круиз обещал быть напряженным, потому что от взятого на борт пива яхта давала серьезную осадку… Штормовой ночью, где-то в виду острова Терсейра, пьяненький Бобби, которого общество великовозрастных повес необъяснимо и давно уже тяготило, вышел проветриться, имея на себе купальные трусы и простецкий спасательный жилет. Разумеется, его тотчас же смыло за борт. Пассажиры хватились владельца судна далеко не сразу… В это время сам Локкен, выброшенный на пустынный островок, чьим небогатым украшением были молодая пальмовая рощица, изумительный пляж белого песка и несколько обглоданных прибоем до зеркального блеска черепашьих панцирей, решал проблему питьевой воды. О том, что кокосы годятся в пищу, он не подозревал. Вместо воды Бобби нашел у корней одной из пальм почти целиком вросший в землю древний сундук, который скуки ради откопал. Под первым сундуком обнаружилось еще несколько… Это был один из мифических кладов прославленного пирата Генри Моргана, а островок назывался Сабрина, и то исчезал в океанских пучинах, то возникал вновь, чем заслужил скверную репутацию, а места на картах и в лоциях не заслужил вовсе. В одном из сундуков обнаружилась бутылка из темного стекла, которой Локкен тотчас же отбил горлышко, отчего-то надеясь, что оттуда вылезет заспанный джинн и предложит свои услуги. Внутри оказалось перекисшее пойло, настолько отвратительное на вкус, что в момент прочистило незадачливому кладоискателю мозги. И тот вспомнил, что в карман купальных трусов, купленных еще в родном Якобсберге, хозяин магазинчика пляжных принадлежностей, счастливый оказать услугу нобелевскому лауреату, вложил маленькую фонор-карту (архаичное средство связи, только и годное, что передавать звук на расстояние). «И на фига это?» — помнится, спросил тогда Локкен. «Никогда нельзя угадать, куда может забросить судьба человека без штанов…» — прозорливо отвечал менеджер. Лауреат шутку оценил, и сейчас карта оказалась как нельзя кстати. «Бобби, куда ты запропастился? — удивились друзья. — У нас тут так весело!..» — «Какого хрена?!» — было самым мягким, что прозвучало в ответе Локкена. Впрочем, возвращаться на яхту он не намеревался. Вместо этого из порта Ангра-ду-Эроизму, что на острове Терсейра, был вызван геликоптер береговой охраны, который доставил Локкена вместе с сундуками в лоно цивилизации. Правительство Португалии выдержало только один раунд тяжбы за сокровища пирата Моргана: очень скоро выяснилось, что остров Сабрина лежал в нейтральных водах и никогда не был объектом чьих-нибудь территориальных притязаний. Сознавая себя самым глупым графом Монте-Кристо в истории, Локкен расплатился с адвокатами, послал пригоршню рубинов держателю магазинчика в Якобсберге, а большую часть клада — золотые монеты и драгоценные камни, названий которых даже не знал, обратил в фонд своего имени.
О таких пустяках, как вынутая из кармана и ссуженная знакомому брокеру, чтобы только отвязался, тысяча евро, спустя полгода воротившаяся с пятидесятитысячной лихвой, не стоит даже упоминать…
Вся прелесть положения Локкена заключалась в том, что он не знал, как поступить со своим состоянием. Он был к нему не готов, и прекрасно сознавал свою неготовность. Ему не хватало фантазии, чтобы потратить хотя бы малую долю этих несусветных капиталов. Родовой замок с полусотней комнат ему был на фиг не нужен. Он предложил что-то подобное родителям — те в ужасе отказались… Драгоценности, тряпки, антиквариат не привлекали. Редкие вина были безразличны любителю дешевого пива. Шедевры импрессионистов казались мазней, а улыбка Джоконды не возбуждала. Гоночный болид последней модели попросту пугал. Купив собственный стратолайнер класса «люкс», во время первого же рейса Локкен заблудился в подсобках (фонор-карты в трусах на сей раз не случилось!), и по прилете в аэропорт назначения в сердцах поменял навороченное воздушное судно на маленький самолетик вообще без технических и дизайнерских изысков.
К тому же, он катастрофически поумнел.
Он писал: «Я бешено, ненормально богат. Но я не понимаю, как это произошло, не вижу объективных тому причин. Я не заслужил своего богатства, не заработал. Оно пришло ко мне случайно. Я не слишком разумен, и вовсе не талантлив. Я даже не красив. Миру не за что меня благодарить, потому что я не сделал ему ничего хорошего. То, что я богат, несправедливо. Но ведь нечто подобное происходит сплошь и рядом. Один человек ограбил другого и разбогател — это несправедливо. Кто-то ловко сыграл по правилам, которые деньги установили сами для себя, и разбогател — и это несправедливо. Отец совершил преступление, остался безнаказанным и передал нажитое по наследству детям — это тем более несправедливо. Кто-то оказался на верху административной пирамиды и удачно распорядился этим шансом в свою пользу, чтобы разбогатеть — это несправедливо. Примерам нет числа… Отсюда вывод: всякое богатство, что исчисляется в деньгах, несправедливо. Оно никогда не достается тому, кто его заслужил. Да он в нем и не нуждается. Писателю не нужны деньги — ему нужна возможность сочинять. Художнику, артисту не нужны деньги — ему нужна возможность творить. Ученому не нужны деньги — ему нужна возможность размышлять и экспериментировать. Любому человеку не нужны деньги — ему нужны покой, здоровье, внутренняя гармония и еще несколько вещей, никак от денег не зависящих. Следовательно, деньги не нужны вовсе. Человечество, придумав деньги, допустило ошибку, из-за которой претерпело множество бед».
И он объявил собственному богатству войну на истребление. Эта удивительная война шла всю его жизнь с переменным успехом. Локкен все же одержал верх — но, как это бывает, только после своей смерти.
Дело в том, что это Локкен придумал наши нынешние энекты. То есть, в своей книге «Смерть денег» он называл их «энергеты», но смысл от этого не менялся. Наивно считать, писал он, что циркулирующие в современном обществе мировые валюты действительно являются всеобщим и уж тем более точным мерилом ценностей. Ни о какой эквивалентности не может быть и речи. Деньги в актуальном своем виде вовсе не отражают ни затрат труда на производство товара, ни его потребительских свойств. Их ценность, а значит — воздействие на мировые экономическое процессы, давно устанавливаются нелепыми традициями, негласными соглашениями лиц и сообществ, у которых означенных денег много, и не поддающимися разумному осмыслению, параноидально-комическими биржевыми играми. Деньги перестали быть регулятором экономических процессов, а превратились в равноправного их участника, пусть и наделенного специфическими свойствами, которые трудно назвать объективными, а скорее мистическими, не сверх-, а противоестественными. Они стали обычным товаром, который в силу древнего общественного договора иногда — но не всегда! — может обмениваться на другие товары. Что сообщает этому, в общем-то, ничтожному и малоценному товару в глазах многих, даже вполне здравомыслящих членов общества, иррациональные особенности почти религиозного толка. Основное назначение денег в их теперешнем виде — сохранять, охранять и всячески усугублять ими же порожденное социальное расслоение. А это опасно для общества и цивилизации. К тому же, это зло не является необходимым. От него не только нужно, но и возможно избавиться. После чего Локкен предложил заменить все мировые валюты в той части их естественных, изначальных функций, которые давно ими утрачены, мировыми Общественными Соглашениями. А для оценки каких-то особенных достоинств любого члена общества, оказавших безусловно позитивное воздействие на культуру, науку и всеобщее благо, ввести «энергет» — энергетический эквивалент трудовых затрат. Локкену не нравился сам термин, не нравилось определение, но, как он честно признался, ничего более умного в его замусоренную многовековой традицией товарно-денежных отношений башку пока не взбрело.
Эксперимент по мировому переустройству он начал с беднейших стран Африки. Вложился в чахлую экономику своими капиталами, которые прирастали уже по экспоненте, застроил дешевым жильем из «локхола», скупил на корню правительства и парламенты. Привел к власти самых умных, честных и честолюбивых африканцев, каких только нашел в коридорах Гарварда, Сорбонны и Стокгольма — вот так взял за руку и привел. Спустя полгода почти всех заменил — прежние не поверили в установленные им правила игры и по врожденным наклонностям пустились воровать. Еще пара ротаций — и правила игры дошли до мозгов, больше никто не воровал. В том не стало нужды: если соблюдались локкеновские Общественные Соглашения, то в экономике очень скоро сами собой, как по волшебству, образовывались гигантские фонды социального потребления. Локкен тряхнул мошной, и в генетических лабораториях родной Упсалы был мгновенно произведен на свет гибрид мягкой пшеницы и сорго — «сорвет», который легко переносил сушь и маловодье, а потому годился для возделывания в саваннах. Голодных не стало вовсе, и даже самый ленивый негр был не прочь ради разнообразия отвлечься от плясок под тамтам и немного поработать на погрузке каких-нибудь там бананов… Затем Локкен тяжелым танком накатил на Алмазный синдикат, чудом пережил три покушения, выиграл двенадцать судебных процессов, каждый из которых назывался «процессом века», и вышиб пришлых людей с юга Африки. Под натиском практически дармовых драгоценностей, экзотических фруктов и зерна рынки Старого и Нового Света рухнули. На Совете Безопасности ООН владыки мировых держав требовали голову Локкена. Тот явился лично, из уважения к старшим напялив взятый напрокат черный пиджак, ослепительную сорочку и галстук «кис-кис», но так и не найдя сил расстаться с джинсами и кроссовками. «Я предлагаю всем, кто опасается глобального экономического кризиса, — объявил он, беспрестанно ухмыляясь и от смущения держа себя развязно, — войти в зону действия Общественных Соглашений. Тех, кто здраво оценивает ситуацию и дорожит собственным будущим, жду завтра в своем офисе в Монровии. Господ рангом ниже президента или председателя правительства прошу не беспокоиться. Это как первый секс — немножко больно, а потом понравится. Там, где действуют Соглашения, нет голодных и нет нищих. Преступники пока есть, но их стараются… гм… лечить. Богатые тоже есть — например, актер Джулиус Шона, детская писательница Тансылу Тахир или архитектор Тейс ван Аммелрой. Людям нравится, что они делают, и понятно, отчего они богаты… Заканчивается двадцать первый век. Я хочу, чтобы в новом тысячелетии человечество жило по другим законам, а не по тем, что чешуйчатым хвостом тянутся за ним из неолита. Я не мастер говорить, да и вы не мастера слушать. Могу обещать, что не остановлюсь на достигнутом и непременно развалю устоявшийся миропорядок к чертовой матери, нравится это кому-то из здесь присутствующих высоких персон или нет. Ничего поделать со мной вы уже не сможете. Я не знаю точной цифры своего состояния, но если эти суммы будут вдруг изъяты из оборота, ваша экономика склеит ласты. Моя — даже не чихнет. Можете считать меня вирусом, но, в отличие от гриппа, я уже неизлечим…»
К традиционной демократии, в классическом смысле, это не имело никакого отношения, это был грубый экономический шантаж, вызов зарвавшегося одиночки целому миру… но с какого-то момента никто уже особенно и не возражал.
Как уж там Локкен договаривался с президентами мировых держав — рассказ долгий и скучный, но доводы его были просты, убедительны и подкреплены общественным мнением. А если коротко, то он поставил всех перед фактом и лишил возможности выбора…
Он погиб в авиакатастрофе — тогда такие приключались, и даже не были редкостью. Его маленький самолетик, тот, что без изысков, ни с того ни с сего разбился на взлете из аэропорта Бен-Гурион, что в Тель-Авиве. За полтора месяца до гибели Локкену исполнилось пятьдесят два года, и он все еще выглядел юным раздолбаем. А за час до того Локкен в своей неотразимой манере тяжелого танка убедил правительство Израиля в необходимости интеграции шекелевой экономики в систему Общественных Соглашений. Стояла ясная погода, полный штиль… Поговаривали, что это не была просто катастрофа, и симпатий земле обетованной со стороны мирового сообщества инцидент не добавил.
Роберт Локкен считается одним из людей, которые изменили мир. Обидно предполагать, что всему причиной — чужеродные гены. Поэтому, наверное, тема провальной экспансии орков не поднимается и не обсуждается.
У Локкена действительно было пятнадцать детей, и все приемные. В брак он вступал не то пять, не то шесть раз, и не все его супруги отличались благонравием. Локкену было наплевать, откуда в его доме появляются новые младенцы — он просто давал каждому свою фамилию, гарантировал блестящее образование, и в каждом души не чаял. Поскольку по мнению всех без исключения исследователей его феномена, до которых мне удалось добраться, он был фантастически добрым человеком, можно только строить догадки, как безумно он их баловал.
(«Дети Локкена» — это совершенно отдельная тема, ссылок масса, и меня не очень-то тянет утонуть в этом болоте на всю ночь. Хотя я обожаю слушать истории о добрых, мудрых и деятельных людях, которые изменили мир. Наверное, это потому, что в них я нахожу многое, чего никогда не найду в самом себе.)
По случаю, в том последнем полете рядом с ним была и его верная спутница Агнес-Вивека Понтоппидан. Не жена, давно уже не бонна, а просто самый близкий человек. Локкена оплакивал весь мир. Ее же тело почти неделю пролежало в морге невостребованным, потому что не нашлось родных. А потом бесследно исчезло.
Не существовало ни одного ее изображения. «Добросердечна, умна, весела, и дивно хороша собой!» — таков лейтмотив всех ее словесных портретов. Известно, что папаша Локкен пытался втайне от мамаши за нею ухаживать, но почему-то легко и без огорчений отказался от греховных помыслов. И только почти сто лет спустя Локкены третьего поколения узнали, кто была воспитательница их деда, и по каналам Галактического Братства получили от виавов исчерпывающую информацию о леди Уэглейв Усмуакетэрру Хвегх Уанмедин, включая обширную галерею ее прижизненных графий.
То, что я принадлежу к биологическому виду homo neanderthalensis echainus — чистая правда. Неандертальцами нас, эхайнов, можно называть в той же мере, что и людей — кроманьонцами. В конце концов, и люди и эхайны эволюционировали в течение одного и того же времени, хотя в разных условиях. Поэтому я, оставаясь человеком по поведению и образу мышления, биологически могу чем-то отличаться. Ну, не знаю… какими-то физиологическими реакциями… подсознательными механизмами… инстинктами. Я не боялся змей и был равнодушен к паукам. Та же Экса, завидев обыкновенного сенокосца, буквально зеленела — насколько позволяла ее смуглая кожа! — и делала вид, что прямо сейчас грохнется в обморок. Линда попросту дико визжала. Да что там Линда! Маму, к примеру, при виде безобидного крестовика буквально трясло — это ее, прожженного звездохода! Я же мог взять его и посадить на ладонь… Наверное, в эхайнских мирах обитали какие-то твари, способные пробудить во мне непреодолимое отвращение или безудержный первобытный страх. Не знаю, никогда их не видел. По-видимому, именно это и пытался вытянуть из меня Забродский своим коротким и путаным допросом. Он желал узнать, до какой степени я эхайн, а до какой человек. И, похоже, я его разочаровал.
Эхайны и люди действительно могут любить друг дружку. Никакая генетика тому не помеха. Ольга Эпифания Флайшхаанс, которую никто не зовет иначе, как Озма, втрескалась в эхайнского императора Нишортунна, а он в нее. Глобаль скупо комментирует этот факт, что можно понять: тайна личной жизни и все такое. Уж не представляю, как там они ладят, император и певица, но всем известно, что Светлые, Эхайны не воюют с Федерацией. Остальным эхайнским расам, не исключая нас, Черных, это не по вкусу, но тут уж ничего нельзя поделать.
Может, все дело в том, что среди моих знакомых девчонок нет платиновых блондинок, а одни лишь черноволосые и смуглые испанки?
Прошлой зимой к нам приезжали какие-то прибалты. Помнится, среди них было полно белокурых девчонок, но их лица показались мне злыми, даже зверскими. Светлые холодные глаза, тонкие поджатые губы, тяжелые подбородки…
Нет, здесь что-то другое.
Все еще не понимаю, как мама может командовать нашими глупыми пенатами. До сих пор я полагал, что ими управляют одни только инстинкты и простые желания. Поесть, поспать, поиграть… попрыгать за бабочкой, побегать за палкой… Наверное, она знает какое-то тайное слово, что как по колдовству превращает раздолбая Фенриса и вреднюгу Читралекху в машины для убийства.
И мне все это чрезвычайно не нравится.
То есть, вся история с эхайнским найденышем, то бишь со мной, с самого начала складывалась неправильно и нехорошо. Однако, натравливать зверей на живого человека, даже если считаешь его совершенным мерзавцем… да и звери больше похожи на виртуальных страшилок из какого-нибудь парка развлечений… это уже ни в какие ворота.
Но кто я такой, чтобы судить маму? Откуда мне знать, сколько и чего довелось ей изведать за все эти годы, которые она вынуждена была взять и вычеркнуть из собственной жизни — между прочим, из-за меня, да еще из-за Джона Джейсона Джонса?!
Все правы, и все виноваты.
А я действительно слишком мал, чтобы хоть что-то соображать.
А вот интересно: отчего и Консул и Забродский решили, что я Черный Эхайн, еще до того, как Консул прочел надпись на моем медальоне?!
20. Возвращение в Алегрию
Следующий день весь ушел на довольно сумбурные и бестолковые сборы. Одно дело — сгрести четырнадцатилетнего подростка в охапку и удрать сломя голову. И совсем другое — вернуть его на прежнее место в целости и сохранности, и в полной боевой выкладке. «Возьми носовые платки!» — «Зачем, мама?! У нас там не бывает насморков!» — «А если ты разобьешь нос?» — «Кому?» — «Себе, конечно!» — «Прибежит сестра Инеса и на руках унесет меня в медпункт. И там в два счета отчикает мне поврежденный орган!» — «Что значит — отчикает?!» — «В смысле, отрежет…» — «Ты смеешься надо мной!» — «Но скоро непременно заплачу…» Читралекха путалась под ногами и норовила забраться в дорожную сумку. Фенрису вдруг взбрело в башку, что настало самое время поиграть моими кроссовками. Куда-то запропастились любимые записи Эйслинга и Галилея, зато нашелся какой-то древний кристалл, который мама считала навеки утраченным — хотя не пойму, что ей мешало его восстановить. Так что значительная часть сборов проходила под жуткие завывания труб и лязг жестяных ударных инструментов, что только добавляло сумятицы…
Поэтому в Алегрию я вернулся не сразу.
Но все же вернулся. И на какое-то время мне показалось, что и жизнь моя тоже воротилась в старое русло.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ АНТОНИЯ ИЗ ДРУГОГО МИРА
1. Стыд и ужас на поле фенестры
Я люблю смотреть на поле для фенестры с высоты полета не очень большой птицы. Оттуда оно напоминает красивую детскую головоломку — идеальные концентрические круги, цветные сектора, маленькие человеческие фигурки в ярких костюмах, похожие на игрушечных солдатиков…
И я все меньше люблю быть внутри этой злосчастной головоломки.
Круги становятся огромными пространствами, которые приходится одолевать бегом, а сектора — ловушками, в которых тебя подстерегает противник. А один из этих размалеванных солдатиков — я сам: потный, измотанный, задыхающийся…
— Соберись! — орет на меня тренер Гильермо Эстебан. — Ты можешь! Не будь вареной каракатицей!
Я почти лежу на скамейке, в глазах все плывет, и твердый, как прошлогодний бисквит, воздух не проходит сквозь пересохшее горло в легкие. Я не могу пошевелить ни рукой, ни ногой, а через полминуты мне выходить на замену. Это всего лишь игра, «Архелоны» против «Ламантинов», но никто не говорил мне, что она превратится в смертоубийство. В этот миг я завидую всем, кому не нужно в нее играть. Ботаникам нормального роста и стандартных физических кондиций, что рубятся между собой в виртуальных пространствах, не отрывая задниц от мягких кресел. Девчонкам из группы поддержки, что прыгают и визжат вдоль кромки поля, всерьез полагая, что способны поддержать меня своим ультразвуком и своими голыми ногами — будто у меня есть силы ими любоваться. Даже вареной каракатице, которой, наверное, уже все по фигу, и единственное, что ей реально угрожает — так это что ее съедят, с рисом и поганым соусом «калор тропикаль», и уж никак не заставят играть в эти звериные игры…
— Вставай, вставай, малыш! Твой черед показать им, как нужно играть!
— Я не могу!..
— Что значит «не могу»?! Посмотри на скамейку! Ты видишь здесь хотя бы одного раптора, способного передвигаться?!
Это правда. Нас было четверо рапторов, но одному девятипудовый гард из «Ламантинов» случайно… как он клялся и божился… еще в первом тайме оттоптал ногу. И нас осталось трое. Мы не успеваем прийти в себя, как наступает пора выходить на замену. И сейчас Чучо Карпинтеро едва ли не на четвереньках переползает границу поля, у него нет даже сил, чтобы отвесить мне ритуальный шлепок. А у меня нет сил ему об этом напомнить.
…Я хочу домой. В теплую воду, чтобы лежать, распластавшись… как каракатица… ни о чем не думать и только лениво шевелить пальцами… а потом в постель, поверх покрывала, мордой в подушку — и дремать, дремать под тихую музыку…
Опускаю забрало шлема и, зажмурившись, вваливаюсь в игровую зону. Рев стадиона подталкивает меня в спину и не дает сразу упасть навзничь. «Ги-ган-тес-ко!.. Ги-ган-тес-ко!..» Это они мне кричат. Думают, что вот сейчас я выйду, и свершится чудо… Шестьдесят восемь — сорок три, мы проигрываем, проигрываем слишком много, и чудес не бывает. «Ламантины» оказались просто ненормально сильными, они быстрее носятся, тверже стоят на ногах и точнее бросают и цепче ловят. Против них мы — словно ребятня из песочницы. Если бы в фенестре можно было выбросить полотенце, как в боксе, сейчас было бы самое время… На ватных, подсекающихся ногах, трусцой, приближаюсь к желтому сектору внешнего контура. Там уже стоят аут-хантеры, близнецы Хуан Мануэль де ла Торре и Хуан Мигель, тоже, естественно, де ла Торре. Удивительно: они не кажутся такими выжатыми лимонами, как я. Или в сказках про второе дыхание есть зерно истины? Еще одно дыхание мне сейчас не помешало бы…
— Нет, нет! — кричит Хуан, который Мануэль. — Беги на зеленый третьего контура, там был тач-грасс от Оскара, шелл переходит к «Ламантинам»! Когда перехватишь, сразу отдавай на красный слева!..
«Беги… когда перехватишь…» Я готов убить за такие слова. Я не могу бегать, а лишь передвигаться с сектора на сектор. Как слон… Между прочим, Киплинг писал: «Слоны не скачут галопом. Они передвигаются с места на место с различной скоростью. Если слон захочет догнать курьерский поезд, он не помчится галопом, но поезд он догонит». Это не про меня. Никого я нынче не догоню, и ничего не перехвачу. Смешно даже думать об этом. Я не слон, я — «Архелон». Так назывались, если кто не знал, гигантские доисторические черепахи; вымершие от собственной лени. Значит, ползать — мой удел…
Ползу в третий контур. Лопатками ощущаю спаренный взгляд близнецов Хуанов. Наверное, так смотрят вслед катафалку, увозящему в гробу последнюю надежду.
Таймер звонко отсчитывает мгновения до вбрасывания. В зеленом секторе, куда должен упасть шелл, нет никого из наших, только «Ламантины», числом трое. То есть имеет место положение «тайт-рум»: сектор целиком занят игроками одной команды, не прибавить, не убавить, и означенные игроки могут спокойно и беспрепятственно распорядиться шеллом, как им заблагорассудится. На лице Феликса Эрминио, нашего гарда, мечущегося по красному сектору внутреннего контура, написано отчаяние. Атака на окно должна пойти через него, а он каким-то гадским образом угодил в клинч. Справа от него вольготно расположился гард противника… гарды не могут топтать один и тот же сектор… а слева — еще один «тайт-рум» с тремя «Ламантинами». Выйти за пределы контура, смежного с окном, он, как гард, не имеет права — таковы правила. Куда подевались наши, можно только гадать. Такое чувство, что нас тут двое — я и бедолага Феликс Эрминио. И толку от нас обоих, следует признать, немного.
«Восемь… семь… шесть…»
Я встаю прямо перед сектором, куда уже падает из-под облаков размалеванный в четыре сакральных цвета шелл.
— Куда?! — орет Феликс Эрминио. — Уходи, я ничего не вижу!
На физиономиях «Ламантинов», прикрытых затененными забралами, видны улыбки. Еще бы, их трое, один другого здоровее, и сейчас они просто перекинут шелл через два сектора, через мои растопыренные руки, через беспомощно прыгающего Феликса Эрминио, и шелл аккуратно, повинуясь закону всемирного тяготения, ляжет точнехонько в окно.
Что там кричит кто-то из Хуанов?
— Хантер и два раптора!..
Я тупо озираюсь. От недостатка кислорода оценка игровой ситуации дается непросто… я всегда был тяжел в соображении, а теперь — вдвойне… Нет, нас с Феликсом Эрминио тут не двое. Пара наших ин-хантеров пасется неподалеку, не сводя хищных глаз с занятого «Ламантинами» внутреннего сектора. Рядом с чужим гардом-толстяком скромно и незаметно, с краешку, пристроился наш флингер. Еще один флингер готовится сделать рывок на сектор по соседству с точкой вбрасывания… нет, на совершенно свободный сектор того же цвета в соседнем контуре… куда уже летит во весь опор Хуан, кажется, Мигель… что бы это могло значить? Ладушки, а где же второй наш раптор? Я бросаю мутный взор на противоположный конец поля и понимаю, что от второго раптора помощи ждать не приходится, укатали сивку крутые горки, лежать он еще не лежит, но что-либо перехватить уже явно не способен.
— Хантер и два раптора, — бросает на бегу братец Хуан. — Флингера нет…
Еще более тупо разглядываю «Ламантинов», перетаптывающихся в «тайт-руме». Действительно, среди них нет флингера, оба раптора оказались в одном секторе, и это серьезная игровая ошибка. Не боги, стало быть, горшки обжигают… Любой из этой бравой троицы может поймать шелл. Потом они могут до посинения передавать его друг дружке… флингера, чтобы сразу атаковать окно, у них нет. Оба их флингера где-то у черта на куличках… Выбросить шелл в сектор другого цвета они не могут — нет раптора, чтобы принять. А все три хантера, вместо того, чтобы распределиться по одноцветным секторам, столпились во внутреннем контуре, отрезая Феликсу Эрминио путь в мертвую зону. Ежки-кошки, да ведь оба флингера «Ламантинов» могут вообще уходить с поля!
Игровой клинч, в который они попали, пожалуй, будет пофиговей устроенного ими же нашему гарду…
Впрочем… ничего это не меняет. Просто так сложилась игровая ситуация, что эту атаку «Ламантинам» завершить, по всей видимости, не удастся. Вот и все. Одной атакой меньше, одной больше… Мы все равно проигрываем очень много, и наверняка проиграем весь матч.
Итак: чтобы разыграть шелл, кто-то из наших оппонентов должен покинуть насиженные местечки в «тайт-румах» и занять другие позиции. Либо хантеру из внутреннего контура придется перейти в сектор, равноцветный точке вбрасывания, либо кому-то из великолепной троицы передо мной нужно будет уступить место флингеру. Что из этого следует? А то, что у нас есть шанс опередить их в момент выхода из секторов и оказаться там первыми. Шанс, нужно заметить, призрачный. Но тогда атака может получиться уже у нас, а не у них, потому что хантер Хуан, который Мигель, стоит прямо напротив этого жиртреста, гарда «Ламантинов», вместе с Оскаром Монтальбаном, нашим флингером, и ждет паса от другого Хуана, который Мануэль, такого же хантера, с равноцветного сектора. Но перед этим кто-то должен вломиться в сектор вбрасывания и отнять шелл у двоих очень сильных и очень наглых перехватчиков противника…
И этот «кто-то», конечно же, я.
Ненавижу быть героем-одиночкой!..
Все происходит в считанные мгновения, в такт ударам моего сердца.
Раптор «Ламантинов» вываливается из сектора вбрасывания и бешеным носорогом несется на Хуана Мануэля.
Их же флингер летит на освободившееся место.
Я просто делаю шаг вперед — и опережаю его.
Я длиннее любого из «Ламантинов» на полторы головы, и руки мои длиннее, и прыгаю я, пусть и на последнем издыхании, но все равно на метр выше. И шелл естественным образом попадает в мои объятья.
«Ги-ган-тес-ко!.. Ги-ган-тес-ко!..»
Все орут, как ненормальные, а в особенности Хуан Мигель. Потому что Хуан Мануэль, занятый толкотней с чужим раптором, выбыл из задуманной комбинации.
«Ламантины» наваливаются на меня, пытаясь овладеть шеллом. И мне ничего не остается, как метнуть его Хуану Мигелю…
…слишком сильно.
Хуан Мигель пытается перехватить его на лету, и — о, чудо! — ему удается перенаправить шелл Оскару за миг до того, как самому вывалиться из сектора.
Оскар раскручивает шелл, со страшной силой направляет его в окно…
…и попадает точнехонько в пузо этому слоняре, гарду «Ламантинов».
Шелл отлетает в руки раптора противников.
У того на руках все козыри. Ни одно из заковыристых правил фенестры не может запретить ему завершить атаку.
И он передает шелл своему флингеру, о котором все уже и думать забыли, но которого черти взяли и принесли в сектор к Феликсу Эрминио.
Флингеру достаточно привстать на цыпочки и уронить шелл в окно поверх его головы.
Что он и делает.
«Шорт-флинг», короткий бросок из внутреннего контура. Десять паршивых очков в пользу «Ламантинов», всего только десять…
…но нам конец.
Мы бесхитростно сливаем остаток матча и уходим с поля под свист болельщиков и унылое молчание группы поддержки.
Гильермо Эстебан сидит на скамейке запасных, уронив голову на руки. На что он рассчитывал — непонятно. Он что, всерьез думал, будто мы способны победить?!
А рядом с ним — странный тип в костюме крокодила. То есть, во всем зеленом — зеленые брюки, зеленый пиджак и светло-зеленая майка. И болотного цвета очки-мовиды на клювастом носу. Я знаю, что ему плевать на фенестру, плевать на наш позорный проигрыш, плевать на горе Гильермо Эстебана. Ему нужен только я, и это именно за мной он неотрывно следит из-под своих стекол-болотец.
2. Не хочу быть игроком
После ужина ко мне пришел Чучо. Мы слушали музыку и пялились на закат, говорили же мало и обо всяких пустяках, старательно обходя тему игры. В субботу занятий не будет, потому что весь курс отправляется в Аквапарк, а оттуда на субмарине — на дно морское, смотреть развалины и, если свезет, живых акул — говорят, из океана пришла парочка настоящих, вполне здоровых и потому голодных тинторер. Список кандидатур на скармливание открыт для обсуждения. В девчачьей группе появилась диковатая новенькая, но на уроки пока не ходит, потому что сеньор Эрнандес посоветовал ей вначале пройти это самое… акклиматизацию, потому что новенькая откуда-то с севера. Я припомнил: тысячу лет тому назад я тоже проходил акклиматизацию, то есть болтался в тени араукарий и мимоз, закутанный в белые прохладные одежды, как привидение, с дурацкой панамой на голове, купался в море дважды в день, строго по пятнадцать минут, и с тоской думал, что эта каторга никогда не закончится… а уже через неделю способен был без ущерба для здоровья сидеть в воде хоть с утра до ночи, с перерывами на еду и занятия… а еще через месяц мог целый день провести в инфобанке, даже и не вспоминая о пляже…»Сегодня она была», — сказал Чучо со значением, и я не стал уточнять, где именно: и так все было ясно. В конце октября обещан был визит «Черных Клоунов Вальхаллы» с их знаменитым «Пыльным Треком», происходить действо будет на стадионе «Меса Редонда» в Валенсии, то есть на расстоянии вытянутой руки от Алегрии, сразу после того, как закончится чемпионат Студенческой Лиги по фенестре… Мы переглянулись и поняли, что никуда нам от этой темы не уйти.
— Это была не игра, — сказал я, — а убийство.
— Мы же не профи, — кивнул Чучо. — Мы всего лишь дети. Кому в голову могла прийти дурацкая идея заявить детей на участие в чемпионате Лиги?
— Гильермо Эстебану, конечно.
— Просто удивительно, что мы продержались так долго.
— Это все из-за братцев Хуанов де ла Торре. Если честно, они классные игроки.
— А «Ламантины», наверное, ничем другим и не занимаются, как перепихивают пузырь из сектора в сектор.
— Мне хотелось просто взять и уйти с поля, и никогда не возвращаться.
— Но ты тоже неплохо играл.
— Перестань, Чучо. Я бездарь. Я ползал по полю, как весенняя улитка. Нет, как вымирающий архелон.
— Все дело в том, что мы, остальные, ни на что не годны. Мы просто загоняли тебя. И сами сдохли. Только близнецы Хуаны де ла Торре могут выдержать весь матч в таком темпе. Но они, наверное, как-то по-другому устроены внутри. «Ламантины» все такие, а у нас — только близнецы.
— Ты знаешь, Чучо, я тоже устроен по-другому.
— Брось, Север…
— Правда, правда. Но это мое устройство не годится для фенестры.
— У тебя хорошие данные. Гильермо Эстебан говорит, что для своего роста ты удивительно пропорционально сложен. У тебя руки, как у гиббона. В игре против большинства студенческих команд ты можешь просто стоять, выкатив щупальца, и забирать шелл на подлете.
— Только не против «Ламантинов».
— Это уж точно.
— А «Ламантины» в Лиге считаются середнячками.
— Это уж верно.
— Мне страшно подумать, как бы мы стали играть с теми, кого здесь считают лучшими.
— Они бы просто перебрасывали шелл с цвета на цвет и не обращали бы на нас внимания.
— Даже на близнецов.
— Даже на них…
Я удрученно вздохнул. Чучо положил мне руку на плечо.
— Твоя последняя передача была слишком сильной, Север.
— Угу.
— Никто тебя не винит.
— Знаешь, Чучо… Наверное, мне не обязательно быть игроком в фенестру.
Он поглядел на меня с изумлением.
— Чем же ты собираешься заняться?
— Ну… я еще не думал. Может быть, музыкой. Или архитектурой. Да мало ли чем!
— Ты решил стать ботаником?! — с ужасом спросил Чучо.
— Что в этом плохого?
— Ничего, но…
— Слушай, Чучо… Сегодня, на поле, я вдруг почувствовал, что не понимаю, зачем там нахожусь.
— Что тут непонятного? Это же игра! В ней у каждого — свое место. Ты раптор, значит — ты находишься на поле, чтобы перехватить шелл и отдать его хантеру или флингеру.
— То, чем мы занимались, не было похоже на игру. Скорее, на войну. Игра должна доставлять удовольствие, ведь так?
— Ну, наверное…
— Нельзя заставлять играть через силу.
— Н-ну…
— Так вот, Чучо. Я не получил удовольствия от этой игры. Ничего мне так не хотелось, как прекратить играть. Повернуться, уйти и заняться чем-нибудь, что действительно мне понравится.
— Но ты не сделал этого.
— По одной причине: чтобы не добить команду. У нас просто не оставалось рапторов на замену.
— Гильермо Эстебан говорит, что спорт закаляет тело.
— Интересно, как мне в жизни пригодится умение носиться очертя голову с одного раскрашенного клочка земли на другой за надутым пластиковым орехом?
— Еще Гильермо Эстебан говорит, что тяжелая игра с сильным соперником закаляет характер. Она превращает детей в мужчин.
— А что, если я не спешу стать мужчиной?
Чучо фыркнул.
— Оно и заметно!
— Что ты хочешь этим сказать?
— Ничего обидного…
— Придушу!
— Ладно, отпусти. Ты знаешь, о чем я. Мурена на тебя обижается. Барракуда на тебя обижается. Они вообразили, будто обе настолько хороши, что ты не можешь выбрать одну из двух. Хотя и не возражают составить равносторонний треугольник… Но меня-то не проведешь!
— Что ты себе придумал!
— Я вижу, что тебе на обеих попросту наплевать.
— Это сильно сказано.
— Хорошо: ты относишься к ним, как к своим парням, и не намерен как-то менять это положение вещей.
— Я просто не встретил ту, что мне понравится.
— И что с того? Я тоже не встретил. Феликс Эрминио не встретил. Оскар Монтальбан не встретил. Никто не встретил. Это не мешает каждому из нас целоваться с девчонкой, а то и с двумя.
— А то и с тремя…
— Это уж как повезет.
— Я же говорю: я по-другому устроен…
— Ну, не настолько же! Между прочим, — Чучо понизил голос. — Новенькая с севера действительно ничего себе. Она — с севера, ты — Север… А?
— Я Северин.
— Никакой разницы.
— Да ну тебя!
— Ты просто долговязый балбес, Север. Девчонки готовы вешаться на тебя, как на рождественскую елку — благо, высоты достанет для всех игрушек. Эх, мне бы твой рост… А ты только мычишь, как бычок в загоне: не хочу, не буду, не встретил… Что тебе стоит поманить ту же Мурену пальцем и сводить ее ночью на пляж?
— Зачем? Чтобы доставить тебе удовольствие?
— Да нет же — себе. Ой, только не прикидывайся дурачком. Ты, главное, посмотри ей в глаза и скажи таким знойным басом, с придыханием: «Муре-е-ена…» А дальше она сама все сделает, намного лучше, чем ты… Нет, не выйдет: у нас все пляжи забиты парочками. Лучше тебе угнать катер в Бенидорм, на Плайя де Леванте.
— Нет такого женского имени — Мурена! Почему ей не хочется, чтобы ее звали Эксальтасьон Гутьеррес дель Эспинар?
— Привет, Эксальтасьон Гутьеррес дель Эспинар, — захихикал Чучо. — Пойдем поныряем ночью, Эксальтасьон Гутьеррес дель Эспинар!.. Вот фигня-то! Попробуй такое выговорить, да еще с придыханием. «Эксаль-та-сьо-о-он… Гутьер-р-рес…»
— Глупости. Ничего я не хочу выговаривать придушенным басом. Ни с кем я не хочу нырять. Тем более ночью.
— А чего же ты хочешь, дурень?
— Не знаю. Не решил еще. Пока я только начинаю, кажется, соображать, чего мне точно не хочется.
— И чего же тебе не хочется, балда здоровая?
— Я уже сказал: играть в фенестру и шляться с Муреной по ночному пляжу.
Чучо долго обдумывал эту мысль. Потом неуверенно спросил:
— А как насчет Барракуды?
К счастью, в дверь со знакомой деликатностью постучали, и вошел учитель Нестор Кальдерон. Как всегда, во всем черном, что делало его похожим на католического священника. Только вместо белой вставки на шее был шелковый, черный с белыми рябинками, платок. Чучо сейчас же вскочил, что же до меня, то я и без того вот уже с полчаса торчал во всю свою длину возле окна.
— Гм, — сказал учитель Кальдерон. — Не помешал?
— Нет, учитель, — ответили мы вразнобой, а я даже попытался судорожно, без особенного успеха, привести в порядок свое лежбище.
— Просто шел мимо, — объяснил учитель Кальдерон, словно оправдываясь. — Решил заглянуть. Ты ведь знаешь, Севито, я редко злоупотребляю твоим гостеприимством…
— Знаю, учитель, — признал я.
— Чучо, дитя мое, не будешь ли ты настолько любезен…
— Я как раз собирался уходить, — объявил Чучо.
— Тем более, что тебя ждут в Пальмовой аллее.
— Мурена, — фыркнул я.
— Насколько мне известно, это сеньориты Эксальтасьон Гутьеррес дель Эспинар и Линда Кристина Мария де ла Мадрид…
— И Барракуда, — негромко уточнил я. — твой жребий жалок, друг мой.
— Так я пошел, — сказал Чучо, который так не считал.
— Конечно, Чучо, — величественно кивнул учитель. Подождал, пока дверь закроется, и только тогда прошел и сел в свое самое любимое в моей комнате кресло возле стеллажа с кубками и икебанами. Потом посмотрел на меня снизу вверх вечным своим невозможно добрым взглядом, под которым сразу хотелось измениться в лучшую сторону, и спросил, как обычно: — Поговорим?
— Поговорим, учитель, — ответил я, присаживаясь на подоконник.
— Хочу сказать тебе, Севито, как мужчина мужчине… твой последний пас был излишне энергичен.
Я обреченно вздохнул. Мне предстояло услышать этот упрек еще не раз.
— Впрочем…
Коль выйти в поле вы, чтоб биться, Вы бились, нет тут оговорки, И невозможна клевета.[12]Но не это важно. Если хочешь знать, это вовсе не важно. Человеку в жизни вовсе не обязательно владеть искусством точного паса. У меня такое ощущение, что ты и сам недавно пришел к такому заключению.
Я еще раз вздохнул.
— Но! — сказал учитель, воздев указательный палец.
И стал учить меня жизни, для чего, собственно и явился.
3. Появляется Антония
Не скрою, я боялся следующего дня. «Архелоны» проиграли не просто матч — они вылетели из чемпионата Студенческой Лиги. Мне казалось, что все, кому не лень, станут показывать на меня пальцем и презрительно фыркать: мол, это как раз и есть та самая каланча, из-за которой «Сан Рафаэль» так опозорился на всю Лигу!.. Самое противное, что у них были на то все основания. Конечно, мы и раньше продували, но никогда еще на моей памяти не было такого разгрома.
Однако, все обошлось. Уже на Абрикосовой аллее ко мне подкатили два птенца из младших групп, прощебетали что-то вроде: «Вчера ты отдал слишком сильную передачу, эль Гигантеско…», а затем попросили расписаться на бейсболках. Я ощетинился в ожидании подвоха и спросил, кто их надоумил. «Хуан де ла Торре, который Мануэль», — ответил птенец покрупнее, бесхитростно хлопая выцветшими ресницами, а другой, задыхаясь от рвения, перебил его: «Хуан Мануэль де ла Торре сказал, что мы непременно выиграли бы, если бы у нас было четыре живых раптора, и тренер так не загонял бы нашего эль Гигантеско дель Норте…» Конфузясь и воровато озираясь, я достал цветное стило, настроил его на радужный режим и вывел малышам на макушках свое имя. Там уже красовались росчерки братьев де ла Торре. Уже за спиной я услышал их театральный шепот: «Это что за загогулины?» — «Русские буквы, дурачок, он же русский!..» Птенчики ошибались. Я оставил им автограф на прописном эхойлане.
Все, кого я повстречал тем утром, говорили мне примерно одно и то же: слишком сильно… но ты не переживай… вот было бы четыре раптора, а не три… Ну и ладно.
На поляне для занятий, в пальмовой роще Фейхо-и-Монтенегро, я расположился рядом с Чучо. Мурена, которая тоже рассчитывала на мое соседство, артистично надулась, а вреднюга Барракуда что-то зашептала ей на ушко. Оскар Монтальбан, чью внешность не мог испортить даже синяк под глазом после вчерашней бойни, ворковал с красоткой Беатрис Гомес. Близнецы де ла Торре в четыре руки что-то чертили на квадратном листе бумаги, подозрительно напоминавшем игровое поле фенестры формата «сес-квин». Потом вошел учитель Мартин Родригес, могучий серебрянобородый старец, с серебряными кудрями до плеч, в просторных белых одеждах, и на поляне стало намного светлее, чем было. Когда я увидел его впервые, то подумал, что именно так должен выглядеть Господь. Но учитель Родригес не был даже праведником. За воротами колледжа он курил огромные сигары, прикладывался к черным плетеным бутылям самого сомнительного содержания, а подружек у него было побольше, чем у красавчика Оскара, и ни одной моложе шестидесяти лет… Он обвел аудиторию пронзительным взглядом из-под насупленных бровей, отыскал меня…»Ты вчера был хорош, друг мой Севито, но этот твой последний пас… м-да… гм… Что же, юные сеньоры и сеньориты, поговорим на более приятные темы, а именно…» И мы стали обсуждать энергетический кризис 2054 года, хотя ничего приятного в нем не было — по крайней мере, для тех, по кому он проехался целую бездну лет тому назад.
А потом был семинар по полиметрической математике, в которой я ничего не понимал из-за недостатка пространственного воображения. Эти дурацкие метаморфные топограммы, эти геликоиды и вортексы… Тот же Чучо чувствовал себя среди них как морской конек в зарослях ламинарии; даже глупенькая Барракуда не раз предлагала мне свою помощь, и я, к своему стыду, вынужден был ее принимать. «Севито, я понимаю, что вам неприятно это слышать… наверное, вы предпочли бы провести вечер в подвижных играх на берегу моря… но ваша участь незавидна: жду вас в своем кабинете для дополнительных занятий». Полагать мою участь незавидной желали не все. Чучо взметнул конечности: «И меня, profesora, меня тоже, у меня что-то не клеится с мутациями в четырех метриках, пожалуйста!..» Profesora Мария Санчес де Пельяранда, прекрасная и надменная, как небожитель, откинула с лица жесткую вороную прядь, чтобы выстрелить в жалкого притворщика сарказмом из обеих аквамариновых бойниц сразу: «Вы слишком глупы, Хесус Карпинтеро, чтобы скрыть свой ум…»
Пальмы шуршали тяжелой листвой, где-то за холмами пело свои древние песни эль Медитерранео — Средиземное море, дул прохладный ветерок. Жизнь продолжалась, несмотря на все неприятности.
Вечером должна была состояться тренировка, на которую меня давно уже не тянуло, как раньше. И у меня был повод, чтобы туда не явиться — злосчастная математика. Разумеется, многие с радостью поменялись бы со мной местами, чтобы провести час-другой в обществе Марии Санчес… Увы, я был равнодушен к ее холодной, почти нечеловеческой красоте. Мое сердце было отдано отталкивающей и притягательной одновременно великанше из Галактики… Поэтому углубленное освоение топограмм представлялось мне ничем не подслащенной пыткой, а кабинет математики — чем-то вроде «железной девы», светлой, просторной и со всеми удобствами.
Однако же учитель Мария Санчес встретила меня на скамейке в Абрикосовой аллее. «Севито, мне очень стыдно, но я слишком занята сегодня, чтобы уделить вам достаточно внимания… впрочем, сеньорита Антония прекрасно разбирается в предмете и легко меня заменит. А вы, в свою очередь, поможете ей… в чем она попросит вас помочь». Мне ничего не оставалось, как промычать обычное «Угу». «Вот и прекрасно… Антония, подойдите, дитя мое».
И появилась Антония.
4. Самая красивая страшилка
Белая накидка до пят, просторная белая панама, темные очки на пол-лица. Гриффин, человек-невидимка, женское издание. Диковатая новенькая с севера.
— И ничего смешного, — донесся из-под панамы ворчливый старческий голосок.
— Северин и не думал над тобой смеяться, nina, — проворковала Мария Санчес. — Он тоже приехал к нам издалека и был вынужден привыкать к нашему солнышку.
— Что, из такого же далека, что и я? — проскрипела Антония.
— Северин родился на Тайкуне, nina, — пояснила Мария Санчес.
— Тайкун… это слишком близко, почти Земля.
— Нет, дорогая, Тайкун — это самая далекая планета Федерации. Дальше — только исследовательские миссии.
— Так я же говорила вам…
— Северин, — строго сказала Мария Санчес. — Антония родилась и провела детство на планете… м-мм..
— Мтавинамуарви… что тут сложного?
— Никогда не слышал, — буркнул я без особого дружелюбия.
— Конечно… никто не слышал…
Кажется, впервые я видел Марию Санчес растерянной. Ироничная небожительница не знала, как ей вести себя с этой брюзгливой старушонкой из самого дальнего далека.
Надо ли говорить, что и я не воспылал к своей новоявленной репетиторше горячей симпатией?
— Так я оставлю вас, — торопливо сказала Мария Санчес и едва ли не бегом устремилась в глубь аллеи.
И я остался наедине с этим привидением.
— Классные у тебя мовиды, — сказал я, чтобы хоть как-то завязать беседу.
— Это не видеал, — ответила она. — Вернее, конечно, видеал, но не в первую очередь. Это настоящие солнцезащитные очки. Здесь слишком яркое солнце. На Мтавинамуарви такого не было.
— Мтави… мурави… — проговорил я с вызовом. — Подумаешь! Если хочешь знать, я вообще эхайн.
— Не выдумывай. Эхайны на Земле не живут.
— Живут, и очень распрекрасно.
Из-под накидки выпросталась тонкая, бледная до голубизны рука и приопустила тёмные окуляры. Оттуда на меня укоризненно глянули огромные серые глаза.
— Ты обманываешь меня, — сказала Антония. — И тебе должно быть стыдно.
— Ни чуточки, — сказал я. — Мое настоящее имя — Нгаара Тирэнн Тиллантарн.
Я никому об этом еще не говорил. И, тем более, никому не показывал свой заветный медальон. Но других доказательств своей нечеловеческой природы у меня все равно не было.
Антония поднесла медальон к лицу, словно у нее было нехорошо со зрением.
— Это на эхойлане, — вдруг сказала она.
— Я знаю. А вот откуда ты…
— Я изучала историю Великого Разделения.
— И я тоже изучал.
— Но я изучала ее углубленно.
«Зачем?» — хотел было спросить я, но промолчал.
— Эхайнский медальон, — констатировала Антония, возвращая его мне. Пальцы ее были холодные и сухие. Как маленькие змейки. — Может быть. Это ничего не доказывает.
— А я ничего и не собираюсь никому доказывать, — сказал я. — Так мы будем говорить о математике?
Антония кивнула.
Я раскрыл свой видеал, и она снова заворчала, что такого запущенного и захватанного пальцами экрана никогда не видела. А потом заговорила своим скрипучим, пресекающимся голоском, и говорила два часа без остановки, прерываясь на то лишь, чтобы глотнуть апельсинового сока из фляжки. Что же до меня, то я нависал над нею, как самый глупый портовый кран, и не издавал ни звука.
Она разбиралась в полиметрической математике ничуть не хуже Чучо. Но, в отличие от него, могла объяснять, а не просто шипеть, шерудить конечностями и ругаться. Быть может, она разбиралась в предмете не хуже самой Марии Санчес. Половины ее слов я все равно не понимал, но кое-что вдруг само собой, словно по волшебству, сделалось доступным и даже банальным. Это было удивительно.
При этом она не переставала ворчать, брюзжать и сетовать. И вздрагивать, когда над головой пролетала какая-нибудь птица.
— Тебе сколько лет? — не удержался я.
— Сто! — фыркнула она.
Непроницаемые окуляры не помешали ей разглядеть, что я готов был купиться на этот невинный прикол.
— Наверное, ты и впрямь эхайн, — сказала она. — По отзывам, они все сильно тормозят по сравнению с людьми. Меня зачислили на ваш курс. Значит, мне столько же, сколько и всем вам. А семнадцать мне исполнится… — она вдруг начала загибать пальцы-змейки, — … ну да, примерно в августе.
— Что ты делаешь? — спросил я ошеломленно.
— Ты натуральный эхайн, — хихикнула она. — Я еще не привыкла к вашему календарю. Приходится считать на пальцах. Сказано же: я прилетела с Мтавинамуарви. Наш год длится двести восемьдесят пять дней и состоит из десяти месяцев. Если ты немного напряжешь свою бедную эхайнскую фантазию, то сообразишь, что и день у нас должен иметь иную продолжительность, чем здесь. Очень длинный день… Я родилась в одиннадцатый день месяца уараурвил. — Антония закатала рукав своего балахона. На запястье левой руки у нее обнаружился широкий браслет, набранный из полупрозрачных камешков. Некоторые из них светились изнутри. — Вот мои часы. Они сделаны специально для меня, в единственном экземпляре. По ним я могу узнать время, день и месяц в моем мире.
Мама тоже редко говорила «планета», предпочитая употреблять слово «мир». «Планета, — объясняла она, — всего лишь небесное тело, что катится по своей эфирной колее вокруг светила в холоде и мраке. В лучшем случае — каменный шарик в атмосферной обертке, в худшем — капля-переросток сжиженного газа. Не больше и не меньше. А мир — это просторы, небеса, моря-океаны, если повезет — то и жизнь, и если уж повезет неописуемо, то жизнь под голубым небом, на берегу теплого моря, с пальмовой рощицей в отдалении…»
— И который там теперь час? — спросил я.
Антония снова насмешливо фыркнула и сказала. Запомнить это было свыше моих слабых эхайнских сил.
— Уже поздно, — промолвила она. — А у меня режим.
— Это из-за режима ты так закуклилась?
Я думал, она зашипит и выцарапает мне глаза. Но все обошлось очередным экскурсом в астрономию.
— В нашем мире два солнца, — пояснила она тоном черепахи Тортилы. — И оба очень слабенькие.
— А птиц у вас не было вовсе, — хмыкнул я.
— Растения были. Правда, не такие огромные, как здесь. Птиц не было, ты прав. Всегда нужно было беречь голову от того, что над ней пролетало.
— Птички тоже иногда могут кое-что обронить сверху.
— Как это?!
— Ладно, это я так шучу… Какой же умник запихал тебя из вашей тундры прямиком в Алегрию?!
— Я здесь ненадолго, успокойся, — проскрипела она. — Всего лишь промежуточный этап акклиматизации. Медики думают, что Алегрия с ее климатом поможет мне подготовиться к переезду на детский остров Эскоба де Пальмера.
— А что там, по-другому учат, не как у нас?
— Это остров для математических гениев.
— А ты что — гений?
— Угу, — сказала она просто.
Вот все и стало на свои места.
Еще бы Мария Санчес не робела перед этой страшилкой!
— Но тогда ты, наверное, можешь вовсе не ходить на уроки, — предположил я.
— Глупый эхайн, — проворчала Антония. — Я только математический гений. В истории, биологии, искусствах я такая же балда, как и ты. Не говоря уже о спортивных занятиях, где мне смешно даже надеяться превзойти тебя!
— Ты все вчера видела? — сконфуженно уточнил я.
— И ничего не поняла. Кроме того, что ваша игра основана на какой-то примитивной комбинаторике, и что вы проиграли.
— Разве на вашей пла… в вашем мире не играют в фенестру?
— Нам некогда было заниматься подобными глупостями, — сухо произнесла Антония. — Нам приходилось выживать.
— Ты расскажешь мне о своем мире?
— А ты объяснишь правила этой варварской игры?
Но мы уже пришли к ее домику.
— Завтра мы пойдем рисовать прибой, — зачем-то сказал я.
— А я знаю, — кивнула она. И еще раз коснулась моей руки своими змейками.
Солнце уже улеглось за горы, с моря тянуло прохладой, и только небо еще не остыло окончательно.
— Сумерки, — сказала Антония зловещим шепотом. — Любимая пора вампиров.
— Ты что — вампир?
— Разве не похоже?
Она стянула с головы панаму и убрала окуляры в карман балахона…
— Нисколько, — сказал я и неожиданно для самого себя брякнул: — Ты красивая.
— Глупости, — проскрипела она и скрылась за дверью.
5. Только со мной
Никакой красавицей Антония Стокке-Линдфорс, разумеется, не была. По нашим, знойным понятиям… Слишком бледная, слишком худая и слишком маленькая. Так, наверное, могли бы выглядеть узники детских концлагерей. Или детишки графа Дракулы. На узком, обтянутом полупрозрачной кожей лице теснились огромные серые глаза, тонкий длинный нос и тусклые губы от уха до уха. Пепельные волосы чересчур коротко острижены. Мраморно-белые руки оплетены голубоватой сеткой вен. Коленки торчали. В общем, завидя Антонию, хотелось заплакать от сострадания, сгрести ее в охапку и тащить вначале в столовую, а оттуда — в медпункт. Или наоборот.
Но я, кажется, на нее запал.
Во-первых, она была очень умной. Быть может, умнее многих наших учителей, хотя саму эту мысль следовало гнать, как неподобающую. Так или иначе, Мария Санчес разрешила ей не посещать математику, но Антония все равно приходила, чем причиняла нашей очаровательнице изрядные неудобства. По крайней мере, вначале… Она сидела одна, за самым дальним столом, в тени самой раскидистой пальмы, точно так же тянула руку и энергично участвовала в обсуждениях.
Но только на математике. На всех прочих занятиях она была безучастна и тиха, как летучая мышь зимней порой. Нужно было специально обратиться к ней, чтобы хоть как-то вывести из спячки. При всем этом она знала все даты, все имена и все события.
Кроме тех случаев, когда не знала самых простых вещей.
Например, она не подозревала, что Европа и Азия расположены на одном материке, а Сибирь — отнюдь не часть света, равно как и Скандинавия. Она путала Арктику и Антарктику, и для нее стало открытием, что белые медведи живут и там и тут (хотя во втором случае речь шла, конечно, о национальном парке Земля Александра), а пингвины пасутся только на антарктическом побережье. И еще какое-то время ей пришлось объяснять, кто такие пингвины… Известие, что гориллы вовсе не вымерли, привело ее в восторг — если так можно назвать гримасу удовлетворения на ее изможденной мордашке. В то же время, гигантский морской змей Яванского желоба и неодинозавры бассейна Конго были восприняты ею как нечто само собой разумеющееся, а «снежные люди», по ее мнению, жили на Чукотке и катались на оленях между ярангами и чумами. Учитель географии Фернандо Аларкон готов был плакать от ее невежества.
Учитель новейшей истории Энрике де Райя тоже едва не прослезился — но уже от умиления ее абсолютной осведомленностью о событиях и социальных процессах в Галактическом Братстве.
Антония знала названия всех планет Федерации — при этом она упорно именовала их «мирами», как самый завзятый звездоход. Она могла наизусть отбарабанить список всех федеральных метрополий, а потом непринужденно перейти к перечислению гуманоидных цивилизаций Братства, по алфавиту, по численности населения или по социометрическому индексу. И о каждой культуре у нее находилась пара слов.
Абхуги и квэрраги прославились тем, что развязали и по сю пору не закончили войну за монопольное обладание собственной планетой Уанкаэ — самый продолжительный в истории Галактики межэтнический конфликт. Чего добились: за тысячи лет беспрерывной бойни превратили прекрасный цветущий мир в серую тлеющую помойку. Никто за пределами Уанкаэ под страхом пытки не сможет отличить типичного абхуга от типичного квэррага. Между ними нет разницы — ни внешней, ни анатомической. Ни по цвету кожи, ни по разрезу глаз, ни на генетическом уровне. Совсем никакой! Сами же они находят различие мгновенно и безошибочно, после чего вскипают, как чайник на костре, брызжут слюной и хватаются за оружие. Нелепое в своей жестокости, бескомпромиссное противостояние двух ветвей одной расы. Какие-то дикие милитаристские культы… наука, целиком занятая изобретением особенно мерзких средств массового поражения… жуткие генетические патологии в результате постоянного применения официально запрещенных «этнических бомб»… навешенный сторонними исследователями глумливый ярлык «суицидальная цивилизация»… Все, что я слышал об эхайнах, с их дурной славой, не идет ни в какое сравнение с этим застарелым вселенским гнойником, который долго и безуспешно пытается излечить Галактическое Братство. Даже Федерация, кажется, без большой рекламы и с нулевым успехом посылала туда свои силы разъединения…
Ауруоцары вообще никогда в своей истории между собой не воевали, потому что это невыносимо отвратительно их религиозному мировосприятию. Религий там несколько, и все они в незапамятные времена как-то одновременно, будто по уговору, провозгласили жизнь даром Создателей (которых семеро, но не по числу смертных грехов, а по числу житейских радостей!), а следовательно — высшей и неотчуждаемой ценностью. Убить себя означает грубо отвернуть божественный дар. Убить другого — посягнуть на принадлежащее Создателям. Тоже не подарок… позор и неискупаемый грех. Как хотите, а мне такие религии нравятся. Тому же человечеству, помнится, постоянно талдычили «не убий», но всегда ловко находился способ обойти горний запрет. Не говоря уже об абхугах с квэррагами, которые режутся в полном согласии с собственной совестью!
Виавы почти неотличимы от нас. Галактические искатели приключений, экстремалы и весельчаки, любители совать нос во все дыры, неутомимые борцы с энтропией и гомеостазом. Известны также горячей симпатией к человечеству. Вспомним хотя бы их активное участие в судьбе Роберта Локкена.
Тахамауки больше похожи на ходячих истуканов острова Пасхи и, по одной из гипотез, лично вдохновляли тамошних древних скульпторов. Ну, то, что они бывали на Земле в доисторические времена, общеизвестно… Когда-то безраздельные властелины Млечного Пути, сейчас они необратимо выдохлись, растеряли и распустили все прежние колонии, делами Галактического Братства интересуются лишь в той мере, какая затрагивает их внутренние дела. Хотя с удовольствием — по старой, видно, памяти! — берутся за распутывание каких-нибудь гордиевых узлов масштабом не менее звездного скопления; но всегда существует и даже учитывается риск, что в самый неожиданный момент под каким-то благовидным предлогом они возьмут и удерут, бросив все как есть. Тахамауки встревали в ситуацию на Уанкаэ, своим безмерным авторитетом легко усадив враждующие стороны за стол переговоров. Но вскоре узнали о массовых нарушениях перемирия; поразились самому факту вероломства, каковое для них вот уже пару тысячелетий так же немыслимо, как, допустим, каннибализм; сильно огорчились и ретировались с поля боя навсегда. Из искусства более всего ценят музыку, для человеческого уха совершенно неудобоваримую — бесконечные комбинации индустриальных шумов и звуков природы. Будучи отягощены строгими этическими нормами, какими-то застарелыми комплексами и древними лакунами в отношениях с Братством, где их многое раздражает, ведут себя как занудные старики, и выглядят соответственно.
Згунна, доугены и гледрофидды — те же тахамауки, вид сбоку. Когда-то были одной с ними расой, а теперь избегают даже упоминания о кровном родстве. Потому, наверное, более пассионарны и менее занудны, музыка у них почти мелодична, чувство юмора, по отзывам, не атрофировалось, и даже внешность не такая отталкивающая.
Игатру ни на кого, кроме самих себя, не похожи. С человечеством не контактируют вовсе — не потому, что не хотят, а просто они нас совсем не понимают, а мы их. То есть ничего между нами общего! Такая вот беда… Что не мешает им быть таксономически полноценными гуманоидами.
Иовуаарпы скрытны и осторожны. При всяком удобном случае напускают тумана и уходят от прямого ответа. С чего бы?.. Ненавязчиво, но упорно развивают экономическую экспансию в пределах Федерации, для чего много и наивно шпионят. Антония утверждает, что в Глобале можно найти регистр постоянно действующих нелегалов-иовуаарпов, с портретами, адресами и личными кодами. Есть еще аафемты — тупиковая ветвь той же расы, яркий образчик параноидальной цивилизации, которой практически все по фигу.
Лутхеоны бездарно провалили экзамен на социальный гуманизм, затормозив в своем развитии на расстоянии протянутой руки от полноправного членства в Галактическом Братстве, для того только, чтобы откатиться в огонь и чад самого мрачного тоталитаризма. Земные ксенологи, работавшие в этом мире, не могут говорить о них без сожаления и разочарования.
Лферры, они же «орки», одержимы идеей межрасовой конвергенции, что не раз и не два ввергало их в рискованные авантюры на грани фола. Об этих искусниках я знал кое-что, чего не могла знать даже Антония!
Охазгеоны — роскошные феодалы и отвязные степняки в одном сосуде, любимчики наших ксенологов. Самые хлебосольные самодержцы, самые буйные гуляки, самые ревнивые женщины, самые чистые сердца. Тот же дядя Костя мог говорить о них часами, и всякий раз в его байках присутствовала какая-то изощренная дворцовая интрига, терпевшая сокрушительное фиаско по причине тотального раздолбайст-ва, затем следовало грозное противостояние двух до зубов вооруженных армад и непременный поединок тамошних Пересвета и Челубея, а все венчала грандиозная попойка, где заклятые враги прощали все кровные обиды оптом, братались стенка на стенку и в знак вечной любви менялись халатами, женами и царствами.
Тшарилхи, «журавлиные наездники», хранители загадочных, почти мистических искусств, летающие по воздуху силой воли и разговаривающие со своими давно умершими предками. Непривычное социальное устройство «утерократия», обусловленное трисексуальностью, когда главенствует не тот, кто производит семя или порождает яйцеклетку, а тот, кто вынашивает плод. По-моему, одно звено лишнее, но кто я такой, чтобы судить их?
Рарвишпы, ренфанны, туссе и прочие затворники, о которых известно только то, что они пожелали сообщить ин-форматориям Галактического Братства — то есть, почти ничего.
Всякие там квазигуманоиды, семигуманоиды и ортогуманоиды, имя которым — легион.
А также юфманги и, разумеется, эхайны.
Когда я спросил, откуда Антония все это знает и зачем, последовал туманный ответ: в приложениях к «Галактическому вестнику» не было ничего другого…
Она была посвящена в мою тайну. Ей стоило громадных трудов не проболтаться. При всех своих достоинствах она оставалась обыкновенной девчонкой… почти обыкновенной. Ей, наверное, тоже хотелось сплетничать. К чему хранить чужой секрет, если нельзя разделить его с ближним?! Взгляд ее нерадостных серых глаз был выразительней всяких слов: «Видишь, на какие муки приходится идти ради дружбы?!»
Я и вправду был единственным человеком, с которым она сблизилась. Вернее, которого она впустила в свое личное пространство. А поскольку человеком в точном смысле этого слова я не был, можно было сказать, что в ее друзьях никто из людей не числился вообще.
Разумеется, сокурсники-испанцы, с их традиционными наклонностями к супплетивизму, тотчас же стали звать ее Тита. Антонии потребовалось некоторое усилие, чтобы привыкнуть к новому имени. Всякий раз, когда она слышала это обращение, ее личико делалось немного потерянным.
Она могла говорить с тем же Чучо о метаморфных топограммах. Могла снисходительно выслушать трескотню Барракуды, которой все равно было к кому адресоваться, лишь бы этот «кто-то» был девчонкой. Могла со внезапным темпераментом ввязаться в диспут — особенно если была сведуща в предмете.
Но только со мной она просто бродила по аллеям, просто сидела на вечернем пляже и просто делилась воспоминаниями о былой жизни. Она все еще вела сумеречный образ жизни и носила не снимая чудовищную свою белую панаму, бесформенный белый балахон поверх белых же майки и шорт, хотя сеньор Эрнандес уже позволил ей купаться и появляться на открытом солнце, соблюдая разумную дозировку. Единственным, с чем она отважилась расстаться, были темные очки. То ли мовид стал не нужен, то ли глаза привыкли. Как я уже упоминал, глаза у нее были огромные, как у феи, серые и усталые. Словно она прожила на белом свете не пятнадцать, а все сто пятнадцать лет.
6. Идем в океанариум
В субботу, как и обещал Чучо, занятий не было, потому что мы всем курсом отправились в Валенсию, в океанариум. Из взрослых нас сопровождал только учитель биологии Себастьян Васкес, молодой, изящный, как тореро, смешливый и ироничный, как все учителя — иных к нам, малолетним ядозубам, и подпускать было нельзя. Лоснящиеся черные волосы его были перехвачены пестрой пиратской лентой, тонкие усики закручены кверху, гавайка расстегнута на волосатой груди, на просторных шортах красовалась многоцветная детальная карта Валенсии — полная экипировка для приятного времяпрепровождения. В Пуэрто-Арка, одном из двух портов детского острова Исла Инфантиль дель Эсте, наша компания пополнилась самым необычным образом. В нее влился уже известный мне персонаж в костюме зеленого крокодила. Правда, на сей раз он был без зеленого пиджака, зато на голове имел щегольскую зеленую шляпу. Ну и, разумеется, болотистые очки никуда не делись, были на своем месте. Обменялся с учителем Васкесом негромким приветствием, после чего, демонстрируя полное равнодушие ко всему происходящему, пристроился в хвост группы. «Теперь у нас два привидения, — не упустил поехидничать Чучо Карпинтеро, — одно белое, другое зеленое». Я потянулся дать ему по шее, но не поспел. Но, действительно, сеньор Крокодил и Антония среди нашей орды, расфуфыренной во все попугайные цвета, казались пришельцами из другого, неизмеримо более скучного мира.
Мы погрузились на экскурсионную «манту», захватили верхнюю палубу и устроили такой тарарам, что распугали всех увязавшихся следом чаек.
Океанариум в Валенсии был самым старым на всем побережье. Его построили еще в начале двадцать первого века, много раз перестраивали и не однажды пытались закрыть. Его взрывали какие-то чокнутые баскские террористы… он горел… в прошлом веке тридцатиметровый архитевтис, до того момента мирно дремавший в наглухо замурованной витралитовой ванне, вдруг пробудился среди ночи, в считанные часы разобрал систему вентиляции и ушел через полутораметровое отверстие, все руша и приводя в негодность на своем пути, — так и слышатся крики «Свободу узникам жидких казематов!» — и половина коллекции океанариума последовала за ним. В течение нескольких лет Средиземное море походило на невиданный рыбий Вавилон, или на уху из экзотических сортов ихтиофауны, пока силы Океанского Патруля не выловили и не вернули на место самых глупых беглецов, которые не нашли дороги в родные воды, но и не погибли в непривычных условиях обитания. Сам же виновник инцидента был обнаружен спустя два года по вживленному маяку в холодных и богатых рыбой водах Норвежского моря и по здравом размышлении оставлен в покое, а наученные горьким опытом устроители океанариумов впредь зареклись держать у себя крупных головоногих вживе… Обычно я любил здесь бывать, смотреть на бесшумные танцы гигантских рыб в подсвеченной воде, следить за ритмическим колыханием водорослей. Поразиться почти безжизненной, выверенной четвертью миллиарда лет непрерывного плавания механике акульих тел. Рассказывают: когда я, еще совершенный птенец, попал сюда впервые, то потерялся где-то возле тигровых акул. Никто меня не хватился, потому что, когда экскурсия возвращалась, я стоял на том же месте, где и был забыт, и смотрел на все тех же акул… Ведь все знают, что я созерцатель по своей природе.
Сегодня все было иначе.
Потому что со мной была Антония, и она никогда в жизни не видела рыб. Ну разве что на картинках.
— Боже! — закричала она при виде сельдяного короля. — Что это?!
Сельдяной король стоял стоймя в луче желтоватого света, вытянувшись во всю двенадцатиметровую длину своего серебристо-стального тела, через равные промежутки перехваченного темными полосами, распушив гребень на мощном черепе и мерно прокатывая волны по алому спинному плавнику от головы до кончика хвоста. Выглядел он зловеще. Вокруг него водила хороводы суетливая рыбья мелочь, может быть даже сельдь, из числа придворной свиты.
Впервые я почувствовал себя большим и сильным. К слову, это было совсем нетрудно: рядом с Антонией всякий сознавал себя сильным; ну, а я рядом с кем угодно был большим. Этого у меня не отнять.
(То, что это был не живой сельдяной король, а биорепликат, то есть предельно точная, живущая по своим законам, визуально неотличимая от оригинала копия в натуральную величину, я уточнять не стал, чтобы ненароком не принизить остроту впечатлений.)
Я выпятил грудь и расправил плечи. Я откашлялся. Я взял ее за руку. Страшно подумать, я обнял ее за плечи и привлек к себе, как младшую сестренку-несмышленку.
— Успокойся, — сказал я покровительственным басом. — Это всего лишь рыба. Рыбы живут в воде. Иногда они бывают огромными. Хотя бы вот как эта…
— О-о! — выдохнула Антония.
Теперь она увидела китовую акулу. Та мирно дремала в голубоватой дымке, бородавчатое рыло ее находилось в десятке сантиметров от нас, а хвост терялся в бесконечности. Она была настолько велика, что казалась деталью интерьера. В сравнении с нею сельдяной король смотрелся галантерейной цацкой.
— Оно живое? — прошептала Антония.
— Это тоже рыба, — промолвил я уклончиво. — И совершенно безобидная.
Разумеется, акула была биорепликатом. Кому придет в голову держать в аквариуме такую громадину?
— Интересно, о чем она думает, глядя на нас?
— Мы кажемся ей двумя крупными рыбинами, которых, увы, нельзя съесть. Хочешь погулять по ее спине?
— Лучше убей меня, — проскрипела она.
По соседству с медитирующей акулой, словно для контраста, кувыркались, гонялись друг за дружкой и разнообразно демонстрировали себя во всем блеске коралловые ангелы, занклы — настоящий подводный цирк ярких и веселых рыб. Антония была потрясена:
— Такое не бывает! Они не могут быть живыми! Это куклы!
— Они настоящие, — с чистой совестью заявил я. — Хочешь, мы слетаем на Красное море и поныряем среди рифов, где они живут?
— Хочу! — закричала она мне прямо в ухо.
— Северин, Антония, мы будем ждать вас через час на пристани, — сказал учитель Васкес, с понимающим весельем подрагивая усиками, и увел экскурсию прочь.
А мы пошли смотреть моих любимых тигриц.
Они тоже были настоящие. Когда-то их насчитывалось не меньше десятка, а теперь осталось всего три — остальных забрали в другие океанариумы, потому что надежды выловить в океане сколько-нибудь здоровый экземпляр практически не было. Самую большую и старую звали Муэрта-Смерть, молодого самца — Оррор-Ужас, а совсем юную самку — Оскуридад-Тьма. При виде этих живых машин Антония попыталась вжаться в меня, укрыться под моими руками, как под ветками спасительного дерева. Она вздрагивала всякий раз, когда на нас падал мертвящий взгляд одной из акул. Я мог ощущать своими ладонями трепет ее тела, движение ее ребер, тепло ее маленьких грудей. Похоже, она не замечала моих прикосновений, захваченная невиданным зрелищем.
Прошла вечность, прежде чем мы покинули эту часть океанариума. А ведь нас ждали еще рыбы-клоуны и фахаки с их потешными физиономиями и ужимками эстрадных комиков…
— Нагнись! — вдруг приказала Антония.
— Зачем? — спросил я, глупо улыбаясь.
— Ну же!
Я приблизил свое лицо к ее панаме, и она прижалась своими горячими сухими губами к моим, изо всех сил обхватив меня за шею. Я ощутил ее аромат, ее дыхание ворвалось в мой рот вместе с ее языком, я весь провалился в нее, как в сладкую бездну. Антония вздрагивала в моих руках. Кажется, меня тоже трясло. Мы не могли разомкнуть губ. Одна моя ладонь, с ее помощью, уже оказалась под ее тонкой белой — а какой же еще?! — майкой, которая и без того почти ничего не. скрывала, а другая нагло и вполне своевольно улеглась на ее шорты…
…Все это очень походило на ураган, из числа тех, что раз в несколько лет внезапно, словно бы из ниоткуда, накатывают на наш островок и буйствуют там час-полтора, пока не подоспеют службы климатического контроля и не выровняют перепады давления до той степени, чтобы превратить стихийное бедствие в обычную и совершенно безобидную непогоду.
Подоспели они и на сей раз…
Антония первая увидела сеньора Крокодила и резко отстранилась, поправляя панаму.
Принесла же его нелегкая!
Но ураган миновал.
Крокодил не проронил ни слова. Лишь бросил короткий и очень выразительный взгляд на наручный хронометр и удалился. Это означало, что батискаф на пристани дожидается только нас двоих.
Кто-то должен был сохранять ясность ума.
Вряд ли на сей раз это могла быть Антония. Даже в синевато-зеленых отблесках аквариумной подсветки было заметно, что ее обычно бледное личико горит живым пунцовым цветом. У меня тоже голова шла кругом, физиономия пылала, и никуда не хотелось уплывать.
Ничего другого не оставалось, как взять ее за руку и вести за собой, словно куклу.
7. Подводная любовь
Какой-то электрический разряд внезапной влюбленности поразил нас обоих в океанариуме. Мы не могли отойти друг от дружки в замкнутом пространстве батискафа, который плыл над проложенной по морскому дну светящейся тропинкой прочь от берега; да мы и не хотели. Окружающий мир занимал нас меньше, чем мы сами и наши внезапные новые переживания. Мы не слышали голоса учителя, мы не реагировали на насмешливые взгляды друзей, мы не замечали удивительных картин, открывавшихся за прозрачными стенами. Мы стояли, сцепив руки, и несли какую-то чушь. Нам было все равно, о чем говорить. Мы должны были болтать без умолку, чтобы подавить смущение и сделать перед самими собой вид, что там, в океанариуме, не произошло ничего из ряда вон выходящего. Ее голос уже не казался мне безобразно скрипучим; она окончательно простила мне невнятную и сбивчивую речь.
— А ты кем хочешь стать? — спрашивала Антония.
— Не знаю, не думал еще. Я ничего не умею.
— Может быть, спортсменом? Ты же играешь в эту… как ее…
— Спортсмен — это не профессия. Это досуг. И я не собираюсь всю жизнь бегать с шеллом под мышкой с одного цветного квадрата на другой. Когда мне стукнет пятьдесят, и я сделаюсь глубоким стариком, это будет выглядеть смешно…
— А сколько лет твоей маме?
— Сорок четыре.
— Ты ее тоже считаешь глубокой старухой?
— Нет, конечно. Она молодая и красивая.
— Почему же ты будешь стариком в пятьдесят?!
— Ну, это я так… брякнул… фигура речи.
— А я красивая?
— Очень.
— Как твоя мама?
— Вы разные. Она очень сильная. Она говорила, что за меня способна убить человека, и я ей верю. Она — бывший астронавт. Почти как ты.
— Я не астронавт. Я просто родилась и выросла в другом мире. И я не сильная. Ты же видишь, какая я… фарфоровая.
— Я вас познакомлю. Ты все знаешь про Галактику, а она везде побывала. Ты назовешь какую-нибудь планету. «А-а, — скажет мама, — это там, где мы напинали под задницы племени диких королевских ихневмонов!» И поведает какую-нибудь историю.
— Она много тебе рассказывала о Галактике?
— Раньше — ни единого словечка. Но два года назад кое-что произошло, и она… стала рассказывать.
— Что же произошло?
— Ну… я узнал, что я эхайн. Черный Эхайн. Мама нашла меня в космосе и взяла себе. Поэтому она и ушла из астронавтов.
— Значит, ты не шутил тогда, в Абрикосовой аллее?
— А ты все это время думала, что я такой вздорный шутник?!
— Ты себя так и вел. Я думала, тебя просто разозлило мое поведение.
— Вела ты себя и вправду вызывающе. Будто все только и ждут, чтобы накинуться на тебя из-за угла и обсмеять с головы до ног.
— Ненавижу эту панаму. Ненавижу эти очки. Все было из-за них!
— Очки ты уже выбросила. Осталось где-нибудь утопить панаму.
— Так я и сделаю, когда мы вернемся. Утоплю ее в прибое.
— И будешь, наконец, купаться со всеми?
— Нет. Только с тобой.
— Мне это… нравится.
— Еще бы… Выходит, спортом ты заниматься не хочешь?
— Только для своего удовольствия. И я не самый лучший игрок в фенестру, чтобы посвящать ей все свое личное время.
— А что ты еще умеешь?
— Говорю же, ничего.
— Может быть, ты любишь музыку?
— Ту, что слушают ребята? Ненавижу.
— Тебе нравится Озма?
— Да нет же!
— Я ее обожаю. Если ты хочешь быть со мной, тебе придется слушать Озму. А что придется слушать мне?
— Старинную лютню, клавесин и скрипку. Или струнные концерты Эйслинга.
— Ну, это еще куда ни шло. А сам ты умеешь играть на каком-нибудь инструменте?
— У меня и слуха-то нет. То есть, конечно, какой-то есть, но его недостаточно для серьезных занятий.
— Хороший музыкальный слух — большая редкость. Разве это кого-то останавливает?
— Ну, я так не умею… Если уж что-то делать, то нужно делать это хорошо, или не браться вовсе.
— А что тебе нравится делать?
— Слушать музыку. Смотреть. На танцующих рыб. На мою кошку. На тебя.
— Плохи твои дела, дружок. Неужели ты всю жизнь будешь лежать на песочке и смотреть, как танцует кошка?
— Обычно я делаю это на травке. И моя кошка не танцует. Кошки, чтоб ты знала, не танцуют и даже не играют. Они тренируются.
— Ты сам-то умеешь танцевать?
— Ну… кое-как. Послушай, я ничего не умею. Я бездарный. Никакой. Я не знаю, чего хочу. Я и не хочу ничего. Может быть, должно пройти какое-то время, чтобы я узнал… или меня вдруг озарило… или какое-нибудь особенно тяжелое яблоко свалилось на башку. Но пока я просто живу, провожу время в колледже и жду, что будет завтра. Я неинтересный. Ты еще пожалеешь, что связалась со мной.
— Ты наговариваешь на себя. Зачем? Рассчитываешь, что я брошусь тебя утешать? Не выйдет, я сама нуждаюсь в поддержке и утешении. А ты просто скрываешь свои достоинства под личиной равнодушия и нелюбознательности.
— Уж такие мы, Черные Эхайны… А ты?
— Что — я?!
— Ты кем станешь, когда вырастешь.
— Во-первых, вряд ли я еще вырасту. Разве что растолстею. А во-вторых, ведь все уже давно решено! Я буду математиком.
— Но ведь ты не обязана быть математиком только потому, что у тебя выдающиеся способности к математике и тебя скоро затолкают на детский остров для вундеркиндов.
— Ты не понимаешь. Да, мне не обязательно… Но ведь я хочу быть математиком!
— Разве так бывает?
— Глупый, многие люди хотят быть математиками!
— Я завидую тебе. Ты родилась математиком, тебя учили быть математиком, ты хочешь быть математиком. Вот бы и мне знать, кем я родился. Все учителя «Сан Рафаэля» хотят знать то же самое, чтобы учить меня правильно. А я ничем не могу им помочь.
— Это они должны тебе помочь.
— Они и так из кожи вон лезут.
— Наверное, ты родился слишком рано для своего призвания. Вдруг ты прирожденный путешественник во времени? Или выдающийся рассеиватель газопылевых туманностей?
— Чего-чего-о?!
— Или же ты непревзойденный мастер в ремесле, которое давно умерло. Горшечник, подковыватель шерстистых носорогов…
— «Такой шильник, печник гадкий!»
— Что ты такое говоришь!
— Это не я, это Гоголь.
— А… я читала… «Души мертвецов»… но, по правде сказать, ничего не поняла.
— Не переживай, не ты одна. Чтобы понимать Гоголя, нужно хорошо знать два славянских языка. И не только знать, но и чувствовать. Я, может быть, и не знаю, но чувствую.
— А что если где-то в глубине тебя прячется маленький гениальный лингвист?
— Нет, это врожденное… вернее, от мамы. Никто умный там, внутри меня, не прячется. Я бы знал…
— Послушай, а почему ты решил, что ты эхайн?
— Но я же тебе говорил…
И я, сбиваясь, перепрыгивая и возвращаясь, рассказал ей свою историю. Вернее, предысторию — потому что из той своей жизни ничего не ведал и не помнил. Рассказ вышел коротким — как раз достаточным, чтобы скоротать время погружения батискафа на стометровую глубину.
Ничего интересного там не было — темень и пустота. Если не считать пары-тройки остовов каких-то древних кораблей и невесть откуда здесь взявшихся руин. Должно быть, когда-то здесь был остров, вроде нашего дель Эсте, и на нем тоже жили люди. А потом море решило забрать этот клочок суши себе. Если бы с нами был учитель Родригес, уж он-то напел бы нам по этому поводу своих умопомрачительных и душераздирающих историй об Атлантиде, Медитеррании, Валиноре и Эльдамаре, и не сразу было бы разобрать, где правда, а где вымысел…
Мимо нас с Антонией как бы между прочим прошел Чучо и, ни к кому особо не обращаясь, объявил:
— Насчет тинторер — всё выдумки. Никаких тинторер здесь нет. Найду того, кто обманул, — утоплю.
Потом встал у противоположной стены и, всей спиной изображая запредельное разочарование, прилепился носом к иллюминатору. Поблизости тотчас же образовалась Мурена и демонстративно повисла у него на плече, выгнувшись по-кошачьему, чтобы все видели, какая у нее красивая упругая попка… Ну, все не все, а чтобы я видел, что теряю.
— Расскажи мне про эту… Мтави… мурави… — попросил я.
— Нет, — сказала она. — Не хочу.
— А чего ты хочешь?
— Вот чего…
И она снова потянулась ко мне губами, потешно зажмурившись.
(Историю, впрочем, она рассказала. Но несколько позже, когда мы уже вернулись в Алегрию и были на ночном берегу совсем-совсем одни.)
Мы и не заметили, как салон батискафа наполнился солнечным светом. Мимо нас проходили сокурсники, поглядывая в нашу сторону с сочувственной иронией.
— Конфуз! — вдруг сказала Антония. — Из-за тебя я все пропустила. Так хотелось поглядеть на настоящее морское дно…
— Что в нем интересного? — пожал я плечами. — Песок и песок. Как-нибудь возьмем бранквии и поныряем. И потом, я обещал тебе коралловые рифы Красного моря.
Батискаф медленно плыл в темных струях пролива, отделяющего материк от нашего острова, а мы с Антонией все стояли, не имея сил разнять руки.
Появились, мило беседуя, сеньор Крокодил и учитель Васкес.
— Северин, Антония, не забудьте, что вы должны подготовить об экскурсии подробный реферат, — объявил учитель Васкес, и голос его был напитан ядом сарказма.
Нам было все равно.
8. История Антонии Стокке-Линдфорс
Планета называлась Мтавинамуарви — и это слово не принадлежало ни одному из земных языков. Ее открыли не люди, а разведывательная миссия эдантайкаров. Кто такие эти эдантайкары — разговор отдельный… Высадившись на поверхность планеты, разведчики сразу обнаружили следы давно погибшей материальной культуры. Очевидно, кто-то из них фонтанировал мрачным юмором, и планета получила свое имя, в переводе означавшее приблизительно следующее: «Брысь из моего склепа». А может быть, все это было придумано на полном серьезе… О находке эдантайкары, как водится, сообщили в Совет ксенологов Галактического Братства и с чувством исполненного долга отправились дальше по своим делам. Заниматься раскопками им было явно не с руки — если у них вообще были руки. Антония считала, что были. Из инфобанков Братства сведения о Мтавинамуарви перекочевали в земной Каталог перспективных исследований Брэндивайна-Грумбриджа, где были обречены затеряться среди тысяч и тысяч похожих записей.
Если бы не Аксель Скре.
Он принадлежал к особой породе людей, которые считали, будто Земля слишком мала для пытливого ума и давно уже исхожена вдоль и поперек. Отчасти он был прав, и его мнение разделяли многие. Но если большинство находило себя в спокойной и общественно полезной работе, то Аксель и ему подобные рвались на поиски новых ослепительных открытий в Галактику. Будучи в полном неведении, что Голактика сама по себе и есть всем открытиям открытие… Вдобавок они не знали, что и старушка Земля способна преподносить сюрпризы. Поэтому, к примеру, неодинозавры и руины Посейдониса были обнаружены без них. Но это так, к слову.
Аксель же Скре был самым благодарным читателем «Брэнди-Г-рума». За плечами у него было драйверское прошлое в Корпусе Астронавтов, а впереди ждала Терра Инкогнита, куда уж точно не ступала нога человека. В глубине души Скре подозревал, что трудно будет кого-то поразить открытием новой планеты или новой культуры. Но он гнал от себя эту здравую мысль. Надеялся найти что-то эдакое… эдакое… о чем никто не то чтобы не слыхивал, а даже и не подозревал, что такое вообще возможно. В общем, «то, не знаю что». Поэтому он естественным ходом примкнул к пользовавшемуся дурной репутацией в научных кругах и ненавистью со стороны Звездного Патруля сообществу крофтов. И какое-то время занимался любимым делом — потрошил руины забытых цивилизаций.
А кто же такие крофты?
А вот кто: осквернители могил, вскрыватели ящиков всех мыслимых и немыслимых галактических Пандор, прожженные контрабандисты и авантюристы. Отчего их называли «крофтами» — неизвестно. Во всяком случае, так было короче, нежели «черные археологи», позволяло экономить фонетические усилия и не бросало тени на вполне уважаемую профессию. Сознаться в приличном обществе, что ты крофт, было так же непристойно, как и справить нужду при посторонних.
Да, разумеется, иногда случалось такое, что крофты делали открытие. Таким сдержанно, зажимая нос и отворачиваясь, аплодировали, предлагали оставить сомнительное занятие и вернуться в лоно чистой науки. Некоторые соглашались использовать свой шанс. Большинство — нет. Они были неизлечимо заражены вирусом безрассудства.
Гораздо чаще случалось, что крофты выпускали на волю болезни и посерьезнее. И смерть в собственном корабле, в далеком, никому не известном и не нужном мире, была, как это ни цинично звучало, наилучшим исходом. Потому что иногда крофты привозили заразу домой.
Отследить маршруты их крохотных и юрких суденышек было непросто. Обжитыми трассами они не пользовались. Обойти карантины и станции слежения для всякого крофта было высшим шиком и делом чести. Вынырнуть из экзометрии где-нибудь в геокороне,[13] 1 увернуться от спутников внешней защиты, войти в атмосферу над малообитаемыми областями Гоби или Арктики и плюхнуться посреди Индийского океана, где уже поджидают на катерах такие же безбашенные дружки… Если крофт попадался Патрулю, ему приходилось несладко. Это означало лишиться корабля, добычи, каналов связи и сбыта. В крайних случаях за этим следовал и запрет на профессию. Обычно такое происходило, когда нарушалась биологическая безопасность Земли. Тогда, под предлогом карантина, беднягу крофта упекали в какой-нибудь медвежий угол, под присмотр медиков, и надолго… если он к тому моменту еще был жив.
Поэтому крофты старались орудовать на планетах без биосферы. А еще уповать на чудо. Все же какие-то рудименты инстинкта самосохранения у них еще оставались. Быть может, благодаря этому Земля до сих пор не перенесла еще ни одного серьезного потрясения по вине крофтов. А также благодаря собственной мощной биосфере, способной сожрать не поморщившись любого незваного гостя. Ну и, конечно, для приблудных микроорганизмов личная иммунная система каждого отдельно взятого человека — тоже не сахар…
Гораздо чаще крофты встревали в неприятности там, где копались. Поскольку они сознательно выбирали самые дальние и глухие уголки мироздания, помощь нередко запаздывала — если призыв о помощи вообще кто-то успевал отправить.
Крофты не умирали в своих постелях. Да они и не мечтали о таком исходе. Их любимой поговоркой было: «Никто не живет вечно». На что патрульники обычно отвечали: «А дураки — всех короче».
Действительно, настоящих профессионалов хоть в какой-либо области знаний среди крофтов были единицы. В основном же к их сообществу примыкали те, кто не нашел себя в жизни и не пребывал в гармонии с самим собой.
Аксель Скре считался хорошим крофтом. У него была своя команда и миниатюрный кораблик класса «корморан». Базировался он, естественно, на Тайкуне, потому что Тайкун славен был своей либеральностью ко всякого рода авантюристам, в чем на голову превосходил Эльдорадо, где тоже порой творилось черт-те что. В команду Акселя входило трое молодых парней — Гуннар Халльдорсон, Стаффан Линдфорс, Эйнар Стокке, и две девушки — Ингибьорг Кьяртансдоттир и Тельма Рагнарссон, так что он в этой удалой компании, в свои тридцать пять, был самый старший.
И он решил прибрать Мтавинамуарви к рукам.
«М. — вторая планета в двойной системе Нахаротху. Центральное светило Нахаротху-Прим — звезда-карлик спектрального класса К5р, радиусом около 550 тыс. км, имеет звезду-спутник Нахаротху-Бис, карлик спектрального класса G4, обращается вокруг центрального светила по орбите с эксцентриситетом 0,32 и большой полуосью около 3,5 миллиарда километров. Всего в системе Нахаротху обнаружено три планеты, из которых только М. перспективна для дальнейших исследований. Расстояние системы Нахаротху от Солнца 94 парсека. Экваториальный радиус М. — примерно 7500 км, то есть существенно превышает земной. В то же время ускорение силы тяжести на поверхности составляет примерно 9,9-10 м/сек2 и вполне соизмеримо с земным. Возможно, это обусловлено преобладанием легких пород в литосфере или наличием в ней обширных пустот. Среднее расстояние М. от Нахаротху-Прим составляет около 300 миллионов километров, период обращения вокруг центрального светила — 1,41 земного года, местные сутки примерно равны 1,8 земных. Экватор М. наклонен к плоскости орбиты на 31°. Климатические отличия времен года не исследовались. Открытые водоемы, по-видимому, отсутствуют. Поверхность планеты представляет собой каменистую равнину со сглаженным рельефом. Наблюдаются значительные пространства, покрытые песчаными массами черного и серого цвета. В экваториальной области заметны внушительные понижения рельефа, что может указывать на существование в прошлом океанов. В полярных областях зафиксированы аномальные участки красновато-бурого и синего цветов — возможно, зоны сохранившейся растительности либо выходы мантийных пород. Атмосферное давление у поверхности планеты составляет примерно 750–800 гПа, то есть три четверти от земного. В состав газовой оболочки входят азот (85 %), кислород (14 %), некоторые инертные газы, что делает ее формально приемлемой для жизнедеятельности организмов земного типа. Наличие углекислого газа и водных паров не зафиксировано. Облачный покров практически отсутствует. Температура воздуха в зоне высадки составляла 290–294°К в светлое время суток и 260–265°К в темное время суток. Биосфера, по-видимому, скудна и пребывает в угнетенном суровыми природными условиями состоянии. Сколько-нибудь крупных животных или растительных форм не наблюдалось. В зоне высадки микроорганизмы обнаружены не были. В то же время полностью исключать существование жизни на М. не представляется возможным по нижеперечисленным обстоятельствам. Рельеф сохраняет следы длительного и масштабного терраформинга. Самое поверхностное зондирование сообщает о повсеместном присутствии металлосодержащих объектов искусственного происхождения. Наблюдаются следы высокоразвитой материальной культуры в виде сильно разрушенных архитектурных строений и артефактов неустановленного назначения. Так, в непосредственной близости от зоны высадки находятся объекты „Цирк великанов“, „Храм мертвой богини“ и „Призрачная магистраль“. Краткое описание и графические материалы прилагаются. Углубленное исследование не проводилось. Предварительные выводы таковы: в результате постепенного, по-видимому — техногенного снижения защитных свойств газовой оболочки биосфера М. постепенно деградировала, что повлекло за собой гибель всей цивилизации, по непонятным причинам не предпринявшей никаких явных попыток эмиграции. Поскольку М. никогда не являлась членом Галактического Братства, в архивах последнего нет никаких сведений об исчезнувшей культуре. По меньшей мере вот уже три-пять тысяч земных лет М. совершенно необитаема»…
Он выучил эти строки из «Брэнди-Грума» наизусть.
В 133 году, в первых числах декабря крофт-группа Акселя Скре высадилась на самом большом континенте, в непосредственной близости от группы полуразрушенных строений, обозначенной эдантайкарами как «Храм мертвой богини». Необычно сильная эрозия стен никого не насторожила, а зря… Разбив временный лагерь и, по своему обыкновению, не озаботившись мерами простой предосторожности, в тот же день все пятеро вошли в развалины. «Храм», являвший собой рухнувшие своды циклопической базилики, оказался надстройкой над входом в катакомбы. Нагрузившись всеми наличными маяками и сканерами, обвешавшись «Люциферами», группа разделилась: подбадриваемые словами руководителя «Здесь нет ни одного живого микроба со времен Тутанхамона!» Инги и Гуннар отправились в центральный туннель, сам Аксель двинулся налево, Эйнар и Тельма — направо, а Стаффан остался поддерживать связь. Вскоре выяснилось, что правая ветка наглухо завалена и абсолютно непроходима без тяжелой техники, и Эйнар с Тельмой вернулись к Стаффану дожидаться остальных. За шуточками и прибауточками внезапно обнаружилось, что связи с ушедшими в катакомбы нет. Не в правилах крофтов очертя голову кидаться на выручку… Спустя три чрезвычайно нервных часа из центрального туннеля вдруг появился Аксель в состоянии крайнего возбуждения. На вопрос, что с Инги и Гуннаром, он невнятно ответил: «Кажется, мы нашли то, что искали…», единым духом выпил половину кофейника и кинулся обратно в туннель.
Прождав еще пять часов, Эйнар и Стаффан покинули бьющуюся в истерике Тельму и по маякам двинулись на поиски пропавших коллег. Дойдя до последнего действовавшего маяка, они приняли единственно верное решение — повернули назад.
На этом крофт-авантюра заканчивается, и начинается робинзонада.
Потому что, пока лихие искатели приключений на свои головы рыскали по подземным лабиринтам, их «корморан» обратился в решето.
Известно, что атмосфера на Мтавинамуарви крайне разрежена. В том, что утрата планетой солидной газовой оболочки стала причиной гибели цивилизации, горе-робинзоны убедились сразу же.
Здесь не было ни снега, ни града, ни дождей. Только метеорные потоки. Они сыпались на поверхность планеты с завидной регулярностью, как по расписанию. Крупных камней практически не было — мелкая космическая щебенка. Зато ее было много. На Земле с ее трехсоткилометровым газовым одеялом все это сгодилось бы лишь для загадывания желаний. На Мтавинамуарви же звездные дожди несли смерть и разрушение.
Трое несчастных крофтов остались в чужом мертвом мире практически голыми. Без корабля, без связи, без надежды на спасение…
О всяком другом корабле Федерации в точке вылета известно практически все. И пункт назначения, и примерное время прибытия, и контрольное время подтверждения благополучного завершения рейса. Если такого подтверждения не последует, корабль сразу начинают искать. Корабль — не иголка в стоге сена, он гораздо мельче, он — пылинка в океане мироздания. Но поскольку обычно он оснащен компактным гравипульсационным маяком, есть хороший шанс такую пылинку все же отыскать.
Крофты же, заполучив транспорт, первым долгом избавлялись от всего, что позволяло отслеживать их передвижения по Галактике. Это была цена свободного поиска.
Часто ее приходилось платить.
Мтавинамуарви была непригодна для жизни людей. Ни нормального воздуха, ни воды. И, разумеется, никакой биомассы — ничего, что могло бы послужить сырьем для переработки в воздух и воду, а также пищу.
Когда двое здоровых парней ударились в слезы и крик, Тельма Рагнарссон удивительным образом, словно бы в пику им, успокоилась. Надавала коллегам оплеух по закрытым гермошлемам, выругала всеми известными ругательствами, выбирая наиболее унизительные, и потребовала сохранять человеческое достоинство. Не сразу, но это подействовало. Возможно, решающим аргументом стало то обстоятельство, что единственный предмет, способный претендовать на роль оружия, портативный фотонный бур, оказался у Тельмы на поясе. Хлюпая носами и огрызаясь, крофты вернулись на раздолбанный корабль, чтобы забрать с него все запасы и работающее оборудование. Удалось сделать несколько рейсов, а потом наступили сумерки, слабо отличимые от дня, и выпал очередной метеорный дождь.
Первая ночь в «Храме мертвой богини» была бессонной. Стаффан беспрестанно ныл, Эйнар ему угрожал, а Тельма вслушивалась в ватную тишину, втайне надеясь, что вот сейчас из темноты катакомб вдруг появится Аксель Скре с остальными крофтами, всё за всех решит, как это всегда и бывало, и неприятности на этом закончатся.
Но никто не пришел.
Когда над горизонтом поднялись оба солнца этого мира, едва живые от страхов и переживаний крофты спустились в центральный туннель. Что они рассчитывали там найти, было неясно никому, но их панический порыв был самым неожиданным образом вознагражден.
На полукилометровой глубине они нашли Убежище.
Совершенно изолированный и специально укрепленный грот, с прекрасно сохранившимися колоннами, с идеально ровным полом, покрытым слоем тысячелетней пыли, а самое главное — с огромным искусственным водоемом, полным кристально чистой влаги. Была ли то привычная аш-два-о или какой-то совершенно неудобоваримый ее местный эквивалент, в ту минуту никого не беспокоило. Первые же тесты показали: не соляная кислота, ну и ладно. Эйнар тут же зарядил дозу жидкости в интермолекулярный суффектор, в просторечии «пищеблок», трясущимся пальцем набрал код и получил бутерброд с жареной сосиской.
Кто еще после этого станет отрицать, что дуракам везет?!
Наверное, мтавины строили Убежище для себя, когда поверхность планеты стала похожа на артиллерийский полигон, но по каким-то причинам не довели дело до конца. То ли не успели, то ли бросили на полдороге, углубившись в самые недра. Если Аксель, говоря «мы нашли то, что искали», имел в виду эти голые каменные стены, то он сильно преувеличивал их ценность для земной науки и культуры. Зато для троих робинзонов в те часы ничто не имело большей цены.
Следующие тесты сообщили, что плотность атмосферы в Убежище существенно превышает ту, что на поверхности, и состав ее пригоден для дыхания. Деятельный Эйнар, несмотря на предостережения, тотчас же избавился от гермошлема, сделал два глубоких вдоха и свалился без чувств. Пока Тельма и хныкающий Стаффан суетились вокруг пищеблока, переводя его в режим фармакогенеза, Эйнар очнулся, сел и понес какую-то чушь. Он выглядел так, словно влил в себя поллитра текилы за один присест. Поднялся, идиотски хихикая и пытаясь что-то неповинующимся языком донести до оторопевших товарищей, сделал несколько неверных шагов, рухнул и захрапел. Он был жив, относительно здоров и совершенно невменяем.
Но, проснувшись спустя три часа, вел себя адекватно и смог сообщить свои первые впечатления от атмосферы Мта-винамуарви.
Во-первых, она оставалась довольно разреженной, что вызывало гипоксию и ослабляло сопротивляемость организма. Во-вторых, один из ее компонентов оказался наркотическим анальгетиком, каким — неизвестно, и действовал на человека как чрезмерная доза выпивки, то есть буквально валил с ног. Пока пострадавший лежал в отключке, его метаболизм экстренно адаптировался к новым условиям существования и, судя по Эйнару, успешно. Хотя головные боли преследовали всех довольно долго.
«И стали они жить-поживать да добра наживать…»
Сколько лет сидел Робинзон Крузо на своем необитаемом острове? Двадцать восемь лет, как пишет Даниэль Дефо. Райский уголок в теплом океане, пальмы, козы, попугаи — биомасса во всех мыслимых формах… Реальный матрос Селкерк просидел на реальном острове Хуан Фернандес четыре года и едва не спятил от одиночества. Их бы всех на Мтавинамуарви, в холод и тьму, в редкий, напитанный отравой воздух, в глухие скафандры!.. Из новейшей истории: не менее реальный звездоход по фамилии Панин провел на запретной планете Царица Савская никак не меньше восьми лет. Но у него была крыша над головой — неповрежденная обшивка корабля типа «блимп». И, со всеми оговорками, Царица Савская все же относилась к «голубому ряду»…
Так что ни в какое сравнение с пятнадцатью годами трех крофтов-неудачников это не шло.
Пятнадцать лет! Столько времени прожили двое мужчин и одна женщина в «Храме мертвой богини». Совершая короткие вылазки на негостеприимную поверхность погибшего мира. Без большой охоты обследуя самые ближние ходы катакомб — и то лишь в условиях прямой видимости. Согреваясь жаром собственных тел, светом от «Люциферов» и слабым теплом от вынесенных с корабля аккумуляторов. Коротая дни и ночи в домике, что был сложен из съемных панелей обшивки и наполнен всем, что хотя бы отчасти напоминало мебель и создавало видимость комфорта. Уже через месяц они перестали браниться и клясть судьбу. Через год прекратили ждать помощи из Внешнего Мира. Чуть позже всем начало казаться, что они всегда были здесь, никогда не знали прежней жизни, и что здесь им самое место.
Они мало разговаривали между собой и вовсе не обращались друг к дружке по имени. Все кристаллы к бортовому мемографу были выучены наизусть. Все истории были рассказаны. Все песни были спеты. Анекдоты уже не смешили, а новые на ум не шли. Как-то Тельма застала Эйнара сидящим на берегу водоема, с застывшим, обращенным внутрь себя взором. «М-мм?» — спросила она. «Забыл», — сказал Эйнар. «Что?» — «Фамилию свою забыл». Тельма расхохоталась… и вдруг осеклась. Она вдруг обнаружила, что не помнит, как зовут ее родителей.
Тельма схватила Эйнара за плечи и встряхнула изо всех слабых сил. «Ты Эйнар Стокке! — заорала она. — Ты чертов потомок викингов! Ты родился в Шепсхамне, на острове Остен, на берегу Ботнического залива! Это на Земле! Там наш дом и наши семьи! А здесь мы временно! Временно!..» На ее крики прибежал Стаффан, по своему обыкновению хныкая и причитая, «Прекрати, — сказала ему Тельма. — Ты Стаффан Линдфорс, родился черт знает где на Земле, и ты, засранец, потомок викингов. Викинги не хнычут». — «Что ты хочешь?» — спросил потомок викингов, утирая сопли. «Я хочу, чтобы кто-нибудь сказал мне, как зовут моих отца и мать, — объявила Тельма. — А еще хочу вернуться домой нормальной женщиной, а не беспамятной обезьяной». — «Ты Тельма Рагнарссон, — ошалело произнес Эйнар. — Родилась во Фьелландете, а неподалеку течет Индальсельвен. И ты никогда не говорила, как зовут твоих родителей, потому что никто специально и не спрашивал». — «Отто, — вдруг сказал Стаффан. — Это что касается твоего папы. А маму, кажется, Анника… или Аннетта». — «Антония! — воскликнула Тельма и поцеловала Стаффана в вечно красный от холода и переживаний нос. — Мою маму зовут Антония!» Потом она крепко взяла Стаффана за руку, но прежде обратилась к глупо ухмыляющемуся Эйнару и строго приказала: «Будь здесь, в дом пока не заходи». Тот пожал плечами. Что ему было за дело до их развлечений в доме? Ему хватало своих забот: уж очень захотелось вдруг перебрать в памяти названия улочек Шепсхамна и имена соседей, друзей и той девочки, которой он, двенадцатилетний лоботряс, одуревший от первой влюбленности, кидал в окошко целые кусты тюльпанов, вырванные вместе с корнями.
Отныне в размеренном, почти механическом существовании маленькой человеческой колонии наступили перемены. Если раньше эти трое коротали время, не имея возможности — да и стремления! — занять себя делом, то теперь они приступили к выживанию. Перед ними во всей красе встала грандиозная задача — сохранить человеческий облик. Это значило: сохранить память.
Они усаживались вокруг снятого с корабля термоэлемента, похожего на лампу Аладдина, и начинали вспоминать. Имена родителей, братьев, сестер, друзей, названия улиц городов, где родились, где росли и учились, где бывали хотя бы раз. Иногда с Земли переходили на планеты, куда заносила их нелегкая. Тайкуна с его закоулками и сомнительными заведениями им хватило на полгода. На Эльдорадо ушло четыре месяца. Титанум, где бывал только Стаффан, был освоен за три недели. И снова их память возвращалась к Земле. Шепсхамн, Фьелландет, Умео, Стокгольм… Эйнар обронил, что почти неделю болтался в Рио посреди самого карнавального разгула. Его заставили вспомнить все, до мельчайших деталей: и как была одета — точнее, раздета! — королева карнавала, и как звучала самая популярная самба, и даже как звали всех девушек, что делили с ним пляжные лежаки той счастливой поры. Стаффан когда-то провел на Пангелосе четыре часа и, разумеется, не подстрелил ни единого циклопа, но рассказывал об этом приключении трое суток. Тельма, поначалу конфузясь, а потом добавляя в свое повествование все больше и больше юмора, поделилась своими воспоминаниями о жизни в колонии Детей Радуги под Эйтхорном.
Во время одного такого сеанса воспоминаний Тельма и объявила о том, что ждет ребенка.
«Шуточки у тебя…» — проворчал было Эйнар, но вгляделся попристальнее в бледное и решительное лицо подруги и понял, что она не шутит. «Послушай, — сказал он. — Зачем здесь ребенок? По-моему, достаточно того, что мы трое мучимся». — «А нельзя ли от него избавиться?» — осторожно спросил Стаффан. «Можно, — сказала Тельма. — Если убить меня». — «Дура! Подлая, эгоистичная дура! — закричал Эйнар. — Как ты могла так поступить?!» Поначалу Тельма решила, что он переживает из-за себя, и уже прицелилась вцепиться ему ногтями в широкую бородатую физиономию, но потом вдруг поняла: он думает о том, как же ребенок будет расти здесь, в «Храме мертвой богини», в проклятом каменном мешке, в вечных холодных сумерках, дышать отравленным воздухом, каждый день видеть одни и те же лица и ничего не знать о Внешнем Мире, кроме чужих воспоминаний. «Вот зачем ты все это затеяла…» — сказал Эйнар и ушел в темноту катакомб. «Мы его никогда не увидим?» — спросил Стаффан и снова приправился заплакать. «Я должна родить этого ребенка, — промолвила Тельма упрямо. — Он спасет нас».
Трудно сказать, что подвигло ее на этот рискованный шаг. Но уж никак не здравый смысл. Кто может сохранить благоразумие, проведя столько дней в наркотическом угаре? Скорее всего, это была отчаянная попытка наполнить их растительное существование хоть каким-то смыслом.
Эйнар не потерялся. Он вернулся, когда наступила ночь, притащил с корабля еще один термоэлемент и целый мешок побитого оборудования. «Утром начнешь восстанавливать сигнал-пульсатор», — сказал он Стаффану. «Я ничего в этом не понимаю», — фыркнул тот. «Ерунда, научишься. Кем ты был до того, как попасть в крофт-группу Акселя?» — «Механиком погодных установок…» — «Значит, все в порядке». — «А ты не хочешь этим заняться?» — «Я был ихтиологом, специалистом по карпообразным. У меня мозги не так устроены» — «А Тельма?» — «У нее настают другие заботы, болван…»
…День, когда ребенок появился на свет, стал сущим кошмаром для всех. Никто из троих не был медиком и, соответственно, никогда не принимал роды в полевых условиях. Процессом руководила сама Тельма, напичкавшая себя обезболивающими — хотя сама атмосфера Убежища и без того была сильным анальгетиком и притупляла болевые ощущения. Спустя три часа бестолковой суеты, с перерывами на обед, родилась девочка. «Почему она молчит?» — обеспокоенно спросил Стаффан. «Ее нужно шлепнуть по попке, — сказала Тельма. — Я где-то читала…» Эйнар тотчас же отвесил младенцу звонкий шлепок. «Что ты делаешь, горилла чертова?! — завопила Тельма. — Ты убьешь ее!» Но малышка молчала. Лишь после пятой попытки она подала голосок. «На, получи, — буркнул Эйнар. — Орет, как оглашенная. Что ты теперь с ней станешь делать?» — «Кормить грудью, — сказала Тельма. — А вы, два долдона, принесите побольше теплой воды». Обескураженные крофты отправились выполнять. Когда они вернулись, то обнаружили, что Тельма спит, прижав девочку к обнаженной груди. «Самая несообразная мадонна, какую я только видел в жизни», — пробормотал Эйнар. «Ей нужно дать имя, — вдруг сказал Стаффан. — У тебя есть какие-то мысли?» Эйнар треснул себя по лбу. «Ни хрена здесь нет вот уже два года, да и раньше избытка не наблюдалось», — проворчал он. Тельма тотчас же пробудилась. «Что вы тут рассуждаете, — усмехнулась она. — Ее зовут Антония. Антония Стокке-Линдфорс». — «Круто, — сказал Стаффан. — Но не слишком ли… длинно?» — «Не слишком. Хотя бы потому, что я не знаю точно, кто из вас, дурней, ее отец. А имя, уж не обессудьте, по ее бабушке со стороны матери». — «Полагается бы со стороны отца», — неуверенно заметил Стаффан. «Которого? — фыркнула Тельма. — Будет так, как я сказала. А теперь уходите оба, дайте мне отдохнуть…»
Если Тельма и собиралась наполнить чью-то жизнь смыслом, то добилась этого лишь применительно к себе. Двое здоровых мужиков оказались полностью не у дел. Быть на побегушках у кормящей матери, да еще со скверным характером, — не повод для оптимизма. Тем более, что никто из них до конца не сознавал себя отцом маленькой Антонии, Возможно, где-то в подсознании каждый пытался переложить родительскую ответственность на другого. Брюзжа и огрызаясь, они принимали посильное участие в пестовании девочки. Эйнар как умел кроил для нее одежки из всего хотя бы отдаленно напоминавшего ткань и сваривал их ультразвуковой насадкой. Стаффан в перерывах между возней с сигнал-пульсатором мастерил немудрящие игрушки. Тельма, и без того не самая ласковая из женщин, понемногу превращалась в деспотичную мегеру. Материнская ноша и для нее оказалась чересчур гнетущей. И только Антония, которая большую часть своего времени проводила во сне, выглядела умиротворенной и всем довольной.
Это даже настораживало.
«Я слышал, грудные дети часто плачут», — робко замечал Стаффан. — «Вот и будь благодарен, что она молчит, — огрызалась Тельма. — Иначе мы с ума бы посходили от детского крика». — «Мы и без того уже сошли с ума, — печально откликался Эйнар. — Этот каменный гроб — негодящее место для младенца. А если она заболеет?» — «С какой стати ей болеть?!» — кипятилась Тельма. «А если она… умрет?!» — «Тогда и нам незачем жить…»
Антония росла очень маленькой, худой и бледной. На ножки она встала на тринадцатом месяце, а первое слово произнесла года в полтора. Правда, никто не разобрал, что она сказала, хотя Тельма уверяла, что это было слово «мама». «Это неправильно, — твердил Стаффан, когда Тельма не слышала. — С ней что-то нехорошо». — «Что с ней может быть хорошего в этом поганом месте? — пожимал плечами Эйнар. — Удивительно, что она вообще живет, ходит и разговаривает…» Эти тайные беседы заканчивались однообразно. «Я надеюсь только на тебя, — говорил Эйнар. — Если ты починишь сигнал-пульсатор, мы позовем на помощь и выберемся отсюда. И этот бред наконец прекратится». Стаффан не отвечал. Он-то совершенно точно знал, что из его затеи ничего не выйдет. Невозможно построить гравигенный двигатель каменным топором, хотя бы и прекрасно обработанным и из отменного кремня.
Тельма все время проводила с дочуркой, не отпуская ее ни на шаг и почти не обращая внимания на бывших собратьев-крофтов. Она запустила волосы, забывала умываться и стала похожа на ведьму. Поэтому и сказки, которые она рассказывала Антонии, по преимуществу были мрачноватые. Быть может, другие в ее памяти попросту не сохранились… Когда она засыпала — а, на счастье, спала она почти все время, — Антония убегала на мужскую половину домика. Молча садилась и смотрела запавшими глазенками на разложенные перед Стаффаном детали и схемы. «Может, подскажешь?» — шутил тот. Девочка не отвечала, а улыбка ее скорее напоминала гримасу маленького тролля.
Эйнар же Антонию явно недолюбливал. Сторонился, уходил из дома и слонялся в одиночестве по другую сторону водоема. Он начал сдавать и уже слабо напоминал прежнего здоровяка. Однажды он сказал Стаффану на ухо: «Помяни мое слово, эта девчонка убьет нас всех». — «Что ты несешь?!» — «Она родилась неспроста. Да еще в таком месте… Помнишь, как оно называется? Мертвая богиня… Здесь полно призраков, и один из них, кажется, нашел себе тело. Погляди, она и на человека-то не похожа. Это маленький монстр. Но он вырастет… вырастет… и тогда…» Тут он увидел Антонию, ковыляющую к нему, и закричал в ужасе: «Не подходи!» Антония замерла на пороге с ничего не выражающим личиком, но тут в дом ворвалась Тельма — волосы дыбом, глаза горят, рот перекошен! — и набросилась на Эйнара. «Вы все сошли с ума!» — завопил Стаффан и плеснул в сцепившихся кипятком из кофейника.
Эйнар ушел из дома в катакомбы. «И не вздумай вернуться!» — орала ему вслед Тельма. Потом схватила дочку в охапку и унесла к себе в гнездо. Ее половина и впрямь больше смахивала на птичье гнездо, нежели на человечье жилье. Скомканное тряпье, обрывки пластика, какие-то торчащие прутья… Когда Эйнар не появился к ужину, Стаффан превозмог страх, взял «люцифер» и отправился на поиски.
Он нашел приятеля лежащим ничком у самого дальнего маяка, оставленного еще Акселем Скре. Маяк давно разрядился и не работал. «Эй, викинг», — тихонько позвал Стаффан и перевернул Эйнара на спину. И увидел, что тот умер.
Стаффан вернулся в лагерь и долго сидел над недостроенным сигнал-пульсатором, который ни на что не годился. Когда утром к нему заглянула Тельма, Стаффан спокойно сказал ей: «Это ты убила его, проклятая сука». Тельма так же спокойно ответила: «Дитя не должно его видеть». — «Ты и меня убьешь, как его?» — спросил Стаффан. «Только если ты напугаешь ребенка…»
После случившегося они почти перестали видеться. И только Антония еще как-то связывала их. С каждым днем, с каждым годом она все больше времени проводила возле Стаффана, следя за его попытками немигающим совиным взглядом. Когда она говорила, ее голос походил на скрежет металла. Что-то не так было с ее голосовыми связками в разреженном воздухе. Что-то не так было с ее метаболизмом — она могла пить воду из водоема, хотя это была не земная вода, и не болела — она вообще ничем не болела. Что-то не так было с ее кожей и костями, что-то не так было с ее разумом…»Зесь осыбка», — сказала она как-то и ткнула пальчиком в усилитель первого контура. «Ошибка?» — переспросил Стаффан, бледно улыбаясь «Угу… не фатает детайки…» Стаффан повертел усилитель в руках. В нем действительно не было одного чипа. Именно его отсутствие и превращало весь блок в никчемный хлам. И взять ее было неоткуда. «П'дем, — вдруг сказала Антония. — Я показу». Ничему не удивляясь, Стаффан натянул перепачканный и давно утративший форму скафандр, Антония влезла в комбинезон, когда-то принадлежавший Эйнару и подогнанный под ее размер. Они вышли на поверхность планеты. Только что прошел звездный дождь, теперь планета подставляла ему другой бок — на горизонте полыхало. Они побрели по изрытому песку на «корморан» — на его нелепые обломки. Антония бежала впереди, неуклюже подпрыгивая и размахивая тонкими паучьими лапками. Ей было весело. «Маленький монстр», — вдруг вспомнил Стаффан. Неужели Эйнар был прав?!
На корабле она сразу привела Стаффана в раскуроченный командный пост и показала на панель давно мертвого когитра. «Это не годится», — с сомнением покачал головой Стаффан. «Г'диття!» — возразила Антония и запрыгала вокруг него на одной ножке. Стаффан снял панель и заглянул внутрь. Он сразу увидел то, чего не хватало в усилителе. В конце концов, и когитр и сигнал-пульсатор имели общую элементную базу…»Как ты узнала?» — «С'ема, с'ема, с'ема…» — напевала Антония скрипучим голоском. Когда они вернулись, Стаффан попытался изучить схему когитра, что за ненадобностью обычно валялась в сторонке. И ничего не понял. Зато теперь у него был вполне работоспособный усилитель первого контура. Оставалось привести в действие еще триста с лишним таких же блоков.
Иногда вместе с Антонией к Стаффану являлась и Тельма. Тогда он бросал все и садился в дальнем углу, отвернувшись к стене. «Я не убивала Эйнара, — говорила Тельма. — Я не убивала…» Повторив эти слова, словно заклинание, раз двадцать, она уползала в свое гнездо.
День за днем, год за годом…
Для Стаффана и Тельмы счет времени был давно и безнадежно потерян.
Но не для Антонии.
«Что это ты рисуешь?» — спросил как-то Стаффан. Антония была занята тем, что сидела на полу хибарки и чертила изработанным стилом на куске белого пластика замысловатую таблицу. «Это самое… календарь», — проскрипела она. Стаффан отложил свои побрякушки в сторону. «Объясни», — сказал он. Антония объяснила. «Еще раз», — попросил Стаффан, помотав головой. Антония недовольно зашипела и повторила. «Откуда ты взяла астрометрические данные?» — «От мамы Тельмы… и от себя». — «Что значит — от себя?!» Выяснилось, что уже не раз и не два Антония тайком от взрослых выбиралась из Убежища и наблюдала за движением двух светил и сменой дня и ночи этого мира. Что она, пользуясь тельминым хронометром, рассчитала период обращения Мтавинамуарви вокруг своей оси и суточные изменения продолжительности дня и ночи, экстраполировала эти данные и получила продолжительность местного года. А затем разбила полученные двести восемьдесят пять дней на десять месяцев по двадцать восемь дней, оставив избыточные пять дней на Рождество. «А ты знаешь, что такое Рождество?» — «Елка… индюшка… Санта-Клаус… а, не знаю». — «И подарки в чулках». — «Что такое чулок? Подарок?» Стаффан как сумел объяснил. «Что бы ты хотела в подарок?» — спросил он, ожидая услышать обычную детскую чепуху. «Мемоселектор с когитром шестого класса», — ответила Антония не задумываясь. «Когитров шестого класса не существует», — пробормотал потрясенный Стаффан. «А вот и существует! — проскрежетала Антония. — В Центре макроэкономического моделирования! Целых двенадцать! Модель „Декарт Анлимитед“, вот!» — «Что ты смотришь на нашем мемографе?» — спросил Стаффан. Антония показала ему замызганный от частого употребления кристаллик в затертой оправке. «Математическая мегаэнциклопедия» — прочел Стаффан. «Сколько будет двенадцать факториал?» — спросил он наобум. «А фиг знает, — беспечно отвечал маленький монстр. — Но я могу посчитать!»
Антония действительно могла. В компании медленно и неотвратимо сходившей с ума Тельмы и запуганного, молчаливого Стаффана она утоляла свой детский сенсорный голод всем, что нашлось в убогой кристаллотеке. Репертуар был нерядовой. Помимо «Математической мегаэнциклопедии», имели место: неопределенной уже давности «Галактический вестник с приложениями», «Брэндивайн-Грумбридж», чья-то библиотечка древних детективов (немного Конан Дойля, Честертон, Кристи, Мальдонадо и непременные Валё и Шевалл) и «Непреходящая радость секса» неизвестного автора. Все это она выучила наизусть, детективы обильно и не всегда к месту цитировала, по «непреходящей радости» задавала наивные вопросы и охотно довольствовалась уклончивыми ответами, осознанно же использовала только математический аппарат. Тельма, давно уже оставившая попытки сохранить память и человеческий облик, выходившая из вечного своего полусонного ступора только затем, чтобы поесть и отправить естественные надобности, сказала Стаффану: «Мне кажется, моя девочка шляется по катакомбам, как по родному дому». Стаффан не поверил, списав все на больное воображение Тельмы. Но вскоре и сам заметил, что Антония появляется за его спиной чаще со стороны центрального туннеля, чем с женской половины. «Ты права, — сказал он Тельме. — Что мы можем с этим сделать?» — «Она не должна найти Эйнара», — сказала Тельма. «Если только уже не нашла…» С этого часа Стаффан стал относиться к Антонии с еще большей опаской. Ему стоило немалых усилий спросить девочку: «Ты ходишь по катакомбам?» — «Угу». — «И… ты видела что-нибудь необычное? Пугающее?» — «Не-а». — «А других людей… как меня и маму?» — «Не-а». — «Может быть, какие-то непонятные предметы?» — «Угу». Иного добиться он не смог. Ночью, когда на женской половине затихли, Стаффан, лязгая зубами от холода и страха, отправился по известному ему маршруту — к последнему маяку…
Тела Эйнара там не было.
Услышав за спиной слабый шорох, Стаффан едва не умер на том же месте, что и его друг. Обернулся. Прыгающий лучик «люцифера» выхватил из темноты белое, как бумага, лицо и огромные запавшие глаза… У Стаффана не достало сил даже на крик ужаса.
«Ты тоже ходишь по катакомбам», — укоризненно проскрипела Антония. Стаффан молчал. В полном оцепенении он ждал, что сейчас она прыгнет на него, как фантастический зверь, и вопьется в горло, чтобы выпить кровь и похитить бессмертную душу… «Пойдем», — сказала она. «К-куда?..» — «Я покажу».
Маленькое чудовище вприпрыжку двигалось впереди, а он, немалого роста и нехилого сложения, заросший волосами мужик, тащился следом на подсекающихся ногах. Они миновали последний маяк, миновали какие-то мрачные пустоты, откуда доносилось мерзкое хлюпанье и проистекало невыносимое зловоние, несколько раз свернули в боковые ходы…»Вот», — сказала Антония. «Что это?» — «А фиг знает!..»
Посреди огромного, безупречно круглого грота громоздились и переплетались самые невообразимые агрегаты и механизмы. Словно здесь произошла последняя битва всех машин этого мира… Неизвестный металл, сумевший выдержать тысячи и тысячи лет без ущерба, сиял мертвенной синевой в дрожащем свете «люцифера».
«Смотри», — сказала Антония, показывая перед собой. Среди решетчатых ферм и тугих спиралей Стаффан увидел полуистлевшие кости. «Ты же говорила, что не видела никого… как я или мама…» — «Угу. Разве это похоже на тебя или маму?» И Антония носком самодельного сапожка выкатила из-под скучившегося металлолома большой сплюснутый с боков череп с тремя глазницами. «И это непохоже», — продолжала она беспечно. Стаффан проследил за ее рукой. У стены лицом вниз, выбросив перед собой руки со скрюченными пальцами, лежал человек в таком же скафандре, как и на нем.
Наверное, следовало бы подойти и узнать, кто это был…
«Хорошо, — сказал Стаффан неповинующимися губами; — Ты показала мне все, что я хотел видеть…» — «Не все», — возразила Антония, «… а теперь давай вернемся к маме. Ты найдешь обратную дорогу?» — «Угу».
Когда Антония свернулась калачиком в уголке родительского гнезда и уснула, Стаффан растолкал Тельму. «Аксель был прав!» — прошептал он ей на ухо, которое с трудом отыскал в свалявшихся космах. «Аксель… кто это?» — «Там, в центре катакомб, целое кладбище артефактов!» — «Иди к черту… оставь меня в покое… я хочу спать…» — «Ты все время спишь! Очнись, мы нашли то, зачем сюда прилетели!» Тельма открыла заплывшие глаза и внезапно спросила ясным, разумным голосом: «Что ты собираешься делать со своей находкой, дурачок?»
Это был крах.
Подобный исход был обычным делом для крофтов. Найти и умереть над выисканным… Но никому не верилось, что такое может произойти именно с ним.
Стаффан вернулся на свою половину, растоптал наполовину собранные блоки сигнал-пульсатора, попытался разорвать в клочья схемы, но особо прочный пластик не поддался его усилиям. Потом он перевел пищеблок в режим фармакогенеза и попытался изготовить слоновью дозу транквилизатора, выбрав самый сильнодействующий, какой только пришел на ум — «Бледная Луна». Но пищеблок оказался умнее и выдал только один шарик, после чего дальнейших заказов не принимал. «Хорошо же…» Стаффан не стал глотать снадобье, а решил за неделю накопить достаточное количество, чтобы легко и безболезненно покончить с никчемным бытием. Он искал, куда бы спрятать заветный шарик, когда вошла Антония и стала на пороге, разглядывая его взрослыми беззастенчивыми глазами. «Ты хочешь умереть», — сказала она. «С чего ты…» — «Не делай этого». Стаффан сел на краешек своего лежбища и опустил голову на руки. «Отчего же мне, по-твоему, не следует умереть? Я не хочу кончить так, как эти… в темноте. И не хочу стать таким, как твоя мама». — «Скоро за нами прилетят». — «Почему ты так решила, девочка?» — «Я читала. И считала». — «Ну, и?..» — «Звездным Патрулем постоянно выполняется плановая уточняющая инспекция по всем позициям „Каталога“ Брэндивайна-Грумбриджа. На инспекцию отводится двадцатилетний цикл. По моим расчетам, эти двадцать лет уже на исходе». — «Ты говоришь… как взрослая». — «Я говорю языком прочитанных книг. Другого языка у меня нет». Посидев еще несколько минут и не дождавшись продолжения, Стаффан улегся, и она приткнулась рядышком, как бывало иногда. «А если за нами не прилетят, — осторожно промолвил Стаффан, — ты позволишь мне уйти?» — «Прилетят», — проскрипела Антония сквозь дрему.
Тельма, между тем, утратила последние остатки интереса к жизни. Приближаться к ней, смотреть на нее, обонять исходящий от нее смрад было слишком тяжким испытанием для расшатанных нервов Стаффана. Она тихонько угасала не по дням, а по часам. Антония относилась к происходящему с матерью равнодушно, либо же не понимала, что с той творится.
Минуло еще какое-то время, и настал последний день.
Антония пришла к Стаффану и протянула ему обычный кристаллик от мемографа. «Что это?» — безучастно спросил Стаффан, который как лежал, так и не пошевелился при ее виде. «Мама уснула, — сказала Антония. — Я не могу ее добудиться». — «И не буди. Пусть ее…» — «Она просила передать тебе этот кристалл, когда больше не проснется». — «Забавно, — усмехнулся Стаффан, — я как раз хотел вручить тебе точно такой же. Вот, возьми». — «Что мне с ними делать?» — «Что обычно делают со скучными мемуарами? Кладут на полку, среди ненужных вещей». — «Тогда я пошла?» — «Иди, милая. Я тоже вздремну…» Когда Антония вышла из дома, Стаффан выгреб из укромного местечка в изголовье своей кровати пригоршню «Бледной Луны» и отправил в рот. «Я поступаю очень дурно, — подумал он. — Я оставляю девочку-подростка на произвол судьбы на чужой планете. Но я не хочу сейчас беспокоиться о ней. Может быть, она и вправду дождется прилета Патруля, в который я не верю. А я устал ждать…» И провалился в легкий сон без сновидений и без пробуждений, даже не успев додумать эту слишком долгую для него мысль.
Антония натянула комбинезон, надела маску, закутала лицо шарфом и поднялась на поверхность Мтавинамуарви. Она направлялась к кораблю в полной темноте, при свете одних лишь звезд, но ничего не боялась. Это был ее мир, где она родилась и провела все свое странное детство.
Поэтому человек в огромном незнакомом скафандре, вышедший из разгромленного «корморана», показался ей страшнее всего на свете.
Вопя во все горло, она кинулась прочь, но оступилась в метеоритной выбоине и упала. И только тогда увидела чужой корабль, что стоял, раскинув опоры, прямо за «кормораном». В следующий миг ее уже подхватили, поставили на ноги и попытались успокоить… хотя двенадцатилетняя девочка в комбинезоне не по размеру и не по погоде была самым последним, что патрульники ожидали найти на этой давно вымершей планете. (То, что на самом деле Антонии было четырнадцать с лишним, никому не пришло в голову.) «Послушай меня, — торопливо твердил ей гигант с лишенным растительности и потому отвратительно гладким зеленовато-бурым лицом, — послушай внимательно, соберись с мыслями и ответь: здесь есть еще живые взрослые?» — «Нет, — рассудительно и безжалостно ответила она, стараясь не глядеть в это ужасающее лицо, — осталась только я. Все спят…» — «Нам надо спешить, — сказал гигант. — Вот-вот снова посыплется эта пакость… На следующем витке мы высадимся здесь же и заберем твои вещи, идет?» — «Кто идет? Куда?!» Но ее уже тащили на патрульный корабль.
Арлан Бреннан, командор Звездного Патруля, невольно обманул Антонию. Он не вернулся на планету на следующем витке… Едва только девочку извлекли из грязного кокона, который заменял ей одежду, скафандр и дыхательную маску, как с ней начались конвульсии. Лицо, и без того бледное, сделалось голубым от удушья, горлом пошла пена. За считанные секунды Антония провалилась в глубокую кому. Бортовой медик в панике вогнал ей в вену два кубика гибернала, чтобы хоть как-то затормозить жизненные процессы. «Чем она там дышала? — орал он на ни в чем не повинного Бреннана. — Что за газовая смесь была у нее в скафандре?!» — «Какой, к дьяволу, скафандр? — отбивался Бреннан. — Она дышала атмосферным воздухом!» — «Так вот: в нашем воздухе она умирает! Она никогда им не дышала, ты понимаешь?!» — «Я не могу вернуть ее назад, — мрачно сказал Бреннан. — Мы только что ушли из-под самого паскудного метеорного дождя, который я в жизни видел…» — «Если мы в течение трех часов не доставим девочку на „Сирано“, она погибнет…» — «Доставим, — обещал Бреннан. — Доставим за полтора часа, хотя бы меня черти съели».
На галактическом стационаре «Сирано де Бержерак» Антония, больше похожая на китайскую фарфоровую куклу, оставалась в коме недолго. Уже вечером того же дня она угодила в руки реаниматологов, специально вызванных с Титанума, ближайшего мира Федерации. Ее поместили в герметический бокс, заполненный газовой смесью, сходной по составу с той, что всю жизнь окружала ее на Мтавинамуарви. Антония пришла в себя, хотя по-прежнему выглядела затравленным зверьком. Каждое новое лицо приводило ее в панику. Персонал стационара не сговариваясь окрестил ее «девочкой-Маугли», а какой-то острослов тут же переделал это прозвище в «мауглетку». Прибывший тем же рейсом детский психолог, однако же, сумел завоевать ее доверие — он носил пышную и не слишком опрятную светлую бороду. И он сделал правильные выводы: в первое время к «мауглетке» допускались только женщины и бородатые мужчины.;. Исключение было совершено для Бреннана. «Привет, — сказал тертый звездоход, волнуясь, как школяр. — Помнишь меня? Я выполнил свое обещание и вернулся на планету. Только, видишь ли, я не нашел место, где ты могла жить так долго. Ведь ты была там не одна?» Антония кивнула, отводя взгляд от жуткого лица. «Мы просмотрели твои кристаллики. С тобой должны были оставаться по меньшей мере двое взрослых. Что с ними?» — «Они уснули», — еле слышно ответила Антония. «Понятно, — ответил Бреннан, хотя на самом деле понимал крайне мало. — А ты можешь подсказать мне, как найти дорогу в твой дом? Или, еще лучше, нарисовать? Я принес тебе мемограф… ведь ты знаешь, как им пользоваться?» Антония кивнула, хотя новый мемограф никак не напоминал то, чем ей приходилось пользоваться в Убежище. Прибор скользнул внутрь узилища сквозь зашторенное изолирующим полем окошко. «Я подожду», — сказал Бреннан и уселся в кресле напротив прозрачной стены бокса. Антония рисовала, повернувшись к нему спиной. «У меня есть дочь, такая же, как ты, — промолвил Бреннан, чтобы хоть чем-то заполнить затянувшуюся паузу. — Она тоже любит рисовать. Ее зовут Анна-Матильда. Хочешь с ней познакомиться, когда поправишься?» — «Нет! — проскрежетала „мауглетка“. — Меня зовут Антония Стокке-Линдфорс, и я никогда не поправлюсь, потому что я и так здорова!» — «Конечно, ты в полном порядке…» — пробормотал обескураженный Бреннан. «Вот твой рисунок, — почти выкрикнула Антония и протолкнула мемограф через окошко. — Но ты все равно ничего не найдешь без, меня!»
Она была права. Ни Бреннан, ни его товарищи, ни один человек из числа сотрудников «Сирано» не смогли хоть как-то интерпретировать схему «Храма мертвой богини», выполненную в четырехмерной системе координат. Пришлось связаться с кафедрой полиметрической математики Сорбонны… Полученное заключение гласило: «Девочка феноменально талантлива, но над вами просто потешается. Прилагаемая схема имеет своей целью лишь запутать вас или направить по ложному пути…»
Спустя полтора месяца Антония Стокке-Линдфорс, чистенькая, коротко стриженая, упакованная в джинсовый костюмчик, почти полностью адаптировавшаяся к земному воздуху, почти избавившаяся от своих многочисленных фобий, почти здоровая по общечеловеческим нормам, летела в салоне грузопассажирского галатрампа на Землю. Это было ее первое сознательное космическое путешествие. Она натерла носик об иллюминатор, пытаясь хоть что-то разглядеть в кромешной темноте за бортом. «А до Мтавинамуарви отсюда далеко?» — спросила Антония сопровождавшую ее Риву Меркантини, сотрудницу Вселенского приюта святой Марии-Тифании. «Полагаю, очень далеко, милая», — ответила тифанитка. «Там остались мама Тельма и папа Стаффан, — сказала Антония. — Они спят. Но я вернусь за ними. Обязательно вернусь и разбужу». — «Конечно, дорогая», — сказала Рива, отметив про себя, что работавшие с Антонией психологи, утверждая, что-де «из-за критических ошибок воспитания в период первоначального формирования личности девочка определенно не способна питать к кому-либо чувства глубокой привязанности», явно заблуждались…
— Тебе так и не позволили вернуться домой? — спросил я.
— Сказали, что я еще маленькая, чтобы принимать такие решения.
— А… знакомая песенка.
— Я все равно вернусь.
— Ты думаешь, твои родители просто спят?
— Я уверена. Эти годы были для них непрерывным погружением в сон. В этом мире все спят. Просто одни уснули раньше, а другие позже.
— Ты хочешь сказать, что и Эйнар… и даже Аксель Скре и другие крофты…
— Ну конечно. Мтавины долго готовили свой мир к успению. Так они надеялись пережить глобальную катастрофу. Метеорные дожди были не всегда, и, возможно, однажды они прекратятся. Или мтавины надеялись на помощь извне.
— Им нужно было просить о помощи Галактическое Братство…
— Они не знали о Галактическом Братстве. Но теперь, когда их мир найден, они могут получить помощь.
— Ты говоришь так, будто сами мтавины тебе об этом рассказали.
— Почти так и было. Я гуляла по катакомбам и хорошо их изучила. И я нашла мтавинов.
— Шутишь!
— На глубине пяти километров… я считала свои шаги, среднюю скорость, геометрию «Храма»… в общем, тебе неинтересно… находится усыпальница. Там их тысячи и тысячи, возможно, даже миллионы. Бесчисленные ряды полупрозрачных капсул, светящихся изнутри. И лица, лица, лица…
— Как тот череп с тремя глазницами?
— Угу. Это, наверное, был кто-то из персонала усыпальницы, опоздавший к успению. Или не пожелавший такого финала. Да мало ли что… У них длинные безносые лица с маленькими ртами. Я не знаю, с чем сравнить. Например… например… есть такой земной зверь — лошадь.
— Впервые слышу, чтобы лошадь называли «зверем»!
— Если бы люди произошли от лошадей…
— …трехглазых и безносых…
— …они выглядели бы, как мтавины.
— Почему ты решила, что они спят, а не лежат там мертвые в каком-нибудь консервирующем газе?
— Я шла вдоль рядов капсул и вглядывалась в их лица, пытаясь угадать, о чем они могут думать. И у одного из них приоткрылся средний глаз.
— Тебе просто показалось!
— Мне ничего и никогда не кажется. У меня для этого слишком бедное воображение.
— Вот еще глупость!
— Поэтому я ничего не боюсь.
— Да уж… я бы умер от страха в этой подземной могиле!
— Однажды я спросила своего учителя, почему я не боюсь темноты, высоты, одиночества… всего того, что положено бояться нормальному человеку. Он сказал, что это от недостатка воображения.
— А кто твой учитель?
— Доктор Роберт Дельгадо… Он сказал: для меня все страхи — всего лишь бесплотные символы, я не наполняю их содержанием, заимствованным из реальной жизни. Потом, я выросла на страшных сказках мамы Тельмы… Но на самом деле, кое-чего я боялась.
— Чего же?
— Глупый эхайн! Я же рассказывала: незнакомых лиц. Четырнадцать лет я видела одни и те же лица — одно женское и одно очень бородатое мужское. Поэтому командор Бреннан показался мне страшнее всех чудовищ. Это был шок даже для моего небогатого воображения.
— А теперь?
— Теперь не боюсь. Мне даже забавно, что людей так много, куда больше, чем мтавинов в усыпальнице, и они такие разные. И что редко кто отпускает бороду.
— В особенности на детском острове. Антония осторожно погладила меня по щеке.
— Гладкий, — сказала она. — Чистый. Приятного цвета. Приятно пахнешь. Разве можно тебя бояться?
9. Учитель Кальдерон о любви
На скамейке под окном моего коттеджа сидел учитель Кальдерон и глядел на звезды.
Уж ночь покров свой собирает В прохладе сумрачных теней, И убегает боязливо От светлых солнечных лучей…[14] —сообщил он.
— Что?! — изумилась Антония, которой пристрастия моего наставника были в диковинку.
— Тита, — сказал учитель Кальдерон. — Не будешь ли ты настолько любезна…
— Я как раз собиралась немного поспать, — проскрипела она.
И нам пришлось наконец разомкнуть руки.
Учитель Кальдерон взял меня под локоть и перевел через улицу, туда, где под большим белым зонтом стояли пустующие столики. Он сел напротив меня, выстучал заказ (себе — горячий черный кофе, он всегда пил кофе на ночь и утверждал, что иначе не заснет, а мне — стакан молока, горячего, но в самую меру, с каким-то особенным пчелиным нектаром, а также очищенную свежую луковицу, уж он-то знал мои пристрастия!), а потом окинул меня своим обычным добрым взглядом и спросил, как всегда:
— Поговорим?
— О чем, учитель?
— О ней, друг мой, о Тите.
— Я бы не хотел…
— Понимаю. Но, Севито, тебе все равно придется выслушать меня, хотя бы потому, что я старше и я твой учитель.
Я смиренно сел напротив.
Любовь — художник, два в ней лика, Меня вы видите в одном, Я, кажется, вам нравлюсь в нем, Но, может быть, все будет дико, Когда увидите в другом,[15] —продекламировал он.
— Что означают ваши слова? — спросил я, мрачнея от предчувствий.
— Только одно, Севито. Я не намерен читать тебе нотации о том, что во время учебных экскурсий следует набираться полезных знаний и впечатлений. Я не желаю предостерегать тебя. Хотя бы потому, что ты непременно поступишь по-своему. В подобной ситуации я тоже пренебрег бы мнением старого, умудренного опытом учителя…
— Но? — уточнил я.
— Но! — с готовностью кивнул учитель Кальдерон. — Немного полезной информации тебе не помешает. Главное достоинство общения двух здравомыслящих мужчин состоит в его информационной насыщенности…
— Антония мне все о себе рассказала, — опередил я его.
— Ну разумеется. И все же, она не могла рассказать того, что, вполне возможно, находится за пределами ее восприятия. Проводя время в компании этой прелестной сеньориты, тебе не помешает держать в уме несколько фактов. Факт первый: то, что она рассказывала тебе, скорее всего, есть сущая правда. Вывод из первого факта: Тита производит впечатление чрезвычайно умной и рассудительной девочки и таковой, вне всякого сомнения, является. Но это не вся правда. На самом деле, ее психика чрезвычайно расшатана, ее личность деформирована неподходящей для развития средой, ее реакции не всегда адекватны. Подожди, не перебивай. Что бы тебе ни грезилось, Тита по-прежнему не до конца адаптирована к человеческому обществу, и в обозримом будущем вряд ли ситуация кардинально изменится. Девочка может искренне выдавать мнимое за действительное, но тебе не следует верить всякому ее слову.
«Вот прекрасно. Сущая правда… но не верь всякому слову!»
— Вы об этой истории с усыпальницей мтавинов?
— Понятия не имею, о чем ты. Я просто сообщаю тебе факты. Кстати, факт второй: Исла Инфантиль дель Эсте — не первый детский остров для Титы. И даже не третий. И, смею заверить, не последний. Это всего лишь промежуточный этап ее адаптации. Увы, речь идет скорее о привыкании Титы к земному климату, нежели к земному социуму. Вот уже почти два года Тита переезжает с северных детских островов в более жаркие широты, все ближе и ближе к конечной точке своего вояжа — детскому острову Тессеракт, где лучшие математики Федерации готовят себе коллег. Вывод из факта второго: она действительно гениальный математик и поэтому здесь не задержится. Мы не можем дать ей достойного образования и раскрыть ее таланты в полной мере. Мы можем лишь одарить ее своим жаром. Жаром солнца и жаром сердец.
— Но мы же сможем видеться…
— Разумеется. Если захотите. Потому что есть и факт третий: на всех детских островах Тита бурно влюблялась… или убеждала себя, что влюблялась… или делала вид… Но никто с тех островов еще не прилетал сюда повидаться с ней.
— Вывод, учитель?
— А сделать вывод, друг мой, я оставляю тебе.
— Что же мне, больше не подходить к ней?!
Учитель Кальдерон досадливо крякнул.
— Я не собираюсь тебя оттаскивать за уши от этой девицы! — слегка возвысил он голос — Много чести! Но и оставлять ученика в… гм… беспомощном состоянии недостойно учителя. Если я не волен влиять на твои поступки, то снабдить тебя полезной информацией — в моих силах. Ргаеmonitus praemunitus, что означает… — он выжидательно замолчал.
— Кто предупрежден, тот вооружен, — закончил я.
— Она нравится тебе?
Я кивнул.
— Не хочешь поговорить о том, что в ней такого особенного?
Я отрицательно помотал головой.
— Воля твоя… Будь уверен: и она тоже по уши в тебя влюблена. Или думает, что влюблена. Или делает вид… Но весь фокус в том, что все — все без изъятий! — женщины поступают точно так же. А мы, глупые самцы, с радостью принимаем все их лисьи хитрости за чистую монету и радуемся собственной слепоте. Цитату, живо!
Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад![16] —слегка напрягшись, выдал я.
— Пушкин, — скорчил недовольную гримасу учитель Кальдерон. — Вечно у тебя Пушкин на уме, беда с этими русскими. Я ждал что-нибудь из моего гениального однофамильца…
10. Пишем рефераты как можем
Вечером я заперся в своей келье, подключился со своего видеала к региональному инфобанку и занялся сочинением реферата об экскурсии, которую самым безответственным образом пропустил. Писать надлежало руками: как говорил учитель гуманитаристики Луис Феррер, изящный почерк облагораживает самые нелепые мысли. Почерк был одним из немногих предметов моей гордости. Уж не знаю, от кого я унаследовал пристрастие к завитушкам и росчеркам, но вряд ли от мамы… Вообще, сколько-нибудь большого труда это сочинительство не составляло: я уже бывал на дне пролива — в частном порядке, с бранквией… за что удостоен был уважения сокурсников и нахлобучки от учителя Кальдерона. Во всяком случае, я точно знал: ничего интересного, из ряда вон выходящего там не было. Рыбы, если и заплывала сюда какая, держались в глубине и темноте, подальше от снующих туда-сюда паромов и батискафов. А водоросли… ну что может быть необыкновенного в водорослях? Увы, морская биология тоже не входила в число моих увлечений.
Исписавши листа четыре, я начал уставать, и в голову сразу же полезли самые фантастические желания и позывы. Например, позвонить маме. (Что я немедленно и сделал. Мама выглядела обычно: напускала строгости во взгляде и голосе, но между напутствиями и выговорами однако же затащила в кадр шедшую мимо по своим делам Читралекху и заставила ее передать мне поклон. Зловредная кошара по своему обыкновению таращилась куда-то мимо, словно бы даже обтекая мамин видеал своим равнодушным взглядом. Но тут же пришел Фенрис, сам влез носом в экран, наставив там мокрых блямб, и не заставил упрашивать себя приветственно гавкнуть…) Например, послушать какую-нибудь пустяковую музыку. (Всегдашний Эйслинг был слишком тяжел для морской биологии, отчего и был заменен на «Черных Клоунов Вальхаллы».) Встать под душ. (Искушение было преодолено.) Поспать. (Аналогично.) Перекусить. (Полтора банана, загодя приготовленные на столе.) Погулять с Антонией. (Увы, увы…) Когда я, вздыхая от жалости к самому себе, вновь взялся за перо, Антония позвонила сама. У нее, умницы-разумницы, работа не клеилась вовсе, и было исписано от силы два листа. Я не поверил. Она показала. Это было ужасно. Двух листов там еще не было. А всего ужаснее был почерк. Однажды я видел, как рисовал орангутан Ханту из национального парка Сургабиру, что под Пематанграманом. У орангутана получалось лучше. Создавалось впечатление, что Антонию никто и никогда не учил каллиграфии. Я совсем было уже собрался задать ей этот язвительный вопрос, как вдруг сообразил: так оно и было. Вполне могло статься, что она пишет руками от силы года полтора-два… Антония добросовестно изложила свои впечатления от первых двадцати минут пребывания в Океанариуме, хотя и перепутала помаканта с целакантом (как такое возможно?!), а черного спиннорога назвала червонным единорогом. Остального она не видела по всем нам понятным причинам. «Так», — сказал я и кинулся помогать. Было бы намного проще, если бы она просто взяла и пришла ко мне. Но мы оба понимали, что на этом процесс рефератотворчества и оборвался бы окончательно. «А что если…» — для порядка заикнулся было я. «Нет-нет-нет!» — замахала руками и головой Антония, и тема была закрыта. Итак, я назвал ей навскидку три очень красивых и понятных энциклопедии по ихтиофауне Медитеррании. Я дал ей список тех видов, которые в этих источниках указаны, но в натуральном облике никогда свое присутствие в наших водах не обозначали. (Туда угодили и так ожидаемые Чучо акулы-тинтореры.) Я назвал ей также несколько рыб, которые здесь периодически появляются, хотя к средиземноморским автохтонам не относятся. Я послал ей графию тюленя-монаха, которого повстречал на диком пляже южного берега Исла Инфантиль дель Эсте в прошлом году. Словом, я сделал для нее все, что было в человеческих и эхайнских силах. «Я сойду с ума», — мрачно пообещала Антония. «Позвони, когда начнется», — фыркнул я, и мы распростились.
И тут я понял, что, наверное, не все еще сделал для нее.
Мне пришлось перерыть все старые записи и поминальники, привезенные из дома, прежде чем я нашел почти двухлетней давности визитку. «Что-то в этом мире покажется странным — звони, — вспомнил я. — Запутаешься в самом себе — звони. Зачешется левая пятка и захочет позвонить — звони обязательно». Странным мне за последнее время ничего не казалось. Вернее, казалось, и очень многое… то Мурена вдруг заденет меня литым бедром или не втискивающейся уже ни в одну блузку грудью, то Чучо ни с того ни с сего схватит висящую в моей комнате на стене лютню (точная, кстати, имитация инструмента с известной картины Паррасио «Венера, играющая на лютне, и Купидон», не баран чихнул!) и запоет гнусным голосом что-то амурное… какую-нибудь «лакримозу»… но все эти странности я уж и сам как-нибудь мог объяснить. Для того, чтобы распутывать самого себя, у меня был я сам, а на крайний случай — учитель Кальдерон. А вот левая пятка чесалась давно и сильно.
Сделав звонок, по-мужскому краткий и деловой, я незамедлительно почувствовал, что все же запутался сам в себе. Тормоз — он потому и тормоз, что тормозит. До жирафа потому и доходит на третьи сутки… С одной стороны, я желал помочь Антонии. С другой, она меня об этом не просила и всячески подчеркивала, что в данном вопросе ни в чьей помощи не нуждается. С третьей, я хотел бы для себя убедиться, что история колонии крофтов на Мтавинамуарви — не плод ее буйной фантазии. Хотя сама она не уставала твердить, что вообще лишена воображения, во что не верилось и каковое утверждение с легкостью списывалось на счет ее женского кокетства. Хотя учитель Кальдерон советовал доверять ее рассказам… но тут же обмолвился, что делать это надлежит с большой осмотрительностью. С четвертой, я не хотел бы, чтобы этой историей вдруг занялся кто-то вроде Людвика Забродского. С пятой…
Увы, была еще и пятая сторона, и шестая, а за всеми ними маячила целая манипула пронумерованных по ранжиру сторон.
Меня охватила легкая паника. Рука сама потянулась к пульту видеада, чтобы разбудить учителя Кальдерона.
Но я не стал этого делать. И вот почему.
Мне было почти семнадцать лет, ростом я был выше всех на Исла Инфантиль и, подозреваю, на всем Пиренейском полуострове, через пару лет мне полагалось считать себя взрослым и распоряжаться личным правом устраивать свою судьбу. Давно уже подобало мне употреблять для оценки поступков и деяний собственную голову, которая для того, собственно, и была приделана сверху, а не снизу или, скажем, сбоку.
Я выключил обрыдших «Клоунов», вернул на место Эйслинга с его «Ремедитациями» и занялся морским биоценозом Средиземного моря.
11. Те же и Консул
Обычно я сплю чрезвычайно чутко. Должно быть, Читралекха научила… Приоткрою один глаз, гляну в окно, что там, день или ночь, — и дальше спать… Но сегодня мне показалось, что комната стала намного теснее, чем всегда. И я проснулся в тревоге.
И верно, в комнате было ни стать ни сесть. Потому что в кресле у окна дремал дядя Костя.
Зеленовато-бурое лицо Консула выглядело необычайно умиротворенным. На нем была все та же черная куртка, все та же футболка болотного цвета, и даже затертые джинсы были, кажется, те же самые, что и два года назад. Консул был не из тех людей, что изменяли своим привычкам. Да и сам он не менялся. Мама в редкую минуту откровенности поведала, что при всякой их встрече Консул оказывался в два раза значительнее прежнего. Но, по ее же словам, виделись они в среднем раз в десять лет…
Я встал, стараясь не производить шума, и мне, по скромному моему разумению, это удалось. Но когда, натянувши штаны, я обернулся, то обнаружил дядю Костю вполне бодрствующим.
— Привет, инфант, — гаркнул он, воздвигаясь посреди моей кельи, словно монумент. — Как изволишь видеть, «я на зов явился».[17]
— Это правда? — с места в карьер спросил я.
— Что я стою перед тобой во плоти?!
— Нет… та история.
— Неужели ты не поверил? — хмыкнул он. — Как ты мог усомниться в словах юной девы?! Воистину, падение нравов среди молодежи достигло своего предела…
Я снова не знал, шутит он или говорит серьезно.
— Приводи себя в порядок, — между тем распорядился Консул. — И пойдем где-нибудь перекусим. У меня с годами образовалась скверная привычка — завтракать по утрам.
Пока я умывался и прихорашивался, он слонялся по комнате, заложив руки за спину, выглядывал в окно, один раз воспользовался моим видеалом и с кем-то очень коротко переговорил, с удовлетворенным урчанием рассматривал мои призы и кубки за какие-то победы в фенестре и приглядывался к беспорядочно развешанным картинам и графиям.
— Гм… Антония Стокке-Линдфорс… — пробормотал он, когда я уже заправлял постель. Я навострил уши. — Не думал, что вы окажетесь на одном и том же острове. Все же, там, — он ткнул пальцем в потолок, — не перевелись еще любители странных розыгрышей.
— Ты о ком? — спросил я с недоумением. — О Европейском совете учителей? Или об этих, как их… о тектонах?
— Поднимай выше, — усмехнулся он. — Я не религиозен, но иной раз не прочь свалить на кого-то ответственность за происходящие в мире безобразия.
— На бога, что ли?
— Например, — кивнул он. — И знаешь, что самое удивительное? Что он, как правило, не возражает.
И мы отправились завтракать.
Меня не часто навещали взрослые. Собственно, до недавнего времени среди моих родных числилась одна лишь мама, но, похоже, ей не слишком нравилось здесь бывать. С утра до вечера над Алегрией висит плотный акустический фон, состоящий из шума прибоя, шелеста крон и детского визга. Иногда к нему примешивается какая-нибудь структурно организованная составляющая вроде музыки. Такое случается обыкновенно по субботам, в часы посещений, по праздникам или другим торжественным случаям. Не всякий взрослый такое выдержит. И не для слабых нервов испытание, когда десятки встреченных подростков обоего полу и всех возрастов осыпают тебя бурными приветствиями и без особых церемоний выспрашивают, кто ты такой, откуда и к кому пожаловал и намерен ли остаться на ужин…
Поэтому мне было крайне любопытно, как себя поведет опытный звездоход в такой агрессивной среде, как детский остров. Дяде же Косте было любопытно все остальное.
— Это что? — поминутно спрашивал он, тыча пальцем во все стороны.
— Спортивный зал, — отвечал я. — Лаборатория. Детский корпус…
— А ты тогда кто получаешься?
— Я уже почти взрослый. Мне давно полагается своя комната.
— Угу… а это что?
Я не успел ответить, потому что из олеандровых зарослей вынырнули Мурена с Барракудой.
— Buenos dias, senor! — запели они на два голоса, беззастенчиво пялясь на моего спутника. — А вы к нам надолго? А вы придете на танцы? А где вы так странно загорели? А вы кто — papa de Sevito?..
— Нет, милые сеньориты, — отозвался Консул, величественно озирая их с высоты своего роста. — Нет. В Галактике. Нет.
Девицы непонимающе переглянулись. Кажется, они забыли, о чем спрашивали.
— Исчезните! — рявкнул я шепотом, пока они снова не открыли рот.
И они исчезли.
— Ну, зачем же так строго, — пожурил меня дядя Костя. — Вполне симпатичные юные особы. Ты, верно, не догадываешься, но отвечать на вопросы — важная составляющая моей профессии.
— Даже на дурацкие?
Консул приосанился и выдал мне историю о том, как на каком-то там Лутхеоне ему довелось угодить в настоящие застенки натуральной спецслужбы. («Спецслужбами, Сева, во время оно назывались службы, занятые выслеживанием инакомыслящих или враждебно настроенных лиц и насильственным извлечением из них разнообразной информации на благо правящего режима… правящий режим, Сева, это синоним формы государственного устройства… государство, Сева… похоже, ты попросту морочишь мне голову!..») В течение сорока часов его держали привязанным к креслу без сна, отдыха и пищи, а меняющиеся, как марионетки, дознаватели буквально обстреливали его самыми идиотскими вопросами, какие только можно себе представить. Уже потом он догадался, что его допрашивали с помощью местного «детектора лжи». («Детектор лжи, Сева, он же полиграф… не путай только с Полиграф Полиграфычем у Михаила Афанасьевича… это такой прибор, который якобы позволял дознавателю отделить правду от лжи в ответах допрашиваемого на основании показаний чувствительнейших датчиков о физиологических реакциях организма… или ты снова меня дуришь своим мнимым неведением?!»)
— И чем закончилось? — спросил я с интересом.
— Им надоело, что их хваленый прибор постоянно выдает какую-то чушь… они же не знали, что я инопланетянин с нестандартными физиологическими реакциями… и они попробовали меня пытать.
— Пытать?! — ужаснулся я.
— Ну да… только это надоело уже мне.
— И что же?
— И я от них ушел.
— Как это?
— Очень просто: сломал кресло и освободился. Ну, понятное дело, побил их немножко. Чтобы впредь неповадно… Видишь ли, Сева, я и раньше мог уйти — эти их оковы были насмешкой для опытного резидента-ксенолога. Но мне была любопытна сама процедура. Посуди сам: когда мне еще посчастливится угодить в застенки тоталитарного режима? — Он остановился и взял меня за плечо огромной лапищей. — Ты знаешь, что такое «тоталитарный режим»? Или это уже не проходят по истории человечества?
— Проходят, — сказал я. — А кто такой Михаил Афанасьевич?
Консул досадливо поморщился.
— Русскую литературу здесь, разумеется, не постигают, — констатировал он.
— Отчего же, — возразил я с достоинством. — Мы изучали Пушкина, Достоевского… А Гоголя я с детства люблю, меня мама к нему приохотила. Но, в общем, вы правы: Гарсиласо де ла Вега, Кальдерон де ла Барка, Крус Кано-и-Ольмедилья, Бласко Ибаньес… Хименес де Кесада, Хименес де Патон, просто Хименес… Тирсо де Молина… Сервантес Сааведра, разумеется…
— Понятно, — промолвил дядя Костя с печалью в голосе. — Я тебе составлю список литературы, для внеклассного чтения. Или ты читать не любишь?
— Отчего же, — снова возразил я.
— Тогда так, — сказал дядя Костя.
Сто мудрецов, испачкав тушью пальцы, Труды свои слагали без нужды — Над книгами я сразу отрубаюсь.[18]— Это ты сам сочинил? — осторожно спросил я.
— За кого ты меня принимаешь! — воскликнул Консул с притворным негодованием. — Неужели я похож на человека, способного к стихосложению?!
Он изготовился было продекламировать еще что-нибудь в том же духе, какую-нибудь возвышенную заумь. Но тут на него набросился незнакомый птенчик, едва видный из-под широкополой шляпы.
— Salud, senor! — фамильярно пропищал он. — Salud, эль Гигантеско! — И снова переключился на Консула: — А вы астронавт?
— Как ты угадал, дорогой? — поразился дядя Костя.
— У моего дяди такое же лицо, — объявил птенец.
— Такое же мужественное?
— Нет, senor, зеленое.
— Гм… — Консул смущенно покосился в мою сторону. — Стало быть, твой дядя — астронавт?
— Его зовут Себастьян Эстрада, — важно кивнул птенец. — Он работает на галактическом стационаре «Моби Дик».
— Как же, бывал, — сказал дядя Костя. — А кем работает твой замечательный дядя?
— Не знаю, — объявил птенец и упорхал по своим делам.
— Вот видишь, — сказал мне дядя Костя немного растерянно.
Тут мы увидели пустой столик под белым тентом и устремились туда. Кроме нас, в уличном кафе никого не было. Кто-то занимался, кто-то ушел купаться на море, а кто-то еще и не проснулся. Дядя Костя провел просторной ладонью по столешнице, и та с готовностью высветила утреннее меню. Он выстучал заказ — салат из апельсинов и соленой трески, овсяную кашу с миндалем, апельсиновый сок мне и черный кофе себе.
— Спасибо, что не гречневая… — проворчал я.
— Ну что ты, я же помню, — сказал Консул. — Я тебе и луковицу заказал.
— И напрасно. Лук я ем только на ужин.
— Это луковица мирабилиса. Твое дыхание останется столь же свежим, как этот ветерок с моря.
— Никогда не пробовал.
— Очень рекомендую… А не доводилось ли тебе когда-нибудь отведать «уопирккамтзипхи пикантный с орехами»?
— Не-а, — сказал я. — Больше всего я люблю шаньги и блины. Но мама ненавидит стряпню, а заказные шаньги походят на пиццу с картошкой.
— Где же ты, болезный, тогда пробовал все эти яства? — сочувственно спросил Консул.
Я не успел ответить.
— Buenos dias, senor, — сказал подошедший Чучо Карпинтеро, серьезный и даже напыщенный, как старинный гранд. — Hola, Север… Вы будете смотреть завтрашнюю игру, senor?
— Ну, навряд ли, — сказал дядя Костя. — Я мало разбираюсь во всех этих ваших фенестрах-канистрах…
— Север — один из лучших игроков колледжа «Сан Рафаэль», — серьезно сказал Чучо. — Но, похоже, он решил оставить спорт. Ему стало неинтересно.
— Такое бывает, — сказал дядя Костя.
— Но это неправильно, — возразил Чучо. — Его уход может разрушить команду. Не могли бы вы, как близкий человек, повлиять на его решение?
— Хесус Карпинтеро! — прошипел я. — Ты низкий ябедник.
— Может быть, — обреченно кивнул Чучо. — Но тебя же не переубедить, когда ты упрешься. А к мнению родителей ты должен прислушаться.
— Боюсь, ты ошибся, Хесус, — сказал Консул сконфуженно.
— Чучо, — поправил тот. — Вы можете называть меня так.
— Ну хорошо, Чучо… Я всего лишь друг Северина.
По лицу Чучо было видно, что он не верит в существование у меня таких взрослых и свирепых на вид друзей.
— Это ничего не меняет, — заявил он, поразмыслив. — Вы все равно можете урезонить его. Если я задел вас своим предположением, прошу извинить. Вы чрезвычайно похожи.
Я фыркнул.
— Ты меня нисколько не задел, — сказал дядя Костя. — Всякий был бы счастлив иметь такого сына, как Северин. Но мое счастье заключено в дочери. Ее зовут Иветта.
— Еще раз простите, — сказал Чучо. — Передайте привет сеньорите Иветте. И еще… Север, прямо сейчас тебя ищут по меньшей мере три человека.
Он важно кивнул и удалился.
— У вас тут все такие… авантажные? — спросил дядя Костя.
— Нет, — сказал я с досадой. — Только Чучо, когда хочет произвести впечатление.
— Забавно, — промолвил Консул. — Все принимают меня за твоего отца. А что такое «Чучо»? Маленькое чучело?
Для меня тут как раз ничего забавного или непонятного не было. Если раньше я рос по преимуществу вверх, то за последний год неожиданно для себя и окружающих попер вширь. Откуда-то взялись какие-то бицепсы… трицепсы… квадрицепсы… иное прочее мясо, о котором я прежде и не подозревал. И если раньше прозвищем мне было эль Хирафо, то есть «жираф», то вот уже с полгода звали меня не иначе как эль Гигантеско, а то и совсем уже уважительно — эль Гигантеско дель Норте, что в данном контексте нельзя было перевести иначе как «северный мамонт» — хотя где же еще было водиться мамонтам?..
Рассказывать ему об этой перемене в своей жизни я не стал, — он и так был не слепой, — а заметил лишь:
— Ты, дядя Костя, такой же здоровенный, как и я. К тому же, для испанцев все русские на одно лицо.
— Ты даже не представляешь, какая это серьезная проблема в прикладной ксенологии, — усмехнулся он, — личностная идентификация по индивидуальным морфологическим признакам. Случались такие чудовищные проколы, что страшно даже себе представить! — Казалось, он задумался, стоит ли рассказывать, но вместо этого спросил: — Что, к нам так и будут все время подходить и здороваться?
— Будут, — кивнул я. — Это же детский остров. Самый нелюбознательный здесь я.
— И ничего нельзя с этим поделать?
Я выдернул салфетку из автомата за спиной, свернул ее воронкой и поставил на краешке стола. Двое спешивших к нам птенцов, на мордахах у которых было написано хищное любопытство, резко отвернули и сделали вид, что вспомнили о каких-то важных делах.
— Это условный сигнал, — пояснил я. — Называется «фарито», то есть «маячок». Означает: мы хотим остаться одни. Пока он выставлен, в это кафе никто не зайдет. Или хотя бы не полезет к нашему столику.
— Весьма эффективно, — сказал Консул. Он отхлебнул кофе и посмотрел на меня испытующе. — Итак, «я весь зажженное внимание, я любопытство ожиданья…»[19]
— И ты туда же, — сказал я обреченно.
— Я готовился, — похвалился дядя Костя.
— Ну, не люблю я Кальдерона, — проворчал я. — Не люблю и не понимаю… разве я обязан? «О, я несчастный! Горе мне! О, небо, я узнать хотел бы, за что ты мучаешь меня?..»[20] Ах!.. Ох!.. Ну кто так разговаривает?! Я еще могу представить… нет, не могу. Я простой русский человек, с простым русским темпераментом. Поэтому я Гоголя люблю и Чехова, Дьякова и Цымбалиста люблю. — Я помолчал и, поразмыслив, самокритично добавил: — Хотя Иниго Мондрагон мне, в общем, тоже нравится…
Подкатил столик с нашим заказом. Тарелки с салатом и кашей затерялись среди вазочек с разнообразными «тапас» — сыр, копченая колбаса, креветки, всего и понемногу, слегка приукрашенные свежими овощами, — с тонкими ломтиками хамона и обязательными оливками всех видов и степеней зрелости. «Гм, — сказал дядя Костя, — не помню, чтобы я это заказывал… и не уверен, что это следует есть с самого утра…» Я положил себе салата, плюхнул сверху оливок, придвинул поближе самые любимые «тапас», глотнул сока, принюхался к луковице (она выглядела аппетитно и приятно пахла!), тяжко вздохнул и выдал Консулу историю Антонии, как она мне ее рассказала, с незначительными сокращениями, чтобы не убить на это занятие весь день. Дядя Костя не перебивал, задумчиво играя ложечкой в кофейной чашке. Иногда мне казалось, что он не слушает, но в этот момент он вдруг задавал точный вопрос по делу.
— Хорошо, — сказал Консул, когда я закончил. — Чего же ты от меня хочешь?
— Знать, правда это или нет.
— Это правда, — сказал дядя Костя коротко и весомо.
— Но ведь она такая же, как все мы!
— А какой она должна быть? — спросил он с интересом.
— Не знаю… какой-то другой.
— Ты хочешь сказать: она должна была бы сойти с ума от такой жизни?
— Ну… в общем…
— Антония не сошла с ума, — промолвил дядя Костя раздумчиво. — Хотя, безусловно, в чем-то она отличается от обычного земного подростка ее лет.
— Своими способностями?
— Ну что ты! Я наводил справки. По отзывам специалистов, она несомненно одарена, но ее талант несколько… м-мм… однобок. Она знает и осмысленно применяет весь математический аппарат, бывший в распоряжении земной науки семнадцать лет назад. Откуда ей было взять новый? Но, как считают те же специалисты, ей недостает воображения.
— Да, она говорила…
— Вот видишь! Антония оперирует раз и навсегда наперед заданными алгоритмами. Как когитр средней руки… Для истинно талантливого математика этого недостаточно. С такими способностями трудно сделать открытие и двинуть теорию вперед. — Дядя Костя нацепил на вилочку ломтик апельсина из салата и посмотрел его на просвет. — Но есть надежда изменить положение вещей к лучшему. — Он прищурился и добавил с иронией в голосе: — Как тебе должно быть известно из истории человечества и собственного опыта, такая надежда есть всегда.
— Для этого ее и отправят на Тессеракт?
— Не имею ни малейшего понятия, что такое «Тессеракт». Знаю только, что на вашем острове она не случайно.
Я с непониманием огляделся вокруг. Пальмы шептались, море напевало, разбушевавшаяся малышня визжала на дальней спортивной площадке. Все было как обычно.
— Это же простой детский остров, — сказал я. — Таких сотни и сотни в одной только Медитеррании. Исла Инфантиль дель Эсте — это…
— …это детский остров для обычных детей с необычной судьбой, — докончил он. — Если ты всерьез полагаешь, что попал сюда случайно, то должен немедленно оценить всю глубину своего заблуждения и раскаяться. Впрочем, один учитель… точнее, учительница как-то задала мне риторический вопрос: где вы встречали обычных детей?
— Да вот хотя бы я, сижу перед тобой.
— Ну-ну… обычный ребенок. Если не принимать во внимание того скромного обстоятельства, что первые три года своей жизни ты провел вне Земли. Что ты вообще не человеческий детеныш, а эхайн…
— Ты еще скажи, будто и Чучо, тот, что подходил недавно, необычный ребенок.
— И скажу. Правда, конкретно о нем я ничего не знаю, за исключением его необычных манер. Но мне известны по меньшей мере полтора десятка воспитанников «Сан Рафаэля», чьи истории вряд ли окажутся менее занимательными, нежели твоя.
— Среди них, случайно, нет эхайнов или юфмангов?
— Только не вздумай кичиться зелеными кровями, — фыркнул он.
— Чем-чем?!
— Это такой эхайнский эвфемизм. Для того, чтобы осаживать чересчур заносчивых аристократов… Чтобы тебя успокоить, скажу, что все твои однокашники принадлежат к виду homo sapiens. Исключительность каждого человека не обязательно должна определяться его этнической характеристикой. Как-нибудь исподволь вызови того же Хесуса… он же Чучо… на откровенность, и наверняка узнаешь много неожиданного.
— И эти две дурехи, что подходили к нам в аллее…
— У них есть имена? — спросил дядя Костя.
— Мурена и Барра… — начал было я и прикусил язык. Брови Консула поползли кверху. — Э-э… одну зовут Эксальтасьон Гутьеррес дель Эспинар, а другую — Линда Кристина Мария де ла Мадрид.
— Музыка! — воскликнул дядя Костя. — Сегидилья! Канте фламенко! Многоэтажные имена — моя слабость. Я даже дочурку хотел назвать Иветта-Елизавета-Джулиана, но меня окоротили… Так вот: одна из этих словоохотливых сеньорит определенно утрет тебе твой конопатый нос своим происхождением… Только не проси подробностей, договорились?
— Не договорились! — запротестовал я.
— Нетушки, тема закрыта, — строго произнес Консул. — Я не собираюсь выдавать чужие тайны никому. Даже тебе, даже если это не тайны. Вы уж тут сами как-нибудь между собой разбирайтесь… Кстати, тебя не насторожило, что я не слишком потрясен историей девочки Антонии?
— Нет, — сказал я несколько уязвленно. — Имели уже опыт общения, знаем, что у тебя всегда есть пара слов про запас…
— Верно мыслишь. После твоего звонка я навел справки и прибыл сюда хорошо подготовленным. Меня даже ознакомили с дневниками Тельмы Рагнарссон и Стаффана Линдфорса.
— Чего же я тут распинался?!
— Видишь ли, Антония была не слишком откровенна со своими прежними учителями. Даже с доктором Робертом Дельгадо, несмотря на высокую доверительность их отношений. В то же время, по каким-то своим малопонятным соображениям, она становится чрезвычайно чистосердечна со сверстниками, которых избирает в герои своего романа…
Я покраснел. Дядя же Костя нахмурился.
— Видно, я не первый тебе об этом говорю, — проворчал он. — Ну, из песни слова не выкинешь… Тот же доктор Дельгадо сказал мне, что Антония порой бывает непозволительно ветренна. И посетовал, что в нынешней системе взаимоотношений как-то не принято, чтобы юноша бросал девушку. Антонии такой негативный опыт пошел бы только на пользу… Не подумай, что я тебя к чему-то призываю.
— Я и не думаю…
— А зря, думать полезно. Особенно когда твоя подружка — математический уникум… Так вот, возвращаясь к твоему изложению рассказа Антонии. Прилетев сюда, я знал официальную версию ее истории, зафиксированную документально. Я знал также ее вариант из уст доктора Дельгадо. И был ознакомлен еще с тремя апокрифами от бывших воздыхателей этой юной ветрогонки. Ты дополнил общую картину несколькими существенными деталями…
— Прости, — прервал я его. — Родителей Антонии нашли?
— Нет, — сказал дядя Костя.
— Неужели это так сложно?
— Над Мтавинамуарви почти полгода висел корабль с опытными следопытами и очень серьезной поисковой техникой. Было сделано около восьмидесяти попыток проникнуть в объект «Храм мертвой богини». Все это — под непрекращающимися метеорными дождями, пока выдерживали защитные поля. Операция осложнялась двумя обстоятельствами. Во-первых, Антония не хотела, чтобы тела ее родителей были найдены. Во-вторых, этого не хотели мтавины.
— Объясни, — потребовал я.
— Изволь. Тебе, должно быть, известно, что Антония начертила план «Храма», как она его себе представляла. Это проекция на плоскость некой структуры, построенной в четырехмерной системе координат. Попытки ее интерпретировать ни к чему не приводили, пока эксперты из Сорбонны не догадались, что в план намеренно внесены искажения. Маленькая умненькая хитрюга Антония попросту запутывает следы. Как ты думаешь, почему?
— Ничего я не думаю.
— Опять ты за свое… Поначалу было высказано предположение, что ее история — выдумка, чье назначение — скрыть какую-то страшную тайну. Трое человек прожили в замкнутом пространстве четырнадцать лет, и между ними могло произойти все что угодно… Но проницательный доктор Дельгадо предложил не умножать число сущностей сверх необходимого. Антония не только хитренькая и умненькая. Она еще и очень цельный и сильный человечек. Она просто хочет все сделать сама.
— С ней кто-нибудь говорил об этом?
— И не раз. Она уходит от разговора. Или делает вид, что не понимает, чего все эти несносные взрослые хотят от несчастной сиротки. Мы же не можем надавить на нее, заставить ее делать то, чего она не желает. В правилах этой игры изначально установлено, что мы большие, добрые и мудрые… Теперь о мтавинах. Мы ничего не знаем об этой расе. Все, что нам ведомо, — это скудные, обрывочные сведения, составленные по различным версиям все той же истории Антонии. Но следопыты, исследовавшие «Храм мертвой богини», подтвердили, что это форменная топологическая головоломка. Внутри объекта начинается сущая чертовщина с пространственными координатами. Потому-то несчастный Аксель Скре со товарищи и не нашел обратной дороги из катакомб. Не то мтавины таким способом защищали свои сокровища… или усыпальницы, если верить Антонии… от непрошеных посетителей. От тех же крофтов всех времен и всех рас… Не то для них такая многомерная архитектура была обычным делом, и они не представляли, что существуют расы, чье естественное восприятие окружающего мира ограничено тремя координатами.
— Но ведь родители Антонии часто выходили на поверхность, чтобы забрать вещи с разбитого корабля!
— Это мы знаем со слов той же Антонии. Она могла неосознанно нарушить причинно-следственную связь. Или сама не знать всех подробностей. Допустим, что крофты заранее перетащили все необходимое внутрь «Храма». Допустим, что они как-то приноровились к хитростям внутренней топологии катакомб. Допустим, «Храм» с некоторой неизвестной нам периодичностью открывается наружу. Допустим, крофтам просто повезло. Да мало ли версий… Командор Бреннан, тот, что нашел Антонию, несколько десятков раз сам спускался в катакомбы. Лучшие следопыты ходили с ним и без него. Сканировали весь район на десятки километров вглубь. Подключали к поиску миссию кеоманрани… это раса арахноморфов, наделенных фантастическими по нашим понятиям способностями к пространственной ориентации, многие астрархи ведут от них свое происхождение… Кеоманрани в конце концов нашли путь в подземные уровни катакомб. Чем было подтверждено, что искусственные гроты действительно имеют место, и что план Антонии хотя бы в чем-то может служить ориентиром. Но потом на планете начался сущий ад, и кеоманрани вынуждены были свернуть свою деятельность. Сейчас поиски вошли в вялотекущую фазу: нет ни прогрессивных идей, как их продолжать, ни серьезных стимулов, чтобы ими вообще заниматься.
— Разве никому не интересно наследие мтавинов? — поразился я.
— Юный друг, — вздохнул дядя Костя. — В Галактике тысячи и тысячи подобных миров-кладбищ. И все они скрывают какие-то тайны. На мтавинах свет клином не сошелся. Мтавины со своими многомерными катакомбами даже не самые загадочные! И на большинстве миров условия для исследовательских миссий вполне комфортные. Прилетай, исследуй хоть до посинения… просто живи, как на том же Титануме… над тобой не то что метеорных дождей — грозового облачка не проплывет.
— Выходит, эти поиски нужны одной только Антонии?
— Ну, не стоит так упрощать. Есть еще такая хорошая вещь, как человеческий энтузиазм. Существует ксеноархеологическая группа Ленартовича-Сапрыкина, которая будущим летом намерена провести глубокий поиск и закрепиться на Мтавинамуарви. А эти парни — далеко не крофты, это серьезные специалисты. Существует командор Арлан Бренная, для которого фиаско с «Храмом мертвой богини» стало болезненным щелчком по профессиональному самолюбию. Да и кеоманрани, похоже, не прочь туда вернуться…
— Антония считает, что ее родители просто спят, — сказал я.
— Спят?! — переспросил Консул.
— Да, спят. Она думает, что внутри катакомб нельзя умереть. Там спят миллионы мтавинов, и все, кто попадает туда извне, рано или поздно засыпает вместе с ними. Тяжелый газ, которым наполнены подземные пустоты этого мира… Поэтому она так хочет вернуться туда. Она хочет сама найти и разбудить своих родителей.
Дядя Костя молчал, взгляд его уплыл куда-то в пространство, и эта пауза казалась нескончаемой.
— Не думаю, чтобы это было возможно, — наконец произнес он раздельно.
— Но почему?! Почему вы не позволите Антонии вернуться туда и показать вам путь?
— Почему? — Консул усмехнулся уголком рта. — Потому что она ребенок. Потому что там опасно. — Он вдруг снова и надолго задумался о чем-то, явно не относящемся к развиваемой им мысли, и ему потребовалось усилие, чтобы поймать нить разговора. — Опасно даже для хорошо подготовленных и защищенных всеми достижениями современной науки взрослых. А детям нельзя играть во взрослые игры.
— Но ведь она выросла там! Она была там как дома!
— Правильно. Но теперь она вернулась на Землю, и взрослые снова окружили ее своей заботой. Отныне у нее одна обязанность — по достижении восемнадцати лет стать полноценным членом общества, а все остальное — это ее права.
— Опять та же песня!.. Почему вы душите нас своей опекой? Почему не даете нам проявить себя?
— И эта песня далеко не нова. Ни ты, ни Антония, никто из твоих друзей на этом острове еще не дорос до момента принятия решений. У вас. много сил, у вас полно энергии и желаний, но вы еще не научились думать о последствиях.
— О каких еще последствиях?!
— Вот-вот, — печально покивал Консул. — Тебе даже в голову не приходит, что каждый поступок приводит к последствиям. Что любой твой шаг эхом отзывается во всем мире. А когда человек думает о последствиях, в нем рождается ответственность. Вот ты рвешься совершать подвиги, а ведь у тебя есть мама, а теперь и не только мама…
(Однажды… в позапрошлое рождество… я вернулся на каникулы и не узнал своего дома. Он полыхал огнями и оглушал непривычно громкой веселой музыкой. В окнах плясали чужие тени. Я стоял по колено в снегу в трех шагах от крыльца, балда балдой, не зная, то ли звать на помощь, то ли бежать отсюда сломя голову, а на веранду с криками «А ну-ка, ну-ка, покажите нам его!..» выходили все новые и новые люди. Последней появилась мама, раскрасневшаяся, едва скрывающая возбуждение и очень счастливая. «Севушка, — сказала она обычным своим строгим голосом, который дрожал от волнения. — Познакомься со своей родней». Родни оказалось много, и мне понадобился весь вечер, чтобы всех запомнить. У меня обнаружились дед Егор и бабушка Инга — мамины родители, причем бабушка и статью и повадкой была вылитая мама, такая же холодная и неприступная, как андерсеновская Снежная Королева, хотя, конечно же, все было наоборот: это мама была вся в бабушку, а дед — полная обеим противоположность, весь какой-то круглый, уютный, все время хохотал, отпускал рискованные шуточки, бренчал на маленькой трехструнной гитаре, которую называл «балалайка», горланил двусмысленные частушки и только что колесом не ходил… мамина сестра тетя Лида и ее муж дядя Павел Тресвятские… десятилетний птенец Гелий и шестилетняя пичужка Алиса, их дети, а значит — мои двоюродные сестра и брат, рыжие, как два солнышка, и непривычно для моих глаз бледные… тетя Эрна и дядя Эрнст, тоже родственники, но дальние, оба большие, светловолосые, а дядя Эрнст еще и светлобородый, и в одинаковых серых свитерах грубой вязки… Мы сидели за столом, ели пироги, блины и шаньги, мне налили вина, и все глядели только на меня и удивлялись, какой я огромный… а потом, когда застолье пресеклось, каждый подходил ко мне и говорил какие-то очень теплые слова, которые не оседали в моей памяти, потому что голова шла кругом, в глазах все плыло, и я отвечал невпопад или просто молчал, глупо улыбаясь… подошла и ледяная бабушка Инга, сурово посмотрела на меня снизу вверх, поджав тонкие губы, раздельно процедила сквозь зубы: «Эт-то было несправедливо… нет, эт-то было неправильно…», а потом привстала на цыпочки, обхватила меня руками и заплакала… дед Егор взял ее за плечи и увел, сконфуженно улыбаясь, хотя и у него глаза тоже были красные… дядя Эрнст развел мощными руками и произнес виновато, совсем по-бабушкиному растягивая слова: «Ты должен ее понять, Сев-вушка, она же не вид-дела тебя столько лет, она совсем тебя не вид-дела, а теперь вдруг увид-дела…» Возразить на это было нечего, и мы с птенцами ушли в лес смотреть на белок и гулять по поселку. Было уже за полночь, но в Чендешфалу никто не спал, все встречали католическое Рождество, рядились в зверей и бродили от дома к дому, чтобы спеть, сплясать и выпить с соседями… белок мы, конечно, в таком гульбище не встретили, зато нашли волчьи следы и спугнули какую-то большую птицу… «Филин?» — осторожно спросил Гелька, а я зловещим басом возразил: «Дракула…», и Алиска сразу же захныкала, требуя, чтобы ее скорее вернули домой, к мамочке с папочкой… чтобы успокоить ее, мне пришлось на ходу сочинить сказку про добрых местных вампиров, которые вот уже сто лет как целиком переключились на домашнее красное вино, а кровь сосут только в медицинских целях, когда их сильно о том попросит добрый Орвош Файоном… «Кто-кто?!» — недоверчиво переспросил Гелька. «Доктор такой… зверушек лечит», — пояснил я… а чтобы двоюродные солнышки не расслаблялись, тут же прикинулся, что потерял дорогу, и был так натурален в своей оторопи, что Гелька тоже поверил и как бы невзначай осведомился, не взял ли я с собой видеобраслет… но тут мы увидели огни, а спустя минуту выбрели на поляну с огромной разукрашенной живой елкой, вокруг которой водили хороводы черти с ангелами и топтались игривый крутолобый бычок и флегматичный ослик в меховой попонке, давние потомки животных, явившихся с пастухами поклониться младенцу Христу… нас тоже затащили в хоровод… мне, приняв за взрослого, сунули флягу с теплым вином, Гельке — чего-то шипучего в глиняной кружке, Алиске — леденец размером чуть ли не с ее голову… вместе с чертями и ангелами мы орали песни на местном языке, из которого только я и понимал одно слово из пяти, кидались снежками, катались с горки и прыгали через костер… и те черти и ангелы, что узнали меня, выспрашивали в подробностях, кто эти два рыжих бледных солнышка, и я с покровительственной небрежностью разъяснял… потом Алиска сказала, что хочет спать, а Гелька — что хочет есть, и мы потопали напрямик через лес к нашему дому… никто уже ничего не боялся, только Алиска засыпала на ходу, и ее пришлось взять на руки… в доме еще горел свет, но музыки уже не было, только кто-то пел при свечах на голоса, красиво и протяжно, а Фенрис, запертый в подвале, меланхолично подвывал, и даже в нужной тональности… вдруг Гелька запрыгнул на крыльцо, чтоб сравняться со мной ростом, обнял меня за шею и уткнулся носом в плечо… «Мы правда братья, ага?» — спросил он. «Конечно, — пробормотал я, застигнутый врасплох его порывом. — Теперь ты будешь хвастаться?..» — «Немножко, — пробормотал он невнятно, — а уж она-то всем растрезвонит, какой ты…» — «Ага», — сонно отозвалась Алиска, что дремала на другом моем плече, и я уж было подумал мужественно, чего это на них нашло, и тут почувствовал, что если они скажут еще хоть слово, то прямо здесь и разревусь, что старшему брату, да еще такому мужественному, ну совершенно не к лицу…)
— Ладно, забудем обо мне, — сказал я. — Но Антония… ее родители остались на другой планете!
— Антония тоже не сирота. У нее здесь полно родственников. И если она не питает к ним горячих чувств, это не значит, что они равнодушны к ее судьбе. Мы, взрослые, отвечаем за наших детей. Как только наши дети осознают свою ответственность за нас, значит — они повзрослели.
— Господи! — воскликнул я. — Сколько же можно! До каких же пор все интересное в мире будет происходить без нашего участия?!
— Подожди, — сказал дядя Костя обещающе. — Придет еще твое время. Ты еще проклянешь тот день и час… Ты еще запросишься назад в безмятежное и безответственное детство… Ан поздно будет.
— А вот и не запрошусь, — возразил я упрямо.
12. Сдаем рефераты как можем
Как только я убрал со стола салфетку-«маячок», к нам подошла Антония. Ее непросто было узнать, потому что сегодня она впервые изменила белому цвету и была во всем ярко-оранжевом. Даже панама ее нынче полыхала вовсю, как шляпка мухомора. Дядя Костя немедленно встал — я испугался, что он приветственно воскликнет: «А вот и Антония Стокке-Линдфорс, о которой мы только что говорили!», но все обошлось.
— Совсем забыл, — сказал он смущенно, — у вас же с утра наверняка какие-то занятия…
— Ничего, — успокоил я его. — Одним хвостом больше, одним меньше.
— А, ты у нас тоже хвостист, — промолвил дядя Костя с уважением.
— Что значит «тоже»? — удивился я.
— В твои годы и я не всегда был прилежен…
— Антония, познакомься, — сказал я. — Это Константин Васильевич, мой друг.
Она молчала, внимательно рассматривая дядю Костю. Потом вдруг спросила:
— Вы — Галактический Консул?
— Так меня звали еще три года назад, — кивнул он.
— Вы знаменитый ксенолог, — промолвила она с утвердительной интонацией.
— В определенных кругах.
— Вы здесь из-за меня?
Я открыл рот, чтобы все ей объяснить, но Консул опередил меня:
— Нет, — сказал он спокойно. — Я прилетел повидать этого молодого человека.
— А, — как мне показалось, разочарованно проронила она и отошла, села за соседний столик и отвернулась.
Мы с Консулом переглянулись. Я чуть слышно вздохнул, а он едва заметно усмехнулся.
— Я подумаю над твоими словами, — сказал он. — Насчет этого самого… сонного царства. А ты не теряй головы. И вот еще что… — Дядя Костя смущенно поскреб тяжелый подбородок. — У меня есть к тебе предложение. Как от одного эхайнского гранда к другому…
— «Я весь зажженное внимание», — проворчал я.
— Меня тут пригласили на один любопытный диспут. Я бы отказался, сославшись на занятость, но он будет иметь место неподалеку — в Картахене, да и тема весьма специфическая: «Нужны ли нам эхайны»… Не желаешь ли составить компанию?
— Даже не знаю, — промямлил я.
— Не беспокойся, никто не будет тыкать в тебя костлявым пальцем с криками: «Вот он, держите лазутчика!» Никто не заставит тебя высказываться против воли. Там буду я. Возможно, там будет Ольга Лескина. Надеюсь, она не полезет в драку с метарасистами… Я рассчитываю и на других любопытных гостей. Как мне представляется, это было бы для тебя познавательно. — Он заметил мое колебание, истолковал его по-своему и быстро проговорил: — С учителем Кальдероном я все улажу сам.
— Что ж, — сказал я.
— Тогда завтра утром я за тобой прилечу.
Он протянул мне руку, приветливо кивнул Антонии (та упорно не смотрела в нашу сторону) и удалился быстрым шагом в сторону Пуэрто-Арка.
— Эй, — позвал я тихонько.
Антония с демонстративной неохотой поднялась со своего насеста и подошла ко мне.
— О чем вы говорили? — осведомилась она сердито.
— Дядя Костя — действительно мой друг, — сказал я немного раздосадованно. — Он хорошо знает мою маму. Если тебе это интересно, они вместе росли.
— Знаменитому ксенологу нечего делать на Земле, — возразила она.
— Если тебе это интересно, у него на Земле семья. Его дочь зовут Иветтой. — Я вдруг разозлился. — Не думай, пожалуйста, что все в этом мире вертится вокруг твоей персоны!
— Значит, вы не говорили обо мне? — спросила она, пропуская мой выпад мимо ушей.
— Вот еще, — буркнул я, краснея.
— Жаль, — сказала она. Затем вдруг протянула мне руку царственным жестом. — Так мы идем?
— Куда?! — опешил я.
— Эхайн, — поморщилась она. — Большой глупый рыжий Черный Эхайн… На занятия, балда. Сдавать рефераты про рыбок!
И мы пошли на заклание к учителю Васкесу.
Собственно, я сдавал рефераты уже не впервые и особого трепета не испытывал. Иное дело Антония: ее обычная бледность приобрела зеленоватый оттенок, скрипучий голосок срывался и дрожал, казалось — еще чуть-чуть, и она грохнется в обморок. Учитель Васкес сразу понял, что с ней неладно, и сделал хитрый ход. «Тита, — сказал он медовым голосом, — рыбка моя неоновая, никак не разберу, что здесь написано. Впервые вижу столь удивительный почерк. Не сочти за труд, сядь рядом, будешь мне переводить. Итак, что это за слово? Ага, гм… А это? Ах, по-латыни… вот она, какая нынче латынь… любопытно…» Про меня было забыто. Антония сама не заметила, как успокоилась, и вот она уже недовольно скрипит по поводу учительской непонятливости, вот она уже спорит, вот она уже возражает, вот она уже рисует на доске коронованную рыбу-бабочку в профиль и анфас — особенно если учесть, что у рыбы-бабочки и анфаса-то никакого нет… Учитель Васкес положил изящную ладонь на нашу писанину. «Баста, — сказал он и подвел итоги: — Поверхностно. Делалось в спешке. Севито, конечно, тоже пускал дымовую завесу, как каракатица…» — учитель требовательно наставил на меня длинный палец с ухоженным ногтем, и я с готовностью отрапортовал: «Sepia officinalis!» Учитель одобрительно крякнул и продолжил свою мысль: «… Но делал это по крайней мере с пониманием предмета. Однако же труд был затрачен, и труд немалый. Поэтому я принимаю оба реферата, но настаиваю на подводной экскурсии. Для вас, Тита… ведь вам уже разрешили пользоваться бранквией? Впрочем, Севито, я полагаю, охотно составит компанию. Я вас не задерживаю и препоручаю заботам учителя Санчес…» Мы вышли из кабинета биологии.
— Ну как ты? — спросил я.
— Ужасно, — призналась Антония. — Чуть не умерла. Дался ему мой почерк!
— Да уж, — сказал я и поведал ей про орангутана Ханту из парка Сургабиру.
— Кто такой орангутан? — спросила она рассеянно. — Смотритель парка?
Я объяснил ей про орангутанов в частности и приматов в целом.
— Слушай, — сказала она, — а что такое бранквии?
— Я тебе покажу. Это нестрашно. Ведь ты хотела поглядеть на настоящее морское дно?
— Пожалуй… Давай завтра, а?
— Завтра я не могу. Я буду занят. Дядя Костя приглашает меня на диспут о том, нужны ли нам эхайны. Хочешь слетать со мной?
— Нет! — сказала она чуть более энергично, чем следовало бы, но тут же поправилась: — Здесь нет темы для обсуждения. Мне нужны эхайны. Точнее, один вполне конкретный эхайн…
Она привстала на цыпочки, а я согнулся пополам. И мы поцеловались. А потом пошли на урок математики в Абрикосовую аллею.
13. Мы, дельфины и море любви
Итак, завтра нырять я не мог, поэтому после занятий мы с Антонией отправились ликвидировать пробелы в ее познаниях.
Я прихватил пару бранквий, и в пять часов пополудни мы встретились в конце Пальмовой аллеи. Изучать морское дно в районе пляжа — пустое занятие: после водных процедур дневной смены малышни оттуда в панике уносила щупальцы даже самая ленивая из медуз. Но я знал несколько уединенных местечек на южном берегу, куда было не так легко добраться. Чем охотно пользовались любители уединения. И потому дно там было гораздо более обжитое…
Нам пришлось довольно долго идти, а потом карабкаться по заброшенным козьим тропам, а потом продираться сквозь кусты дикого олеандра. Антония стойко сносила испытания и почти не ворчала, хотя невооруженным глазом было видно, что затея ей нравилась все меньше и меньше… Дикий пляж Арена де Плата, где я как-то встретил тюленя-монаха, оказался занят. Не повезло нам и с другим укромным местечком, куда, по непроверенным слухам, дважды заплывала семья косаток, — сегодня туда вперлась буйная орава мелюзги. Какие уж тут косатки!
Зато маленькая бухта, которую на подробных картах острова обозначали как Грьета — «трещина», а на официальных не обозначали вовсе, была свободна. Наверное, потому, что добраться туда было сложнее всего. Как бы невзначай, в узком скальном проходе к бухте я обронил свою майку. Для любого обитателя острова это было лучше всякого стоп-сигнала.
Мы спустились по крутым ступенькам, вырубленным в камне неизвестными доброхотами, к самой воде. Грьета не подходила для компаний — на песчаном пятачке, куда не захлестывали волны, могло с комфортом разместиться не больше двух-трех человек. Нас это устраивало. Мы перевели дыхание, выдули половину запасов альбарикока и фресамадуры, молча слопали по банану.
— Отвернись, — деловито сказала Антония, минут двадцать без перерыва шуршала сумкой за моей спиной и наконец позволила глядеть.
На ней был глухой гидрокостюм кислотно-зеленого цвета с белыми флюоресцирующими полосками, по всей видимости — с подогревом, в каких хорошо, наверное, погружаться в холодных северных водах.
— Где ты это взяла? — спросил я потрясенно.
— Подарили в пансионате «Аманатар», — пояснила она. — Это в Ирландии.
— А-а… — протянул я. — Но у нас теплое море.
— Не думаю, — сказала она строго.
Спорить было бесполезно. Я достал из своей сумки бранквии — две пластичные, почти прозрачные губки. Бесцветные, как я предпочитал, хотя можно было взять и цветные, и расписные и размалеванные совершенно ужасающим образом.
— Это такая фиговина, которая заменяет человеку жабры и делает его рыбой…
— Знаю, — остановила меня Антония. — Просто там, где я жила раньше, они назывались иначе. Я умею этим пользоваться.
— И где же ты ныряла?
— В бассейне.
— А-а… — снова протянул я, совершенно озадаченный. — Но здесь не бассейн.
— Не думаю.
Я стянул шорты и пристроил бранквию на нос, оставив рот открытым.
— С этой нашлепкой ты похож на морского слона, — иронически заметила Антония, вертя свою бранквию в руках.
Она явно преувеличивала свой опыт в обращении с ней.
— Ну что ж, — сказал я, отнял у нее бранквию, слегка помял, чтобы оживить, растянул и сотворил некое подобие обычной маски. — В этом ты будешь похожа на девушку в гидрокостюме, собравшуюся понырять.
Антония вознамерилась было произнести какую-нибудь колкость, но я прихлопнул бранквию ей на лицо, лишив способности шевелить губами.
— Дай руку, — сказал я. — И старайся не отплывать далеко.
— Бу-бу, — ответила она из-под бранквии, недовольно дергая плечиками.
Я завел ее в море, как маленького ребенка. Антония ступала в накатывающие струи, будто это была не соленая вода, а раскаленная магма. Все ее худенькое тело напряглось от дурных предчувствий, скрюченные пальцы впились ногтями в мою ладонь…
Вода поднималась с каждым нашим шагом, его гул нарастал… я-то знал, что за этим последует, я здесь был не впервые, и мне хотелось устроить ей маленький сюрприз — но похоже, этот сюрприз оказался не из приятных.
Море с грохотом ворвалось в узкое пространство Трещины и слопало нас с головами, даже не поморщившись. Только что мы стояли, сцепившись руками, видели ослепительно-синее небо, видели краешек белого солнечного диска из-за нависавших над бухтой скал — и вот между небом и нами несколько метров зеленой упругости, и ноги не достают до дна… Я увидел полные ужаса глазищи Антонии, ее раскрытый в безмолвном крике рот под помутневшей бранквией. Девчонка бешено и бестолково молотила конечностями… но, похоже, плавать, как и разборчиво выводить руками буквы, она тоже не умела.
Мы пробками вылетели на поверхность — вернее, я вытолкнул ее наверх, как пробку, а сам выскочил следом. До берега было метров двадцать, не меньше. «Тону!» — прочитал я по ее губам, и крикнул ей в ухо:
— Никто здесь не утонет! Ты не можешь утонуть! Ведь ты — рыба!
Мне даже пришлось легонько тряхнуть ее, чтобы привести в чувство. Она лежала в своем дурацком гидрокостюме на моих руках, затравленно глядя в небо и всхлипывая. Я отлепил бранквию с ее губ, чтобы Антония могла свободно дышать и говорить. Но она молчала, словно смертельно и несправедливо обиженный ребенок.
Я все сделал не так. Я все испортил своим идиотским сюрпризом. Нужно было соображать, когда и над кем учинять рискованные приколы. Теперь она ненавидела всех и вся. Ненавидела море за сыгранную с ней злую шутку. Ненавидела меня за мою эхайнскую тупость. Ненавидела себя за внезапное и постыдное проявление слабости. Тут ничего нельзя было поправить, оставалось одно — плыть к берегу и возвращаться в Алегрию тропой разочарований…
— Что это? — вдруг спросила Антония шепотом.
— А? Где? — промямлил я, поглощенный унылыми раздумьями.
— Меня кто-то толкнул… снизу.
Я закрутил головой. Неужели снова притащился давний мой приятель тюлень-монах?
Но это было нечто иное. Это было неизмеримо лучше. И это было мое спасение.
Его звали Гитано — «цыган», и уже никто не помнил, почему именно так. Может быть, за любовь к пляскам на волне? От других афалин, что заплывали в прибрежные воды Исла Инфантиль, его отличало светлое пятно неправильной формы посреди куполообразного лба. Кроме того, он был крупнее всех остальных самцов, размером с добрый ялик. У Гитано была подруга, которую звали, разумеется, Кармен, но людей по каким-то непонятным причинам она сторонилась. Похоже, этот здоровяк вообразил себе, что бедная девочка вот-вот утонет, а я и пальцем не пошевелю, чтобы ее спасти, и теперь старательно выталкивал Антонию на поверхность.
Антония в полном потрясении перевернулась на живот и теперь лежала раскинувшись на его широченной спине, как этакая тощенькая Европа на этаком быке… Разумеется, Гитано в два счета отбуксировал бы ее к берегу, но его смущало мое поведение. Он никак не мог взять в толк, почему же я-то не хватаюсь за его плавник и не плыву следом, шумно выражая благодарность за неожиданную и эффективную помощь. Он даже вынырнул из-под Антонии (та, против ожиданий, не испугалась, не ударилась в панику, а зависла в воде столбиком, вполне толково, хотя и по-лягушачьи, перебирая конечностями) и отплыл в сторону, недоуменно поглядывая на нас блестящими глазенками и поскрипывая на своем языке. Мол, а ты-то понимаешь, что им нужно, этим неуклюхам, Карменсита?.. Я огляделся. Подружки нигде не было видно.
— Это дельфин, — вдруг объявила Антония абсолютно спокойным голосом.
— Как ты догадалась? — машинально съехидничал я.
— Он меня не укусит?
— Не думаю. Ты же вся в резине, а дельфины резину не жуют.
— А что они жуют?
— Например, кефаль.
— У тебя случайно нет с собой?..
— Да ты только посмотри на его физиономию! Разве похоже, что он голодает?
— А что ему тогда от нас нужно?
— Поверь, этот парень ни в чем не нуждается. Он подумал, что это мы нуждаемся в его помощи…
— Все хорошо, спасибо! — крикнула Антония задыхающимся голосом. — Но он не уплывает…
— Он хочет поиграть с тобой, — пояснил я. — Позови его.
— Как?!
— Уж не знаю, — прикинулся я. — Найди способ!
Гитано продолжал нарезать круги, проказливо скалясь во всю многозубую пасть.
— Эй, — позвала Антония отчего-то шепотом. — Не будете ли вы так любезны приблизиться?
Она пошлепала ладонью по воде, как если бы подзывала собаку. Но Гитано все понял и не обиделся. Его мощное тело бесшумно погрузилось в глубину и серой тенью мелькнуло у нас под ногами, а затем он вынырнул между мной и Антонией, как диковинный морской бог, и снова легко вскинул ее себе на спинищу. Вода вокруг него кипела. «Надеюсь, ему достанет ума не уволочь ее далеко», — подумал я.
Но все обошлось. В десятке метров от нас всплыла Кармен, и вряд ли она одобряла поведение своего приятеля. Гитано сей же момент избавился от своей ноши и устремился следом за возлюбленной на просторы Медитеррании.
— Это дельфин, — снова сказала Антония каким-то потерянным голосом. — Я только что играла с дельфином.
— Ты, наверное, устала, — сказал я. — Поплыли-ка к берегу.
— Хорошо, — беспрекословно согласилась Антония. Впрочем, тут же проявила свое обычное упорство: — Мет, я сама!
Сама так сама… К ее чести обнаружилось, что плавать она все же немного умеет, стилем «брасс», но делает это чересчур академично и потому тратит слишком много усилий. К тому же, ей очень мешал дурацкий гидрокостюм… Не прошло и получаса, как мы выбрались на песочек, отлежались и со всевозможной поспешностью поднялись в мертвую зону, куда не захлестывал прибой.
— Северин Морозов, ты негодяй, — сказала Антония, приведя дыхание в норму. — Ты едва не утопил меня!
— Ну, извини…
— За что? За то, что не утопил?!
Я не знал, что и придумать в свое оправдание, и только беззвучно открывал рот, как дельфин-афалина.
— Так вот, — сказала Антония. — Я пить хочу.
Я подал ей бутылочку фресамадуры.
— И еще, — продолжала несносная девица, и металл в ее голосе звучал сильнее обычного. — Мы пришли сюда изучать морское дно, и мы его изучим, хотя бы все каракатицы мира встали у меня на пути.
— Крепко сказано, — заметил я, и вспомнил слова дяди Кости: «она очень цельный и сильный человечек».
Мы лежали на мокрых камнях, и хотя ситуация располагала к поцелуям и объятиям, не предпринимали ровным счетом ничего. Как брат с сестрой. Должно быть, давало себя знать пережитое потрясение. И, если быть честным, у меня давно пропало всякое желание нырять, и хотелось домой, и чтобы все хоть как-то поскорее закончилось.
— Скоро начнет вечереть, — промолвил я. — Конечно, мы сможем булькаться хоть всю ночь, но уж точно не разглядим ни единой рыбешки.
— Ты прав, — сказала Антония. — Этот огромный дельфин не заменит нам ни длиннорылого морского конька, ни большезубую рыбу-пилу, ни тем более книповичию Миллера…
— Не говоря уже о книповичии Гернера. Хотя вряд ли нам встретится что-нибудь экзотичнее обычного бычка…
— Бычки, коньки… никакой выдумки. Послушай, эхайн, а что если мне плюнуть на математику и стать ихтиологом? Из меня получился бы отличный ихтиолог. Уж я переназвала бы всех этих коньков!
— Как же ты назвала бы их?
— Ну, допустим… ну, не знаю… надо подумать… например… трубконос или клюворыл…
Что и говорить, с фантазией у нее было неважно.
Я приладил уже подсохшую бранквию себе на нос.
— Тебе помочь? — спросил я, поднимаясь.
— Ты уже помог один раз, — сказала она саркастически. — Нет уж, теперь я сама.
Сама так сама.
Я спрыгнул в узкое жерло бухты, присел на напряженных ногах в ожидании наката волны. Позади меня послышалось шлепанье босых ступней по влажному песку, и холодные жесткие пальчики нырнули в мою ладонь. Я коротко оглянулся. Пепельные, уже немного отросшие волосы стояли дыбом, узкое личико исполнено решимости, в серых глазищах плясало боевое безумие, на губах застыла азартная улыбка, бранквия сидела немного криво, но в целом вполне сносно… а от гидрокостюма Антония наконец-то решилась избавиться. Она стояла рядом со мной совсем голая.
Я перестал дышать. Я оглох и ослеп. Весь необъятный мир для меня схлопнулся до размеров ее тела.
…Не сказать, чтобы для меня такое переживание было в новинку. Девчонки в Алегрии частенько устраивали ночные купания и старательно, на публику, визжали, обнаружив присутствие постороннего. А как же не взяться постороннему, когда нет лучшего места для философских размышлений, чем морской пляж при свете луны?! Идешь, бывало, думаешь о чем-то возвышенном… о биноме Ньютона или плотности морского финика на квадратный метр шельфа… а из волны вдруг возникает какая-нибудь Мурена, одетая только в собственную смуглую, как сама ночь, кожу и едва прикрытая своими же ладошками, и разливается: «Севито-о-о!.. Иди к на-а-ам!..» — «И что я у вас стану делать?» — «А мы тебе подска-а-ажем…» Вздохнешь обреченно, махнешь рукой на этих дурех и побредешь себе дальше под их русалочий хохот…
Но сейчас это было как впервые, потому что было совсем рядом, на расстоянии прямого взгляда, на расстоянии сомкнутых рук, отчетливо и ясно, и в то же время ускользающе неразличимо, потому что взгляд спешил увидеть все сразу, а значит — не видел ничего…
И снова на нас обрушилось море и забрало с собой.
Но теперь настала уже моя очередь тонуть, задыхаться и беспомощно молотить конечностями. Думаю, я доставил этой вреднюге несколько приятных мгновений… но бранквия быстро насытила мою кровь извлеченным из воды кислородом, а прохладные струи остудили мою голову и вернули туда хотя бы немного рассудка.
Я парил в тугой зеленоватой мгле. Вода не давала мне опуститься на дно и не выталкивала на поверхность. Внизу, на взбаламученном песке, трепыхалась моя бесформенная тень. В груди колотилось сердце, тяжким молотом отдаваясь в ушах. Голова была пуста, как самая пустая комната… как это море. Я ждал, когда все произойдет, хотел, чтобы все произошло как можно скорее, и одновременно — чтобы миг ожидания длился и длился, потому что не было ничего блаженнее этого мига. Но, как говорил учитель физики Карлос Луна, объясняя нам происхождение Вселенной, ни одна вечность не длится вечно… Подплыла Антония, неловко загребая ладошками и перебирая ногами, и все равно она была похожа на нереиду, на маленькую неуклюжую нереиду, много пропускавшую занятия по плаванию со своим папашей Нереем, и ничего прекраснее я в жизни еще не видал. По ее спокойному неподвижному лицу пробегали тени, волосы шевелились, как водоросли, и все тело ее, ломкое и угловатое, теперь казалось струящимся и текущим, как сама вода, и таким же прозрачным. Наши руки встретились, и она прильнула ко мне на одно краткое мгновение, а потом вдруг вырвалась и ушла ко дну, приглашая следовать за ней, сыграть с ней в догонялки… Неуклюжая, неловкая, а поймать ее под водой оказалось не так-то просто! Стоило мне только настичь ее, схватить и привлечь к себе… она позволяла мне хватать себя за руки, за ноги, за бедра, за что угодно, крутить и вертеть себя, словно игрушку, словно ее ничем не защищенная кожа здесь, в толще вод, заменила ей самый непроницаемый гидрокостюм… как она вдруг выскальзывала, уходила из объятий, как угорь, и все приходилось начинать сызнова. Эта игра могла длиться бесконечно, мы забыли, что такое усталость и что такое время, здесь нам не нужны были ни воздух, ни солнечный свет, мы растворились в море без остатка. Я чувствовал ее руки на своем теле, точно так же и мои руки касались ее тела, и мы резвились как две большие веселые рыбы, или как Гитано со своей Кармен.
Ни одна вечность не длится вечно…
Антония вдруг исчезла, ее не оказалось ни возле дна, ни на поверхности, и мне пришлось напрячь все свое воображение, чтобы догадаться, что она уплыла к берегу. Но плыла она все тем же своим неспешным стилем «брасс», и я скоро настиг ее. Мы молча гребли ладонями — ее губы были залеплены бранквией, а я не имел ни слов, чтобы выразить свои чувства, ни желания их выражать, да и немного побаивался, что вот ляпну опять какую-нибудь глупость и разобью вдруг обрушившееся на нас счастье.
Спокойная и сильная волна вынесла нас на песок, я поднялся и подал Антонии руку, и она приняла ее без излишних колебаний, она не стеснялась своей наготы, не притворялась, что смущена, не принимала красивых поз, не напускала на свое лицо загадочное выражение вроде «видишь, я позволяю тебе на меня смотреть, я поверяю тебе самую сокровенную свою тайну…», нет — она вела себя просто и естественно, и глаза ее были обычными, и лицо всего-навсего усталым, а когда она отлепила от губ бранквию, то голос у нее был прежний, скрипучий и недовольный, и сообщила она этим голосом лишь то, что замерзла и ужасно хочет пить. Я, все еще немного оглушенный и трудно соображающий, отыскал в своей сумке последнюю бутылочку фресамадуры и отдал ей.
Все происходило как в старинном кино: то в замедленном темпе, то рывками, а отдельные эпизоды и вовсе выпадали… Антония поднесла бутылочку к губам и прислонилась ко мне спиной, влажной и прохладной… не переставая пить, с милой деловитостью взяла мою руку и пристроила себе на живот… мы сидели на песке, обнявшись, и наши губы наконец-то могли беспрепятственно встретиться… я уже лежал на спине, потому что она этого захотела, потому что и сам ничего другого уже не хотел… я молчал, потому что разом позабыл все слова, и она молчала тоже, но потом вдруг заговорила горячим шепотом, заговорила быстро и много, а я не понимал ровным счетом ничего, потому что не знал ни шведского, ни исландского…
Ни одна вечность не длится вечно. Она высвободилась из моих объятий, потянулась — и все-таки приняла позу:
— Посмотри на меня, эхайн, запомни меня. Я красивая? Я нравлюсь тебе?
…Иными словами, особенности прибрежного биоценоза мы, к нашему стыду, так и не исследовали.
14. Летим в Картахену
Мне вовсе не хотелось лететь в Картахену. Мне хотелось видеть Антонию, говорить с Антонией и быть с Антонией. Более неудачного момента для своих диспутов они и выбрать не могли. Особенно после того, что случилось между нами вчера, в Грьете. Тоже, нашли время! И добро бы эхайнам от этого их диспута стало холодно или жарко… Но я обещал, а обещание надлежало выполнять.
Утром, когда в «Сан-Рафаэле» начинались первые занятия, дядя Костя опустил свой гравитр на лужайку перед моим коттеджем и помахал мне рукой. Я со вздохом вскинул на плечо наполовину пустую сумку и вышел во двор. Консул окинул меня пытливым взором и осторожно спросил:
— Ты, часом, не прихворнул?
— Спал неважно, — соврал я.
— Рассказывай, — усмехнулся он. — Шлялся, небось, всю ночь напролет со своей подружкой…
Это предположение было в опасной близости от истины, и я предпочел сменить тему:
— Лучше расскажи мне, как ты был эхайнским графом.
Дядя Костя приосанился и, кажется, даже сделался шире обычного.
— Я не был, — объявил он. — Я есть и впредь намерен оставаться т'гардом Светлой Руки, если, конечно, какой-нибудь выскочка не отнимет у меня этот титул на Суде справедливости и силы…
И всю дорогу до Картахены он грузил меня своими байками об эхайнах. Его не смущало даже то обстоятельство, что временами я самым откровенным образом задремывал.
Итак: в промежутках между дремотой и бодрствованием я узнал, что у Консула, как и положено четвертому т'гарду Лихлэбру, есть три графских замка на двух планетах Светлой Руки, какие-то несусветные леса и поля, где дозволено охотиться только ему и членам его фамилии, а поскольку ему некогда заниматься подобной ерундой, то непуганного зверья расплодилось сверх всякой меры, и означенное зверье нагло жрет и топчет посевы; что один из замков он великодушно оставил родственникам своего предшественника, чем навлек на себя неодобрение какой-то Верховной комиссии и какого-то Круга Старейшин — подобное снисхождение к кровным врагам считается там проявлением слабости и чуть ли не кощунством, — но доказал им как дважды два, что по причине своего неэхайнского происхождения вправе пренебречь отдельными условностями какого-то Устава Аатар; что он совершенно запустил свои эхайнские дела, и даже рад, что старые Лихлэбры хоть как-то присматривают за хозяйством; и что мне непременно следует там побывать.
Я не возражал.
Потом до моего рассеянного сведения было доведено, что хотя Светлая Рука не воюет с Федерацией, но от прямых контактов, однако же, уклоняется, поскольку нет желания прежде времени обострять отношения с центральной властью Эхайнора, и с большой надеждой ожидает, не случится ли чего-то такого экстраординарного, что вдруг пробудит симпатии к человечеству у других, более могущественных Рук… политика есть политика; а вот Руки-аутсайдеры, вроде Лиловой и Желтой, в силу своего ничтожного влияния на судьбы Эхайнора, чувствуют себя не в пример свободнее, и даже учредили на Земле постоянные миссии — в Лимерике и Мдине; что эхайны очень интересуются нашим средневековьем, архитектурой в романском стиле, живописью фламандской школы барокко, а всего сильнее обожают нашу старинную музыку: по каким-то малопонятным обстоятельствам их собственная музыкальная культура зашла в тупик и долгое время не развивалась вовсе, поэтому масштабы присутствия музыки в нашей жизни их поразили, заинтересовали и впечатлили сильнее всяких ксенологических заклинаний, а тут еще и Озма…
Я выразил осторожное недоумение — на меня как на эхайна Озма отчего-то не производила должного впечатления.
Но дядя Костя напомнил, что этнически я Черный Эхайн, а у Черных Эхайнов все не так, как у остальных, и у Красных все не так, и не нужно забывать, что различий между Руками никак не меньше, чем между славянами и, к примеру, жителями Индокитая, да и внутри самих Рук полно больших и малых народов и народностей, и что лично он, дядя Костя, как правило — если специально не оговаривается иное — оперирует собственными познаниями в культуре Светлой Руки, к которой он и сам с недавних пор имеет некоторое касательство, о чем не однажды в минуты слабости уже и сожалел.
Я проснулся окончательно и спросил, отчего же.
— Хлопотно это, — признался дядя Костя. — Хлопотно быть аристократом и латифундистом вообще, а эхайнским — во сто крат хлопотнее. Уж лучше безо всего этого… сознавать себя свободным, как птица, порхать по волнам эфира, ни за что не отвечать и ни о чем таком… средневековом… не думать.
Лишь бы на земле Было счастье суждено! А в иных мирах Птицей или мошкой стать — Право, все равно![21]Я посоветовал плюнуть на все эти замки и забыть.
— Нельзя, — вздохнул дядя Костя, — это не только титулы и недвижимость, это еще и моя работа, прикладная ксенология, это еще и реальные рычаги воздействия на высокую эхайнскую политику, будь она неладна!
— Я бы плюнул, — сказал я.
— Вот-вот, — засмеялся он. — Легка и беззаботна твоя жизнь человеческого детеныша, и вовсе ни к чему тебе торопиться во взрослые.
15. Картахенский кошмар, или Нужны ли мы нам
К началу диспута мы не поспели. Уж не знаю, как это случилось, но к нашему приходу страсти там кипели нешуточные, словно все участники собрались в открытом амфитеатре Гуманитарного колледжа еще вчера, скоренько перезнакомились и за ночь успели переругаться. Никто никого не слушал и никто никому не давал высказаться. Модератор, загорелый юнец в белых шортах и бейсболке, выглядел загнанным. Он едва успевал послать сферикс — мобильный коммуникатор, похожий на ярко-красный летающий колобок, — в сторону очередного выступающего, а то и не успевал вовсе, чем раздражал всех еще сильнее. Хорошо хоть догадались прикрыть сборище сверху от жарких солнечных лучей рассеивающими полями… Между рядами носились ослепительно красивые девушки, тоже все как на подбор в белых шортах, в белых маечках с эмблемой колледжа и белых же косынках, раздавали всем желающим запотевшие бутылочки с прохладительным, но временами даже они забывали о своих обязанностях и принимались буйствовать как все: орать, свистеть и требовать слова. «Плохо дело, — шепнул мне дядя Костя. — Обезьянник какой-то. Чего это они так возбудились?» — «Испания, — отвечал я, зевая. — Мы здесь все такие темпераментные». — «Впрочем, — усмехнулся Консул, — могу представить, как выглядел бы диспут на тему „Нужны ли нам люди“ в Имперском Академиуме где-нибудь в Эхайнетте. Уже через полчаса все участники обменялись бы оскорблениями, несовместимыми с жизнью, затеялась бы рукопашная, и при этом никто ни на вот столечко не возражал бы против мнения, что, мол, люди определенно на фиг не нужны… — Он окинул внимательным взором ряды спорщиков. — Ба, знакомые все лица! Видишь того бритоголового потного джентльмена в черной безрукавке и черных шортах? Еще бы ему не быть потным во всем черном… Это некий Алекс Фарго, магистр логики, видный идеолог метарасизма. Тебе что-то говорит этот термин?» — «Говорит. Когда мама видит в новостях интервью с кем-то из метарасистов, она сразу делается похожа на Читралекху, завидевшую чужака. Так же шипит, сверкает глазами и ругается». — «Спорить с магистром Фарго. — занятие неблагодарное… но сегодня не его день, — промолвил дядя Костя с удовлетворением. — Во-первых, ему пока еще не дают и рта раскрыть. А во-вторых… обрати внимание на очень странную персону на расстоянии вытянутой руки от магистра». — «Да тут все странные!» — «Этого ни с кем не спутать. Похож на Страшилу в роли Железного Дровосека, не правда ли?» Я вынужден был согласиться: действительно, похож. «Одна жилетка чего стоит! Там сорок восемь карманов, я сам однажды посчитал. И хорошо еще он не напялил нынче свои чудовищные клетчатые штаны… Доктор социопсихологии Уго Торрент, в натуральную величину. Если Фарго доберется до сферикса, доктор Торрент тотчас же слопает его живьем и не поперхнется. Похоже, у них цугцванг… А теперь погляди прямо перед собой, четвертый ряд снизу. В такой, знаешь ли, ультрафиолетовой блузке и того же оттенка юбочке, да еще и ультра-короткой…» Мне не составило большого труда понять, о ком он говорил. Ольга Лескина, моя ненаглядная тетушка-великанша, о которой я почти позабыл за переживаниями последних дней, сидела в окружении загорелых machos, вскинув ногу на ногу, внимала их воркотне и временами благосклонно улыбалась. Даже сидя она была выше своих кавалеров на голову. У меня сладко заныло сердце, а внутри забили горячие ключи — совсем как тогда, ночью, в пустом коридоре моего дома… Но отныне все это должно было остаться в прошлом. Ведь теперь у меня была Антония… Между тем, Консул поднес к лицу свой браслет и отчетливо произнес, стараясь перекрыть рев толпы: «Оленька, мы здесь, и мы тебя видим». Тетя Оля встрепенулась, завертела головой, а потом привстала с кресла и замахала нам обеими руками сразу. «Мы после к тебе проберемся», — сообщил ей дядя Костя и опустил руку с браслетом. Вид у него был самый мрачный. Творившееся в амфитеатре безобразие ему чрезвычайно не нравилось. «Так мы ничего полезного не узнаем», — проворчал он. «А была надежда?» — саркастически осведомился я. «Понимаешь, дружок, — сказал он. — Время от времени в обществе возникают вопросы, на которые я очень желал бы знать ответ. Хотя бы и в форме некого статистически достоверного консенсуса…» — «Чего-чего?» — переспросил я. «Мне посчастливилось бывать на таких диспутах в Сингапуре, Хабаровске и Мельбурне. Было шумно, хотя и не до такой болезненной степени… — Консул вдруг оживился: — Особенно мне понравилось обсуждение в Тартусском университете! В конференц-зал вошло человек пятьсот, все в прекрасных костюмах и галстуках, чинно-важно расселись по академическому ранжиру, помолчали восемь минут тридцать секунд — я засекал! — а потом председательствующий продекламировал: „Высокое собрание пришло к единодушному выводу, что нет никаких объективных препятствий к возникновению конвергентных процессов в человеческой и нео-неандертальской, иначе так называемой эхайнской, культурах в строго позитивном смысле. В то же время высокое собрание хотело бы обозначить свою озабоченность возможной перспективой конвергентных процессов в означенных культурах в негативном смысле. Благодарю высокое собрание за активное участие в настоящем обсуждении“. Все молча встали, поклонились и разошлись. Я был счастлив. Нигде и никогда еще доктрина пангалактической культуры не получала такой сокрушительной поддержки!» Я сдержанно посмеялся. Консул же сочувственно поглядел на модератора, который только что на четвереньках не стоял. «С этим нужно что-то делать, — пробормотал он. — Побудь здесь, я отправляюсь на помощь мальчишке». И он полез книзу, рассекая человеческое море на манер океанского лайнера. Высвободившееся подле меня пространство сей же миг заполнили какие-то экзальтированные студенты. Один из них даже какое-то время молчал и рассматривал меня, запрокинув голову, а потом сообщил: «А я тебя знаю. Ведь ты — эль Гигантеско из „Архелонов“. Никогда бы не подумал, что тебя волнует… проблема эхайнов!» — «Ты хотел сказать — что-либо, помимо фенестры? — буркнул я. — Спасибо, волнует». И сделал вид, что увлечен зрелищем того, как Консул приводит к повиновению скопище горлопанов и бузотеров. Между тем, дядя Костя отобрал сферикс у модератора и вовсю демонстрировал замашки военного диктатора эпохи мировых революций. У него хорошо получалось. «Теперь так, — объявил он, врубив сферикс на полную мощь и прикрыв своей широкой спиной совершенно деморализованного модератора. — У высокого собрания есть три минуты, то есть сто восемьдесят секунд, чтобы понизить уровень шума до приемлемого…» — «Дайте определение!» — заорал кто-то громче всех. «…при котором возможен обмен полезной информацией без излишних усилий и неоправданных потерь содержания. До тех пор сферикс остается у меня». — «А что потом?» — «А потом вот что, — зловеще усмехнулся Консул. — Будете вести себя как стадо павианов на просторах саванны — я растопчу сферикс и уйду пить пиво. Пиво в жару — то, что нужно для настоящего мужчины. А вы сможете драть глотки дальше, если для этого и собрались». — «Это недопустимый диктат!» — «Отберите у него сферикс!» — «Кто он такой?!» Я с наслаждением ожидал, что сейчас дядя Костя спокойно и весомо перечислит все свои титулы, включая самый убойный среди них «четвертый т'гард Лихлэбр». Но он равнодушно проронил: «Это неважно. Допустим, я ординарный ксенолог». Магистр Фарго и доктор Торрент, не сговариваясь, залились театральным смешком одинаковой степени ядовитости. «Ну хорошо, я доктор ксенологии, если кому-то от этого легче… Просто шел мимо и услышал дикие крики. Думал, здесь кого-нибудь режут. А попал на общественный диспут на тему, которая меня давно занимает. И сейчас весьма желаю выслушать полезные соображения… Кстати, если есть желание отнять сферикс: пожалуй, я не стану его топтать — это долго и ненадежно. — Он подкинул шарик на ладони. — Я его раздавлю пальцами». Шум понемногу смолкал. С галерки донесся насмешливый возглас: «Это блеф! Сферикс изготовлен из керамита высокой прочности. Иначе его кто угодно мог бы вывести из строя. Я сам видел, как его пытались проглотить!» — «Хорошая мысль, — сказал Консул. — Но я уже завтракал. Впрочем, если есть желание проверить мою правоту…» Он зажал сферикс между пальцев. Даже на расстоянии было видно, как на его руке вздулись жилы. Амфитеатр замер. Я перестал дышать. Целая минута мертвой тишины показалась вечностью. «Не получилось», — вдруг сказал Консул и несолидно хихикнул. Несколько тысяч человек, что цепенели вместе со мной, сделали общий выдох облегчения. «Все же, есть в этом мире надежная техника…» — сказал студент рядом со мной. Пространство амфитеатра наполнилось гулом голосов, но прежнего накала уже не угадывалось. Дядя Костя неспешно натянул сенсорную перчатку управления сфериксом, примерился и щелчком послал шарик в сторону ближайшей вскинутой руки. «Что я хочу сказать…» — «Короче!» — «Без лишних орнаментов!» — «Незачем хотеть, пора уже говорить, наконец!..» — «Silencio! — рявкнул дядя Костя. И в мигом установившейся тишине прибавил сценическим шепотом: — Por favor[22]…» Выкрики с мест стихли до приемлемых норм, оскорбления прекратились вовсе — оскорблять Консула было себе дороже! — и обсуждение вошло в почти нормальное русло. Магистр Фарго злобно помалкивал, косясь на доктора Торрента, остальные же разглагольствовали в том смысле, что, да, человеческая культура вполне самодостаточна, и не слишком нуждается в мощном и довольно-таки чужеродном притоке новых идей, тем более что наличие, обилие и соответствие идеям гуманизма таковых пока что вызывает большие сомнения, но в то же время, нет, никак нельзя отрицать, что существующее положение вещей давно уже обнаруживает тревожные признаки некоторого застоя, что означенные признаки пока что не обрели форму опасных тенденций во многом благодаря мощным интеграционным процессам, имеющим место между Федерацией и Галактическим Братством, за что последнему отдельное и непритворное спасибо (Консул старательно держал каменное лицо, но удовлетворение читалось на нем открытым текстом), что постоянное присутствие на Земле всяких там виавов, иву… ува… в общем, каких-то там… арпов, и даже тех же тоссфенхов, какие бы гримасы ни корчили сеньоры и как бы сильно не визжали сеньориты из группы поддержки гуманоидных инициатив с кафедры геосоциометрии, идет человеческой культуре всегда во благо и никогда во вред, и объяснить сей феномен можно только другим феноменом, а именно — эффектом «интеллектуального тигеля» («Это еще что за tonteria?![23]» — «Да он сам только что придумал!» — «Может, и придумал, но эффект-то существует, а раз существует, его непременно следует поименовать!..» — «Тебя бы кто так поименовал!..»), который в полной мере присущ человеческой культуре как тоже опять-таки феномену, но галактического уже масштаба («Ох уж эти мне культурологи! У них что ни прыщ, то на пол-Галактики!» — «Пускай оторвет свою reraguarda[24] от кресла, кинет ее в вечерний трансгал и смотается хотя бы до ближайших соседей по Братству… кто там у нас поближе, сеньор ксенолог?» — «Кристалломимы с Летящей звезды Барнарда», — охотно сообщил Консул. «Вот-вот… и спросит у этих мемокристаллов, подозревают ли они о наличии у обитателей желтого карлика, расположенного на расстоянии…» — «Чуть менее шести световых лет», — с готовностью подсказал дядя Костя. «Вот-вот… о наличии у оных хотя бы каких-то начатков культуры, а если уж на то пошло, то и о существовании таковых обитателей…» — «Подозревают, — ответил Консул. — И очень интересуются нашей монументальной скульптурой. Хотя основания для подобного интереса у многих вызвали бы недоумение…»), а именно: способности человеческой культуры воспринять, ассимилировать и переварить целиком даже самые фантастические на беглый взгляд идеи («И удалить из организма!» — «Внимание, сеньоры! Вводится во всеобщее употребление новый термин — несварение культуры!» — «Культурологический запор! По аналогии с культурологическим шоком…» — «Давай дефиницию!» — «Легко: запор — тот же шок, только без летальных последствий…»), нисколько от такового акта не пострадать и по прошествии некоторого, довольно непродолжительного времени выдать все благопереваренное за свое («А при чем тут эхайны?!» — «Пожалуй что и ни при чем!» — «А кто это такие, и зачем они нам нужны?» — «Так ведь это и есть главная тема высокого диспута!» — «Спасибо, что напомнил… а то я уже и забыл, зачем сюда явился!» — «Мог бы пройти мимо, всем было бы только спокойнее…»), так же случится и с эхайнской культурой, если последняя сочтет за благо недвусмысленно обозначить свое присутствие в культурном пространстве Федерации, а не будет заниматься переманиванием наших достояний галактического масштаба («Опять за свое!» — «Это он про Озму, что ли?!» — «А у тебя есть другие кандидаты на галактическую значимость?» — «Ну, знаете… Я, конечно, Озму люблю и даже обожаю, но вряд ли ее музыкальное дарование потрясает хотя бы одну расу за этническими пределами Федерации». — «Дарование! Это у тебя дарование языком чесать, а у Озмы — дар божий!» — «Виавы, сколько мне известно, живо интересуются…» — «Ему известно!.. Это виавов нужно спросить, пускай сами признаются. Есть здесь хотя бы один виав?» — «Эгей, братья по разуму! Отзовитесь!» — «Когда не нужно, виавы на каждом шагу, а как приперло, с фонариком не сыщешь…» — «Интересуемся, успокойтесь всё». — «Кто это сказал?!» — «Да это он сам и сказал!» — «Ты что, виав?» — «Очень признателен, конечно, за столь высокую оценку моей скромной персоны, но я коренной баск, могу предъявить генетическую карту, сестру и папу с мамой…» — «Но кто-то же сказал, что, мол, интересуется!» — «Ну, сказал и сказал, сейчас все бросим и будем заниматься поисками виавов…»), и есть некоторая надежда, что место, занятое культурой эхайнов в едином, интегральном пространстве, окажется достойным, они это оценят и пересмотрят свое негативное отношение к человечеству, да и самому человечеству таковая интеграция не помешает, а то есть горячие, я бы даже сказал — больные головы, которые при слове «виав»… тьфу!.. «эхайн» роют землю копытом, что твой бык, наливают зенки кровью и готовы бодаться как ненормальные (магистр Фарго потянулся было к сфериксу, но заметил, что доктор Торрент привстает со своего места, и, страдальчески сморщившись, опустил руку), и вообще давайте для начала определимся с темой диспута («Для начала! Уже солнышко в зените, а у него все еще начало!» — «И давайте говорить по одному, а то получается не диспут, а какая-то песнь козлов…» — «Не помню, чтобы я чем-то тебя оскорблял!» — «Это калька с древнегреческого, estupid!» — «He помню, чтобы я тебя как-то обзывал!»), быть может, ее следовало бы сформулировать как «нужны ли мы нам», и уж поверьте, здесь было бы о чем поговорить и высказать свежие, нетривиальные суждения… «А давайте не будем растекаться мыслию по древу!» — «А давайте будем! В особенности если есть мысли!» — «Древа-то нет!» — «И мыслей явный дефицит!» — «Так ведь жарко… кому же охота думать в сиесту?» — «Я вообще не вижу большого смысла в этом диспуте. Какое-то нелепое сотрясение воздуха…» — «Вот мы сейчас покричим и разойдемся. И никому от этого не будет ни холодно, ни жарко. Ни нам, ни эхайнам, которые даже не узнают о том, что однажды, знойным сентябрьским утром, где-то в Картахене…» — «Отчего же, — сказал дядя Костя. — Не нужно преуменьшать интерес Эхайнора к общественному мнению человечества. Я точно знаю, что здесь присутствует по меньшей мере один эхайн». Я похолодел. Это был совершенно неожиданный поступок с его стороны, и я не был готов открыться перед таким количеством незнакомых людей. Однако же Консул и не глядел в мою сторону. Он вообще уставился на носки своих ботинок. «Янрирр посол желает… хм… обозначить свое присутствие? — спросил он. — Или он хотел бы сохранить инкогнито?» За его спиной, на самой верхотуре, в полной тишине медленно, почти зловеще воздвиглась громоздкая фигура в просторных белых одеждах, специально призванных замаскировать ее нечеловеческую мощь. «Гатаанн Калимехтар тантэ Гайрон, дипломатический представитель Лиловой Руки Эхайнора в метрополии Федерации», — торжественно объявил дядя Костя, не поворачиваясь. Как будто на затылке у него была дополнительная пара глаз. До меня отчетливо донесся знакомый приглушенный возглас: «Уой!» — «Янрирр посол желает высказаться? — спросил Консул. — Нет? Благодарю, янрирр». Магистр Фарго завладел-таки сфериксом, но выступать благоразумно не стал, а осведомился, не имеет ли доктор Кратов в виду завершить диспут неким пламенным резюме во славу пангалактической культуры, а то, действительно, становится жарко, и пора обедать. Физиономия доктора Торрента выразила крайнее разочарование. Так был бы разочарован удав, от которого вдруг ускакал чрезмерно резвый кролик. «Нет, — сказал Консул. — Не желаю. Я хотел послушать разумные суждения, и это мне почти удалось. А желаю я вот что, — он ловко извернулся и вытянул откуда-то из-за спины прикорнувшего в его тени модератора. — Давайте воздадим должное мужеству и выдержке этого юного сеньора, что с таким выдающимся искусством провел наше, следует заметить, чрезвычайно непростое обсуждение и позволил высказаться всем, кто имел по теме диспута хоть какое-то мнение». Дружный гогот, рукоплескания. Модератор, бурый от смущения, торопливо раскланивается и норовит улизнуть. Кто-то тянется к выходу, кто-то спешит к подножию амфитеатра, чтобы продолжить диспут в неформальной уже обстановке. Консул улыбается, пожимает чьи-то руки, кажется — даже дает автографы. Завидев жилетку с сорока восьмью карманами в непосредственной близости от себя, он сразу спадает с лица и удирает в направлении меня со всевозможной резвостью…
Когда мы уже покинули амфитеатр и стояли в тени какого-то старинного здания, дожидаясь тетю Олю, я наконец отважился спросить:
— А ты и вправду не справился со сфериксом?
— Конечно, нет, — усмехнулся Консул. — Пустотелый шарик… что такого? И любой сильный мужчина справится. Да вот хотя бы и ты!
— Но кто-то же ляпнул про керамит высокой прочности!
— Это был Торрент, — кротко пояснил дядя Костя. — Он мне подыграл. Иногда он бывает весьма полезен… Видишь ли, мнение людей для меня всегда важнее, чем раздавленная скорлупка.
Наконец в окружении малорослых, но все еще полных энтузиазма ухажеров, появилась тетя Оля. Пара слов, произнесенных с насмешливой улыбкой — и machos, как по волшебству, отстали, крайне разочарованные.
— А сейчас будет интересно, — вдруг шепнул дядя Костя.
В направлении ближайшей стоянки гравитров, наперерез моей великанше, энергично шагал другой великан в развевающемся белом балахоне. Поравнявшись с нею, он внезапно опустился перед нею на одно колено и прижался лицом к ее руке.
— Уой… — пролепетала тетя Оля.
Посол Гатаанн Калимехтар тантэ Гайрон.
А я все пытался вспомнить, откуда мне знакомо это имя.
— Пойдем, дружок, — сказал Консул. — На сегодня твоя тетушка всецело ангажирована.
Он снова не выглядел сколько-нибудь удивленным. Как будто обо всем знал заранее. Быть может, так оно и было?
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГОЛОС КРОВИ
1. Инцидент, или Все девчонки спятили
Первым, кого я увидел утром по возвращении из Картахены, был верный мой Чучо. Он влез в мое раскрытое окно и теперь сидел на подоконнике, словно мартовский кот. Против обыкновения, он выглядел чрезвычайно взволнованным.
— Ты уже знаешь? — спросил он быстро. — Тебе уже рассказали?
— Например, что? — полюбопытствовал я благодушно.
— У нас случился инцидент. — Он произнес последнее слово по слогам и с плохо скрываемым наслаждением.
— Неужели кто-то подрался? — хмыкнул я.
— Рассказали… — протянул он разочарованно.
Я насторожился.
— И кто же? Снова Мурена с Барракудой?
— Ты все уже знаешь… Но это было потом. А сначала Мурена отлупила твою Антонию.
Меня снесло с кровати, как ошпаренного.
— Как это… Подожди! Что значит — отлупила?!
— Да вот так. Встретила после занятий и попыталась поговорить. Но что-то разговор у них не заладился, и Мурена несколько раз стукнула Титу. Видно, думала, что та станет защищаться, и все получится, как с Барракудой. А та… не стала. Она же другая, не такая, как все. — Чучо пожал плечами. — Я сам не видел, а кто видел, говорят, что это походило скорее на цирк, чем на обычное выяснение отношений.
— Цирк! — простонал я.
— Мурена ее стукнет и орет: «Ну, что ты стоишь?!» А та молчит и смотрит на нее, как на пустое место. Потом раз — и упала.
— И что дальше? Все стояли и ждали, пока Мурена успокоится?
— Тут уже Барракуда разозлилась. «Нет, — говорит, — так неправильно. Что же ты ее бьешь, раз она не отвечает? Ты уж лучше меня попробуй!» Мурена и ей подвесила. Обычно Барракуда ей поддается, а тут на нее что-то нашло, и она вздула Мурену так, что любо-дорого…
— А что Антония?
— Пока они дрались, встала и тихонько ушла к себе в комнату.
— И что? — снова спросил я, как заведенный.
— И теперь учителя стоят на ушах. Воспитывают всех подряд. Еще бы — давно такой потасовки не было! Мурену — под домашний арест, Барракуду — тоже… Эй, эй, куда ты?!
Я отпихнул Чучо и выскочил в окно — добираться до дверей не было времени. Бегом пересек аллею и взмыленный, со сбившимся дыханием, содрогаясь от предчувствий, взлетел на крыльцо домика, где пряталась от злого, жестокого мира моя милая девочка.
Она не впустила меня.
Конечно, она никого не хотела видеть. Даже меня. Ни с кем не хотела разделить свое невольное унижение, маленькая гордячка. Уж не знаю, что там творилось в ее голове, какие обидные мысли рождались, но ведь не было никакого унижения! Ну, не захотела драться с дурой, у которой собственная температура чуть выше точки кипения воды, а мозги в таких природных условиях, как известно, отказывают напрочь… Я мог бы ей все объяснить, мог бы успокоить и утешить. Но она не захотела меня выслушать. И не меня одного: чуть поодаль, на скамеечке, с самым несчастным видом, ссутулившись и зажав ладони между колен, сидела profesora Мария Санчес де Пельяранда, и выглядела она не прежней блистательной небожительницей, а усталой и даже не слишком молодой сеньорой.
Тогда я пошел к Мурене. У нее как раз двери были настежь, заходите все кому не лень. Судите, браните, насмехайтесь. Но, похоже, я был в числе первых… Сама Мурена сидела в кресле спиной ко входу и неотрывно смотрела куда-то за окно. Что она там видела в трепыхании зеленых крон, одной только ей было известно.
— Зачем? — заорал я с порога. — Из-за чего?
— Из-за тебя, дурак, — огрызнулась она, не оборачиваясь.
— Из-за меня?!
— Конечно! Ты доволен?
— Всю жизнь об этом мечтал! — рявкнул я.
Мурена крутанулась в своем кресле и вперила в меня громадные черные глазищи. Один, впрочем, почти заплыл, а другой подозрительно и непривычно блестел. Поперек левой скулы и на подбородке темнели широкие ссадины. На голом плече впечаталась синим чужая пятерня, костяшки кулаков инкрустированы свежими коростами. Сама Мурена куталась в пурпурный махровый халат размера на три больше, чем нужно, полы которого постоянно расползались, открывая ободранные колени. Совершенно изгвазданный белый сарафанчик валялся посреди комнаты, как тряпка.
— Ты спятила, — пробормотал я.
— О да, — усмехнулась распухшими губами Мурена. — Это было почище корриды. А ты знаешь — я нисколько не раскаиваюсь. Вот нисколечко! Я бы ей врезала и посильнее, не упади она сразу. Она давно напрашивалась…
— Подумай, что ты несешь!
— Да я весь день только и делаю, что думаю! Никогда столько не думала, даже голова гудит!
— Это она у тебя от другого гудит.
— Фигня, доктор Эрнандес сказал — мозги не обнаружены, сотрясения нет… — Она вдруг надолго замолчала. Потом плеснула рукой, отгоняя неприятные воспоминания. — А! Хорошо, наверное, быть такой вот серой, тщедушной крыской. Чтобы все тебя жалели, все любили, чтобы никто в твою сторону косо не мог поглядеть. А ты бы только скалилась и всех кусала исподтишка. Думаешь, мне сейчас классно оттого, что я начихала на все ваши табу и врезала ей? Да я как в дерьме выкупалась! Веришь ли, под душ вставала три раза… не помогает. — Тут ее выдержка иссякла, и Мурена обернулась белугой. То есть натурально зарыдала в три ручья. Просто сидела в кресле, упаковавшись в свой чудовищный халат, а из глаз вовсю хлестали слезы. — Я не такая! — говорила она, захлебываясь и оглушительно хлюпая носом. — Я не могу притворяться, что меня это не касается, что мне нравится, когда ты не отходишь от нее ни на шаг, будто она лучше всех, красивее или умнее… не могу лгать, что ты мне безразличен! Почему она? Почему она, а не я? В чем я уступила ей, этой ледяной сосульке?! Разве я уродина, разве я зануда и притвора? Почему, ты можешь мне ответить наконец?!
Вот что я действительно не мог, так это смотреть, как она сидит передо мной и ревет. Такое зрелище не для слабого мужского сердца. Мне сразу захотелось ее утешить, прижать к себе и погладить по ее глупой лохматой башке. Может быть, она того и добивалась своими слезами и словами, а может — все это шло у нее от души. Ну да, она с детства в совершенстве владела всякими женскими уловками, это было у нее в крови… но и ее мне было невыносимо жаль. Быть может, не меньше, чем мою Антонию. А что ни говори, не заслуживала она сейчас никакого снисхождения. Не тот случай.
Или это не она была чересчур лукава, а я неоправданно жесток? Ведь это я был причиной того, что им обеим досталось, и нравственно, и физически.
— Знаешь что… — начал я, и оборвал сам себя на полуслове.
Она звонко шмыгнула носом и отвернулась — сызнова пялиться за свое несчастное окно.
Толку от нее было мало. От меня и того меньше.
И я вломился к Барракуде.
2. Особа королевских кровей
Tertius extrarius,[25] она должна была в этой истории пострадать меньше всех. А значит, сохранялась надежда выведать хоть какие-то подробности.
Барракуда действительно не выглядела удрученной, и домашний арест ее нимало не тяготил. Сидела, расфуфырившись, как на праздник, в платьице с какими-то рюшами, в передничке, в подвитых и уложенных волосах лилово-красная роза, моська накрашена, фингал под глазом замазан так, что и не видно. И, что самое дикое, наворачивала ванильное мороженое из огромной банки.
— А, Севито, — обрадовалась она. — Ну, как слетал? Хочешь мороженого?
— Я вас всех придушить хочу, — честно признался я.
— Меня-то за что? — искренне удивилась она.
— До кучи! Как ты можешь после всего, что произошло, сидеть тут и лопать мороженое?!
— Это от волнения, — призналась она. — Я всегда, когда переживаю, наваливаюсь на мороженое, чтобы успокоиться.
— Не боишься разжиреть?
— Я же говорю: от волнения. А значит, все, что я умну в состоянии стресса, во мне же и сгорит, как в топке.
— Может, хотя бы ты объяснишь мне, что это на вас всех нашло?
Барракуда отодвинула свое мороженое, слизала цветные усы и только тогда повернулась ко мне.
— Ты ведь знаешь, как я к тебе отношусь, — начала она.
— Только не это! — взмолился я.
— Нет, ты не понял. Да, ты мне нравишься. Да, я была бы рада, если бы ты выбрал меня в свои подружки и ходил со мной в Грьету купаться голышом… — Я покраснел, но смолчал. — Но ты меня не выбрал, и я не умерла. Не хочешь — не надо. Честно говоря, у меня к тебе сестринские чувства. Ты славный, милый, красивый… но ведь не светоч ума и добродетели, согласись.
— Ты мне зубы не заговаривай… — взъелся я несколько растерянно, потому что никогда прежде не слыхал от смазливой и недалекой хохотушки Барракуды таких основательных речей.
— Иными словами, я не схожу по тебе с ума, как некоторые, — продолжала она, временами сожалеюще поглядывая в направлении мороженого. — Другое дело Мурена. У нее из-за тебя, по-моему, началось гормональное отравление. Особенно после того, как ты выгулял свою возлюбленную в Грьету… — Я покраснел запредельно. — Она подстерегла Титу, рассчитывая убедить ее оставить тебя в покое, а еще точнее — оставить тебя ей, Мурене. Все равно Тита скоро улетит на свой драгоценный Тессеракт, а про тебя, по всей видимости, забудет. Ты, верно, знаешь, как крошка Мурена умеет убеждать.
— Откуда мне знать? — буркнул я.
— Так вот: она не умеет убеждать вовсе. Простая испанская девушка, чья голова одурманена страстью… Тита, бедняжка, сначала и понять-то не могла, чего эта гарпия от нее добивается. Или притворялась, что не понимает. Это даже более вероятно, потому что она только и делает, что притворяется. И что она такая беспомощная, и что хилая и немощная, все жалейте ее и любите… Подожди, не перебивай. В общем, она слушала Мурену, слушала и довольно глуповато хихикала. А потом ей, как видно, надоело. И слушать надоело, и притворяться. И она Мурене кое-что сказала.
— Что сказала? — спросил я.
— Не знаю. Не расслышала.
— Врешь!
— Ну и вру! — вспыхнула Барракуда, нервно цапнула мороженое и заглотила сразу порядочный кусок. — В конце концов, это не моя тайна, — пробубнила она набитым ртом. — Сам разбирайся со своей подружкой!
— Ладно, продолжай.
— Мурена от этих слов взорвалась как бомба. И влепила твоей ненаглядной оплеуху. По-моему, они обе не ожидали. Мурена, хотя и ополоумела, все же в начале разговора еще соображала, что с Титой нельзя так, как, к примеру, со мной. А той и в голову не приходило, что ее за ненароком оброненную фразу могут вздуть. Но раз уж случилось — значит, случилось. И вот Мурена лупит Титу по физиономии, а та даже рук не поднимает, чтобы прикрыться. Мурена визжит: «Ты что торчишь, как пугало? Защищайся! Дай мне сдачи!..» А Тита стоит, как громом пораженная, с разбитым носом, и только смотрит на нее, словно на музейную диковину. Наверное, до этого дня ее никогда в жизни никто и пальцем не трогал… хотя в это трудно поверить.
— Так оно и было, — мрачно подтвердил я.
— Теперь, я думаю, новизна впечатлений ей обеспечена… Так вот, Мурена бьет Титу, Тита молчит и смотрит, я молчу и смотрю… там еще были девчонки… и всем это нравится все меньше и меньше. То есть, с самого начала это было неправильно. Ну, нельзя было с ней так. А когда она упала, я решила, что это нужно прекратить.
— И что? — спросил я, кажется, в сотый уже раз за утро.
— И я это прекратила. Врезала Мурене разок — она не успокоилась. Она и в самом деле как с цепи сорвалась. Кастильский темперамент… Пришлось мне ее крепко отделать, чтобы она пощады запросила. А она не просила очень долго.
— Впервые слышу, чтобы кто-то заставил Мурену просить пощады, — пасмурно заметил я.
— Видишь ли, милый Севито, — сказала Барракуда, потягиваясь, как кошка. — Я еще в четырнадцать лет подтвердила свой черный пояс в Годзю-рю, и мне запрещено применять боевые познания за пределами татами. Я вынуждена была уступать Мурене. Но вчера мне пришлось на время снять маску повиновения и все расставить по местам. Потому что бить человека, который не умеет за себя постоять, неправильно. Кстати, она так и не сдалась. Просто не могла уже сопротивляться. И я ее бросила… — Смуглая мордаха Барракуды сморщилась, словно мороженое вдруг сделалось невыносимо кислым. — Ты ведь знаешь, обычно я не дерусь.
— Знаю.
— Не потому, что трушу. Просто драться — это противно. Мерзко. Ненавижу… Одно дело — на татами, и совсем другое — так, как Мурена, из удовольствия.
— Не заметил, чтобы на сей раз она получила много удовольствия.
— Это уж точно, — согласилась Барракуда.
— Но фингал-то она тебе все же нарисовала.
— Фингал? А, ерунда… Это она мне в самом начале подвесила, когда еще не поняла всей серьезности моей угрозы. Хотя эта твоя Тита — последнее существо в подлунном мире, из-за которого я желала бы сражаться. А ты сам-то когда-нибудь дрался?
— Я? Н-ну… э-э…
— Да знаю, что ни разу. И я тоже избегаю этой гадости. Драка — это низко и пошло. А тут вот пришлось. Хотя Мурене давно причиталось. И не скажу, что так уж сильно раскаиваюсь. — Она помолчала, старательно облизывая ложечку. — Нет, все равно противно. И ладно бы я ее кулаками била. Это моим наставником не возбраняется. Так ведь я, несчастная дура, ее два раза коленом двинула. Коленом! Нос ей разбила. Ужасно, непристойно!.. — Барракуда усмехнулась, но глаза ее были печальны. — Так что, если желаешь прочесть мне нотацию, запишись в очередь.
Не хотел я ее ни в чем укорять. Не за что было. А в сочувствии она, как видно, не нуждалась.
Или я снова ошибался?..
За окном послышался какой-то шум, множество взволнованных голосов, двор перед коттеджем наполнился людьми. Барракуда с сожалением отправила остатки мороженого в предусмотрительно открытое жерло утилизатора, приложила к губам загодя приготовленную салфетку и спровадила ее следом… Я смотрел на нее, как на сумасшедшую. Раньше она бы с места не тронулась, оставайся хотя бы крошка лакомства, и уж точно утерлась бы рукавом.
— Застегни рубашку, — повелела она мне.
Не сказала, не приказала, а именно повелела.
По ту сторону дверей происходило какое-то непонятное и суетливое движение, а затем раздался деликатный, но настойчивый стук.
— Прошу вас, господа! — царственно произнесла Барракуда, выходя из-за стола.
Я попятился.
В крохотную комнатушку влетели и тут же рассредоточились вдоль стен какие-то люди в черных, не по погоде, одеждах, на бегу придавая интерьеру видимость благопристойности, поправляя шторы и едва ли не сдувая пылинки с мебели. За ними последовали важные дамы в старомодных платьях, числом не менее десятка. Я увидел серое лицо сеньора Андреса де Миранда, директора колледжа «Сан Рафаэль». В комнате стало негде ступить. Барракуда смотрела на это безобразие со странной смесью невыразимой тоски и едва скрываемого восторга… Толкотня в комнате внезапно приобрела некоторую упорядоченность, все расступились, образуя живой коридор, меня оттеснили к самой дальней стенке.
— Ее королевское величество донья Корнелия де Суэсия-и-Аустрия! — взревел кто-то металлическим голосом.
И вошла Корнелия Австрийская, королева Испании.
Все мужчины склонили головы, все женщины, не исключая этой оторвы Барракуды, присели в реверансах. Вокруг королевы, как бы по волшебству, образовалось пустое пространство.
— Инфанта Линда Кристина Мария де Борбон-и-Суэсия! — заорал все тот же ненормальный голос.
«Кто же здесь инфанта?..» — подумал я с интересом, и тут до меня дошло.
Если до жирафа, по слухам, доходит на третьи сутки, до диплодока, по экспертным прикидкам, на вторую неделю, то я, простой Черный Эхайн, побил все рекорды. Мне понадобилось почти двенадцать лет, чтобы допереть, что моя старинная подружка Барракуда и есть самая натуральная принцесса, особа королевских кровей. Я вспомнил пророческие слова Консула: «Одна из этих сеньорит определенно утрет тебе нос своим происхождением…» Но кто же знал, что на нашем островке обитают неузнанные королевские отпрыски?!
Корнелия Австрийская грациозно откинула вуаль с чеканного лица и строго посмотрела на принцессу-хулиганку.
— Дитя мое, — промолвила она бархатным контральто. Даже мне был отчетливо различим ее тяжелый акцент. — До нас дошли неприятные слухи… — Тут королева слегка повернула голову и обронила: — Благоволите оставить нас с инфантой наедине.
И все ринулись прочь. Мне очень хотелось задержаться и посмотреть, на что это похоже — королевская нахлобучка, но сеньор де Миранда, с неприятно перекошенным от подобострастия лицом, ухватил меня под руку и повлек за собой. Придворные зависли на крыльце, а случайные зеваки, вроде меня, с чувством слабо удовлетворенного любопытства рассосались по зеленой зоне.
— Королева… — сказал сеньор де Миранда, утирая пот. — Королева — это вам не шуточки. Это надо ценить, вне зависимости от повода, коему мы обязаны ее визитом… Вы понимаете меня, Севито?
Я не понимал. Ну, королева, ну, красиво. Костюмы, кареты, пажи. Годится для сказки про какую-нибудь Золушку… Но мне не хотелось обижать директора, славного и доброго человека, и я кивнул и выразил свое согласие разнообразными утвердительными междометиями. Если сеньор де Миранда безумно любит свою королеву — кто я такой, чтобы его в том попрекать?.. Да и то сказать, повод для высочайшего визита был и впрямь не из лучших. Барракуде никто бы сейчас не позавидовал, даже принимая в расчет, что она принцесса.
Что ж, я мог быть уверен в одном: всем непосредственным виновницам инцидента в той или иной степени перепало по первое число.
Но я все еще не говорил с Антонией.
3. Бросаю Антонию
И лучше бы мне было не говорить с нею вовсе.
Она так и не открыла. Поэтому на протяжении этого дурацкого разговора я, как дурак, стоял у запертой двери и самым дурацким образом общался с дверной ручкой. И голос у меня тоже был самый дурацкий, какой только можно себе вообразить. Жалкий, заискивающий, словом — полное ничтожество.
АНТОНИЯ (чрезвычайно ядовито). Что, пришел пожалеть?
СЕВЕРИН (окончательно потерявшись). В том числе.
АНТОНИЯ. Мне жалость ваша не нужна.
СЕВЕРИН. Мурена совсем спятила.
АНТОНИЯ (еще более ядовито). Ах, бедная…
СЕВЕРИН. Послушай, открой дверь. Что я тут, как дурак…
АНТОНИЯ (с совершенно уже немыслимой ядовитостью). Только не воображай себя умным.
СЕВЕРИН. Что ты сказала Мурене, отчего она взбеленилась?
АНТОНИЯ. Вот пускай она тебе и наушничает.
СЕВЕРИН. По-моему, я ничем не заслужил такого отношения…
АНТОНИЯ. Думай, как хочешь.
СЕВЕРИН. Ты можешь открыть дверь?
АНТОНИЯ. А ты можешь себе представить, что я не хочу тебя видеть?
СЕВЕРИН. Не хочешь видеть… почему?
АНТОНИЯ. Напряги фантазию. Может быть, ты мне неинтересен.
СЕВЕРИН. Ты это Мурене сказала?
АНТОНИЯ. Много чести!
СЕВЕРИН. Похоже, ты сама иногда не знаешь, что говоришь.
АНТОНИЯ. Я всегда знаю, что мне нужно сказать и что нужно сделать.
СЕВЕРИН. Так что же это было?
АНТОНИЯ. Ты думаешь, я испугаюсь это повторить тебе?
СЕВЕРИН. У меня такое чувство, что ты должна сожалеть об этих словах.
АНТОНИЯ. Боже, у эхайна появились чувства!
СЕВЕРИН. Я не эхайн. Я человек. И всегда был с тобой человеком. И ты, кстати, тоже… Тебе плохо, и я хочу поговорить с тобой. Хочу тебе помочь.
АНТОНИЯ. Ты даже себе не можешь помочь. Ты никто, ты никакой…
СЕВЕРИН. Тебе не удастся обидеть меня. Это не ты говоришь со мной, а твоя обида.
АНТОНИЯ. Так ты уйдешь наконец?
СЕВЕРИН. Я понимаю, что виноват. Меня не оказалось рядом в тот момент, когда я был нужен, когда всего можно было избежать. Не нужно было мне летать в эту злополучную Картахену. Век бы без нее прожил. Прости меня. Прости. И позволь мне тебя увидеть.
АНТОНИЯ. Хорошо, слушай. Вот что я сказала этой злобной девке: «Когда он мне надоест, можешь забрать его себе. Все равно он ничего не умеет. И целуется как младенец».
СЕВЕРИН….
АНТОНИЯ. Меня никто не заставлял. Меня никто не бил. Я сказала это с тем, чтобы она знала твое место. А когда она поняла, что я права, это и привело ее в бешенство. Ни одно ничтожество не стерпит, когда ему укажут на его место.
СЕВЕРИН. Ты не можешь так думать.
АНТОНИЯ. Теперь ты сгинешь с моих глаз наконец?
СЕВЕРИН. Хорошо, если ты так настаиваешь… я уйду.
АНТОНИЯ. Да, я настаиваю.
СЕВЕРИН. Только вот что.
АНТОНИЯ. Ну, что еще?
СЕВЕРИН. Не думай, что ты центр вселенной, и весь мир вертится вокруг тебя. Ни фига подобного. Это не занюханная планетка Мтави-что-то-там-такое, со штабелями пыльных, никому не нужных трупаков. Это там ты была центром той дохлой вселенной. А здесь — Земля. Земля слишком велика, чтобы обращать на тебя внимание. Миллиарды людей даже не подозревают о твоем существовании. И если ты думаешь, что это ненормально, так вот это — нормально. Твои беды и заботы не больше и не меньше ничьих бед и забот. Если два десятка людей приняли их близко к сердцу, это уже хорошо. Это значит, ты уже не одна. Но если ты начнешь отталкивать от себя и этих людей, вот тогда… тогда… И вообще, если ты такая умная, почему ты такая злая?!
АНТОНИЯ. Потрясающе — косноязычный эхайн научился говорить!
СЕВЕРИН. Знаешь что?
АНТОНИЯ. Ну, что я должна знать?
СЕВЕРИН. Знаешь?..
АНТОНИЯ. Ну же, я жду с нетерпением.
СЕВЕРИН. Зря я пришел тебя жалеть.
АНТОНИЯ. Не помню, чтобы умоляла тебя об этом.
СЕВЕРИН. Если тебе нравится быть одной, ты уже близка к своей цели. Я хочу сказать тебе, что… что… что ты мне больше не нужна.
АНТОНИЯ. Ах, ах, меня бросили, ах, я бедная брошенная девушка!
СЕВЕРИН. Между прочим, так оно и есть.
АНТОНИЯ (продолжает что-то говорить с запредельным уже ядом в голосе).
Но я уже не слушал.
4. Учитель Кальдерон о женской сущности
Я шел к себе, как монах в опостылевшую келью. Не разбирая дороги, не воспринимая красок, оглохший к звукам окружающего мира. Мне хотелось плакать белужьими слезами, и я отлично понимал бедную глупую Мурену. Мне хотелось умереть. Впервые в жизни я почувствовал собственное сердце — оно болело.
Наверное, так могла бы чувствовать себя собака, которую пнул и выгнал из дома любимый хозяин.
Или художник, на глазах которого сожгли «Джоконду».
Нет, не так. Все сравнения казались чересчур высокопарными и фальшивыми. Это не с чем было сравнить. Я никогда еще не испытывал ничего подобного. Учитель Кальдерон всегда говорил: опиши свое переживание словами, лучше всего — на бумаге, и оно утратит остроту. А я не имел слов, чтобы как-то это описать. Я был обречен.
Что же я наделал? Зачем я так с нею говорил?
Все выглядело ужасным, непоправимым и в совершенно черных красках.
Я доплелся до своего коттеджа и опустился на крыльцо, слабый и бессильный, словно двухсотлетний старик.
— Гм, — сказал учитель Кальдерон. — Поговорим?
— Не хочу, — буркнул я.
— Еще бы, — печально промолвил он. — Однако же тебе придется выслушать меня. Я старше, я твой учитель, и я опытный мужчина, у которого был миллион неприятностей от женщин. Я просто не могу оставить тебя в таком беспомощном состоянии.
Я не ответил. Возражать и сопротивляться было бесполезно. Он все равно заставил бы себя выслушать. Иногда это даже помогало.
— Ты, наверное, сейчас думаешь о том, какой ты плохой и ужасный. И зачем ты с ней так говорил, когда все можно было повернуть иначе.
— Вы стояли за углом и подслушивали? — нахмурился я.
— В этом не было нужды. У тебя и так все написано на лице… Наверное, ты во всем винишь себя и теперь бичуешь себя в полную руку, и мучительно ищешь причин собственному бездушию.
— Она хотела… — попытался объяснить я, но учитель остановил меня повелительным жестом.
— Так вот, Севито. Я хочу, чтобы ты запомнил: ты ни в чем не виноват. Ты сделал все как нужно, и никто не сделал бы этого лучше тебя.
— Но она прогнала меня! Она смеялась надо мной!
— Я хочу, чтобы ты запомнил еще одно: те, кто смеются над тобой и прогоняют тебя, не обязательно правы. Я гляжу на тебя и не понимаю, как можно было тебя обидеть. Ведь ты хороший человек. Ты добрый человек. Я бы даже сказал, ты ненормально добрый. В тебе океаны любви и нежности, что бы ты о себе ни думал. Я не понимаю, как можно этого не заметить и не оценить. И я думаю, что все это было замечено и оценено.
— Толку-то…
— Это было замечено, — с нажимом продолжал учитель, — оценено — и предано забвению.
— Но почему, почему?..
— Я могу не понимать причин, как и ты. Но, как более опытный мужчина, я просто знаю, что так бывает, что так случается сплошь и рядом. Это объективный факт, это статистика. Ибо это в природе человека, а в особенности — в природе женщины. И с этим ничего нельзя поделать. Это не есть неблагодарность, это не есть ожесточение, это не есть хитрость. Женщины делают выбор по своим правилам, которые нам непонятны. И если даже тебе кажется, что их выбор пал на тебя, не следует питать чрезмерных иллюзий. Выбор может оказаться неокончательным. Все может измениться. Все может измениться многократно. Например, меня не удивит, если уже завтра Тита сама будет стоять у тебя под дверями и униженно умолять о прощении. И ты сдашься.
— Никогда, — сказал я.
— И ты сдашься, мой мальчик. И ты впустишь ее в свой дом, и обольешься слезами умиления, и сам окажешься перед ней на коленях, и спустя мгновение уже забудешь, кто перед кем виноват и кто у кого просит прощения. Потому что женщина всегда умнее, всегда хитрее и всегда сильнее. Кажется, я сам себе противоречу, но без этого ничего не объяснить. Женщина соткана из противоречий, и толковать ее природу и поведение можно лишь при помощи парадоксов и антиномий. Скажу честно: безнадежное это дело — пытаться понять женщину. Не такие умы, как я, погорели на этом, а твоим умом здесь можно смело пренебречь. Самое рациональное — принимать все как данность и в меру слабых своих сил сохранять лицо… Я точно так же не удивлюсь, если ты вообще больше никогда не увидишь Титу. То есть, какое-то время вы будете сталкиваться на занятиях и в узких аллеях Алегрии. Но это не будет твоя Тита. Это будет абсолютно чужой, даже внешне незнакомый человек, малопривлекательный в обхождении, который уже и не помнит, как твое имя. И, может быть, это поспособствует твоему скорейшему излечению от болезни.
— Я не хочу так. Я не хочу лечиться. Может быть, мне нравится эта болезнь!
— Она называется «первая любовь», и она проходит. Хотя иногда оставляет в душе глубокие рубцы, которые кажутся незаживающими.
— Что же мне делать, учитель?
— Тебе? — Он усмехнулся. — Ничего. Ты сделал все, что мог, и сделал все правильно. Тебе даже удалось невозможное — оставить за собой последнее слово.
— Все же вы подслушивали…
— Предположим, я проходил мимо по своим делам… Теперь эта девочка впервые узнала, как самой оказаться брошенной. Даже если она не поняла этого сейчас — спустя какое-то время она с изумлением обнаружит, что это не она сделала выбор, а ты. Может быть, она станет мудрее и человечнее. А может быть, ничего с ней и не случится. Может быть, она попытается вернуться к тебе, чтобы затем уже самой бросить тебя. Этого я боюсь больше всего. Потому что люблю тебя всей душой, как сына, и понимаю тебя всем сердцем, как брата по несчастью. Мы умные, образованные, впитавшие в себя всю вековую мудрость человечества, могучие и огромные, как северные мамонты… мы беспомощны перед женщиной. — Учитель Кальдерон вздохнул.
Как тот неправ, кто говорит нам, В своем незнании глубоком, Что будто бы любовь умеет Две жизни превратить в одну![26]— Только не делай ошибок сверх необходимой меры, мальчик, — прибавил он строго. — Даже если сердце твое обливается кровью, не давай выхода чувствам. Будь спокоен и хладнодушен. Сделай вид, что примирился с утратой. Отвечай на ее слова ровно, приветливо и безучастно, и ни за что не обращайся к ней первым. Не нужно переигрывать, не нужно провоцировать ревность… одновременно навевая беспочвенные грезы той же бедняжке Эксальтасьон. Не тряси головой, я знаю, что у тебя были такие намерения! Всего лишь отстранись. Это трудно, я знаю. Воспринимай это как испытание мужской доблести. И, поверь, спустя короткое время ты даже начнешь получать удовольствие от собственного страдания… О, я отдаю себе отчет, что Тита давно уже осведомлена обо всех наших уловках. Но сами догадки о том, притворяешься ли ты или вправду к ней охладел, могут оказаться для нее невыносимым испытанием. И тогда…
Чем меньше женщину мы любим, Тем легче нравимся мы ей…[27]Я не удержался и мрачно добавил:
Но эта важная забава Достойна старых обезьян…[28]— Рад слышать, что к тебе возвращается чувство юмора, — заметил учитель Кальдерон. — Это верный признак того, что ты стоишь на пути к исцелению. Все еще впереди, мой мальчик. Ничего еще не решено. Я мог бы… — он помолчал, задумчиво глядя в темные небеса. — Да, я мог бы тебя провести по всем кругам любовной игры, как Вергилий. Под мою диктовку ты сумел бы вернуть себе Титу, даже на время влюбить ее в себя. В конце концов, она всего лишь неопытная девочка, возомнившая себя совершенно взрослой. А я старый человек, которого без числа любили женщины, покидали женщины и вновь подбирали женщины. Кое-чему я все же, надеюсь, научился. Формальные приемы обольщения, перед которыми не устоит ни одна фемина. Слова, жесты, взгляды… эти психологические аттрактанты, действующие на подсознание… Но! Все это — мнимые победы. Не могу же я вечно руководить тобой, как марионеткой. В конце концов, ты не Кристиан де Невильет, а я не Сирано. Я не могу быть твоим умом, потому что ты и сам неглуп, а ты не можешь быть моей красотой, ибо я гораздо красивее тебя.[29] Однажды все вскроется, и возмездие будет во сто крат ужаснее. И я… уж прости меня, бесцеремонного глупца… совершенно не уверен, что Тита хороша для тебя.
Он потрепал меня по плечу и, отстранившись, спросил испытующе:
— Что ты намерен предпринять в данный момент?
— Лечь спать, — проворчал я.
— Слова не мальчика, но мужа, — сказал учитель Кальдерон с удовлетворением. — Еще я посоветовал бы записать свои впечатления, лучше всего — хорошим старинным стилом на белой бумаге. — Я скорчил кислую гримасу. — А если тебе захочется поговорить еще — ты знаешь, где меня искать.
Я знал. Я мог набрать его код в любое время дня и ночи, и он окажется совершенно готов к беседе по душам. Всецело в моем монопольном распоряжении. Поначалу мне казалось, что учитель Кальдерон занят исключительно мной, да еще, пожалуй, чтением да перечитыванием любимого своего тезки-классика, что нет у него никакого иного дела, кроме меня, и я — единственное обстоятельство, благодаря какому этот красивый и мудрый человек завяз в «Сан Рафаэле». И много позже я с изумлением обнаружил, что был не единственным лоботрясом на его шее. И от меня он наверняка направлялся к близнецам де ла Торре, с которыми у него никогда не было никаких хлопот. Эти двое были помешаны на фенестре, жили фенестрой и могли говорить о фенестре часами. И учитель Кальдерон давно научился компетентно обсуждать эту прежде чуждую ему тему. Потом он наверняка зайдет к Габриэлю Ортеге, тихому ботанику, хлопот с которым не было вообще ни у кого. О чем можно говорить с Габриэлем Ортегой? Например, о свертке зета-пространства топограмм по четвертой и пятой координатам. О преобразовании Д'Арси. О метаморфных геликоидных химерах. То есть, обо всем том, о чем учитель Кальдерон никогда не станет говорить со мной… Интересно, кто я в его глазах? Комплексующий дебил-переросток, требующий постоянного присмотра, чтобы сам же себе не навредил, или… источник душевного отдохновения?
Мне хотелось остаться одному. Я и остался.
Самое удивительное было то, что я ворочался, вздыхал и разнообразно жалел себя, несчастного, но вскорости обнаружил, что беседую о чем-то возвышенном с напыщенными эхайнскими сановниками, вышедшими прямо из стен и разместившимися на всех стульях и креслах моей каморки. И даже не удивляюсь их поразительному сходству с испанскими грандами с репродукций, что были в беспорядке развешаны по комнате. Хотя уже тому, что один из эхайнов напоминал дона Себастьяна де Морра кисти Веласкеса, а другой — отчего-то Петра Ивановича Потемкина работы Хуана Карреко де Миранда (не путать с господином директором!), должно было сильно меня насторожить. (Для справки: первый был карликом, а второй носил пышную неопрятную бороду.)
И дрых я, к своему стыду, как убитый. Переживания переживаниями, а здоровому организму — здоровый сон… Да так, что едва не проспал утреннюю пробежку.
Следующее утро было солнечным. А каким оно могло быть в этой части света в это время года?! Мир не рассыпался в прах, не провалился в тартарары, планеты не сорвались с орбит, и море не вышло из берегов. И хотя этим утром в моей жизни не было Антонии, я не сказал бы, что страдания мои были невыносимы. Впрочем, Антония наверняка заметила бы, наморщив носик: «Эхайн… толстокожий, бесчувственный эхайн…»
Пока я размышлял над завихрениями собственной души, в окно ко мне влез старина Чучо. И голова его была полна прожектами на тему того, как нам поярче и поэффектнее приубрать «Сан Рафаэль» к прибытию «Черных Клоунов Вальхаллы», хотя отсюда до Валенсии путь был не самый близкий, и вряд ли оттуда рассмотрели бы все наши декорации.
5. Время лечит как умеет
Не следует думать, что все эти дни я только и был занят своими переживаниями. Я без большого любопытства изучал науки, с прохладцей играл в фенестру, неохотно купался в море и забывал позвонить маме. Ну, мама-то никогда ничего не забывала… На занятиях нас с Антонией разделяло два-три ряда столов. Она всегда сидела впереди и ни разу, ни разу не обернулась в мою сторону. Мы старательно не узнавали друг дружку.
Что еще… Мурена помирилась с Барракудой. Это походило на смешной старинный ритуал, но обе оторвы отнеслись к нему совершенно серьезно. «Ваше Королевское Высочество, — пролепетала Мурена, опустив глазки и присев. — Нижайше прошу вас простить мою дерзость, которую я имела неосторожность допускать в отношении вас все это время. Виной тому преступное неведение и пагубная несдержанность, с которой я отныне намерена неукоснительно бороться. Молю о снисхождении… Ваша преданная слуга…» — «Извинения приняты, дорогая, — величественно ответила Барракуда. — Ваш проступок не настолько важен, чтобы мы могли придавать ему излишнее значение. Прошу вас, встаньте…» Мы стояли в некотором отдалении, я отчаянно боролся с тем, чтобы не хихикнуть в кульминационный момент, между тем как физиономии моих дружков, того же Чучо, тех же близнецов де ла Торре, были абсолютно непроницаемы, а на глазах красавчика Оскара Монтальбана, чтоб мне провалиться, блестели слезы умиления… Барракуда могла бы подставить руку, но подставила щеку. Мурена шмыгнула носом и чмокнула. Ясно было, что их отношения уже никогда не будут прежними. Но тут уж ничего нельзя было поделать. «Так мы идем купаться или нет?» — спросила Барракуда. Я понял, что все мучительно борются с желанием ляпнуть что-то вроде: «Как пожелаете, Ваше Королевское Высочество». Нужно было поломать паузу, и я ее поломал. С изяществом северного мамонта, знать не знающего, что такое конституционная монархия. «Ага», — сказал я и в нарушение всех норм этикета вскинул инфанту на плечо. Барракуда завизжала. «А меня?!» — заныла Мурена. Уж не знаю, помогла ли моя выходка, но купаться мы все же пошли.
Мурена попыталась помириться и с Антонией. Никто ее к тому не склонял, она сама вбила себе в голову, что должна повиниться. Похоже, ей понравилось быть паинькой… Разумеется, ничего путного из этой затеи выйти не могло. Мурена подкараулила Антонию в Пальмовой аллее после ужина. «Тита… — забормотала она, наигранно пряча глазки. — Мне нужно кое-что тебе сказать…» Антония моментально выпустила все свои иголки, закуклилась и превратилась в аллегорию оскорбленной невинности. «Я поступила низко. Мне не следовало давать волю эмоциям». Антония молчала. «Я вела себя неподобающе. Девушкам не следует драться. Это не повторится». Антония молчала. «Но и ты тоже могла бы не говорить того, что сказала». Антония не реагировала. «Ну, как знаешь…» Антония пошла своей дорогой, а Мурена вернулась к нам, красная не то от смущения, не то от бешенства. Цыпу из себя она больше не корчила, хотя и рук с тех пор не распускала.
Кажется, все мы стремительно взрослели.
Мы сыграли матч отборочного круга Студенческой Лиги против «Бешеных Пингвинов» и выиграли. Без ложной скромности замечу, что это было нетрудно.
В колледже появились три новичка и две новенькие; одна из новеньких, Неле Йонкере, была этническая магиотка, соломенно-рыжая, жутко умная — пожалуй, даже поумнее Антонии! — да вдобавок еще и замечательно певучая. Кто-то пустил пулю, что это дочка Озмы. Половина моих друзей на нее немедленно запала. Другая половина удивлялась моему безразличию… А один из новичков, Горан Татлич, оказался прекрасным флингером и вошел в нашу команду первым номером, как горячий нож в холодное масло, без каких-либо усилий потеснив Оскара Монтальбана.
«Черные Клоуны» не прилетели в Валенсию в конце октября. Это было натуральное свинство с их стороны. Наставники опасались, что в Алегрии начнется бунт. Зато прилетели «Морайа Майнз», причем в самом сильном своем составе. Даже сам Лорд Плант поднялся с одра, чтобы, как в старые добрые времена, от души врезать по клавиатуре. Как выяснилось, один из «майнзов», не то Байрон Джонс, не то Пейдж Хендрикс, был хорошим знакомым отца учителя Себастьяна Васкеса, и тот нажал на все родственные рычаги. Угроза массовых беспорядков рассеялась, как туман, потому что «майнзы», при всем том, что это зрелые шестидесятилетние мужики, были в сто раз круче, чем любой из новомодных кумиров. И выступили эти живые монстры не где-нибудь на стадионе, или в концертном зале на двадцать тысяч мест, а на плавучей платформе в Пуэрто-Арка, что на одну ночь превратило наш тихий остров в осажденную крепость. «Небо — не море, небо должно гореть!» — орала вся Алегрия.
Случилось это вечером того самого дня, когда Антония нас покинула.
Я не слушал музыку — при всем уважении, «майнзы» мне не нравились. Улучив минутку, я отделился от ликующей толпы и ушел бродить по морскому берегу в одиночестве, баюкать свою сердечную боль. Вскоре ко мне присоединилась Неле Йонкере. Ничего между нами не было. Ни единой искорки. Мы просто гуляли вдвоем. Две одинокие души. Я держал ее за руку, а она держала меня. Ну и что? Мне было необходимо молчать и держать кого-то за руку. Должно быть, ей — тоже. Неле сказала сразу: ты не тот, кого я ищу, ты не мой парень, но ты хороший и добрый, и мы этим вечером будем вместе. Это прозвучало непритворно и прямо, и сама она была прямая, как клинок. Наверное, кому-то должны нравиться такие девчонки… Я ответил: завтра ты тоже станешь мне не нужна, но сейчас нет ничего, что могло бы помешать этой нашей прогулке под луной.
И ни слова больше.
6. Тщетные попытки самопознания
Учитель Кальдерон был прав: стоило мне погрузиться в пучины самоанализа, как острота переживаний и боль душевных ран сильно притупились. А когда он бывал не прав?!
Зато теперь у меня появился прекрасный повод исследовать собственную личность и прояснить туманные перспективы ее развития.
Может быть, Антония была недалека от истины? Я действительно никому не интересен. Кроме, разве что, мамы, дяди Кости, у которого ко всем окружающим вообще какой-то ненормально повышенный интерес. Да еще пана Забродского, у которого этот интерес не по-хорошему потребительский. Что же во мне любопытного, делающего меня непохожим на других?
Например, я эхайн. И что дальше? Разве я становлюсь от этого более умным или даже более красивым? Да нисколько. Это всего лишь строчка в моей биографической справке… «Северин МОРОЗОВ, этнический эхайн. Родился неизвестно где, усыновлен Анной Ивановной МОРОЗОВОЙ (она же Елена Егоровна КЛИМОВА, командор Звездного Патруля, см.), воспитывался в колледже „Сан Рафаэль“, Алегрия (см.). Был дружен с Константином КРАТОВЫМ (см., см., см…). В течение нескольких дней был влюблен в Антонию СТОККЕ-ЛИНДФОРС (см.). Был дружен с инфантой Линдой Кристиной Марией ДЕ БОРБОН-И-СУЭСИЯ, наследницей испанского престола (см.). Никакими личными достоинствами обременен не был. По достижении совершеннолетия никому стал на фиг не нужен». М-да, печально.
Помню, каким идиотом я чувствовал себя на последнем совете наставников. Они, бедные, все пытались подобрать мне занятие по душе и докопаться до моих скрытых талантов…
СЕНЬОР ДЕ МИРАНДА (неуверенно). Может быть, биология?
УЧИТЕЛЬ ВАСКЕС корчит саркастическую гримасу.
СЕВЕРИН. Вообще-то, я люблю смотреть на рыб.
СЕНЬОР ДЕ МИРАНДА. Хорошее занятие… хотя не самое продуктивное. А как насчет точных наук? Математика?
УЧИТЕЛЬ САНЧЕС ДЕ ПЕЛЬЯРАНДА печально вздыхает.
СЕВЕРИН. Вообще-то я люблю конструировать всякие там геликоиды-транссфероиды.
СЕНЬОР ДЕ МИРАНДА. А кто же не любит… Как у нас успехи по естественным наукам? Химия, физика?
УЧИТЕЛЬ ЛУНА неопределенно кряхтит.
СЕНЬОР ДЕ МИРАНДА. А вы что скажете, дон Родригес?
УЧИТЕЛЬ РОДРИГЕС. Севито проявляет определенный интерес к античной истории, между тем как новая и новейшая история привлекает его значительно меньше. Сеньор Энрике подтвердит. Но вряд ли этот интерес можно считать пытливым…
СЕНЬОР ДЕ МИРАНДА. Как наш мальчик преуспел в изящных искусствах? В стихосложении, в литературе, в музыке и визуализации образов?
УЧИТЕЛЬ СУАРЕС. Музыку он любит и чувствует.
СЕНЬОР ДЕ МИРАНДА. Понятно.
УЧИТЕЛЬ ВАЛЬДЕС. А вы видели его работы по металлу? И с деревом он недурно обращается. Конечно, не шедевр, однако же…
СЕНЬОР ДЕ МИРАНДА. Понятно.
УЧИТЕЛЬ ЭСТЕБАН. Послушайте, что мы морочим парню голову? Давайте называть вещи своими именами! Он прекрасный спортсмен, с выдающимися задатками, его место — на игровом поле…
СЕНЬОР ДЕ МИРАНДА. Похоже, Севито имеет на сей счет иное мнение.
СЕВЕРИН. Угу…
УЧИТЕЛЬ ЭСТЕБАН. Да он просто не понимает своего счастья! Нужно ему объяснить, и все мы здесь затем и собрались, чтобы ему объяснить…
СЕНЬОР ДЕ МИРАНДА. Успокойтесь, Гильермо. В конце концов, спортсмен — это не профессия.
УЧИТЕЛЬ ЭСТЕБАН. Профессия, дон директор! Точно такая же профессия, как и художник, и музыкант, и артист!
СЕНЬОР ДЕ МИРАНДА. С удовольствием продолжу эту дискуссию в другое время, Гильермо. Кгхм… Севито, нет ли у тебя пары слов, чтобы утешить твоих учителей? Скажи нам, что у тебя на душе, и мы придем тебе на помощь.
СЕВЕРИН. Ну, не знаю…
УЧИТЕЛЬ ДЕЛЬ ПАРАНА. Коллеги, не стоит обременять парня нашими проблемами. Давайте отпустим его и обсудим сложившееся положение в кругу специалистов. Если мы все еще имеем моральное право именовать себя таковыми… Не нужно требовать от мальчика полной определенности в столь юном возрасте. Всех нас вводит в заблуждение его могучая стать, но не следует забывать, что под этой горой мышц скрывается обычный подросток неполных семнадцати лет. То есть развивающаяся личность в стадии формирования интересов. Лично у меня, как у психолога, к Севито нет никаких претензий.
УЧИТЕЛЬ КАЛЬДЕРОН. Согласен. Мне тоже есть что поведать вам, благородные доны, чтобы всех успокоить.
СЕНЬОР ДЕ МИРАНДА. Ну, нельзя сказать, чтобы мы были так уж сильно встревожены, и все же… Севито, ступай по своим делам, тебя друзья, верно, заждались.
Я чувствовал себя виноватым перед этими взрослыми людьми, которые искренне желали мне помочь и упорно искали во мне то, чего, вполне возможно, там и не было. И я был благодарен им за то, что они все еще не утратили ни надежды, ни сочувствия ко мне, здоровенному никчемному болвану.
Я ничего не умел и не стремился научиться. Я был ко всему равнодушен. Редкие всплески любопытства всегда имели первопричиной какой-то внешний раздражитель. Это могла быть, например, случайная мамина оговорка. Или визит дяди Кости, который щедро рассыпал вокруг себя имена, даты, события, никогда не вникая в подробности, словно бы речь шла о фактах, известных всякому мало-мальски образованному человеку. На самом деле все обстояло с точностью до наоборот. Кое-что действительно знали все — кроме, разумеется, меня. Кое-что, проявив некоторую настойчивость и сноровку в обращении с поисковыми машинами, можно было откопать в Глобале. Но всегда оставалась небольшая часть сведений, которые нельзя было уточнить или расшифровать никакими легальными способами. Другой бы, возможно, из кожи вон вылез, чтобы дорыться до истины. Я же, наткнувшись на белое пятно в информационном поле, на какую-нибудь лакуну, считал за благо отступить. Уж коли о чем-то нет упоминаний в открытых источниках — значит, так и должно быть. Все решено за меня умными людьми.
В конце концов, даже инцидент с паном Забродским, круто изменивший всю мою судьбу, не пробудил острого желания выяснить, чем же его так привлекала моя скромная заурядная персона. Чего же он так настырно добивался все эти годы. Чего ожидал во мне обрести и чем был так разочарован при очной встрече. Можно подумать, живых эхайнов он никогда не видывал…
Видно, я и впрямь был бесчувственным кабаном. Такие вызывают сочувствие и ощущение вины у наставников. Такие отпугивают друзей. Такие редко нравятся девчонкам. Или все же нравятся? Если даже забыть Антонию (но разве такое возможно?!), остается еще Мурена. Кто их разберет… Во всяком случае, этот упрек я определенно заслуживал. Уж и не помню, когда я плакал (эпизод с Гелькой и Алиской не в счет: тогда я был расслаблен выпитым вином, и все же нашел силы не поддаться искушению). Литературные герои не вызывали во мне глубокого сопереживания. К балету и опере я был холоден. Кино меня не задевало. Меня вообще ни один вид искусств не затрагивал настолько, чтобы расчувствоваться и облиться слезами умиления. Мое многим непонятное пристрастие к авангардной музыке Эйслинга и одновременно к барочным опусам Галилея тоже никогда не принимало экстремальных форм.
А что если я не умею любить?
Я где-то читал о таком. Наивный способ самозащиты от глубоких переживаний, которые жизнь постоянно подбрасывает всякому человеку, понемногу и нечувствительно перерастает в душевный недуг. Наступает эмоциональная глухота. Все радости и беды проходят мимо, никак не отзываясь, не задевая сокровенных сердечных струн. Ничего громче слов, ничего острее заметок в дневнике. Должно быть, в общении такой экземпляр рода человеческого казался бы странным. Слишком много бы смеялся и совсем не плакал… Как и я.
Хотя нельзя сказать, чтобы я смеялся чаще других. И есть люди — и звери! — без которых я бы, наверное, не смог жить счастливо. Моя мама. Читралекха. Да и Фенрис, пожалуй. (Я видел, как с каждым годом неотвратимо стареют мои пенаты, и мысль о том, что скоро, очень скоро, один за другим, они отправятся в свою звериную Вальхаллу, резала меня по сердцу больнее ножа…) А теперь добавились еще и два рыжих солнышка — Гелька с Алиской.
Почему же я еще недавно таял под взглядом ироничных серых глаз на пол-лица, как мороженое на солнцепеке, обалдевал от звуков голоса, похожего на скрип несмазанной двери, загорался свечой от прикосновения к бледной, не знавшей загара коже? И почему я так ошеломляюще спокоен сейчас?!
Нет, все не так просто. Или лучше сказать: все так непросто…
Вечер был как вечер. Я слушал Галилея, копался в собственной душе и все больше понимал, что мне не нравится это занятие.
Но одна мысль все еще сидела в мозгу, будто заноза, и не давала мне успокоения. И вот о чем она была: вряд ли я еще когда-то увижу Антонию в этой жизни (вот бред-то!), но, самое подлое, у меня не осталось ни единого ее портрета. Даже плохонькой графии! Не знаю, может быть, это было и неплохо… с глаз долой, из сердца вон… и все же…
Еще минуту назад я собирался кликнуть Чучо и пойти с ним погонять мяч по ночному пляжу. И вдруг обнаружил себя сидящим на полу своей комнаты среди россыпей кристаллов с записями экскурсий, дневниками, бессюжетными видеозарисовками, в поисках любого случайного кадра, на котором могла оказаться она…
Мне повезло.
Я нашел не один кадр, а сразу несколько, в том числе и довольно продолжительный фрагмент, снятый моим добрым Чучо в батискафе. Вполне достаточно для приличной графии. Мы с Антонией стоим в темном углу, держась за руки, глупые, счастливые, и ничего вокруг себя не замечаем…
«Прощай, Антония Стокке-Линдфорс!» — мысленно произнес я с соответствующим моменту патетическим чувством.
И тотчас же подумал: «Фальшиво. Как в мыльной опере. Герой смотрит на портрет утраченной возлюбленной и обливается слезами. Вот урод-то…»
Я очень хотел засмеяться. Снизить накал эмоций здоровой иронией.
А вот ни фига.
Вместо этого я почувствовал нестерпимое щипание в носу.
Далее произошли два равно важных события.
Во-первых, я разревелся. Не так, чтобы в три ручья, а как следует шмыгнул носом и торопливо, чтобы никто даже ненароком не заметил, утер влажные глаза. Но на душе сразу стало намного легче, прозрачнее, и серая паутина, все же против моей воли застилавшая мир, куда-то улетучилась. Значит, я не такой кабан, каким кажусь и каким сам себя считаю в минуты самокопания…
А во-вторых, я обнаружил в системном реестре своего видеала код доступа высшей конфиденциальности, оставшийся после Консула.
7. Сую нос куда не следует
Лучшее, что я мог сделать в этой ситуации — почистить реестр и забыть. Никаких соблазнов. Жить себе поживать обычной своей растительной жизнью. Изготовить графию Антонии, повесить на стену, на свободный пятачок рядом с доном Себастьяном де Морра… чтобы всякий раз, отходя ко сну, орошать его слезами и соплями. (Жаль только, что высокородный карлик искусством Чучо научен лукаво подмигивать, а время от времени, по указке генератора случайных чисел, способен корчить дикие рожи. Что сильно принизит весь пафос переживаний…) Играть в фенестру и выиграть Студенческую Лигу — впрочем, навряд ли. Смотреть, как плывут облака в небе и рыбы в море. Мне шестнадцать лет, все равно я ничего не решаю и ни за что не отвечаю.
Интересно, как на моем месте поступила бы Антония?
Прежде чем я понял, что заранее знаю ответ на этот вопрос, мои пальцы сами собой перевели код в актуальный статус и активизировали поисковую машину Инфобанка.
У меня еще оставалась надежда, что Консул часто меняет коды, и тот, что неправомерно попал мне в руки, давно устарел и дискредитирован…
Как бы не так.
На экране распахнулся список разделов Инфобанка, которых я никогда в глаза не видывал и о существовании которых не подозревал даже в страшном сне.
Как вам понравится раздел «Военные операции» и стоящий первым номером в списке тем «Отчет о боевых действиях Двенадцатого колониального пехотного корпуса Крестовой армады Тысячи Островов Утхосса против штурмовой группы Красной Руки в системе Звездный Рог»? А стоящий вторым номером «Специальный доклад резидентуры Особого отдела герцогства Эгдалирк о межэтнических столкновениях в провинции Меагадейднанв»? Я не лучший специалист по географии, но что-то говорило мне, что, слава богу, все эти утхоссы и эгдалирки лежат где-то у черта на рогах и уж явно не в юрисдикции нашей Федерации… Воля ваша, а мне этот раздел не понравился. Весь и целиком.
Раздел «Запрещенные исследования» выглядел не менее зловеще. Хотя темы из бесконечного списка могли на первый взгляд показаться чем-то безобидным. Проект «Человек-ракета». Проект «Дипрейнджер». Проект «Элевация-2». Проект «Дети гекатонхиров»…
Тектоническое сканирование в районе плато Адамауа, что в Центральной Африке, обнаружило в толще скал, на глубине примерно трех тысяч метров, гигантские пустоты искусственного происхождения, геологический возраст которых намного превосходил официальные данные о возникновении человечества. Иными словами, то были не люди, не эхайны и не юфманги и, уж конечно же, не дельфы, а какая-то чрезвычайно древняя дочеловеческая и нечеловеческая культура, сам факт существования которой ставил с ног на голову все без изъятий представления о земной цивилизации. Исследования пустот решено заморозить на неопределенный срок, до появления в распоряжении археологов новых технических средств, способных работать в предельно щадящих режимах, включая «полную обратимость событий». Последнее означало: без маленькой машины времени с режимом автосохранения здесь не обойтись.
Во время одного из своих экспериментов с сопространственными метриками доктор Бенедикт Ли из Гейдельбергского института гиперквантовых механик получил устойчивый модулированный сигнал из метрики XFFR-L801 «Гьёлль», который нельзя было истолковать иначе как информационную посылку. Последняя неожиданно легко поддалась раскодированию и дешифрации, ее содержание оказалось поразительно доступным интерпретации и «метрически когерентным» (этот термин я так и не понял). Доктор Ли сделал два предположения о природе посылки и самой метрики «Гьёлль», одно из которых рассматривало означенную метрику как некую хронологически вариантную реплику базовой метрики «Реаль», в которой все мы имеем удовольствие обитать… блин, сплошные метрики-реплики… а другое — как биоэнергетического наследника указанной базовой метрики, то есть место, где предстоит обитать всем, кто покидает «Реаль» по естественным причинам. Вот так, ни больше не меньше: милые беседы с загробным миром! Доклад доктора Ли на ежегодной конференции по проблемам гиперквантовой физики был отменен, а его исследования официально признаны опасными и запрещены, опять-таки — на неопределенный срок, до появления технических средств тотальной защиты от неконтролируемого взаимопроникновения метрик. Еще не хватало!.. Как следует из контекста, фига с два доктор Ли прекратил свои исследования — он просто переместил их с Земли в какой-то другой, менее комфортабельный, но более безопасный для окружающих уголок Галактики.
В результате развития технологий исследования океанских глубин стало возможным организовать массовый подъем затонувших судов для изучения и последующего выставления на обозрение благодарной публике. Процедура «гравитационного своппинга» была отлажена и обкатана до мельчайших деталей. Именно благодаря ей был в два счета извлечен из Марианского провала потерявший управление батискаф «Триест XL» с двенадцатью исследователями на борту. В 110 году, после удачных подъемов средиземноморских галер и парохода «Темпест», решено было взяться за «Титаник». Опасения, что гигантский лайнер рассыплется при любой попытке стронуть его с места, оправдались лишь наполовину: кормовая часть и впрямь разрушилась, носовая же выглядела достаточно транспортабельно. Операция шла любо-дорого смотреть, пока пол-лайнера не достигли отметки восемьдесят три метра. Здесь дайвер Рупрехт X., визуально контролировавший подъем, сообщил в командный центр, что слышит музыку. Пока в центре совещались, как им следует поступить с полученным сообщением и с самим галлюцинирующим дайвером, коллега последнего Томас К. увидел на верхней палубе «Титаника» странное свечение, состоявшее из отдельных независимых объектов, которые совершали упорядоченные эволюции в горизонтальной плоскости. Картинка была передана в командный центр, что исключило всякую возможность массового психоза. Затем Томас К. тоже услышал музыку; он был человек глубоко верующий, и потому без труда узнал мелодию «Ближе к тебе, мой Господи» в исполнении струнного октета. Операция была приостановлена, дайверы отозваны на поверхность, а сам «Титаник», вернее, носовая его часть погружена до отметки в сто метров, после чего музыка и танцы светляков прекратились, и отбуксирована в один из многочисленных желобов неподалеку от Ньюфаундленда, где затоплена до подыскания объяснений непостижимому феномену. После аналогичных инцидентов с подъемом затонувших на больших глубинах субмарин феномен получил название «Призрак 83» — поскольку именно на этой отметке, как правило, и начиналась чертовщина, хотя в деле о «Скорпионе» фигурировала, например, отметка девяносто два метра, — а все аналогичные операции были заморожены, как водится, на неопределенный срок.
Техника «гибернации», то есть искусственного торможения жизненных процессов в живых организмах, не всегда использовалась в медицинских целях. Так, в нашем мире, в особо труднодоступных уголках, под деликатным контролем заинтересованных служб, были укрыты так называемые «спящие красавицы» — своего рода саркофаги, где находились в вечном сне, а точнее — до решения связанных с ними проблем, мужчины и женщины, чье бодрствование представляло потенциальную угрозу благополучию земной цивилизации. Список саркофагов прилагается… С развитием экзометральных сообщений значительная часть объектов потенциальной угрозы была удалена с лица Земли на некую планету Артемис, о которой не было известно практически ничего, кроме того, что она относилась к «голубому ряду», находилась у черта на куличках, не упоминалась в справочниках и использовалась Департаментом оборонных проектов в качестве хранилища всяких неприятных вещей. Три «спящие красавицы» по стечению обстоятельств пришли в негодность, а их содержимое уничтожено механизмами защиты, как и предусматривалось директивой «О нераспространении опасных воздействий» от 12 ноября 2097 года. («Это же сколько лет действует эта директивка!» — присвистнул я.) Однако оставался объект 2262, который начисто выпал из поля зрения контролирующих служб, иначе говоря — был утерян. Как объяснялось, во время «известных событий в исторической области Северная Трансильвания» центр мониторинга за состоянием объекта и вообще вся документация о нем были уничтожены, а их дубликаты в других местах, как сказано — «по понятным причинам» отсутствовали. Самые поиски объекта 2262 ни к чему не привели, хотя не прекращались ни на миг в течение тридцати двух лет. Считать его навсегда утраченным никто не желал, и поэтому раз в пятьдесят лет по всей Венгрии в обстановке строжайшей секретности возобновлялась поисковая акция. Чем реально мог угрожать человечеству этот злосчастный объект, а вернее — мирно спавшая внутри него женщина, — я мог только догадываться, поскольку связанная с этим делом информация была засекречена даже от Консула…
А разделы «Дипломатические конфликты» или «Зоны враждебных контактов»?!
Я чувствовал, что мое лицо горело. Ко мне в руки угодил запретный плод. И даже не один, а целая корзина запретных плодов, столь же аппетитных, сколь и ядовитых. Невыносимо хотелось слопать их все, но оставался еще здравый смысл, и он вопил во все горло: остановись, придурок!
Я и остановился.
Затем собрал воедино разбегающиеся мысли, успокоил дыхание и задал поиск по двум ключевым словам: «эхайны» и «двести».
Что там все время твердил Забродский? «Я жив, здоров… а те двести…» Если кто-то полагает, что я забыл об этом, то он должен раскаяться в своем заблуждении. Все я прекрасно помню. И сейчас хотел бы знать, какое отношение магическое число «двести» имеет к моей персоне.
Результаты поиска никого бы не вдохновили. Список занял весь экран и продолжался за его пределами. Смешно было ожидать, что числительное «двести» окажется малоупотребительным. Двести тысяч населения в городе Хенхунш на планете Гмарна. Двести миллионов единиц какой-то продукции в сезон. Боевая группа «Двести драконов». Средний вес эхайнского гвардейца — двести килограммов. Двести лет назад по летоисчислению Красной Руки была колонизирована планета Тивленн. Двести… двести… двести…
Это был хороший шанс для почетной ретирады.
Но я, что со мной случалось крайне редко, закусил удила.
Мне следовало догадаться сразу и установить временные ограничения для разыскиваемого события. Событие это не могло произойти после моего появления на мамином корабле. Только до него. Иначе Забродский не стал бы охотиться на меня еще на Тайкуне. Итак…
Список сократился, и теперь он помещался на экране целиком. Все равно он был неподъемным. Я мог убить всю ночь на догадки и так ничего для себя и не прояснить.
Но ведь меня никто и не торопил.
Я подтащил видеал к кровати, взбил подушку, налил в высокий стакан холодного альбарикока, в одну руку взял пончик, а другую опустил на клавиатуру.
«Седьмого мая 133 года пассажирский лайнер Федерации „Согдиана“ при выходе из экзометрии подвергся атаке неустановленных боевых кораблей. Лайнер был полностью разрушен, о судьбе его экипажа и пассажиров долгое время ничего было не известно. На борту лайнера „Согдиана“ находилось двести человек…»
— Ровно двести человек, — услышал я за спиной. — Все — граждане Федерации.
Было от чего выронить пончик, пролить содержимое стакана себе на пузо и свалиться с кровати вместе с подушкой и покрывалом.
Я увидел перед самым носом темно-зеленые туфли и ядовито-зеленые брючины. Далее следовали: майка травяного цвета и зеленый пиджак. Очки болотного цвета сеньор Крокодил держал двумя пальцами наотлет.
Я продолжал валяться на полу дурак дураком, залитый липким пойлом, и потрясенно следил за тем, как он расправляется с моим видеалом — убирает с экрана поисковую машину, чистит реестр и уничтожает временные данные в постоянной памяти.
— Не желаешь ли переодеться, дружок? — спросил сеньор Крокодил без тени издевки в голосе.
И утонуть мне в альбарикоке, если я этот голос где-то прежде не слыхал!
8. Сеньор Крокодил
Пока я приводил себя в порядок и в чувство возле зеркала в ванной, искал свежую рубашку и менял шорты, в моей голове растревоженным осиным роем роились вопросы.
Как он проник в мой дом сквозь запертую дверь? Или я не запер? Конечно, не запер — хотя был период, когда пришлось вспомнить про замки. Одно время Чучо имел обыкновение вламываться ко мне посреди ночи для задушевных разговоров, и связано это было напрямую с его тогдашним увлечением, которое звали Лурдес-Аманда, а я был избран на неблагодарную роль поверенного в душевных вопросах. Когда у него не прокатило с дверью, он взял за обычай влезать в окно… После того как Лурдес-Аманда покинула «Сан Рафаэль» — родители сочли климат пустыни Гибсона более подходящим, — Чучо, слава богу, угомонился, и моя привычка герметизировать обиталище тоже понемногу сошла на нет… Все равно, какое он имел право вторгаться на мою суверенную территорию без приглашения? Когда даже учитель Кальдерон делает это крайне редко, с видимой неохотой, и долго после этого оправдывается… А как он узнал, чем я тут занимаюсь? И какое, собственно, его дело? Чего это он лезет к моему видеалу, как к своему? И отчего он проявляет ошеломляющую осведомленность в инциденте с «Согдианой»? И, наконец, где я мог слышать этот голос?
Разогревшись до нужного эмоционального градуса, я вернулся в комнату с твердым намерением ничего незваному гостю не спускать. В конце концов, я давно уже не мальчик…
— Пора мне, пожалуй, представиться, — сказал сеньор Крокодил, который уже не лапал мой видеал, а мирно сидел в кресле под торшером, умостив руки на коленях. — Томас Иероним Андерсон, инспектор отдела активного мониторинга Департамента оборонных проектов. — Он помолчал и, неожиданно сощурившись, осведомился: — Что, не впечатляет?
— Не очень, — ответил я с вызовом. — Вы имеете какое-то отношение к пану Забродскому?
— Самое непосредственное, — фыркнул Андерсон. — Он мой шеф.
— Он вас приставил следить за мной?
— Надеюсь, ты не питаешь иллюзий, что ты пуп Земли и центр мироздания?
Я насторожился. Это были почти в точности мои слова, которыми я корил Антонию в последнюю нашу встречу.
— О чем вы?
— Ну подумай сам: для чего мне следить за тобой? Неужели ты представляешь какую-то угрозу обществу? Или мы чего-то о тебе не знаем?
— Тогда зачем вы здесь?
Андерсон вдруг захохотал.
— Вот уже битых несколько минут мы разговариваем исключительно вопросами, — объявил он. — Это ненормально, ты не находишь?
Я находил слишком много ненормального во всем происходящем, и это ясно читалось на моем лице.
— Хорошо, — сказал Андерсон. — Карты на стол.
— Какие еще карты?! — снова подобрался я.
— Красивая энергичная фраза, — усмехнулся он. — Не обращай внимания… Я здесь не затем, чтобы следить за тобой. Я здесь не затем, чтобы вообще за кем-то следить. Это чересчур примитивное представление о методах работы Департамента.
— Вообще-то у меня нет никакого представления даже о самом вашем Департаменте.
— И прекрасно… В широком смысле, моя задача состоит в обеспечении безопасности всех обитателей колледжа «Сан Рафаэль» на тот случай, если означенной безопасности вдруг возникнет хотя бы малейшая угроза. В узком же смысле, я должен безусловно обеспечить благополучие нескольких воспитанников колледжа, в отношении безопасности которых руководство Департамента испытывает легкую тень сомнения. Ты, если тебе это пощекочет самолюбие, входишь в их число. Но, во-первых, ты не единственный, во-вторых, ты далеко не единственный, и в-третьих, головной боли ты причиняешь меньше всех. По крайней мере, до этого вечера… Доступно излагаю?
— Не-а, — признался я, позволяя себе расслабиться и присесть на край кровати. — Что это значит: угроза безопасности обитателям колледжа?
— Ну, если угодно, еще одна энергичная фраза. Хотя, согласен, не настолько чеканная, как предыдущая. Мы имеем счастье обитать на поверхности одной из самых защищенных и безопасных планет Галактики. Ты можешь не знать этого и не замечать, но поверь, так оно и есть. И в том нет заслуги Департамента, потому что круг его задач намного уже. За благоденствие граждан Федерации отвечают другие службы, и они прекрасно справляются со своими обязанностями.
— И тем не менее, вы здесь, — заметил я с нескрываемой иронией.
— Да, да, — покивал он. — Доктор Забродский рассказывал мне о твоей матушке… командор Климова… о ее чрезвычайно предвзятом отношении ко всем проявлениям нашей деятельности. При этом он постоянно винил себя, рвал волосы и посыпал голову пеплом. В особенности его удручало то обстоятельство, что это искаженное представление наверняка было внушено и тебе… Я здесь лишь потому, что мы не желаем никаких случайностей. То есть вообще никаких. Ни единого шанса негативному развитию событий. Но, если быть откровенным, это синекура. Наверное, я отчасти заслужил ее всей своей безупречной карьерой. Теплое море, горячий песок, красивые пальмы, красивые люди, красивые дети… Я даже фенестру эту вашу дурную полюбил. Ты бы никогда и не обратил на меня внимания. В самом деле, одним чудаком больше, одним меньше… И вдруг, ни с того ни с сего, эта твоя выходка!
— Что же я такого натворил?
— Ну как же! — Андерсон всплеснул руками. — Ты совершил попытку несанкционированного доступа к сугубо конфиденциальной информации. Ты целых восемь минут сорок две секунды пасся на густо унавоженных нивах, куда тебе, при самых благоприятных вариантах развития биографии, путь будет заказан еще лет десять-пятнадцать!
— Все равно я ничего там не понял…
— А это и несущественно. Ты вообще не должен был даже подозревать о самом существовании закрытых разделов Инфобанка. И то, что система разграничения доступа непозволительно долго проверяла твои полномочия, еще станет предметом отдельного разбирательства. Всего-то и нужно было, что сопоставить местонахождение актуализированного кода доступа с физическим местонахождением его владельца…
— Консул не виноват, — буркнул я.
— Да никто его и не винит, — отмахнулся Андерсон. — Защита информации — не его забота. Все равно этот код должен быть дискредитирован завтра в полночь. Таков уж порядок. Тебе, можно сказать, повезло, что ты успел им воспользоваться.
— Говорю же, я не успел!
— Успел, успел, — вздохнул сеньор Крокодил. — Ведь ты узнал про «Согдиану».
— Большое дело! Можно подумать, погиб целый галактический лайнер с пассажирами, а никто и не знал?!
— Отчего же, знали все. Но! Согласно официальной версии, «Согдиана» не вышла из экзометрии в расчетной точке. Ведутся поиски. Это дает надежду родным и близким. И до определенной степени соответствует действительному положению вещей.
— Подождите… ничего не понимаю. Ведь лайнер же погиб! Я же своими глазами видел… Какая еще надежда?!
— Лайнер погиб, — кивнул Андерсон. — Пассажиры — нет.
9. Захват «Согдианы»
Седьмого мая 133 года пассажирский лайнер Федерации «Согдиана», следовавший рейсом Эльдорадо — Титанум, вышел из экзометрии в зоне промежуточного финиша, в непосредственной близости от планеты Кантара, что в звездной системе Гианфар, она же лямбда Дракона. На Кантаре, обладающей разреженной кислородосодержащей атмосферой, находится Галактический маяк, который работает в автономном режиме. Иными словами, постоянное присутствие обслуживающего персонала там не обязательно. Однако же, по стечению обстоятельств, в описываемый момент времени там находилась бригада смотрителей с плоддер-поста Этамин. После обмена рутинными сообщениями между лайнером и маяком должен был состояться вход «Согдианы» в экзометрию. Но вместо фиксации момента отбытия маяк внезапно зарегистрировал появление в опасной близости к лайнеру трех посторонних объектов сопоставимой с ним массы. «Что у вас там происходит?» — осведомился мастер-плоддер Оливер Т. у первого навигатора «Согдианы» Винсента де Врисса. «Я думал, вы мне объясните, — раздраженно ответил тот. — Нас берут на абордаж». — «Что-о-о?!» — «Они причалили к грузовому люку и сейчас вскрывают его снаружи». — «Повторите сообщение», — потребовал Оливер Т., не веря своим ушам. Но повтора не последовало. Спустя пять минут неустановленный член экипажа вышел на связь в последний раз. Поскольку изображения уже не было, по акустическому отпечатку голоса удалось установить, что это был инженер-навигатор Геррит ван Ронкел. «Всем кораблям Звездного Патруля, — объявил он почему-то шепотом. — Мы захвачены пиратами. Это не люди, хотя очень похожи. Они вооружены и чрезвычайно агрессивны. Первый навигатор де Врисс ранен. Огромные, как гориллы, и разговаривают на непонятном языке. Они не понимают нас, а мы не понимаем их. Уводят пассажиров на свой корабль. Уводят силой. Экипаж пока не трогают, но что с нами будет, я не знаю. Они…» На этих словах передача оборвалась и больше не возобновлялась. Минуло еще несколько минут, и маяк зафиксировал мощный световой импульс и гравитационные возмущения в точке пространства, где находилась «Согдиана». Последующее сканирование зоны промежуточного финиша показало наличие многочисленных мелких металлосодержащих объектов, которые беспорядочно двигались по центробежным траекториям. Очевидно, это было все, что осталось от космического судна длиной пятьсот двадцать пять метров и массой шестьдесят восемь тысяч тонн.
Оливеру Т. не оставалось иного, как подать сигнал тревоги и ждать прибытия патруля. Сам он, со своим утлым «кормораном», без внешних палуб, причалов и манипуляторов, с одним-единственным стыковочным узлом, никому и ничем помочь не мог. Это по непонятным причинам — как будто он был во всем виноват! — привело мастер-плоддера в такое бешенство, что его спутники, тоже матерые плоддеры, шарахались от него, как ошпаренные.
Вместе с патрульным кораблем «Эксельсиор» — кстати, одним из самых больших в своем классе — прибыли и сотрудники Департамента оборонных проектов, числом полтора десятка, со своим оборудованием, среди которого угадывались сверхточные масс-сканеры, когитры классом никак не ниже шестого и до невозможности навороченные мемоселекторы. Кроме того, на борту «Эксельсиора» размещались четыре мини-катера для автономных полетов. Из чего следовало, что инциденту сразу было придано надлежащее значение. Пока зона бедствия исследовалась катерами, люди из Департамента изучали записи переговоров с «Согдианой» и снимали показания с плоддеров.
Причина странного поведения Оливера Т. разъяснилась сразу же.
Во время оно бравый мастер-плоддер трудился в одном из подразделений Департамента и, в частности, занимался расследованием гибели пассажирского лайнера «Равенна». Как известно, прошлый инцидент был целиком на совести Светлых Эхайнов, которые и не отрицали своей вины, упирая, впрочем, на то сомнительное обстоятельство, что общее руководство операцией осуществлялось штабом штурмовых акций Черной Руки, который счел за благо объявить мирную «Равенну» военным крейсером Федерации. Так или иначе, лайнер был расстрелян, все, кто находился на борту, погибли.
Оливер Т. был среди тех, кто собирал рассеянные в пространстве останки.
Потрясение оказалось слишком тяжелым. Психотерапия и длительный отдых ожидаемого результата не принесли. Вернувшись на работу, Оливер Т. принялся осаждать высокие кабинеты с тщательно разработанным планом силовой акции возмездия и устрашения. Его отказывались слушать. Это и было понятно… «Будут новые атаки, — твердил он. — Будут новые жертвы. Не исключено, что в следующий раз эхайны окажутся умнее и возьмут заложников. Хорошо, если они станут использовать их как живой щит. Плохо, если они пожелают диктовать нам условия. Потому что мы вынуждены будем идти на эти условия, чтобы не пострадали наши люди. Поэтому необходимо ударить по ним прямо сейчас, пока они помнят, за что именно, и не имеют живого щита. И ударить намного сильнее, чем они ударили по нам». — «Мы не агрессоры, — раз за разом объясняли ему со всем терпением, какое было только возможно в общении с психически неуравновешенным собеседником. — Мы не воюем с эхайнами. И никогда не станем воевать. Сама мысль о войне отвратительна человеческой морали». — «Но эхайны уже воюют с нами!» — «Федерация слишком велика и могущественна, чтобы замечать эти комариные укусы». — «А вам доводилось разыскивать в облаке металлического мусора замороженные тела жертв комариных укусов?!» Здесь обычно беседа завершалась, и начиналась истерика.
Карьера Оливера Т. катилась под откос. Он был отлучен от активных акций на периферии и переведен в службы, занятые сбором безобидной информации общего свойства, к тому же — никаким боком не касающейся Эхайнора. Психотерапия все же принесла свои плоды: приступы агрессии прекратились… но на смену им пришла скрытая деятельность. Оливер Т. оставил службу и принялся воплощать свой план в одиночку.
Ему даже удалось получить доступ к списанному, но все еще вполне дееспособному кораблю класса «ламантин-турбо». Сугубо транспортное судно легко поддавалось любым модификациям, в том числе и переоборудованию в боевую единицу. Дальности полета вполне хватало, чтобы достичь внешних рубежей Эхайнора. Правда, на обратный путь ресурсов могло и не хватить… но кто собирался обратно?
Вечером того же дня, когда Оливер Т. неосмотрительно сделал запрос в службы обеспечения Звездного Патруля по поводу тяжелого фогратора класса «протуберанс», в дверь его дома деликатно постучали. На крыльце стоял высокий худой мужчина, довольно пожилой, с костистым морщинистым лицом, в просторном плаще-пелерине и высокой старомодной шляпе. В руке он держал зонтик-тросточку, который был, впрочем, загодя сложен. Между тем, шел проливной дождь, и его капли неподобающе весело плясали на широких полах диковинной шляпы.
Доктор высокой словесности Виктор Авидон, писатель и педагог, лауреат премии «Пангалаксиум» в гуманитарной сфере. И одновременно — Генеральный секретарь Наблюдательного совета при Департаменте оборонных проектов. То есть, человек, мнение которого даже такими монстрами, как Голиаф, президент Департамента, или вице-президент Ворон, высоко чтилось и являлось для них приказом, требовавшим немедленного и неукоснительного исполнения.
— Я пришел один, — сказал Авидон и поспешно снял шляпу — дождь радостно забарабанил по макушке с торчащими прядями редких седых волос. — Нам нужно поговорить.
В бытность Оливера Т. сотрудником Департамента они встречались пару раз, не больше, и вовсе не общались. Визит подобного уровня предвещал мало доброго.
Оливер Т. отступил, впуская нежданного гостя под навес.
— Заложники? — спросил он одними губами.
— Нет, — ответил Авидон. — Ничего не происходит. Ровным счетом ничего. Вы заблуждались. Следовательно, ваш страшноватый план лишен смысла. И потом… все равно никто не может позволить вам продолжать то, чем вы занимались все это время.
Оливер Т. бросил короткий взгляд на пристройку, где хранилось все, что он собирался установить на свой корабль.
— Да, — сказал Авидон печально. — Там уже ничего нет. Личные затраты будут вам возмещены. Так мы можем поговорить?
Оливеру Т. понадобилось немало усилий, чтобы преодолеть барьер колоссального уважения, которое он питал к своему собеседнику, и продолжать выглядеть саркастичным и разочарованным.
— Не сейчас, — сказал он. — Позже. Когда эхайны возьмут заложников, у нас, словно бы из ниоткуда, возникнет много тем для разговоров.
— Этого не случится, — мягко возразил Авидон. — Активность эхайнов за последнее время резко снизилась. Возможно, им по каким-то малопонятным причинам не до нас.
Оливер Т. досадливо скривился. Это была ложь во спасение: уже случились и Зефир, и Форпост, и Сторверк. И вдвойне было неприятно слышать наивную дезинформацию из уст такого почитаемого человека, как Виктор Авидон.
— Это случится непременно, — сказал он. — В тот момент, когда никто этого не ждет. Так всегда и происходит, я специально изучал этот вопрос…
— Мы тоже не сидим сложа руки, — проворчал Авидон.
— У них всегда будет преимущество.
— Возможно. Но мы ничего не можем с этим поделать. Хищник всегда в более выгодном положении, нежели жертва. А мы не хищники.
— Я уже слышал эту песенку. — Оливер Т. с неудовольствием поймал себя на неучтивости, но ничего не мог с собой поделать: была задета так и не зажившая рана. — Спойте ее родственникам пассажиров «Равенны». — Он прикрыл глаза и, ненавидя себя, прибавил: — И планетографов с Зефира.
— Так вы знаете про Зефир, — проговорил Авидон озадаченно.
— А вы научились лгать, доктор, — хмыкнул Оливер Т. — Вы стоите на пороге моего дома. Но, кажется, уже запамятовали, что когда-то я работал под вашим призором. Я ещё способен извлекать рассеянную информацию из Глобального инфобанка и делать правильные обобщения.
— Отчего вы не пригласите меня в свой дом и не позволите присесть? — спросил Авидон;
— Я не ждал гостей, и у меня беспорядок, — ответил Оливер Т. и покраснел.
— Понимаю, — вздохнул Авидон, вертя шляпу в руках. — Поверьте, друг мой: этот разговор для меня тягостен не меньше вашего. И я действительно ощущаю себя в чуждой для меня роли, для которой подхожу хуже всего. Я отложил на неопределенный срок незавершенные труды, от которых, подозреваю, человечеству было бы много больше пользы, чем от моего секретарства в Наблюдательном совете. Мне приходится заниматься делом, которое вызывает глубокие нравственные колебания, но только потому, что я не могу доверить его кому-нибудь другому… у кого таких сомнений не в пример меньше, как у Ворона, или нет вовсе, как у вас. Вы должны простить мне излишнюю прямоту, но вы не мальчик, чьи чувства следует щадить, а я гожусь вам в прадеды и учил еще тех, кто учил ваших учителей. Где-то, очевидно, произошел сбой… Ворон хотел направить к вам каких-то функционеров — я запретил ему. Он хотел прибыть лично — я запретил ему и это. Мне важно понять самому, что движет вами и такими людьми, как вы. Вы же понимаете, что вы не один. И это не может не настораживать.
— У нас разные углы обзора, — усмехнулся Оливер Т. — Вы видите все человечество, а я — лишь пару сотен человек, что могли бы оставаться частью этого человечества, не помешай тому эхайны.
— Я понимаю вас, — сказал Авидон. — Можете мне не верить… единожды солгавши, кто тебе поверит… но это так. Понимать всех — часть моей работы. Я понимаю и тех, кто лишился своих близких. В отличие от вас, я говорил с ними вот так, как сейчас говорю с вами, с глазу на глаз. Горе их безмерно, но в большинстве своем они не готовы мстить. Прекрасно сознаю, что на то есть разные причины. Кто-то не чувствует в себе сил и трезво оценивает возможности. Кто-то знает, что местью ничего не исправишь и никого не воротишь. Кто-то и хотел бы сурово наказать виновников, но не питает никаких чувств ко всему Эхайнору. Ни ненависти, ни любви. В конце концов, эхайны не сделали ровным счетом ничего, чтобы завоевать нашу признательность. Что ж… это ничего не меняет. Друг мой, мы не станем воевать с Эхайнором. Мы будем умело обороняться и настойчиво искать ненасильственные пути к умиротворению наших строптивых оппонентов. Доброта, терпение и снисходительность. Как бы непереносимо это ни звучало для вас… Но пока мое мнение не пустой звук в этом мире, будет так и только так. Слава Господу, тех, кто согласен со мной, многократно больше тех, кто согласен с вами. И мы добьемся своего, не проливая крови, не сжигая городов и не взрывая планет. Возможно, я не самый умный человек и не самый последовательный гуманист, но мне отвратительна перспектива видеть в моем мире призывные пункты, медкомиссии по набору «диких гусей» и военные госпитали.
— Кажется, вы все еще не уразумели, доктор, — пробормотал Оливер Т. — Это не игра. Вашему вселенскому гуманизму брошен грубый вызов.
— Ошибаетесь, — возразил Авидон. — Я уразумел это раньше всех, чьи имена вертятся у вас на языке. Кстати, те адресаты, кому вы направляли свои памятные записки, не понимают этого до сих пор.
Лицо Оливера Т. дернулось. Он и впрямь пытался достучаться до Совета по социальному прогнозированию, до Совета ксенологов и даже до Академии Человека. Действительный член которой в данный момент переминался с ноги на ногу на его крыльце… Всюду его участливо выслушали, всюду обещали отнестись к его зловещим пророчествам с должным вниманием, и всюду с ним разговаривали, как с душевно неуравновешенным субъектом.
— Я не желаю вовлекать все население моего мира в эту ничтожную межрасовую дрязгу, — продолжал Авидон. — Это глупо, смешно и недостойно человечества. Это попросту мелко! Главный смысл моей работы я вижу в том, чтобы мой мир даже не подозревал, что некие генетически близкие, но перенасыщенные адреналином белковые тела ведут против него военные действия.
— Мой мир уже вовлечен в то, что вы называете «дрязгой». С того дня, как погибла «Равенна».
— Будем последовательны: с того дня, как Федерация стала членом Галактического Братства, масштаб ее проблем существенно увеличился. С этим нужно смириться, это нужно принять. И противостоять новым вызовам, даже самым грубым и наглым, никогда не изменяя своим принципам. В конце концов, теперь мы не одни. За нами — а иногда и впереди нас — стоит вся мощь цивилизованной Галактики. У нас есть преданные, искушенные союзники. Поверьте, мы можем и будем эффективно защищаться. Перефразируя слова Сына Божия: не меч пришел я принести, но щит…
Оливер Т. понял аллюзию. Авидон имел в виду галактический оборонный проект «Белый щит», чьей задачей была радикальная защита космического флота Федерации от агрессии Эхайнора. Сюда входили и прямой мониторинг активности эхайнов в непосредственной близости от их космопортов, и дисторсионные генераторы возле экзометральных порталов, и высокомощные изолирующие поля на ксенологических стационарах, автономных космических поселениях и всех транспортных средствах сколько-нибудь значительной массы, и многое другое, что укладывалось в определение «непреодолимая пассивная оборона». Ходила байка о происхождении названия проекта: едва ли не сам Авидон в сердцах задал вопрос Голиафу, не пора ли Федерации выкинуть перед эхайнами белый флаг, на что последний совершенно от балды ответил в том смысле, что Федерации более к лицу белый щит.
— Мы можем сколько угодно долго уклоняться от схватки, — сказал Оливер Т. — Прятаться от их штурмовиков, не реагировать на их угрозы, и при этом наши принципы не пострадают. Пострадают отдельные люди. Потому что эхайны не уважают и не понимают наших принципов. Эхайны уважают и понимают только силу. Они будут нападать и угрожать. И это не кончится никогда… если мы наконец не дадим сдачи. Третий закон Ньютона никто еще не отменял…
— Мы не станем давать сдачи. Поймите же наконец: мы не такие, как они. Мы другие. И мы никогда не опустимся до того, чтобы играть по их правилам.
— Все-таки игра, доктор… вы слишком много своего времени провели среди детей. Есть у меня опасение, что вы отвыкли воспринимать реальную жизнь иначе, чем игру, а взрослых считаете теми же детьми, только покрупнее да помохнатее. Хорошо, пускай это игра, но в ней мы изначально обречены на поражение. Потому что человечество играет в величественного исполина, изнывающего от собственного гуманизма, который не устает твердить, как заводной: жизнь бесценна… бесценна… и с высоты своей вселенской нравственности не замечает, как его пожирают мелкие злобные паразиты, для которых жизнь — ничто, и уж в особенности чужая.
— Мы заплатили дорогую цену за право называться разумными. И не станем отступать в неолит потому только, что не нравимся неандертальцам. Да, мы величественны и гуманны. И такими останемся несмотря ни на что. Разумеется, кому-то… да хотя бы и вам… может показаться, что мы беспомощны и не знаем, как поступить, когда на нас нападают. Но это этическая дилемма, которую никому еще не удалось разрешить. Опуститься до уровня примитивных варваров, взимать плату оком за око, рубить гордиевы узлы фотонным мечом. Или, с миссионерским риском для собственного благополучия, относиться к ним, как они того и заслуживают: как к варварам, которых следует терпеливо и бережно приобщать к высоким ценностям Галактического Братства. И убедить их, наконец, что жизнь бесценна, действительно бесценна, и это непреложный императив всякого разумного существа. Доброта, терпение и снисходительность. Я бы еще прибавил: любовь. Но сознаю, что пока не вправе ни от кого, даже от самого себя, ожидать этого высокого чувства к эхайнам. Я говорил уже: они до сих пор не дали нам ни единого шанса. — Авидон беспомощно развел руками. — Боже, но почему в первой половине двадцать третьего века от Рождества Христова я вынужден сызнова зачитывать прописные истины вам, моему брату по крови, который должен понимать это не хуже меня?!
— Но вы же хотели поговорить, — хмыкнул Оливер Т.
— Меня не оставляет ощущение, что разговор так и не сложился. Это нервирует меня столь же сильно, как тема нашего разговора и даже мой голос нервируют вас. Быть может, виной всему мое нынешнее косноязычие — за недостатком времени я не подготовился должным образом обсуждать с вами столь высокие материи… Что вы собирались сделать со своим «ламантином»?
— Добраться до пределов Эхайнора, — откровенно сообщил Оливер Т. — И, если повезет, атаковать их внешнее кольцо обитаемости.
— Полагаете, они настолько наивны, что не заметят чужой корабль в своих пределах?
— Можно было бы вынырнуть из экзометрии где-нибудь вблизи Деамлухса. Естественно, до самой планеты мне не добраться — перехватят и распылят. Но я и не стал бы соваться к планете. Есть более доступные цели — к примеру, исследовательская станция «Эмбарусса» или орбитальный космопорт Целлеск.
— Это гражданские объекты, — сказал Авидон, демонстрируя неожиданно глубокое знание предмета. — На «Эмбаруссе» постоянно живет и работает около трехсот эхайнов — ученые, техники, пилоты. А пропускная способность Целлеска — полторы тысячи пассажиров в пиковые периоды.
— Меня это устраивает.
Авидон раздраженно ударил шляпой о колено — во все стороны полетели брызги.
— Кому вы собирались мстить, сеньор Зорро? — спросил он. — Тихому астрофизику, жизнь свою посвятившему поискам закономерности в пульсациях гравитационного фона в окрестностях планеты-гиганта Хаммогайт? Каботажному драйверу, который только что доставил смену космических монтажников для ремонта обшивки станции и зашел в местный бар выпить прохладительного? Семье отпускников, прибывших с Юкзаана полюбоваться на живописные руины деамлухских крепостных сооружений эпохи Изначального Катарсиса и спокойно дожидающихся ближайшего челнока на смотровой палубе? Никто из них и слова такого никогда не слышал — «Равенна»… Я еще понимаю, если бы у нас в руках вдруг оказался регистр эскадры штурмовиков Светлой Руки, а еще лучше — список личного состава штаба штурмовых операций! Это была бы по крайней мере достойная тема для обсуждения в предлагаемом контексте…
— Не вижу разницы.
— Это эхайны — точнее будет сказать: некоторая часть эхайнов не видит разницы. А мы видим! Я вижу, он видит, все видят. Отчего же вы, друг мой, вдруг утратили способность различать белое и черное?!
— С некоторых пор, — раздельно произнес Оливер Т., — я вижу только замороженные глаза мертвых пассажиров «Равенны»… Скажите честно: у меня был шанс?
— Да, — с неохотой, после долгой паузы, ответил Авидон. — И я абсолютно счастлив, что вам не удалось его реализовать. Вы тоже должны быть счастливы, но, увы, отчего-то не желаете проникнуться этим светлым чувством. Иначе у эхайнов возникла бы вредная иллюзия, будто мы ничем не отличаемся от них. И тогда нас действительно можно объявить врагами и воевать с нами спокойно и серьезно.
— Но разве сейчас они поступают иначе?
— Да они в растерянности! — воскликнул Авидон. — Они не понимают, почему мы ведем себя так безучастно! Разумеется, они где-то слышали, что война давно уже нам неинтересна, но не верят, что такое возможно. Ведь мы так похожи на них! Но как воевать с тем, кто не замечает агрессии, и как называть врагом того, кто постоянно предлагает братскую дружбу?! Это раздражает эхайнов, это вносит неприятную раздвоенность в их мироощущение. И это, что ни говорите, связывает им руки.
— Не уверен, — сказал Оливер Т. — Не уверен. Думаю, просто они ищут способ обойти ваш «Белый щит». И в следующий раз они возьмут заложников.
— Вам не кажется, друг мой, — сказал Авидон с тяжким вздохом, — что мы пошли по второму кругу?
— Мне кажется другое, — сказал Оливер Т. — Вы так меня и не услышали. И никто меня услышал. Ничего нет приятного выслушивать мрачные предсказания. Не знаю уж, как мне вас убедить.
— Вы не правы. Я услышал вас. И я понял вас и ваши доводы. Но принять их я не смогу никогда.
— Тогда хотя бы не глядите на меня, как на сумасшедшего.
— Что вы себе навыдумывали?! — возмутился Авидон. — Я встречал душевнобольных, они выглядят иначе и ведут себя иначе. Допускаю, что это обидно ранит ваше самолюбие, но вы не маньяк, увы… Вам нужно вернуться к работе. К нормальной жизни в человеческом окружении. Здесь у вас нет врагов. Ну, если вам так хочется, можете считать меня своим врагом. У меня никогда не было врагов на Земле, и это внесет в мою жизнь некое экзотическое разнообразие. В конце концов, я намного больше вас виноват в том, что случилось с «Равенной». Почему, думаете, к вам пришел я, а не кто-то из моих подчиненных, у кого не в пример больше свободного времени?
— Похоже, вам удалось как-то договориться с собственной совестью, доктор. Я не такой счастливчик. Поэтому я вам мешаю. Как… как застарелая заноза. И вы явились затем только, чтобы вытащить эту занозу. Что ж — теперь, когда вы забрали мой «ламантин», у меня больше не осталось аргументов.
— Вы мне не мешаете, — пожал плечами Авидон. — Откуда столько сарказма, столько непримиримого негативизма? Я просто выполнил свою работу и пришел объяснить, в чем она состоит. Для совести у меня есть иные лекарства. Прощайте, Оливер. Если захотите продолжить беседу, мой личный код в вашем распоряжении. Просто назначьте время и место. Только уже не сегодня и, по возможности, не завтра. И надеюсь, вы не станете делать непоправимых глупостей.
Он коротко кивнул и ушел в дождь.
Оливер же Т. на следующий день явился в ближайший плоддер-пост. Он рассчитывал избавиться от забот о благополучии мира, который в них не нуждался, забыть об эхайнах, горели бы они синим пламенем, и навсегда изгнать из своей памяти взгляд замороженных глаз.
Ему это не удалось.
— Люди живы, — по прошествии трех лет мрачно говорил Оливер Т., глядя прямо в глаза инспектору Департамента, который, в духе традиции, хоронил свое подлинное имя под оперативным псевдонимом Виглаф.
— Но это были…
— Эхайны, — кивнул Оливер Т. — Я знаю.
— Они просто взорвали корабль, как поступили в свое время с «Равенной». Вот данные от катеров, которые барражируют в зоне бедствия. Там не осталось ни одной целой спасательной капсулы, ни единого обломка крупнее вот этой бутыли.
— И ни одного тела, не так ли?
— Взрыв был очень мощный.
— Когда эхайны взорвали «Равенну», спустя три часа были обнаружены почти пятьдесят тел. Впоследствии еще столько же. Мне можно верить, я был там. Но тогда им нужна была акция устрашения. А сейчас они нуждаются в заложниках.
Виглаф открыл было рот, чтобы привести какой-то резон, но незаметно вошедший в кают-компанию человек, и сам совершенно незаметный, сливающийся с обстановкой, ничем броским во внешности не выделяющийся, счел за благо обозначить свое присутствие негромким покашливанием.
— Привет, Оливер, — сказал он. — Рад видеть, что ты здоров, невредим и полон новых идей.
На какое-то мгновение всем показалось, что мастер-плоддер набросится на нового собеседника. Но все обошлось.
— Ворон, — сказал Оливер Т., нехорошо усмехаясь. — Я тоже по вас не скучал.
— Должно быть, приятно сознавать собственную правоту, — заметил человек, названный Вороном. — Всегда мечтал узнать, каково это — быть Кассандрой.
— Вы даже не представляете, насколько я счастлив, — отвечал Оливер Т., но лицо его оставалось неподвижным. — Еще двести человек готовы свидетельствовать в мою пользу. Полагаю, доктор Авидон и вселенский гуманизм лишь укрепились от новых испытаний?
— Доктор Авидон подал в отставку, — сказал Ворон. — Примерно полчаса назад.
— Красиво, — сказал Оливер Т. — Поиграть в атланта… он так любит разные игры… подержать на немощных плечах небесный свод, а как надоело, взять и сбросить.
— Его отставка не будет принята Наблюдательным советом.
— Тоже красиво. Очень успокаивает больную совесть.
— Хочешь знать, что в действительности произошло? — спросил Ворон.
— Я был здесь с самого начала, и знаю все.
— Нет, ты только слышал голоса и видел взрыв. Это лишь внешняя атрибутика. А произошло вот что: эхайны в сотый, наверное, раз испытали на прочность федеральный оборонный проект «Белый щит» и нашли в нем последнее уязвимое место. Последнее, Оливер. Больше им не удастся причинить нам ни малейшего ущерба. Все новые акции эхайнских штурмовиков изначально обречены на провал. Они уже это поняли — потому что сегодня были пробные атаки и в других зонах промежуточного финиша наших кораблей, и все они засыпались. «Белый щит» действует, и действует эффективно. Быть может, эхайнам даже придется расформировать штурмовой флот за ненадобностью и неприемлемой неэффективностью затрат.
— И что же? Они сдадутся и оставят нас в покое?
— Конечно, нет. Это же эхайны! Но противостояние обретет новые формы, скорее всего — бескровные. Начинается война разведок и пропаганд. И в этой войне преимущество будет на нашей стороне. Потому что пока они гонялись за нашими пассажирскими лайнерами, мы разыгрывали свою партию на другой доске. Наши фигуры вовсю орудуют на их половине, а они даже не сделали ни единого хода.
— Все еще играете, коллеги, — сказал Оливер Т. бесцветным голосом.
— Это лишь терминология, — отмахнулся Ворон. — Послушай, Оливер: я человек суеверный. В том, что ты оказался в этом месте в этот недобрый час, есть какой-то знак. Я сознаю, что в плоддерах ты утратил профессиональные навыки, а ложно понимаемые цели дезориентировали тебя как личность. С моей стороны смешно и нелепо предлагать тебе работу в Департаменте. Но я верю в знаки и не верю в случайности. Мы создаем группу «Ньютон-3» под руководством Тиштара — ты должен его помнить…
— Нет, — сказал Оливер Т. — Вы опоздали. Вы всегда опаздываете, вместо того, чтобы упреждать. Теперь мне это неинтересно. Разговор окончен.
— Когда ты вторгся на запретную территорию, — сказал Андерсон, — я получил от директора Забродского два распоряжения. Первое: пресечь твою информационную диверсию. Второе: рассказать тебе про «Согдиану». Хотя я подозреваю, а доктор Забродский так просто уверен, что не всем, кто принимает твою судьбу близко к сердцу, такое решение придется по вкусу.
— Например, Консулу, — усмехнулся я.
— Например, госпоже Климовой, — подхватил Андерсон. — И еще некоторым весьма влиятельным лицам. Если хочешь знать, это не по вкусу даже мне. Потому что директор Забродский далеко отсюда, и у него, возможно, создалось превратное представление о твоей персоне. Он-то думает, что ты уже зрелый и рассудительный молодой человек, а я, напротив, вижу, что ты все еще долговязый подросток, по самую крышу загруженный своими пустяшными подростковыми заботами.
— А директор Забродский случайно не распорядился заодно и объяснить мне, какая связь между пропавшими пассажирами «Согдианы» и мной?
— Распорядился, — хмыкнул сеньор Крокодил. — Никакой между вами связи нет.
Я аж задохнулся от негодования.
— Тогда зачем?! — заорал я. — Зачем вы мне это рассказываете? И зачем он хотел отобрать меня у мамы?
Андерсон поднялся из кресла и потянулся.
— Вот что, дружок, — промолвил он ласково. — Я исполнил свою миссию на сегодня. Не скажу, чтобы это привело меня в восторг.
— Можно подумать, я все понял и успокоился, — проворчал я. — Только напустили туману…
— Согласен, — кивнул Андерсон. — Но ничем помочь не могу. И вот что я тебе скажу: утро вечера мудренее. Твоя забота сейчас — успокоиться и заняться более неотложными делами. У тебя, по моим сведениям, хвосты по статистике и античной истории, а это безобразие. А моя забота — ждать дальнейших распоряжений. Что-то мне подсказывает, что они непременно и вскорости последуют.
— Что же, мне делать вид, будто ничего не произошло?
— Ничего тебе не делать. Впрочем… теперь, когда мы с тобой познакомились, будет как-то ненатурально встречаться на улице и не раскланиваться. Мы можем поговорить о погоде… о фенестре… Только не надейся, что я стану отвечать на твои вопросы по существу дела. И еще… Я знаю, что ты все же не лишен неких зачатков благоразумия. Поэтому очень надеюсь, что тебе достанет мозгов не пересказывать подлинную историю захвата «Согдианы» каждому встречному-поперечному. Даже Чучо Карпинтеро. Даже учителю Кальдерону. Во-первых, тебе никто не поверит. А во-вторых, эта история еще не досказана до конца. Засим, — он сотворил на лице светскую улыбку, хотя глаза его оставались неподвижными и печальными, — позволь мне откланяться.
Уже в дверях он задержался и с чувством продекламировал:
When wolves and tygers howl for prey They pitying stand and weep; Seeking to drive their thirst away, And keep them from the sheep…[30]— Ага, — сказал я. — Ну конечно же!
10. Преступление и наказание
В последнее время все важные события взяли моду происходить с утра. Когда человек спит, видит самые приятные сны и не очень-то рвется просыпаться. Что происходит, когда его грубо вырывают из мира грез, пускай даже самым деликатным стуком в дверь? А вот что: он просыпается, как ошпаренный, и забывает собственный сон.
Я оторвал голову от подушки, все еще сохраняя в себе блаженное ощущение бесследно растаявшей дремы. Отозвался, полагая, что если уж кого и принесла нелегкая в такую рань, то наверняка Чучо:
— Заходи уж, обормот…
Однако вошел не Чучо, а тот, кого я меньше всего мог ждать себе в гости.
— Рад слышать, что ты допустил меня в свой ближний круг, — сказал Людвик Забродский. — Но впредь никогда не распространяй свое гостеприимство столь безоглядно. За дверью может быть вампир, а вампиры, как известно, не могут переступить порог дома без приглашения хозяина.
Я потянул одеяло на себя. Наверное, все же это был сон, навеянный вчерашним разговором, и сон не из самых желанных.
— Увы, я тебе не снюсь, — печально произнес Забродский и примостился на краешке кресла, как давеча инспектор Андерсон, он же сеньор Крокодил, он же «леший» из чендешфалусской пущи. — И я, на твое счастье, не вампир.
Отчего-то не воспринимал я нынче такого юмора.
— Что стряслось-то? — спросил я, откашлявшись.
— Очень многое. И все из-за твоей эскапады с кодом доступа.
— Ну, виноват, ну, накажите… — заныл я. — Ну сколько же можно?..
— Собственно, я зашел попрощаться, — сказал Забродский.
Теперь я не нашелся, что ответить. Какое-то время мы молчали. Потом он снова заговорил, глядя в стену:
— Вчера, после того, как ты вошел в закрытые разделы Инфобанка, я отдал приказ своему сотруднику прекратить твое бесчинство, но изложить подробно содержание того раздела, до которого ты успеешь докопаться. Не знаю, зачем я это сделал. Наверное, ты нуждался в какой-то компенсации за наше грубое вторжение в твою личную жизнь… Хочу подтвердить факт отдачи мной этого несуразного приказа. Это на тот случай, если кто-то станет тебя расспрашивать. Томас Андерсон не виноват. Это все на моей совести.
— Да что вы все так всполошились-то? — сонно возмутился я.
— Ты лежи, лежи, — сказал Забродский. — Неприятность в том, что тебя угораздило вскрыть как раз тот раздел, которого тебе видеть в ближайшие два-три года никак не полагалось. Закон подлости в рафинированном виде… Собственно, как раз из-за этого и завязался весь сыр-бор, и вся канитель, и вся чехарда вокруг тебя, и за что меня до сих пор вполне справедливо ненавидит прекраснейшая из женщин — твоя матушка.
— Этот ваш Андерсон утверждал, что между гибелью «Согдианы» и мной нет никакой связи, — возразил я.
— Он и должен был это утверждать, — покивал Забродский. — Потому, что он рядовой сотрудник Департамента и не посвящен в подробности. А хотя бы и был посвящен… — Он тяжко вздохнул. — Какое это сейчас имеет значение? В общем… ты еще мило беседовал с Томми Андерсоном, а меня уже отстранили от руководства отделом активного мониторинга. Четко и оперативно — как это и бывает в Департаменте, когда кто-то нарушает правила игры. Я здесь как частное лицо…
— Отстранили… как это? Из-за меня?!
— Ты здесь ни при чем. Не вздумай себя корить. Я, собственно, и явился, чтобы напомнить тебе об этом. Что бы вокруг тебя ни происходило, что бы ни вертелось — ты ни в чем не виноват. Ты меня понимаешь?
— Ни фига я не понимаю, — пробурчал я. — Отстранили… ничего себе… Но теперь-то, когда вы свободны — объясните мне, наконец…
На сей раз никто не стучался, и дверь с треском распахнулась как бы сама собой. В комнате сразу стало чрезвычайно тесно.
— Я так и знал, — сказал Консул с ледяным спокойствием, хотя по необычно темному лицу ясно было, что он пребывает в крайней степени бешенства. — Я будто ждал, Людвик, что ты припрешься именно сюда и именно затем. Почему я не удивлен, Людвик?
— А почему… — запротестовал было я, но Консул осадил меня властным жестом.
— Людвик, поднимайся, — приказал он. — Тебе нечего здесь делать. Ты уже и без того достаточно накуролесил.
Забродский, смущенно кряхтя, встал и поплелся к выходу.
— Нет! — прорычал я.
Они обернулись и посмотрели на меня с безмерным удивлением.
— Вы оба не уйдете отсюда, пока все мне не расскажете, — с нажимом произнес я.
Они переглянулись.
— Слова не мальчика, но эхайна, — сказал наконец Консул неопределенным тоном.
— Черного Эхайна, — уточнил Забродский.
— Ну, не так чтобы совсем уж Черного, — возразил Консул. — Скажем, темно-серого.
— Но серого не беспросветно, — парировал Забродский.
Дядя Костя открыл рот, чтобы развить эту мысль, но я прервал его.
— Прекратите! — рявкнул я. — Не смейте насмехаться. Вы находитесь в моей комнате…
— …а ты без штанов, — докончил Консул. — И тебе нет еще семнадцати. И ты как был, так и есть пацан-несмышленыш.
— Надоело это слушать, — сказал я в сердцах. — Достало! Тошнит уже от этих ваших слов. Вы просто боитесь! Причем боитесь сами не знаете чего! Причем гораздо больше, чем я! А может быть, вам нечего говорить, и вы разводите туман, чтобы спрятать собственное незнание и собственный страх. Дымовую завесу. Как… как Sepia officinalis!
— Кто-кто? — нахмурился Консул.
— Такая каракатица, — пояснил Забродский.
— Послушай, Людвик, — сказал Консул. — А ведь этот сопляк берет нас «на слабо».
— Определенно берет, — согласился тот.
Консул посмотрел на меня долгим оценивающим взором.
— Эхе-хе, — сказал он, проходя в комнату и садясь в освободившееся кресло. Покосился на выключенный видеал. — Черт меня дернул… Что же теперь прикажешь с тобой делать, Северин Морозов?
— Повесить, — проворчал я. — За ноги.
— Было бы неплохо, — сказал Консул серьезно. — Но для начала все же прими человеческий облик… хоть ты и эхайн.
11. Двести заложников
— Двести человек, — сказал Забродский. — Те, что с «Согдианы»… Кое-что об их судьбе мы знаем. Прошло столько лет. Но они живы. По нашим сведениям, все живы. Кто знает, в реальности дела могут обстоять не так удачно. Их содержат в специальном лагере где-то на Эхитуафле… это метрополия Черной Руки Эхайнора… но вот где именно? Огромная планета, бесконечные лесные массивы, обширные горные страны. Если бы у нас были точные сведения об их местонахождении, операция по освобождению заняла бы считанные часы. Сопоставь эти цифры — семнадцать лет и пара-тройка часов. И ты поймешь мое состояние. Эти люди провели в плену огромный кусок своей жизни. Там были дети, младше тебя. Они прожили вдали от дома больше половины своих биографий. Это нормально?
— Давай без риторики, Людвик, — поморщился дядя Костя.
— Все эти годы я только тем и занимался, что строил планы освобождения этих людей, — продолжал Забродский. — А сколько раз я пытался эти планы осуществить! Все бесполезно. Мы можем взять штурмом целую планету. Мы можем, при желании, разрушить инфраструктуру всего Эхайнора, чтоб там установился хаос. Мы способны на грубые действия, и мы способны на ювелирные операции. Но мы не можем ничего предпринимать в условиях полного — полного! — отсутствия информации.
У меня голова шла кругом.
— Но для чего? — спросил я, совершенно обалдевший. — Для чего эхайнам эти люди? Если они хотели их убить — отчего не убили? Зачем же неволить их столько лет?!
— Они не хотели их убивать, — сказал Забродский. — Эти люди — заложники. Ты знаком с этим термином?
— В общих чертах, — сказал я уклончиво.
— Я же сказал: мы можем в считанные часы сделать с Черной Рукой и со всем Эхайнором все, что захотим. Но пока у них в заложниках две сотни наших сородичей — мы бессильны. Мы связаны по рукам и ногам, потому что не можем поставить их жизни под угрозу.
— А мы действительно хотим… это самое… делать все, что захотим? — осторожно спросил я.
— Ничего мы не хотим, — раздраженно промолвил дядя Костя. — Мы не находимся в состоянии войны с Эхайнором. Мы вообще ни с кем не воюем. Будто у нас других забот нет, как с кем-то воевать! Но военная администрация Черной Руки так не считает. Им и в голову не может прийти, что мы не собираемся с ними воевать. Ведь они-то с нами сражаются, давно и доблестно! И ничто их так не выводит из себя, как ощущение того, что мы не замечаем ни их доблести, ни их порыва! Они хотят нас унизить — это отдельный и долгий разговор, зачем, — а мы игнорируем их выпады. В результате униженными ощущают себя как раз они. А для эхайнов, в особенности же для Черных Эхайнов, такое положение вещей невыносимо. Захватив людей с «Согдианы», они, по их мнению, убили сразу двух зайцев. Нанесли нам ощутимое оскорбление и обеспечили себе гарантии против нашего возможного противодействия — грубого и эффективного. Все же они не законченные идиоты и понимают, что при желании мы попросту их сомнем. А так у них есть шанс какое-то время чувствовать себя в относительной безопасности и безнаказанности.
— И они своего добились, — печально подтвердил Забродский. — Мы налаживаем неплохое сотрудничество со Светлой Рукой. На Земле уже несколько лет работает миссия Лиловой Руки. А с Черной Рукой все иначе. Мы находимся в состоянии пассивной обороны.
— Один вопрос, — сказал я. — Вы хотите освободить заложников — для чего?
— То есть как — для чего?! — опешил Забродский.
А дядя Костя понимающе хмыкнул.
— Ну, давай, Людвик, отвечай, — сказал он. — Только не ошибись в акцентах.
Забродский покраснел от бешенства, напыжился и, кажется, стал вдвое больше самого себя.
— Вот оно что, — сказал он бесцветным голосом. — Вы все там, в Совете ксенологов, давно составили суждение о нашей деятельности. И, как я погляжу, не торопитесь его менять. Мол, все они там, в Департаменте, ястребы, только и ждут команды «фас», и у них давно уже свербит в одном месте врезать этим наглецам по первое число… Так вот что я скажу вам, доктор Кратов, и тебе, мальчик Северин Морозов. Плевать я хотел на эхайнов и на Эхайнор. Век бы о них не слышать! Пускай творят в своих мирах что хотят, да хоть жопой в жопу бьются! Нет у меня до них никакого дела. Но при одном условии. При единственном! Чтобы они не лезли в наши дела и не решали за наших людей, где и как им жить семнадцать с лишним лет. И всякому, кто посягнет на жизнь и свободу гражданина Федерации, я с готовностью оторву любой орган, каким он на означенную жизнь и означенную свободу посягнет, будь то рука, голова или что иное. Это вы там, в галактических эмпиреях, мыслите вселенскими категориями. А я человек маленький, простой. Мое дело — обеспечивать безопасность граждан Федерации. И я ее обеспечу, хотя бы меня дьяволы в ад волокли.
— Что же вы так долго возитесь? — осведомился я с неприятной иронией.
— Да вот как раз поэтому и вожусь, — сказал Забродский. — Я не могу допустить, чтобы с головы этих двухсот упал даже единый волос. Ведь начни мы военную операцию вслепую, эхайны их убьют. Просто убьют, и все. Для того и существуют заложники. Фактор сдерживания, курва мать…
— Хорошо, Людвик, теперь позволь мне, — вмешался дядя Костя. — Чтобы у тебя, Сева, осталось меньше глупых вопросов, я стану задавать их от твоего имени и тотчас же отвечать. Итак, вопрос за номером один — хотя бы по градусу глупости: поднимался ли вопрос о силовой акции против Черной Руки? Да, и неоднократно, хотя в последнее время даже самые горячие головы… хм, ястребы… сильно умерили прежний пыл, и вот почему. Мы в состоянии напасть на все планеты Черной Руки одновременно, и очень скоро их оккупировать. И что же — это решит хоть одну проблему? Да нисколько! Во-первых, мы не спасем заложников, потому что не знаем, где они находятся, и куда направить острие атаки. Во-вторых, в Эхайноре у нас нет союзников, которые могли бы поддержать акцию изнутри. Как это ни цинично звучит, без «пятой колонны» интервенция подобного масштаба обречена на провал. Опрокинув инфраструктуру целой цивилизации, мы повесим себе на шею несколько миллиардов обозленного и враждебного населения, с чрезвычайно милыми следствиями в диапазоне от тихого саботажа до буйного резистанса в самых экстремальных формах. В-третьих, это не добавит нам симпатий и со стороны Галактического Братства, где такие действия давно уже не поощряются. И в-четвертых, мы сызнова сплотим Эхайнор, который только-только начали с успехом разваливать. Далее: пытались ли мы вступить с Черными Эхайнами в переговоры по поводу судьбы заложников в частности и по поводу прекращения бессмысленного вооруженного противостояния вообще? Да, пытались, пытались неоднократно и попыток не оставили. Я сам же и пытался — мне, как аристократу Светлой Руки, в Эхайноре многое позволено. Преуспели мы в своих попытках? Очень мало. Дипломатам Федерации в переговорах было грубо и без объяснений причин отказано. От меня же открестились по формальным и казуистическим соображениям, умело пустив в дело нестыковки в законодательствах Черной и Светлой Рук. Они в этом большие доки, а я неофит, и потому до сих пор не придумал, на какой козе этих крючкотворов объехать. Даже личное участие в переговорах гекхайана Светлой Руки, моего личного друга и покровителя, не помогло… Проводили ли мы разведывательные спецоперации на территории Черной Руки с целью установить точное местонахождение заложников? Да, проводили. Не морщись, Людвик, это секрет полишинеля… Наши разведчики высаживались в безлюдных местностях и выполняли как глобальное, так и локальное сканирование. Маскировались под эхайнов и вступали в контакты с населением и администрацией низшего звена повсюду, где только могли. Результат? Не воспоследовал. Все, что касается заложников, засекречено со всевозможным тщанием. Но, впрочем, время от времени нас многообразными способами ставят в известность, что все они живы и благополучны, насколько это возможно в условиях принудительного ограничения свободы. Чтобы, значит, мы не теряли головы, но и не расслаблялись…
— Наверное, следовало заслать агента в штаб противника, — заметил я важно.
— Наш человек в гестапо! — горестно расхохотался Забродский.
— Где-где? — переспросил я.
— В Лэнгли, — сказал Забродский. — В Уоксхолл-Кросс. Или в казармах Торелль.
— Сразу бы уж на Лубянке, — фыркнул дядя Костя.
— Где-где-где? — окончательно скис я.
— Неужели здесь у кого-то остались сомнения в нашей компетентности? — воскликнул Забродский.
— О да! — воскликнул Консул.
— Оставь, Константин, сейчас не лучшее время для зубоскальства… Конечно, мы предпринимали такие попытки! Боже, у меня такое ощущение, что я опять стою перед Советом ксенологов и объясняю, почему черное — это черное, а белое — нечто совершенно иное…
— А ты как хотел? — усмехнулся Консул.
— Да пробовали мы внедриться! И в разведку Черных, и в их же администрацию высшего уровня компетенции. Ведь если где и циркулировала информация о земных заложниках, то непременно там. Безнадежно! Наших агентов вскрывали уже на подступах, и они едва успевали унести ноги, потому что, помимо всего прочего, эти умники повсюду установили генетический контроль. А пока мы учились имитировать эхайнский генокод, они ввели контроль психоэмоциональной структуры, а психоэм еще никому и никогда не удавалось имитировать.
— Что такое «психоэмоциональная структура»? — немедленно спросил я.
— Это вы еще будете проходить по биологии, — обещал Консул. — Если, конечно, уже не проходили, а ты эти занятия не прогулял с девочками… Для краткости поясню: не будь мы материалистами, назвали бы это «душой».
— Душа — это тонкая и сложная структура, — сказал Забродский. — Здесь нам никто не поможет. Разве что один только господь, это по его ведомству, но, похоже, он слишком занят другими делами.
— Вдруг выясняется, что не все из нас материалисты, — заметил дядя Костя.
— То есть, ничего вы так и не выяснили, — безжалостно подытожил я.
— Выходит, что так, — согласился Забродский.
— И эти двести человек до сих пор в руках у эхайнов. И находятся неизвестно где, и что с ними происходит, тоже неизвестно.
— Угу, — сказал Забродский.
— Двести человек. Эхайны. Все ключевые слова упомянуты… Теперь самое время объяснить мне, я-то причем!
Дядя Костя и Забродский снова переглянулись. Они все это время только и делали, что играли меж собой в гляделки.
— Титания нас убьет, — сказал Забродский.
— И правильно, между прочим, поступит, — согласился Консул. — Я бы тоже убил.
— Мы сидим перед несовершеннолетним сопляком и выдаем ему один секрет за другим.
— Но ты же этого хотел.
— Я уже не уверен, что хочу этого теперь.
— В конце концов, ты всего лишь частное лицо.
— А ты?
— А я никогда в ваших играх не участвовал и никакими обязательствами себя не связывал. Кстати, отстранив тебя, президиум Департамента закрыл и проект «Бумеранг». С прошедшей ночи это всего лишь архивные данные, и ничего больше.
— Ага, — сказал я. — Еще одно ключевое слово, о котором я забыл. Что такое проект «Бумеранг»?
Забродский зажмурился, как от зубной боли.
— А вот что, — не без усилия промолвил он.
12. Проект «Бумеранг»
Проект «Бумеранг» родился в 134 году в недрах Департамента оборонных проектов, а точнее — в головах сотрудников группы «Ньютон-3», которая непосредственно подчинялась вновь назначенному директору ОАМ — отдела активного мониторинга — Тиштару. Своим появлением на свет проект был обязан непременным провалам регулярных попыток инфильтрации агентуры Департамента в высшие административные структуры Черной Руки. Уж и не упомнить, кто первым произнес магическую фразу: «Нам нужен эхайн». Может быть, кто-то из членов группы, а может быть, и даже вероятнее всего, сам Тиштар. Но предлагаемое решение застарелой проблемы было настолько очевидным, что никто не решился его оспорить, а напротив, все без исключения работники группы с ним немедленно согласились и принялись ломать голову, где же взять эхайна. Причем нужен был не обычный эхайн, а непременно Черный Эхайн, генетически и психоэмоционально безупречный, превосходно подготовленный и абсолютно лояльный.
— Ольга Лескина, — сразу же сказал член группы, пользовавшийся псевдонимом Анагран.
Здесь все знали про Ольгу Лескину, и все пользовались в обиходе оперативными псевдонимами. Такова была дань традиции; вдобавок, это сильно упрощало стиль общения. По каким соображениям в качестве ономастического источника был избран зороастризм, никто уже не помнил.
— Отпадает, — возразил ему Тиштар. — Идеально подходит по всем параметрам, кроме одного: генотипа. По материнской линии она все же человек.
— И возраст, — добавил сотрудник Хваршед. — Сейчас ей двадцать пять. По нашим меркам — совсем девочка. Но в таком возрасте всякая в медицинском смысле здоровая эхайнская женщина обязана иметь ребенка. Иначе это тревожный признак, едва ли не угроза благонадежности. Там, где мы желаем видеть нашего агента, за благонадежностью следят ревностно.
— Мы можем завербовать Светлого Эхайна? — спросил Анагран.
— Только теоретически, — сказал Тиштар. — Такие попытки предпринимались, но безуспешно. Кодексы чести и все такое. Сотрудничество — пожалуйста, в любой форме, кроме военной.
— Но это не военная операция…
— А какая же, черт побери? И потом, это для нас они все на одно лицо, а в их глазах Черный и Светлый Эхайны так же отличаются между собой, как швед и японец.
— И кто же из них японец? — усмехнулся Хваршед.
— Шутить станем после того, как я лично встречу людей с «Согдианы» на Старой Базе, — осадил его Тиштар. — Я первый и начну, никому мало не покажется.
— А если подготовить человека-2?.. — спросил Анагран. — Ах, да, психоэм…
— Как ни крути, нам нужен настоящий живой Черный Эхайн, — сказал Хваршед.
— Да, с этим не поспоришь…
До сей поры хранивший молчание, сотрудник Махраспанд задал осторожный вопрос:
— А что мы с этим эхайном будем делать?
— Мы его воспитаем, — сказал Тиштар. — Мы подготовим его и обучим, как все дьяволы ада не обучали своих дьяволят. И мы забросим его в самое сердце Черной Руки… Единственное, что от него потребуется, это точно указать нам место.
— И что потом?
— А потом он должен вернуться. Как… как бумеранг. Потому что больше там ему делать нечего.
У некоторых сотрудников группы «Ньютон-3» были на сей счет сомнения.
— Присутствие хорошо законспирированного и толкового информатора в высших эшелонах Эхитуафла нам бы не помешало, — сказал Анагран. — Надеюсь, ни у кого нет иллюзий, будто «Согдиана» — это последняя акция эхайнов?
— Полагаю, что нет, — сказал Тиштар. — Но «Согдиана» ДОЛЖНА стать последней их акцией. А еще — жестоким уроком для всех нас. Потому мы должны научиться защищаться. Мы должны поставить себя так, чтобы сама мысль о нападении на корабли и колонии Федерации показалась бы абсурдной. А в случае, когда такое все же произойдет по чьему-либо недомыслию, строго наказать агрессора за его самоуверенность! — Он обвел горящим взором притихших коллег. И, выдержав патетическую паузу, заговорил на полтона ниже. — Но это не есть задача группы «Ньютон-3». Ваша задача — вернуть заложников. К тому же, с учетом всех обстоятельств, я подозреваю, что наш агент по выполнении своей миссии наверняка окажется разоблачен. Контрразведка Эхайнора — не чета нам. И ему не останется ничего иного, как спасать собственную жизнь всеми доступными ему средствами.
— Действительно, бумеранг, — заметил Хваршед. — Бумеранг на один бросок.
— А нам и нужен один, — усмехнулся Тиштар, он же Людвик Забродский, молодой, амбициозный и полный творческой энергии функционер Департамента оборонных проектов. — Один хороший прицельный бросок.
Он веско опустил ладонь на столешницу перед собой, закрывая эту часть дискуссии.
— Приказываю, — сказал Тиштар, испытывая неподдельное наслаждение от звуков собственного голоса, — объявить постоянный и всесторонний мониторинг информационных потоков в обитаемой части Галактики. Я не готов уточнить, что следует искать, но всякое немотивированное либо сомнительно мотивированное упоминание самих понятий «Черная Рука», «Черный Эхайн», просто «эхайн», равно как и производных от этих понятий, должно исследоваться на соответствие интересующей нас теме, а в особых случаях незамедлительно доводиться до моего сведения. Днем и ночью, где бы я ни был. Выполнять.
После этого знаменательного совещания каждый занялся своим делом. Группа «Ньютон-3» разрабатывала и детализировала проект «Бумеранг», на тот случай, если в распоряжении ОАМ действительно окажется живой, здоровый и благосклонно настроенный к человечеству Черный Эхайн. Все члены группы были вполне здравомыслящими людьми и обоснованно испытывали здоровый скептицизм по поводу такой возможности, но продолжали честно выполнять свою работу. В свою очередь, Тиштар не оставлял попыток подобрать ключи к железному занавесу вокруг двухсот заложников. Он инициировал еще восемь проектов. С маниакальным упорством он готовил и засылал на Эхитуафл все новых и новых агентов, каждый из которых превосходил своего предшественника. Он сканировал и просеивал сквозь сито мощнейших мемоселекторов информационные потоки Черной Руки, ежедневно перехватываемые невидимой паутиной спутников-шпионов. Он сам побывал в окрестностях стольного града Эхайнетт и даже, презревши увещевания экспертов, нагло и бесцеремонно прогулялся по улицам его окраин. Чтобы не выдать себя малым ростом и субтильным по тамошним меркам телосложением, ему пришлось прикинуться беспризорным подростком. Брутальные физиономии эхайнов, лязгающие звуки их голосов, нарочитая агрессивность поведения и навязчивая демонстрация ребяческой любви к оружию поведали ему больше, чем терабайты сводок, экспертных заключений и нередактированных информационных перехватов. Он решил, что начал понимать, что за раса ему противостоит и почему она это делает. Вернувшись, он взял себе новый псевдоним — Эйшрахаг. В языческом пантеоне Черной Руки так называли невидимого демона сладостной мести.
Забродский вообще часто менял псевдонимы — в зависимости от намеченной цели, поставленной задачи или настроения. Впрочем, в Департаменте это являлось обычной практикой. Даже вице-президент Ворон во время оно был Ихневмоном, пока не счел, что не его это дело — кусать разнообразных кобр за что ни попадя, а пора бы уже остепениться, занять кабинет-насест в штаб-квартире и руководить оттуда дальновидно и мудро, как и подобает одноименной птице… Эйшрахагом Забродский пробыл дольше всего — почти семь лет, пока не сменил его при весьма необычных обстоятельствах.
В 143 году, вернувшись из очередной вылазки в стан врага, Эйшрахаг был внезапно приглашен на приватную прогулку по аллеям ботанического сада Брисбейна, где располагалась штаб-квартира Департамента, самим Вороном — вице-президентом Департамента Эриком Носовым.
— Хочу познакомить вас, Людвик, с одним эхайнским аристократом, — сказал Ворон, ехидно усмехаясь.
Сердце Эйшрахага ёкнуло: неужели его прожектам суждено сбыться, и нашелся-таки в стане врага высокопоставленный ренегат?.. Увы, иллюзии рассеялись, как только к двоим прогуливающимся присоединился третий. Огромный мужик в просторных, не по климату темных одеждах, загорелый до цвета застарелой бронзы, но нет, не эхайн, это было видно сразу.
— Константин Кратов, — представился громила, — и я действительно т'гард Светлой Руки.
— Доктор Кратов, выдающийся ксенолог-практик, он же Галактический Консул, — уточнил Ворон. — Личность известная и весьма примечательная.
Эйшрахаг кое-что слышал о Кратове, но никогда не видел воочию. Знал только, что Консул входил в состав постоянной комиссии Академии Человека «Эхайнор», каковая обреталась в городе Тритоя, на Эльдорадо. Что недавно имел место инцидент с террористической группой Светлой Руки, в котором означенный Консул выступил чуть ли не главным персонажем, и что благодаря его энергичным действиям, а также отчасти благоволением Божьим, в отношениях с Эхлиамаром наступил резкий позитивный перелом. Подробностей он пока не ведал, поскольку Светлой Рукой занимались другие подразделения Департамента, но давно мечтал услышать из первых уст.
Несмотря на краткий миг разочарования, Эйшрахаг сразу испытал к Консулу необъяснимую симпатию. Он выстреливал в него точными вопросами, а тот немедля и так же точно отвечал. Оба и не заметили, как сгинул по своим делам, не откланявшись по обыкновению, Ворон, как полуденный зной сменился обязательным вечерним дождиком, как стемнело…
— Адмирал Ошфэлх Ишиофт Вьюргахихх, — сказал Консул, когда у Эйшрахага иссякли вопросы. — Ни черта себе имечко, верно? Командующий Двенадцатой эскадрой звездных штурмовиков Черной Руки. Вот кто вам противостоит. Уничтожение лайнера «Равенна» — его рук дело. То была неудачная попытка взятия заложников, а «Согдиана» — удачная. Он лично руководил захватом «Согдианы» из штаба штурмовых операций — с некоторых пор он избегает покидать Эхитуафл. И он же персонально отвечает за режим секретности и благополучие заложников.
— Теперь у меня появился личный враг, — с угрозой промолвил Эйшрахаг.
— Глупости, — проворчал Консул. — Вся ваша милитаристская атрибутика, все ваши игры в войнушку… все это только мешает делу. Отвлекитесь от символов, забудьте про стереотипы. Постарайтесь понять логику поведения оппонента — только не называйте его врагом! — и добьетесь своего.
— Глупости, — парировал Эйшрахаг. — Все эти ваши ксенологические приемчики… Что вы понимаете в активном сборе информации?
— Все я понимаю. Это вы никак не можете разделаться с детскими болезнями в собственном сознании.
— Вам не кажется, что категоричность ваша превосходит все допустимые пределы?
— Может быть, и превосходит. Причиной тому одно обстоятельство: я прав, а вы — нет.
— Почему это ты решил, — ощетинился Эйшрахаг, от негодования переходя на «ты», — что ты прав?!
Кратов иронически поглядел на него сверху вниз.
— А потому, — усмехнулся он, — что я сильнее.
— Может быть, тебе достанет смелости доказать это на деле? — осведомился Эйшрахаг, стягивая куртку.
Кратов, продолжая усмехаться, избавился от своего черного балахона. Все же он и вправду походил на эхайна — сходство усугублялось неприятными следами застарелых ожогов на груди. Набережная реки Брисбейн, давшей имя городу, была пустынна, лишь с ярко освещенной стоянки гравитров метрах в ста отсюда доносилась музыка.
— К вашим услугам, сударь, — произнес Кратов, разводя мощные лапы в приглашающем жесте.
— Почту за честь, сиятельный т'гард, — ответил Забродский и напал на него.
Черный пояс йондана по каратэ, сандан по айкидо, четвертый дан по дзюдо, дай-сихинь по версии квун и титул «красного волка» по склавин-рапиду давали ему основания для самонадеянности. Эхайнские т'гарды — не самый удачный выбор для демонстрации доблести, но и в Департаменте не тапочкой икру хлебали. Эйшрахаг сознавал себя совершенным пацаном и в глубине души стыдился собственного ребячества, да только очень уж хотелось наказать этого долдона-ксенолога, сбить с него спесь…
С тем же успехом он мог бы атаковать Годзиллу или попытаться обрушить Большой Фишермэнский маяк.
Крах первой попытки Забродского нимало не смутил — дело житейское. Габариты противника не имеют значения. И он ушелв тень, чтобы оттуда достать своего вошедшего в раж оппонента. Лучше бы он этого не делал… Консул извлек его из тени, как гурман извлекает особенно аппетитную ягоду из фруктового салата, и без хлопот привел в полную небоеспособность.
— Зря я это затеял, — конфузливо сказал он, держа Забродского на весу за брючный ремень. — Двойная разница в массе — это слишком сильный аргумент для самого уязвленного самолюбия. А самолюбие следует щадить всегда.
— Отпусти, — прошипел Эйшрахаг, сгорая от срама.
Кратов с готовностью разжал пальцы, и Забродский рухнул на песочек физиономией вниз.
— Прошу пордону, — сказал Консул, присаживаясь рядом. — Дело в том, что я только что вернулся с Эльдорадо, где все свободное время отдавал боям без правил.
— Что, совсем без?..
— Ну, убивать все же не следовало. А вот как, по-вашему, я стал эхайнским т'гардом?
— Ну, вряд ли твой батюшка передал тебе титул по наследству.
— Верно. Я отнял титул у прежнего владельца на Суде справедливости и силы.
Забродский похолодел. Он кое-что слыхал об этой традиции.
— Ты что, убил его?!
— Убить не убил, — сказал Кратов, — но отбуцкал изрядно. Видите ли, мне не было нужды убивать его — по эхайнским понятиям, я «этлаук», чужеродец, и потому не обязан подчиняться Уставу Аатар буквально. Вообще говоря, эхайнское законодательство порой бывает изумительно либеральным, что дает знающему этлауку неплохие шансы для маневра.
— Как ты выудил меня из тени?
— На Эльдорадо я имел несравненную честь обучаться у Рмтакра «Упавшее Перо» Рмтаппина. Правда, недолго и неприлежно.
Забродский внимательно посмотрел в глаза собеседнику, прощупал его эмо-фон. Поразительно: тот не лгал, не бахвалился и не пытался произвести впечатление. Любой другой на его месте имел бы все основания расфуфырить хвост на павлиний манер… да что там, Забродский и сам не упустил бы такой возможности! Этот же просто излагал факты, не придавая им никакой чрезмерной эмоциональной окраски. Симпатия Эйшрахага к Консулу усилилась до чрезвычайности. Он перевернулся на спину, закинул руки за голову и задушевно спросил:
— Что ты знаешь о юридической системе Черной Руки?
— Практически все, — ответил Консул.
Они проговорили до утра. Вернувшись в свой отдел, помятый, невыспавшийся и оттого раздраженный более обычного Забродский объявил, что отныне его надлежит величать оперативным псевдонимом Сфинкс. Ни у кого из подчиненных не повернулся язык задать вопрос, что стало причиной очередной смены вектора атаки, и если с семантикой предыдущих псевдонимов все было более или менее ясно, то как надлежит интерпретировать новый. Хотя в кулуарах эту тему, разумеется, обсуждали и много на оную острили. Только Ворон, человек бесстрашный и циничный, открыто позволил себе некоторые рискованные спекуляции: «Что сие значит, Людвик? Теперь ты намерен больше молчать, чем говорить? Или же чаще задавать вопросы, чем находить ответы?»
Забродский и сам не знал, как ему поступать в дальнейшем. Эхайны, их культура и традиции предстали перед ним в новом свете. И хотя этот новый взгляд не мог служить оправданием захвату заложников, но проект «Бумеранг» явно нуждался в корректировке.
Одно только его положение не могло быть изменено ни при каких обстоятельствах. Живой эхайн…
Сфинкс понемногу утрачивал нормальный сон и аппетит. Временами груз ответственности казался ему невыносимым. Он вдруг замечал, что вся проблематика вверенного ему отдела давно уже отступила на второй план, что все его помыслы подчинены одной задаче — прорваться в сердце Черной Руки, вскрыть оборону врага, словно консервную банку. В этом контексте вызволение заложников выглядело локальной задачей, эдакой леммой, доказав которую, можно приблизиться к решению problema principale,[31] либо же, наоборот, следствием, которое само собой разрешится после доказательства главной теоремы. Тогда он связывался с Консулом, и тот прилетал, чтобы, по его собственному выражению, «вправить мозги». Потому что на самом-то деле заложники были изначально этой распроклятой problema principale, и оставались ею до сих пор.
До сих пор…
Год за годом…
Это сводило его с ума и толкало на авантюры и необдуманные поступки. С момента захвата прошло столько лет, а он все еще топтался на месте, не приблизившись к заветным секретам ни на муравьиный шажок.
Все проекты провалились один за другим. За исключением проекта «Бумеранг» — самого фантастического и с наименьшими шансами на воплощение.
А ведь был, был момент, когда шансы виделись почти стопроцентными!
…Пятого октября 136 года — то есть задолго до эпохальной встречи с Консулом, — Клурикан, сотрудник группы «Аргос-100», в ведении которой находился мониторинг информационных потоков обитаемой Галактики, перебросил ему по внутренней сети сводку последних перехватов по открытым каналам ЭМ-связи, где желтым цветом на черном фоне, чтобы сразу привлечь внимание, была выделена фраза из обычного запроса к инфобанку: «Стандартное меню эхайнской кухни для младенца». Эйшрахаг поморщился и вызвал Клурикана.
— И что из этого следует? — спросил он сварливо. — У меня этих глупостей по семь километров каждый день набирается!
Клурикан треснул себя по лбу.
— Простите, Эйшрахаг, — сказал он. — Это мое упущение… Вам нужно взглянуть в сводку перехватов по закрытым каналам Звездного Патруля и сопоставить время и место.
Эйшрахаг сопоставил. Он сидел в своем кабинете посреди пышущего полуденным жаром Брисбейна, переводя взгляд с одного экрана на другой, и не знал, что ему делать. Он не знал, что ему делать, целых тридцать секунд, а голос Клурикана обтекал его, словно прохладные струи из кондиционера, не задерживаясь в сознании:
— Катастрофа… предположительно эхайнский транспорт или даже станционар… в район выдвигается штурмовая группа Черной Руки в составе…
— Куда они направляются? — спросил Эйшрахаг.
— Кто? — опешил Клурикан.
— Эти патрульники. У них на борту полно детских трупов, они должны их где-то оставить.
— Ах, да… По нашим сведениям, на Тайкун.
— Почему на Тайкун? Что они забыли в этом бардаке?!
— Возможно, из соображений здравого смысла. Из миров Федерации он ближе всего к ро Персея.
— Впрочем, это неважно. Мы можем оказаться там раньше их?
— Это непросто. Как вы знаете, «пикси», корабли Патруля легки, маневренны и специально подготовлены для сверхскоростных перемещений в экзометрии.
— Ничего я не знаю и знать не желаю. Я должен быть на Тайкуне раньше всех и встретить этих интриганов лично.
— Интриганок, — почтительно поправил Клурикан.
— То есть?..
— Это амазонки. Весь экипаж состоит из самых отвязных девиц в Галактике. А командор Климова — сущий черт в юбке… хотя никто еще не видывал ее в юбке.
— Как ты думаешь, Клу, это упростит нашу задачу?
— Думаю, усложнит, директор…
Эйшрахаг только усмехнулся. Он снисходительно позволил себе некоторую самонадеянность. Амазонки… большое дело!.. И даже не предполагал, что будет наказан за нее со всей изощренной жестокостью, на какую только способна женщина.
Но тогда он еще не знал, что ему предстоит. Отпустив Клурикана, он объявил боевой сбор группе «Абориген». Своей сокровенной команде сверхбыстрого реагирования, которая специально готовилась для перевода проекта «Бумеранг» в практическую плоскость, — кому же еще метать бумеранги, как не аборигенам?! — готовилась большую часть времени, а меньшую по мере сил проводила в других группах ОАМ, только чтобы не терять хватки. Уже через час группа «Абориген» грузилась на борт галактического транспорта класса «спанки», такого же маневренного и скоростного, как «пикси» патрульников, но специально облегченного и потому имевшего все шансы опередить амазонок Климовой. А еще спустя полтора часа зеленый от дурноты, но все еще не растерявший решимости Людвик Забродский на подгибающихся ногах поднимался по сырому от дождя трапу на борт патрульного корабля «амазонок». «Сейчас, — думал он, — сейчас все закончится. Конец ожиданию, будь оно сто раз неладно. И начало настоящей работе».
Как бы он обошелся в тот миг с провидцем, который сообщил бы ему, что ничего сейчас не закончится, что ничего толком еще и не начиналось? Что впереди — полтора десятка лет новых ожиданий, новых поисков и новых безуспешных проектов?..
13. Хочу быть эхайном
— Почему «Ньютон-3»? — спросил я.
— Почему? А-а… — Забродский отмахнулся. — Мы были молоды и изощрялись в подобного рода шарадах. Третий закон Ньютона. Всякому действию соответствует равное ему противодействие, понимаешь? На все, мол, происки эхайнов мы найдем свой достойный ответ. Надеюсь, ты не хочешь спросить, почему-де «Аргос-100»?
— Обойдусь, — сказал я, хотя так и подмывало спросить. — Вы можете ответить мне еще на один вопрос?
— Ну… попытаюсь, — сказал Забродский не слишком решительно.
— Ведь вы были там, на Тайкуне, когда появился я.
— Конечно, был.
— И вы осматривали… — мне с огромным трудом давались эти слова, — мертвых детей.
— Осматривал, — лицо Забродского сделалось совсем пасмурным. — Это часть моей работы.
— Это были мои братья и сестры?
— Нет! — быстро ответил Забродский. Мученически закатил глаза, замычал и тут же поправился: — Не все. Если верить медальонам — а у нас нет оснований им не верить, потому что они соответствовали владельцам… не хочу вникать в детали, но эти медальоны не раздаются направо и налево просто так… Так вот, по медальонам установлено, что среди погибших было три мальчика и две девочки, принадлежащие к одному с тобой роду Тиллантарн. — Он смежил веки, словно читая невидимый список. — Мальчиков звали Нгеа Рингарэнн, Нендэ Согонекк и Нзиури Тарьярэнн, девочек — Ниэрэ Соннур и Нтеурра Тилтоэ. Согласно генетической экспертизе, они были братьями и сестрами. И, хотя сравнение с твоим генным материалом своевременно не проводилось, существует высокая степень вероятности того, что это также и твои братья и сестры… Один мальчик был из рода Кансатайн, и еще мальчик и девочка из рода Лаххорн. Ты удовлетворен моим ответом?
— Да, — сказал я сдавленным голосом, изо всех сил стараясь не разреветься.
— Хорошо, — промолвил дядя Костя, хотя по его лицу было ясно, что ничего хорошего в создавшейся диспозиции он не видит. — Пойдем, Людвик. Ты выложил мальчику все секреты, какие только остались в твоей голове, нарушил все служебные предписания и запреты — словом, облегчил свою душу и заронил смятение в душу этого юнца. Аллилуйя. Пойдем куда-нибудь в самое злачное место, какое только найдется на восточном побережье старой доброй Гишпании, и обмоем твою свободу.
— Подождите, — сказал я. — Так значит, я и был тот самый живой эхайн, который был необходим для проекта «Бумеранг»?
— Именно так, — ответил Забродский.
— Это меня вы хотели сделать своим бумерангом… на один бросок?
— Хотели, — сказал Забродский.
— А все остальные возможности? Они были использованы и не дали результата?
Забродский болезненно скривился.
— Еще восемь лет назад, — сказал он, — в рамках программы «Человек-2» в Канадском институте экспериментальной антропологии был создан генетически безупречный прототип… назовем его эхайн-2. Технологически это было непросто, но все же рутинно. Психоэм, как я уже говорил, воспроизвести не удалось. Мы думали, что, может быть, обойдется. Ведь по всем остальным параметрам это был стопроцентный эхайн. Точнее, их было несколько. Пятеро… Не обошлось.
— Что с ними случилось?
— Они слишком далеко проникли и не успели отступить. Их всех… не знаю, применим ли термин «убили» к людям-2… уничтожили.
— Что же за штука этот ваш психоэм, что из-за него столько возни? — пожал я плечами.
— Я битый час уже талдычу: душа, — сказал Забродский.
— Видишь ли, Север, — вмешался Консул. — В некотором смысле психоэм — это последний рубеж обороны матушки-природы. Последнее, что отделяет нас от биологического бессмертия. Мы уже научились изготавливать новые тела. Не так давно мы научились сохранять информацию мозга в компактном виде и загружать ее в новый носитель. Но в результате не получается прежняя личность. Всегда возникает новая. — Он помолчал, усмехаясь. — Применительно к людям-2 проблема биологического бессмертия была решена давно. Поэтому позволю себе несколько притушить драматизм поведанной доктором Забродским истории об эхайнах-2. Да, они были уничтожены контрразведкой Черной Руки. А уже следующим утром все пятеро как ни в чем не бывало разгуливали по родной Баффиновой Земле. Один мой друг из этой компании говорил: «В нашей функциональной программе смерть не предусмотрена». Разумеется, они ничего не знали о своих похождениях на Эхитуафле — потому что их личности были восстановлены с резервных копий, сделанных перед отправкой в пределы Черной Руки… Согласись, для нас, обычных людей, такой подход к извечной теме жизни и смерти звучит несколько цинично.
— Ну, наверное, — пробормотал я.
— Когда мы научимся воспроизводить психоэм, мы станем действительно бессмертными. Тогда каждый сам будет волен выбирать, как долго ему жить и как со своей жизнью поступать… Но пока мы этого не научились, и потому в сердце Эхайнора нам не пройти.
— Должен заметить, — добавил Забродский, — коли уж у нас нынче день раскрытия всех и всяческих секретов… да и не такой уж это и секрет, впрочем… что мы тоже отслеживаем психоэм во всех точках соприкосновения Федерации с другими мирами Галактики. В рамках проекта «Белый щит». Это, в том числе, позволяет нам иметь точные сведения обо всех эхайнах, прибывающих на нашу территорию инкогнито.
— К тебе это не относится, дружок, — ввернул дядя Костя. — Вы с Ольгой Лескиной — граждане Федерации. На мониторинг ваших психоэмов наложено вето с момента их идентификации.
— Спасибо, — сказал я кислым голосом. — Значит, у вас так ничего и не получилось?
— Так ничего и не получилось.
— И вы спокойно уходите, бросив этих людей… заложников… на произвол судьбы?
— Я ухожу, — сказал Забродский. — Но спокойным мое состояние назвать трудно.
— А вы были хорошим работником?
— Полагаю, что неплохим…
— Послушайте, — обратился я к дяде Косте. — Это неправильно. Человек столько занимался этим делом, а его взяли и выкинули на улицу. Так не поступают. И если все дело во мне…
— Не бери на себя слишком много, — сказал Консул. — Дело не только в тебе. Просто накопилось слишком много ошибок. Критическая масса. Прошло столько лет, а прогресса не видно. А тут еще этот фортель с моим кодом доступа…
— Вот вам и нужно было вдуть по самую макушку, — сказал я злорадно, потому что представить себе кого-то, кто бы отважился вдуть Консулу, было нелегко.
— Еще вдуют, будь спокоен, — обнадежил меня дядя Костя. — И не за код, код — это вздор, это дело десятое… Другое дело, что Людвику нельзя было использовать мою ошибку в интересах своего проекта. Это запрещенный прием. Словом, ты оказался последней каплей. У президиума Департамента оборонных проектов лопнуло терпение. Там и раньше были не в восторге от проекта «Бумеранг», вот и решили разрубить все гордиевы узлы единым махом… В общем, даже заступничество вице-президента Носова ни к чему не привело.
— А я даже рад, — сказал Забродский с энтузиазмом. — Теперь я смогу заняться самим собой… какие еще мои годы… отдохну, построю дом, варенья наварю на десять лет вперед. Будем дружить семьями… — Его взгляд уплыл куда-то в сторону. — Нет, — вздохнул он. — Я не рад. Ведь ничего не изменилось к лучшему. Заложники — там, я — здесь…
— Елки зеленые, — сказал я. — Вам был нужен живой эхайн. Ну так вот же он я.
14. Мне не позволяют стать эхайном
Забродский встал. Прошелся вокруг меня, дудя под нос какую-то песенку. Окинул все доступные глазу участки моего организма оценивающим взором.
— Ничего не выйдет, — сказал он наконец. — Слишком поздно. Упущен самый благоприятный момент для твоего кондиционирования. Понимаешь, Север… если люди-2 были эхайнами во всем, кроме психоэма, то с тобой все иначе. В тебе от эхайна только и есть, что хромосомный набор да психоэм… и то я в последнем уже не уверен. В остальном ты обычный человек, не хуже других, да и не лучше. Ты даже внешне отличаешься от ординарного Черного Эхайна. Подумаешь, рост два метра с гаком! Вон у Консула тоже без малого сажень, что он — эхайн? Сходи вон на чемпионат Западной баскетбольной ассоциации, там таких эхайнов — пруд пруди, и все черные… Ты думаешь как человек, ведешь себя как человек. Конечно, всему можно научить, но… В тебе нет даже начальных задатков для нашей работы. Ты слишком добрый, слишком рассеянный… извини, но ты — никакой.
— Людвик, Людвик… — заворчал Консул.
— Подожди, Константин, — остановил его Забродский. — Возможно, мы видимся с этим молодым человеком в последний раз, и я хочу сказать ему всю правду. Сейчас ты, Север, наверное, думаешь: вот какой несчастный этот пан Забродский, обидели его, отлучили от любимого дела, надо его пожалеть, обнадежить, пускай уж получит, в конце концов, то, чего добивался… Так вот, друг мой: я ненавидел эту работу. С самого начала ненавидел. И не просто ненавидел, а лютой ненавистью! Более неблагодарного рода занятий не было и нет. Потому что все вокруг либо не понимают, на кой бес мы так озабочены так называемой социальной безопасностью, когда и так все хорошо, либо думают, что мы — просто горстка шизофреников, которым нужно чем-то занимать свое распаленное воображение. Сторонятся нас, как будто мы занимаемся чем-то постыдным. Даже самые умные, вроде Консула, и то поглядывают на нас свысока, серьезно полагая, что любую коллизию можно разрешить миром. А когда внезапно обнаруживается, что далеко не любую… заложники с «Согдианы»… то предпочитают делать вид, будто это их не касается.
— Никогда я не делал такого вида, — сказал Консул недовольно.
— Делал, делал, — сказал Забродский. — Все твое конструктивное сотрудничество… твоя методическая помощь от случая к случаю… все это шум в канале, и только. Если бы ты был реально озабочен судьбой заложников, ты послал бы на хрен все другие дела, всех своих инопланетян с их Братством, и ни о чем другом не думал бы, как не думал я все эти чертовы годы. А сейчас я ухожу, и хорошо, если на мое место придет кто-то из старых сотрудников отдела, из тех, что с самого начала был в теме, а не какой-нибудь юный шчелец, которому придется все начинать сызнова, а то и вовсе нужно единственно поднакопить опыта и рвануть вверх по служебной лесенке… И ты, Север, здесь и сейчас находишься во власти эмоций, которые диктуют тебе, какими словами утешить этого горемыку Забродского. А завтра ты успокоишься, уговоришь сам себя, что пусть, мол, все идет как шло, они, эти взрослые дяди и тети, сами во всем разберутся и все беды разведут руками. И снова будешь жить-поживать… гулять с девочками, купаться в море, валять дурака на занятиях, и наблюдать, как колбасится на солнышке твоя ужасная кошка. А о тех двухстах буду помнить только я, пока окончательно не сойду с ума. — Он нехорошо усмехнулся. — Может быть, так и надо? Забыть о них, сделать вид, что так и должно быть? В конце концов, согласно успокоительной официальной версии, они и так исчезли семнадцать лет назад! Двумя сотнями больше, двумя меньше…
— Неправильно, — сказал я. — Несправедливо. Вы не имеете права так говорить!
— Имею, — возразил Забродский. — Я так долго об этом думал, что теперь имею все права говорить что думаю.
— Ну, не знаю. Может быть, своим начальникам… президиуму этому дурацкому… но только не мне. Я-то ни в чем перед вами не провинился. Ведь так? И в том, что я — не тот эхайн, которого вы искали, моей вины тоже нет. Я не обязан походить на ваш идеал. Никто от меня не требовал ничего похожего все эти годы, и ни у кого нет права сейчас с меня за это спрашивать. И если я хочу вам помочь, у вас пока еще нет оснований насмехаться над моим стремлением. Вот если бы вы захотели меня испытать, и увидели… тогда, наверное… и то, если бы я вдруг стал сачковать и фиговничать… а я, быть может, прирожденный шпион!
— Болтун ты прирожденный, — сказал Консул с нежностью.
— Нет, постойте, — запротестовал я. — Вы еще не рассказали, как, какими методами вы хотели лепить из меня своего супер-пупер-агента. Держали бы в клетке? Кормили бы сырым мясом? Били бы палками за провинность?
— Не говори глупостей, — смутился Забродский.
— Если это глупости — тогда чем я вам не подхожу? Что такое особенное я упустил, прожив эти годы с мамой, друзьями и домашними животными, а не в компании этих ваших… ньютонов с бумерангами?!
— Мы с тобой еще найдем время обсудить твои достоинства, — сказал дядя Костя. — А ты, Людвик, и в самом деле, что-то нынче разбушевался. В чем-то ты прав, а во всем остальном как был неправ, так и остался. Пойдем-ка, я вправлю тебе мозги…
— Никуда я не хочу, — буркнул Забродский. — Единственное, чего я хочу, так это дойти до воды и утопиться.
— Нельзя, — сказал Консул. — Здесь кругом дети. И то, что порой дети выглядят почти как взрослые, не должно вводить тебя в заблуждение. Пойдем, выпьем доброго испанского вина, а потом, если пожелаешь, я укажу тебе, где здесь лучшее место для утопленника.
— Постойте, — снова сказал я. — Что будет с заложниками?
— Рано или поздно мы их освободим, — сказал Консул уклончиво.
— А что будет со мной?
— А что с тобой? — удивился дядя Костя. — С тобой все будет хорошо. Еще немножко подрастешь, окончишь колледж… Понимаю, твоему самолюбию должно льстить, что твоя персона фигурировала в нескольких оборонных проектах. Но прошедшей ночью все эти проекты, абсолютно все, были закрыты и сданы в архив. Я обещал твоей маме, что глупые игры вокруг тебя закончатся — они и закончились.
Уходя, уже переступив порог, Забродский задержался, словно желая что-то сказать напоследок. Но лишь неловко махнул рукой и навсегда исчез из моей жизни.
15. Решение принято
Сказать, что я был уязвлен, значило ничего не сказать.
Разумеется, я давно уже не питал иллюзий по поводу своих талантов. Да и не было никаких талантов. То есть не было совсем. Я ничего не умел сверх установленного образовательными стандартами. Я не жаждал новых знаний. Я был инертен и даже ленив. В сравнении с мамой становилось совершенно очевидно, что я не мог быть ее родным сыном. Есть древний афоризм: мол, на детях гениев природа отдыхает. Мама, конечно, гением не была. Но на мне природа попросту дрыхла кверху пузом, как Читралекха на веранде. Понятно, что ни единого маминого гена во мне не было. Но ведь кто-то, кому я был обязан появлением на свет, должен был передать мне хоть один полезный ген! Все же нездорово было сознавать себя несостоявшимся подковывателем шерстистых носорогов…
А тут еще добавилось несбывшееся участие в проекте «Бумеранг» в качестве соглядатая Федерации в логове врага. Это было обидно. Не так чтобы я отчетливо представлял себя в качестве супершпиона. Но все же эта упущенная возможность, причем упущенная не по моей вине, а из-за малопонятных и не слишком-то чистоплотных на вид взрослых интриг, бередила мне душу. Или же, пользуясь научным жаргоном, вносила диссонанс в мой психоэм.
Черт побери, я хотел хоть что-то в своей судьбе решать самостоятельно!
Ну, допустим, я не гожусь для такой работы. Допустим… Но почему было не дать мне шанс? Все равно у них ничего путного не получилось. Зачем же отвергать эту возможность вот так, с порога, не попробовав? Да, я еще подросток-переросток. Да, у меня нет ни талантов, ни задатков. Да, я не самый умный среди сверстников. И что с того? Они должны были испытать меня. А уж после принимать какие-то решения касательно моей судьбы.
Очевидно, с Консулом обсуждать этот вопрос было бессмысленно. Он зациклился на моих правах ребенка, да еще обещал маме оберегать меня от громов и молний. Он либо все переведет в шутку, либо пропустит мимо ушей, но во всяком случае поступит по-своему… Пожаловаться, что ли, маме? Нет, получится еще хуже, чем с Консулом. Если у дяди Кости характер не сахар, то у мамы — даже не японский тертый хрен «васаби», чего страшнее я в жизни не едал, а что-то сравнимое разве с адской смолой…
Неплохо было бы поговорить с учителем Кальдероном. С ним, как известно, можно было обсуждать что угодно и когда угодно. Возможно даже, он знал, что я эхайн. Но сценарий предполагаемого разговора по душам виделся мне довольно смутно. «Учитель, у меня была возможность стать разведчиком Федерации во вражеском логове, и я ее упустил». — «Кхе-кхе… гм… Что же такое ты натворил, Севито, что тебя не взяли даже в шпионы?» — «Я показался слишком ленивым, слишком бездарным, слишком человечным». — «Ну, это еще не самые большие пороки, в особенности последний». — «Но ведь я хотел быть разведчиком! То есть, конечно, еще несколько дней назад я даже не знал о том, что мог бы им стать. И потому не то что не хотел быть вообще никем, а и размышлять над этим всячески избегал». — «Что же изменилось в тебе за эти дни, когда вдруг, ни с того, заметим, ни с сего ты так разительно переменился к лучшему?» И в самом деле, что? Я уже знал, что с самого начала, с несмышленного детства надо мной витала какая-то мрачная тайна. Погибшие дети… Что там вообще произошло? Почему все погибли, а я нет? За что мне такой подарок судьбы? И как я должен отдариваться?.. Потом вдруг выясняется, что я оказался на Земле не напрасно, не только затем, чтобы доставить массу хлопот и радостей маме, а как-то уж чересчур кстати. Ведь как раз в эту самую пору, но в другой точке Галактики, некто по имени Сфинкс уже ждал меня с распростертыми объятиями, или с раскинутыми сетями, кому как понравится, дабы заполучить в недра своего зловещего проекта «Бумеранг». А что, если это и была цена моего спасения? Что если затем только я и был избавлен провидением от страшной смерти, чтобы в свою очередь спасти двести невинных человеческих душ от негостеприимных моих братьев по крови? Что если все мамины усилия охранить меня от мрачного призрака по имени Сидоров-Петров-Джонс были ошибкой? Нарушением логики причинно-следственных связей высшего порядка? И только по этой причине, в уплату, я стал тем, кто я есть сейчас, — ленивым, бездарным и слишком человекоподобным даже для нормального человека? И только потому я не нахожу себе места в жизни, что упустил свой шанс, упустил не по своей вине, но все равно упустил, не стал тем, кем должен был стать на самом деле, кем мне предназначено было стать?..
«Метафизика, — сказал бы учитель Кальдерон. — Причем метафизика не лучшего сорта, с эдаким языческим душком. Все гораздо проще, Севито, скажу тебе это как мужчина мужчине. Никто не управляет нашими поступками свыше, кроме нас самих. Никто не предопределяет наши жизни заранее, да еще с математической строгостью. Я не верю в мойр с их нитями, и менее всего — в Лахесис, не верю в фатум, и тебе не следует верить. Я еще мог бы поверить в карму, не будь я добропорядочным католиком… Ты и только ты несешь всю полноту ответственности за свои поступки, и твои поступки — единственное, что определяет твою судьбу и, в конечном счете, будет предъявлено в качестве оправдания перед лицом Господа. Но поскольку ты атеист, твой удел еще горше — тебе не дана счастливая возможность исповедаться и получить отпущение грехов, все свои удачи и неудачи ты понесешь по жизни на своем горбу, и только люди, тебя окружающие, будут судить тебя или оправдывать, а судьи это пристрастные и не всегда праведные, увы…»
Как насчет Чучо? А никак — человек он, отдадим должное, серьезный, но моими душевными терзаниями вряд ли проникнется. Ну, брякнет что-нибудь вроде: «Ты чего, Севито, брат? Бананов объелся? Тебе же еще семнадцати нет, а рассуждаешь, будто завтра умирать намылился. Ты вот о предназначении рассуждаешь, а по истории тему не раскрыл, и реферат не приготовил. Так что ты вначале разберись с рефератом, потом закончи колледж, да не абы как, а чтобы учителям не краснеть, когда они с тобой на экзамене захотят побеседовать. И вообще, предназначение твое на ближайший семестр я вижу в одном — как бы „Панголинам“ вколотить побольше да от „Ламантинов“ огрести поменьше…»
Оставались, правда, еще Мурена с Барракудой. Уж от них сочувствия можно было получить сколько влезет! Они будут слушать тебя разинув рот и распахнув глазищи. В нужных местах они будут поддакивать и плескать руками. Они будут восклицать: «Да ты что!.. Здорово!.. Да они тебя не ценят!..» — или что-то в этом роде. Посмеются с тобой и всплакнут вместо тебя. А в финале со словами «Ах, какой ты замечательный!..», пихаясь локтями, полезут целоваться.
Антония… интересно, могла ли она меня выслушать хотя бы со слабой тенью внимания и все про меня объяснить мне же? Еще недавно я готов был делить с ней все, что было на душе. Но прошло не так много времени, и вот я уже испытывал тяжелые сомнения. Вспоминая наши бесконечные беседы, я все чаще склонялся к мысли, что она способна была глубоко вникать только в то, что касается ее самой. Все мои невзгоды просто разбились бы о неприступную крепостную стену ее иронии.
Но был еще один человек. Как-то он сказал мне: «В этом мире у тебя нет никого ближе по крови, чем я».
Тетя Оля Лескина. Дочь нобелевского лауреата и эхайнского шпиона.
16. Шантаж во всех видах
Со дня нашей встречи в Картахене прошло немало времени. Навигатор Лескина могла бы уже быть за сотни парсеков отсюда. Но мне повезло. Она все еще была на Земле. Что ее здесь задержало до моего звонка, одному богу было известно.
— Тетя Оля-я-а… — промурлыкал я.
— Что, милый? — мяукнула она в ответ.
— Ты что сейчас делаешь?
— Чай пью. С плюшками.
— Со вкусными?
— С отвратительными!
— А можно спросить?
— Конечно, мой сладкий.
И я задал заранее заготовленный вопрос.
Тетушка, к ее чести, не упала с кресла (а она действительно сидела в плетеном кресле на просторной веранде, за спиной ее расстилался бескрайний городской пейзаж с тающими в облаках башнями, вдали разноцветные гравитры порхали и резвились на солнышке, неплохо заменяя собою птиц, а еще добрую четверть экрана заслоняли ее загорелые голые коленки). Она даже не выронила плюшку. Лишь с чрезмерной аккуратностью отставила чашку и приблизила лицо к видеалу, словно рассчитывая таким образом прочесть в моих глазах сокровенные мысли.
— Зачем это тебе, малыш? — спросила тетя Оля.
— Н-ну…
— Не смей мычать, когда разговариваешь со мной.
— После той встречи в Картахене… ну, вы помните…
— Еще раз скажешь «ну», и я выключу видеал.
— Мне стало интересно. Я больше хочу знать об эхайнах. Хочу знать язык. Хочу…
— Что это с тобой? — недоверчиво прищурилась она.
— Допустим, это голос крови, — брякнул я.
Тетя Оля расхохоталась.
— Кто это тебя подучил? — отсмеявшись, поинтересовалась она.
— Никто, я сам.
— Верно, стряслось что-то экстраординарное, что в тебе вдруг пробудился… нет, не голос крови, эту мистику мы даже в расчет принимать не станем… нездоровый интерес к темам, о которых ты еще несколько дней назад… в той же Картахене… и не вспоминал?
— Ну, стряслось.
— И ты, разумеется, ничего не расскажешь любимой мамочке, зато все, как на духу, расскажешь любимой тетушке.
— С какой стати?
— А с такой, что иначе фиг дождешься от меня помощи. А если чего и дождешься, так это кляузы упоминавшейся уже мамочке, которая нынче же вечером обрушится на ваш островок, как дракон на средневековый замок, и не скажу, что сотрет его с лица земли, но урон причинит изрядный.
— Что такое «кляуза»?
— Будешь секретничать от меня — узнаешь, и не обрадуешься.
— Вообще-то это шантаж, — сказал я.
— Что такое «шантаж»? — прикинулась тетя Оля.
— Ладно, проехали, — проворчал я и выключил видеал.
Расчет себя оправдал. Через минуту последовал вызов, да такой настойчивый, словно всем чертям вдруг стало тошно.
— Никогда так не делай! — рявкнула тетушка. — Ишь, взял моду… Мне что, прилететь и вздуть тебя?!
Я молчал, демонстрируя полное нежелание идти на компромиссы.
— В конце концов, я могу все выведать у Консула, — обещала тетя Оля.
— Ну-ну, — ухмыльнулся я.
Моя прекрасная великанша выглядела растерянной.
— Ты негодяй, Северин Морозов, — объявила она и сразу сделалась похожа на маму, когда та не знает, как со мной поступить. — Ты беззастенчиво используешь мое непонимание детской психики. Хотя какое уж ты дитё — вполне сложившийся и поднаторелый интриган…
— Ага, — сказал я с удовольствием.
— Но я ничем не могу помочь тебе. Я ничего не знаю об эхайнах. Ты не поверишь, но основную часть своих познаний я почерпнула на том дурацком диспуте. Пойми, Север: мне это неинтересно! В Галактике есть куда более увлекательные места, чем этот несносный Эхайнор.
Я терпеливо ждал, пока она сама сообразит. Ждать пришлось недолго.
— Впрочем… — сказала она без большой охоты. — С недавней поры я обзавелась кое-какими связями в интересующих тебя кругах. Ты меня понимаешь?
— Еще как, — ответил я.
17. Лечу в Ирландию
Мы договорились встретиться через три дня. Я сгоряча предложил было устроить все на Исла Инфантиль дель Эсте, но тетушка резонно заметила, что это не лучшая из моих идей. Она вообще относилась к моей затее критически. Да я и сам уже был не рад собственному рвению. Лишь нежелание прослыть законченным оболтусом удерживало меня от немедленной ретирады. И в самой глубине души я надеялся услышать от нее: мол, извини, малыш, ничего не выйдет, дело оказалось куда более сложным, нежели представлялось вначале, так что… ну, ты сам все понимаешь. И я, посетовав для видимости какое-то время, со спокойной душой обо всем вскорости забыл бы. И вернулся бы к обычной жизни. К жизни болотной тины и пустынного саксаула. Но теперь это вряд ли было возможно. Учитывая тетушкину энергию и, до определенной степени, мое не угасшее вконец нежелание снова становиться саксаулом…
К счастью, мне не оставалось времени на понемногу входящее в привычку самокопание. За эти три дня предстояло: поговорить с учителем Кальдероном о жизни; сдать реферат по морским млекопитающим (этот раздолбай Гитано, как назло, умотал куда-то по своим цыганским делам — никогда его нет на месте, как только он становится действительно нужен! — и некого было порасспросить о повадках, обычаях и причудах средиземноморских афалин); сочинить литературное произведение в любом жанре и стиле, но на заданную тему (я выбрал тему «Скандинавская мифологема судьбы» в жанре саги, и один бог знает, зачем я это сделал, так что всю ночь в моем взбудораженном сознании норна Урд, подозрительно напоминающая собой Барракуду, лупила норну Верданди, внешне неотличимую от Мурены, дубиной, вырезанной из корня Иггдрасилля и разукрашенной рунами, а норна Скулль стояла в сторонке и пакостливо хихикала); поговорить с учителем Кальдероном о жизни; построить работающую модель солнечной системы до распада Фаэтона и ингрессии Мормолики, сыграть на чужом поле («Архелоны» против «Альбакоров» — и как только болельщики нас не путали?!) и по возможности не продуть (мы и не продули); нарисовать с натуры человеческую фигуру, да так, чтобы все сразу поняли, что это человек, а не баобаб (в модели изо всех сил набивалась Мурена, но я пригласил Неле Йонкере — та, по крайней мере, не строила мне глазки и не лезла с глупостями, а честно и смирно позировала в прикольном арлекиновом трико, попутно пересказывая своими словами историю исландского законника Ньяля и его беспутной родни, что было очень кстати и в тему); и, наконец, поговорить с учителем Кальдероном о жизни. Поскольку я не знал точно, сколько учебного времени пропущу в своих грядущих странствиях, то постарался минимизировать ущерб и утоптать недельный объем в три дня. Надо ли упоминать, что по истечении отведенного срока я походил на выжатый грейпфрут, а не на эхайна, готового к восприятию истории предков?!
Утром четвертого дня — это была суббота, — я погрузился в гравитр, с тем чтобы добраться до Валенсии. Поскольку утро было ранее, а ночь накануне — бурная, вся Алегрия дрыхла без задних ног. Единственным, кто вызвался меня проводить, был Чучо. Он даже попытался сгоряча залезть в гравитр, чтобы сопровождать меня на материк, но вовремя одумался. Не хватало еще мне возиться со спящим дружком посреди огромного города… Поэтому я летел один.
В другое время я бы непременно улучил часок и с удовольствием побродил по Валенсии. Мне нравился этот город, он не был шумным и устрашающе современным мегаполисом, как Барселона, или же ленивым курортом-переростком, вроде Аликанте; все в нем казалось соразмерным, уютным, а старинные здания, вроде знаменитого Катедраля, спокойно и бесконфликтно уживались с редкими вкраплениями модернистских строений последних лет, среди которых, конечно, выделялась Кампана — здание Института мировой культуры, известное своими беспрестанными поразительными экспозициями. В мой прошлый визит, в океанариум со всей оравой, здесь демонстрировалась «Атлантида — легенда и реальность». Нынче же со всех информационных табло любопытствующим предлагалось отведать «Ошеломляющей кулинарной феерии испаноязычного этноса». Кстати, и сам океанариум никуда не делся, и уж я не упустил бы пройтись по его этажам и закоулкам. Кто знает — быть может, это помогло бы мне окончательно избавиться от мыслей об Антонии, что следовали за мной неясными тенями, неохотно рассеиваясь при свете дня и вновь сгущаясь в моем изголовье с приходом сумерек…
Но сейчас мне нужно было спешить в аэропорт Валенсия-Ориенте.
Я выписал петлю над колокольней Санта-Каталина — последние пятьдесят лет там велись нескончаемые реставрационные работы, а с курантами, по слухам, и вовсе творилось неладное: каждую полночь малая стрелка словно по колдовству оказывалась на цифре «один», показывая тринадцатый час ночи… Миновал старинную биржу Ла Лонха на Рыночной площади. Сделал круг над дворцом маркиза де Дос Агуас — ну не мог я не сделать лишний круг, потому что любил глядеть на этот дворец с птичьего полета, пожалуй, даже сильнее, чем бывать в нем. Последний набор высоты — и спустя пять минут гравитр опустился на стоянке возле аэропорта Валенсия-Ориенте. Отсюда во все концы света уходили большие пассажирские суда — неспешные «огры», основательные «конраны» и стремительные «симурги».
Меня ждала транс-европейская «конрана», меня ждали новые знакомства и, хотелось верить, новые откровения.
Скорость воздушного судна этого класса — что-то около тысячи километров в час. Это немного по земным меркам. Те же «симурги» способны носиться в два-три раза быстрее, хотя вряд ли кому может понадобиться перемещаться по белу свету в таком темпе, кроме случаев какой-то совершенно острой, фантастической нужды. Однако же такие любители есть. Но «симурги» применяются на длинных трансглобальных линиях, чтобы не тратить зря время на взлет и посадку. «Конрана» же специально предназначена для множественных промежуточных финишей. Можно сказать, что она движется прыжками.
Живет в Экваториальной Гвинее такая офигенных размеров лягушка-голиаф, почти полметра длиной и почти четыре килограмма весом. Прыгает себе и резвится в ледяных струях порожистых рек. И, ко всеобщему неудовольствию, неуклонно вымирает. «Конрана» — ее латинское название. Быть может, кто-то из конструкторов летающих кораблей был родом из тех мест. Или принял близко к сердцу драму лягушиного племени. А может быть, ломал-ломал голову, как бы поименовать новое транспортное средство, а потом открыл словарь прыгающих видов и ткнул пальцем наугад.
В самом деле, «конрана» даже со стороны напоминала собой громадную лягву, присевшую перед прыжком на мускулистые лапы, которые лапами, однако, также не являлись, а были мощными атмосферными гравигенераторами. Вначале мы должны были покрыть шестьсот километров до Бордо, затем ожидались Брест и Лимерик. В Лимерике я выходил, а «конрана» должна была ускакать в Эдинбург и дальше по своим делам. Такой вот предполагался маршрут.
Я пересек поросшее короткой жесткой травкой поле, вошел в прозрачный стакан лифта и поднялся на верхнюю палубу. Где-то играла музыка, в атмосфере витали аппетитные ароматы из ресторана, а над головой, слегка притушенное прозрачной крышей, светило утреннее солнышко. Я нашел свободное кресло под сплетенными лианами, в которых копошились какие-то ручные и довольно наглые птицы. Устроился поудобнее, задумался…
В общем, большую часть пути я проспал. А когда открыл глаза, транспорт уже миновал хобот Корнуолла и бесшумно несся над серыми водами Кельтского моря.
Пока я зевал, потягивался и массировал лицо, «конрана» пробила тяжелые тучи и снизилась над Ирландией, которая сверху выглядела довольно мрачно. Металлической лужицей блеснула река Шэннон. Воздушный корабль неощутимо сбросил скорость и нырнул навстречу белым башням Лимерика.
После испанской жары здесь было довольно прохладно. В воздухе плясала мелкая морось. Я поднял воротник и ступил на влажные плиты аэропорта.
18. Тетя Оля в зеленом
Встречающих на посадочном поле было немного, от силы десятка полтора. Все в дождевиках, с надвинутыми капюшонами, некоторые даже с зонтиками. Тетя Оля, в просторном ядовито-зеленом комбинезоне и со вспушенными платиновыми волосами, в этом блеклом окружении выглядела гигантским экзотическим одуванчиком.
— Приветик, — сказала она.
— Приветик, — ответил я.
— А поцеловать? — мурлыкнула тетя Оля.
Теперь мы были одного роста. Мне больше не нужно было привставать на цыпочки, чтобы дотянуться губами до ее щеки. На нас оглядывались, принимая за брата и сестру.
— Экий ты стал здоровущий, — сказала тетя Оля. — Скоро Консула с его бицепсами переплюнешь. Давай сюда сумку.
— Ни за что, — сказал я.
— У тебя там алмазные брульянты? — захихикала она и взяла меня под руку. — Пойдем, нас уже, наверное, заждались.
Голову мою немного кружило — не то от смены климатических поясов, не от близости ее плеча… Нас обогнал расписанный плетенкой из кельтских узоров роллобус.
— Почему мы не поехали со всеми?
— Это же туристы. Сейчас они направляются в ресторан «Мудрый лосось» на обед, а оттуда прямиком в Нью-Грейндж.
— А там что?
— Древнейшие в Ирландии коридорные гробницы.
— Я бы тоже не отказался посмотреть.
— Ну, возможно, чуть позже.
Тети Олин гравитр стоял на общей стоянке. Почему-то я сразу понял, что это ее гравитр. Остальные машины в сравнении с ним выглядели игрушками. К тому же, он был одного с ее комбинезоном кислотного цвета.
— Зеленый, — констатировал я.
Тетя Оля покосилась на меня и объявила:
— Сейчас мы летим в город, в одну уютную кафешку под названием «Зеленая утка»…
— Зеленая! — фыркнул я.
— Не смей надо мной потешаться! — притворно возмутилась она. — Просто у меня сейчас зеленый период. Мне нравится все зеленое. Пройдет какое-то время, и я плавно вступлю в какой-нибудь другой период, например — в розовый. Как ты полагаешь, розовый будет мне к лицу? Только не вздумай врать, ты еще не умеешь.
— Вам любой цвет будет к лицу, — сказал я и снова прыснул.
Потому что она, со своим космическим загаром, в своем огородном прикиде, выглядела скорее мультяшным персонажем, нежели живым человеком.
— Негодяй, — сказала тетя Оля незлобиво.
Мы сели в гравитр — внутри него вполне могла расположиться половина команды «Архелонов», но стоило тетушке занять водительское кресло, и в кабине стало не повернуться. Я устроился позади нее с максимально возможным комфортом. Автопилот, разумеется, был отключен. Тетя Оля опустила руки на пульт, и гравитр почти вертикально взмыл в небо. «Знакомые штучки, — подумал я. — Все драйверы одинаковы…»
— Лимерик, чтоб ты знал, — сказала тетя Оля через плечо, — очень древний и уважаемый город. Ему больше тысячи лет.
— За что его еще уважают? — спросил я вежливо.
— За кружева, — ответила она. — Лимерик всегда был славен своими кружевами. За древнюю архитектуру. И, пожалуй, за прикольные пятистишия.
— Я что-то слышал. Кажется, они называются «танка». И, кажется, их обожает Консул.
— Не ляпни такое в его присутствии, — строго наказала тетя Оля. — То, о чем я говорила, называется «лимерики». А Консул балдеет от японской поэзии. И чем она древнее, тем сильнее его балдеж.
— Ага, — проговорил я не очень уверенно.
Тетушка прищурилась, напряглась и вдруг выдала:
Повстречалась я с Черным Эхайном, Пареньком чрезвычайно нахальным. «Я в поэзии спец!» — Говорил мне наглец И подмигивал глазом охальным!— Блеск, — сказал я. — Это и есть лимерик?
— Именно, — подтвердила тетя Оля. — Пускай и не в самой канонической форме, но все же близко к образцам жанра.
— А зачем мы здесь? — спросил я наивно. — Вы живете в этой дыре?
— Дыра! — возмутилась она. — Лимерик — прекрасный город, с очаровательными старинными зданиями, с офигенными музеями. Здесь всегда море туристов…
— И всегда идет дождь, — ввернул я.
— Ну, допустим, не всегда. Хотя… мог бы идти и пореже. Так вот, мой милый: я не живу в Лимерике. К твоему сведению, постоянно я живу либо в Кондорфе, либо в Тонгерене, в зависимости от настроения.
— Что же мы делаем в этой… — Тетя Оля, не оборачиваясь, одними плечами выразила выжидательную угрозу, и я закончил: —… исторической местности?
— Здесь живет мой отец, — сказала она с непонятной интонацией. — Всякий раз, когда он появляется на Земле, то выбирает для жительства именно Лимерик. Отчего-то меня это не удивляет.
Меня, напротив, это удивляло, и сильно, но уточнений я не потребовал.
Между тем, мы добрались до места. Гравитр опустился на стоянку, затиснутую между влажными кирпичными стенами старинных домов, Дождь, впрочем, прекратился. Мы выбрались из кабины, тетя Оля откинула капюшон, и ее сходство с одуванчиком многократно возросло.
— Уой! — воскликнула она чуточку более экзальтированно, чем требовалось. Должно быть, ее волнение лишь немного уступало моему. — Нас уже ждут.
— Где? — удивился я.
— Да вот же! — сказала она. — Как ты не видишь?
И я увидел.
19. Все эхайны Земли сразу
Думаю, со стороны мы выглядели очень необычно. Долговязый подросток, огромная женщина и пожилой гигант. Семейка фольклорных великанов, вздумавшая перекусить в ирландском кафе. И при этом сыграть в молчанку с гляделками. Я сидел как на еже, мысленно кляня себя за дурацкую блажь, перетащившую меня из тепла и солнца Алегрии в знобкую сырость Лимерика, и не знал, на чем задержать глаз. Тетя Оля мрачно сопела и переводила взгляд с меня на отца. И только Гатаанн Калимехтар тантэ Гайрон, Лиловый Эхайн, дипломатический представитель Лиловой Руки Эхайнора в метрополии Федерации, сидел неподвижно, словно камень, и сверлил меня гляделками.
— У меня такое ощущение, — наконец прорвала завесу молчания тетя Оля, — что я здесь лишняя. Пожалуй, я пойду, а вы уж…
— Останься, — лязгнул Гайрон.
И не разобрать было, просьба то или приказ.
— Но вы же не разговариваете, — сказала тетя Оля раздосадованно.
— Да, верно, — согласился эхайн. — Но мне нужно было убедиться.
«Ну, убедился?» — подумал я злобно, и сразу успокоился. Я даже стал разглядывать его с той же бесцеремонностью, что и он меня. В конце концов, это был второй настоящий эхайн, виденный мною в жизни. Тетя Оля, как полукровка, была не в счет. Ну, а первого эхайна я каждый день имел несказанное удовольствие лицезреть в зеркале.
Широченные покатые плечи, трудно скрываемые даже особенно просторным белым свитером. Точно такая же наклонность к мешковатым одеждам наблюдалась и у Консула — словно оба они, machos весьма мощного телосложения, несколько стыдились своих статей… Свитер украшен нехитрым узором из зеленых дубовых листьев в кельтском, надо думать, стиле. На столе весомо, как два булыжника, лежат тяжелые загорелые кулаки. Ну, и лицо…
Ничего особенного в его лице не было. Простое, даже простоватое. Лицо профессионального разведчика, для которого важно раствориться в толпе чужаков — если я что-то понимал в технике конспирации. (Дяде Косте, по его рассказам, довелось столкнуться с методом «от обратного»: инопланетный разведчик имел внешность супермена, вел себя соответственно, и не только не скрывал интереса к цели своей миссии, а вообще руководил всей деятельностью Федерации на этом направлении, так что никому и в голову не приходило, кто он такой на самом деле!) Не загорелое, как у всех в Испании, не бледновато-румяное, как у всех в этом кафе (за исключением, разумеется, нас троих), а, что называется, обветренное. Глубокие морщины и мешки под глазами. Короткие рыжеватые волосы. Редкие белесые брови. Небольшие, по-звериному прижатые к черепу уши. Широкие скулы, крупный нос… Я невольно покосился на тетю Олю. Отец и дочь — безусловно, они были похожи. Во многом, почти во всем. Кроме глаз. У тети Оли они были синие, всегда сияющие весельем — даже сейчас в них метался озорной огонек, словно моя милая великанша воспринимала происходящее как азартную игру с крупными ставками, но не более того. У Гайрона же они были желтые, как у большого старого кота, взгляд их сообщал всему лицу некий зловещий контрапункт и был мне откровенно неприятен.
А так… что ж, лет тридцать-сорок назад Гайрон и вправду, должно быть, был недурен собой. Но сейчас это был просто очень большой и очень немолодой человек. Насколько мне было известно, эхайны старели быстрее людей.
И насколько я подозревал, это неприятное обстоятельство в полной мере относилось и ко мне.
То есть, если медики не придумают чего-нибудь толкового, к восьмидесяти годам я буду выглядеть не так бодро, как мой дед Егор или тот же дядя Эрнст, а вот как этот эхайн, что сидел напротив. А что они над этим думают, я знал совершенно точно от того же дяди Кости.
— Что у тебя есть? — вдруг спросил Гайрон.
Меня как в локоть толкнуло. Я сунул руку в карман куртки и вытащил на свет овальный медальон — то единственное, что осталось мне от прежней жизни, которой я не помнил. Гайрон молча и чрезвычайно внимательно разглядывал его, не прикасаясь, будто к ядовитому насекомому. Но затем глубоко вздохнул, не дрогнув ни единым мускулом лица, взял его двумя пальцами и поднес поближе к глазам.
— Тиллантарн, — произнес он вслух мое родовое имя. — Ты догадываешься, что это означает?
— Ни о чем я не догадываюсь, — буркнул я.
— Быть может, и хорошо, что не догадываешься, — загадочно сказал он, разжал пальцы, и медальон вернулся в мою раскрытую ладонь. — Это следует носить на шее, — прибавил он.
Мы снова надолго замолчали.
— Ну, в общем… — снова не выдержала тетя Оля.
Но Гайрон в ту же секунду задал новый вопрос:
— Так ты хочешь знать эхойлан? Или тебя интересует эхрэ?
— Почему «эхойлан»? — спросил я. — И что такое «эхрэ»?
— Эхрэ — язык Черных Эхайнов, — пояснил Гайрон. — А на эхойлане разговаривают почти все эхайны этого мира. — Едва заметно усмехнувшись, он прибавил: — Кроме тебя и Аллгайр.
— Кто такой Аллгайр? — спросил я.
— Это я, — откликнулась тетя Оля. — Мое эхайнское имя — Аллгайр Тлилир тантэ Гайрон. Так я записана в родовых книгах. Я сама это узнала пару дней тому назад.
— Поздравляю, — сказал я.
— Сева у нас чрезвычайно любопытный мальчик, — промолвила тетя Оля-Аллгайр. Я насмешливо фыркнул. — Поэтому ничего нет удивительного, что он хочет поближе познакомиться со своими этническими корнями…
Нетрудно было заметить, что она избегает обращаться к отцу напрямую. И у меня язык не поворачивался ее в том упрекнуть. Я и сам не так давно оказался в ситуации, когда на мою голову из ниоткуда вдруг свалилась целая куча родственников.
Впрочем, и в поведении Гайрона не просматривалось излишней нежности.
— Кто такой Сева? — не церемонясь, оборвал он тетю Олю на полуслове.
По-видимому, он попытался пошутить, передразнить меня. Но никто не сумел оценить этой внезапной вспышки эхайнского юмора.
— Последние четырнадцать лет меня зовут Северин Морозов, — ответил я мрачно. — А еще среди людей в ходу ласкательно-уменьшительные имена. Вас как называли в детстве?
— Меня всегда звали Гатаанн Калимехтар тантэ Гайрон, — отрубил эхайн.
— И ваша мама величала вас по полной программе? — ухмыльнулся я.
— Мне не было нужды менять свое имя…
— Даже тогда, во Вхилугском Компендиуме?
Тетя Оля побледнела.
— Прикуси язык, мальчик, — сказала она по-русски. — Это мой отец. И это эхайн.
— Он ничего не сделает мне на моей планете, — ответил я. — И я эхайн не меньше, чем он.
— Ты прав лишь в одном, — сказал Гайрон по-русски. — Я действительно не могу причинить тебе вреда. Но планета здесь ни при чем.
Теперь тетя Оля покраснела.
— Где ты успел выучить русский язык, папуля? — спросила она, мигом позабыв про свои комплексы. — Я думала, ты говоришь только на интерлинге.
— Во Вхилугском Компендиуме, — ответил он. — Моим первым учителем была твоя мама, Аллгайр. И я умею пользоваться ласкательными именами… Оленька.
— Никак я не привыкну к твоим играм, — сказала тетя Оля.
— Впереди у нас целая вечность, — проговорил эхайн. — Еще успеешь.
Затем он бережно, словно боясь раздавить, накрыл своей лопатообразной ладонью ее пальцы.
«Забавно», — подумал я.
— Я все еще жду ответа, Тиллантарн, — сказал Гайрон. — Итак, ты хочешь знать эхойлан, чтобы…
— Нет, — возразил я. — То есть, конечно, хочу… но это не главное, чего я хочу.
— Так что же главное?
Я зажмурился на один краткий миг. А после открыл глаза и произнес:
— Айсллау г'цонкр иурра гъете Эхайн-ра.
— Не «гьете», а «гъята», — машинально поправил Гайрон. — Ты знаешь эхойлан, но ты знаешь его недостаточно.
Лицо его даже не дрогнуло.
— Айгриагг трэарш гъята — гъята! — ян'хатаа хала, — холодея от собственной наглости, продолжал я.
Вначале он вскинул одну бровь. Затем другую. Затем побагровел, сверля меня тигриными гляделками. «Сейчас набросится, — подумал я. — И порвет, как кошка тряпку. Только не отвести глаза. Говорят, такое помогает… против некоторых хищников…» Это было непросто. Я впервые понял значение метафоры «тяжелый взгляд». Так вот: взгляд этого эхайна весил не меньше полутонны.
— О чем это вы тут секретничаете? — возмутилась тетя Оля.
Мы молчали, целиком поглощенные этим странным поединком.
Внутри меня что-то происходило. Что-то, ранее мне совершенно не присущее. Как будто вдруг распахнулась дверь, о которой никто не подозревал, или не замечал, полагая, что за ней нет и не может быть ничего интересного, а оттуда ко всеобщему изумлению вдруг вылез, жмурясь от яркого света, потягиваясь и зевая, большой и никому не известный зверь. И теперь, с его появлением, все будет иначе. И я уже знал, что ни за что не отведу взгляд первым. Зверь не позволит.
— Гъя-хинно, — сказал эхайн, привычно пропуская ее слова мимо ушей.
«Я думаю».
— Вот только не надо этого! — забеспокоилась тетя Оля. — Не заставляйте меня жалеть о том, что я позволила вам встретиться…
— Да, — сказал Гайрон, первым опуская глаза. — Да. Прошу простить мою дерзость, янрирр Тиллантарн. Я совершенно забылся и допустил ошибку. Это более не повторится.
Тетя Оля шумно выдохнула воздух.
— Что происходит? — спросила она.
Я не знал, что ей ответить. Внезапная перемена в поведении Гайрона озадачила меня не меньше, чем ее. Но только не зверя внутри меня, который довольно ухмыльнулся, скребнул когтистой лапой пол и удалился за таинственную дверку досыпать в тишине и покое.
— Для меня будет величайшей честью преподать вам несколько уроков эхойлана или эхрэ, по вашему выбору, — пробормотал эхайн, смятенно возя пальцами по столешнице. Он тоже явно был не в своей тарелке. — Насколько хватит моих слабых знаний. И… я ваш покорный слуга… во всех ваших начинаниях.
20. Тетушка разбушевалась
Тетя Оля бушевала.
— Что за цирк ты устроил? — кричала она. — Ты знаешь, что такое взрослый эхайн? Это убийца со стажем! А мой отец — не просто взрослый, а старый эхайн! Он сам говорил мне, что трижды отстаивал родовой титул на каких-то судах чести с оружием в руках. И раз уж он сидит за нашим столиком, это означает только одно: он трижды убивал соперников! Трижды! И это только те убийства, о которых я знаю…
— Но ведь не убил же он меня, — проворчал я.
— Ты думаешь, его могло что-то остановить?
— Но ведь остановило же…
Мы сидели на веранде ее апартаментов в Эбби-Лок, на окраине Лимерика, вернее — я сидел, а она нависала надо мной, как разгневанная богиня Скади над проштрафившимся шутником Локи, и метала громовые стрелы. Моросил неизменный дождик, на веранде было сыро, холодно и неуютно, в общем — все условия для воспитательной работы. Я меланхолично сосал из высокой кружки густую, горячую и не очень вкусную смесь, которую здесь называли «глинтвейном», а дед Егор, как-то соорудивший что-то похожее из вина, пива и меда с разнообразными сухофруктами, чтобы отогреть меня после похода на торфяник за клюквой, — «душепаркой». Я чувствовал себя расслабленным, сонным, выжатым, как безымянный цитрус из глинтвейна.
— Что ты ему сказал? — грозно вопросила тетя Оля.
— Н-ну…
— Не нукай, Северин Морозов! — рявкнула она и разом напомнила мне мою маму, когда та сердилась. Неужели все взрослые женщины одинаковы, когда им нужно отровнять строптивого подростка?! — И не юли, отвечай прямо, как подобает эхайну!
— Я попросил его быть со мной повежливее.
— Врешь!
— Не вру!
— Ты не просто попросил! Ты вогнал его в смущение, ткнул носом, запугал! Запугал моего отца, который ничего не боится! С какой бы тогда радости ему вдруг навеличивать тебя «янрирром»?!
— Хорошо, — сказал я, краснея. — Ну, в самом деле… Я потребовал от него уважительного отношения к моему роду. И… мне это удалось.
— Уой! — тетя Оля всплеснула руками. — Матерь божья, спаси и сохрани! У этого сопляка появился род!
— И появился! — вскипел я. — А чего он, в самом деле! Сидит тут, на моей планете, пыжится, как бегемот! Если у него нет уважения к моей маме, которую он не знает, то пусть потрудится уважать хотя бы моего отца!
— А что ты знаешь о своем отце? — быстро спросила тетя Оля. — Тебе Консул что-то рассказал?
— Ничего он не рассказывал. Дождешься от него… Он только сказал, что я принадлежу к древнему аристократическому роду, и что в моих жилах течет янтарная кровь.
— И ты запомнил, — сказала она с укоризной. — Ничего другого из разговора с Консулом не запомнил, умного ничего не почерпнул, а вот это усвоил моментально. И дерешь нос перед моим отцом, настоящим эхайнским аристократом.
— Но ведь я тоже настоящий эхайнский аристократ, — заявил я. — И это не моя вина, что я живу здесь мирно и спокойно, а он там, у себя, рубится за право носить свой титул. Это стечение обстоятельств.
— Умный больно! — прикрикнула тетя Оля. — А теперь вот что, аристократ фигов: признавайся, о каких там начинаниях шла речь? Ведь ты ему еще что-то сказал перед тем, как качать свои аристократские права!
— Ну… не помню…
— Что, пытать тебя прикажешь?
— А вы умеете? — спросил я с интересом.
— Может, и не умею. Ничего, жизнь научит. Уж очень хочется мне знать, почему мой отец в присутствии ничтожного юнца вдруг перестает обращать всякое внимание на собственную дочь, с которой буквально полчаса назад готов был сдувать пылинки и сгонять дождинки, а смотрит на означенного юнца, как на золотого кумира! И, что особенно отвратительно, не просто смотрит, а заглядывает ему в рот, и не просто заглядывает, а заглядывает искательно! — Она вдруг навалилась на спинку кресла и поглядела на меня оценивающе. — Кто ты такой, Северин Морозов, можешь мне сказать?
Мне ничего не оставалось, как проворчать:
— Я не знаю.
В свете последних событий это была чистая правда.
— Ты не знаешь… — промолвила тетя Оля. — А что ты вообще знаешь? Я не имею в виду тайну твоего происхождения на белый свет, которую, видно, нам и не дано знать сейчас. И вряд ли ситуация изменится в обозримом будущем. Но о себе нынешнем ты хоть что-то должен знать!
— Что вы от меня хотите? — буркнул я, ощетинив все иголки. — Что вы все от меня ждете…
— Определенности, — сказала она. — И, пожалуйста, хоть каких-то признаков взросления. Ведь я вижу, что ты что-то замышляешь. А поскольку при всем этом я еще и держу в уме, что ты как был, так и остаешься недорослем, рохлей и нюней, то меня это не может не настораживать. Ничего нет хуже, когда рохля или, там, нюня вдруг что-то вбивает себе в голову, начинает вынашивать замыслы и строить планы, а уж когда он начинает их воплощать в жизнь, тогда хоть святых выноси.
— Я не обижаюсь, — объявил я в пространство, хотя, разумеется, кривил душой.
— Попробовал бы!
Тетя Оля еще разок пробежалась по веранде, для чего-то поскребла ноготком влажную стену, а затем вернулась и обрушилась в кресло напротив меня.
— Почему я ввязалась во все это? — спросила она. — Кто все это выдумал на мою бедную головушку?! Всякие там эхайны разных мастей, у каждого свой род, свои ужимки, тайны какие-то гадские… Ведь жила спокойно, работала, блуждала себе по волнам эфира, как нормальный человек. Сегодня тут, а завтра там, сегодня метеоритный дождь на Ферре-Дерьмохлебке, завтра нуль-поток между Циппезиррой и Веслом Харона, а послезавтра, глядишь, ласковое солнышко и горячий песок Жемчужного моря на Сиринге… А что теперь? Теперь я торчу здесь, в этом промозглом городишке, и нянчусь с чужим сынулей, который отчего-то выбрал меня в качестве жилетки для своих соплей. Нет, ну почему ты выбрал меня? Почему не свою матушку, не того же Консула?! За что мне это наказание, господи?.. Ты, наверное, вбил себе в голову, что вот выяснишь все, раскроешь все загадки, распахнешь все сундуки, и тебе станет легко, хорошо и приятно жить дальше? Так вот шишеньки! Жизнь твоя превратится в кошмар, наподобие моего, а то и хуже, потому что все эти призраки прошлого, что до поры сидели себе смирно в своих закутках, вылезут на волю и двинутся на тебя, лязгая зубами и брякая ржавым цепьем. И ладно бы только твоя жизнь, а и жизнь твоих родных, близких и попросту случившихся неподалеку, таких как я, тоже сделается сущим кошмаром, и всем захочется одного: либо прикончить тебя, с твоими идиотскими призраками, либо самим повеситься в одну шеренгу, причем последнее, из соображений ложно понимаемого гуманизма, гораздо более вероятно…
— Я просто хотел немного узнать о самом себе, — заметил я со всевозможной кротостью. — А то задолбали уже все: кто ты такой, Северин Морозов, да зачем ты, да что из тебя выйдет. Вот я и хочу знать, кто я такой и что в свете этих новых данных может из меня получиться. Буратино ли я, с небольшой перспективой на превращение в нормального человека, или натуральное бревно…
— Тогда ты слишком резво начал, — сказала тетушка почти спокойно. — Общение с Консулом, а в особенности с отцом, не прошло для меня даром, и я уже знаю, когда говорить, а когда лучше прикусить язык, хотя и могу позволить себе нарушать эти негласные правила. Запомни вот что. Для всякого эхайна упоминание о роде его собеседника в первую очередь звучит как угроза. Он тут же начинает размышлять, чем навлек на себя недовольство, даже если напротив него сидит по всем параметрам безобидный подросток. Он мысленно выстраивает твое генеалогическое древо, находит в нем наиболее примечательные ветви, оценивает исходящую от них опасность для себя и своего рода. Кто, мол, там за тобой стоит, какие силы, какие личности, кто придет мстить за тебя или выставлять счет, коли ты так спокойно и нагло апеллируешь к своим сородичам. Или, наоборот, он отмечает для себя несомненные выгоды, которые посулит ему простая смена интонации в разговоре с ничего по эхайнским меркам не значащим юнцом из старинного и респектабельного рода. Да мало ли что, нам этого не понять… Он раскладывает на воображаемом столе свои карты, сопоставляет с картами, что можешь предъявить ты и твой род, и сравнивает количество козырей каждого игрока. Это похоже на игру, но ставкой будет чья-то жизнь… Ты ничего не знаешь о своем отце. Но, похоже, о нем знает мой отец. Или не об отце, а о твоей генетической матери. Или о прадеде. Или обо всех сразу, вариантов много. И знает что-то такое, что вынудило его быть почтительным по отношению к тебе. Да не просто почтительным, а почтительным чрезвычайно. И он решил, что ему надлежит быть тебе полезным.
— Ну и прекрасно, — сказал я.
— Но ты забыл, кто такой Гатаанн Гайрон. Это не просто эхайн, который из добрых побуждений решил поднатаскать неграмотного мальчишку из хорошей семьи.
— Я помню, что он ваш отец.
— Это для меня он отец. А еще он опытный высокопоставленный дипломат. А еще он шпион, которого проворонила наша контрразведка.
— Его никто и не ловил, — возразил я. — Консул же рассказывал: когда мы вычисляем инопланетного шпиона, то не ловим его, а наоборот, начинаем ему тайком помогать, чтобы он знал — в этом мире нет врагов.
— Тот же Консул говорил, что Гайрон так и не был раскрыт, — заметила тетя Оля.
— Наверное, вы этим гордитесь, — неловко съязвил я.
— Аж до потолка прыгаю, — фыркнула тетушка. — Ущерба человечеству он, впрочем, не нанес.
— А вы? — хихикнул я.
— Я — не ущерб, дуралей! Я — до конца еще не оцененный подарок… Что никак не меняет положения вещей. Он был и остается разведчиком, который продолжает работать на свою нацию, то есть на Лиловую Руку, хотя для этого ему уже не нужно выдавать себя за Антона Готтсхалка. И вполне возможно, что он только что, не сходя с места, придумал какую-то операцию, в которую вклеил тебя как ключевое звено. — Она запустила пальцы в и без того взъерошенные волосы. — Я должна поговорить с Консулом.
— Нет! — запротестовал я. — Только не с Консулом!
— Ты предлагаешь, чтобы я обратилась к тому серому джентльмену, которого едва не сожрала твоя кошка? — удивилась тетя Оля.
— Его уволили, — мрачно сказал я. — Между прочим, из-за меня.
— Похоже, ты гордишься этим? — усмехнулась она.
— Вовсе нет… Не надо ни с кем говорить. В конце концов, вы мне обещали.
— Я обещала?! Не помню. — Она приблизила ко мне свое лицо. — А ну, погляди мне в глаза, Северин Морозов. Что ты задумал? Выкладывай начистоту, и не смей лгать мне, твоей единокровной…
Я послушно, как бы в шутку, вперился в ее небесные очи.
И утонул в них.
Я перестал дышать, мое сердце прекратило биться, в моей голове рассыпались выгоревшим фейерверком все мысли. Остался только ее аромат, тепло ее кожи, щекот ее волос, желанный перламутр ее губ.
Должно быть, между нами не просто проскочила искра — вспыхнула полноценная вольтова дуга. Потому что тетя Оля тоже замолчала на полуслове, ее глаза сделались еще больше, еще бездоннее, а губы почти касались моих.
…Я уже не тонул, я падал в сияющую бездну, куда стремился всей душой и откуда не желал возвращаться. Каждая клетка моего тела кричала от сладкой боли. Это не с чем было сравнить. Воздух стал вязким, упругим, как вода. Преодолевая его сопротивление, она взяла меня за руку, с силой прижала мою ладонь к своей щеке. «Н-н-нет… — вдруг сказала она с трудом, сквозь сжатые зубы. — Нет, нет, нет…» — «Почему?!» — попытался спросить я, но для того у меня не было ни тени дыхания. Она продолжала повторять то же слово, словно забыла все другие, или пыталась защититься им, как заклинанием, но наши руки уже сплелись, а тела устремились навстречу, разрывая последние оковы здравого смысла…
Не было ничего этого. Просто мне хотелось, чтобы так было. Но ничего не случилось. Ровным счетом ничего.
Она прикрыла глаза, отстранилась, спокойно закончила фразу:
— …тетушке, которая намного старше тебя и несравнимо мудрее.
И продолжала дальше говорить какие-то незначащие пустяки в обычной своей иронической манере. А я кивал, поддакивал, пытался осмысленно реагировать на ее слова, но думал все о том же, и вновь и вновь переживал, что у нас не сбылось, просто не могло сбыться и никогда уже, как видно, не сбудется.
21. Беседы с Гайроном
Моя жизнь разделилась на две половины. Одна, открытая, публичная, проходила, как и полагается, на глазах у всех и заключалась в ежедневных занятиях, болтовне с друзьями-подружками, фенестре и купаниях. Другая была отдана Гатаанну Гайрону.
Он появлялся в Алегрии дважды в неделю — во вторник и пятницу. Занимал свободный столик в одном и том же кафе на приморском бульваре — «Пульпо боррахо», что переводилось как «Пьяный осьминог»; кроме названия, ничего примечательного в этом заведении не было: подавали свежее пиво, свежих креветок и любые «тапас», какие только взбредут на ум. Брал себе пиво, сыр и оливки и заводил на настольном видеале ленту новостей. Уж что он там находил занятного, можно было только гадать. Еще более удивительным было то, что никто не обращал на него внимания. Да он ничем особенным и не выделялся, как и сама кафешка, в которой мы встречались. Казалось, он даже делался ниже ростом. Обычный пожилой иностранец, каких здесь полно. Шутки шутками, а в первый раз я его не узнал, и прошел бы мимо, кабы он не окликнул меня по имени. По моему земному имени: «Hola, Sevito». А уж когда я, донельзя смущенный своим промахом, присел к нему за столик, он снял темные очки, взял меня в прицел желтых мигалок (правильнее сказать — немигалок) и без намека на иронию почтительно приветствовал: «Гья-татьеруа, янрирр Тиллантарн».
Это были самые странные часы в моей жизни. Часы, проведенные в обществе инопланетянина. Чужака, словно в фантастическом ужастике, принявшего человеческий облик, но подо всей этой нарочито обыденной оболочкой, как под маскарадным прикидом, остававшегося абсолютно иным, непонятным существом, которое думало не так, как я, и не о том, а как и о чем оно думало в реальности, я мог только угадывать, и в меру сил стараться не быть съеденным. Абсурда ситуации прибавляло то обстоятельство, что я сам был в точности таким же чужаком, как и он, только, если угодно, навыворот. Я был человеком в теле чужака. И тело это было мне явно великовато.
Мы начинаем наши беседы за столиком «Пьяного осьминога» с каких-нибудь безделиц.
— Мне нравится этот ветерок с моря, в особенности его аромат. У нас, на нашей планете Гхак-эннаск, нет таких ласковых морей, и вода не такая зеленая, точнее — вовсе не зеленая, а лилово-бурая… наши этнолингвисты строят предположения, что именно цвет водного покрова, каким он виден из космоса, и послужил названием всей нашей расе… а вкус этой жидкости трудно описать в словах человеческого языка. Все дело в минеральном составе океанского дна. Верите ли, янрирр, я могу пить вашу морскую воду полными бокалами. Потому что в сравнении с нашей водой она ласкает нёбо, как это пиво. Хотя пиво нравится мне не в пример сильнее. Создатель Всех Миров был куда более благосклонен к вашей расе, нежели к нам. Кстати, вы позволите обращаться к вам по имени? Это упростило бы наше общение, сэкономило бы нам какое-то время, которое мы могли бы употребить с большей пользой, и ни в коей мере не послужило бы умалению вашей личной чести и чести вашего великого рода…
— Ничего не могу предложить вам охотнее, маарари.
Гайрон отвечает короткой усмешкой, за которой старается скрыть легкую тень тщеславия. Ему нравится, когда я называю его учителем; мне это не стоит никаких усилий. Кем же я был на самом деле, или чем таким особенным был мой род, что возможность сделаться моим наставником внушает этому пожилому эхайну такую гордость? «Кто ты такой, Северин Морозов?» — спрашивала меня тетя Оля. Что ж, надеюсь, скоро я получу ответ. Но, как истинный разведчик, я не стану задавать его в лоб. Я дождусь, когда мой оппонент проговорится… Елки-палки, все же приятно перед лицом настоящего, неподдельного шпиона сознавать себя таким же шпионом, как и он, и вести с ним дуэль на равных. Ну, почти на равных… ну, хотя бы помечтать…
— Не желаете ли прогуляться, Нгаара?
Погруженный в мысли о тайне своего происхождения, не сразу соображаю, что Нгаара — это я.
— Готов следовать за вами хотя бы в адское пламя, маарари.
— Вам нет нужды разбрасываться подобными клятвами, Нгаара. Однажды может статься, что ваши слова обретут особенный вес, особенную значимость, и каждое из них будет воспринято буквально. И тогда вам придется держать ответ за свои речи, а цена может быть чрезмерно высока, и даже соразмерна вашей жизни. В этом одно из отличий людей от эхайнов. Люди, во всяком случае подавляющее их большинство, привыкли играть словами и разбрасывать их вокруг себя, как конфетти. Они неосознанно отделяют слово как набор звуков или графических символов от скрытого в нем смысла. Люди — признанные мастера жонглировать словами, ни одному эхайну в этом их не превзойти. Наверное, поэтому юмор, порождаемый словесной игрой, но ни к чему не обязывающий на смысловом уровне, в особенности присущ вашей расе и практически недоступен нашей. Что будет, если я попрошу вас следовать за мной в это самое адское пламя прямо отсюда, янрирр?
— Не собираюсь забирать свои слова обратно… — бормочу я.
— Слышу голос эхайна, — удовлетворенно говорит Гайрон. — Эхайн не отступит от своих клятв. Но человек, которым вы являетесь не в меньшей, а то и в большей степени, наверняка подсказывает вам в эту самую минуту: не верь эхайну, это же игра такая, он тебя испытывает.
— И что вы на это возразите?
— Конечно, испытываю. Кто я такой, чтобы требовать от вас исполнения ваших клятв, тем более что они — всего лишь дань вежливости? При всей схожести наших культур… сейчас я имею в виду культуры Эхитуафла и Гхак-эннаск… мы все же вкладываем различные значения в одни и те же ритуалы. Вы, Черные Эхайны, гораздо многочисленнее нас, и вы можете себе позволить словесные игры. Вам следует помнить, Нгаара, что существует три больших расы Черных Эхайнов, которые к настоящему времени составляют двести шестнадцать народов и племен, с собственным языком и своей вполне сложившейся культурой. Кстати, ваш народ называется кементари… Эхойлан — всего лишь инструмент межнационального общения, как интерлинг на Земле. Что в сравнении с этим разнообразием Лиловая Рука?! У нас деление на этнические группы выглядит условным и даже искусственным, чтобы все усложнить по образу и подобию старших Рук, а все существующие языки и наречия происходят от одного и того же протоязыка гхакка, который даже наши лингвисты вынуждены признать диалектом старого континентального эхойлана. Мы всего лишь удачливые колонисты в четвертом поколении. Нам повезло немного сильнее, чем той же Зеленой Руке, о которой почти никто сейчас и не вспоминает, или Желтой Руке, которая прозябает в своей звездной системе, едва сводя концы с концами, не имея никакого влияния на политику Эхайнора, потому что все жизненные силы без остатка уходят на борьбу за выживание нации, и тут уж не до космической экспансии, не до вызова такой чудовищной галактической силе, как человечество… Поэтому, если рассуждать о личной свободе, вы, Черные Эхайны, более близки к людям, чем мы. И я ни на один миг не позволю себе забыть, где место настоящего Гайрона перед лицом настоящего Тиллантарна.
Проблема в том, Нгаара, что я Лиловый Эхайн, а вы — Черный. Я могу сколь угодно долго наставлять вас, но точность моих наставлений будет примерно такова, как если бы японец рассказывал кельту, выросшему среди индейцев, о европейской культуре. Есть полное представление, но никогда не будет полного понимания. Может быть, я сгущаю краски, но культура Эхитуафла лишь немногим ближе моей душе, чем вашей. Кое-что я не разделяю, что-то мне претит. И хотя для меня большая честь быть вашим учителем, но ощущение моего несоответствия этой высокой миссии не оставляет меня ни на миг.
Возьмем хотя бы ваши родовые медальоны. Вы, должно быть, думаете, что это всего лишь никчемная безделушка или, на худой конец, что-то вроде личного номера, как в архаичных армиях, где личность воина низводилась до уровня пушечного мяса. На самом деле этот медальон — он называется «тартег», — играет существенную роль в системе родовых отношений. Он содержит уникальную информацию о своем обладателе, о его роде, и выполняет не столько роль удостоверения личности, сколько ключа, отпирающего самые потаенные родовые двери. Привилегия носить тартег даруется вместе с аристократическим титулом. Тартеги не штампуются, не пекутся, как пирожки. Раньше их изготавливали вручную лучшие мастера, и это было высокое искусство, да и сейчас в их производстве на последних этапах участвуют человеческие руки, которые наносят на тартег индивидуальные коды. Запомните, Нгаара: где-то на Эхитуафле есть дверь, которую сможет открыть только этот тартег. Ваш тартег.
Люди слишком наивны, доверчивы, их легко обмануть. Они не умеют по-настоящему скрывать свои чувства, иногда их подлинные мысли, которые они, быть может, хотели бы сохранить в тайне, просто написаны на их лицах. Вы, янрирр, не исключение… Ваша беда в том, что у вас, людей — даже если вам неприятно то, что я причисляю к людям и вас, этнического Черного Эхайна, — один эмоциональный слой. Всего один. А поверх него — тонкая оболочка социальных норм, притворства, игры — словом, всех тех инструментов, которые призваны отделить эмоциональный мир от мира материального. Она тоньше, чем яблочная кожура. И это все. У нас, эхайнов, таких слоев — три. Первый слой — нейтральный, показной; это поведенческие нормы, диктуемые той же общественной моралью, кодексами и уложениями, соблюдать которые обязан всякий эхайн, если только он не возьмет за правило противопоставлять себя обществу и этносу. Второй слой — холодный, слой отчуждения, слой полного самоконтроля. Это своеобразная защита личности эхайна от саморазрушения, которая необходима всегда, как только собственные переживания индивидуума вступают в конфликт со стереотипами поведения первого слоя. На этом уровне эмоций эхайн отрешается от сильных чувств, он становится хладнодушен и созерцателен, ему безразличны родовые и семейные узы, он не ведает любви и ненависти, он утрачивает даже инстинкт самосохранения, который изначально присущ всякому живому существу, он забывает страх смерти. А подо всем этим, на недосягаемой для внешних воздействий глубине — слой горячий, слой подлинных эмоций, кипящих страстей, бурных переживаний, слой нерастраченной любви и невыплаканных слез. Если бы он был снаружи, как у вас, людей, то эмоциональный накал попросту сжег бы разум своего носителя. Это прямой путь к безумию, и только два верхних слоя сохраняют личность от распада. Мы, эхайны, кажемся тем же людям непредсказуемыми, как полярный вулкан — ледяными и безучастными, а спустя мгновение взрывающимися и сметающими все на своем пути. На самом деле всему причиной — три эмоциональных слоя. И когда нормы первого слоя позволяют, а контроль второго слоя ослабевает, то происходит ураганный выброс огня с третьего слоя… Люди кажутся эхайнам неартистичными, их чувства — неглубокими и даже фальшивыми, как неряшливая мазня художника-недоучки на деревянной доске. Даже лучшие ваши лицедеи неспособны сыграть роль так, как задумал ее драматург. Они могут притвориться, сымитировать, воспользоваться какими-то формальными приемами или заменителями реальных эмоций, иероглифами чувств. Но пережить чужое переживание как свое им не под силу. Иное дело эхайны. Были случаи, когда наши актеры умирали на подмостках вместе со своими персонажами, или бутафорское оружие вдруг разило наповал, как настоящий клинок. Потому ваши шпионы раз за разом терпят фиаско, что любой, самый недалекий эхайн сразу увидит фальшь в их поведении, выделит чужаков среди толпы, прочтет знаки опасности в их лицах… Но вам не следует впадать в опасное заблуждение, янрирр, будто все эхайны одинаковы. То, что я сейчас говорил о трех эмоциональных слоях, в полной мере относится к Черным Эхайнам и, в еще большей степени, к нам, Лиловым. У тех же Светлых второй слой истончился настолько, что они едва способны управлять своими чувствами, и оттого прибегают к разного рода контролирующим суррогатам, вроде известных Садов Равновесия, чтобы хоть как-то сообщить своему внутреннему миру слабое подобие гармонии. Я уже не говорю о Красных, чей самоконтроль — вернее, отсутствие такового, — делает их одновременно и жупелом, и посмешищем в глазах цивилизованного мира…
Поймите, янрирр, поймите и прочувствуйте это: настоящий эхайн колеблется, лишь принимая решение или делая выбор. Но потом его ничто уже не остановит на пути. Эхайн не может вдруг сбросить темп, затормозить и, озираясь, задать самому себе вопрос: силы небесные, что же я делаю?! куда несусь? зачем?.. Подобные рефлексии присущи людям, но не эхайнам. Когда эхайн принял решение, он отбрасывает все прочие чувства, которые могут стать веригами, даже если это самые сильные чувства, вроде любви к женщине, сыновнего инстинкта, того же страха смерти. Эхайн — это копье, летящее в цель, холодно, прямо и неотвратимо. Копье, а не бумеранг…
— При чем здесь бумеранг? — вскинулся я.
— Ни при чем, — вскинул брови Гайрон. — Просто метафора. Или я неверно ее употребил? Ведь та нелепая рогулина, что летит вихляясь и норовит вернуться, чтобы поразить своего хозяина в затылок, называется бумерангом, не так ли?
— Вернуться — пожалуй, — сказал я. — Но не для того, чтобы бить кого-то по башке.
Он не понял ни единого моего слова. Но виду не подал, как того и требовал второй слой полного самоконтроля. Или первый, фиг их знает.
— При всем внешнем сходстве эхайн никогда не станет человеком, а человек — эхайном. Различие кроется где-то на генетическом уровне, и менее всего здесь речь идет о хромосомном наборе, хотя и он играет не последнюю роль. Должно быть, мы и впрямь произошли от разных обезьян, как утверждают досужие шутники от теории антропогенеза… Люди — существа общественные. Они не мыслят себя вне окружения себе подобных, и вся их культура настроена на взаимодействие множества индивидуумов. Люди способны оценивать себя лишь посторонними глазами.
Иное дело эхайн. Эхайн всегда один. Один даже в толпе. Его внутренний мир достаточен для самоидентификации, ему не нужно отражение в чужих глазах, чтобы дать оценку самому себе. Три эмоциональных слоя защищают его личность от распада или диффузии. Он сам себе командир и цензор. Все его поступки диктуются его внутренними убеждениями в большей степени, нежели общественными нормами поведения. Вы скажете: уставы, традиции… Если бы эхайны следовали своим уставам буквально, то исчезли бы с полей мироздания прежде, чем вы, люди, о нас узнали. Мы попросту вырезали бы друг дружку. Уставы лишь вводят в формальные рамки энергетику третьего эмоционального слоя, усиливая сопротивляемость слоя первого. Но настоящий эхайн скрывается именно на третьем слое своего «Я». И в этих кипящих безднах никто над ним не властен. Поэтому я говорю: эхайн всегда один. За ним может стоять род, его может окружать семья. Но в глубине своей души эхайн ни в чем этом не нуждается. Он способен противопоставить себя и семье, и роду, и Вселенной. И сделает это без долгих колебаний, если этого потребует его собственный внутренний командир и позволит его собственный внутренний цензор…
22. История Хесуса Карпинтеро
Ранним утром шестого октября я достал из шкафа загодя собранную сумку и ушел из своего дома в Алегрии.
Все мои друзья спали, и некому было меня проводить. Впрочем, никто и не знал, что я ухожу.
…Вчерашний день начался и закончился как обычно. Мы допоздна засиделись на причале, потому что у Горана Татлича была с собой гитара, а на Мурену с Барракудой вдруг снизошел лирический стих, а когда такое происходит, слушать их песни можно бесконечно. И я наконец отважился задать своему лучшему другу Чучо Карпинтеро вопрос, который мучил меня давно, с тех пор, как Консул назвал Исла Инфантиль дель Эсте «детским островом для обычных детей с необычной судьбой»: «Кто ты такой и почему здесь?» Против обыкновения Чучо не стал отлынивать и отшучиваться, а сказал ясно и просто: «Я сын ангела». — «А, понятно», — сказал я, чтобы хоть что-то сказать. «Ничего тебе не понятно, — фыркнул Чучо. — И никому не понятно. И уж меньше всех маме». — «С ними всегда так», — брякнул я. «Ты спросил, я ответил, — надулся было Чучо, но пыжиться у него не было никакого настроения, а расположение ночных светил, напротив, склоняло к откровенности.
— Моя мама — спелеолог. Она изучает пещеры, если ты не знаешь. Дай ей волю, она никогда бы не поднималась на свет божий… Шестнадцать лет назад она с товарищами исследовала вулканические пещеры под островами Малый Алингнак и Большой Алингнак. Это в Чукотском море, к северу от острова Врангеля, если ты не знаешь… Она говорила, что там очень странные пещеры, целый лабиринт. Масса сухих гротов, соединенных запутанными ходами. Однажды вечером все поднялись на поверхность, а она отстала и заблудилась. Особенного беспокойства не было, потому что лучше ее никто этих пещер не знал, и к тому же с ней была постоянная связь. Ей говорили: ну что ты дурачишься, поднимайся скорее, ужин стынет. Она отвечала: сейчас, сейчас, где-то здесь был нужный поворот… В конце концов она выбралась, но была очень напуганной, что на нее совершенно не походило. Вначале все смеялись, а потом сверили часы и перестали смеяться, и поняли, что случилось что-то необычное. Понимаешь, Севито, мама пробыла под землей на три часа дольше, чем ее друзья ждали ее на поверхности.
— Как это? — спросил я осторожно, чтобы не казаться полным тормозом.
— Ее часы забежали вперед на три часа. И все эти три часа у нее не было связи с поверхностью. Три часа она блуждала по лабиринту совершенно одна. В полной тишине. В сумраке. Вот только что с ней говорили, и вдруг все кончилось, как отрезало. Представляешь?
Я представил.
— Вот именно, — сказал Чучо, увидев мое лицо. — Я бы, наверное, там же, не сходя с места, и спятил. А моя мама — нет.
На языке моем вертелось циничное предположение, что сеньора Карпинтеро, судя по всему, и до того была, мягко говоря, не в себе. Но мне хватило такта промямлить что-то вроде:
— У нас с тобой какие-то ненормально храбрые мамы.
— Конечно, она испугалась. Она говорила, что на какое-то время потеряла голову. («Разве? — хмыкнул я про себя. — Когда же она успела ее найти?!») И ей все время казалось, что она там не одна. Она слышала голоса и видела отблески света. Но при этом была совершенно уверена, что это не ее друзья, спустившиеся на выручку.
— Отчего же?
— Голоса были какие-то недобрые, а свет неживой… А потом вдруг включилась связь, и уже знакомый голос закончил фразу, которая оборвалась на полуслове три часа назад.
— И спелеологам хватило ума убраться с этого чертова места с рассветом?
— Вообще-то они поступили иначе. Вызвали подкрепление и технику, чтобы провести тотальное сканирование пещеры. Ничего исключительного там не нашли. Если не считать семейки Посейдонов в гротах под Малым Алингнаком.
— Кто такие Посейдоны?
— Гигантские реликтовые тюлени, их открыли еще в прошлом веке, но до сих пор толком не изучили. Самец, которого там видели, был двадцати метров в длину. Говорят, у Посейдонов очень плохая аура, и это из-за них киты выбрасываются на берег. Но от их лежбища до того места, где потерялась мама, было почти двадцать километров. Только на этом все не кончилось.
— Что было дальше? — спросил я, пряча зевок.
— Мама вернулась домой, и через девять месяцев родился я.
— И впрямь удивительно!
Чучо посмотрел на меня, как на идиота.
— Видишь ли, Севито, — сказал он. — У меня нет отца. В моем хромосомном наборе оба генома — от мамы.
— Так не бывает, — возразил я. — Тогда ты должен был родиться либо уродом, либо девчонкой.
— Надеюсь, тебе хватит здравого смысла не ляпнуть это при учителе Васкесе, — сказал Чучо. — Я имею в виду — про девчонок. У меня с хромосомами все в порядке. Если не считать того, что материнский и отцовский геном зеркальны. Но мои гаметы содержат хромосомы разных типов, отчего я, собственно, и не родился девчонкой.
— И что? — спросил я.
— И все, — хихикнул он.
— Тоже мне — ангел! — сказал я. — Просто среди спелеологов был какой-то чудак с генетическим дефектом…
— Не катит, — сказал Чучо. — Прикол в том, что все спелеологи на Малом и Большом Алингнаках были женщинами.
— Амазонки, — усмехнулся я.
Все было удивительно знакомо. Детям амазонок в Алегрии — самое место.
— Какие-то дикие феминистки хотели раздуть эту историю с моим появлением на свет, — продолжал Чучо. — Гиногенез, все такое… Но мама не такой человек. У нее с этим делом все нормально. Просто ей вечно не хватало времени на то, чтобы найти себе мужчину. Ей и сейчас ни на что не хватает времени.
Я вспомнил сеньору Карпинтеро. Очень красивая, очень энергичная и очень разбросанная. В ее присутствии любой порядок моментально обращался в хаос. Кто знает, может быть, в своих пещерах она преображалась и становилась примером организованности. В миру же она носила мешковатый джинсовый комбинезон, много курила, несмешно шутила и настаивала, чтобы ее называли «сеньорита». По-моему, Чучо немного ее стыдился… Имя ее было Мария Соледад, что означало «одиночество». Тот редкий случай, когда имя вполне к лицу своему владельцу.
— Таких, как мы, называют ангелидами — «детьми ангелов», — закончил Чучо. — Это всего лишь научный термин, чтобы ты не подумал, будто я горжусь своим происхождением. Если разобраться, гордиться тут особенно нечем.
— У каждого своя тайна…
— Никакая это не тайна. В том смысле, что мне незачем это скрывать, как нет резона болтать на каждом углу, что вот, мол, я ангелид. А так — да, конечно, тайна. Загадка природы. Я узнавал — только на Земле нас таких почти сотня. И никто не знает, откуда мы взялись, зачем, и что с нами делать.
Он со вздохом покосился на Барракуду, млевшую на плече Горана.
— Сеньорите инфанте в этом смысле куда проще, — сказал он. — Точно известно, что было в прошлом, и совершенно ясно, что ждет впереди. Хотя, если подумать, такой ясности тоже не очень-то позавидуешь… А у тебя тоже есть какая-то тайна? — спросил он бесхитростно.
Я прошел по Пальмовой аллее, мимо слепых окон, за которыми мои друзья досматривали, наверное, десятый уже сон. Светилось только окно учителя Кальдерона. («Поговорим?» — «В другой раз, учитель…») В конце аллеи меня ждал заранее подготовленный гравитр. Как раз, чтобы поспеть на первый «симург» из Валенсии до Дебрецена.
И от Дебрецена еще полчаса лету.
23. Прощаюсь с пенатами
На поселок Чендешфалу лег первый снежок. Ясно было, что к концу недели он сойдет, а потом снова ляжет, и установится короткое межсезонье, с его слякотью, сыростью и редкими солнечными деньками. И только потом, в самый канун Рождества, придет настоящая зима.
Я мог бы посадить гравитр на задах нашего дома, но не хотел быть сразу замеченным. Тяга к сюрпризам, к внезапным напрыгам всегда была мне присуща, хотя, кажется, не слишком нравилась маме… Поэтому я оставил аппарат на стоянке, а сам двинул пешком, по окраинным улочкам, которые уже не выглядели такими заброшенными, как в те дни, когда все началось. В домах горел свет, по дворам разгуливали собаки, а на снегу виднелись свежие следы. Несколько раз меня приветствовали, и по крайней мере один раз по имени.
Я пересек горбатый мостик над безымянной речкой. Завидев крышу дома, остановился и привел себя в порядок, застегнул все, что должно быть застегнуто, и поправил то, что надлежит. Хотя было ясно, что зоркий мамин глаз все едино найдет изъяны в моем прикиде, на что мне будет незамедлительно и строго указано. Увы, совершенство недостижимо.
На веранде горел свет. Наверное, остался с ночи. Снег на крыльце и земле вокруг дома пестрел звериными следами: пенаты уже завершили утренний обход вверенных им пространств. Где их самих носили черти, можно было только гадать, хотя в поселок путь им был заказан, и даже мостик на моей памяти они пересекали лишь однажды. Чтобы загнать в реку Ивана Петровича Сидорова… Дверь в дом была заперта — мама оставалась верна себе. Я взошел на веранду и приложил ладонь к сенсорной панели — пропел тихую песенку замок, дверь с легким скрипом отворилась.
— Мама, я дома, — негромко сказал я в пустоту.
Никто не ответил. В комнатах не слышно было шевеления, не шуршали ткани, не доносилось шлепание босых ног. Меня не встречали. Сам виноват — следовало изменить своей тактике напрыгов и загодя известить о приезде… Я уронил сумку на пол и сел в кресло возле стола. На стене напротив неспешно разгорелся светильник. Дом оказывал мне запоздалые почести. Он окажет их всякому, кто очутится на моем месте. Я сидел в пустой гостиной и чувствовал себя незваным гостем в собственном доме.
Мне даже не хотелось выяснять, куда исчезла мама. Да мало ли куда! Решила проведать родных. Отправилась в город. Поддалась на уговоры боевых подруг и тряхнула стариной в Звездном Патруле… а то, что ее уговаривали, и не раз, было секретом полишинеля. Она могла вернуться к обеду. Могла отсутствовать неделю, поручив пенатов заботам самого дома. Такое случалось.
Я выпростал из рукава куртки видеобраслет и поднес его к лицу. Оставалось только ввести мамин код, и все стало бы на свои места.
Она бросит родных, плюнет на городские соблазны. Плюнет на Звездный Патруль. Ничто не задержит ее ни на единый миг. Через самое короткое время она будет сидеть рядом со мной, корить за непорядок в одежде и прическе, держать меня за руку и смотреть снизу вверх любящими глазами. И все сделается хорошо, как прежде.
О таком можно только мечтать.
«Эхайн всегда один…»
Я подышал на видеобраслет и смахнул с него воображаемые пылинки.
Нет. Никто не станет никого вызывать. Даже если этот «никто» будет горько сожалеть о своем решении, клясть себя за упрямство и хлюпать носом от жалости к самому себе. Оставим все эти нежности третьему эмоциональному слою. А снаружи будет виден лишь величавый монумент, по возможности из черного мрамора, слегка подернутый инеем хладнодушия.
Я даже позволил себе иронически усмехнуться. Зеркальная столешница безжалостно отразила эту гримасу, кое-чего добавив от себя. Мне захотелось стереть и ее, но тут уж ничего нельзя было поделать. Я сидел и корчил из себя спесивого эхайнского аристократа, хотя земному сопляку внутри меня хотелось реветь от обиды и одиночества.
Скрипнула дверь.
…Если бы это оказалась мама, я начихал бы на свои предрассудки и, сразу после объятий, поцелуев и чаепитий, отправился бы в поселковую часовенку благодарить создателя. В которого никогда не верил, и который, в бесконечной доброте своей и мудрости, незлобиво даровал мне бесхитростное чудо…
Но это были пенаты.
Первой вошла Читралекха, по-хозяйски обнюхала сумку, мои ботинки и только потом ткнулась влажным носом в мою ладонь. Даже на расстоянии было видно, как она постарела, погрузнела, а вблизи глаза ее, когда-то полыхавшие синим безумием берсерка, казались тусклыми и усталыми. Она уже вплотную приблизилась к тому пределу, который был ей отмерен, хотя не выглядела смирившейся… Читралекха попыталась запрыгнуть ко мне на колени, и сорвалась. Так и стояла на задних лапах, по обычаю своему глядя куда-то сквозь меня, и выражение ее физиономии было непривычно сконфуженным.
— Пустяки, — сказал я. — Дай помогу тебе, несносная кошара.
И только тогда старик Фенрис оторвал задницу от порога и, улыбаясь от уха до уха, тяжело переваливаясь и мотая слюнявыми брылами, позволил себе приблизиться и умостить увесистую морду на свободном участке моих колен. Я ощущал его мерное дыхание, слышал стук кошачьего сердца, и суровое эхайнское одиночество на время становилось малопонятной, нелепой и ненужной абстракцией.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ БУМЕРАНГ БРОШЕН
1. Земля — Титанум
— Вы летите один?
— На Титануме меня встретят.
Слегка изумленный взгляд.
— Мы имели в виду… вы желаете одноместную каюту или вас устроит стандартное кресло на второй палубе возле окна?
— Конечно, устроит.
Мне вернули маршрутную карточку и утратили к моей персоне всякий интерес.
«Нгаара, у вас не будет сложностей в перемещениях в самом начале пути. Люди давно уже летают на Титанум как на пикник. Это вполне благоустроенный мир, если пренебречь некоторыми особенностями тамошнего климата».
К тому же, как рассказывала мама, я там уже бывал. В глубоком младенчестве.
Я вскинул сумку на плечо и по ярко освещенному тоннелю прошел на рейсовый трансгал «Энергема 86». По пути, стараясь не возбуждать стороннего внимания, снял видеобраслет и обронил в ближайший стык между декоративными панелями с живой рекламой, изображавшей все прелести путешествия лайнерами компании «Энергема Галактика». Сжег, так сказать, мосты… Поднялся по пандусу на вторую палубу. Зачем они спрашивали, устроит ли меня вторая палуба? Она ничем не отличалась от первой, и была даже чуть просторнее. И что бы я делал в каюте один? Сидел и таращился на голые стены? Или они там не голые, а увешаны какими-нибудь приблудами развлекательного свойства?.. Я нашел свое кресло — оно действительно было возле окна; видеал, имитировавший упомянутое окно, демонстрировал круто уходящую вверх стену космопорта «Магеллан», синевато-серую и ничем не примечательную, а также кусочек земного шара в светящемся ореоле атмосферы. Разглядеть очертания материков было положительно невозможно. Наверное, существовали люди, которых от этого зрелища укачивало. Только зачем им, с такой бедой, лететь на Титанум?.. В соседнем кресле устроился мрачный молодой человек, едва ли намного старше меня, надвинул на лицо непроницаемые очки-мовид и тут же уснул.
«Нгаара, если вы отважились пуститься в путь, не позволяйте колебаниям овладеть вашим разумом прежде, чем завершите странствие. Это тот случай, когда не следует думать, а нужно лишь действовать, иначе говоря — двигаться вперед. Только вперед, не отклоняясь. Словно брошенное копье. Копье не думает о цели».
На том спасибо, что он не употребил метафору бумеранга, как в прошлый раз.
Я впервые покидал Землю по своей воле. И уж тем более отправлялся в столь длительный поход. Ничего удивительного, что я дергался. Но, надо отдать должное Гайрону, его формула трех эмоциональных слоев сильно выручала. Где-то там, в самой глубине меня, перепуганный подросток хныкал и просился домой, к мамочке. Пытался задавать резонные вопросы… зачем?.. куда?.. что ты хочешь доказать и кому?.. Но его причитания глохли уже где-то во втором слое и долетали до первого жалкими отголосками. Поэтому я казался безупречно спокойным. По крайней мере, себе самому.
Я закрыл глаза. Вселенная дрогнула. Голос информатора сообщил о входе в экзометрию. Для меня этот термин был пустым звуком, хотя мама в своих редких откровениях поминала его через раз — вошли в экзометрию… вышли из экзометрии… вывернулись в субсвет… «Копье брошено, — думал я. — Или все же бумеранг?» Когда я разлепил веки, в окне, вновь ставшем обычным видеалом, бежала лента новостей. Ранний снегопад на Урале, дороги занесены, все встали на лыжи… Новые достижения биотехнологии в разведении спальных кошек… Европейский агротехнический совет выводит из сельскохозяйственного оборота три тысячи гектаров земли сроком на восемьдесят лет… Торжественный пуск в эксплуатацию энергодобывающей станции в Курило-Камчатском глубоководном желобе был омрачен отсутствием пузырьков в бокалах с шампанским… Визит делегации Сфазианского Экспонаториума в Тауматеку, что в славном городе Рио-де-Жанейро, очевидно, связан, с некоторыми эксклюзивными экспонатами последней — в частности, до сих пор не идентифицированными обломками звездолета, найденными на Хароне… В научных кругах всерьез обсуждается план масштабной исследовательской экспедиции на Мормолику, более известную как Морра, одиннадцатую достоверно установленную планету Солнечной системы, где, как известно, не ступала нога человека вот уже более ста лет, и это сообщение находится в тесной связи с предыдущим… Выступление Озмы на ежегодном фестивале классической музыки обязательно состоится, как бы ни складывалась политическая ситуация на Эхлиамаре… Я покосился на соседа. Тот спал, уронив голову на грудь. Я погасил видеал и тоже пытался задремать, но тут подошла стюардесса и предложила какие-то фирменные транквилизаторы, чем совершенно отбила всякую охоту ко сну. Пришлось вставать и бродить по палубам в поисках развлечений. Почти все пассажиры благоразумно дрыхли, превратив свои кресла в белые непроницаемые коконы. Когда я вернулся, то обнаружил, что закуклился и мой сосед. Наверное, здесь только я был новичком и потому не знал, куда себя деть. Самым разумным с моей стороны было поступить таким же образом: спрятаться в коконе, слопать транквилизатор и вырубиться до самого прибытия. Но перспектива тупо продрыхнуть свое первое межзвездное путешествие казалась мне неправильной, ненатуральной. Я снова просмотрел ленту новостей, пока не онемела задница, снова встал и убрел в пустой бар, где не было никого, кроме печального бармена и парочки свободных от дежурства стюардесс. «Первый полет?» — спросила одна из девушек понимающе. «Это всегда так, — сказала другая. — Не находишь себе места, словно в твоей жизни действительно совершается что-то важное. А потом привыкаешь. В конце концов, это всего лишь перемещение из пункта А в пункт Б. Расстояние роли не играет». Я промолчал. В маршруте, что составлен был Гайроном, этих пунктов предусматривалась еще чертова уйма. Желания поболтать на лице моем написано не было, и стюардессы утратили ко мне интерес. Я спросил у бармена фресамадуру, а он спросил у меня, что это такое. Пришлось довольствоваться каким-то маракуйя-джусом. Бармен полюбопытствовал, не играю ли я в баскетбол. Что такое фенестра, он тоже не знал: В спортзале на третьей палубе не было ни души, а в бассейне не было воды. Я наступил на горло собственной песне, воротился в свое кресло и нажал на сенсор с изображением спящего человечка. Внутри кокона было мягко, уютно и вовсе не так тесно, как представлялось. Напротив лица имелась сенсорная панель, сулившая нехитрые удовольствия, вроде той же ленты новостей, транквилизаторов волнового, перорального либо ингаляционного применения на выбор, или вызова стюардессы с прохладительными напитками. Я стащил с себя одежду и с наслаждением потянулся — пятки уперлись в дальнюю стенку. «Нет в мире совершенства», — подумал я и тут же уснул. Должно быть, в моем организме сработали какие-то собственные предохранители от нервных перегрузок. Никакие там «Зеленые лучи» или «Солнца в тумане» попросту не понадобились.
2. Титанум. Космопорт Рагнахокн
— Внимание! Ввиду того, что космопорт Титанум Главный временно закрыт для приема пассажирских кораблей…
— Да знаем уж, знаем, — проворчал мой мрачный сосед, устраиваясь с ногами в своем кресле.
— …трансгалактический лайнер «Энергема 86» совершит посадку на внутреннем космодроме Рагнахокн в планирующем режиме. Просьба всем пассажирам занять свои места и временно воздержаться от излишних перемещений по палубам лайнера во избежание неприятных ощущений. Экипаж лайнера от имени транспортной компании «Энергема Галактика» приносит вам извинения за причиненные неудобства.
— А что у них с космопортом? — осторожно спросил я. — Нападение межзвездных агрессоров?
— Если бы, — усмехнулся сосед. — Он уже пять лет временно закрыт… — Тут его будто прорвало: — Предыдущая администрация затеяла реконструкцию, чтобы обслуживать не только трансгалы, но и тяжелые грузовые танкеры. С одной стороны, понятно: когда приходит пятимильный, под завязку нагруженный зверь откуда-нибудь с Гледрофидда, на орбите начинается такая катавасия, что уму невообразимо. Особенно достается пассажирским рейсам, которые просто некому принимать. Естественным решением становится пристыковать танкер куда-нибудь к грузовому причалу и там потихоньку растаскивать или, наоборот, заполнять, никому не портя нервы… С другой стороны, через пару лет активного строительства вдруг заканчиваются ресурсы, и возникает патовая ситуация. Чтобы доставить грузы, нужно как-то принимать танкеры, а принимать их особенно негде, потому что космопорт выведен из строя, а на планету, в отличие от трансгалов, танкеры не садятся по определению. Администрацию, понятное дело, по шеям и в шею… только никому от этого легче пока не стало.
Он помолчал, переведя дух, и закончил на печальной ноте:
— Отчего я, профессиональный космический монтажник, и вынужден мотаться до Земли и обратно домой, как пчелка между ульями. Мне говорят: проси чего хочешь, только чтобы к концу года космопорт работал хотя бы в прежнем режиме, на пассажирские рейсы. А я даже не знаю, что и просить, когда ни в чем не отказывают. Я руками привык работать, а не людьми управлять. А где в Галактике найти умелого менеджера, который не только свободен, а еще и согласен лететь на Титанум? С кем ни поговоришь, все смеются и не верят, что у нас такой бардак. Ты, говорят, наверное, прикалываешься над занятыми людьми, вы же там уже вторую сотню лет разменяли, ты еще, говорят, скажи, что на Земле «Магеллан» закрывают на капремонт… Эх! — он горестно махнул рукой и набросил на глаза темные очки.
— Внимание! — вновь зазвучал хрустальный голос автоинформатора. — Трансгалактический лайнер «Энергема 86» входит в верхние слои атмосферы планеты Титанум. Возможны временные нарушения пространственной ориентации палуб. Приносим извинения…
Ощущения, что и говорить, были не самые приятные. Временами я вдруг переставал ощущать твердую опору под ногами. Или вдруг мозги внезапно обнаруживали свое присутствие в голове, сами собой дергаясь куда-то вверх. Я огляделся: никто не выглядел особенно озабоченным, даже глубокие старики. Что могло понадобиться таким почтенным персонам в этом захолустье? Видеал на стене снова ожил: если верить картинке, за бортом трансгала, накрытое темным дымчатым пологом, расстилалось ватное, неряшливо взбитое одеяло без конца и края.
— Ничего особенного, — сказал сосед. — Вот подожди, пробьем облачный покров, увидишь, какая красота.
Ждать обещанных красот пришлось почти час. Лайнер снижался, покачиваясь с боку на бок, как на волнах. Одеяло понемногу распадалось на отдельные клочья, в просветах между которыми видна была скучно-серая поверхность Титанума. Монтажник-профи сообщил, что эта серость есть не что иное, как Кронический океан, и тут же осведомился, не напрягает ли меня эта жуткая тавтология. Я ответил, что не напрягает, и что никакой особенной тавтологии я не заметил. «Ну как же», — сказал он и пояснил: эта часть водной оболочки Титанума получила свое название в честь мифического царя титанов Крона. Я пожал плечами. Коллизия в том, продолжал сосед, что у Крона был брат-титан по имени Океан, каковое обстоятельство превращает словосочетание «Кронический океан» в сущую бессмыслицу. Я снова пожал плечами и сказал, что уж как-нибудь это стерплю. «Первопроходцы Титанума были люди огромного мужества и энтузиазма, — вздохнул мой собеседник. — Но не самой блестящей эрудиции, увы». И поведал мне историю о том, как Крон при помощи серпа лишил собственного отца детородной мощи, а потом жрал собственных детей, прозорливо ожидая от них той же выплаты сыновнего долга. «Есть даже такая картина», — сказал он. «Гойя, — подтвердил я, — Сатурн, пожирающий своих детей. Я видел ее в музее Прадо». О том, что после такой встречи с прекрасным я дурно спал всю ночь, было решено благоразумно умолчать. «О! Мы над побережьем моря Тельхинов», — оживился сосед. И немедленно рассказал мне, кто такие тельхины и какое отношение имеют к мифологии.
Космопорт «Рагнахокн-пассажирский» показался мне тесным и таким же серым, как и весь этот мир. Здесь вообще повсюду было слишком много старого металла и камня. Моего спутника встречали. «Ну как?» — «Хреново», — отвечал он. «Ну и плюнь. Нам уже обещали помощь». — «Кто?!» — «Ты не поверишь». — «Неужели…» — «Бери круче. Виавы, причем на самом высоком уровне». — «Не понимаю. Почему именно виавы?!» — «Ну, захотелось им!»
(…Антония рассказывала мне про виавов. Одна из древнейших галактических рас, чьи представители внешне ничем не отличались от людей белой расы, особенно в глазах каких-нибудь рептилоидов, между тем, имела славу легких на подъем путешественников и авантюристов. Ни одно рискованное предприятие межзвездного масштаба не обходилось без них, а зачастую ими же и было затеяно. Дядя Костя потом уточнил: возможно, таким экзотическим способом они боролись с неминуемым вырождением и, нужно сказать, успешно. Особенно виавы симпатизировали людям, в которых находили не только собственное отражение, но и родство душ. Со вступлением человечества в Галактическое Братство две генетически различные расы без большой спешки, но вполне уверенно двигались к беспрецедентной ассимиляции культур. Виавы давно жили среди людей, люди пытались жить среди виавов. У первых это получалось немного лучше…)
Мой сосед уже не выглядел сосудом мировой скорби. Еще минуту назад он обещал, что не оставит меня своим вниманием, очевидно — в благодарность за участие (хотя я не прилагал ни малейших усилий и вообще держал себя индифферентно!), но теперь обо мне было забыто в единый миг. Меня это вполне устраивало.
«Нгаара, на Титануме вам не придется задерживаться. Тому порукой удачное сочетание расписаний рейсов, которое дает вам счастливый шанс уйти от возможного преследования. Впрочем, вряд ли вас спохватятся раньше, чем через трое суток. Люди беспечны и потому склонны подолгу не тревожиться о своих ближних. За этот срок вы должны успеть затеряться в Галактике, как это ловко проделала некогда ваша матушка».
Я подошел к дежурному диспетчеру и спросил:
— Простите, посадка на рейс до Арфионии уже объявлена?
Диспетчер, довольно немолодой титанид с нездоровым — на мой взгляд — землистым цветом кожи, что контрастировало с его ослепительной рубашкой и форменным кителем без единой складочки, недоуменно вскинул брови:
— Боюсь, что не смогу вам помочь, молодой человек. Лайнер «Энергема 12», выполняющий рейс Титанум — Арфиония, стартовал тридцать две минуты назад. Полагаю, они уже вошли в экзометрию.
«Нгаара, вам придется мобилизовать весь свой актерский талант. Если вы никогда не лицедействовали и не лгали своим близким, сейчас самое время попрактиковаться».
— О нет! — простонал я сквозь зубы и зажмурился. — Я так и знал, так и знал, что все пойдет через пень-колоду!..
Я выронил сумку на пол и, понурившись, побрел куда глаза глядят.
— Юноша, подождите!
Старик покинул свой пост и спешил ко мне со стаканом минералки.
— Успокойтесь, выпейте воды. В конце концов, ничего страшного не произошло, следующий рейс через пять дней…
— Пять дней! — взвыл я, едва не захлебнувшись.
— Да что случилось, наконец?!
— Ведь я должен был догнать их еще на Земле, должен… Ну в крайнем случае — здесь. А теперь они летят на Арфио-нию, а я должен торчать в этой… в этом… битых пять дней… целую вечность!.. где я их потом найду?!
— Что за группа?
«Нгаара, для любого человека вы выглядите старше своих лет. В особенности для титанида, потому что на Титануме иные возрастные градации, чем на Земле. Там, если говорить о социальной ответственности, люди взрослеют раньше. Будет прекрасно, если вам удастся создать вокруг себя нервозную атмосферу и совершенно дезориентировать персонал космопорта, который будет иметь с вами дело».
— Вся группа летит с Гранд-Лисса, а я специально вызван с Конкорда, из Института планетарного орогенеза. Мы должны были встретиться на Земле… или здесь… Они не смогут ждать меня на Арфионии пять дней, там начинается сезон барстеров, и они уйдут в горы без меня.
— Вы сможете догнать их на гравитре, — без большой уверенности предположил диспетчер.
— На Арфионии — гравитры — не летают, — с отчаянием продекламировал я. — В особенности в сезон барстеров!
Это была истинная правда. Воздушные потоки, которые там по праву назывались «реками», играли любым воздушным судном как пушинкой. В долинах и лугах Арфионии, по берегам полноводных рек текла обычная, пусть и не слишком кипучая, жизнь, а в затянутых свинцовыми тучами небесах шла непрестанная война стихий. Когда над этим миром, условно относимым к «голубому ряду», гуляли барстеры — ветры ураганной силы, возникавшие из ниоткуда и точно так же улетавшие в никуда, — немногочисленные поселенцы запирались в своих жилищах, устроенных прямо в земле или в пещерах, а кто страдал клаустрофобией, загодя откочевывал в горы.
Между тем, вокруг меня уже собирались люди. Кто-то высказывал сочувствие, кто-то предлагал помощь. Например, устроить мне экскурсию по историческим местам Титанума. Или тому подобный бред.
«Нгаара, вряд ли вам удастся быть совершенно незаметным. Вы рослый, вы непохожи на окружающих, и вы не профессионал конспирации. Но вы ни в коем случае не должны привлекать к себе внимания более необходимого. Потому что скоро вас станут искать, и тем легче найдут, чем больше вы оставите о себе напоминаний. Вы же не хотите быть найденным прежде, чем сами того пожелаете?»
— Не надо мне экскурсий, — сказал я мрачно. — Просто помогите мне улететь на Арфионию, вот и все…
— «Бандикут», — проронил кто-то.
Слово было сказано.
Диспетчер сморщился, как будто хлебнул неразбавленного лимонного сока.
— Это плохая мысль, — сказал он. — Приличный молодой человек. Ученый с Конкорда. Ему не нужны неприятности. Ему нужно только догнать своих.
— Какие неприятности? — возмутился кто-то. — Понаслушались этих баек… да они, если угодно, сами их о себе распространяют в рекламных целях! Это такой же мир Федерации, как и Титанум, как Земля, как та же Арфиония… «Бандикут» улетает через час. Завтра юноша будет на месте. Ему даже не понадобится покидать космопорт, который там, в самом растленном уголке Галактики, вы не поверите, работает! В то время как здесь…
— Все равно, — сказал диспетчер. — Мне эта идея не нравится. У меня внуки, как этот юный ученый с Конкорда. И я ни за что бы не отпустил их…
— Что такое «Бандикут»? — спросил я тусклым голосом.
— Это чартерный галатрамп, — сказал диспетчер. — Как следует из названия, он выполняет нерегулярные рейсы по маршруту Титанум — Тайкун. Тайкун, если вы не знаете…
— Я бывал на Тайкуне, — сказал я.
— Как, уже? — растерянно спросил диспетчер.
— Угу, — кивнул я. — Можно сказать, я там родился.
— Тогда это меняет дело, — проронил он, хотя в его голосе не слышно было энтузиазма. — Что ж, пойдемте…
Диспетчер вернулся на свой пост, а я — к своей сумке.
— «Бандикут», — сказал он веско, — не такое комфортабельное судно, как лайнеры компании «Энергема Галактика». Подозреваю, что там вы не сможете даже уснуть по-человечески. Там нет кают…
— Не нужна мне каюта!
— …лететь же придется не менее двенадцати часов. — Диспетчер выждал, не задам ли я какой-нибудь вопрос, и, не дождавшись, сделал это сам: — Вы могли бы удивиться, что так скоро до такой далекой планеты, как Тайкун. Если бы компания «Энергема Галактика» имела постоянное сообщение с Тайкуном, ординарный рейсовый лайнер совершил бы аналогичное путешествие минимально за семь дней. Но «Бандикут» — легкое скоростное судно, менее всего приспособленное для комфортабельного времяпрепровождения. Вы готовы к такому испытанию?
— Я готовлюсь идти в горы Арфионии в сезон барстеров, — буркнул я, и сам уже почти верил в собственную ложь.
Никогда в жизни не доводилось мне так обильно и вдохновенно врать, как сегодня. Да еще стараться при этом не краснеть и не бегать глазами!..
— Да, конечно, — сказал диспетчер и вздохнул. — Я зарезервировал вам самое лучшее место, какое только оставалось. Мой вам совет: ни с кем не заговаривайте, ничего не предпринимайте. Просто сидите в своем уголке и думайте о приятном. Да хотя бы о тех же барстерах.
— Неужели все так плохо? — удивился я.
— Постарайтесь не покидать территорию орбитального космопорта, — продолжал он свои рацеи. — Такому приличному молодому человеку это совершенно ни к чему… Если верить информации тамошнего диспетчерского когитра, завтра вечером ожидается рейс на Арфионию. Очень надеюсь, что он не вводит нас с вами в заблуждение… А теперь поспешите. Третий восточный тоннель. Хотя на вашем месте я бы задержался на пять дней. У нас здесь есть на что посмотреть и совершенно нечего опасаться.
Я поблагодарил, забрал маршрутную карточку и вприпрыжку отправился в сторону третьего восточного тоннеля. Обернувшись на ходу, я увидел, что пожилой диспетчер стоит навытяжку и скорбно глядит мне вслед, будто провожает в последний путь.
Мне вдруг пришло в голову, что он, может быть, не так уж и далек от истины.
3. Титанум — Тайкун
Внутри галатрамп «Бандикут» напоминал консервную банку, а на что он походил снаружи, можно было только гадать. Пассажиры в своих креслах располагались по окружности означенной банки лицом внутрь, в качестве развлечения рассматривая свои глумливо искаженные физиономии на зеркальной поверхности трубы, поднимавшейся снизу, из грузовых отсеков, и терявшейся среди непонятного назначения ферм под сферическим потолком. Перед самым стартом в означенной поверхности образовалась овальная дверь, из-за которой появился свирепого вида hombre в мятом комбинезоне и еще более мятой кепке, молча окинул мрачным взором внутренность салона и так же молча скрылся. Возможно, он всех пересчитал по головам.
Я пристроил сумку под сиденье и вытянул ноги в проход. Было тесно и жестко. Кресла по большей части пустовали. Напротив меня сидела маленькая сестра-тифанитка с живым обезьяньим личиком, в черной пелерине со стоячим белым воротничком, в черном же беретике с помпоном, на коленях у нее лежал толстый мемограф в черном, в тон одеянию, корпусе, и можно было поручиться, что на его экране начертаны были письмена «Речений Марии-Тифании». Мама рассказывала: за все время пребывания во Вселенском приюте она не видела, чтобы кто-то там читал иное… В некотором отдалении от тифанитки размещалась странноватая компания: три колоритных типа неопределенного возраста, которые смахивали на Джорджа Мерри и его шайку как раз перед вручением «черной метки» Долговязому Джону Сильверу,[32] то есть держались вызывающе и в то же время без большой уверенности, а также молодой мужчина, одетый подчеркнуто экстравагантно — клетчатый сюртук, белоснежная сорочка, у шеи перехваченная ядовито-зеленым платком, кремовые брюки в дудочку, не хватало только шляпы-цилиндра! — которого я сразу же мысленно окрестил «Франтом». Несмотря на то, что он годился любому из пиратов в сыновья, в этом сообществе он явно был за главного. Едва только пол галатрампа знакомо дрогнул и на мгновение ушел из-под ног (автоинформатор никак на это событие не отреагировал; вполне возможно, его и не было вовсе), как пираты воспрянули духом, будто с их плеч разом свалился некий тяжкий гнет, вылезли из кресел и, устроившись прямо на полу, шумно затеяли какую-то азартную игру с тремя наборами костей и пластиковыми картами. Тифанитка взирала на них с неодобрением. Франт адресовал ей извиняющуюся улыбку: мол, что с них взять — дикари-с… Далее тихо, не привлекая к себе никакого внимания, располагались: молодая пара, едва ли намного старше меня, юнец, в джинсовом комбинезоне поверх толстого серого свитера, с не очень чистыми русыми локонами до плеч, имел на щеках неаккуратную редкую поросль, на длинном носу — уродливое старинное пенсне и выглядел малопривлекательно, а его младая спутница, в бесформенном пестром балахоне, была беременна, что сообщало ее лицу особенное, просветленное выражение и делало ее похожей на маленькую неопрятную мадонну; два крупных мужика, лица обветренны, жесты скупы, голоса негромки — эти летели на Тайкун никак не отдыхать; кто же находился по ту сторону зеркальной стены, я не видел.
«Двенадцать часов, — подумал я. — Сидеть и таращиться на одни и те же лица напротив… Сдохнуть можно». Моя затея нравилась мне все меньше. Очень скоро я отсидел зад и принялся ворочаться в кресле, пытаясь найти себе максимально удобное положение. Сон не шел. Временами пол начинал нервно вибрировать, словно галатрамп готовился вот-вот развалиться прямо в экзометрии. Однако же никто из пассажиров не проявлял озабоченности; вскоре и я привык к этим внезапным взбрыкам космического судна. Конечно, это был не лайнер. Грузовая посудина, по чьему-то капризу наспех переоборудованная под пассажирские перевозки. Кто бы мог подумать, что такое возможно?.. Судя по всему, за время странствия мне предстояло узнать об этом мире очень много нового.
Юная пара спала, переплетя конечности и чуть ли даже не шеи. Работяги переговаривались — и где они только брали темы? Пираты дулись в свою игру, временами производя слишком много шума. Никто не обращал на них внимания, даже тифанитка. Я опустил на глаза припасенный загодя мовид и с головой окунулся в любимую музыку. Сегодня это был «Опус № 29» Лантерна. Ничего нет лучше, когда хочешь отгородиться барьером от достающих тебя переживаний и забот. Или когда донимает бессонница.
Наверное, я и уснул на какое-то время. А проснулся оттого, что «пираты» принялись орать, как резаные, иногда даже заглушая мою музыку. Душевная гармония была нарушена.
Я сдвинул мовид на лоб и неожиданно для себя рявкнул:
— Прекратите! Как вам не стыдно? Разве вы здесь одни?!
В единое мгновение салон галатрампа обратился в обезьянник.
«Пираты» орали друг на дружку и на меня, подступая с невнятными угрозами. Не скажу, чтобы меня это пугало: их внезапная агрессия выглядела скорее комично, нежели устрашающе. Маленькая мадонна расхныкалась, а затем и вовсе ударилась в полновесную истерику, а юнец принялся шумно ее успокаивать, поглядывая в мою сторону с большим неудовольствием. Тифанитка отложила свое чтение, зажмурилась и вдруг запела высоким пронзительным голосом какой-то дикий псалом. Работяги гоготали, хлопая друг друга по плечам и оживленно переглядываясь. Франт, до той поры дремавший, сплетя руки на груди и скрестив ноги в блестящих старомодных туфлях со шнурками, спросонья не мог ничего понять и только затравленно озирался. Происходящее сильно походило на сумасшедший дом, как его описывали классики двадцатого или, там, двадцать первого века. Сейчас самое время было явиться зловещим санитарам в нечистых белых халатах и навтыкать всем ядовитых иголок в мягкие места.
Вместо этого из-за овальной двери в зеркальной трубе вылез hombre в жеваной кепке и рыкнул коротко и свирепо:
— Баста.
«И шайка вся сокрылась вдруг». Тифанитка оборвала свой визг на полуслове, достала из сумки огромный мохнатый клубок серой шерсти и принялась нервно вязать мягкими бесшумными спицами из китового, кажется, уса — в точности такие же есть у моей бабушки Инги. Мадонна, пошмыгав носом, снова пристроилась на плече у своего спутника. Работяги утратили интерес к происходящему и погрузились в свои бесконечные беседы. Пираты разбрелись по креслам и сидели там нахохлясь и поглядывая вокруг себя с обидой, как дети, которых отлучили от любимых игрушек. Мне было неуютно и немного стыдно, словно я был виноват в этом внезапно вспыхнувшем безобразии. И было совершенно ясно, что теперь-то уж мне точно не уснуть без транквилизаторов. Но рассчитывать на то, что явится красивая стюардесса и решит все проблемы, здесь не приходилось… Пока я терзался и разнообразно переживал свою оплошность, франт неторопливо пересек салон и элегантно опустился в кресло по соседству.
— Вы с Земли, — не то спросил, не то констатировал он.
— Угу, — пробурчал я. — Наверное, было нелегко догадаться?
— Здесь все, кроме вас и этих маргиналов, — он кивнул в сторону пиратов, — коренные тайкунеры. У тайкунеров нет обычая вмешиваться в дела посторонних до тех пор, пока не назревает угроза твоему личному пространству. Если этого не произошло, означенные посторонние могут невозбранно творить что захотят.
— Даже вести себя как животные?
— Даже так, — печально усмехнулся франт. — К слову, обычно тайкунеры не склонны к бурным проявлениям эмоций, если речь не идет о спорте, азартных играх или увеселительных массовых мероприятиях.
— То-то я смотрю…
— Эти трое, которых я сопровождаю, а правильнее сказать — конвоирую, бывшие плоддеры. Они еще не до конца адаптировались к нормальной жизни, и поэтому их реакции со стороны могут показаться неадекватными.
— Среди близких мне людей есть бывшие плоддеры, — проворчал я. — Не замечал за ними никаких странностей.
— Есть плоддеры, — сказал франт, — а есть «дикие плоддеры». Первые таким необычным способом лечат раны собственной совести. А вторые противопоставляют себя обществу и попросту ищут неприятностей на свои задницы, наивно полагая, что остальному человечеству от этого станет хуже. Долго объяснять… Наша троица сочла за благо сменить социальный статус и попытать счастья в качестве законопослушных граждан. Честь им за это и хвала. Но, как видите, путь им предстоит нелегкий. И для всех будет проще, если они сделают первые шаги на Тайкуне. — Он помолчал, испытующе меня разглядывая, а затем вдруг спросил: — Вы оценили, что я не задаю вам никаких вопросов и даже не спешу представиться?
— Честно говоря, я не придал этому значения.
— Уж эти мне земляне, — хмыкнул он. — Настоящий тайкунер никогда не назовет свое имя, пока его об этом не спросят.
— А настоящий вампир никогда не войдет в дом без приглашения, — сказал я в тон ему.
— Я настоящий тайкунер, — сказал франт. — Коль скоро вас не интересует моя персона…
— Ну, в конце концов, как ваше имя? — осведомился я.
— Финтан Флеминг, доктор адаптивной психологии, к вашим услугам, — объявил он, как мне показалось, на весь салон. — Настоящий тайкунер и настоящий психолог. Кому еще доверили бы сопровождать эту компанию к их новому месту пребывания? Разве что наряду Звездного Патруля, но для патрульников это чересчур тривиальная задачка. — Он выждал, очевидно рассчитывая услышать мое имя, но мне не хотелось называть себя, да и Гайрон не рекомендовал оставлять о себе следов больше, чем необходимо, а выдумывать из головы какого-нибудь «Джона Пупкина» было стыдно. Поэтому я с привычной уже легкостью прикинулся шлангом, тупо глядя ему в глаза. И он вынужден был витийствовать далее: — То, что вы сейчас имели редкое удовольствие наблюдать, в медицине называется «протестный психоз тайкунеров» или «синдром дискордии». Вообще-то Дискордия — это богиня раздора в римском пантеоне, но в нашем случае это лишь медицинский термин. Дискордия — это разновидность всем хорошо известного адаптационного синдрома, а по сути — форма легкого психического расстройства, присущая практически всем тайкунерам, получившим подобающее воспитание внутри своего социума. Мы рождаемся невинными младенцами, чей рассудок не омрачен никакими недугами, а затем у всех нас понемногу едет крыша.
— Даже у вас? — спросил я недоверчиво.
— Даже у меня, — кивнул он серьезно. — Но в силу своей профессии я способен относиться к дискордии критически. Я знаю ее симптомы и могу подавлять их проявление. Мне тоже нестерпимо хочется вести себя подобно ужаленному павиану, но я со всей ясностью вижу, как безобразно буду выглядеть при этом со стороны, и это здоровое смущение позволяет с легкостью купировать назревающий приступ. Видите ли… — он снова обозначил паузу, в расчете на то, что я заполню ее своим именем или каким-то звукосочетанием, с которым он мог бы ко мне обращаться, — …друг мой, у всех тайкунеров с младых ногтей чрезвычайно обострено чувство этнической самодостаточности. Как и у всех юных рас, переживающих пубертатный период этногенеза. Все дети таковы: им хочется поскорее стать взрослыми и совершать взрослые поступки, хотя ни их организм, ни их интеллект к этому еще не готовы. Не наступила еще подобающая зрелость, ни физическая, ни нравственная, вы понимаете, о чем я?
Я понимал, и еще как! И мне стоило больших усилий не подавать о том виду, а прилежно разыгрывать из себя здоровенного туповатого простофилю с Земли.
— Тайкун — не самый благополучный мир, — продолжал Флеминг. — Континенты Эофера и Октилея обитаемы и густо заселены лишь в прибрежных зонах с субтропическим климатом, а что творится в центральных областях, знают только старатели и авантюристы, к которым вскорости наверняка примкнут наши отставные плоддеры. Есть еще экваториальный архипелаг Лассеканта, где плотность населения равна одному человеку на восемьдесят квадратных миль, но по причине нулевой инфраструктуры и сезонной недосягаемости там селятся лишь законченные анахореты и мизантропы. Раз в год, чаще просто не получается, там высаживается толпа волонтеров и тифанитов, снабжает поселенцев плодами цивилизации, восстанавливает коммуникации, лечит болячки и хоронит покойников. Конечно, в экстренных случаях туда можно забросить десант с орбиты Тайкуна, но не было случая, чтобы кто-то обратился за помощью даже со смертного одра…
— Похоже, вам нравятся собственные неприятности, — ввернул я.
— Это главная особенность всякого тайкунера, — с шутовской гордостью объявил франт. — С материнским молоком мы впитываем обиду на Землю и стойкое нежелание попросить помощи. Наш девиз — «Нам ничего не нужно от Большой Тетушки».
— Кто такая «Большая Тетушка»?
— Так мы называем Землю. Видите ли… друг мой… никто не желает вспоминать историю первопоселенцев, которые прибыли на пяти тяжелых кораблях с Земли со своим скарбом и домочадцами и колонизировали этот мир. Да, был трагический эпизод, гимн истинно человеческому героизму пополам с истинно человеческим же раздолбайством. Вы, наверное, помните? — спросил он с надеждой.
— Ну, как же, — сказал я с фальшивым энтузиазмом. — Это проходят по истории человечества…
Разумеется, Флеминг раскусил мою ложь.
— …но так случилось, что эту лекцию вы прогуляли с девушкой, — сказал он сочувственно. — Обычный тайкунер был бы обижен до печенок, но я доктор психологии и склонен к самоанализу в той же мере, как и к самоиронии. Речь идет о семилетнем обрыве связи между Тайкуном и Землей, Темная история, обе стороны долго винили друг дружку, потом сошлись на том, что лучше сделать вид, будто так и задумывалось изначально. Кто-то из поселенцев в пионерском угаре бухнул на Землю… не сообщение, не ультиматум… так, черт знает что, но каким-то образом заверенное личным кодом президента колонии. Мол, так и так, тарелка о тарелку, ввиду особых обстоятельств дальнейшие контакты с материнской планетой представляются невозможными до особого уведомления, иначе всем будет плохо. На связь не выходить, на поверхность не ступать, соглядатаев не подсылать.
— Как в приключенческом романе, — сказал я.
— Вот именно, — поддакнул Флеминг. — Только в очень плохом. Потому что Земля, что ни говори, проявила себя не с лучшей стороны. Вместо того, чтобы высадить спасателей и эвакуировать шизофреника… кстати, виновником инцидента был психически нездоровый человек, которому вовремя не оказали медицинской помощи. Что там ему пригрезилось, я не знаю, но, как всякая шизоидная личность, он был исключительно упорным в своих заблуждениях и крайне изобретательным. В результате Земля оставила поселенцев наедине с самими собой, а те, в свою очередь, были искусно введены в заблуждение относительно намерений метрополии… идиотизм ситуации крепчал день ото дня и достиг своего апогея к седьмому году, когда упомянутый господин был уже в одном шаге от руководства колонией, но, на счастье, сделался практически невменяем, одержим призраками средь бела дня, и его нездоровье стало очевидным для всех. Тут как раз пришло время и для Земли, которая наконец-то встрепенулась и обозначила свое присутствие в колонии спасательной миссией ордена святой Марии-Тифании. Тифанитам у нас понравилось, и теперь их с Тайкуна поленом не вышибешь.
— Подождите, — сказал я недоверчиво. — Неужели целых семь лет никто не удосужился выяснить, что происходит в колонии?
— Ну, не совсем, — промолвил Флеминг. — Какой-то общий мониторинг всегда оставался. На орбите находилась система спутников-наблюдателей, следившая за развитием колонии. На планету высаживались какие-то секретные инспекции, не вступавшие в контакт с поселенцами, после чего в соответствующие инстанции поступал доклад: мол, все не так уж плохо, эпидемий нет, экономика развивается, люди живы, в большинстве своем здоровы, выглядят неплохо… Но тайкунеры этого не знали и на свою бывшую родину обиделись.
— Но ведь в конце концов им объяснили?
— Объяснили. Но к тому моменту была уже пройдена некая точка невозвращения. Тайкунеры сочли, что в состоянии обойтись без материнской опеки, Поэтому в нашем обществе принято считать Землю не матерью, а теткой. Конечно, мы не готовы стать автономной культурой, но это наша стратегическая цель.
— А причем здесь этот ваш… синдром?
— Если угодно, это наша плата за самостоятельность. Мы изо всех сил стараемся не походить на Большую Тетушку. Иногда это стремление доходит до абсурда. Словно все тайкунеры ведут родословную от того шизофреника… С одной стороны, небывалая свобода нравов, в сравнении с которой даже Эльдорадо покажется монастырем траппистов. С другой — сложная система внутриобщественных отношений, базирующаяся на максимально возможном невмешательстве в личную жизнь индивидуума. Большинство людей видит и воспринимает только внешнюю сторону таикунского общества. Вроде этих «диких плоддеров», которые надеются обрести на Тайкуне что-то вроде запорожской вольницы. Что ж, мы не отторгаем никого. Можно прожить всю жизнь на Тайкуне, наслаждаясь местным привольем, но так и не стать тайкунером. Никто не выскажет и слова укоризны. Лишь бы Большая Тетушка не совалась в наши дела.
— А если что-нибудь случится?
— Справимся сами. У нас есть силы, средства и собственная гордость.
— А если случится такое, что вы не справитесь? Какой-нибудь катаклизм?
— Мы все равно откажемся от помощи этих белоручек.
Я едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Так можно было бы оскорбить чувства этого заносчивого патриота. Но я вдруг представил, как он бросает эти гордые слова в лицо Консулу, адресуясь, впрочем, куда-то в область солнечного сплетения, а тот, глядя примерно на метр поверх его головы тяжелым стальным взглядом, отвечает в том смысле, что: да кто же тебя, клоуна, слушать станет? Кто же станет ждать, пока вы раскачаетесь и начнете спасать свои задницы? Вы еще репу чешете, а помощь уже здесь, так что — отставить разговорчики! А ну, архаровцы, всем строиться… смирррна!!! К приему помощи — приступить!.. (На доброго, ироничного дядю Костю, какого я знал, это походило очень мало, но тетя Оля рассказывала, что когда речь заходила о безопасности любого количества разумных индивидуумов, за исключением его самого, он порой делался невыносимо груб, прямолинеен и склонен к простым решениям сложных вопросов.) Или тот же пан Забродский: да, да, конечно, мы не имеем в виду посягать на ваш суверенитет, только давайте мы отойдем в сторонку, где вы продолжите излагать свою любопытную доктрину… а за его спиной бесшумно рушатся на грунт дисковидные грузовые блимпы, и из разверстых люков веерным строем вылетают бесчисленные гравитры с добровольцами в тяжелых скафандрах…
— Вы знаете, — сказал я. — Это, наверное, меня не касается, но Земля уже сейчас нравится мне больше. Хотя бы потому, что никому и ничего давно уже не доказывает.
— Когда-нибудь, дайте срок, и мы этому научимся, — пожал он плечами.
— А смысл?
— Смысл, — повторил он, словно пробуя это слово на вкус. — Понимаете, друг мой… Нас пока еще довольно-таки немного. Поэтому наше общество не делится на расы, народности и племена. Мы — один народ, мы сплочены и, несмотря на внутреннюю изолированность, ощущаем свое единство. У нас есть своя планета. У нас есть общая цель — создание собственной независимой культуры. Уже сейчас ничто не препятствует объявить во всеуслышанье, что мы независимы и самостоятельны. Но мы рискуем выступить в роли вселенских шутов, вроде жителей Амриты, которые сделали это давно, хотя не имеют на то никаких оснований, потому что во всем зависят от метрополии. Их декларацию независимости просто никто не углядел. К чести Амриты, она не стала настаивать, но сделала вид, что тоже ничего не заметила. А может быть, и вправду не заметила — они там все такие духовно самодостаточные, куда нам до них… У нас есть даже общий жупел — Большая Тетушка, которой у нас принято не доверять.
— Но вы же можете просто прилететь на Землю и поселиться там. И сразу станете гражданином Земли!
— Могу. Но не хочу. Вы еще молоды, вам не понять таких тонких материй, как дым отечества, домашний очаг, родные могилы… Ну, бывал я на Земле. Это как в госпитале: чисто, сытно и тепло, а ты все равно больной… Нет, это не мой мир, и мне там не прижиться никогда. — Он поглядел на меня оценивающе. — Но ведь и вы чего-то ищете в краю далеком?
— Н-ну… ищу.
— Кто вы, друг мой? — спросил он в лоб. — Вы непохожи на искателя грубых тайкунских развлечений. Спортсмен?
«Нгаара, в трех случаях из пяти вас примут за спортсмена, и нет нужды рассеивать это заблуждение».
— Угадали. Я баскетболист. Лечу выступать за тайкунскую профессиональную лигу.
— Гм… На Титануме вы говорили другое.
— Просто я хотел поскорее оказаться на Тайкуне. Если бы я сказал, что это конечный пункт моего путешествия, этот дедушка загнал бы меня в гроб своими нравоучениями. Я и с Земли-то едва выбрался.
— Честно говоря, на ученого вы похожи больше, даже если пренебречь юностью. Образование написано у вас на лбу, чего не скажешь о профессиональных спортсменах. А знаете, на кого вы похожи еще сильнее?
— На кого же?
— На эхайнского шпиона!
Какое-то время Флеминг с любопытством исследовал смену эмоций на моем лице.
— Такая шутка, — наконец сказал он, хотя лицо его не смеялось. — Незатейливый тайкунский юмор. Вы обиделись? Будем считать, это моя маленькая месть за вашу маленькую ложь. Потому что никакой вы не спортсмен. Но! Вы не называете своего имени и не желаете открыть свои планы. А я тайкунер, я уважаю ваше право на личную тайну и не намерен настаивать. С другой стороны, я профессиональный психолог и желал бы предложить свою помощь в вашей социальной адаптации. Наверняка вы поселитесь в Хессертине или, в крайнем случае, в Гемарне. Вот мой личный номер, — чтобы передать информацию, он поднес свой браслет к моему левому запястью — но там ничего не было. — Гм… забавно. Не имеет значения… Просто запомните: Финтан Флеминг. Когда устроитесь на Тайкуне, найдите меня. Я отвечу на все ваши вопросы. — Он все же улыбнулся. — Если уж на то пошло, я в жизни не видал ни одного эхайна. А вы очень уж крупный. Настоящий эхайн — как их описывают! Хотя, повторюсь, чересчур молодой.
— Вы не поверите, но у эхайнов бывают дети.
— Не может быть! Вы еще скажете, что у них есть женщины!
— И скажу.
— Наверное, уродины какие-нибудь…
Я сразу вспомнил тетю Олю, но не стал развивать эту тему. Это никого не касалось, только ее и меня.
4. Тайкун. Космопорт Каркарас
Диспетчер орбитального космопорта Каркарас являл собой полную противоположность своему коллеге с Титанума: он был молод, неопрятен и нагловат в общении. Вместо форменного кителя он был облачен в простую кожаную куртку поверх затрепанной футболки, из-под бейсболки с надписью белым по синему «Я — тайкунер» торчали рыжие патлы; к тому же, он постоянно зевал, как выброшенный на берег окунь.
— Куда? — переспросил он без большого интереса.
— На Дхаракерту, — повторил я, для солидности всевозможно понизив голос.
— У тебя там какое-то дело? — осведомился диспетчер, непринужденно переходя на «ты».
«Нгаара, вы не обязаны отвечать на все заданные вам вопросы. Вне пределов Земли за вами не станут присматривать с обычным тщанием. В некоторых мирах может статься, что до вас вообще никому не будет дела. И один из таких миров, где хорошим тоном считается предоставить всякое существо самому себе, называется Тайкун».
— Допустим, — сказал я.
Он пожал плечами.
— Каюта? Кресло?
— Каю… м-мм… кресло.
— Все равно, кают там нет. Восемь реалов.
— Сколько это будет в энектах? — спросил я, немного потерявшись.
Похоже, он опешил не меньше моего.
— Причем тут энекты! — наконец сказал он. — У тебя есть валюта?
— Валюта?! Ах, ну да… — я пошарил в нагрудном кармане и предъявил ему свои сбережения.
После длительной паузы он спросил:
— Это что?
— То есть, как… Моя энект-карта.
— Дай посмотреть, — сказал он. — Забавно. Вот как они выглядят… Выходит, ты с Земли?
— Угу.
— Ну и спрячь свою цацку подальше.
— Но я готов…
— А я честный тайкунер, — диспетчер возвел глаза к потолку, словно пытался прочесть надпись на собственной бейсболке. — Большая Тетка платит за своих граждан. Такое между Землей и Тайкуном соглашение.
Я вспомнил давешний разговор с психологом-психопатом. Не очень-то мне улыбалась роль богатого плейбоя из метрополии.
— Если я буду настаивать, чтобы вы приняли энекты в уплату, это осложнит ваше экономическое положение? — спросил я.
— Это осложнит мою жизнь, — фыркнул диспетчер. — Что я стану делать с твоими энектами? По какой статье оприходую? Присвою их? Здесь они никому не нужны. В нашем понимании энекты — вообще не валюта… — Он вдруг нахмурился и озабоченно спросил: — Ты точно с Земли?
— Очень нужно врать, — буркнул я.
— И все же — без обид, но я проверю. Положи сюда ладонь, — он подтолкнул мне овальный пупырчатый коврик размером с тарелку, украшенный надписью «Ты — тайкунер?». Естественно, белым по синему. — Сосчитай до десяти. Убирай руку. Все сходится. Ты не гражданин Тайкуна. Стало быть — Земля за тебя платит. А карточкой здесь не размахивай. Найдутся охотники развести тебя на пару сотен энектов, ищи их потом… Запомни, повторяй всюду, где спросят, и бей в морду тому, кто станет возражать: Земля платит за своих граждан. Для тебя на Тайкуне все бесплатно. Усек?
— Что?!
— Ну, усвоил истину?
— Угу…
Он подтолкнул ко мне энект-карту, сверху прикрыл светящимся всеми красками билетом.
— Ладно, топай.
На этом его интерес ко мне иссяк.
Если верить Гайрону, тот провел не одну ночь над составлением моего маршрута, с тем чтобы свести к минимуму интервалы между рейсами. По его расчетам, это должно было усложнить задачу тех, кто непременно пустится мне вдогонку. Это облегчало и мою участь: не оставалось времени на колебания. Вряд ли кто мог предположить, что на четвертые сутки своего броска через Галактику я уже буду не в состоянии не то что на колебания, а и на более простые эмоции, что превращусь в полусонный автомат для беспрестанного вранья… Сейчас до отправления транспорта до Дхаракерты — теперь он назывался «грузопассажирский блимп», что большого оптимизма не внушало, — имелось какое-то время. На поверхность Тайкуна я не попал, и особенного сожаления по этому поводу не испытывал. В других обстоятельствах было бы заманчиво прогуляться вокруг наземного космопорта Найдзан, окинуть ностальгическим взором местность, где закончилась моя эхайнская жизнь и началась жизнь человеческая… Нет, не было у меня никакой ностальгии, да и до Найдзана было далековато. Я стоял перед грандиозным видеалом внешнего обзора и рассматривал красно-лиловый диск планеты в сизом ореоле атмосферы. Сердце не замирало, воспоминания не всколыхнулись. Ничего я об этом не помнил, да и помнить не мог.
Но там, внизу, были могилы моих братьев и сестер.
Было на свете пять мальчиков и три девочки. В живых остался только один — я.
Мама рассказывала, что страшный Сидоров-Петров-Джонс забрал детские тела с собой, но ему не нужны были мертвые эхайны. И он передал их все тем же тифаниткам, которые лучше других знали, как нужно заботиться о невинных душах.
…И тут меня прижало.
Вначале мне перехватило горло. Будто я вместе с ними задыхался в расстрелянных спасательных капсулах, вместе с ними замерзал в космическом холоде, вместе с ними умирал от ужаса и безысходности.
«Мальчиков звали Нгеа Рингарэнн, Нендэ Согонекк и Нзиури Тарьярэнн, девочек — Ниэрэ Соннур и Нтеурра Тилтоэ… Один мальчик был из рода Кансатайн, и еще мальчик и девочка из рода Лаххорн…»
Конечно, у меня имелись Гелька и Алиска. Конечно… только все равно чего-то мне не хватало.
Спустя мгновение я обнаружил, что по лицу моему текут слезы. Слабость, непозволительная для эхайнского аристократа, пускай даже утомленного долгим путешествием.
Но здесь я еще оставался человеком. А люди не стыдятся слез.
5. Тайкун — Дхаракерта
Мои опасения по поводу «грузопассажирского блимпа» оправдались, но лишь отчасти.
Это был все же скорее грузовой транспорт, нежели пассажирский. Дюжина пассажиров едва ли ни бочком вынуждена была протиснуться в то, что отдаленно напоминало салон. В полумраке я не имел возможности толком разглядеть своих невольных спутников, да, впрочем, и не стремился. Все происходило в сосредоточенном молчании, как перед военной операцией. Кресел не было — их заменяли уже знакомые спальные коконы в расправленном виде. Пассажиры деловито рассредоточились по местам. Должно быть, каждый из них не раз уже проделывал подобное путешествие и знал, что не будет не только стюардесс, но и общительных соседей. Мне ничего не оставалось, как поступить тем же образом, не обнаруживая, насколько возможно, своей неопытности. Внутри кокон ничем не отличался от уже виденного на «Энергеме 86». Я вздохнул с облегчением. Мне сейчас не хотелось, чтобы кто-нибудь лез с разговорами и неуклюжими попытками прояснить мои намерения. Тем более, что я и сам уже не знал, чего хочу.
Я включил старого доброго Лантерна с его «Опусом», привычно уперся пятками в дальнюю стену и моментально отключился.
Это был короткий полет, хотя длился он не менее двенадцати часов. Я продрых момент старта и открыл глаза, когда синтезированный голос произнес над моим ухом: «Прибытие в космопорт „Дхаракерта-Единственный“. Пассажирская галерея открыта».
6. Дхаракерта. Космопорт «Единственный»
Должно быть, по мере удаления от Земли количество внимания, уделяемое одним человеком другому, падает. Если не считать внезапных всплесков любознательности, как в случае с психологом-тайкунером… В этом мире на меня вообще никто не реагировал. То, что называлось галереей, на деле напоминало собой узкую трубу с бронированными стенами, в которых через равные промежутки наличествовали узкие вертикальные окна. Оттуда, не до конца приглушенное светофильтрами, лупило наотмашь ослепительное солнце. «Надень окуляры», — буркнул проходивший мимо абориген. Окуляров у меня не было, а мовид служил неважной защитой. Жмурясь, почти наощупь я дотопал до помещения космопорта.
И угодил в пандемониум.
Дхаракерта была одним из последних человеческих миров в той зоне, которую называли Фронтир, произнося это слово с самыми разными интонациями, от восхищения до издевки. Сути это не меняло. Здесь проходила граница соприкосновения Федерации и остальной, нечеловеческой Галактики.
Я стоял под огромным куполом и потерянно озирался.
Ничего нет хорошего оказаться единственным бездельником на планете. А те несколько сотен разумных существ, что постоянно здесь обитали, были заняты большим общим делом. И, между прочим, люди составляли не более трети от их числа. То есть, лишь каждый третий, кто проходил, пробегал или проносился мимо меня, был человеком или хотя смахивал на такового.
Они строили Галактический маяк нового поколения.
Кое-что об этом я знал из рассказов дяди Кости, который во времена бурной юности был смотрителем Галактических маяков. Кое-что добавила мама, хотя и в самых иронических красках — так она всегда поступала, чтобы скрыть неприятные или болезненные воспоминания, когда не было возможности просто не вспоминать. В ту пору это были компактные, полностью автоматизированные сооружения с малой зоной покрытия — четыре или пять, максимум двенадцать, кубопарсеков. Если верить дяде Косте, это было не бог весть сколько. Поэтому маяков было довольно много, располагались они на самых негодных к обитанию планетах и требовали к себе постоянного внимания. Обслуживание сводилось к рутинному профилактическому осмотру, потому что плоддеры, что занимались этим в зоне ответственности Федерации, редко обладали познаниями, необходимыми для устранения серьезных неисправностей. «В паре со мной были вначале бывший патрульник, а потом бывший синоптик, — усмехаясь, говорил дядя Костя. — А я так вообще был никем. Бывший звездоход, несостоявшийся драйвер…» Он, конечно, приуменьшал свои достоинства, но в сигнальной гравитехнике действительно ничего не смыслил. «Мы знали только одно, — продолжал он. — Маяк должен работать. Этого требовала наша плоддерская честь. А кроме чести, у нас тогда, считай, ничего больше и не было». Так как освоение Галактики шло достаточно бурно и без маяков не было возможно пассажирское сообщение, то очень часто их ставили там, где не следовало. Поэтому маяки горели, их сносило наводнениями, их заливало потоками лавы. Иногда вместе со смотрителями, которые так ретиво спасали свою честь, что не успевали спасти жизнь.
«Нгаара, вам следует знать достаточно о тех местах, куда приведет вас избранная дорога. Потому что вы можете выглядеть кем угодно, только не праздношатающимся зевакой».
Новый Галактический маяк «Дхаракерта» был способен заменить без малого сотню старых. Маяк был огромным, мощным и практически безотказным. Как это достигалось, я не знал, но подозревал, что дело было в известном принципе «вечных машинок», то есть биомеханизмов, способных к самовосстановлению. К вечным двигателям в классическом понимании этот принцип касательства не имел, хотя наверняка был какой-то неожиданной, нестандартной его реализацией. «Вечные машинки» окружали нас на каждом шагу и были настолько привычны, что никто их уже и не замечал. Всякие там роботы-уборщики, ковры-мусороеды, те же видеобраслеты, но только простые, без функций пространственной стереоразвертки… Существовало какое-то фундаментальное ограничение по размерам, связанное с потреблением энергии. Но теперь оно то ли было преодолено, то ли вообще никогда не действовало применительно к циклопическим конструкциям на необитаемых планетах… Принцип, который был заложен в Галактических маяках нового поколения, уместнее было назвать «вечными машинищами».
(И я опять-таки слышал что-то похожее от дяди Кости. Что-де побывал он, на заре все той же юности, на планете, которая целиком была такой вот машиной — вечной не вечной, а исправно работавшей много веков кряду…)
Маяк строили несколько разумных рас. Этот мир по праву «пришедшего первым» достался людям, они были и заказчиками, и основной рабочей силой. Проектировали же и всем заправляли хтуумампи — какие-то чрезвычайно технически продвинутые крабы. Если я не ошибался, то именно сейчас пятерка этих технарей плыла мимо меня на изящной круглой гравиплатформе, умостившись спина к спине, поджав ходульки и поводя по сторонам разноцветными глазками-шариками на стебельках… Я видал на Земле инопланетян — виавов и, кажется, охазгеонов. Не так давно мне довелось коротко сойтись с эхайнами, да и самому испытать сомнительное удовольствие от вступления в их ряды. Все это были гуманоиды и походили на людей, как две капли воды, либо отличались только при внимательном изучении. На Дхаракерте же диапазон моих впечатлений расширялся с невероятной скоростью… Впрочем, ничего особенного, поражающего воображение, в них не было — крабы как крабы, разве что большие и в морозно-перламутровых панцирях. В справке Глобаля были перечислены и другие расы, о которых я ничего сейчас уже не помнил. Внешне маяк меньше всего должен был напоминать собой старинные каменные башни на морских берегах, которые я не раз видывал на экскурсиях. Приплюснутый усеченный конус, на одних схемах темно-серый, на других — насыщенно-синий, посреди довольно скучной пустыни, которая покрывала почти всю Дхаракерту, за исключением полярных зон. В чем состояло это исключение, я узнать не удосужился. Может, какие-то водоемы, а может — ледяная корка. Должна же здесь откуда-то браться вода… Даже недостроенный, Галактический маяк выглядел впечатляюще. Залитый огнями прожекторов, подсвеченный компактным искусственным солнышком, он занимал все пространство до самого горизонта, как бы для контраста оставляя над собой узкую черную полоску неба. С разреженной, почти негодной для дыхания, газовой оболочкой, Дхаракерта была необитаема до прибытия строителей. Ей предстояло вновь опустеть после того, как маяк заработает в полную силу. Потому что ни одно известное живое существо не способно выжить в не стихающем ни на миг прибое гравитационных волн. Даже обычные механизмы сбоят и идут вразнос. Только не «вечная машинища» маяка. Ожидалось, что он будет указывать путь космическому транспорту не менее полутора тысяч лет. А то и дольше… если выдержит Дхаракерта. К тому моменту на смену сооружениям вроде него должны прийти совсем уже вечные маяки нового поколения, не нуждающиеся в опоре на планетную твердь и дрейфующие в пространстве по собственным траекториям.
Но до этого было еще далеко, и на Дхаракерте — по крайней мере, вокруг маяка, — бурлила очень разнообразная жизнь.
Если и была когда-то на свете Вавилонская башня, то она должна была выглядеть именно так. Разница заключалась в том, что на сей раз Господь, кажется, ничего не имел против.
Мне даже захотелось изменить свои планы и остаться здесь. В конце концов, я по-прежнему не сознавал себя ни копьем, летящим в цель, ни даже бумерангом. Скорее, дурачком, заблудившимся в трех соснах, и имена тем соснам были — Обида, Гордыня и Авось… Здесь непременно должно было найтись место для неквалифицированного, но полного неопределенных устремлений и нереализованных амбиций работника.
Жаль только, что я был слишком неквалифицированным. Я не умел ничего. Вообще ничего, что могло бы пригодиться на. этой колоссальной стройке.
Я поймал на себе чей-то взгляд. Великан, стоявший у стены в окружении десятка людей и нелюдей, что-то снисходительно объяснял им невнятным шепотом. Еще бы ему не быть снисходительным! Он нависал над слушателями, как башенный кран, а вернее — как статуя с острова Пасхи, с которой имел разительное внешнее сходство. Такой же громоздкий, нелепый и большеухий. Весь какой-то серый и не то усталый, не то просто глубокий старик. В окружении разинувших рты детишек… Но при этом он неотрывно смотрел на меня своими запавшими тусклыми гляделками.
Тахамаук.
«Нгаара, на своем пути вы неизбежно встретите существ, которые наглядно явят вам многообразие Вселенной. Надеюсь, они окажутся дружелюбны к вам или по меньшей мере равнодушны. Это даже вам на руку. Но там, где существует возможность выбора, постарайтесь иметь дело с виавами. Это легкая задача, потому что виавы есть везде. Виавы очень похожи на людей, они — то, чем станут люди после нескольких тысячелетий эволюции, если не произойдет ничего экстраординарного. С высоты своей мудрости виавы не видят культурологической разницы между людьми и эхайнами. Но, разумеется, обычный человек может заблуждаться на ваш счет, а виав сразу поймет, кто перед ним. Притом что наши распри, какими глубокими и болезненными ни казались бы они нам, для виава — всего лишь детская ссора в песочнице. Они давно уже отвыкли относиться к чему-либо всерьез. Сама жизнь для них игра. Долгая, нескончаемая игра с меняющимися правилами. Виавы только и делают, что бегут от скуки. Но все уже видано-перевидано, все испытано, все утомляет. Быть может, они и не умирали бы никогда, если бы не надежда, что после смерти их ждет новая игра по неизвестным правилам. Поэтому ваше появление виав воспримет как новый поворот игры и с охотой примет в нем участие.
Иное дело тахамауки. Они — другие. Они настолько же чужды вам, насколько виавы близки. Тахамауки — сумрачная раса. Сто тысяч лет цивилизации — это тяжелое бремя. Однажды они отказались от смерти, и отныне и навсегда отмечены печатью этого выбора… К тому же, они гермафродиты, что оптимизма никому не прибавляет. Тахамауки ненавидят эхайнов. Я даже могу предположить, в чем причина. В нас они видят самих себя, какими были в начале своего пути. Они испытывают болезненную зависть к той энергии, которая есть в нас и никогда уже не вернется к ним, и прикрывают эту зависть старческим ханжеством по отношению к бойким юнцам. Когда-то они ядерным огнем и лучевым мечом собрали в свою империю добрую четверть Галактики, а потом все незаметно растеряли. И твердят без устали, что нельзя повторять их опыт… Поэтому тахамаук, которого вы, может статься, повстречаете, увидит в вас угрозу и отнесется к ней со всей серьезностью. Он захочет задержать вас. Вам удастся обмануть всех, кроме тахамауков. Впрочем, его ненависти противостоит ваша личная неприкосновенность — не забывайте этого…»
Быть может, серый гигант читал мои мысли? Или воспринимал мое эмоциональное состояние, как дядя Костя? И то, что творилось у меня на душе, вызывало у него какие-то подозрения?
Он узнал во мне эхайна. Какую же угрозу он увидел во мне?
Эхайн на строительстве Галактического маяка Федерации.
Нечего эхайну здесь было делать. В особенности, эхайну без сопровождения. И уж тем более эхайну, одетому, как человек, ведущему себя по-человечески, прибывшему с Земли с человеческими вещами, с федеральной энект-картой, то есть всеми способами выдающему себя за человека. Если, конечно, эхайн не собирался как-нибудь навредить этому строительству.
Еще немного, и серый великан бросит свою аудиторию и двинется ко мне, тыча долгим указующим перстом и вопя во все горло: «Эхайн! Держите эхайна!..»
Как может эхайн скрыть свою сущность? Только выдав себя за эхайна!
И было бы неплохо отыскать подходящего виава. Который выслушал бы меня, развесив уши, и поверил бы всей душой.
Я схватил за рукав белобрысого юнца в просторном комбинезоне попугайных расцветок, заляпанном и прожженном на коленях.
— Здесь есть виавы? — спросил я вполголоса.
Можно было ожидать, что он столь же бесцеремонно выдернет рукав и помчится дальше по своим делам, озабоченно буркнув что-нибудь невежливое про психов, что мешают занятым людям.
Вместо этого он остановился и с полминуты хлопал белесыми ресницами, словно соображая, как ему подоходчивее ответить.
— Да навалом, — наконец нашелся он.
— Где я могу найти хотя бы одного? — спросил я, воспрянув духом.
— Ты уже нашел, — объявил он, светясь от удовольствия.
Белобрысого звали вот как: Авуурцамв Акшогхэххадгуар Цтентх Утонсаметухакиу. Выговорить это единым духом было невозможно никому, кроме самого обладателя имени. Он повторил свое имя трижды, потом показал свою визитку, потом принялся диктовать по слогам, и одному богу было известно, что бы он еще выдумал, пока до меня не дошло, что он попросту прикалывается. Я понял: отступать особенно некуда, и назвал свое имя.
— Ну-ка еще раз, — сказал он, зажмурившись от наслаждения.
— Нгаара Тирэнн Тиллантарн, — повторил я.
— Совсем неплохо, — промолвил он. — Кажется, люди стали понимать толк в именах… Но постой-ка, ведь это типично эхайнское имя!
— Я и есть эхайн.
Виав окинул меня беглым взглядом.
— Точно, эхайн, — легко согласился он. — Отчаянно молодой Черный Эхайн, в натуральную величину. Полагаю, мне следует задать вопрос: как этот эхайнский вьюнош здесь оказался?
— Это ошибка, — сказал я. — Недоразумение. Мне во что бы то ни стало нужно поскорее убраться из этого мира.
— Еще бы! — хохотнул он. — Здесь и более сильные натуры теряют голову… Мячик.
— Что-что?! — изумился я.
— Так меня все называют, — пояснил он беспечно.
— Сева, — представился я.
— Тоже неплохо, — улыбнулся он. — На планете Дхаракерта, на самом Фронтире, встретились два жукоглазых монстра — Мячик и Сева…
Никак этот парень не напоминал бесконечно мудрого представителя древней расы, которой, вдобавок ко всему, угрожало вырождение. Хотя шуточки его были мне не очень-то понятны. Такой вот специфический, уточенный юмор античной культуры. Ну, может быть, чуть проще, чем сатиновые трусы на веревке.
— Итак, что у нас имеется, — сказал он. — Немного испуганный молодой эхайн в человечьем гардеробе, который утверждает, что заблудился, и желает поскорее отсюда исчезнуть.
— Я не шпион и не террорист, — проворчал я. — Все, что мне нужно, это поскорее вернуться домой.
— И где же твой дом, Сева?
— На Эхитуафле, — сказал я. Помедлив, добавил: — Это такая планета Черной Руки.
— Я знаю, — сказал Мячик. — Более того: я тебе верю и охотно помогу. Ты действительно не шпион, хотя бы потому, что всех местных шпионов я знаю лично, и с некоторыми даже на дружеской ноге. Видишь ту девушку в темно-синем свитерке с капюшоном, что разговаривает с диспетчером грузоперевозок? Она работает в Полярном отряде топографов. Все парни от нее без ума. На самом деле она — шпионка-иовуаарп.
— И что? — спросил я.
— А то, что об этом знаю не только я, но и все высшее руководство проекта. И относится к ее миссии не только с сочувственным юмором, но и даже с уважением. Иовуаарп обожают играть в шпионов. Особенно среди людей, на которых они так похожи. Мы все помогаем ей чем можем на ее нелегком поприще. — Он прищурился и оценивающе посмотрел на меня снизу вверх. — Полагаю, ты не станешь мне рассказывать, Сева, какие ветры занесли тебя в человеческую область Галактики.
— Если я скажу, что был там на экскурсии… — начал я.
— …то я согласно кивну, но не поверю, — закончил он. — Черные Эхайны не устраивают экскурсии туда, где пахнет человечьим духом. Скорее, они совершают туда корсарские набеги. Но на корсара ты похож еще меньше, чем на шпиона.
— В общем, это долгая история, — вздохнул я.
— Обожаю долгие истории! — воскликнул он и на мгновение неуловимо напомнил мне тетю Олю. Которая тоже любила слушать и редко дослушивала до конца. Так и казалось, что сейчас он воскликнет «Уой!» и зажмурится, но все обошлось. — Хотя что-то мне подсказывает, что надеяться на это не стоит.
Мне не оставалось ничего, кроме еще одного вздоха.
Мячик снова умело изобразил недоверие на своем подвижном лице.
— А может быть, ты покажешь мне свой… — он сделал многозначительную паузу, — тартег?
— Ага, — сказал я. — Сейчас… где-то у меня завалялся… куда же я его засунул?
Разумеется, он ждал, что я ляпну какую-нибудь околесицу типа «вот незадача, дома оставил!» или что-то в этом роде. Его постоянная улыбка уже начала преображаться в ироническую ухмылку. Но тут я, как бы внезапно осененный, воскликнул: «А! Как я мог забыть!», потянул за цепочку на шее и выудил заветный медальон.
Улыбка Мячика замерзла, не завершив трансформации.
— Спрячь немедленно, — сказал он, бросив один короткий взгляд на мое сокровище. — Проклятие! Я сам мастер розыгрыша, и уже был совершенно готов к твоему признанию поражения. И вдруг такой неожиданный поворот! Эхайн провел виава. Возможно, впервые в истории Галактики. Ценю.
Я покраснел, хотя не слишком понял, в чем заключалась причина его сетований.
— Надеюсь, тебя не оскорбила тень недоверия, промелькнувшая между нами, — промолвил он. — Для эхайна ты слишком похож на человека. А я, будь уверен, видел настоящих Черных Эхайнов, правда — в естественной для них среде обитания. С другой стороны, для человека ты имеешь при себе слишком много эхайнских атрибутов…
— Только один, — заметил я.
— Которого более чем достаточно, — сказал он и мгновенно сделался серьезен. — Мой долг помочь тебе вернуться домой, и я намерен его немедленно исполнить. Следуй за мной, юный Тиллантарн.
Но как он за пару секунд сумел разглядеть письмена на моем тартеге, да еще и прочесть?!
— У меня достаточно острое зрение, — сообщил он, заметив удивление на моем лице. — Но я ничего не прочел. Зато в формах эхайнских тартегов я разбираюсь неплохо. Когда-то ваша родовая атрибутика входила в сферу моих интересов… Конечно, возникали сомнения: тартеги Эйлхакиахегеххов имеют те же овальные очертания, но на них наличествуют три поля, а не два, как у вас.
«Нгаара, всякий эхайн гордится своим родом, даже если этот род вот уже несколько поколений влачит жалкое существование и давно уже не прославлен никем из своих представителей. Если задеть родовую честь эхайна, он становится раздражителен, как больной ребенок. Сопоставление, пусть и позитивное, пусть и с тем из родов, что занимают более высокую ступень в обществе, хотя бы даже и с правящим, конечно, не послужит основанием для Суда справедливости и силы, но омрачит самую безобидную беседу…»
— Глупости! — перебил я со всем высокомерием, на какое только был способен. — Между моим родом и этими… нет ничего общего.
— Ну-ну, — сказал он увещевающе. — Я никого не желал задеть. Просто вы все такие похожие, между вами так мало различий, и, может быть, поэтому вы так стараетесь отличаться. Как будто в этом присутствует какой-то смысл, высшая мудрость, способная оправдать вас перед небесами…
— Присутствует, — отрезал я, безбожно переигрывая. — И смысл, и мудрость, и честь.
— Ну-ну, — снова проворчал он. — Вот мы, кажется, и пришли. Правила следующие: говорить буду я, а ты…
— Надувать щеки и шевелить усами, — фыркнул я.
— Шевелить усами, — сказал Мячик очень серьезно, — здесь умеют лучше кого бы то ни было.
Он толкнул пластиковую перегородку с надписью на двух языках (один из которых был положительно непонятен, а другой являлся отчего-то архаичной латиницей и доводил до всеобщего сведения, что далее имеет место быть офис представительства Первой транспортной компании халифата — о! — Рагуррааханаш) и затейливой эмблемой — что-то вроде перепутанной лозы с торчащими шипами, и протиснулся в тесное, плохо освещенное помещение. Половину офиса занимал громадный стол, возле которого громоздилось нелепое кресло с кожаной обивкой и на колесиках. Все остальное пространство было заполнено разнообразными коробками, ящиками и контейнерами, за полупрозрачными крышками некоторых мне мерещилось суетливое шевеление.
Над столом, раскинув по нему просторные ладони, нависал мохнатый субъект самого мрачного вида. Он был облачен в мешковатую хламиду, а может быть, и халат, — в халифатах все ходят в халатах! — из толстого синего материала с длинным свалявшимся ворсом. А мохнатым выглядел не только и не столько из-за халата, сколько из-за ярко-синей с белыми проплешинками шерсти, что целиком покрывала его круглую голову, и в некоторых местах носила следы тщательного ухода. Шерсть росла и на короткой толстой шее, и на тыльной стороне ладоней, которые, вдобавок ко всему, были семипалыми (крайние пальцы необычно раздваивались от первого сустава на манер клешней) и когтистыми. Что еще привлекало взгляд, так это небольшие заостренные уши — разумеется, с кисточками, — внимательные темные глазки чуть навыкате, а также полное отсутствие рта и носа. Усы, однако же, были — пышные и вразлет. Еще один нечеловек на моем пути.
Мячик старательно сморщился и несколько раз негромко мяукнул. В ответ дивовидный хозяин офиса собрал шерстистую физиономию в гармошку и отозвался в том же духе, обнаружив при этом довольно крупный рот.
— Ну и прекрасно, — сказал Мячик и плюхнулся в кресло. — А теперь, директор Мурнармигх, перейдем на эхойлан, чтобы нас понимал наш юный друг.
— Эхойлан нехорошо знать, — промурлыкал тот.
— Что же в том нехорошего?! — поразился я.
— Директор Мурнармигх имел в виду, что его владение эхойланом далеко от совершенства, — пояснил Мячик.
«Мое тоже», — заметил я про себя.
— В таком случае, нам ничего не остается иного, как избрать в качестве средства межрасового общения земной интерлинг, — сказал виав. — Если, разумеется, у вас, Сева, нет возражений.
— Ни малейших, — ответил я, утопив на уровне второго эмоционального слоя любые проявления радостного облегчения.
— Интерлинг знать классно, — отозвался Мурнармигх, и это вновь прозвучало более чем двусмысленно. Не то он был высокого мнения о своем знании человеческого языка — что не слишком-то соответствовало действительности, — не то утверждал, что таковое знание есть великое преимущество или даже привилегия. А может быть, отвесил мне, эхайну, комплимент.
— Если мне не изменяет память, — сказал Мячик, — ваша компания единственная в этой области Галактики имеет постоянное транспортное сообщение с эхайнскими мирами.
— О, так! — горделиво подтвердил Мурнармигх.
— Этот юноша — Черный Эхайн.
— Мрррм, — лицо директора, которое так и подмывало назвать мордой, сложилось в отчетливо недоверчивую гримасу. — Так сказать?
— Именно так он и сказал, — кивнул Мячик.
— Слишком человечный, — продолжал сомневаться Мурнармигх.
— Меня это также поначалу ввело в заблуждение, — сказал Мячик. — Но затем юноша предъявил убедительные доказательства.
— Тартег? — уточнил директор, склонив голову на плечо.
— Совершенно верно, — промолвил Мячик с удовлетворением.
Наступила томительная пауза, на протяжении которой мохнатый директор переваливал башку с одного плеча на другое, стучал когтями по столешнице, прядал ушами и разнообразно гримасничал, я обливался холодным потом и хотел к маме, а Мячик безмятежно смотрел в потолок.
— Эхайны здесь не быть, — наконец объявил Мурнармигх и сопроводил сказанное угрожающим горловым звуком. Бог знает, что он имел в виду: что здесь до сей поры не ступала нога эхайна; что эхайнам вообще нечего здесь делать; что данному конкретному эхайну самая пора выметаться; а может быть, все сразу и одновременно.
— Согласен, — сказал Мячик.
— Маршрут нет эхайны, нет люди, — продолжал директор в своей экономно-иносказательной манере. — Только вукрту.
— Простите… — не утерпел я.
— Вряд ли это станет нелегким испытанием для высокородного эхайна, — сказал Мячик, откровенно веселясь. — Провести по меньшей мере два рейса в компании, целиком состоящей из вукрту, то есть представителей великой расы, к которой счастливо принадлежит директор Мурнармигх, — тот покивал с самым важным видом, на какой только была способна его физия. — Ни один из которых не говорит ни на интерлинге, ни на эхойлане.
— Изъятия редкость, — вставил директор. — Каюта? Кресло?
— Багажный отсек, — пробурчал я.
Директор подался вперед, выкатил глазки сильнее обычного и зловеще промяукал:
— Нет багажный отсек. Ноль свободный объем. Кресло. Четверть часа третий причал. Рагуррааханаш, затем сразу Анаптинувика.
Под левой его лапой каким-то образом оказался лист толстой бумаги, голубоватой, в тон его шерсти, а в правой возникло вполне обычное стило, которым директор начертал несколько размашистых строк.
— Вукрту помогать виавы, — сказал директор, небрежным жестом отправляя подорожную в мою сторону. — Помогать люди. Помогать эхайны. Вукрту помогать все. Расходы…
Я внутренне напрягся.
— Расходы чепуховина, — закончил он. — Нет расходы.
Ну, это речение было понятно даже такому тормозу, как я.
— Чеширский Кот, — сказал Мячик, когда мы оказались в коридоре. — Правда, похож? А иногда сущий Винни-Пух. Нехорошо знать эхойлан, однако великолепный администратор… Тьфу! Лапидарный стиль общения досточтимого директора весьма прилипчив. Всякий раз требуется время, чтобы вернуться в привычное состояние.
— Представления не имею, кто эти достойные господа, — притворился я.
— Действительно, вряд ли в Эхайноре знакомы с книгами Кэрролла и Милна, — притворился виав.
Мы обменялись понимающими улыбками.
— А что читают дети в Эхайноре? — не унимался он.
— Четверть часа, — сказал я, сделав вид, что не расслышал. — Что это значит?
— А то, что если через… м-мм… четырнадцать уже минут ты не окажешься на борту вукртусского транспорта, каковой ожидает тебя у причала номер три, то рискуешь зависнуть на Дхаракерте до следующего рандеву с директором Мурнармигхом. И вряд ли я окажусь рядом, чтобы снова выручить тебя.
— Значит, я не успею посмотреть на маяк?
— Нет, не успеешь. А зачем тебе, простому эхайнскому пареньку, глазеть на Галактический маяк? Или ты все же шпион?
— Нет. Просто мне любопытно.
— Конечно, любопытно, — сказал он. — Уж поверь, там есть на что посмотреть… Послушай, Сева, — вдруг оживился он. — Если у тебя есть возможность выбирать… ведь ничто не мешает тебе просто остаться здесь. Вот так взять и остаться! Ничего, что ты эхайн. Большое дело! Нам нужны специалисты. Нам нужны дилетанты. Лам нужны просто рабочие руки и мыслящие головы. Ты же наверняка что-то умеешь делать своими руками, что будет полезно здесь, на Дхаракерте! Ведь умеешь? Здесь интересно. Нет, черт возьми: здесь очень интересно! Это такой котел! Люди, виавы, вукрту, хтуумампи… тахамауки эти несчастные. — Я вздрогнул. — А хочешь, я тебя со шпионкой-иовуаарп познакомлю? Она славная. Ее Дашей зовут…
— Нет, Мячик, — сказал я, стиснув зубы. — Меня ждут дома.
Единожды солгавший… Никто не ждал меня там, куда я держал свой несообразный ни с каким здравым смыслом путь.
Он замолчал, глядя на меня печальными влажными глазами.
— Вы, эхайны, такие упрямые, — сказал он наконец. — И с вами трудно, и вам с собой еще труднее… Если я протяну тебе руку, это не затронет твою честь?
— Нет, — сказал я. — Это сделает мне честь.
Его ладонь была сухая, теплая и мягкая, как у ребенка.
— Мячик, — сказал я. — Сколько тебе лет?
Виав залился жизнерадостным смехом.
— Это самый простой вопрос, какой ты мог бы мне задать! Потому что одно время я отвечал на него по сто раз на дню. Мне четыреста восемьдесят четыре человеческих года. Извини, что не говорю «эхайнских» — я не знаю, с какой планеты ты явился… Я еще достаточно молод, чтобы совершать глупости. Что я и делаю прямо сейчас.
Тахамаук ошивался у входа в тоннель, что вел к третьему причалу. Был ли это тот самый, что застукал меня в вестибюле космопорта, или какой-то другой, оставалось только гадать. Он просто торчал здесь без определенной цели, размеренно поводя ушастой головой из стороны в сторону. Мимо него прошествовали, перемурлыкиваясь на ходу, несколько вукрту, больших и маленьких, в своих комичных халатах всех расцветок, и ни один из них не доставал ему до пояса. Тахамаук не удостоил их вниманием.
Еще бы! Ведь он караулил меня.
Я отпрянул за угол, вжался в стену. Сердце бешено долбило в грудную клетку, словно хотело вырваться на волю. Ладони сделались омерзительно влажными. Челюсти свело гадкой кислятиной. Видели бы меня друзья из «Сан-Рафаэля»… видела бы меня Антония.
Так. Успокоились. Сосчитали до двадцать… дольше не стоит, так недолго и на рейс опоздать. Допустим, он меня заметит. Что дальше? Вытащит из кармана острый нож и зарежет под аплодисменты благодарной аудитории? Сдаст с рук на руки местному правосудию, которое меня тут же и линчует? Что он вообще может сделать мне? Что бы я ни говорил, как бы ни поступал, за кого бы себя ни выдавал, я все еще оставался свободным гражданином Федерации, наделенным всеми правами личности, да вдобавок ко всему, находился на своей территории. А он был здесь в гостях, в лучшем случае — приглашенным специалистом. Так что это скорее я мог взять его за шкварник — если, разумеется, дотянусь, — и строго вопросить, что он тут делает, по какому праву и какие цели преследует, напуская на себя столь мрачный вид, что малые дети пугаются…
Полегчало? Что-то не очень…
Но через несколько минут от третьего причала отправлялся транспорт на Рагуррааханаш. Он вполне мог покинуть этот мир без меня.
Так. Снова успокоились. Считать не нужно, нет времени… Я человек, и я в своем праве. Но даже если я эхайн — что с того? Этот серый верзила что, накинется на меня с кулаками, или обхватит своими безразмерными конечностями и призовет подмогу? Или что еще он может учудить? Нет у него права хотя бы как-то ограничить мою свободу. Вот даже ни малюсенького! Конечно, будь он представителем местного самоуправления, блюстителем порядка, или как это может здесь называться… Но тахамауки никогда не снисходят до отправления административных функций в чужих мирах, и это я знал совершенно точно. И от Антонии, и от дяди Кости, и от Гайрона. «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Тахамауки выше этого, им это не нужно, им это неинтересно. Интересно, а что им вообще интересно?! Это каламбур у меня получился, или катастрофически упал словарный запас? От эмоциональной перегрузки? Но! В подобных условиях эхайн перестает испытывать страх, избавляется от рефлексий и начинает действовать. Эхайн я, в конце концов, или хвост собачий?..
Все, что он может мне сделать, так это спросить: «Эхайн?» Все, что потребуется от меня в этой ситуации, так это дать ответ, по возможности остроумный, и невыносимо язвительный.
Пошел он к черту.
Я оттолкнулся локтями от стенки и двинулся к разверстому жерлу тоннеля. Наверное, с теми же чувствами грешники вступают во врата ада. Колени мои подсекались, во рту по-прежнему было кисло, хотя я и пытался насвистывать какую-то легкомысленную мелодию. И даже помахивать сумкой на ходу.
Тахамаук молча пялился на меня пасмурными зенками. Какой же он был старый и изнеможенный! Что там говорил о них мой маарари? «Однажды они отказались от смерти, и навсегда отмечены печатью этого выбора…» Уж не знаю, была ли это какая-те зловещая метафора, но нависший надо мной серый гигант выглядел восставшей из саркофага мумией, что против своей воли тянула на этом свете уже не одну тысячу лет.
От него даже пахло заброшенным чердаком!
Когда я, старательно глядя прямо перед собой, поравнялся с ним, тахамаук прошипел, словно внутри него кто-то открывал и перекрывал вентиль у сифона с газировкой:
— Эхххайн…
— Ага, — ответил я просто.
И проследовал своей дорогой.
7. Дхаракерта — Рагуррааханаш
Наконец-то! Ни одного человеческого существа вокруг! Никаких разговоров по душам! Лишь мягкий сумрак, негромкое деловитое мурлыканье, да изредка нарушавшие атмосферу общей расслабленности технологические шумы откуда-то из-под ног.
Я прошел в пассажирский салон, старательно пригибаясь — эти своды явно не были рассчитаны на существ нестандартной комплекции. Должно быть, тахамауки никогда не пользовались услугами Первой транспортной компании халифата… Передо мной бесшумно возник вукрту в белом с синими ромбами халате и, вперя очи куда-то на уровень моего пояса, красноречиво протянул семипалую ладошку. Я вложил в нее подорожную. Бело-синий молча перевернул ее и старательно изучил начертанные лапой блистательного директора Мурнармигха каракули. Затем так же молча вернул документ мне и, слегка склонясь в талии, указал широким приглашающим жестом на свободное место. В его глазках легко читалась насмешливость. Конечно, в этом кресле, скорее похожем на детскую колыбельку, я мог поместиться лишь сложившись втрое. Ну и ладно. «Благодарю», — сказал я отчего-то шепотом и осторожно вставил свой зад в хрупкую на вид конструкцию. Бело-синий неопределенно мурлыкнул и куда-то удалился со всей степенностью, на какую только способны большие разъевшиеся коты.
Удивительно: при виде этих созданий, что неспешно размещались в салоне, переговаривались между собой на своем языке, прогуливались в ожидании старта в проходах между кресел, заложив лапы за спины — словом, вели себя с потешной разумностью, — я вовсе не думал о моей Читралекхе. Она была другая, совсем другая. Она была настоящая, а вукрту выглядели рисованными персонажами анимашек, что-нибудь вроде «Синие суперкоты атакуют Галактику».
Отвлекая меня от размышлений, вернулся бело-синий распорядитель — не то старший стюард, не то помощник капитана, а может быть, чем черт не шутит, и собственно капитан. Да не один, а в обществе мощного вукрту, чья шерсть была скорее седой, чем синей, а вместо халата присутствовала пижама в белую и зеленую полоску и на три размера больше. «Неужели нашелся переводчик? — в ужасе подумал я. — Сейчас попытаются скрасить мой досуг умными беседами!» И поспешно объявил вслух, сопровождая слова энергичной жестикуляцией: «Все хорошо! Я ни в чем не нуждаюсь! Мне здесь удобно!» Полосатый воздел когтистый палец, прерывая мои речи. Затем взъершил седые усы, страшно сморщился, и…
Вначале я вдруг понял, что мой полет будет продолжаться шестнадцать часов в полном комфорте и покое. Никто не станет досаждать мне расспросами, хотя половина пассажиров этого рейса способна внятно изъясняться на интерлинге в силу своей профессиональной деятельности. В конце концов, это сменные строители Галактического маяка Федерации и члены их семей. Врожденная скромность удерживает их от проявлений столь же врожденного любопытства при виде столь необычного спутника. Чтобы закрыть эту тему, до всеобщего сведения уже доведено, что я лечу транзитом и не имею намерений задерживаться на Рагуррааханаше.
Затем до меня дошло, что мое кресло лишь выглядит таким утлым, на самом же деле это стандартный пассажирский кокон, какие применяются в Галактике повсеместно для гуманоидных рас. Просто сейчас он специально адаптирован под пассажира-вукрту, но если я обращу свой взор к сенсорной панели на подлокотнике (я немедленно обратил), то смогу выбрать наиболее приемлемую для себя конфигурацию. Люди, виавы и эхайны обычно используют конфигурацию, обозначенную пиктограммой наподобие «палка, палка, огуречик» (я немедленно использовал). Колыбелька с приятным шуршанием раздалась в стороны, слегка потеснив соседние кресла. Я с наслаждением откинулся на выросшую до привычной высоты спинку и вытянул ноги.
И напоследок я нечувствительно постиг, что при использовании вполне знакомой по предыдущим перелетам панели внутри кокона я смогу получить стандартный набор услуг, хотя нет гарантий, что прохладительные напитки «кисиусарсотипсу фраппэ» или «миокиталондуэку биттер лайм» придутся мне по вкусу. Люди и эхайны обычно предпочитают все, что содержит ключевое слово «пиво», но мне наверняка подошел бы «альбарикок розовый». Я даже не удивился… Кроме того, в моей голове сам собой возник перечень транквилизаторов, которыми обычно пользуются эхайны, между тем как люди и виавы предпочитают другой набор успокоительных. «Постойте-ка, ведь я же…» Мне понадобилось некоторое усилие, чтобы осознать: мой внутренний советчик прав, я и есть эхайн.
Так что — приятного полета, юный янрирр.
Мордуленция полосатого разгладилась, и он поглядел на меня выжидательно: мол, нет ли у меня каких-нибудь особенных пожеланий. Таковых не обнаружилось. Я чувствовал себя замаянным, разбитым и постаревшим лет на сто. То, что сулил мне этот сказочный перелет, выглядело подарком судьбы. Очевидно, полосатый понял это так же отчетливо, как и я только что воспринимал его мысли. Он приложил лапу к сердцу, величественно кивнул и ушествовал восвояси. Со всей степенностью, на какую только способны большие, разъевшиеся и оч-ч-чень умные коты с наклонностями к телепатии.
Я заказал альбарикок. Не прошло и минуты, как явился стюард в ядовито-желтом облачении, изящно неся на далеко отставленной лапе подносик с тремя бутылочками со знакомыми розовыми этикетками. Это было как встреча добрых друзей. «Когда мы стартуем?» — спросил я без надежды услышать ответ. «Уже, янрирр», — промурлыкал стюард. Это прозвучало у него как «яун-н-нриррр-мм-ррр».
Еще сутки назад я был обычным земным подростком Севой Морозовым. На Дхаракерте что-то изменилось, и я уже и сам не знал, кто я… Здесь я был эхайн, все видели во мне эхайна, и никто во мне не сомневался.
Кроме меня самого.
Чтобы не разреветься от избытка переживаний и внутреннего раздрызга, я раскинул кокон (он оказался мне впору, что недвусмысленно означало: я был далеко не первым эхайном на этом космическом судне), выбрал первый попавший эхайнский транквилизатор с наукообразным названием «намахакхетат активный», вдохнул рассеянный горьковатый аромат полной грудью и уснул безмятежным эхайнским сном.
8. Рагуррааханаш. Космопорт не-знаю-как-называется
Должно быть, долгий сон не помог восстановиться моей истерзанной психике. Или же эхайнская медицина оказала на мой организм, более привычный к земной, не то влияние, какое предполагалось. А могло быть, что всему виной стала пониженная гравитация космопорта прибытия. Оттого, наверное, чрезвычайно краткое пребывание на орбите Рагуррааханаша запомнилось мне очень смутно. Все, что я совершал, требовало усилий. Я с трудом проснулся, а покидал корабль, держась за стены. Мне было дурно, меня колотило, в глазах трепыхался черный тюль, выпитый альбарикок просился наружу, причем через верх. Полосатый телепат, пробегая мимо, бросил на меня короткий тревожный взгляд, из которого следовало, что я мог получить медицинскую помощь прямо здесь и сейчас. «Ни за что», — буркнул я самонадеянно, зная, что пожалею о своем отказе и обо всей этой авантюре. Телепат скукожил гримасу так, что даже уши отлегли, после чего стремительно унесся прочь, а меня сию же минуту немного отпустило.
Космопорт был грандиозен. Пол центрального зала имел форму гигантской раковины, крутые стены сходились на огромной высоте, образуя асимметричный, неправильный по земным понятиям купол. Стены казались пятнистыми; приглядевшись, я понял, что местами они были прозрачны. Пространство под куполом пересекали выгнутые трубы воздушных переходов. Уловить систему в их конфигурации было положительно невозможно; переплетаясь, они образовывали паутину сумасшедшего паука. Здесь были тысячи и тысячи вукрту: они толпились на дне раковины, перетекали по переходам или просто порхали на манер Карлсона в ячейках паутины, снабдив себя какими-то чрезвычайно компактными летательными аппаратами. Судя по всему, вукрту много и охотно путешествовали по Галактике. При этом они не выносили острых углов: все здесь было выпуклым, вогнутым и округлым.
На краю этого хаоса торчал я, чувствуя себя лишним, громоздким и нелепым. Я не знал, кого и о чем спросить, чтобы поскорее убраться отсюда.
Когда мое отчаяние достигло предела, явилось избавление. «Палка-палка-огуречик» взирал на меня с ближайшей стены, недвусмысленно указывая направление поисков. Терять мне было нечего, и я подчинился. Через пару десятков шагов эстафету подхватил другой знак — он указывал на один из воздушных переходов. Спустя мгновение я стоял на самодвижущейся тропинке, которая несла меня по-над столпотворением. Хочется верить — навстречу судьбе… Кто-то деликатно дернул меня за рукав. Я поглядел книзу. Крохотный вукрту, чуть выше моего колена, упакованный в красный халатик с огромными зелеными цветами — невыносимое для человечьего глаза сочетание! — взирал на меня внимательно и серьезно. «Привет, малыш», — сказал я негромко. К нему тотчас же подскочил другой, более крупный, во всем сером, и подхватил кроху на руки. До меня донеслось невнятное мурлыканье, в котором отчетливо слышались смущенные нотки. Мол, извините нашего карапуза, он в жизни не видывал живого эхайна. А может, мне это лишь померещилось, и на самом деле серый родитель увещевал своего отпрыска: не суйся куда не след, в особенности к этому долговязому дядьке, разве ты не знаешь, что эхайны злые и кушают маленьких вукрту на обед?!
Между тем, тропинка нырнула в слабо освещенный коридор, на стенах которого полыхали надписи на неизвестных мне языках и знакомые уже фигурки-пиктограммы. Я не сразу обнаружил старого знакомца среди разнообразных паучков, птичек и совершенно непонятных монстриков. Но он был здесь и жаждал мне помочь.
Я сошел с тропинки и открыл дверь со знакомой уже эмблемой в виде шипастой лозы.
И отшатнулся.
Уж лучше бы это был еще один тахамаук!..
Но возле низкой стойки, нависая над менеджером-вукрту в синей униформе, стоял человек.
Вначале я подумал, что это Консул. Та же стать, те же впечатляющие размеры, даже черная куртка не первой молодости… Промелькнула мысль: все старания — понапрасну, все ухищрения, все попытки замести следы, весь каверзный план Гайрона — все рухнуло. Наивно было думать, что нам, двоим лопухам — вышедшему в тираж шпиону и юному недоумку — удастся провести за нос опытного звездохода, который всю жизнь только тем и занимался, что распутывал чужие заморочки. Пока я маялся во всевозможных космических корытах, петляя и отрываясь от погони, он сел на ближайший рейс до Рагуррааханаша… а то и взнуздал своего супер-пупер-биотехна, о котором столько и с такой любовью рассказывал… и сразу прибыл сюда, чтобы встретить меня, попивая пиво в уюте и комфорте, перехватить в одном шаге от цели и, взявши за ухо, вернуть под крылышко к мамочке.
Ну уж нет!
Я дернулся прочь… Поздно. Другой вукрту, привстав со своего кресла, зазывно махал обеими когтистыми лапами и мурчал что-то вроде «Добро пожаловать, янрирр!..»
Человек у стойки обернулся.
И я испытал облегчение и новый приступ страха одновременно.
Это был эхайн.
Как только я мог принять его за человека?! Ведь все в нем было иное. И лепка лица, и выражение, и взгляд, да и одежда лишь издали напоминала земную. Черная куртка оказалась чем-то вроде мундира, усеянного знаками отличия, о которых я не имел ни малейшего понятия и потому не представлял, как себя вести с ее обладателем.
Пока я хлопал глазами и разевал рот, словно карась, выброшенный на берег, эхайн отклеился от стойки и двинулся мимо меня к выходу. Очевидно, у него не было намерений меня даже замечать, не говоря уж о том, чтобы приветствовать. Возможно, это был Светлый Эхайн, или какой-нибудь другой, не питающий ни малейшего уважения к моей расе.
Его рассеянный взор скользнул по моему тартегу, что с некоторых пор был намеренно извлечен на всеобщее обозрение.
Все мгновенно изменилось. Лицо эхайна, и без того будто высеченное из куска гранита, совершенно окаменело, как если бы перед ним вдруг разверзлась могила, и оттуда выглянул самого величественного вида призрак. Затем его рука скользнула за ворот тонкого свитера и вытащила свой тартег. Если бы я разбирался в этой геральдике с фалеристикой, то знал бы, как мне реагировать на его поступок. Быть может, мне надлежало что-то сказать, или отдать честь, или кинуться незнакомцу на шею… или убить его на месте. А так я продолжал торчать истуканом и ждать, как станут развиваться события.
— Янрирр Тиллантарн, — сказал эхайн и задохнулся. Губы его внезапно задрожали, словно какие-то сильные эмоции внезапно прорвались наружу, взломав все защитные слои, глаза увлажнились. С громадным усилием он промолвил, делая долгие паузы между словами: — Т'гард эн татрэ Уратту Уттарн Аттамунтиарн хеа… хеала таггэ.
Затем подчеркнуто уважительно кивнул и удалился, напряженно ступая негнущимися ногами.
«Девятый граф Уратту Уттарн Аттамунтиарн, ваш… ваш верный слуга», — сказал он мне.
Ничего я не понимал.
У меня уже отбирали подорожную, вертели ее в лапах и украшали новыми значками, с твердым намерением поскорее избавить этот благополучный мир от моего присутствия.
9. Рагуррааханаш — Анаптинувика
Корабль, который уносил меня за пределы халифата, был полным близнецом того, что доставил меня в означенные пределы. Все складывалось хорошо. Настолько хорошо, что не верилось. Я был единственным живым существом на борту, если не считать экипажа — пятерых вукрту в мохнатых комбинезонах темно-серого цвета, деловитых и чрезвычайно озабоченных важностью миссии. Все свободное пространство занимали черные пластиковые коробки и цилиндрические емкости, внутри которых тяжко всплескивалась некая вязкая субстанция. Наверное, что-то важное, без чего эхайнская цивилизация не могла продолжать нормальное существование… Мне указали на несколько пассажирских коконов в свободном от груза углу, после чего всякое внимание к моей персоне было совершенно утрачено. Я мысленно возблагодарил небеса. Отсутствие внимания и заботы — вот в чем я нуждался сейчас более всего. Я плюхнулся в кокон, не имея сил даже на то, чтобы избавиться от верхней одежды, вытянул ноги и привычно легко провалился в беспамятство.
Не было у меня желания долго размышлять над тем эпохальным обстоятельством, что пункт прибытия одновременно являлся и конечным пунктом всего моего странствия. Анаптинувика — малонаселенный, но на все сто полноценный мир Черной Руки Эхайнора.
ЭПИЛОГ
Меня зовут Северин Морозов. Мне без двух месяцев восемнадцать лет. Я сбежал из дома, не имея четкой цели, определенных планов, вообще не особенно сознавая, зачем я это делаю и как намерен поступать в дальнейшем.
Тетя Оля думала, что я просил ее отца: помоги мне больше узнать об Эхайноре. Она ошибалась. В тот день я сказал ему на отвратительном эхойлане и с ошибками, которые он тотчас же поправил: «Я хочу, чтобы мне помогли вернуться в Эхайнор». И он не смог отказать мне, потому что, при всей разнице в возрасте и при всех расовых отличиях, я оставался в его глазах отпрыском очень уважаемого рода. Насколько уважаемого — я мог узнать только в самом Эхайноре.
Теперь я стоял посреди огромного пустого зала, вымотанный, злой, опухший от нескончаемого сна в неудобном положении, оглохший от бесконечных разговоров с чужими людьми, с дурацкой сумкой в руке и с дурацким медальоном на шее. Я чувствовал себя не молодым эхайнским аристократом, которому все было по фигу, а человеческим детенышем, отбившимся от родителей. Мне было плохо, одиноко и страшно. Я был близок к тому, чтобы разреветься. И наконец-то до меня начало доходить, насколько я был самонадеян и какую ужасную глупость спорол.
И мне нужно было что-то с этим делать.
Например, как-то выбираться в привычный человеческий мир. Хотя бы на тот же Тайкун. Что бы ни строили из себя его причудливые обитатели, там было все привычное, все свое…
Иными словами, удирать отсюда сломя голову.
Рыжеволосая девушка возле стойки обратила ко мне лицо и сказала на чистом эхойлане:
— Этлал-раага анахарр янр-ра шомарор гьята хеала таггаг.
Голос был непривычного тембра — нечто лязгающее с металлическими перезвонами — и совершенно не вязался с ее обликом. Но и не так, впрочем, резал ухо, как у Гайрона, даже когда тот разговаривал на интерлинге.
Спустя мгновение я осознал, что понимаю ее слова.
— Если вы заблудились, сударь, я могу вам помочь, — сказала она.
Добро пожаловать в Эхайнор.
Ну вот ты и дома. Что же дальше-то, дурачок?
Примечания
1
Сосунок (каталон.).
(обратно)2
Мужик, самец (исп.).
(обратно)3
Сколь сладок жребий пастуха: с утра и до вечера он блуждает, весь день сопровождая своих овечек… (англ.). Уильям Блейк. Пастух.
(обратно)4
Прощайте, зеленые поля и блаженные рощи, где отары пробуждали умиление. Где агнцы щипали траву, и тихо ступали светлые ангелы… (англ.). Уильям Блэйк. Ночь.
(обратно)5
Мужчина (исп.).
(обратно)6
Да, сударыня (англ.) — обращение младшего по званию к офицеру женского пола на флоте.
(обратно)7
Да, барышня (франц.).
(обратно)8
Да, Ваше Преосвященство (франц.).
(обратно)9
Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта. Перевод с английского Б.Пастернака.
(обратно)10
Уильям Шекспир. Сон в летнюю ночь. Перевод с английского Г.Щепкиной-Куперник.
(обратно)11
Мальчишка (исп.).
(обратно)12
Педро Кальдерон де ла Барка. Волшебный маг. Перевод с испанского К.Бальмонта.
(обратно)13
Геокорона — внешняя часть земной атмосферы, состоящая из рассеянных атомов водорода.
(обратно)14
Педро Кальдерон де ла Барка. Врач моей чести. Перевод с испанского К. Бальмонта.
(обратно)15
Педро Кальдерон де ла Барка. Дама-привидение. Перевод с испанского К. Бальмонта.
(обратно)16
А.С.Пушкин. Признание.
(обратно)17
А.С.Пушкин. Каменный гость.
(обратно)18
Неизвестный японский поэт XVI–XVII вв. Вольный перевод автора.
(обратно)19
Педро Кальдерон де ла Барка. Волшебный маг. Перевод с испанского К. Бальмонта.
(обратно)20
Педро Кальдерон де ла Барка. Жизнь есть сон. Перевод с испанского К. Бальмонта.
(обратно)21
Отомо Табито. Перевод с японского А.Глускиной.
(обратно)22
Тише! Пожалуйста… (исп.).
(обратно)23
Глупость (исп.).
(обратно)24
Задница (каталок.).
(обратно)25
Здесь: «третий лишний» (лат.).
(обратно)26
Педро Кальдерон де ла Барка. Любовь после смерти. Перевод с испанского К. Бальмонта.
(обратно)27
А.С.Пушкин. Евгений Онегин.
(обратно)28
А.С.Пушкин. Евгений Онегин.
(обратно)29
Аллюзия на тему пьесы Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак».
(обратно)30
Когда волки и тигры завывают в поисках добычи, они стоят и жалобно рыдают, пытаясь отвратить их алчность и отвлечь от овечек… (англ.). Уильям Блэйк. Ночь.
(обратно)31
Главная задача (лат.).
(обратно)32
Аллюзия на тему романа Роберта Л.Стивенсона «Остров сокровищ».
(обратно)


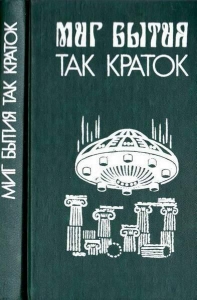
Комментарии к книге «Бумеранг на один бросок», Евгений Филенко
Всего 0 комментариев