Ирина Дедюхова Повелительница снов
…Не услышим в ответ мы ни звука, Не познаем исток и конец… Здесь сокрыта немая наука Отстучавших когда-то сердец. Все равнины покроются солью, И исчезнет последний народ… Сердца трепетом, нежною болью Отмечаем мы времени ход.* * *
Выбрав родителей, дату и место рождения, душа устремилась к давно ждущей ее женщине. Перед ней лежало огромное колыхающееся поле слепков, которое ей надо было пройти, сохранив свою сущность. Лишенные оболочек, изломанные, истерзанные обломки стремились соединиться в нечто целое, стараясь прилипнуть к любой женщине, ждавшей ребенка. Они жадно поглощали энергию приблизившихся к ним душ, шлейфом цепляясь к любой из них. Каждое движение этой массы было наполнено одни страстным воплем: "Жить, жить, опять жить! Воплотиться! Стать целым!". Что же сделали люди со своей душой, что бесформенным беспамятным комом висела теперь между временами и пространствами?
Распаляя свое свечение, душа прожгла себе путь в этом поле, и тихо стала опускаться к почуявшему ее, враз забившемуся сердечку. Рядом с ней таяли хлопья выгоревших обломков душ. Душа засыпала, колокольный звон прежних жизней и воплощений затихал, начинался большой сон Детства. Который раз она становилась чистым листом, на котором Жизнь выводила свои сложные письмена…
О ТОМ, ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ
В погожий, по-летнему теплый день в конце апреля 59 года на пыльном базаре заштатного городка в Предуралье стояла молодая супружеская пара. Базар был беден и пуст. На солнышке среди шелухи от семечек грелись приблудные собаки. Только на одном из прилавков деревенская старуха торговала темно-болотного цвета, похожими на жаб, солеными огурцами. Спрос на них явно превышал предложение, и у прилавка выстроилась небольшая очередь. Продавщица, наслаждаясь важностью момента, не торопясь, доставала огурцы и пыталась мило беседовать с каждым покупателем.
— Толя, я прямо сейчас, прямо здесь умру, если не съем соленый огурец! Пойди и отбери у этой бабки!
— Ленчик, потерпи, я сейчас в очередь встану!
Его светловолосая, симпатичная жена, ничего не ответив, подошла к оторопевшей старухе и молча отобрала у нее скользкий огурец. Пока муж совал разоравшейся бабке рубль, жена с наслаждением цинично схрумкала овощ прямо у прилавка.
— Лена, ну, зачем ты так? Меня чуть в очереди не побили!
— Ой, Толяна, мне что-то так плохо, так плохо! Ох, когда это уже кончится? Сам-то не беременный, вот был бы беременным, узнал бы…
Супруги отошли к зеленому забору, и молодая женщина, захлебываясь, согнулась пополам в приступах рвоты. Вышел и бабкин рублевый огурец и обеденная картошка с луком и почему-то халвой.
— Толя, у меня осталась халва в пакетике, я-то есть не могу, а ты прямо сейчас же съешь!
— Лена, да и я уже не могу есть эту халву, и на улице неудобно как-то…
— А мне блевать на базаре у забора удобно? Ешь, мне надо тебя занюхать!
Будущий счастливый отец молча давился халвой, пока жена с наслаждением его нюхала. Они нюхали халву уже где-то с месяц. И это было настоящим, большим человеческим счастьем.
* * *
Если забраться на самую вершину сопки, то весь мир будет лежать у твоих ног. Люди — мелкие смешные букашки, такие далекие отсюда! Рядом тайга, и вершины векового кедровника достают тебе до плеч. Луга весной покрыты яркими соцветиями жарков, можно часами смотреть и смотреть на колыхание махровых шапочек. Кто же смог придумать, вообразить такую красоту? Вот сейчас ветер ударит в лицо, и она побежит, раскинув руки, по пригорку вниз. Быстрее, еще быстрее! Ноги сами ускоряют бег, а навстречу несутся лагерная котельная, заброшенная баня, соседские огороды…
Как только Лена стала себя помнить, она всегда хотела иметь двух детей. Ее родители имели слишком много детей для такой жизни — семь, а она была лишь третьей и ей доставалось от младшеньких на полную катушку. Нет, она бы хотела родить только девочку и мальчика. Девочка должна была у нее родиться старшей. Она помогала бы ей водиться с мальчиком, как Лена помогала маме водиться с младшими братишками.
Лена родилась в небольшом сибирском шахтерском поселке в семье сосланных сюда еще до революции поляков и ненавидела этих поляков до глубины души. Поляки отравляли всю ее молодую жизнь. В ее военном детстве приехавшие к ним в поселок в эвакуацию девочки-полячки, учившиеся с ними в классе, ходили в красивых форменных платьицах, которые им посылали по линии Красного креста. Лене никто ничего такого не слал, только однажды ей досталась ношенная американская кофточка. Ее папу отправили служить в Войско Польское, потому что он знал польский и был с виду совсем поляком. А среди войны он вернулся с отсохшей правой рукой, и ему не платили какие-то очень важные для них деньги, потому что он воевал не в Советской Армии, а с какими-то поляками. Ленина мама, с трудом говорившая по-русски, тоже очень ненавидела этих поляков, потому что всех ее сыновей после войны отправляли теперь служить в Польшу. А там начальство всегда использовало их знание этого языка при разборках с местным населением. Когда однажды командиры поглушили гранатами карпов в пруду у поляков, то эти самые поляки очень жестоко избили брата Лены — Геннадия, которого послали объяснять, что никто в преждевременной кончине карпов не виноват. Лена очень стеснялась своей шепелявости, стыдилась, но ничего не могла с этим поделать. А что тут сделаешь, если дома из-за этих поляков, провались они вовсе, все пришепетывают на разные лады?
Лене еще целый год после окончания школы пришлось работать. Ей нужны были деньги, чтобы купить пальто и обувь. Не могла же она поехать учиться в кирзовых сапогах, которые были к тому же у них на двоих с младшим братом! Работать в сибирском поселке, кроме как в лагере на вольнонаемной должности, было негде. И семнадцатилетняя Лена год работала там учетчицей. Сразу после войны почему-то сажали, в основном, военных летчиков. Мост такой пошел. Эти летчики — с быстрой реакцией, импульсивные, избалованные орденами, трофейным шоколадом и женским вниманием, совершенно были не приспособлены к жизни зэков. Они держались сплоченной группой, били развязных блатных, которые липли к Лене, и почти не матерились при ней. Но после того как к ним приставили Лену, у них начались побеги. Бежали, в основном, молодые, красивые даже в робе мужчины, которые уверяли Лену, что их, посадили ни за что, просто так. Однажды Лене пришлось утром идти на работу мимо выставленных, для устрашения других бегунов, трупов с объеденными за ночь собаками, неузнаваемыми уже лицами. Лену перевели в управление, а к летчикам учетчицей поставили старую кривоногую хакаску с рябым лицом.
Когда Лена поступила в Иркутский медицинский институт, то попала в совершенно незнакомую среду. Здесь работали какие-то древние старички — еще дореволюционная профессура, сохранявшая свой собственный мир в неприкосновенности. Многие преподаватели были сюда высланы, а о многих шепотом говорили, что они бежали, бежали от красных, от революции, до Владивостока не добежали, и в Иркутске, в результате, и осели. Профессора и ассистенты любили между собой поговорить по-французски и для практики, и для души.
Лене было по-женски комфортно в этой атмосфере ушедшей культуры. Она впервые почувствовала себя женщиной, дамой. "Мужчина старой закалки!", — мечтательно говорили молоденькие студентки о своих ветхих, но все-таки полных мужского обаяния и светского шарма профессорах.
Не все, конечно, было Лене понятно в этом их мире. Например, у них в кабинете анатомии висел скелет в белом халате и шапочке профессора. Это один из покойных профессоров, желая укрепить материально-техническую базу заведения, завещал свой скелет институту. Он, бедный, не предполагал, что его будущая студентка будет давиться рвотой, глядя на него и припоминая такие же безносые лица на лагерном, кровавом снегу.
Не смотря на крайнюю бедность быта, студенты любили тогда устраивать танцевальные вечера. Это были танцы под живую музыку, требовавшие достаточной подготовки: вальсы, танго, фокстроты, румбы… Студенческие профсоюзы вузов города в складчину снимали паркетный зал Иркутского коммерческого института, и под доморощенный джаз молодые люди знакомились, дружили, влюблялись, женились.
Лена была очень худенькой и веснушчатой девушкой. Она просто не знала, куда от этих веснушек деваться! Но она имела самые красивые волосы среди студенток Иркутска. На танцах к ней обязательно подкрадывались насмешники-горняки — студенты горного института и потихоньку расплетали две толстые пшеничные косы, пытаясь выявить подплетку. Лена с подружками при этом делали вид, что ничего не замечают. Потом она, встряхивая шелковистой волнистой пеной, покрывавшей всю ее худенькую фигурку со взятым взаймы платьицем, сразу же превращаясь в королеву бала, с улыбкой оборачивалась к своему новому, потерявшему дар речи, поклоннику.
Лену все время окружала толпа восторженных молодых мужчин. Она никак не могла сосредоточиться и выбрать себе мужа, все время кто-нибудь звал в кино или на танцы. А по ночам ей снились мальчик и девочка, они что-то кричали ей издалека, а она не могла расслышать. Лена просыпалась в слезах и думала, что сегодня ей обязательно надо влюбиться, вот хотя бы в руководителя практики по паталогоанатомии. Вот сегодня она там отдежурит и влюбится, прямо в морге!
И в тот день, когда она бесповоротно решила для себя все, в морг на дежурство она пошла пораньше. Перед осколком зеркала в общежитии она долго репетировала свою влюбленность, поднимала брови, интересно щурила глаза, округляла губки. Константин Валерианович был старше ее на пять лет. Он был фронтовиком, членом партии и очень симпатичным. Почему-то он был еще не женат. И, хотя все потихоньку говорили о его многочисленных романах, он нравился Лене. В его взгляде и улыбке было что-то порочное, волнующее, что так влечет всех женщин. И эта его мрачная профессия тоже почему-то импонировала неискушенной девушке из таежной глубинки.
— Ленка, скорее! — крикнул ей Константин, уже облаченный в резиновый фартук. Лена вошла в прозекторскую и увидела голую тоненькую девушку на столе. Она была совсем свежая, только что доставленная, и казалась еще живой.
— Константин Валерианович! Что с ней?
— Заворот кишок! На вечеринку пришла, голодная была, видно, на пельмени накинулась… Студенточка, заря вечерняя!
Константин ловко разделал девушку, в посудину, что держала Лена, вынул содержимое желудка. Сибирские пельмени покойница проглотила, даже не прожевав. Они лежали перед Леной ровненькие, точно только что вылепленные. Кроме пельменей в желудке у студентки не было ничего и очень давно. У Лены тоже были такие времена, когда она потратила деньги, присланные старшим братом, на бостоновый костюмчик. И слава Богу, что ее никто тогда не позвал на пельмени.
Лена очень боялась, что Костя сейчас что-нибудь скажет гадкое, и он сказал: "Ну, Ленка, сегодня мы с ужином! Вали по новой варить!". Вместе с посудиной Лена опустилась на цементный пол и заплакала. Из-под колпака выбились две ее толстые косы. Нет, ни за что она не выйдет замуж за этих полоумных медиков!
Из морга Лена шла подавленная, настроение было паршивым. На углу, в утреннем холодном мареве она увидела мужскую фигуру. Она вначале очень испугалась, потому что после смерти вождя из лагерей выпустили всякую сволочь, в Иркутске теперь ни одна ночь не проходила без убийств. Обстановка в городе по этой части была настолько сложная, что прокурор их района покончил с собой. Правда, и пил он, конечно, безмерно. Но Лена всерьез струхнула и пожалела, что не осталась в морге на ночь. А потом она узнала в том мужике Анатолия, который ухаживал за ее соседкой по комнате Галей и часто приходил к ним в комнату. Толя стоял на морозе и нервно курил «Беломор».
— Здравствуйте, Анатолий!
— Леночка! Я тут тебя жду! Девушки сказали, что ты, на ночь глядя, в морг поперлась! Ты с ума сошла? Ко мне тут пару раз какие-то шпаненки липли, закурить просили!
— Я на дежурстве была! И вообще мне все равно! А ждать тут меня нечего! Конечно, ты можешь меня проводить до своей Гали, нам как раз по пути.
— Ленка, я больше так не могу! Выходи за меня замуж!
Лена не успела опомниться, как Анатолий сгреб ее в охапку и стал целовать. После той девушки с пельменями Костя налил ей стопку спирта и тоже лез с поцелуями, она кое-как от него отбилась. А Толя застал ее совершенно врасплох. У Кости была холодная жадность, а этот, кажется, действительно ее жалел. Она положила голову Толе на плечо и стала реветь. Толя подхватил ее вместе с докторским саквояжиком и понес к общежитию.
Анатолий был молодым инженером-гидростроителем, приехавшим в Иркутск после окончания Новочеркасского мелиоративного института. Он вообще-то хотел поехать в Якутию, потому что на Чукотку у них распределения в том году не было. Но в Якутию поехал парень, имевший более высокий бал, чем был у него. Троечники с их потока были вынуждены довольствоваться такими не романтическими, приземленными местами как Сочи и Пятигорск. Анатолий был потомственный донской казак с огромными горячими глазами и шапкой буйных черных волос. Он случайно познакомился с Лениной соседкой Галиной и зашел за ней перед киносеансом. Лена в этот момент как раз вернулась из городской бани и сушила свои волосы перед печкой. Анатолий, увидев ее мокрые распущенные волосы, большие с поволокой глаза, почувствовал, что он спекается у той печки, как картошка. Он стал соображать, как ему взять прислон от враз надоевшей Галины к Лене, к которой стремилась сейчас вся его душа. Но видеться с ней он мог, только заходя к Галине. Он уже месяц мучался так, когда узнал, что Ленка, весь день крутившаяся перед зеркалом, вечером потащилась к Костьке-трупильщику. Анатолий пошел за ней к городскому моргу. Он замерз, истерзал себя ревностью и понял, что без этой конопатой, шепелявой польки не может жить.
На их свадьбе пять дней гуляла вся Партизанка, так назывался какой-то особый район в Иркутске, где, очевидно, когда-то жили иркутские партизаны или ихние подружки
Когда Лена вышла замуж за Толю, его призвали в армию, и они стали ездить из гарнизона в гарнизон по всему Дальнему Востоку, и на какое-то время задержались на реке Манджурка. Там они впервые в жизни попробовали китайские бананы и ананасы. С отвращением они потом вспоминали китайских уток, которых практичные китайцы откармливали рыбой, поэтому их жирное мясо, сколько его не туши, так и пахло рыбой. Здесь же Толя потерял свою прекрасную шевелюру, а Ленины косы понесли значительный урон. Что-то там было такое, о чем не любят рассказывать военные руководители, которым всегда мало того, что они имеют в арсенале.
Как и подавляющее число тогдашних молодых семей, Толя и Лена были отчаянно бедны. Переезды только усугубляли их нищету. Кроме того, они были средними детьми огромных крестьянских семейств. Во время учебы в институтах им помогали старшие дети, теперь на них ложилась обязанность по обучению младших. Каждая копейка учитывалась ими, и тратилась Леной с серьезными житейскими размышлениями. И еще они оба очень хотели, чтобы Анатолий поскорее демобилизовался из армии, хотели устроить тихую жизнь в каком-нибудь хорошем городе. Лене под завязку хватило сибирской и дальневосточной романтики. Практическая женщина, она хорошо помнила, как их семейство в Сибири в войну выцарапывало из мерзлой земли на чужих огородах гнилую картошку.
Она хотела бы жить в таком месте, которое имело бы более благодатные природные условия, но все же никогда не попало бы в оккупацию. А Толя, чей родной хутор в последнюю войну оккупировали дважды, и вынужденный писать в анкетах "был во время войны на захваченных и оккупированных территориях", целиком в этом был согласен с женой. Но пока они все ездили-ездили, служили-служили…
Курица — не птица, Монголия — не заграница, А офицерская жена — не барыня!Лена очень хотела родить поскорее своих девочку и мальчика, но ее плодовитые родители завели еще одну дочку напоследок, а от папы Анатолия пришло слезное письмо о срочных выплатах налогов, с которыми они не могли справиться сами. И Лена, посылая их родителям денежные переводы, с горькими мыслями все отодвигала встречу со своей девочкой.
По ночам она часто думала об этой девочке. Она должна сделать все, чтобы у маленькой в детстве было все замечательно, а не как у Лены. Еще в институте на третьем курсе, на практике по педиатрии, их водили в показательное детское отделение. Лена впервые увидела там детскую никелированную кроватку, которая потрясла ее своим великолепием. Она твердо решила, что и у ее дочки будет такая же! Нет, она не может рожать на чемоданах в переполненном офицерском бараке!
Они как-то там предохранялись. Понять это могут только те, кто пытался предохраняться в 50-е годы в СССР. А вообще-то, секс — в огромном дощатом бараке с одним титаном на семнадцать семейств с бабками и детьми оставил у Лены на всю жизнь достаточно сильные ощущения.
После демобилизации Толи они стали перебираться поближе к центру страны. Строителю и врачу были везде рады. И вот, они осели в небольшом городе в Предуралье. Здесь им наконец-то дали первое в их жизни отдельное жилье — настоящую однокомнатную квартиру! Хотя она была совсем маленькая, а ее единственное окошко упиралось прямо в трубу районной котельной, и занавески были постоянно в копоти, но какое это было счастье! Их особо не интересовала история этого городка, который вообще-то еще до революции был известен на весь мир своими оружейными производствами, недалеко от их дома даже жил всемирно известный конструктор автоматов. Какое им дело до этого всего? У них была радиола, коллекция пластинок Лещенко на рентгеновских снимках, они были молоды, и их жизнь только начиналась! Теперь даже можно было подумать о маленьком!
* * *
Бывают в жизни грустные дни. Они становятся очень грустными, когда все тянутся и тянутся один за другим месяцами, годами… Молодая чета выяснила, что весь их героический взаимный сексуальный садизм был совершенно напрасен. У Елены, скорее всего, никогда не будет детей. Из-за голода в военном детстве она имела недоразвитые женские органы. Они жили в ожидании чуда, но ожидание затягивалось. Дальнейшая их совместная жизнь была под вопросом. Множество одиноких женщин уже пытались «раскрыть» Лениному мужу глаза. Поэтому она очень нервничала и часто уходила на работу с опухшими от ночных слез глазами.
Как-то Анатолий пришел нетрезвым с работы и сказал, чтобы Лена не переживала, они еще подождут год, а потом уедут туда, где их никто не знает, и возьмут малышку из роддома. Но каждую ночь Лена плакала и звала свою девочку.
Однажды Лену вызвала главврач — знающая, пьющая, курящая, прошедшая фронт баба, и потребовала объяснить, почему она плачет в ординаторской. Выслушав сбивчивый Ленин рассказ, она молча написала ей направление к знаменитой в их городе Калинкиной.
Калинкина была представителем старинного русского рода повитух, ее мать была акушеркой, сама Калинкина тоже стала гинекологом. В их роду женщины рождали, в основном, девочек, которые с детства помогали своим матерям облегчать муки рожениц и повивать младенцев.
Калинкина была тогда не первой молодости, но очень моложавой, жизнерадостной женщиной. Возле нее постоянно были друзья, подруги, малознакомые люди, с которыми она легко сходилась. Калинкина приняла Лену очень хорошо, с энтузиазмом и рвением она стала соображать, как помочь ей родить младенчика. Интересуясь всеми медицинскими новинками, она решила опробовать на Лене некоторые новые тогда гормональные препараты.
Лена оказалась весьма исполнительной и аккуратной пациенткой. Небольшая надежда все-таки была, и она очень старалась. А когда Калинкина после очередного осмотра сказала: "Лен, ты только не волнуйся, особо не надейся, но, по-моему, что-то есть!", они расценили это как общую победу. Правда, обе врачихи хорошо понимали, что выносить ребенка с детской маткой шансов мало.
Анатолий переживал, ликовал, терял надежду и снова верил. Елену мучил жестокий токсикоз. Она очень береглась, ходила только пешком, не пользуясь общественным транспортом. Они теперь все время жевали и нюхали халву. Как ростовский житель, Толя раньше очень любил халву, но после того, как они были беременные, он не мог брать халву в рот лет пять.
Когда Лене бывало совсем плохо, она, намаявшись, старалась заснуть, свернувшись калачиком, поверх покрывала на их кровати. Однажды ей приснился высокий, похожий на китайца человек с длинными черными волосами, собранными в странный пучок. Он, улыбаясь, вглядывался в нее и уважительно кланялся, как бы говоря, что все будет хорошо. Лена проснулась и сообщила мужу: "Толь, я какого-то мужика желтого видела, он мне улыбался!". Анатолий решил, что это верный знак того, что родится мальчик. Они тут же придумали для него замечательное имя — Санька! Так звали Толиного папу. С этого времени все пошло как-то само собой. Токсикоз отступил, аппетит у Лены стал просто замечательный. Оставалось просто ждать.
* * *
Младенец и по подсчетам супругов, и по подсчетам Калинкиной должен был родиться в новогоднюю ночь. Но прошло три недели в бесплодном ожидании и непрерывных терзаниях родителей. В первые мгновения, когда Солнце покинуло созвездие Козерога и встало в созвездие Водолея, будущая мама ощутила и первые схватки. Родилась крупная, не по-русски красивая девочка.
В древности астрологов бы очень удивило рождение в такое время девочки, потому что в этот час, когда в мир приходили воины, рождались, как правило, мальчики.
Девочку назвали Варварой, Варей, Варюшей, Варенькой. Варины родители не могли наглядеться на рожденное ими дитя. Их совершенно не смущали длинные черные жесткие волосы, желтый оттенок кожи и монголоидный разрез узеньких глазенок, которыми она с любовью на них взирала. Именно о такой дочке они и мечтали! Все эти странности ее внешнего вида вполне научно были объяснены педиатром роддома, как детская желтуха. Этой желтухой Варя болела еще месяцев до десяти. После чего ее облик стал разительно меняться, сглаживаться и приобретать ярко выраженные отцовские черты.
А спустя год после того, как родилась Варя, умерла ее вторая мама Калинкина. Она отходила мучительной смертью на последней стадии рака. Десница Господня обрушилась на энергичную, столькими любимую женщину страшно и неожиданно. Ее терзал голод, но она не могла принять пищу из-за опухоли в пищеводе и желудке. Метастазы были уже разнесены по всему ее организму, и боли не снимали даже большие дозы морфия, который в кармашках халатов таскали ей дочь, внучки и вся медицинская общественность города.
Глядя огромными глазами в черных полукружьях век, она с мукой просила Бога о смерти и с удивлением спрашивала не столько окружающих, сколько себя, почему же ей, которая помогла стольким людям, выпала такая смерть? Но в то время, когда государство уничтожало тысячами своих граждан, обрекая многие семьи на распад и нищету, а женщин — на безмужнее существование, запретив, однако, им делать аборты, многим женщинам помогла тогда Калинкина избавиться от нежелательного потомства, приняв их грех на себя. Она так и не поняла, как, будучи таким проницательным врачевателем в чужих заболеваниях, она совершенно не заметила свой вполне типичный, ставший для ее карьеры в медицине роковым случай.
О ВАССАЛЬСКОЙ ПРЕДАННОСТИ И НОЧНЫХ ГОРШКАХ ПОВЕЛИТЕЛЕЙ
Из первых воспоминаний детства Варя вынесла убеждение, что ее родители — самые замечательные люди, которые очень любят ее. Поэтому ей, проявляя принятую в таких случаях преданность, не следовало нервировать их младенческими капризами, а необходимо было как можно более радовать, украшать каждый их день своим существованием. И поверьте, не то было странно, что этот ребенок знал, что такое вассальская преданность, добровольно отдаваемая как дар, ведь многие дети долго помнят и не такие странные вещи, а то, что малышка строго следовала этим принципам.
Варя не изводила своих родителей типичными младенческими истериками, она мирно спала каждую ночь, она не болела, развилась четко, как было сказано в маминой медицинской книжке по педиатрии. Маленькая быстро освоилась с горшком и совершенно спокойно переносила одиночество в детской никелированной кроватке с панцирной сеткой — гордости Вариных родителей.
Как-то папа Толя взялся выполнить какую-то сложную проектно-сметную документацию, он сидел с ней дома по ночам, что-то высматривая на логарифмической линейке. Варя, на самом деле, почти не спала по ночам, ей хватало дневного сна, а ночью она лежала с закрытыми глазами и очень скучала.
Утром она ждала, когда из-за толстой черной трубы встанет солнце, а потом проснется мама и будет ее кормить. Поэтому ей очень нравилось подглядывать за папой. Правда, после работы теперь папа возвращался измотанный, злой и почти не вынимал ее из кроватки для милых родительских утех. Зато когда папа сдал свой проект, то на полученную премию он купил фотоаппарат «Зенит» и все для печати фотографий! Варина младенческая жизнь теперь тщательно фиксировалась родителями и помещалась в виде черно-белых снимков в огромный плюшевый фотоальбом.
* * *
Первые проблемы обрушились на ее родителей, когда Варя пошла в садик из ясель, где ее очень любили и ценили за непритязательность нрава, взрослую рассудительность и непоколебимое спокойствие. Началась, принятая в те времена, идеологическая обработка маленького гражданина, к которой Варя не была подготовлена ни Мойдодыром, ни доктором Айболитом.
В каждой группе садика был обособленный ленинский уголок, где стоял бюст Ленина, висели вырезки из журналов с его редкими фотографиями и репродукциями живописных полотен, с изображениями Ильича. Трогать руками эти предметы детям не разрешалось. Воспитательница с жаром рассказывала малышам о замечательной жизни дедушки Ленина и о том, как он любил всех детей.
На этих занятиях Варя вертелась, чесалась, задавала всякие нелепые вопросы, за которые ее ставили в угол темной кладовки. Если она сидела далеко от окна и не могла следить за тем, что происходит на улице, она пялилась на детей, не понимая, как Ленин, даже не видя их, мог любить всех их скопом. А может, он и любил их только потому, что никогда не видел? Посмотрел бы он на Андрейку, который ссытся в тихий час! Или на Аньку, которая потихоньку жрет свои сопли, или на Машку, у которой каждый раз находят вшей…
Варя привыкла раньше слепо следовать воле старших, безоговорочно верить их каждому слову. Но, слушая Галину Ивановну — рыжую, прыщеватую, измотанную жизнью женщину, которая не могла, по виду, знать всей истины, Варька впервые испытала стыд за взрослую ложь.
Девочке с младенчества снились странные сны о чужой малопонятной стране, о сильном желтолицем мужчине в кожаных латах. Варя давно потеряла ту границу, которая разделяла ее сны и реальность. В своих дневных играх она продолжала ночные разговоры, с жаром спорила с кем-то, сражалась, подолгу в одиночестве размышляла. Желтолицый тянул ее к себе своей житейской историей, своими мыслями, всей жизнью. Так, как знала его по длинным красочным снам Варя, не помнил и не знал никто. Варька многого не понимала в тех снах, в мрачных приключениях, о которых ей рассказывал желтолицый, ей казалось, что она слышит его мысли и смотрит на мир его глазами.
В одном из снов она видела своего воина во главе свиты, за которой бежали полуголые узкоглазые ребятишки, которые кричали ему: "Обезьяна! Обезьяна!". Как не молил желтолицый Богов о сыне, детей у него не было, поэтому, смирившись с прозвищем, которое ему дали дети, он испытывал почти физическую боль, глядя на маленьких вертлявых ублюдков. Нет, если не имеешь сына, к чужим детям будешь испытывать только ненависть!
Желтолицый тоже с детства грезил властью, он знал, что такое близость к ней, знал тянущую, никогда не утоляемую жажду собственного величия. И никто, кроме Вари, не подозревал, что на кровавый захват престола после умершего владыки желтолицего толкнула детская мечта. В этом ему было трудно признаться даже себе. Как-то мальчишкой с многочисленными зеваками он видел торжественную процессию, бережно доставлявшую фарфоровый ночной сосуд, вывезенный для правителя страны из-за моря. Тогда-то он и дал себе зарок пользоваться только этой чудесной хрупкой посудиной. К тому, что задумано в детстве, в те времена шли по чужим головам.
А воспитательница говорила, что дедушка Ленин еще будучи, судя по картинке в детской книжке, хорошеньким кудрявым мальчиком с садовой лейкой, решил осчастливить трудящиеся массы земного шара руководством Коммунистической партией и созданием первого в мире государства рабочих и крестьян. Варя сравнивала эти Ленинские мечты с близкими и простыми мечтами человека из снов, что-то было в них не то, не так…
И по ребячьей наивности, из желания лучше понять, то, что ей внушали, Варька как-то на показательном занятии, которое проводила их воспитательница в присутствии заведующей садиком, спросила: "Галина Ивановна, а что, дедушка Ленин никогда даже не какал?"
Ее вопрос повис в тяжком молчании, дети от страха перестали колупать носы, а няня у двери замерла с грязной кастрюлей в руках. Все смотрели на заведующую, которая, фыркнув, молча вышла из группы.
Заведующей у них в садике была очень красивая загадочная женщина. Помог ей на это место устроиться ее любовник — крупный военный начальник из Москвы, с которым она познакомилась в конце войны на оборонном заводе. Там она, детдомовская сирота, работала после ФЗО. Она еще помнила своих родителей — молодых интеллигентных людей, канувших в волнах последней предвоенной репрессии. У нее рос такой же, как она, красивый мальчик, совсем непохожий на своего пожилого отца, обремененного семьей и государственными заботами.
После злополучного воспитательного часа Варьку опять наказали. А потом ее вызвала к себе заведующая в свой кабинет для проработки. Если бы она ее не вызвала, то Варя так и стояла бы в темноте кладовки, куда складывали раскладушки и детские матрасики. Она там и так уже простояла очень долго.
Девочка с любопытством глядела, как заведующая жадно затягивается сигаретой у раскрытого окна. Она обернулась к Варьке и со смехом спросила: "Ты что, Варвара, совсем дура?". На этом ее проработка закончилась, но она дала Варе гораздо больше, чем все воспитательные часы вместе взятые.
Дети — самые жестокие создания, особенно, если ими коллективно руководит, науськивает неумный взрослый человек. Варю стали травить дети. Она не могла спокойно сходить в общий с мальчиками туалет с унитазами, выполненными вровень с полом. Обязательно врывался какой-нибудь озорник и кричал: "Варька! Расскажи, как Ленин какал!". Варина мама, после жалоб Галины Ивановны, опять стала плакать ночами, а утром просила Варю все время молчать.
Варя понимала, что без ее решительных действий ситуация станет вовсе неуправляемой. Поэтому она подкараулила самого ненавистного шалуна, когда он, раскорячив ножонки, присел в туалете. Когда Варя встала напротив него, он по привычке, ничего не заподозрив, натужно спросил: "Варь, а как Ленин-то срал?" Варя огрела его кулаком по голове так, что он с размаху уселся прямо на содержимое унитаза, и мстительно ответила: "А вот как!" Потом ее заставили вытирать испачканную задницу ревущего мальчугана, что она кое-как сделала. Целый день дети показывали на него пальцем и, зажимая носы, говорили друг другу: "Вон, Ленька как Ленин посрал!". После этого к Варе никто не приставал, хотя она здорово береглась первое время, посещая туалет.
ВАРЬКА УСТРАИВАЕТ СВОЮ ЖИЗНЬ
Варька как-то проморгала, что всех мальчиков в их группе уже расхватали. Никого ей не досталось! Никто не хотел на ней жениться! Она зажимала крупным развитым телом какого-нибудь сопляка, и требовала немедленно на ней жениться, а тот ей сообщал: "Да ты чо? Я уже на Наташке женюсь!".
Варя не знала, куда ей деваться от отчаяния. Что скажут папа и мама, если узнают, что она осталась неженатой? Мама, наверно, опять плакать будет! Как бы ей ухитриться и отхватить кого-нибудь?
Она била девочек и мальчиков, но даже после этого они не отказывались от своего намерения пожениться. Она была вне этого замечательного праздника жизни. В садике у них каждый день проходили шумные свадьбы, после которых молодоженов била Варька. Но однажды к ней подошел уже два раза женатый Игорь Сударушкин и сказал, что он вообще-то сразу хотел на ней жениться, но боялся, что она его побьет. А теперь, когда Варя его все равно побила, он бы на ней женился.
Варя сразу как-то остепенилась замужем. Драки у них в группе прекратились. Она, на правах жены, отобрала у Игоря красивые полосатые носочки и, к всеобщей зависти, стала их носить сама. Потом их мамы объяснялись друг с другом очень громко в раздевалке. Теперь Игорь уходил домой в носках, а, приходя в садик, отдавал их Варьке. Он отдавал ей и все ириски с полдника, потому что Варя их очень любила.
* * *
Ночью Варина мама вставала и проверяла Варю. Варя сквозь сон чувствовала, как мама трогает ее лоб, оправляет одеяло, слушает ее дыхание. Ей было очень жалко маму, которая иногда кричала ночами. Как-то сквозь сон Варя сказала: "Не бойся, мама, я все время буду с тобой!". Мама, успокоенная, ушла. Хоть бы они еще кого-нибудь родили, тогда бы ее мама не шаталась бы по ночам.
Но когда мама подходила к ней по ночам, Варя почему-то испытывала стыд, будто она в чем-то солгала маме. Варя хорошо знала, что она совсем не та девочка, которую ищет мама ночами. Поэтому она легче всего чувствовала себя с папой. Она слушала рассказы о его родине и об осадках фундаментов. Папа иногда сдавал объекты и приходил домой пьяным, тогда мама отсылала его от себя, и он с Варей шел стирать белье, и они долго разговаривали под шум льющейся воды. Один раз четырехлетняя Варька посоветовала отцу завести второго ребенка.
— А как же мы жить будем, Варенька? Квартира маленькая, получки нашей едва-едва хватает, я тебе уже не смогу каждый день леденцы покупать, — засомневался папа.
— А-а, как Бог даст! Ты бы вот головой думал иногда, почему маму зав отделением провожает! Они у подъезда вчера целый час стояли и хихикали! А дома, вместо того, чтобы кушать готовить, она потом у зеркала все крутилась и брови карандашом рисовала.
— И я еще пьяный приперся!
— Да не кисни ты, не отрезанный ломоть! Если бы у меня брат был маленький, то и мне веселее было бы, и мама бы семьей занялась.
— Тебе бы с матерью моей, с Настасьей Федоровной пожить. Вы бы с ней общий язык нашли! Обе — маленькие и башковитые!
Варя действительно была не по возрасту башковитой. Кроме садика она практически не общалась со сверстниками. Во дворе ее приняли в компанию мальчишки значительно ее старше по возрасту. С их слов и наблюдений, здорово ее озадачившим, она, собственно, и рассказала папе о нестандартном поведении мамы.
"Все, Варька! У тебя папка новый будет! Да не кисни ты, не отрезанный ломоть! Будешь жить, как Бог даст!" — предупредил ее многоопытный десятилетний дружок Валерка, мама у которого жила с попом городской церкви. Когда кто-то принимался дразнить Валерку за длинноволосого материного примака, они с Варькой били его на пару.
Варька бегала с ребятами по соседским дворам, где они играли в «караульщиков». Это была такая игра, в которой Варька никак не могла до конца разобраться. Она там все время что-то караулила и предупреждала друзей тихим свистом. К ней, единственной девочке в компании, ребята относились с взрослой заботой, следили, чтобы она не ругалась плохими словами, а в десять вечера прогоняли домой. Это было замечательное время, потому что у них все время откуда-то были деньги на мороженое и ириски. Жаль, но оно быстро закончилось, потому что к осени Варькиных дружков, включая Валерку, разобрали по колониям. Хорошее ведь всегда заканчивается быстро.
* * *
Через год семья увеличилась. Родился маленький Сережа. Этому пацану либо было плевать на вассальскую преданность, либо он понимал ее совершенно иначе, чем Варя. Он считал, что и папа, и мама, и сестра существуют только для него, любимого. Поэтому он орал ночью, днем, утром и вечером. Сначала родители пытались как-то систематизировать его крики, полагая, что они являются следствием каких-то причин, может быть даже заболеваний. Но все теории этот младенец опровергал сразу же. Его не устраивало абсолютно все. Варя сразу поняла, что Серега орет просто так, от недомыслия. Он замолкал, когда она начинала тихо беседовать с ним, но развлекать его ночью она не могла. Поэтому Варька придумала ему занятие на ночь: на все десять пальцев брата теперь надевались здоровые соски, которые он по очереди мусолил всю ночь.
Брат у Варьки, конечно, получился так себе. Без четких жизненных понятий и ориентиров. Зато папка остался старый.
ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ?
Варю же в этот период очень волновало и интересовало одно — война! Почему-то просто даже само это слово вызывало в ней внутренний трепет, хотя родители практически ничего не рассказывали Варе о войне. Они ее хлебнули досыта, и просто не могли, не хотели вспоминать. Варя была первым ребенком по прямой линии в семье отца, который не видел войны. Хотя мама Вари тоже не видела войны так, как ее повидал папа, но она с лихвой испытала все ее бремя и страшную изнанку.
Проходя по городу с папой из садика, Варя видела у пивных безногих, грязных дяденек в телогрейках на катушках. Все называли их «самоварами». Папа говорил, что они были на войне, и там им оторвало ноги. А за девочкой Мариной из их группы приходил иногда ее папа со страшной пластмассовой нижней челюстью и без носа. У него на груди болтались две боевых медали, и от него все время пахло водкой. Мама Марины была поварихой в их садике, она тоже иногда пила, а потом плакала и пела громкие песни. Варька старалась не замечать всех этих военных неудачников. Воины — это особый клан людей, другим на войне делать было просто нечего. Война — это свой замкнутый мир, это не для всех. Чего эти самовары-то туда поперлись?
Вот про войну Варя могла слушать воспиталку сколько угодно! Галина Ивановна расписывала необычайные подвиги солдат, их героизм и мужество. Война в таких рассказах выглядела легким и интересным делом, враги — глупыми, самодовольными и, судя по снаряжению, очень богатыми.
Сережка из кроватки молча пялил на Варю мутные голубые глазки, когда она маршировала перед зеркальным шкафом под военные марши и песни краснознаменных ансамблей, лившихся из радио. Если бы ее в этот момент спросили, как в песне: "Хотят ли русские войны?", она бы, конечно же, ответила утвердительно.
Им объясняли, что мальчики — все, как один, будущие солдаты, а девочки — санитарки. Варька жестоко завидовала пацанам, но была рада и такому своему военному применению. Вся душа в Варе играла от этих рассказов, ей хотелось немедленно попасть на эту войну. Дома она держала в боевой готовности санитарную сумку, куда потихоньку от матери прятала медикаменты, марлю, вату. Она понимала, что ей надо переждать какое-то время и подрасти, но с трудом терпела вынужденное бездействие. Вот придет она к военным, а они сразу увидят, что она не какой-нибудь пьяный самовар, что держать ее в санитарках себе дороже будет. Они ее сразу командиром части поставят, а она там по ходу дела разберется.
Как-то, когда ожидание стало совсем нестерпимым, Варька подошла к воспитательнице и, стесняясь, пересиливая себя, спросила: "Галина Ивановна, а в какой стороне война?". Галина Ивановна, сосредоточенная в этот момент на возникшей на их площадке возне, не задумываясь, махнула наугад рукой. Потом она, со слезами, при участии милиции, вспоминала, куда же именно она махала. Варю выловили прохожие, когда увидели, что пятилетняя девочка, совсем одна стоит на заводской плотине. Она соображала в тот момент, как ей преодолеть огромный заводской пруд.
Мальчики приносили в садик вырезанные из дерева ружья и пистолеты, стреляли друг в друга из-за кустов. Варя внимательно присматривалась к их игре. Вот, значит, как теперь воюют, из-за кустов. Она пыталась объяснить детям, как это интересно — драться, глядя врагу в лицо, вдыхая его страх и смерть. Да, и тебя, конечно, могут убить, но ведь на то она и война — эта самая азартная и высокая игра со смертью. Ей было странно, что уже в детской игре маленькие мужчины пытались выгадать для себя какую-то выгодную позицию в кустах и победить своего врага исподтишка, украдкой. Вот саданут по этим кустам, и подбирай потом санитарки самоваров!
СЕМЬЯ СОСТОЯЛАСЬ
Теперь у ее родителей были мальчик и девочка — "красные дети", как их называли в народе, их семья состоялась. Папа и мама переживали период новой влюбленности друг в друга, им хотелось теперь больше быть вместе наедине. Правда, это редко удавалось. Варя была преданной ответственной девочкой, ее родители получили прекрасную няньку. Они почти полностью передоверили воспитание брата Варе, которая, из присущей ей заботливости и хлопотливости, слишком баловала невозмутимого, ленивого и капризного бутуза.
Папа и мама очень много работали. В них еще была крестьянская закваска, которая выражалась в умении «ломать» работу, внутренней неловкости пребывания без нее, сидения сложа руки. Их должности к концу 60-х годов были достаточно высокими. Сейчас над этим можно посмеяться, но для Вариных родителей это означало только одно: высокая ответственность. Поэтому Варя не помнила выходных или праздника, когда папу или маму бы не вызвали срочно на работу, где они, по их выражению, просто прикрывали чью-то задницу. Папа обычно уходил к 7 утра, возвращался около 11 часов вечера. Мама работала на две ставки с четвертью. Только советский врач знает, что это такое. Мама Вари была очень хорошим специалистом, на протезирование к ней записывались на полгода вперед. Бабушки Вари и Сережи жили очень далеко: одна — в Сибири, другая — в Ростовской области. В городе у их семьи вообще было очень мало знакомых.
Поэтому дети часто оставались одни. Варя ненавидела все чужие задницы вместе взятые, особенно, когда из-за этих задниц срывались походы в кино или на карусели. В этой ситуации папа не мог не принять решения, и он его принял. Для Вари, конечно, не было секретом, что это решение вначале обдумала мама, а только потом принял его папа. Но, так или иначе, оно было принято. С этого момента ежегодно дети отправлялись на три-четыре месяца к родителям папы на хутор в Ростовскую область, где, по их представлениям, за городскими беспризорниками должен был осуществиться надлежащий надзор и уход. Дети получали бы разнообразную калорийную пищу, богатую витаминами, клетчаткой и микроэлементами. Они находились бы весь световой день на свежем воздухе, в общении с природой.
Если их практическая мама продумала все до таких мелочей, как микроэлементы, то вопрос можно было считать решенным. Через некоторое время добро на приезд внуков от бабушки Насти было получено, и для детей начался новый период жизни, который можно назвать, «хуторским».
НОВЫЕ РОДСТВЕННИКИ
Где-то очень далеко в Ростовской области находились два хутора, разделяемые маленькой тихой речушкой. Сюда издавна уходили те, кому была не по душе холопская крепостная жизнь. Эти люди привыкли самостоятельно справляться с трудностями, полагаясь в том, только на себя. Здесь не принято было посвящать в свои беды соседей, хотя все они были широки душой и отзывчивы. Выживали на хуторах далеко не все. Раньше сам жизненный уклад был огромным испытанием. Ведь мирное существование казака могло в любой момент прерваться. В каждом дворе стоял конь, не использовавшийся в хозяйственных работах, в каждом дворе имелся собранный вещевой мешок и готовое к применению оружие. Казаки этих хуторов должны были явиться к сбору в станицу через три четверти часа после появления вестового. Постоянная готовность к отпору и полувоенная жизнь с ежегодными, обязательными военными сборами, с необычной иерархической демократией выковывали весьма своеобразную породу людей.
* * *
Варя и маленький Сережа были впервые оставлены родителями на попечение бабушки и дедушки весной, когда брату исполнилось полтора года. Южный говор, иная несуетная жизнь, иной климат неожиданно пришлись Варе по душе. С удивлением она узнавала о своих родственниках много нового. Здесь с ней обращались как с равной, как со взрослой. По хуторским понятиям она уже и не считалась ребенком — на ней была обязанность по уходу за братом. Кроме сельскохозяйственной работы заняться здесь было нечем. Кругом — ровная как стол степь. Когда-то у хуторов была до революции огромная дубовая роща, но потом ее повывели. Но речка была замечательная! С мелкими песчаными заводями и теплой водой. Дед вылавливал в ней раков ведрами, они их варили с укропом и тмином. Никто особо за Варькой и братом не следил, считая, что девка она уже взрослая, сама разберется. У деда и бабушки было много своих забот. Насчет микроэлементов и вообще жратвы мамин план попал в самую точку. В двух погребах висели копченые колбасы, окорока, стояли кринки со сметаной и сливками, десятилитровые банки с маринованными огурцами и помидорами, вишневыми компотами, бочки с солеными арбузами. В амбаре — в сундуках, стоящих друг на друге в четыре ряда, хранилось сало. Каждое утро дед шел в сарай к курам и выпивал пару теплых еще яичек. В хозяйстве откармливалось два кабана, а вечером с выпаса Варя встречала корову с телкой и пять пуховых козочек. Кур и гусей на хуторе никто не учитывал, они плодились и жили там сами по себе, почти не требуя ухода, ими просто пользовались, приготовляя гусиное сало, шкварки, копченые тушки, перовые и пуховые подушки. Отец в каждом письме просил своих родителей сократить поголовье живности, облегчив себе жизнь. Пять их оставшихся в живых детей разъехались в разные стороны, дедушка и бабушка жили на подворье на 36 сотках одни. Но старые люди не могли пересилить себя и свернуть свою жизнь на непривычное праздное существование.
Раньше Варя была твердо уверена, что она — русская. Пребывание на хуторе посеяло у нее на этот счет большие сомнения. Например, девичья фамилия бабушки Насти была, оказывается, не Кукарекина, как было записано в ее паспорте, а Кукаричикян. Ничего удивительного в этом не было, так как когда-то в казаки общество принимало даже крещеных татар. А армяне были все-таки христиане, хоть и соленые. Они при крещении младенцев мазали не елеем, а соленой водой.
Но, поскольку одна половина хутора их упорно кликала Кукареками, а другая половина — Чикамасами, Кукаречикяны были вынуждены поменять перед самой империалистической войной свою фамилию на более благозвучную — Кукарекины.
В казацкой крови смешались и кипели крови всех южных народов, откуда только не везли себе казаки поперек седла жен, до тех пор, пока не расплодилось и не расцвело новое на Руси горластое, ушлое племя. "Донской казак" — эту национальную принадлежность и записывали до революции в паспортах, поскольку зачастую не представлялось возможным уследить прямую линию. Этих кипящих энергией отчаюг было необходимо держать в крепкой узде, которой было для них раньше полувоенное положение казака. Александр Кузьмич Ткачев, дедушка Вари и Сережи, имел в жилах греческую, турецкую, цыганскую кровь. Но главное, как выяснила Варя, он имел такую широко распространенную по Ростовской области фамилию, что это было все равно, если бы не иметь ее вовсе. Ткачевы, Ткачуки, Ткачи, Ткаченко в изобилии произрастали в этих местах с давними ремесленными традициями. И уже годы спустя Варя столкнулась с несколько иной транскрипцией своей девичьей фамилии. В газете была ссылка на мнение какого-то адмирала флота по фамилии Неткачев. Это уже было, как говорится, не из родовы, а в родову!
* * *
Варя видела, что люди помнят, хранят и еще живут традициями казачества, с грустью вспоминают такое близкое для них, но уже «старое» время. Она спросила бабушку — казаки ли они? Бабушка ненадолго задумалась, а потом сказала, что уже, верно, нет, не казаки. Она долго рассказывала Варе о жизни, об ушедших людях, бывших ее ровесниками. Рассказывала больше для себя, перетасовывая вольно события и даты, не рассчитывая на рассеянное внимание ребенка. Но Варя впитывала эти рассказы как губка. Они позволяли многое понять, оценить в жизни, взглянуть на многие вещи иначе, чем им объясняли в садике. По ее мнению, населявшие хутора люди были более близки ей по духу, чем рисованные герои детских книжек. Их мир органично вписывался в ее внутреннее состояние, был ему созвучен. Именно так она, когда-то давно, представляла себе настоящую, полноценную жизнь: любить — так любить, а рубить — так рубить! А этот их клич: "Сарынь на кичку!" — поставил точку в Вариных колебаниях, она стала совсем хуторской.
Бабушка, закатив от умиления глаза, расписывала дореволюционную хуторскую жизнь с прилагательными в превосходной степени. Варя четко выделила для себя смысловую синтагму: жизнь до революции здесь была больше наполнена смыслом, замечательной едой, хороводами и красивой одёжей. Но как же быть с четко усвоенной ею схемой: до революции все плохо, а после нее — сразу же все хорошо? На все Варькины идеологические искания бабка презрительно махала рукой и категорически изрекала: "А! Все брешуть краснопузи!". Варе такая позиция представлялась однобокой, она понимала, что ей еще многое предстоит выяснить. Например, куда делись все донские казаки? По логике выходило, что они вымерли сами по себе, вследствие вскрывшейся их полной ненадобности. Когда она поделилась своим логическим выводом с бабушкой, та обозвала ее обидно «кацапкой» и долго гонялась за ней с мокрой тряпкой и криками: "Я те расскажу, как казаки сами вымерли за ненадобностью!". Бабка пожаловалась деду, и тот, обычно такой добродушный, надулся и не разговаривал с Варей за вечерей.
* * *
Осень наступила как-то неожиданно. По ночам зашумела листва, утром стало холодать. Пора было собираться домой. За детьми приехал отец. Бабушка стала хлопотать, собирая их в дорогу. Пока папа и его друзья, жившие на хуторе, ездили пьяные на мотоцикле по степи и кричали песни, бабушка увязала два чувала с колбасами и салом, отобрала корзину свежих яиц. Потом они с Варей сходили за папой и приволокли его домой. Утром папа был сердитый, сказал бабушке, что это он все не довезет, что у них с маленьким Сережей две пересадки. Бабушка с Варей быстро переклали самое необходимое в ее заплечный рюкзачок, и — прощай, хутор!
ОПЯТЬ САДИК, БЛИН…
Зиму было вспомнить совсем нечем. Был один садик. Утром они выходили с папой очень рано. Вначале заносили толстого, тяжелого Сережку. Потом, мимо круглого пивного павильона, который в народе звали «шайбой», шли в садик. На улице было хоть на что посмотреть! К домам у дороги подвозили торф в брикетах. У него был ни с чем не сравнимый запах! А по дорогам старые грустные лошади тащили раздолбаные телеги с молочными флягами. Иногда они заезжали на тротуары, где после лошадей всегда оставались огромные какашки. Какашки Варька не брала, а торфянные брикеты иногда тайком притаскивала в садик. Варю стали очень уважать мальчики из их группы. И не только потому, что она их била. Вечером папа заезжал за ней на огромных страшных автокранах, и они ехали проверять вторую смену. Пацаны умирали от зависти, глядя в дырки в заборе. Потом папу повысили, он стал ездить на газиках, это было совсем не интересно. Утром теперь они тряслись с Сережкой в холодном газике с замерзшими окошками, а вечером их везли на нем же домой. Какая уж тут романтика!
C повышением у папы стало намного больше сдаточных объектов. Раньше он сдавал один раз в квартал, теперь он стал сдавать объекты каждый месяц, а потом и каждую субботу. Кроме того, к нему теперь часто приезжало начальство из Москвы. Приходил он домой после этого глубокой ночью очень пьяный. Мама не разговаривала с ним, родители общались через Варю: "Пойди, скажи своему отцу…", "Доча, скажи маме…". Маме надо было беречь руки, потому что она должна была ими каждый день что-то делать у больных во рту. Поэтому папа в неразговорные дни мыл вместе с Варей полы и стирал белье. После уборок и стирок мама оттаивала и начинала разговаривать с папой до новой сдачи объекта.
Весной в садике у Вари прошло мероприятие под названием "Здравствуй, школа!". И только тогда до нее дошло, что ни с кем из этих ребят она больше не увидится, что все они пойдут в разные школы. Ей стало грустно. К ней, со слезами на глазах, подошел Игорь Сударушкин и они чинно, как и положено женатым, простились навсегда. В мае Варю и Сережу снова направили на хутора.
ТАБОР УХОДИТ В НЕБО
Жизнь в глубинке Ростовской области и тогда еще требовала достаточного душевного подъема. Мать отдельно собирала ей пакет медикаментов, подробно разъясняя, чем и в каких случаях необходимо пользоваться. Медицинской помощи на хуторах с населением около шестисот человек не было. Телефонная связь появилась несколько позднее у колхозного счетовода и в начальной школе. Да и электричество протянули только-только, потому что здесь летом стали устраивать военные лагеря на месте традиционных казачьих сборов, которые проводились на хуторах еще до революции. Если весной и летом у стариков гостило множество городских родственников, то в зимнее время это вообще были глухие места. Хутора значительно уменьшились по сравнению с довоенным временем. Многие семьи распались и разбрелись по свету, от многих остались только старухи, которые почему-то живут дольше стариков. Зачастую при старухах коротали век незамужние пожилые дочери. У иных, еще не очень старых женщин, оставшихся обсевками огромных казачьих семей, иногда были дети безотцовского военного или после военного заводу. Этих деток ничто не держало в родных местах, мотало по свету, прибивало к случайному огню, поэтому многие бабушки постоянно жили с малолетними внуками, сброшенными на их руки.
Вариной бабушке каждый раз из соображений приличий и щепетильности приходилось доказывать соседкам, что у Сережи и Вари вполне пристойное происхождение и пребывание их у бабушки носит временный характер.
Зимой на такие хутора приходили бандиты, которых в мирное советское время, не смотря на то, что на государственном уровне были уничтожены социальные корни преступности, развелось даже больше, чем в революцию. Особенно страшно было, если к простым русским охламонам прибивался хотя бы один чеченец. В этом случае, не проявлялось никакого сострадания к жертвам. Раньше им противостояло хорошо обученное, ко всему готовое, казачье воинство. После уничтожения донского и терского казачества как класса, бандиты стали полноправными правителями зимней степи. Приехав на хутор, Варя увидела покинутую с пустыми окнами мазанку, выжженные рамы общественного строения, слушала страшные рассказы стариков о пережитой зиме. Больше всего ее поразил рассказ о старухе, которую бандиты жарили на сковороде всю ночь, пытаясь вызнать, где она хранит деньги. Каково было ее обмывать старухам — ровесницам, многое вместе с нею пережившим, и знавшим, что муки их подруга вынесла только за то, что, как говорилось, "у нее в кармане — вошь на аркане". Поэтому многие специально прятали за божницу одну из зимних пенсий, которую так и называли — "бандитские деньги". В тех же местах, где было электричество, бандиты были более модернизированы — они пытали старух паяльными лампами и утюгами.
В большом отлаженном хозяйстве, знававшем и периоды расцвета, была дорога каждая пара рук. Поэтому Варя проходила полный курс трудового воспитания молодой казачки. Работа на хуторе была не тяжелая, но изматывающая своей монотонностью и каждо дневностью. В такой работе был важен какой-то начальный задор и последующая тупая остервенелость. У бабушки и Вари эти качества были заложены генетически, поэтому работа у них ладилась. Но однажды бабушка заметила, что Варя многие вещи делает на мужской манер, например, отжимает белье после стирки явно по-мужски. Она была в ярости. Каждое утро теперь начиналось с возмущенных бабушкиных воплей о том, какая лентяйка попала в жены ее сыночку Толе и его горькой доле. Невестка-змея, оказывается, ручки бережет! Она не стирает, полы не моет! Она даже корову не держит! Ну, и что, что город! И в городе одна корова могла бы вполне прокормиться в парке. Робкие Варины возражения вызывали необходимый для обоих эмоциональный взрыв, они громко ругались, ссорились на всю жизнь и мирно принимались за работу.
После этого Варя, из собственного интереса и желания как-то успокоить бабушку, расспрашивала ее о чем-нибудь из прошлого. Бабушка начинала монотонно гудеть как шмель, и работа шла сама собою.
Варька после таких рассказов стала понемногу понимать, почему на хуторе к Ткачевым относятся с нескрываемой опаской, а старухи в магазинной очереди и откровенно посмеиваются у нее за спиной, почему она частенько видит странные сны, которые затем, может быть чуть иначе, но сбываются в жизни.
* * *
Началось это у Ткачей в родове, когда молодой парень Тимофей Ткачев в середине прошлого века решил снять девку с воза. Раньше эта фраза сказала бы абсолютно все, но теперь она требует объяснений. Итак, речь идет о цыганке Глафире, она была очень молодой и чумазой. Что в ней разглядел Тимофей, является загадкой для всех хуторских старух до сих пор. Он, как честный казак и большой дурень, решил на ней жениться. С нее-то и повелись у Ткачей какая-то чертовщина и бытовое блядство. Тимофей подошел к ней и спросил: "Глашка, замуж хочешь?". Глашка усиленно закивала нечесанной головой. Ей надоело таскаться по степи грязной и вечно битой от хутора к хутору, от станицы к станице. А Тимофей был из себя видный, и подворье у него было справное. Они уговорились о том, что когда табор свернется, то она, чтобы Тимофей не платил выкупа за нее жадным до денег соплеменникам, сядет на крайний возок, с которого тот ее снимет.
Ну, он и снял ее на свою голову. Девка Тимофею досталась никуда не гожая, к работе равнодушная, одна ночная заботушка. Она родила ему сына Кузьму, которого сбросила на привычные ко всему руки свекрови. Сама же Глашка ходила по хатам с гаданьем, лузгала семечки на плетнях с молодыми кобелями, дралась с женами своих многочисленных ухажеров. Битье плетью и батогом ни к чему не приводило, у Глафиры кожа была продублена еще в таборе. Тимофей, уезжая на сборы, просил ее только об одном — не приносить в подоле. И Глафира, как-то там сама обходившаяся, блюла его честь хотя бы с этой стороны. На покосы и другие виды сельскохозяйственных работ, связанных с использованием мужской силы, хитрые Ткачи направляли одну Глафиру. Как уж она эту силу организовывала, но весь хутор вкалывал на Ткачей задарма. Неожиданно для всех, на третьем десятке Глафира остепенилась. Из нее посыпались Кузькины братья и сестры. Днем она теперь была тихая, задумчивая, даже начала что-то делать по хозяйству. К ней по-прежнему бегали гадать, она давала весьма точные советы по здоровью, по торговле на ярмарке и рынке. Но люди, свыкшиеся с ее бесшабашной жизнью, не узнавали Глафиру. Стали поговаривать всякое. Особенно про метлу, к которой она никому не позволяла дотрагиваться.
Ткачевы поставляли в войско огромных двухметровых мужиков, которые запросто управлялись одновременно и с конем, и с пикой. Вот и на Глафириного первенца Кузьму выпал совершенно честный жребий. Но когда пришел возраст Кузьмы, Тимофей, простудившись как-то по весне, был тяжко болен. Даже в жару он неделями лежал в хате под двумя овчинами.
Глафира натаскала уже пятерых помимо Кузьмы, мал мала меньше. Огромное хозяйство, в случае ухода Кузьмы на долгий срок в армию, оставалось бы на его вечно брюхатой, непутевой матери. Однако от станового пришла разнарядка забрить парня соседей Ткачевых — Пиховкиных. Это было очень странно, потому что с хутора до станового было как до царя, а тут приказ, касавшийся какого-то Пиховки. Паренька отправили в армию, а Глафира даже в пост не пошла к исповеди. Терпению Пиховкиных баб пришел конец. Старуха Пиховка с матерью парня, чуть не силком, поволокли Глафиру к попу. На исповеди она что-то сказала, и поп сам поехал к становому. Соседского парня вернули, Кузьму забрали в солдаты.
Глафира четыре года держала епитимью, после чего, как-то сразу состарившись, тихо умерла. Говорили, что она, якобы, влезла в голову станового и заставила его написать этот злополучный приказ.
Вернувшись из армии, Кузьма Тимофеевич был уже преклонных годков, но еще успел еще три раза жениться, схоронить своих жен, гораздо моложе себя, и настрогать восемь детей. Вырастив детей, Кузьма жил одиноко. Потихоньку он правил кости, заговаривал грыжи, был большим знатоком по живности, особенно по коням, то есть был весьма полезен в хуторском обиходе. К словам его прислушивались, ценили, потому, как сказанное им неизменно сбывалось и происходило. Однако досужие хуторские сплетницы болтали о том, что Кузьма Тимофеевич каждую весну летает на помеле, которое погоняет тонкой вичкой, и о том, что ночью в окнах хаты у него мерцает призрачный свет, ну, и о подобной дребедени!
* * *
После Глафиры многие дети у Ткачевых рождались вылитые цыганята. Выводя Варьку впервые к встрече стада, бабушка с жаром доказывала соседкам, что внучка совсем не похожа на цыганку, как с сомнением высказала одна из них. Глафиру и спустя век на хуторе помнили матерным словом. До приезда правнуков Кузьма Тимофеевич, конечно, не дожил, но Варе часто снился странный сон, что она одна куда-то переезжает, а там сидит старик и говорит: "Ну, давай, внуча, знакомиться!". Старика этого она видела на фотографии, висевшей на стенке мазанки. Он, еще не очень старый, сидел в начищенных сапогах, а рядом стояла молодая женщина в белой кофте с оборками.
В том году они уехали с хутора рано, в августе, Варя должна была идти в первый класс.
ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
— Сегодня у вас самый замечательный день, дети! Первое сентября! И вы стали не просто ребятами, вы стали учениками, — торжественно говорила толстая немолодая женщина.
Кажется, она была не злой, и Варька, почему-то боявшаяся школы, сразу расположилась к ней душевно. Чтобы познакомиться с детьми, Ангелина Григорьевна стала по имени вызывать их к доске почитать какой-нибудь стишок. Дети с удовольствием и волнением ожидали своей очереди и уже начинали шалить, не желая в седьмой раз слушать про то, что случилось однажды в суровую зимнюю пору. Варя тоже знала много таких стихов про ласточку с весною и день седьмого ноября, но в данный момент на уме у нее были совершенно иные вещи. Летом у них в доме поселилась младшая мамина сестра Валька, приехавшая с маминой родины — из Сибири. С большим трудом Варины родители устроили ее в пединститут. А Валька хотела быть артисткой. Поэтому теперь она целыми днями рисовала слюнявым карандашом стрелки на глазах, взбивала редкие рыжеватые волосенки под Эдиту Пьеху и орала сильным неприятным голосом: "Огромное небо — одно на двоих!". С собой она привезла толстые альбомы с фотографиями артистов и несколько годовых подшивок журнала «Экран». Варька давно уже умела читать, поэтому журналы про артистов, где картинок было гораздо больше, чем текста, ей пришлись по вкусу. В одном из них она увидела дружеский шарж на Софи Лорен. Варе очень нравились иностранные имена, а в этой нарисованной тете огромным, как Валькино небо, ртом и титьками, вываливающимися из декольте, было действительно что-то! Под рисунком было четверостишие, к которому Варя прибавила четыре строчки и от себя. Она хотела впервые прочесть все вместе, поэтому очень переживала. Даже мама и папа не знали, что Варя пишет стихи!
Варя вышла к доске и пристально оглядела весь класс. Все тут же умолкли, потому что она с раннего детства могла глянуть так, что рты сами собой захлопывались, а языки примораживало к небу. Отчетливо и громко, разведя руки как для объятия, она прочла:
"Как много обаянья женского! Особого, софи-лоренского! И как прославился гигантский Талант в любви по-итальянски! Груди высокой полукружье, Улыбки блеск твоих ланит! Пленяет всех твоя наружность, Всех мужиков в кино манит!""Мать чесная!", — подумала Ангелина Григорьевна, но вслух твердо, не столько для ненормальной девчушки со славным личиком, сколько для тридцати обалдевших ребятишек, вопросительно уставившихся на учительницу, произнесла: "Молодец, Варя!".
Это был предпоследний перед пенсией класс Ангелины Григорьевны Музычко. Вдова, одна поднимающая двух детей, потерявшая здоровье еще в войну, когда их, молодых девушек, гоняли строить узкоколейку до узловой станции, она очень хотела шесть лет перед пенсией прожить без проблем, но, глядя на Варю, поняла, что проблемы у нее уже начались. Она подошла к Варьке и, улыбнувшись, потрепала ее по жестким черным волосам.
* * *
Три года начальной школы Варя всегда вспоминала с удовольствием. Ее, правда, немного обижало, что Ангелина Григорьевна искренне веселилась над ее ответами и выходками, при этом ее большое тело колыхалось под неизменным штапельным сарафаном. Иногда она просто падала на жалобно стонущий стул и так смеялась, что из глаз лились слезы, и ей приходилось утираться большим клетчатым носовиком. Однажды Ангелина Григорьевна дала на уроке детям задание написать о первых признаках весны. С ужасом она увидела, что Варвара задрала глаза к потолку и с блаженством отдалась вдохновению.
— Варя! И все остальные! Первый признак — это не второй и не третий! А раз он первый, так вот мне нужно всего две-три строчки, а не поэму!
Через несколько минут Варя, разведя руки, уже читала у доски свое лаконичное произведение о первых признаках весны:
"Снег сошел. Весна. И кошка Завела себе роман. Погуляй еще немножко, Я котят топить не дам!"Только один раз, когда все дети на школьном конкурсе загадок присудили первое место Вариной загадке, а жюри не дало ей даже призового места, Варя до слез огорчилась. Прижимая ее к необъятному животу, Ангелина Григорьевна утешала ее, как могла: "Не журись, Варька! Они обиделись, что разгадать не смогли твою загадку!"
И лишь через много лет до Вари дошло, что в восемь лет девочкам, по представлениям педагогического коллектива школы, было еще неприлично даже догадываться, а тем более знать, откуда берутся дети. Но Варе это давным-давно рассказали в школьном туалете. Поэтому ее загадка была о беременной женщине:
"Идет матрешка на двух ножках, А все, кто встречает, счастья ей желают!"У ВАРЬКИ ВЫРОСЛИ ТИТЬКИ…
Весной бабушка и дед вызывали Варьку пораньше, к посевной. Она с радостью кидала свой портфель, скоренько собиралась, и уже через дня три тряски на поездах и попутных машинах была с вечным своим довеском — братом на хуторе. Здесь, как в волшебном саду, всегда было лето. Варька, погоняв денек удодов, необыкновенно ярко раскрашенных птичек, по степи, деятельно включалась в трудовой процесс. Особенно нравилась ей хуторская еда, не то, что в их школьной столовке! За лето Варя разъедалась, бурно росла и по взрослому хорошела. В восемь лет, к ее отчаянию и стыду, у нее стала расти грудь. Она стеснялась ходить за хлебом, потому что по такой жаре сверху ситцевого платьица кофточку не накинешь, а как стоять, если все деды туда смотрят! А бабушка только пожимала плечами и говорила: "Ну, что же выросла!". Варька пыталась есть поменьше, чтобы так не расти, но все было такое вкусное! Жрать на хуторе всегда было что, в этом тонко разбирались, стол был обильным и разнообразным. Услышав как-то раз слово «каймак», Варя подумала, что это, наверно, какая-то порода лошадей. Но каймаком были перетопленные в печи сливки, из него даже сбивали необыкновенно вкусное каймаковое масло.
На таких-то харчах и вырастали здесь крутобедрые голосистые девки — предмет тайной гордости всего казачества. Не девки, царицы! С шелковыми черными косами, бархатным взглядом, персиковой кожей и необыкновенно острым язычком, так сказать, с перчиком. Конечно, мужики умели поставить их на место, и выказывали с виду к ним полнейшее пренебрежение, мол, баба — так что с тебя взять! Но каждую из них провожали цепким кобелиным взглядом, не гаснувшим до самого преклонного возраста.
После третьего класса Варя приехала на хутор с творческим заданием выяснить, какой вклад внесли ее родственники в Революцию. У одного мальчика из их класса дедушка был в продотряде. Его приглашали к ним в школу и очень почтительно благодарили за его геройскую жизнь. Варя тоже хотела бы быть внучкой героя. Поэтому ей было непонятно, почему на ее вопрос, не ходил ли ее дедушка, Александр Кузьмич, с продотрядами, бабка опять съездила ей прямо по морде. Но вопрос Варьки, видно, запал бабушке в душу. Поэтому, когда они перетряхали сало для базара, она сказала внучке: "Вот мы все робим с тобой, Варвара, все робим, а придет продотряд и отберет все, да еще по соплям нам врежет!".
— Как это отберет? Это же наше, — недоуменно спросила Варя, которая не была еще знакома с этой стороной деятельности продотрядов.
— А воны кажуть: "Было — ваше, а стало — наше!" — обреченно вздохнула бабушка и рассказала ей о подобном жизненном опыте и революционном подвиге ее дедов.
РАССКАЗ БАБУШКИ О НЕОЦЕНИМОМ ВКЛАДЕ ДВУХ ДРУЗЕЙ В БОРЬБУ ПРОЛЕТАРИАТА
Бабушка была младшей сестрой дедушкиного друга Григория Кукарекина. Сашка и Гришка были одногодками, сдружились еще мальцами, вместе прошли на империалистическую войну. У обоих убило там коней, и из конницы они перешли в артиллерию. По донским понятиям, стали босяками. В их артиллерийском расчете был говорливый агитатор, рассуждавший о заводах — рабочим и земле — крестьянам. За ним они на пару вступили в партию, по-крестьянски рассудив, что еще несколько десятин к их кровным казацким наделам от большевиков лишними не покажутся. При крайней предприимчивости и оборотистости, Григорий постоянно попадал в какие-то истории из-за своего армянского темперамента. Но, поскольку в их дружбе с Сашкой Ткачевым он всегда коноводил, то в этих рискованных приключениях всегда, за компанию, принимал участие и дед Вари в роли молчаливого, неизменно спокойного ухмыляющегося статиста. Григорий легко поддался и пропаганде о мировой революции, ему очень нравилось, когда его называли странным заграничным именем «пролетарий». Коммунистов в его роду, кроме него, никогда не водилось, хотя люди попадались разного достоинства, был даже регент церковного хора.
Из хуторских язвительных откликов и бабушкиных рассказов о похождениях Вариного деда и Гришки Кукареки в гражданскую войну можно было сделать вывод, что их путь в революции был стихийным и не всегда идеологически выдержанным. Неподалеку от хутора была станица Морозовская, при советской власти ей дали статус города и более мужественное название — Морозовск. В центре новоявленного города стоял памятник китайскому батальону, павшему здесь во время гражданской войны. Китайских кули использовали в казачьих хозяйствах в достаточных количествах, чтобы большевики могли формировать из них батальоны, пообещав, что дадут им на Дону землю. Под Морозовской, готовя к бою свой расчет, друзья увидели, что артиллерию от регулярной казачьей конницы кроме китайских кули и кривоногой матросни прикрыть некому. Нехорошие предчувствия теснили им грудь, поэтому они заранее подсобрали вещички и тщательно продумали пути отступления. И в таком душевном волнении, они встретили бой, который, естественно, длился недолго. Вовремя прервав свой революционный подвиг, они совершили отход к Царицыну за одну ночь. Именно столько Варя с мамой и братом добирались пассажирским поездом от Морозовской до Волгограда уже в 70-е годы. На хуторе смеялись, что Сашке с Гришкой кони ни к чему, они и так могут тикать со скоростью курьерского поезда. Варе нравился трогательный смешной бронзовый человек с азиатской физиономией в буденовке, стоявший за тяжелыми металлическими цепями в центре Морозовска. На ее вопрос о том, что же стало с китайскими рабочими, бабушка ответила кратко: "Покрошили в капусту!".
Путь назад на хутор друзьям был закрыт, и они прошли всю гражданскую войну в артиллерии на стороне большевиков. Не знаю, к чему отнести известный, в свое время, на весь Тихий Дон случай, — то ли к подвигу, то ли еще к чему. Вариного деда и бабушкиного брата вместе со всем расчетом казаки взяли в плен. Делали они это крайне редко, предпочитая капустные заготовки. Им объявили, что наутро состоится станичный суд, и заперли в амбар. Охраны не ставили, так как сбежать из казачьей постройки было невозможно, это вам не колхозный курятник. Общего положения дел такая отсрочка не меняла, потому что казачий суд — это несколько стариков, которые бы просто обматерили наших революционеров и вынесли бы приговор: "Рубить в капусту!". С патронами тогда было туговато, на кого попало не тратили.
Они сидели понурые, часы перед неминуемой смертью страшны своей безысходностью. Они были молоды, полны сил, и ждали смерти у себя на родине в обыденной, почти домашней обстановке. Они не ели целый день, и в сумах, которые не отняли, у них была какая-то снедь, но кому полезет в горло кусок? Никому не полез, кроме Вариного деда. Ему полезло два хороших шмота сала, десяток малосольных огурцов, а из других сумок он позаимствовал полдюжины измятых вареных яиц. Глядя на его безмятежную жующую рожу, его товарищи бегали блевать в другой конец амбара. Повечеряв, Александр Кузьмич, устроив из одежи боевых соратников себе что-то вроде гнезда, мирно отошел ко сну. Никто, конечно, не мог спать, и, слушая его забористый храп, мужики не как не могли понять: геройское это самообладание или бесчувственность чурбана? Да может, просто человек устал, измотался за день.
А наутро станицу захватили красные, началось наступление, и их расчет топал без отдыха и без пищи более суток. На привале деда Сашку обвинили, что он, ведьмино отродье, все наперед знал, сожрал все у них и дрых на их кацавейках. Хотели было даже побить, но Варин дед и Григорий были драгунского роста, чуть более двух метров, и с кулаками-кувалдами. Григорий, хоть и тоже был злой на Саньку, тут же переместился за его спину и повернулся к нему спиной.
* * *
На хутор друганы вернулись уже после того, как, по бытовавшему тогда выражению, станичники просрали Дон. Началась какая-то суетная жизнь, при которой требовалось держать круговую оборону. Деда Сашку выгнали из партии в конце 20-х годов из-за того, что он отказался участвовать в раскулачивании.
Когда его вызывали на подобные мероприятия, он, глядя поверх голов, что позволял ему его рост, с растяжкой произносил: "Не-а!". Переупрямить, что-то втолковать ему о мировой революции и борьбе пролетариата было невозможно. Он откровенно скучал, переминался с ноги на ногу, чесался, а в погромные дни спокойно ехал в затоны рыбалить. Партийная ячейка его долго не могла понять, что это — природная придурковатость или тонкий расчет?
Безрезультатно побившись с ним около полугода, вычистили из партии, написав в постановлении: "Вытряхнуть из рядов, как гада из мешка!".
Вот странности жизни! Но только благодаря этому, деда не тронули в репрессии, когда прямо по партийным спискам были уничтожены все старые большевики.
О ТОМ, ЧТО КРОМЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ, МУЖИКАМ И БАШКА НЕ ПОМЕШАЕТ
— Мы, ростовские, завсегда приспособимся! — хвастала бабушка, — Пусть власть лютует, а мы — исхитримся и выживем. Земля у нас, слава Богу, родит, так что никакой мировой пролетариат нам не страшен. Но то, что сделали с казаками, Варька, пусть на их души камнем ляжет, пусть им и на том свете спокоя не будет!
Варя помнила по книгам нарисованных на картинках жирных злых людей — это были кулаки. Они жестоко угнетали бедноту, не давали крестьянам есть досыта. Но она теперь понимала, что даже приусадебный надел мог вполне прокормить огромную семью. Варя хорошо знала трудоемкий процесс выращивания капризной помидорной рассады на Урале, последующий перенос ее в пленочные парники. Она с малолетства видела, как трудно «доставались» с использованием самых высоких связей ее родителями навоз и пленка для взращивания невзрачных, снимаемых зелеными с куста помидорок. Поэтому ее поразила сама посадка помидор на Дону, когда семечко кидалось в небрежно взрыхленную носком сапога землю. Так как же надо было жить здесь, чтобы быть голодным? Бабушка не могла дождаться, когда Варя подрастет, чтобы посылать ее с теткой на станцию Лихая и в ближайшую станицу торговать всеми не съедаемыми припасами. Погреба ломились, а бабушка вздыхала, что уже который год засуха, неурожай. Так что же эти бедняки делали? Даже ямки отколупать не могли?
А казаки изображались в книжках с противными мордами, они гнались на конях с саблями за несчастными женщинами и детьми. Неужели в книжках врали? Впрочем, она вспомнила, что давным-давно думал по этому поводу один желтолицый человек, ведь все уже было под Луной. Она уже даже начала догадываться, почему казачество оказалось пережитком прошлого. Рецидивы военных выступлений у такой провинции были бы делом постоянным и привычным, это бы расшатывало устои империи изнутри, в таких случаях обычно верхушка подкупалась (или физически уничтожалась), а масса обкладывалась непомерной данью. Это была азбука покорения. Поэтому Варе было очень жалко плачущую, вспоминающую былое бабушку.
* * *
Когда Сашка Ткачев просватал за себя Настю Кукарекину, многие даже разобиделись. Сашка, при всех его странностях, был видный парень, а Настька — маленькая, сразу и не нащупать. Но огромные карие глаза, коса, толщиной в добрый кулак, и чистый, красивейший в двух хуторах голос со счетов было не снять!
Гришка тут же окрутил Настину подружку, так что две свадьбы играли в один день. Невестам было по семнадцати годков, а женихи их были из самых ветроголовых, зато веселые!
* * *
Младшая Гришкина сестра Настя была совсем иной, чем он. При всей наивности, неискушенности сельской жительницы, она имела цепкий ум и практическую сметку. Боюсь, что в коммунистах друзья бы сдохли с голоду, если бы бабушка не имела бы еще и своего, маленького, но обособленного хозяйства. Настя н и к о г д а, ни при каких обстоятельствах не вступала в колхоз. Это было сложно, трудно. Сашка, хоть и вытряхнутый из рядов, считался сознательным, его вызывали и ежедневно прорабатывали, чтобы он подействовал на жену. Но на его маленькую кроткую жену, по всеобщему мнению, сам черт бы не подействовал. А Настя считала, что раз ее брату и мужу Бог ума не дал, то ее задача — спасти рожденных детей, а уж затем, на то, что останется, содействовать выживанию хуторских придурков, которые возомнили себя пролетариями всех стран.
Бабушке-единоличнице до конца жизни не платили пенсии. Поэтому они дожидались пенсии деда, чтобы раз в месяц сделать закупки в магазине, который все по привычке называли «кооперация». Настасья Федоровна полагала, что унизит мужа, если станет делать хозяйственные расходы на собственные гроши, которые имелись у нее от продажи пуховых платков, огородины и яиц на Морозовском рынке. Свои же деньги она складывала на книжку в сберкассу — на смерть и посылала двум дочкам, вышедшим замуж за инженеров.
* * *
…То, до чего не доперли многие мужики, Настя поняла если не умом, то сердцем. Уже из первых репрессивных мер она сделала вывод, что власти не остановятся, пока не сравняют их всех с босяками, с которых и взять-то нечего. Поэтому нужен запас, нужен еще один погреб, нужны хованки. Над ней смеялись, с ней взахлеб спорил Григорий, объясняя задачи советской власти и ее политику. Он говорил, что никогда России не прожить без казаков, что Россия заинтересована в лояльном и политически грамотном казачестве. "И нищем", — добавляла Настя. Потом она своими глазами увидела, что власть не желает их знать вообще, что нищий казак для власти даже страшнее, чем сытый. Власть хотела видеть только мертвого казака.
Теперь все они по паспорту, который им даже не считали нужным выдавать, стали просто русскими. Русскими, читай — «кацапами», стали все Кукаречикяны. Особенно на их хуторе взъярились такому обороту потомственные казаки — татары Шахерназеевы.
Да, когда-то у казаков были привилегии, но были и жесткие, достаточно тяжкие обязанности. Они всегда стояли на страже, они служили Отечеству. И вдруг они стали никому не нужны, вредны, были признаны чем-то архаичным, устаревшим. Но они были еще живы, и только это власти оставалось исправить.
* * *
К четвертому классу за лето Варя написала сочинение о продотрядах. Она с гордостью зачитала его бабке, а та, всегда имевшая на все вопросы приземленную житейскую точку зрения, почему-то сказала, что если Варька покажет его учителке, то, скорее всего, останется с одной начальной школой в голове, поскольку ее из школы немедленно выпрут. В сочинении рассказывалось о продотрядах 33 года и сложных путях выживания донского казачества, если не как класса, то как человеческих единиц, которым иногда надо пожрать.
ОНИ СКАЗАЛИ: "БЫЛО — ВАШЕ, А СТАЛО — НАШЕ!"
Никогда старики не помнили такого урожая, какой случился у них на хуторе в 32 году. Собранное зерно не представлялось возможным даже просто вывезти. День и ночь шли подводы. Григорий Кукарекин, как сознательный коммунист, уехал куда-то в центр на его приемку. Все планы были давно перевыполнены, когда их колхоз кое-как справился с этим неожиданным даже для Дона урожаем. Гришка вернулся на взмыленном жеребце и нес что-то несусветное. Такого просто не могло быть, ни в одну башку такого просто не могло прийти. Он говорил, что сопровождавшие зерно особисты сказали ему по секрету, что доставляют зерно в Одессу, где его отвозят недалеко в море и топят. Никто ему, конечно, не поверил, брехал он частенько. Но, с осторожной угрюмостью, станичники стали готовить хованки. По собственному почину Гришка объехал еще несколько хуторов. Уполномоченные по заготовкам сменяли одного за другим злые, как собаки, они старались выбрать последнее. Каково же было удивление и возмущение, когда они приперлись и по первому снегу, чего раньше никогда не было. Поэтому в хованки пошло все, их берегли, устраивали новые. А в 33 году на Дону был неурожай. В предупрежденных Гришкой хуторах жратва была, но народ боялся ее доставать из хованок. Уполномоченные обнюхивали даже прозрачные детские ручонки — не пахнут ли те едой. В конце концов, было вытрясено все и из хованок, где остались лишь нетранспортабельные для вывоза в Одессу кавуны и тыквы. Отсутствие зерна подорвало всю хуторскую живность, по которой тоже были заготовительные планы. Сало было закопано, его держали на голодную смерть и тоже вытягать боялись. Уполномоченные стали теперь ездить чуть не каждую неделю и люди поняли, что приходит конец. На Дону начались голодные волнения и бунты, которые подавлялись с невиданной жестокостью. Шепотом рассказывали, что на Украине, которая сдала весь урожай, уже дошли до людоедства. Из этого станичники сделали вывод, что хохлы сдали все до зернышка. Что им ховать что ли некуда было? С этого момента начался новый страшный этап выживания, который бабушка Настя называла «террор». К весне ячейки добились, чтобы по трудодням в колхозах выдали немного зерна. Если бы его смолоть, то можно было бы, замешивая муку в воду, хотя бы так кормить детей. Ведь не станешь же кроху кормить салом!
Но небольшое количество зерна невозможно смолоть без значительных потерь. На хуторе имелась крупорушка. Поэтому с соседних хуторов потянулись подводы родственников, чтобы, дождавшись очереди, без свидетелей смолоть зерно родственным гуртом и по справедливости поделить. Ткачевы собрались у старого деда — Кузьмы Тимофеевича Ткачева, отца Александра Кузьмича Ткачева. Когда Гришка с жаром кричал, что зерно их топят в Одессе, Кузьма первый молча встал и пошел рыть хованку в сенях. Он отмалчивался, когда его спрашивали напрямую — брешет Гришка, или нет, поэтому все решили, что зерно хоть и вывезли, но, конечно, на заграничную продажу, просто Григорий понял не так. Хата Кузьмы, стоявшая на отшибе, была удобна для общего сбора, и, поскольку назавтра наступала очередь Ткачей на молотье, подворье заполнилось родственным обозом. Под самое утро, когда изголодавшиеся измученные люди заснули глухим сном, у них украли все зерно вместе с подводами и лошадьми. К колхозному выданному пайку все подмешали оставшиеся толики сохраненного, утаенного зерна, решив, что хотя бы дети теперь смогут съесть его, не таясь. За превышение размеров пайка, отдаваемого в помол, запросто могли упечь лет на десять, или просто обокрасть, сказав, что столько он и отдавал. А свой своему, все-таки, поневоле друг. Вопрос стоял о только выживании детей. Потому как каждый мог изредка в степной схоронке нажраться сала. Поэтому, выйдя во двор до ветру, Ларион — сын Кузьмы из Грузинов, ввалился в хату, забыв подвязать портки: "Все, как собаки сдохнем!"
Они все выскочили во двор и, обрывая волосья клочьями, заголосили на весь хутор. О себе так горевать не будешь, только о детях. Даже погони было не составить, коней-то тоже свели! Когда воют, голосят мужики, да еще потомственные казаки, это означает, что им открылся жизненный край.
Дед Кузьма открыл двери и попросил всех вернуться в хату. Он притворил ставни с наружной стороны, на щеколду закрыл двери и сказал: "Тихо, я их с хутора не выпущу, пару раз вокруг объедут, и сами вернутся, и наше вернут!". Все загалдели, что, мол, они пойдут и руками гадов подушат. На что дед Кузьма им ответил, что если еще что-то подобное услышит, то отпустит ворюг на все четыре стороны: "Это такие несчастные люди, что наши слезы — вода, по сравнению с ихними!".
Ткачи сидели молча и ждали, вот раздался скрип подвод, и срывающийся на рыдание чей-то смутно знакомый голос крикнул: "Простите, станичники! Простите, Христа ради!". Дед Кузьма зычно гаркнул в ответ: "Забирай мешок с красной меткой!". Короткое, тихое «Благодарствуем» слилось со скрипом снега под чьими-то подошвами. Разъезжались по домам понурые, хотя помол окончился для них вполне благополучно, но он открыл для всех страшную истину — даже если они выживут, они останутся только разрозненными физическими единицами, казачеству — не выжить, казачеству подписан смертный приговор. Не видя еще самого страшного из того, что довелось им пережить в 37–39 годах, они уже встали у жизненного краха всех ранешних надежд и устремлений. Как верить, а, главное, служить власти, которая морит голодом твоих детей и с беззастенчивостью ночного вора шарит у тебя по карманам? И еще долго для них звучал такой знакомый когда-то голос раскулаченного, казалось навеки сгинувшего казака: "Благодарствуйте!"
* * *
А к Григорию они часто ходили с бабушкой. Жена его давно умерла, он жил со своей единственной незамужней дочерью, которая каждое утро вывешивала на просушку застиранные простыни с багровыми подтеками. Бабушкин брат писался кровью. Он едва выползал на свет божий, бледный, худой, опираясь на костыль. Григорий умер три года спустя. Да и не жизнь это уже была. Его забрали в 37 году, отбили почки, зубы он потерял еще на Магнитке, где вкалывал в зоне как раб. Вернулся он в 54 году и был уже не работник, то есть без смысла существования. И из прежней хуторской партийной ячейки в живых он остался один.
О РТУТНЫХ ОЗЕРАХ И ТРУБОЧКАХ ДЛЯ КОКТЕЙЛЯ
Вот после таких откровений народного быта Варвара пришла в четвертый класс. При своей природной невыдержанности и полном отсутствии страха перед будущим Варя быстро стала притчей во языцах. Ей ничего не стоило поправить завравшуюся учительницу истории. В чем-чем, а в истории ее на хуторе просветили. Она могла многое бы порассказать обо всех Щорсах и Гришках Котовских вместе взятых. Она знала и о подвигах последнего на одесском Привозе. У ростовских и одесситов всегда было хорошее сообщение. Не зря поезд «Ростов-Одесса» издавна назывался «уркаганским».
Поэтому свои последующие школьные годы Варя старалась вычеркнуть из памяти. Ее не любили, ее ненавидели, на нее натравливали детей. Ангелина Григорьевна уже ничем ей не могла помочь, под ее теплым крылом копошились новые первоклассники. Дети, под взрослым влиянием, переменились к Варьке. Ей теперь приходилось часто с остервенением драться. Надо же было отвоевывать для себя какую-то нишу, в которую она не допускала никого, где бы она могла спокойно жить. На уроках она только и слышала: "Ткачева! Ты опять в окно смотришь, ворон считаешь! У-у, варварка!". Так и прилипла к ней эта противная кличка — «Варварка».
* * *
Однажды на урок к ним заглянула сама директриса школы — надменная красивая Зоя Павловна. Она окинула холодным взглядом класс и, не глядя на заробевшую учительницу, приказала: "Выводи девчонок!".
Испуганные девочки вышли в коридор из притихшего класса. Наверно, кто-то из них провинился, и сейчас Зоя Павловна будет ее при всех карать. Каждая лихорадочно перебирала в уме свои проступки, у Варьки упало сердце, ее в последнее время так много наказывали, что у нее совсем все перепуталось в голове. То, что она полагала достойным похвалы, безжалостно высмеивалось ее учителями, а других, которые делали то, что Варя считала для себя постыдным, хвалили и ставили в пример. Девочек всех четвертых классов выстроили в длинном коридоре школы в линейку. Варька даже не могла спрятаться ни за чью спину. Директриса медленно шла вдоль их колеблющейся шеренги, придирчиво осматривая каждую. Так она прошлась раза два, потом остановилась и сказала: " Вот что! Нашей школе оказана великая честь — встречать посланцев города с исторического двадцать четвертого съезда Коммунистической Партии Советского Союза! Десять человек из вас поедут на эту встречу. Выбирать будем в два этапа. Сначала отберем двадцать девочек, а уже из них — окончательно сформируем десятку. Троечницы к конкурсу допущены не будут! Всем почистить пальто, обувь, потому что ехать надо на вокзал. Выберем только самых красивых и добротно одетых, на подготовку у вас два дня. Все! Идите!"
Варя была так рада, что ее не наказали! Она радостно прыгала вместе с восторженными девчушками, которые оживленно обсуждали, во что им лучше одеться, какой шарфик повязать, чтобы понравиться Зое Павловне. Троечницы сидели понурые, и Варя снова обрадовалась, потому что наказали не ее, а несчастных троечниц. Мальчики, которым девочки немедленно обо всем разболтали, решительно не согласились с Зоей Павловной насчет троечниц, некоторых из них они считали очень симпатичными и достойными войти в десятку красавиц среди четвертых классов.
Бабушки и мамы два дня старались приодеть девочек. С одежкой на такой возраст в магазинах было очень плохо. Поэтому они шили, вязали, штопали. Варина мама была, как всегда, очень занята на работе. Варя сама достала демисезонное пальтишко, выбила из него пыль на балконе. Стащила у мамы белый берет и на этом закончила подготовку к смотру-конкурсу. За ней зашла одноклассница Люба, которая не могла сдержать торжествующей улыбки. На ее темной головке красовалась связанная крючком ажурная шапочка с кокетливой кисточкой. Варя не могла сдержать восторга перед такой красотой. Девочки, визжа и толкая друг друга, стали примерять прелестную шапочку перед зеркалом. Варьке было как-то плевать на то, выберут ее или нет. Она и так старалась держаться по неприметнее, а ей все время влетало. Но в том, что выберут Любу, Варя нисколько не сомневалась!
Они опять выстроились в линейку теперь уже не в школьной форме, а в верхней одежде и с надеждой уставились на строгую Зою Павловну. Рядом с ней суетились их классные руководительницы, которые просили обратить внимание на ту или иную девчонку, за которых уже, видно, попросили их родители. Зоя Павловна была молчалива, неприступна и сосредоточена. Она почти не слушала то, что шептали ей учительницы, она была погружена в какие-то свои мысли. Наконец, она ткнула пальцем в несколько девчоночьих мордашек. К удивлению Вари, она указала и на нее. Невыбранные Зоей Павловной девочки, едва сдерживая слезы, поплелись на уроки. Оставшиеся, охорашивались перед завершающим смотром и с опаской косились на конкуренток. Варя была совершенно спокойна, она знала, что с ее проступками, среди которых числились выбитая фрамуга в школьной столовой и драка с семиклассниками в мальчишечьем туалете, рассчитывать ей не на что. Но она искренне переживала за невыбранную Любу, которая с ненавистью содрала у себя с головы шапочку, потому что их новая учительница презрительно сказала о ней: "Люба, у тебя мать-то что, по лучше нитки не могла найти? На такой конкурс дешевку на голову натянула! Перед Зоей Павловной стыдно!".
На второй раз директриса еще пристальнее рассматривала девчонок. Их уже била нервная дрожь, когда она остановила свой выбор на десяти хорошеньких девочках. Первой она кивнула на Варю. Белый мамин берет, так выгодно оттенял яркое южное личико девочки, что не заметить ее было невозможно.
Первых красавиц четвертых классов оставляли теперь после уроков и долго, нудно разъясняли им, кто такой Леонид Ильич Брежнев. Им нужно было явиться в школу в ближайшее воскресенье к десяти часам утра. "Варвара, если ты опять опоздаешь, пеняй на себя! И молчи ты, ради Бога, все время молчи!" — переживала за нее их классная руководительница.
В воскресенье утром Варя разбила градусник. Она сделала это нарочно, втайне от всех. У нее был аптекарский пузырек с пластмассовой крышкой, в который она аккуратно слила из градусника ртуть. Целый час она тихонько забавлялась, глядя, как в бутылочке бегают нежные ртутные шарики.
В Валькиной исторической книжке она прочла об одном китайском императоре, который, умирая, приказал похоронить его в огромной пещере с рукотворным ртутным озером внутри. Пришедшая проводить его погребальный корабль свита погибла вся от ядовитых ртутных испарений. Читая это, Варя неожиданно для себя вдруг удивительно ясно увидела это зрелище. Она именно не представила, а на какую-то долю минуты увидела освещенные факелами мрачные каменные своды, переливчатое колыхание ртутных волн, отплывающий в небытие пышный челн и умиравших в судорогах, пачкавших рвотными массами и испражнениями шелковые богатые наряды, людей. Сны стали вторгаться в дневную Варькину жизнь. Сидя на уроках, она слышала, как в возню класса, перешептывание детей, раздраженную речь учительницы вторгаются гортанные голоса, тянувшие странные мелодичные песни. В школу за девочками, преисполненными собственной важности, пришел настоящий автобус. Даже намного лучше настоящего, потому что там было просто здорово внутри. Варя сидела надувшись. Дававшая им последние наставления об исторических решениях партийного съезда Зоя Павловна, высмотрев, чем она занимается, отобрала и выкинула куда-то ее маленькое ртутное озеро. Девочкам дали в руки цветы и повезли на вокзал. С ними в автобус села красивая полная дама, которую подвезла до школы «Волга». Она внимательно посмотрела на девочек и небрежно кивнула подобострастно улыбавшейся Зое Павловне: "Молодец, Зоя!".
На вокзале автобус уже высматривали юркие телевизионщики. Оператор небрежно проехался камерой по их шеренге разом загоревшихся мордашек. Подошел московский поезд. На перрон молодцевато спрыгнула удивительно хорошо одетая симпатичная проводница и с улыбкой стала встречать выходивших пассажиров. Первым без вещей и без пальто вышел высокий полный лысоватый мужчина. Прощаясь, он снисходительно потрепал зардевшуюся проводницу по щеке и повернулся к вышедшей вперед даме из «Волги», Зоя Павловна опасливо переминалась сзади.
— С партийным приветом, девочки! У, какой вы цветничок для меня собрали! Ну, и какую же мне оставили?
— А мы для Вас, Михаил Юрьевич, себя оставили! — сказала дама, незаметно оттесняя полным задом его от испуганно сбившейся кучки девчонок. Из вагона показались нетрезвые заспанные мужчины, руки у всех были заняты связанными вместе объемными коробками. Варя поняла, что на съезде им дарили подарки, потому что, большинство коробок было с одинаковыми наклейками. У всех делегатов было по электрическому самовару, пылесосу, другие наклейки немножко различались между собой, очевидно делегаты побывали со шмоном на разных предприятиях. Цветы им всовывать совершенно было некуда.
Девочки так и стояли с цветками в руках, не зная, куда их девать. Вышел молодой подтянутый мужчина с чужим пальто в руках и такими же коробками, он подошел к Михаилу Юрьевичу и встал немного позади него. Варя уже ни о чем не могла соображать, потому что она заметила у всех делегатов одну и ту же яркую коробку. Она хорошо знала, что в ней — предмет грез всех девочек с их двора, огромная шагающая импортная кукла. Она стоила баснословные деньги, десять рублей! Но даже за такую цену они расходились только по большому блату. Варя ничего не могла с собой поделать, она должна была завладеть этим сокровищем! Она с вожделением уставилась на эту замечательную коробку в руках стоявшего за Михаилом Юрьевичем молодого мужчины. Вдруг она поняла, что сам Михаил Юрьевич пристально наблюдает за ней из-за полного плеча дамы.
— Не налегай, не налегай Лариса! — отстранил он ее от себя, — Что за девчонки-то хоть? — И, резко понизив звучный голос, спросил у толкавшей его дамы, — Они хоть сосать-то умеют?
— Ну, кто, девочки, поедет со мной? — повернулся он к ним от Ларисы, насмешливо дразня коробкой с куклой, принятой у почтительного зама. Варя решительно шагнула вперед.
— Ты что, Миш, рехнулся? Вечером все, вечером! ласково отпихивала его от девочек жирная Лариса. Она кинула быстрый тревожный взгляд Зое Павловне, та подскочила к ним, отобрала цветы и свистящим шепотом приказала: "Быстро по домам, дряни! На трамвай — быстро!".
Варя была разочарована до глубины души. Ну, зачем тогда вообще эти съезды, если кукол дарят только лысым дядькам? Чего они ее выгнали-то? Этот дяденька еще не слышал, как она читает стихи! А, кроме того, протезировавшаяся у ее мамы кассирша из кафе «Романтика» подарила им большую редкость — пачку пластиковых трубочек для коктейля. Варя ими сосала абсолютно все — от чая до жидкой манной каши. Они еще не знают, как она умеет сосать!
В РОДНОМ ГУРТУ И ГОВНО ПО НУТРУ
Только летом на хуторе Варя чувствовала, как с ее души падает еще непосильный для нее груз. Врать здесь не просили, наоборот, если Варька пыталась подвирать или льстиво подлащиваться ко взрослым, ее презрительно обрывали. Педагогические усовершенствования Варькиной натуры поэтому выветривались за пару дней. Она становилась обычной деревенской девкой, которой наряду с привычкой к работе старались привить трезвый взгляд на жизнь без идеологических залетов.
* * *
В дежурную очередь Ткачевых дед взял Варю в подпаски в общественное стадо. Это было хлопотное и нудное занятие. Животные так и норовили разбрестись, растеряться. В обед они подогнали стадо к хутору, и дед пошел перекусить и чуток передохнуть, а Варя осталась следить, чтобы скотина не потравила молодую сочную поросль кукурузы. Вдруг она увидела, что три овцы, отбившись от стада, стоят недвижно поодаль в канавке, жалобно блея. Неподалеку возвышался кирпичный остов выгоревшего когда-то длинного здания, похожего на коровник. Варя смело направилась в их сторону и вдруг с ужасом почувствовала, что под ногами у нее зыбкая пустота. Овцы же, по ее следам, с трудом подтягивая копыта, стали пробираться в ее сторону. Рядом с ней была твердая кочка, на которую они по очереди вскарабкались. Варя успела поворотиться и схватить последнюю овцу за хвост. Цепляясь за шерсть животного, она со звериным упорством выбиралась из засосавшей ее уже выше колен грязи. Выбравшись, отдышавшись, она отогнала стадо подальше от гиблого места, навсегда приметив обманчивую яркую зелень, пятном выделявшуюся среди остальной выгоревшей степной растительности.
Подогнав стадо к воде, Варя стала тщательно отмывать ноги от налипшей, привлекающей мух грязи. Она с трудом оттирала ее и вдруг заметила, что после смытой земли на ее ногах все же остается какой-то беловатый налет, похожий на жир. Захватив жменю песка, она кое-как его смыла. Потом пришел дед и строго выговорил ей за то, что она поворотила стадо от кукурузы к заброшенной ферме: "Ты и сама там не шатайся, Варька! Места там гиблые!". Когда Варя спросила, чего же они так живут, что из окон мазанки видать такие места, то дед сказал, что никто в том не виноват, кроме немцев, которые в ферме лагерь военнопленных сделали, а в силосном рве рядом коммунистов и местечковых евреев расстреливали. Тогда до Вари дошло, что за жир она оттирала с ног, когда чуть не утонула, увлекаемая безымянными неупокоенными мертвецами.
Вечером они ужинали молоком с покрошенным в него белым пушистым хлебом. Бабушка, глянув на внучку, с удивлением сказала: "Варька, ты же черноголовая была, а за день вся выгорела!". Бабушке не пришло в голову, что Варька не просто на солнце стала пегой, а что у нее появилась первая прядь седых волос.
Война с Дона не ушла, война так и осталась здесь и являла свою страшную суть в каждом подворье, скалилась из каждой щели. Каждая семья помнила какой-то неизбывный ужас из бытия у кромки силосной ямы. Нет, такой войны Варька не хотела бы для себя! На многих базах стояли обгоревшие остовы румынских автобусов, превращенных в курятники. На них когда-то день и ночь двигалась через хутора к Сталинграду неисчислимая армада. Такой технически оснащенной, блестящей, разноязыкой армии не видели в этих местах. На это было просто смотреть невозможно, но отдаленные разрывы орудий говорили, что там, в Сталинграде "глаза боятся, а руки делают".
Здесь надо со стыдом сказать, что, если бы немцы просто бы были чуть больше людьми, если бы они, пусть на словах, не захватывали, а освобождали, то весь Дон поднялся с ними. Не смотря на то, что всем уже была ясна суть устанавливаемого немцами порядка, они все же смогли сформировать на Дону, где прошло несколько советских мобилизаций, две дивизии. Вот до чего довела советская власть вечных защитников южных российских границ! Многие из таких отщепенцев лелеяли фантастические идеи о том, что, захватив с помощью немцев Дон, они смогут выгнать их, организовав свою Донскую республику. В этом предательстве, чего уж тут иного скажешь, была виновата только немыслимая, нежизненная система, которую петлей пытались навязать народу коммунисты. Ведь холуев в этих местах отродясь не водилось. К немцу шли не из страха за свою шкуру, шли мстить.
Хуторские старухи всегда подмечали, что казаки, предавшие из таких побуждений Родину в недобрый для нее час, обрекли свои роды на полное исчезновение. Странные болезни, несчастные случаи, нелепые происшествия, идя чередой, стирали саму память об огромных иногда семейных калганов отступников. "России не мстят! России служат!", — с укором говорили старики. Они же, презрительно поглядывая на армию, которая перла вглубь России, сплевывали и сквозь зубы цедили: "Немец — он хлипкая скотинка, на долго у него дыхалки не хватит!".
Варька как губка впитывала эти рассказы о войне. Эта правда была нелегкой, она не воспринималась сразу, не приживалась в сознании. Она задевала в ней какую-то очень щемящую струну. Нет, для себя бы она никогда не выбрала путь предателя! Она ненавидела предательство и воспринимала его как заразную постыдную хворь, от которой мог исчезнуть целый род.
* * *
Первого сентября Варя положила на стол учительницы заданное ей на лето сочинение о народном подвиге в Великую Отечественную Войну. Это сочинение с издевкой было зачитано их классной руководительницей на педсовете школы. Она и Зоя Павловна хотели поставить вопрос о Варьке ребром, все это уже давно выходило за рамки обще принятого, так это уже было оставлять нельзя.
ИЗ СОЧИНЕНИЯ ВАРЬКИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
"Об оккупации, Валентина Семеновна, я Вам рассказывать не буду. Вы у нас и так нервная, орете все время. Хутор моего папы освободили окончательно в самом конце зимы 43 года. Когда тикали избитые вдрызг немецкие части, то все бабы, даже старухи хотели глянуть на тех мужиков, что смогли сделать с немчурой такое. Но через час после ухода последнего немца через хутор проехала только упряжка собак. Впряжены собаки были в обычную лодку, на корме которой был установлен пулемет. Лодка неслась по снежному насту так быстро, что никто не успел рассмотреть, кто там сидел. Но ясно, что там сидели наши, немецкая башка до такого бы не додумалась. Где-то через полчаса за лодкой протрусил верблюд. На нем сидели двое — наш русский мужик и молодая киргизка с санитарной сумкой, которая обнимала парня за шею.
Потом прошли моторизованные части, танки, а спустя день поперла бессменная серая скотина войны — пехота. Старики говорили, что это прет сама матушка-Россия. Дорога стала на глазах взбухать, небо затянуло тучами, и засеял мелкий дождик. У нас там так к марту обычно и бывает. В пехоте были измотанные совестливые молчаливые мужики в измокших шинелях. Нашу погодку никакая одежа не сдюжит, обувка у них всех была аховая, почти все кашляли. Бабам их было жаль, не сказать как. Они шли несколько дней через наши хутора. По ночам от дождя они набивались в мазанки так, что только стоймя стояли. Они не могли даже просушиться, начальники все гнали и гнали их дальше. И ночью, прижавшись друг к другу в неимоверной духоте, они медленно покачивались в сонном мареве хаты.
Когда прошли военные боевые мужики, на хутора пришли обозники, заготовители и уполномоченные — сытые, наглые, жадные до баб и жратвы. Они как-то очень быстро обобрали всех до нитки и уехали со шмоном дальше. Жрать стало нечего. Чтобы спасти детей, бабы решили обойти степью шлях и, опередив заготовителей, обменять что-нибудь на жратву в тех хуторах, до которых те не успели дойти. У моей бабки Насти были тогда почти неношеные чеботы — гусарки и несколько аршин добротной мануфактуры, оставалось и последнее золотое колечко, данное ей в приданное, из которого все растыркалось в коллективизацию и социалистическое строительство.
На обратном пути их поймали другие обозники — заготовители фуража, которые оставляли дохнуть с голоду всю донскую скотину. Они отобрали у теток мешки с житом, били по морде и хватали за титьки. Они сказали, что утром всех их сдадут в ГПУ. Старуха Гарбузиха сказала, что бабам надо дать мужикам попользоваться, тогда их пустят домой. Посоветовавшись, для мужицкой пользы бабы выделили двадцатипятилетнюю вдову Люську Фролову и мою бабку Настю, которая хорошо играла песни и хвастала, что опосля стакана водки могет стерпеть что угодно. Остальные, после трехдневного блуждания по расхлябанной степи, были как валенки изношенные. На двух делегатках заменили платки, чоботы, а Гарбузиха дала Люське плюшевую жакетку. Двум бабам пришлось терпеть от пятерых сытых мужиков. Люська от стопки спирта как-то сразу осовела и спеклась. Поэтому они до полночи пользовались только моей бабкой Настей, которую потом сменила пришедшая в себя Люська. Утром их отпустили с житом, дав, по просьбе бабушки Насти, всем по полстакану спирта, иначе им было не дойти.
Вот хоть Вы во мне и сомневаетесь, Валентина Семеновна, но я тоже все стерплю ради детей, а Колька Железник, который так цветисто на сборах пионерских говорит, он брешет все, как сивый мерин. Такие завсегда в полицаях служат, Вы его заранее опасайтесь, не болтайте чего лишнего при нем. А за Россию не сомневайтесь, когда до лодок и верблюдов дойдет, то она, матушка, поднимется и всю нечисть с себя сметет. Вы, Валентина Семеновна, в Бога веруйте, потому как он есть. Вот как в 43 году не сеял на Дону никто, некому было сеять, так на обсевках такой урожай сняли, что и не снилось! Бог тогда был за нас! Где жито в 42 году сеяли, там жито такое поднялось, что молотильня не справлялась, а подсолнечник был такой, что ни до преж, ни после не помнили. Мы, бабы русские, должны все стерпеть, все вынести. Доля у нас такая, да мужик непутевый остался, хорошего-то на корню повывели…"
* * *
Ни директриса, ни классная не ожидали того, что все пожилые учительницы и даже члены партии будут реветь навзрыд в голос. Вместо обсуждения они скинулись по рублю и одинокая пятидесятилетняя дева — преподаватель географии Софья Львовна, строившая с ними в войну узкоколейку по разнарядке РОНО, где они жили в не отапливаемом бараке и где их насиловали все — от бронированного прораба до заезжего партийного агитатора, сбегала до магазина. Там ее бывшая ученица продала ей среди дня водки и колбасы на всех.
ВИКТОР ПАВЛОВИЧ, ВИТЕНЬКА, ВИК…
В пятом классе к ним пришел практикант из пединститута. Варе очень понравился спокойный самоуверенный молодой мужчина. В соседние классы практикантками пришли юркие прыщавые девки, которые то орали на детей еще громче учительниц, то были с ними приторно ласковы. Виктор Павлович, в отличие от остальных практиканток — будущих учительниц русского языка, был студентом художественно графического отделения. Это само по себе было уже очень интересно. Пришел он в институт после армии, где служил в военно-морском флоте, о чем восхищенным шепотом сообщил о нем Варин сосед по парте.
Он был очень красив. Высокий, светловолосый, всегда аккуратно, с каким-то неуловимым шиком одетый. От внеклассной работы и всяких пионерских сборов он, с ленивой улыбкой, уклонился. При нем даже их классная, кокетливо потупив глазки, говорила с детьми тихим, вкрадчивым голосом. Он вел у них уроки рисования. Мальчишки, донимавшие их прежнюю учительницу, ушедшую в декретный отпуск, плохим поведением на уроках, смотрели на Виктора Павловича почти так же, как если бы увидели самого Нахимова. У них в школе пожилой учитель физики иногда показывал им в актовом зале кино, и незадолго перед приходом практикантов они смотрели про Нахимова. А тут живой моряк и даже художник! Но, самое главное, ему нравились Варины рисунки! Он всегда внимательно их рассматривал, а потом долго, с улыбкой смотрел на Варвару. Как-то при всем классе он сказал, что она очень талантлива! Ей уже давно никто ничего хорошего не говорил, только ругались. Он наставил ей огромное количество пятерок, Варя, вдохновленная неожиданной поддержкой, все рисовала, рисовала! Виктор Павлович даже давал ей отдельную тему, когда остальные пыхтели над мерзким эмалированным чайником грязно-зеленого цвета.
Зоя Павловна усиленно продвигалась по партийной линии, за ней в школу теперь по вечерам часто заезжала обкомовская «Волга». Поэтому Виктора Павловича она завалила срочной работой — рисованием плакатов и транспарантов. Потребности ее в такой продукции все возрастали. Поэтому после окончания практики она попросила руководство факультета дать разрешение поработать Виктору Павловичу у них в школе на полставки. Он приходил теперь в школу по вечерам, просиживая за писанием лозунгов допоздна. Иногда он, по старой памяти, вел у них рисование вместо вечно болеющей учительницы. Он по-свойски кивал Варваре, и она радостно ему улыбалась в ответ.
Перед какими-то выборами в какой-то совет Зоя Павловна приволокла ему столько работы, что он взмолился, сказав, что не сможет этого выполнить к назначенному ею сроку. Тогда она распорядилась, чтобы их классная руководительница прислала ему кого-то из них на подмогу. Подумаешь, кистью махать, много там ума надо что ли? Классная, заглянув в журнал, выяснила, что кроме Вари, даже отличницам Виктор Павлович наставил трояков. Поэтому Варвару обязали приходить в каморку, выделенную Виктору Павловичу, писать с ним лозунги и партийные приветы. Варя раскрашивала нанесенные Виктором Павловичем трафаретами на плашетах и растянутой ткани буквы и контуры кремля с мавзолеем. Работали они не покладая рук, времени им давалось мало, едва справлялись с одним, директриса подкидывала им еще работку.
Приходя домой и закрывая глаза, Варя видела теперь один красный цвет. С Виктором Павловичем в процессе работы они как-то незаметно перешли на «ты». То есть перешла Варя, поскольку Виктор и раньше ее на «вы» не величал. Варвару очень возмущало обилие красного цвета в ее нынешней жизни. Она даже что-то сказала Виктору насчет дураков, которые красное всегда любили. Виктор искренне веселился над ее простодушными высказываниями. Иной раз он грудью валился на планшет и долго, до слез смеялся.
Однажды к ним в каморку постучалась и вошла молодая учительница физики с подвитыми, необычно для нее распущенными волосами и густо накрашенными губами. С Варькиной точки зрения, она была уже старая, ей было целых двадцать семь лет. Она была не замужем, и понятно, что ей очень хотелось поговорить об этом с Виктором. Варька ее очень стесняла, и она была вынуждена что-то говорить Виктору при ней вполголоса. Варя понимала, что ей надо выйти, она даже хотела выйти, но ее поразило увиденное, она впервые смотрела на страстный, неслышный для нее разговор мужчины и женщины. Это было похоже на красивый чувственный танец. Виктор отказывал пришедшей ради него женщине, но не хотел ее обидеть. Та делала к нему шаг, на мгновение застывая в нерешительности, прежде чем ступить ногой. Виктор, весь собирался, делался прямым и жестким, и, поддерживая свою даму за локоть, мягко отступал от нее. Женщина, встряхнув гривой волос, с отчаянием откидывала корпус назад, и, тронутый ее горечью, мужчина обхватывал ее за талию, и их танец продолжался, сопутствуемый горячим шепотом.
— Почему, почему ты не пошел с ней? — разочарованно спросила Варька, когда он проводил физичку.
— А ты-то на что тут пялилась? Чуть ведь глазенки из орбит не повылазили! Не захотел ее, вот и не пошел. И запомни, в таких делах жалость — самый плохой советчик. Впрочем, что ты можешь об этом знать?
— Я уже все-все знаю, — храбро ответила Варька.
— Оно и видно по твоему любопытному курносому носу. Беги домой, Варенька, вон какая на улице темнотища.
Они разговаривали про жизнь, Варе особо было рассказать нечего, и она с удовольствием слушала Виктора.
— Я все думаю, что ты за человечек, Варюш? Рисунки у тебя какие-то странные, но очень интересные. Люди по небу летят, не парят, как у Филонова, а летят с какой-то целью. Потом, детали некоторые схвачены очень четко, резко, хотя совершенно детская, неумелая рука. Вот коня ты вылепила замечательно! Я просил тебя нарисовать — ты не смогла, а вылепила так, будто именно рука твоя его знает на ощупь.
— Да, а сам моего коня совету дружины отдал! Они на него идиота в буденовке посадили и Дворцу пионеров подарили!
— Варя, но нельзя же было не отдать! Ты же и так не на очень, скажем, хорошем счету. А сейчас твоя фамилия куда-то там, в дружине этой вашей занесена, благодарность тебе дали. Я, Варенок, хотел, чтобы к тебе иначе относились, чтобы увидели какой ты чудный ребенок, а ты разобиделась.
— Ой, да, знаешь куда мне их благодарность… Они все равно меня ненавидят. Классная придирается все время. Сейчас только с лозунгами этими в покое оставила. А я с флагом отряда хотела идти, меня даже ребята выбрали, так она сказала, что я — недостойная. Сама-то!
Виктор громко захохотал и лукаво посмотрел на Варю: "Варь, а ведь она права! Ты бы очень странно смотрелась впереди вашего пи-онэрского отряда с флагом в руках. Ты очень похожа на второгодницу".
— Я хорошо учусь, просто мне все время ставят одни четверки!
— Ты меня не понимаешь, ты выглядишь несколько старше других, взрослее.
— Потому что я умная?
— Нет, потому что ты уже почти сложилась вся, расцвела.
— А… Бабушка говорит, что это наша южная кровь, она, например, армянка.
— Ну, и зачем красивой девушке ходить с флагами? Ты держись от всех них подальше. А коня твоего мне самому жалко. Вот я лицо твое никак поймать не могу, и глаза твои мне не даются. Они вообще-то какие у тебя? То зеленые, то карие…
— Что?
— Пытаюсь тебя рисовать по памяти, не получается. Лицо очень изменчивое. Варь, тут учительницы про тебя говорили, что ты какие-то стихи смешные пишешь. Может, прочтешь?
Варя неловко засмеялась, а потом прочла:
"Какое совершенство человек! Продуман он до родинки на коже, До блеска глаз, до очертанья век, До любопытства, что нас вечно гложет! Отчаивайся, радуйся, ликуй! Равняйся и с героем, и с Богами! Железо горячо — его и куй, И двери смело открывай ногами. Дерзай, твори, докапывайся, верь! Люби и не люби, воюй с врагами! И вот сама нам отворится дверь, Чтоб стать для нас последними вратами…— Варь, ты это сама написала? — потрясенно спросил Виктор.
— Ага, я недавно на сборе отряда читала. Думала, что всем понравится, а классная сказала, что если я еще раз двери ногой открою, то закрою головой. И что у меня рифмы на неприличные слова похожи. А одна дура у нас о Ленине читала, так ее на городской конкурс отправили.
— Варенька, ты на них зла не держи! Ты свое думай, делай, пиши. Как же трудно тебе будет, девочка! Что мне делать с тобой? Вали-ка ты домой! Поздно уже.
Виктор всегда приносил ей что-нибудь вкусное: конфеты, яблоки и продававшиеся у них в городе большие венгерские персики в красивых бумажках. Он стал подолгу на нее глядеть каким-то странным неподвижным взглядом. Варя, полагая, что это ему нужно для того, что бы уловить ее лицо. С серьезной миной она поворачивалась перед ним и застывала в выгодной, как она думала, для ее внешности позе, изо всех сил помогая его творчеству. Виктор при этом смеялся, закрыв лицо ладонями. А как-то они долго потешались над малограмотными текстами лозунгов директрисы, и Виктор глянул на нее так, как иногда смотрел физрук, которого Варя очень боялась. Ей стало не по себе.
— Варь, я вот хочу спросить тебя как художник художника, ты целоваться умеешь?
— Не знаю… Как в кино, что ли? Меня же на такие фильмы еще не пускают, а дома у нас телик не работает.
— Иди сюда, — шепотом позвал ее Виктор.
Варя с интересом подошла к нему и хотела сесть на соседний стул, но Виктор притянул ее за руку к себе и посадил к себе на колени. Он мягко обнял ее и стал одними губами прикасаться к ее волосам, шее, щекам. У Вари лихорадочно забилось сердце и
перехватило дыхание в горле.
— Ты знаешь, что очень красивая? Тебе это уже говорили, маленькая моя?
— Не-а, все говорят, что я наоборот страшная!
Виктор немного отстранился от нее и, облокотившись рукой на стол, опять рассмеялся.
— Варь, ты, конечно, очень бываешь страшная, особенно когда дерешься в туалете солдатским ремнем! Ну, сколько можно быть таким ребенком-то? Ведь у тебя уже грудь такая, что все встает!
— Чего встает?
— Ничего! Ты сиди тихо, ротик приоткрой и смотри прямо мне в глаза…
Варька в точности исполнила его наставления, поэтому ей было совершенно непонятно, почему он вдруг, в приступе смеха, сполз со стула, выронив ее, и покатился по полу.
Целоваться он ее все-таки научил. Варя теперь целыми днями сидела на уроках неподвижно, тихо, словно оглушенная, и все время молчала. Учителя поражались резкой положительной перемене в ней и поздравляли Виктора с педагогической победой. Он почему-то не радовался вместе с ними, глядя на коллег больными виноватыми глазами. У них несколько притормозились лозунги, потому что теперь они каждый вечер истязали друг друга медленными глубокими поцелуями.
Однажды Виктор показал ей свою работу, которую ему надо было сдавать в его институте. На ней была изображена совершенно голая красивая смуглая женщина, она лежала в какой-то странной комнате, стены которой были завешены яркими мазками картин, на убогой смятой постели. Но от ее тела шло устойчивое мягкое тепло, которое согревало достаточно дикую обстановку, в которой она разлеглась. Варе было смутно знакомо ее лицо. Она переспросила Виктора: "Это что, я?".
— Да, немного подрастешь и будешь совсем ты.
— А это где я лежу?
— У меня, в общежитии.
— У тебя там столько картин! О море?
— Нет, о тебе.
— Вить, а ты когда меня к себе поведешь картины смотреть?
— Ты, Варюша, что думаешь, что я подонок совсем что ли?
Ничего такого Варя о Викторе не думала, она думала только, что у него очень много в общежитии ирисок, которые он приносил ей в карманах своего пиджака. И целоваться там с ним можно будет, не опасаясь, что к ним завалит физичка. Пока она с удовольствием жевала мягкие ириски, Виктор Павлович, развязав ее пионерский галстук, губами ласкал ей шею и затылок. Сидеть у него на коленях Варьке было неудобно, жестко, но он ее не отпускал. Плакаты у них теперь шли плохо, без огонька.
— Вот закончишь школу, Варя, — с непонятной ей тоской шептал ей Виктор прямо в уши, отчего Варя заливалась смехом и ежилась, — мы в тот же день пойдем ко мне, я там тебе такую картину нарисую! Я тебе за все, дурочка маленькая, отплачу! — заражаясь ее весельем, заканчивал он с приятным грудным смехом.
Глядя в сгустившиеся сумерки за окном, он отсылал ее домой и один оставался писать лозунги. Иногда, поднимая на нее странные потемневшие глаза, он просил: "Варь, ты ко мне больше не приходи!", но, видя, как у Варьки сразу же закипают слезы, с отчаянием разрешал ей прийти завтра. А когда у них бывало по вечерам пионерское мероприятие и в его каморку нельзя было пройти незамеченной, то Варька кралась под лесенку, где технички хранили свой инвентарь, и целовалась с Виктором там.
Конечно, долго так продолжаться не могло. Их застукали. Донесла строгая пожилая уборщица. Варвару вызвала к себе завуч Клара Семеновна, которую боялась даже Зоя Павловна. Клара проработала до ранней, для учительской профессии, пенсии в колонии для несовершеннолетних преступников, а потом, переехав жить к дочери, устроилась к ним в школу.
— Варя, — мягко и доверительно сказала Клара Семеновна. Скажи мне, девочка, он с тебя штаны снимал?
— Нет, Клара Семеновна, не снимал, — оторопела Варя.
— Варвара, говори! — повышая голос, в котором уже звенел металл, давила на нее Клара.
— Да не снимал он штанов! Мы только лозунги писали!
— Вспомни лучше сейчас! Потом поздно будет!
— Клара Семеновна, у меня дырка на штанах! Я ее зашиваю, а она опять расходится за день. Мне к фельдшерице-то нашей живот от чесотки ходить показывать стыдно, а не то что перед Виктором Павловичем их снимать!
— Ты мне сейчас все расскажешь! Я тебя ссучиться заставлю! Говори сейчас же! — вдруг страшно зашипела на нее Клара Семеновна, — Ты с ним спала?
Испуганная, уже ни в чем не уверенная Варя пожала плечами и сказала: "Нет, не спали мы с ним, вроде… Не помню я уже!" Клара Семеновна отпустила ее, хохотнув: "Иди, дура! Видать, не врешь! Если бы с таким мужиком спала бы — вспомнила!".
Вечером, выполняя уроки, Варя услышала свист и тихий удар камешка в ее окно. Она выглянула и под фонарем во дворе увидела Виктора. На цыпочках она выскользнула из квартиры, ее ухода никто не заметил, потому что у Вальки собрались сокурсники и очень громко смеялись чему-то. Мама увлеченно читала новый детектив, принесенный ей продавщицей книжного магазина, протезировавшейся у нее, папа еще не пришел с работы, а Сережка был где-то у соседей. Только она завернула за угол дома, как оказалась в объятиях Виктора. Лицо у него было влажное и соленое. Они ушли к соседнему дому и сели на заметенную снегом скамейку.
— Варюша! Девочка моя! Тебя в школе не мучили?
— Да не! Клара только вызывала, ссучиться просила. А ты мне ириски принес?
— Принес. Слушай, если ты столько будешь есть ирисок, испортишь свою обалденную фигуру.
Варе было наплевать на фигуру, она твердо решила, что когда она станет, наконец, взрослой, то будет питаться исключительно ирисками. Супы там, каши пусть другие едят!
— Варя, уезжаю я, меня из института выгнали. Если бы ты только знала, как тяжело уезжать от тебя!
— Вить, а куда же ты поедешь? Ну, все, теперь мне ирисок не видать, мне их не дают, у меня от них дырки в зубьях, — обречено проговорила Варя.
— Бедная, бедная Варвара! — грустно смеясь сказал Виктор, — В зубьях у нее дырки, ирисок ей не дают, да еще и ссучиться просят!
— Вить, а ты меня с собой возьмешь? — спросила Варька, радуясь неожиданно пришедшей ей в голову мысли. Она была готова поехать куда угодно, лишь бы не ходить больше в школу. А родителям можно потом написать, у них есть Сережка, она им уже не нужна. Виктор застонал и обхватил руками свою кудлатую без шапки голову, потер лицо руками и посмотрел на нее повлажневшими глазами.
— Нет, Варя, не возьму. Я сам еще не знаю, где устроюсь. Я потом тебе письмо напишу с адресом, если не забудешь меня, ответишь. Ну, ладно, беги домой, а то мне для полного счастья не хватало еще с твоими родителями объясняться.
Варя отложила ириски на скамейку и в последний раз обняла и поцеловала Виктора так, как он учил ее всю осень. Она не могла себе представить, как она теперь будет ходить в школу, зная, что он уже не будет ее ждать под лесенкой между швабрами и ведрами. Зайдя в подъезд, Варя сообразила, что если она сейчас явится домой с пакетом ирисок, то у нее опять начнутся всякие неприятности. После телефонного звонка Клары мама сбегала в школу и провела затем с Варькой беседу о половом воспитании, больно побив веником. Потом она заплакала и взяла с Вари честное слово немедленно сообщать ей, если кто-то еще будет ее целовать.
Ящик для газет у них открывался и гвоздиком, газеты Валька вынимала только вечером. Поэтому утром, по дороге в школу, Варя могла бы тайком захватить пакет. Она спрятала ириски в ящик, и мысль, что ей их хватит теперь надолго, немного утешила ее. А утром она ирисок в ящике для газет не обнаружила, кто-то вынул их до нее. Она не подумала о том, что в дырочках внизу дверки видно, что ящик не пустой. По этой причине Варя пришла в школу вся зареванная. Но размышления об обещанном Виктором письме позволили ей примириться с трагедией. Девочки у них в классе получали настоящие письма от мальчиков, с которыми познакомились в пионерском лагере. Кроме того, им часто писали и одноклассники. Варе никто еще ничего такого не писал. Только однажды ей пришло письмо без подписи с просьбой прислать по десяти перечисленным ниже адресам по рублю. После этого ей должно было прийти целых сто рублей. Десяти рублей для переписки у Варьки, конечно, не было, но она долго еще мечтала, что же она купит на такую огромную сумму — сто рублей! Варя ждала писем от Виктора, даже начала сочинять ему ответ. Писать ей, правда, было особо нечего, в школе у них было все как обычно, просто ее отсадили от мальчиков, и она теперь сидела одна у окна. Лозунги ей теперь тоже писать не доверяли, а пришедшая после Виктора учительница рисования презрительно морщилась на ее рисунки и ставила четверки. Но поставленных Виктором пятерок было так много, что за четверть у нее все равно вышла пятерка. Писем все не было, и Варя начала потихоньку забывать своего морского художника.
Весной от ее родителей съезжала Валька. Она закончила институт, и папа сделал две теплотрассы, чтобы только Вальке дали маленькую комнатку гостиничного типа. Он говорил, что уже не может терпеть эту прошмандовку у себя в доме, иначе Варвара вырастет такой же. Валька радостно перетаскивала вещи, которых, за годы ее учебы, у них накопилось очень много, перебирала и выкидывала старые конспекты, записи. Варя выносила к мусорной машине наполненные Валькиной писаниной ведра. Варя любила ходить к мусорке. Шофер машины, мрачный неразговорчивый мужчина с совковой лопатой, утрамбовывал мусор и нажимал какой-то рычаг. Весь выкинутый их домом отброс начинал шевелиться, ползти вверх и смешно сплющиваться.
И как-то, глазея на это захватывающее зрелище, Варя увидела, что среди выкинутых ею бумажек наверху лежит исписанный явно рукой Виктора листочек. Она уже не могла его достать и, только подпрыгнув, успела прочесть: "…евочка моя сладка…". Она пришла домой и попыталась порыться у мамы и Вальки в бумагах. Но конверта с адресом не нашла. Спрашивать у них было без толку, Валька бы еще и побила. Она весь день проревела, сообразив, наконец, что даже не знает фамилии человека, с которым целовалась и была готова пойти к нему в общежитие. А в школе — только заикнись о нем, сразу к Кларе ссучиваться потянут. Виктор навсегда растворился где-то в дальних краях. Но после него на Варьку всегда, когда она слышала партийные лозунги, накатывало устойчивое желание целоваться.
СЛАВА БОГУ, ОПЯТЬ ХУТОР
Летом Варьку с братом опять отправили на хутор. Варя топала на подушке из утиного пуха и чувствовала, что наконец-то добралась до дома. Сережка уже давно сопел рядом. Бабушка и мама тихо говорили у керосинки о ней. Мама давала Настасье Федоровне последние наставления насчет нее, а бабушка, вырастившая и выдавшая замуж троих дочерей, снисходительно им внимала.
— Потом, представляете, мне их завуч говорит, что она с этим мужиком целуется взасос под лесенкой в школе.
— Ленка, у нас ведь девку не по метрике замуж отдают, а по статям. Ты хоть видела, какой у нее стан? — одобрительно шептала бабушка.
— Настасья Федоровна, так ведь не с мальчишкой целовалась-то, мужику-то тому под тридцать!
— Знающий мужик попался, что тут скажешь. Ты ему спасибо скажи, что девку сберег. Ты об нем бы подумала, какого ему было от такой уползать? Нет, Ленка, если ты девку нашей породы будешь с мужиками картинки отправлять рисовать, так и не думай ее до возраста додержать — непременно в подоле принесет! Ты сама нынче видела, что на базу творилось, как вы заехали — кавалеры все углы обоссали!
— Мама! Я Вас прошу последить за ней, ей ведь двенадцать лет! Ей еще в институт, потом в аспирантуру, она у нас еще может профессором станет.
— Это вы с Толькой, сволочи, задумали Варьке так жизнь испоганить? Варька — наша хуторская девка, мне церковно-приходской школы по маковку хватило! К ней уже Петька-тракторист сегодня свататься приезжал, я уж тебе не говорила, а у него подворье — залюбуешься! Там такая семья работящая, такой народ достойный, почтительный!
— Мама! Умоляю, пусть она отсюда девочкой приедет! У нее совсем другая судьба, мы с Толей уже все решили. То, что Вы говорите, это такая отсталость! Варе — за тракториста выходить! Еще хоть за художника, куда ни шло!
— Дураки, я вижу, вы обои с Толькой! Как просишь, так и сделаю. Но учти, в Ткачах, кроме блядства, и кое-что другое всегда было. А вот ежели это ее найдет, тут моей помощи не жди! Ничего сделать не смогу!
— Это Вы о чем? А-а…,- презрительно махнула рукой мама, — Толя говорил глупости какие-то насчет колдовства и порхания на метле. Смешно все это!
— Ну, коли тебе смешно, то не обессудь! Я бы тому художнику в ножки поклонилась, если бы он ее под лесенкой взял. А теперь смотри: Варька — девкой осталась, у ней уже седая прядь обозначилась, ведь не выгор на это на волосьях — седина! Она — старшая дочка у вас! И глаза у ней, тебе, Ленка, этого не поймать, — ведьмачьи. Она им сейчас — в самый раз! Вот и сиди с такой, жди пока кто из них в гости не явился. Да я бы такую сегодня же бы к Петьке взамуж отправила! Ведь они потом в миру уже по-людски не живут! Ты же сама говоришь, что ее и так в школе без конца шпыняют! Точно кто-нибудь из этих уже по ее душу на помеле сидит! А вы ее, партейные, даже не покрестили!
— Я считаю, что все это выдумки. Вам тут без телевизора жить скучно, вот вы все и придумываете сказки!
— Ладно, керосин уже выгорает, спать ложись. Сказки! А тебе Толик о своем дедушке Кузьке не рассказывал? Ну-ну, сказки…
Уже сквозь сон Варька размышляла, умеет ли Петька-тракторист целоваться? А потом к ней подсела бабушка плакала о чем-то, гладила по голове и шептала: "Бедная ты пацанка, несчастное ты дите!". Варька совсем не понимала ее жалости, она привыкла во всем соглашаться с мамой, мама все всегда знала даже лучше папы. Это действительно смешно — Петька! Виктор… Витенька…Вик…
ВАРЬКА СТАНОВИТСЯ ЧУЧЕЛОМ ОГОРОДНЫМ
От этого вечера остались у Вари воспоминания о рухнувшей патриархальной надежности их хуторского уклада, возникшие сомнения в котором посеял неожиданный приезд неизвестных ей до сих пор родственников. Ее приняли в круг несуетной хуторской жизни, хотя она была уже иным, некрещеным городским дитем. Ее жизнь интересовала и волновала старух на скамейках, они подзывали и расспрашивали ее. И она была горда этим, потому что до нее их никогда не трогала жизнь за пределами двух соседних хуторов и станицы, к которой они были издавна приписаны. Значит, она становилась своей. Ей так нравилось это, так хотелось быть именно здесь своей! Тихая размеренная жизнь со звоном струи молока о подойник, с утренними блинами, разговорами за вечерей, огромными закатами южного солнца, укатывающегося в ближайшую балку!
Все перевернулось, когда поздно вечером в заснувшую хату постучалась внучатая племянница ее дедушки. Бабушка, долго и неохотно выяснявшая через запертую дверь степени их родства, отперла, наконец, засов и зажгла керосиновую лампу.
— Долгонько тебя не было в наших краях, молодушка, — произнесла она обречено. — Да ты не одна, пацаненка настрогала!
Голос крови брал над бабкой силу, природное радушие заставило выставить позднее угощение. Гостья начала рассказывать о дальних родственниках, о которых Варя прежде и не слыхивала. Пламя керосинки выхватило из темноты небольшого, как и бабушка росточка, сутулую женщину с изъеденным непонятной болезнью лицом. Гостья чесала болячки, сняла волосья с совершенно лысой головы и с наслаждением до крови заскребла виски.
— Ну, ты уж совсем, Надька, оведьмачилась! — донеслись до Вари осуждающие слова бабушки. — Такие-то вещи надо бы по большим праздникам творить, если вообще надо!
— Не могу больше, Настя, приехали мы ей все передать, на покой нам пора.
— Не допущу я этого, Надька! Лучше вытравлю ее, а не допущу. А кто же тебе сказал это, тому тоже до завтрева не дожить. Как же вы мне надоели, Ткачи, со своим ведовством. Была пацанка, как пацанка, а станет чучелом огородным!
— Ты мне не указ, а хибара рядом — моей матери, я там жить буду до передачи…
Тут что-то зазвенело у Вари в головушке, и она провалилась в беспамятный детский сон.
День наступил как обычно и шел своим чередом, пока Варя не заметила худосочного ломкого подростка, сидевшего под черешней. Он плевался косточками в рычавшего на него Рыжика.
— Вы, мальчик, вчера с мамой к нам приехали? — спросила Варя.
Подросток нехотя поглядел на нее пронизывающим насмешливым взглядом.
— Меня Митькой зовут, Варька. А мать — Надеждой, хорошее имя, правда? — сказал он, посмеиваясь и поплевывая. Потом поднялся вдруг на четвереньки и тихо, угрожающе зарычал на Рыжика. Рыжик, захлебываясь лаем, заскочил за угол сарая и заскулил, вызывая к себе Варю.
— Зачем ты так, Митя? — спросила Варя, отходя и уговаривая на ходу Рыжика. Сердце у нее было не на месте. Она даже обрадовалась, когда бабка, наплевав на приехавших, собралась посетить своего брата Григория на другом конце хутора. С собой она прихватила внуков. По дороге бабка сказала Варьке, что оставит Сережку там погостить, а Варе придется побыть с приезжими, а то будет совсем неловко, если они все к Григорию съедут. Тем более что эти только рады будут родственному знакомству, а может, ради нее и приперлись.
— Сейчас весь хутор про нас все гадости вспомнит, житья нам тут больше не будет! — в сердцах сказала бабушка, — А все потому, что некоторые, себя не помня, силой своей перед кем не надо хвастают! Думаешь, легко на старости лет с насиженного места сниматься? Вот чего теперь ей от нас надо? Знает ведь, что мы одни здесь с внуками! И куда с этим городскому дитю? Я думала, что она давно сгинула, а она вот еще и парнишку родила! Сейчас вот прячется ото всех, а разве это спрячешь? Вот у выпоротка-то ее какой глаз, что все собаки воют!
На вопрос Вари, почему Митя — выпороток, бабушка сказала, что нормальные бабы всех детей сами рожают, а тех, кого Бог не пускает, доктора из живота матерей выпарывают, а потом по-портновски животы подшивают. А этот — точно выпороток! Не могет того быть, чтобы Господь допустил такое дитятко на свет божий!
Встречать скотину вечером, Варя пошла с выпоротком Митей. Он все нехорошо посмеивался, глядя, как старухи отзывают от них своих внуков. Первый взрыв негодования обрушился на них вечером, когда соседки сдоили у коров на глазах скисающее молоко. На утро скотина не встала, только безответный дедушка погнал их корову и козочек. Он вернулся к завтраку взволнованный: "Неладные дела, Настя, иди скотину поднимай, спалят нас с внуками!" Бабушка, взяв дорожные иконки, молча пошла по дворам, встречаемая угрюмыми взглядами. Пока она отчитывала скотину, Варя кропила наговорной водой базы и подворья. Солнце уже жарко слепило глаза, когда хуторское стадо нехотя вышло на выпас. Соседки отозвали бабушку и стали с жаром уговаривать согнать ведьму, пока она все подряд не изурочила. Бабушка возвращалась сумрачная, Варя едва тащилась за ней. Всю дорогу она честила Варю на чем свет стоит, занудливо ворчала.
— Не знаю, Варька, чего ты в жизни понять успела, кем ты станешь! Что ты за детина, тоже понять не могу! Я в твои годы уж такого лиха хлебнула, а такой лентяйкой, слава Богу, не была! Ведь идешь, едва шевелишься! Так бы дала под зад ногой! И чего ты к тому Митьке-то лезла? Дак ведь еще и платок новый мой надела! Нет бы, чем полезным занялась!
Бабушка распалилась до своей обычной степени и плавно перешла лаять Варину мать. Эта тема была для бабушки вовсе бесконечной. Варя почувствовала, что бабушка что-то решила на счет нее, как-то мысленно оттолкнула ее от себя. Она пыталась понять, чем она разгневала бабушку, но ответа не находила. Потом бабушка стала жалеть ее отца, что так его мучает мама Вари. Варя знала, что бабка сейчас станет плакать на всю улицу о сыночке Толе и его горькой доле, поэтому ей было уже не в мочь. Но спорить о том, что ее родители живут между собой вполне сносно, было сейчас по отношению к бабушке, настроившейся на рев, жестоко. Это было тем более бессмысленно, поскольку она знала, что никто из Ткачей не успокаивался, пока от частных семейных проблем не переходил к глобальным, мировоззренческим, рассматривая недостатки своих домашних в мировом, а иногда и вселенском масштабе. Останавливать их было бесполезно. Иногда она даже думала, что у всех Ткачей на этой почве было немного неладно с головой.
Навстречу им шли с дойки злые колхозные доярки. Варя подумала об отступлении огородами, но те, увидев орущую на всю улицу Ткачиху, сами свернули на соседские базы.
Бабушка, больно обхватила Варю, прижала ее к себе и зашлась ревом, уговаривая ее никогда не делать плохо людям, хоть и наперед не знаешь, как сделать этим гадам хорошо, лучше бы стараться не делать им вообще ничего.
"А-а! Плюй, на них! Живи, как знаешь! А они всегда свое у тебя из-под носа вынут! Здесь ты не в мамочку, здесь ты в Тольку пошла! Горькая будет у тебя доля!"
Варю всегда трогал бесслезный плач бабушки. Слезы, по ее признанию, она давно выплакала, поэтому лицо ее кривилось точно так же как и в смехе, но при этом бабушка издавала тоненький, почти детский визг. От бабкиной кофты пахло потом и свежесбитым маслом. Соседи со дворов попрятались от них за штакетник, и вокруг только деловито копались в пыли грязные хуторские куры.
* * *
Вечеря прошла скомкано, в печали. Дед только вздыхал, бабушка поджимала и без того узкие губы. Парного молока с хлебом — обычной их вечерней пищи не было, поели творога с кислой сметаной. Сахарком бы сдобрить, да хуторской продавец отказался обслуживать ведьминых родственников, хотя бабушка и посылала в магазин всеми уважаемого деда. Поев, дед, не сказав ни слова, пошел на свою огромную кровать, застеленную богатым малиновым бархатным знаменем с золотым шитьем. Старший их зять работал завхозом в районном совете профсоюзов и снабжал всех родственников по праздникам переходящими знаменами. Благодаря его беззаветному труду, все знамена района постепенно переходили на мощные кровати Вариных родственников.
Варька удивлялась, почему на вечерю не позвали приезжих, почему ее бабушка не гонит спать вслед за дедом.
— Ну, Варька, пойдем! — сказала бабушка, и они, потушив огонек керосинки, вышли в темноте, стараясь не допускать лишнего шума. Тихонько прошли они заросшей калиткой в заброшенную хибару на краю хутора, где сейчас теплился свечной огонек. Надежда лежала на кровати с присвистом дыша, Митя сидел рядом. Они враз повернули головы к Варе и бабке. Варя увидела, что на Надежде — бабкина выходная ситцевая кофта, а кровать покрыта легким бараньим пологом, который дед всегда брал на дежурство в стадо.
— Слава Богу, пришли! — выдохнула Надежда, — я уж и ждать перестала. Совсем мне худо, Настя.
— Оно и видать, — заворчала бабушка, — на хуторе-то что ни попадя творится!
— Не держи зла, Настя, не протянуть мне без этого, не пускает это меня, — устало шептала Надежда. На ее сером бескровном лице яснее выступили багровые взбухшие пятна.
Варя села возле нее на услужливо подставленный Митей табурет, Надежда схватила ее за руку и закрыла глаза. В руке у Вари стало покалывать, в ушах стало звенеть, приближалось то состояние, которого она всегда в детстве боялась. Накатывал туман с непонятными ей голосами на гортанных чужих языках. Варя попыталась вырвать руку, но Надежда вцепилась в нее мертвой хваткой. Пришла она в себя от холода кружки в руке. Бабушка помогла ей напиться, сразу стало легче. Надежда уже сидела на кровати, пятна ее как бы выцвели, лицо стало ровнее и строже.
— Век не забуду, Настя! А о ней не беспокойся, оно само бы ее рано или поздно нашло, а так хоть знать будет сразу что к чему. Мои сроки все вышли, не боись, я перед рассветом съеду. Давай, мы с тобой прошлое вспомним, простимся, здесь уж не увидимся, а Митька пускай с Варей в степи погуляют пока. Ночь ведь какая! Нам ведь есть что и кого вспомянуть, Настенька!
Растроганная давним к ней обращением, бабушка скривилась в плаче: "Вспомянем, Наденька! Видит Бог, вспомянем!"
Митька взял Варю за руку и повел из хибары. Их окружило благоухание ночной благодати. Огромная розоватая луна висела над хутором. Варя каждой клеточкой ощущала ласкавшую их теплым дыханием ночь. Непонятная печаль теснила грудь, а на глаза наворачивались слезы. Митя сунул ей в руки вишневую палку, наподобие той, которой дед ходил в стадо, вооружился такой же и вдруг лукаво, заискивающе предложил: "Полетаем? А?"
Что это было? Сон, явь? Долгие годы спустя Варя не могла ответить на этот вопрос. Летали ли они тогда с Митькой или нет? То ей казалось, что летали, она даже помнила этот восторг, захлест чувств, но большей частью разочарованно и обречено думала, что все-таки это было лишь продолжением какого-то давнего сна…
А потом они сидели на древнем кургане, что возвышался за хутором перед старым кладбищем, и Митя тихо рассказывал ей о себе. Тетя Надя вовсе не была его матерью. Она нашла их с бабкой в степи, как-то услышав, что ее зовет мальчик. Бабка насмерть замерзла и так вцепилась в Митю в последнем смертном объятии, что ее еле оторвали от него. Они с бабкой просто побирались, когда их бросила Митина мать. Мама его была странной, ни к кому не привязывающейся душевно, женщиной. Как будто детский эгоизм так и не исчез в ней под грузом зрелых размышлений и переживаний. Зла она, по этой причине, не боялась совершенно, стараясь в последних отблесках молодости по больше урвать от жизни. С бабкой Митя обошел почти всю ростовскую область. Ночевали на автостанциях, переезжали с места на место, просили "дяденька, на билет до дома рубля не хватает". Митя в этих ежедневных мытарствах иззверился весь. Но приткнуться им было некуда. Чего они со станции в тот вечер пехом пошли, он уже не помнил, да чему быть — не миновать!
Про Надю Митя рассказывал скупо, потому что сам многого не понимал в ее жизни, но он твердо верил, что Варя этой ночью получила от Надежды какой-то Дар, о котором Митя говорил боязливым шепотом. Наде передала Дар старая тетка-бобылка, дальняя их родственница. И вырос он в ней большим, но, то ли ума при этом было с копейку, то ли она так и не поняла, что не Дар служил ей, а она должна была во всем следовать ему. Ей нравилось поражать простого, без душевной памяти человека, сообщая ему те вещи, которые нести ему в обычной жизни было не под силу, да и не к чему. Хвастала она этим даже перед случайными попутчиками в поезде. Гадала за деньги, нигде не расставаясь с потрепанной колодой карт. Из мелкого тщеславия Надя с удовольствием занималась обычными ведьмиными штучками и фокусами, до которых человеку Дара опускаться тоже не следовало. Но самое глупое, что как-то, полюбив одного парня, она, желая поразить его, взяла его с собой в какой-то особый, ритуальный ночной весенний полет. Наутро он навсегда уехал от нее и, по слухам, как-то нехорошо кончил. По всему телу пошли у нее ведьмины пятна — первый признак начавшегося перерождения. Она не могла жить без мелких, уже диктуемых ей извне, гадостей. Надя понимала, что она обязательно дойдет до чего-то и по крупнее. Единственное, что она еще в силах была сделать, это передать Дар. Но и на это она была способна, только преодолевая нестерпимые душевные муки. Здесь ее ожидало множество условностей. Дар мог быть передан только человеку, который имел силу, чтобы его пронести. Этот человек должен был быть близким родственником, но не по прямой линии, старшим ребенком в семье и иметь уже хотя бы один седой волос.
В Мите Надежда нашла верного спутника и помощника, она научила, по его словам, слушать, видеть, но передала и часть тоски, как ржа, разъедавшей ее душу. Дар был ему не под силу, но его влекло ее примитивное, хвастоватое колдовство.
— Ну, бывай, Варюха! Какой-то ты будешь ведьмой? — сказал с грустью Митя, и они простились, зная, что никогда уже не встретятся живыми.
"ОСТАНЬСЯ ЖИВОЙ!"
Когда Варька вернулась в хату, бабка уже спала или делала вид, что спит со старческими храпами и свистами. В темноте тикал как метроном будильник. Варя легла на свою лежанку, укрылась до подбородка одеялом, и на нее начали накатывать темные волны видений. Она вспоминала свои прежние воплощения Души, вглядываясь в лица людей, которыми она была когда-то. Они же из тьмы, их поглотившей, будто тоже пытались ее разглядеть пустыми глазницами. Она видела людей, поднимавшихся к самым вершинам власти и славы, а так же и тех, кто изжили свои доли в полной безвестности. Их жизни просыпались в ней, взламывали внутренние пороги жгучей болью. Их неудовлетворенные желания, скорби и жажда мщения, похоть, странные, идущие из начала Мира, знания разрывали детскую душу Вари. Как была милосердна и жалостлива Природа, позволявшая навсегда забыть Душе о вечных ее скитаниях…
Варя вспомнила себя высокой женщиной с экзотической, развратной внешностью. Когда-то она любила упиваться чужими страданиями на ночных пирах с плоской чашей вина в руке, украшенной тонкими браслетами. Но Варя увидела ее и другой. Рот, похожий на роскошный ядовитый цветок, был искусан в безмолвном страдании, и по подбородку стекали тонкие струйки крови. Руки ее были обрублены по локти, за ее спиной стоял палач с удавкой. Но и теперь, обводя последним взглядом выкатившихся из орбит глаз, с кровавой пеной на губах, она еще могла повергнуть в страх своих мучителей, сидевших перед нею на складных стульях, покрытых позлащенной человеческой кожей. Никто из них не знал ее последнюю муку, последнюю боль. Единственный мужчина, которого она любила, единственный, кому была верна до дна своей темной порочной души, ушел от нее в ночь перед штурмом из осажденного ее врагами города. Она сама вывела его к тайному подземному проходу. Она равнодушно улыбалась, когда он набивал кожаные переметные сумы в ее сокровищнице. Она со смехом оттолкнула его руки, когда он в последний раз хотел обнять ее. Он растворился в ночи, и она вглядывалась в тьму, которая донесла его тихий шепот: "Останься живой!".
Странное ощущение недосказанности оставило у нее видение, где она, в образе голого по пояс сероглазого юноши, что-то торопливо писала у масляного светильника сложными, похожими на зверей, птиц и растений письменами. За ним вот-вот должны были явиться стражи, чтобы вести куда-то, но вот куда? Почему-то этот очень важный для нее фрагмент ускользал, не давался ей для осмысления.
И, наконец, пришел к ней желтолицый узкоглазый воин. На этот раз она вспомнила его последний час. Он умирал в окружении пяти своих полководцев. Они, в вассальской преданности, склонили перед ним головы и в чем-то клялись. Но со смертной тоской он понимал всю бессмысленность и бесполезность принятия этой клятвы. Его маленький сын, вымоленный у Богов слишком поздно, не стал еще зверем, способным устрашить его боевых соратников. Умирая, он был просто отцом, который понимал, на что обрекает долгожданное потомство своей внезапной смертью. Задумавшись над его судьбой, Варя забыла тихое предостережение, которое звучало у нее где-то далеко в душе. И она, очами умирающего, вдруг пристально стала вглядываться в лица склонившихся перед нею. Только увидев, что глаза двух, наиболее близко находившихся к ней теней воинов с длинными черными волосами, спадавшими на плечи, вдруг засветились, узнавая ее Душу, она едва успела выбраться из затягивающего кольца внезапно накатившего на нее удушья. Но какая-то жгучая боль пронзила ее внутренности и тоской обожгла душу…
Варя проснулась поздно, поэтому ей было неловко и стыдно перед бабушкой, которая уже тяпала огород. Дед поехал на колхозной бричке по разнарядке звеньевого вывозить ранние огурцы. Почему-то ей совсем не хотелось есть лоснящиеся маслом теплые блины, заботливо укутанные для нее в тряпицу. Сполоснув лицо из ведра, выставленного нагреваться на солнце, она подошла к бабушке. Бабушка слишком по-доброму, льстиво заглянула ей в лицо и спросила, как ей спалось. Варя помнила, что так она с ней она говорила только в первый день, когда они с мамой и братом приехали на хутор, искренне радуясь их приезду. Потом, после маминого отъезда, наступили повседневные заботы, а с ними на бабушку накатила ее обычная суровость и раздражительность. Поэтому она обрадовалась редкому для бабушки душевному равновесию, сказала, что у нее все хорошо, и пошла, заниматься обычными своими дневными делами. Только в обед, накрыв стол в саду для пожилой незамужней бабушкиной племянницы, которая привела брата Сережу из гостей, она узнала из разговора взрослых, что приезжие родственники уехали на рассвете с попуткой. Бабушка шепотом рассказывала Галине, что Митька — не сын, а приемыш, а то, что Надежда его спасла, зачлось ей, все-таки не стала как… Они понизили голоса до вовсе неразличимого лепета, и Варя с легким холодком в душе поняла, что речь шла еще о каком-то ее родственнике, не справившимся с бременем Дара.
ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…
Вечером Варьке стало плохо. Полученный ею толчок в живот в ночных снах не проходил целый день. Внутри живота все онемело. Варя почему-то очень хорошо понимала, что ей нельзя ни есть, ни пить. Они как обычно все вместе легли в глинобитной мазанке. На подворье был еще совсем новый деревянный дом с обстановкой, выстроенный для родителей ее отцом, но бабушка почему-то не любила в нем жить. Кое-как, промучившись без сна ночь, Варя поняла утром, что ни вставать с постели, ни даже переворачиваться она не может. Бабушка подошла к ней, потому что внучка ответила на ее зов невнятным мычанием. Глянув на ее запавшие глаза, бабушка испуганно села возле нее и с трудом выговорила: "Варька! Ты что-то не так там с Надькой сделала?". Варька смогла только утвердительно прикрыть глаза. Жесткой страшной рукой, ухватившей ее прямо за внутренности, среди белого дня ее утягивало куда-то, откуда возврата не было. Бабушка с дедом, обтерев внучку от липкого пота влажным полотенцем, потащили ее в новый дом, уложили одну в постель. Бабушка принесла ей взвару, но Варька отрицательно покачала головой. Ей было даже какое-то время хорошо одной в необжитой холодной постели и сумеречной прохладе дома. Она была рада, что не участвует уже в дневной, хозяйственной суете, что никто не отвлекает ее от изматывающей боли в животе. Любое движение вызывало немедленный, острый толчок. Словно кто-то хотел сказать ей, что она у него в руках, из которых ей не вырваться. Зашедшая проверить ее бабушка была спокойна, разговаривала с ней как обычно. Варя уже ей почти не отвечала. Но под домом был один из погребов, в котором бабушка с дедом перебирали картошку, готовя ее к рынку. Настасья Федоровна не знала, что все, о чем они там говорили, слышала Варя.
— Дед, Варька очень плоха!
— А что с ней?
— Да обычное ваше поветрие. Затягивает ее туда, где была. Не то у них с Надькой вышло.
— Говорил ведь, что надо было ее гнать!
— Выгонишь ее, как же! А кабы надолго осталась, тогда как? Выхода у нас не было. А все ваша родова подлая! Теперь девка до утра не доживет. Я вон скольких деток схоронила, уж я в эти глаза насмотрелась.
— Давай фершалку позовем?
— А-а, толку от нее, от фершалки! Что тут сделаешь? Она спросит, как ребенок заболел, и что ты про свою племяшку-ведьмачку ей объяснять станешь? Да смотри-ка, Надька-то ведь мигом с хутора убралась!
Варя тихо обрадовалась, что ждать ей осталось уже недолго. Солнце уже садилось, а утром у нее уже ничего не будет болеть. Пришел брат Сережка, который, в тревоге за сестру, тоже подслушал разговор стариков. Варя собрала последние силы и держалась с ним по бодрее.
— Варька, не умирай! Я тут один оставаться не хочу! Я вот тебе конфет принес, в кооперации купил.
— А где денег взял?
— Да не трогал я те, что ты в чемодане прячешь. Я у бабки из ее кошеля достал.
— Мне нельзя ничего есть, Сережа. Иди от меня, играйся!
— Дай мне слово, что не помрешь!
Это было совсем жестоко. Он не понимал, как ей больно. В своем бесконечном эгоизме семилетний мальчик, привыкший к ее опеке, не хотел ее отпускать. С ней так никто не носился, пусть и он начинает жить один.
— Не могу, Сережик!
— Дай слово! — Сережа заплакал возле нее, размазывая грязь по щекам.
У него опять были грязные руки! И маечка вчерашняя, бабка ему так и не сменила. Вот помрет она, он тут опять в кизяках играть будет и к кнурям в стайку лезть.
— Хорошо, Сережа! Я не помру, но пойди умойся, смени одежу и на базу не трись!
Обнадеженный Сережа убежал. Господи, зачем она дала ему слово? В комнате становилось совсем темно, из-за штор и портретов медленно выползли мохнатые южные ночные бабочки, похожие на разжиревшую до одури моль. Варя с трудом натянула на лицо простыню, чтобы бабочки, летавшие по комнате, не коснулись ненароком ее лица цепкими холодными лапками. В сумерках ей стало страшно, ей казалось, что кто-то пристально смотрит на нее с веранды. Мучаясь от боли, Варя подтянула одеяло из овечьей шерсти на себя и, давясь сухой желчной рвотой, закрылась с головой, потому что этот самый кто-то неслышно подходил к ней совсем уже близко. С каждым его шагом к ней, у Вари все сильнее, лихорадочнее стучало сердце, заболели виски, голову изнутри стал разламывать нараставший звон, и Варька рухнула в разверзшуюся перед ней темноту.
Потом она ненадолго оказалась в странном, очень печальном месте. Это была широкая равнина с недвижной рекой, вдали, у горизонта поднимались горы. Преобладали желто-коричневые тона. И в тот момент, когда ее душа еще окидывала всю равнину прощальным взглядом, все вокруг нее переменилось, застыло, оказалось просто бутафорской картиной перед чем-то еще немыслимым для нее. Небо над дальними горами вдруг с треском разорвалось, как папиросная бумага, возникла страшная черная дыра, и то, что еще оставалось от Варьки, почувствовало, как она с огромной скоростью несется в темный тоннель. — Не-е-е-т! — завопило что-то в ней, хотя она знала всю тщетность своих стенаний, но теми остатками человеческого, что еще хранила ее душа, она успела выкрикнуть: "Я дала слово!".
* * *
Вначале было Слово. Слово имеет свою магию, свою силу, свою власть. Человеческое слово лишь слабый беспомощный отголосок того, что сказано миру в момент его рождения из тьмы. И только язык души может отразить всеми приобретенными за свою жизнь красками то заветное, хранимое в каждом рассветном луче светил с начала всех миров, Слово…
* * *
Утром, до которого, слабо шевелясь, дожила Варька, в дом ворвался незнакомый злой молодой мужик.
— Я тебя, тетка Настя, как-нибудь пришибу! Отойди! Ведь весь день молоковоз под окнами стоял! Ведь могла сказать, дура старая!
— Ты не ори на меня, Петя! Не твоя она уже, видишь, помирает!
Петька сгреб Варю с постели, отчего из глаз у нее от боли сами собой полились слезы, и бросил бабушке: "Подушки неси пуховые, сука старая!". Плакавшая бабушка принесла подушки, заложила ими кабину молоковоза и сквозь слезы, оправляя на безразличной ко всему Варе рубашку, сказала: "Все равно не довезешь!". Петька выматерился и вскочил в кабину.
Дорогу она помнила только бесконечной болью, всплесками отмечавшую каждый степной ухаб. С тревогой оборачивавшийся к ней Петька просил так же, как и ее брат: "Держись, не помирай!". Ну, что им всем надо было от нее? Вот не умерла она, вот мучается теперь. А там, может быть, все было бы не так, лучше. Но Петька, глядя, как она устало закрывает глаза, просил опять, и она опять, помня данное Сереже слово, не умирала.
Петр привез ее в районную больницу в ближайшей станице к доктору, приехавшему сюда после окончания Ростовского мединститута, с которым они вместе ездили на рыбалку. Доктор лечил его от чириев, мучавших Петьку каждую весну, а он таскал ему фляги с медом и сало. Лежа на больничном столе, глядя на огромную бестеневую лампу над ним, Варя равнодушно слушала, как Петька что-то объясняет маленькому худому армянину в белом халате. Она лежала абсолютно голая, но уже не испытывала никакого стыда перед двумя стоявшими рядом мужчинами, потому, что ей, по большому счету, было уже совершенно безразлично где лежать.
— Петя, как ты ее довез? У нее же перитонит, ее уже даже оперировать поздно. Я ее только измучаю, у меня ведь даже общего наркоза нет!
— Сурен, ты меня знаешь, если она помрет, живым ты из станицы не уйдешь!
— Ой, не пугай, Петя, я — пуганый! Что мне-то с ней делать? Ведь она умирает уже…
— Я тебя, Сурен, предупредил, поэтому — решай!
— Ладно, езжай, Петр! Телеграмму ее родителям отбей, мне еще с ними, из-за тебя, дурак, объясняться. Вот каким они меня выпустят! Чем вы там на хуторах занимаетесь, что потом таких девчонок привозите?
— Ты, Сурен, на меня, что ли думаешь? Да, я жениться на ней хотел!
— Я знаю, что ты не при чем, у нее аппендицит. Только очень необычный аппендицит, и прорвался уже. Ты ее адрес у сестры из карточки возьми, она там что-то ей нашептала. Слушай, Петь, ты только народ хоть не смеши! Жениться! Она сестре сказала, что ей двенадцать лет!
— Сколько?
И двое мужчин с интересом посмотрели на еще красивое женственное Варькино тело, в коже которого уже явственно угадывался землисто-восковой оттенок.
Больничку Сурен содержал в чистоте. Варе меняли белье по несколько раз на день, потому что он решил колоть ей ударными дозами пенициллин, а после уколов в дырочку у нее все сочилась сукровица. Она так же упрямо отказывалась от еды и питья, зная, что ей нельзя ничего брать в рот. Сурен и Петька съездили по другим больницам района за необходимыми лекарствами. Для умирающей казачьей девочки с глухого хутора им отдавали последнее. Сурен приказывал ей ставить капельницы, Варя все впадала в сон, а сны под капельницей получались ужасными. Ее измучило часто повторявшееся видение, что брат Сережка тянет к ней ручки из какого-то огромного горящего каменного дома, каких Варя нигде, даже в Москве и Ростове не видела. Она кричала ему: "Прыгай сюда! Я поймаю!", Сережка прыгал, Варя тянула к нему руки и с ужасом видела, что они у ней обрублены по локти и поймать его она уже не сможет…
Она приходила в себя от укола иглы капельницы и снова уходила куда-то в свои сны. Она все продолжала жить, страшная рука отпустила ее перед самым входом в тоннель и теперь уже не держала, боль потихоньку сворачивалась в ней, уменьшалась. На третьи сутки она понемногу стала ходить. Она бы еще лежала, сил у нее совсем еще не было, но, зная, что Петька должен был дать телеграмму, очень ждала маму. А с ее фамилией ее все время вызывали радостные за нее няни. Она тащилась к выходу, потому что строгий до самодурства Сурен запрещал вход в больницу кому-нибудь из посетителей, а больным и персоналу в чем-то не больничном, начиная с нижнего белья. Причем, это не распространялось на Петьку, проведывавшего ее в палате в кирзовых сапогах после очередного налета на соседние больницы. У входа всегда стояли какие-то незнакомые люди, они с испугом вглядывались в Варьку и говорили: "Это вы кого нам позвали? У нас бабушка старенькая, а это молодая… вроде бы". Раздраженный персонал орал, что просили они Ткачеву, так вот это Ткачева и есть! Находившись так вдоволь, она отказалась идти в пять утра к приехавшей маме.
— Не пойду, опять скажут, что вы им страсть Господню привели!
— Но ты ведь — Варя?
— Варя…
— А маму у тебя Еленой зовут?
— Ну…
— Вот она и приехала, телеграммой твоего Петьки трясет, с трех ночи тебя требует!
— Да брешете вы все!
— Ну-ка, выходь! А то Сурену пожалуюсь!
Варя ничего не ела и не пила шестые сутки, двое из которых ее били понос и рвота. Теперь уже ничего невозможно было в ней понять: молодая она или старая, красивая или некрасивая, кожа приобрела зеленоватый оливковый оттенок. Она была больше похожа на скелет, рот ее был приоткрыт, потому что губ не хватало, чтобы закрыть ровные крупные зубы. Петька только с тоской смотрел на оставшиеся от прежней Варьки большие зеленые глаза.
Варя узнала в сидевшей на скамейке женщине свою маму. Она протянула к ней руки, но мама почему-то смотрела ищущим взглядом за ней, в дверной проем. Значит и ее мама ждет совсем не ее. Варя позвала маму и очень удивилась, когда мама, вглядевшись в нее, вскрикнула и упала в обморок, больно ударившись о скамейку…
А через неделю тот же Петька вез их с мамой назад, на хутор. Варька быстро поправлялась, Сурен, правда, сказал, что ей все равно у них в городе надо делать операцию, но месяца через два, не раньше. Мама всю дорогу ругалась на бабушку и весь хутор. Она заявила, что они немедленно уезжают, немедленно! И Петька грустно подмигивал через ее голову своей несостоявшейся супруге, ставшей уже почти хорошенькой.
Больше Варю и Сережу на хутор не отправляли. С трудом пережив последующую зиму, старики перебрались с хутора сначала к одной дочери, потом к другой, теряя в дорогах свой трудами добытый скарб. Подворье их вначале стояло пустым, и Варя еще питала какие-то неясные надежды на то, что когда-то она сможет вернуться на хутор. А потом колхоз, что-то заплативший дедушке, передал уже разграбленный к тому времени надел чужим людям. Варя тосковала, плакала, но поделать ничего не могла. В их уральском городе можно было жить, работать, но умереть Варе хотелось бы на хуторе.
Отдаваясь вечной ночи В миг последний, час прощальный, Что захватишь между прочим В сборах скорых и печальных? Может запах тополиный? Детский отклик злому горю? Или клекот журавлиный, Что зовет к чужому морю? Лес в росе? Родные лица? Лай собак? Степное лето? Там, когда я стану птицей, Не забыть б в полете это!ВАРЬКЕ ВСЕ ОБРЫДЛО
Осенью, в конце первой четверти Варваре сделали операцию, которая длилась полтора часа. Мамин друг, оперировавший ее, шепотом рассказывал маме, что они не могли найти даже признаков аппендикса, как будто у Варьки не было его вообще. И только спустя час бесплодных поисков у нее в животе обнаружили затянутые жирником его остатки, которые уже самостоятельно рассасывались и устранялись ее организмом. Ассистенту кафедры, написавшему об этом случае в медицинский журнал, вернули статью за недоказанностью фактов.
Варя много и с удовольствием прогуливала занятия в школе. Когда ей бывало совсем невмоготу, она шла к участковой врачихе и со слезами на глазах ей говорила: "Все, больше не могу! Если не дадите справку — сбегу!". Врачиха жила у них же в доме, у нее были две дочки, девочки-двойняшки годом старше Варьки. Это были такие оторвиги, что Варвара, в сравнении с ними, была просто ангелом. Все стекла на дверях в подъезды были побиты ими, скамейки тоже рушились ими, сирень безжалостно обдиралась ими же, а то, что они творили со светильниками в подъездах, не укладывалось ни в какие разумные рамки. Милые, ухоженные, домашние, с виду, девочки были чрезвычайно жестоки в дворовых драках, поэтому даже Варька старалась всегда брать их сторону.
Врачиха грустно, затравленно глядела на нее и давала справку, шепотом прося, чтобы Варька поменьше светилась во дворе. Пропусков у нее накопилось огромное количество. Но она закатывала перед учителями свои большие с поволокой глаза, хваталась за давно не болевший живот и уверяла, что прямо сейчас помрет. И они, наслышанные от ее мамы о пережитой ею ростовской трагедии, жалели бедную девочку и оставляли в покое. Варя быстро нагоняла в учебе остальных, но потом ей опять становилось скучно, и она вновь бежала к врачихе, приходившей по утрам в больницу с красными, воспаленными глазами.
Дар никак не проявлялся в ней. Как была она Варькой, так ею же и осталась. А ей так хотелось поразить мальчиков во дворе чем-нибудь этаким, взрывоопасным! Но, за неимением магических способностей, они обходились подручными средствами и делали бомбы из карбида, который крали у газовиков. Нет, от Дара не было никакой практической пользы, и Варя благополучно о нем забыла.
Она теперь много читала, возмущая учителей полным пренебрежением школьной программы. Выбор литературы для чтения был у нее действительно странным. Ей нравились истории, которые имели бы обязательно трагические или грустные финалы, или заканчивались неопределенно, без финала вообще. Поэтому трагедии Шекспира, роман Диккенса "Большие надежды" и повесть «Фабиан» Кестнера надолго стали ее любимыми книгами. На конкурсе чтецов Варя прочла стихи Ронсара о неудовлетворенном половом влечении, как она сама пояснила регистрировавшей чтецов третьекласснице. Больше ее ни на какие конкурсы не посылали. Вот только рисовать она теперь совсем не могла. Склоняясь над листом бумаги, она все время чувствовала чьи-то губы, нежно ласкавшие ей затылок.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА
— Ребята! Вы все — пионеры, а некоторые уже и комсомольцы. Вступать в комсомол надо всем, но не все готовы на сегодня к такому важному жизненному шагу. Некоторые учатся из рук вон плохо, а некоторые и откровенно хулиганят, если не сказать хуже. Этот Алеша Волков ваш, достал меня хуже Варвары. Вот мне совершенно делать нечего! У меня ребенку три года, а я, вместо того, чтобы заниматься его воспитанием, хожу по комнатам милиции из-за этого мерзавца. Залезть к соседке на балкон и украсть фанерку с пельменями! В кошмарном сне до этого не додумаешься! Тебе от родительского комитета ботинки давали? Давали! В пионерлагерь каждый год посылали? Посылали! Бесплатно! Так ты, вместо того, чтобы учиться, пельмени жрать захотел?
Волков глядел в окно и нагло улыбался. Он недавно переехал в соседний с Варькой двор и совершенно не считался с установившимися среди их домов порядками. Они всем двором ждали, когда созреет вишня, оставшаяся от снесенной частной застройки, а Волков с братьями всю ее зеленой сожрал. Он был старшим ребенком в большой голодной семье, и на лице у него было написано одно желание — сожрать все, на чем глаз остановится. Конечно, Ленин и о таких подумал. Поэтому Волковым выдавали для детей зимние пальто и ботинки и даже запросто отоваривали гречкой и мукой. А Варькиной маме гречку доставала одна продавщица, протезировавшаяся у нее. Муку их двор покупал у Волковской матери, в простонародье — Волчихи, а уж она те деньги, наверно, пропивала с папой Волком. Ленин, конечно, даже не догадывался, что Алешка будет страшно стесняться своего клетчатого дармового пальто и ненавидеть всех исполкомовских теток, которые выдавали ему ботинки каждую осень.
— Не той дорогой пошел, дорогой товарищ Волков! Вот мы тебя сейчас направим туда, куда давно следовало! Это тебе будет не инспектор по делам несовершеннолетних Самохина, которую ты скоро до психушки доведешь! Предлагаю отдать Волкова на буксир нашей варварке…э-э…Варваре Ткачевой! Тогда, может, и наша первая красавица поменьше будет болеть, чаще школу посещать. Голосуем все! У тебя, где руки, Быкова? Да не обе тяни, а одну! Хотя я тоже, обеими руками — за!
Только Валентине Семеновне могла прийти в голову такая подлость. И почему она сегодня в школу-то пошла? Ведь у нее даже справка была до пятницы. Вот, расхлебывай теперь! Второй год на буксир никого не направляли по общественной линии, потому что девочек начинали сразу дразнить невестами, а мальчиков — женихами. Да ладно бы, если бы жених был ничего себе, а такой, как Волков? Мама, если узнает, кто к ним ходить на буксир будет, просто с ума сойдет, как инспектор Самохина. Варя предавалась унынию и скорбным мыслям все три последних урока до самой географии, пока не заметила, что веснушчатый Волков с веселым прищуром смотрит прямо на нее. Она взяла себя в руки и пристально глянула на него. Взгляд подействовал, не сразу, но подействовал. Волков сразу поскучнел и принялся насвистывать посреди географии. Но Софья Львовна даже не вышла из себя, не запсиховала, как обычно. Видно, идею с буксиром училки уже обсудили. По крайней мере, Львовна проявила осведомленность: "Ниче-ниче, Волков, посвисти! Скоро Ткачева покажет тебе, как раки на горе свистят, она тебе покажет, и где они зимуют… Так! Тихо все! Чего смеетесь? Тоже на буксир к Ткачевой захотели?"
После уроков Варя ухватила Волкова за рукав и сказала: "Завтра в девять придешь ко мне, квартира 64, а дом мой ты знаешь". Волков только обреченно кивнул и, перепрыгнув через парту, выбежал вон.
Маме такое говорить не следовало, а то сразу к соседям побежит ложки мельхиоровые прятать.
* * *
Утром Варька отвела брата Сережку в школу, он учился в первую смену. Еще в садике Сережа был самым крупным мальчиком в группе, но его все били. Поэтому Варьке часто приходилось воспитывать эту мелочь пузатую. Для этого ей было вполне достаточно сгрести в жменю волосенки очередного драчливого пацана и задушевно спросить: "Еще, гад, будешь?"
До школы, по дороге в садик и домой Варя настойчиво спрашивала у брата цифры и требовала читать вывески на магазинах. Сережка совсем не хотел учиться и всю дорогу ныл. Он не понимал тогда, что его ждало в школе. Варя сильно переживала за брата и все размышляла, как сделать так, чтобы с ним все было хорошо. С Ангелины Григорьевны она взяла клятвенное обещание доработать до Сережки, поэтому в первый класс он пошел к ней. Теперь Варя была уверена, что хоть три класса брат поживет как человек, до тех пор, пока не попадет в руки к Семеновне.
Заводя брата на этаж младших классов, она со скрытой завистью наблюдала за своей первой учительницей, окруженной самой мелкой сопливой ребятней. Ей очень хотелось прижаться к толстому боку Ангелины Григорьевны, или повиснуть на ней так же, как висли малыши, но, честно говоря, ей бы это уже не удалось, она переросла Ангелину на целую голову. И, конечно, даже Ангелина Григорьевна ничего бы не смогла посоветовать ей на счет Волкова.
Звонок в дверь раздался ровно в девять. Такой пунктуальности Варька от Волкова не ожидала, поэтому затеяла неспешную уборку квартиры. Она закинула веник в туалет и побежала открывать. Волков стоял без своего девчоночьего пальто, только в пиджаке. Видать, такие и в марте не мерзнут.
— А пожрать что-нибудь есть? — спросил он вместо «здрасте».
— Руки в ванной помой, борщом накормлю. Пельменей нет, извините-с!
— Да уже все мозги прополоскали из-за этих пельменей!
— Не знаю, Волков, как это можно чужое кушать? Их ведь еще варить надо…
— А ты чо, до сих пор не умеешь газ включать, что ли?
— Умею.
— Ну, а тогда их варить-то надо пятнадцать минут! У нас в тот раз дома совсем ничего не было, а эти пельмени три дня на балконе у старухи лежали. Сама бы ты стала терпеть три дня? А я терпел!
— Ладно, жри и давай с математики начнем.
— Ботанику и географию учить не буду.
— Будешь, тебя сейчас по всем предметам с моего буксира спрашивать начнут. Все училки захотят на холяву свои показатели подправить. Пока бери тряпку и воду, пол на кухне мыть будешь, а я тебе в это время рассказывать вслух буду, потом спрошу, потом мы тебе шпаргалки напишем на закрепление материала. Ты ведь сначала мало что запомнишь, поэтому у доски тебе не продержаться. А чтобы не вызвали к доске, будешь руку поднимать и дополнять ответы с места. Вкладывать шпаргалки за откидную доску парты я тебя научу.
— Не буду я руку поднимать! Я не девчонка! И полы мыть не буду!
— Даже не спорь, если я разозлюсь на тебя сейчас, то ничего не получится, кроме мордобоя.
Варя была права. Волкова спрашивали на всех уроках. Но выбранная ими тактика сработала отлично. Учительницы просто ошалели от того, что бандит Волков, вместо гадких шалостей на уроках, вдруг стал тянуть руку. Везде он получил четверки за дополнения, хотя на физике тянул даже на пятерку. Но самостоятельные ответы у доски ему пока могли выйти боком, Варя обнаружила множество пробелов в его слабых познаниях. Хотя голова у него варила, особенно по физике. Он даже починил два выключателя у Варьки в квартире, висевшие на искрящихся соплях. Теперь за лабораторные по электротехнике за Волкова можно было быть спокойной. Только по английскому она помочь ему не могла, потому что учила немецкий. Варя еще раз убедилась, что на буксир ей Лешку подцепили только из подлости, обычно прикрепляли к ребятам, изучавшим один и тот же иностранный язык.
Она основательно подготовилась к тому, что ее начнут дразнить из-за Волкова, но удар получила совершенно с неожиданной стороны. Дразнить ее, конечно, стали, но из-за Леньки Коробейникова — спокойного, уравновешенного мальчика, прославившегося только тем, что в четвертом классе он совершенно всерьез решил замочить Кольку Железника. Первые три класса они были закадычными друзьями, а потом вдруг не просто разошлись, а разодрались вдрызг. Их первая драка случилась после того, как Железник выступил на пионерском сборе, где, к удовольствию Валентины Семеновны, заклеймил Варьку за мещанскую идеологию. Что-то некстати она процитировала тогда в классе бабушкины идеи о том, что коммунисты, когда жрать захотят, всем им землю обратно вернут. Из Колькиного выступления и последующего резюме Валентины Семеновны Варя с горечью поняла, что возврат земель в планы партии не входит. Влетело ей тогда по первое число. Но после уроков она все равно отбила Кольку от озверевшего Леонида. Что теперь было кулаками махать, если бабкиной землицы ей все равно никто не возвернет?
Варя потом даже провожала месяца три Коляна до дома после школы, потому что по пятам за ними крался мстительный Коробейников. Коля тоже не понимал, почему вдруг Леня так изменился по отношению к нему, они так здорово вместе выпиливали лобзиком полочку для Колиной мамы! А Варю Железник все-таки продолжал критиковать на собраниях, потому что у него были принципы. Принципов у Железника было удивительно много, на каждый жизненный случай, поэтому провожать его было даже интересно. Иногда они подолгу стояли у фонаря возле Колькиного дома, и Варя поражалась его сложной душевной организации. Но потом ее стали утомлять эти длинные нравственные обоснования собственных поступков, да и Коробейников как-то охладел к Кольке. Опасность Железнику уже никакая не грозила, поэтому Варя с легкостью послала Коляна подальше.
И теперь этот Коробейников вдруг в один день схватил три двойки! По мнению одноклассников, сделал он это явно нарочно. Двойку он получил даже по любимой литературе! Поэтому все тут же решили, что этот хлюст тоже захотел к Варьке на буксир. Девочки на переменках разнесли эту новость в параллельные классы, и Варваре сразу стало нельзя появиться в столовой. Одно утешало, что ее буксир с Волковым практически не обсуждался.
После уроков Варя собирала портфель. Ни Волкова, ни Коробейникова ей просто видеть не хотелось! Тут-то к ней и подошла Танька Слепцова.
— Варя! Скажи, пожалуйста, Волкову, чтобы он ко мне не приставал.
— Сама скажи.
— Варя, я говорю, говорю, а он все равно лезет. Плохо очень лезет, щиплется везде, хихикает все! Я не могу, мне страшно. Пойдем с тобой из школы, а? Он меня под лесенку все тащит каждую переменку.
— Вот скотина! Что же ты мне вчера не сказала?
— Я боюсь. Он сказал, что сделает со мной это, если скажу кому. Надо мною уже и так девочки смеются.
— Не реви, пошли домой.
— Варя, а можно я с тобой за партой сидеть буду? Ты ведь все равно одна сидишь… И, пожалуйста, не болей до конца года больше!
Утром Волкова вместо борща ждал небольшой сюрприз в виде Варвары, вооруженной солдатским ремнем отца. Уворачиваясь, он пытался ухватить полоску свистящей кожи, но это никак не получалось. Варьку хорошо обучили управляться с кнутом при хуторском стаде, и еще год назад она спокойно выходила одна против годовалых бычков, взъярено дравших дерновину копытами.
— За что, у-у… Больно! Не надо больше!
— Надо-надо! Получай, гад! Ух-ха! На сладкое с пельменей потянуло? Я в другой раз пряжку надену с крючком, это будет больно! А вот это — так просто, семечки! Ух-ха!
— Да что я сделал-то такого? Не надо! Мне пиджак только на будущий год выдадут!
— К Таньке еще лезть будешь?
— Ты за эту овцу бьешь, что ли? Дура! Да тихо ты! Не буду я! Честно! Совсем с ума сошла… Больно-то как…
Волков сидел в коридоре и плакал по настоящему.
— Я домой пойду…
— Не бойся, больше не буду. Но только до того момента, как ты опять Таньку под лесенку потащишь. Такие, как ты, с первого раза не понимают.
— Не думал я, что ты такая! Дерешься еще… Саму-то за эту лесенку за ухо к Кларе таскали!
— Ох, Волков, не зли меня! И когда это было-то? Да и не было вообще, наверно… Ладно, успокойся, пойдем суп из курицы кушать.
— Из курицы? И там даже курица есть? Кусками или по ниточкам распущенная?
— Кусками, Волков, кусками! Чай, не к жлобам пришел! Тебе ножку или крылышко?
— Я белое мясо, Ткачева, люблю. В столовке дают иногда.
— Садись, жри! Тут тебе не столовка.
После второй тарелки Волков поднял на Варьку глаза: "Нравится мне Танька очень. У меня все горит, как ее увижу"
— Так неужели, Волков, можно так? Это же гадко, очень-очень плохо.
— А она по-хорошему все равно со мной ходить не будет. Сама знаешь, обо мне даже Клара сказала, что у меня одна дорожка — в тюрьму. Но ведь и без меня Танька выйдет за какого-нибудь тихого алкаша с завода, как наш сосед по площадке. Он ее будет всю жизнь мордовать, она будет терпеть, сидеть на окошке в подъезде, синяки цинковой мазью замазывать. Что хорошего? А меня бы Танька не так часто и видела. У меня вот про отца мать говорит, что он все равно хороший, он между отсидками успевает ей кусочек счастья отломить.
— Что ты несешь? Тихие алкаши, отсидки, кусочки счастья! Ты учись, Волков! У тебя вся жизнь впереди!
— Ага, «спереди», как моя мамаша говорит! Это у тебя что-то наперед можно загадывать, а мне — очень трудно. Мне кажется, что я ничего не смогу, я в какой-то колее, не вырваться мне уже.
— Это все от человека зависит, Волков. Тебе надо бороться, я помогу! Я же должна тебе помочь, Волков!
— Мне кажется, что ничего от меня уже не зависит, что все уже определилось для меня давно, когда я родился после очередных каникул моего папы между двумя отсидками. Я ненавижу эти ботинки! Я вот у твоего папы в коридоре видел такие же, но он их сам купил, а мне их дали задаром. Я думаю, что в дармовых ботинках далеко не уйдешь. Нет, не могу объяснить…
— Это потому, Волков, что с литературой у тебя очень-очень плохо. Сейчас стихи будем учить, это память развивает и речь. А ты унитаз починить можешь?
— Попробую…
— А говоришь, что ничего у тебя в жизни не выходит! Вот у нас унитаз полгода не смывает — это что, жизнь? Короче, приступай, инструменты вон в том ящике. В будущем году у Пушкина юбилей, меня уже на конкурсы не пустят, поэтому пойдешь ты. Я тебя в декламации поднатаскаю.
— С ума сошла?
— Молчи лучше, и не зли меня! "Медный всадник"! Вступление!
— Кто это у вас такое с бачком сделал?
— Да папа, пытался отрегулировать. Ему рабочих для себя просить стыдно. У него самого руки только на сельское хозяйство настроены, а в деревне это делают иначе.
Варя и сама не понимала, как это у нее вышло, но Волков стал ей хорошей подмогой в налаживании домашнего быта. Она даже начала строить грандиозные планы по перестилке рассохшегося паркета. После мелкого ремонта окон, они ободрали и прошкурили все рамы, а к их окраске Волков с удивлением для себя прочел наизусть все вступление к "Медному всаднику" широко разводя руками с трудовыми мозолями. Пока Варя громко читала вслух про муссоны и завоевание Мексики, выписывая на шпаргалку для Волкова памятные даты из борьбы народов Латинской Америки, он, вооружившись огромными ключами, которые они стащили у пьяного сантехника, спавшего на площадке пятого этажа, что-то регулировал под ванной. Иногда он подавал оттуда голос. В основном, его высказывания касались Вариного папы: "Конечно, зато у нас папочка — инженер-строитель! Наверно, только в муссонах и борьбе пеонов понимает. Но ведь он все же мужик, унитазом-то он вашим пользуется? Или как в деревне на двор выходит?"
— Не ворчи, Волков! Ты видишь, как у меня родители много работают? Им домом заниматься некогда. Крути краны давай, и дверь открой по шире, чтоб про муссоны услыхать.
* * *
— Откуда у тебя циркули такие? Я такие только в папиной готовальне видела, так он мне их даже потрогать не дал.
— Бери, Ткачева, это я для тебя у учителя черчения спер. Да не расстраивайся ты, он их сам в школе схимичил. Теперь — трогай их на здоровье!
— Волков, нехорошо красть-то.
— А вот ты сама-то никогда ничего не хотела украсть?
— Хотела один раз, но не смогла. Я тогда так продумала все хорошо, месяц готовилась, проверялась и все-таки даже украла… Потом, помню, вышла из магазина, немного прошлась по улице, вернулась и все незаметно обратно подсунула. Не смогла!
— Одна на дело пошла? Даже на стреме никого не было?
— Одна. Не могла я никому такого сказать про себя.
— Это потому, что у тебя кореша хорошего нет. А что сперла-то?
— Книги из нашего книжного магазина. Там только-только завезли, продавщицы под прилавок спрятали для блатных, а я все у них оттуда вытащила. Я часто в книжный раньше ходила. Всю эту кухню хорошо изучила. Приглядела, где они товар прячут, все по минутам рассчитала. Они бы мне все равно книжки из-под прилавка не продали, даже если бы у меня такие деньги были. Матери только детективы достают, а я их читать не могу.
— Да что толку от книжек?
— А от пельменей?
— Ну, спросила! Я ими обоих братьев младших накормил! А книжки твои, небось, про Васька Трубачка были, враки какие-нибудь пионерские. Видел я, какие наши девки книжки читают, самая толстая книжица — про борьбу итальянских пионеров с наводнением на реке По. Дуры!
— Нет, в том-то все и дело, что эти книжки были чудесные: Стругацкие, "Испанская баллада" Фейхтвангера, "Три товарища" Ремарка. Я, Волков, если на дело пойду, то не из-за пельменей, поверь. Особенно, до боли жалко здоровенную книгу "Мифы Древней Греции" с гравюрами Гюстава Дюре. Ее трудней всего было тащить из-за формата.
— Так что было казниться-то так, Ткачева? Ты ревешь, что ли? Сперла бы, и никто бы на тебя в жизни не подумал! Учишься хорошо, не хулиганишь уже совсем, папа — инженер, мама — врач, на буксире всякую сволочь тянешь, в хоре поешь! Я бы на твоем месте все магазины в округе обчистил!
— Не смогла, значит. Не приучены мы, красть-то.
— Зато задатки у тебя хорошие, немного только поработать над собой, и как по маслу пойдет! Ткачева, с твоей головой ты можешь и паханом, и вором в законе быть!
— Не уговаривай, не смогу.
— Сытая ты, Ткачева! А вот посидела бы голодом, как я. А каково, думаешь, мне было, когда у меня прошлой осенью вшей при всем классе нашли? А когда я сытый, ко мне ни одна вша не подходит! А в этом пальто девчоночьем ходить? Таньку в таком пальто в кино не поведешь, только под лесенку.
— Опять ты за свое. Так, геометрию закончим, историю учить начнем. Ты эту рубашку снимай, она у тебя грязная, и все равно тебе сейчас не понадобится, сейчас ты свитер папин наденешь и на дело пойдешь, пока я ее стираю.
— Ты чо, Ткачева?
— Пойди и аккуратно выстави стекло из двери нашего подъезда. Вместо него эту фанерку вставь. Стекло только вчера поставили, у нас такие девочки, что уже вечером выбьют. А у меня в фортке на кухне наружного стекла нет. Давай, давай шевелись! Размеры я все прикинула, проходит — идеально! Рубаха на балконе к школе высохнет, я ее вместе с брюками поглажу, заодно и тебя научу.
За кражу стекла, водопроводных ключей и еще кое-чего по мелочи Варя испытывала неудобство не столько за сам факт воровства, сколько за то, что Волков теперь вовсю над ней потешался и звал обтрясти кошелки с питательной снедью, которые, за неимением у подавляющих масс холодильников, украшали почти все окна кухонь их дома. Правда, на некоторых окнах вместо кошелок были набиты фанерные ящики, из них Волковским металлическим крючком уже было бы трудно что-то стащить. Варя пригрозила Волкову, что проведет с ним профилактическую беседу ремнем на этот раз о вреде воровства. Это развеселило мерзавца еще больше. Волков доказывал, что когда он крадет еду, то это вовсе и не воровство, а способ жизни. А когда Варя крадет стекло, то это воровство настоящее, пусть стекло и как бы ничейное. Так пусть ничейное стекло лучше врачихины близнецы выбьют? А так — в подъезде теперь фанерка аккуратная от ящика посылочного, адрес на ней Варя аккуратно срезала ножиком. И на фанерку никто не позарится. Нет, в этом Варя не видела ничего особенного, и душа ее была тут совершенно спокойна. Все ничейное должно быть чейным, иначе пропадет! Никакое это не воровство! И пройти мимо стекла в подъезде, когда сами всю зиму на кухне без него мерзли, это глупость. И ее самая честная в мире бабушка даже ругалась как-то на ихнего председателя колхоза: "Дурак! Как есть дурак! Ни украсть, ни покараулить!"
От сложных размышлений у Вари все перепуталось в голове, поэтому она нашла компромисс: "Ты, Волков, захочешь пожрать, так больше не воруй, а лучше ко мне заходи. У нас всегда борщ есть и картошка. Яйца матери с птицефабрики достают, там вся бухгалтерия беззубая. Я буду сразу готовить и на тебя, я маме объясню, что это — для дела".
— Ткачева! Ты как-то сортируй братву! Я с первого дня нашей Семеновне пригрозил, что журнал классный сожгу, если она твоей мамке расскажет, что меня к тебе на буксир сунули. Ты, надеюсь, предкам еще про меня не сказала?
— Ну, я не сказала, что это конкретно ты. Я просто сказала, что ко мне ходит одноклассник уроки учить. Они воспринимают положительно, особенно после того, как ты вставил плафон в ванне. И они все время на работе. Нет их! Так что приходи просто так, покушать.
— Ненормальная ты, Ткачева. Ладно, зайду. Но я, на всякий случай, всем говорю, что к Афоне иду на пятый этаж в карты резаться.
* * *
— Все, Ткачева, больше не буду к тебе ходить. Вроде, все у тебя теперь тут путем: стекла битые вставил, линолеум подклеил, сантехника в норме, но ремонт, Ткачева, делать надо. Ну, что у тебя папаша за строитель такой, если плитки глазурованной украсть не может? Чья она там, на стройке? Ничья! А была бы твоя! Одевайся, в школу пойдем, вызывают нас. Видишь, я в пальте пришел.
— А что случилось-то, Волков? Ты в учебе выправился, за что же нас вызывают?
— Да, может, тебя зовут, чтобы похвалить, шоколадную медаль выдать.
— Не ври, наши училки до этого не додумаются. Опять какую-то гадость придумали?
— И не говори. Ко мне тут пионервожатая наша опять цеплялась на счет того, что я не в комсомоле, а галстук пионерский уже не ношу. Так вот она попутно сказала, что на педсовете решили, что раз ты на меня очень благотворно влияешь, то надо к тебе еще и Вадика Вахрушева на буксир подцепить.
— Да ты что? Он же не просто дурак, он — идиот. Он в своем дворе всех кошек перевешал!
— Он просто тренируется. Может он с кем-то хочет бороться? Может ты, Ткачева, должна ему помочь?
— Волков, прекрати! С ним ни одна девочка сидеть не станет, как же я это чудо буду дома принимать? И в школе после занятий вечером я с ним не останусь. Ведь педсовет может понять, что есть педагогические отбросы, на которые просто не надо время тратить. Они сами себя изведут.
— Они, наверно, Ткачева, решили, что мы с тобой эти самые отбросы и есть, а раз мы друг друга не извели, то к нам надо Вахера добавить до ихней полной победы.
— Волков, у него даже ножик есть!
— Тихий такой мальчик, учится только неважно. Про ножик молчи лучше, тут тебе ни я, ни ремень твой не помогут. Зато у Вадика родители на обувной базе работают! Короче, я пошел. Ты иди в комитет комсомола, проси, чтобы тебе перед вступлением в ряды другое задание дали, что Макаренко из тебя не получился, что я тебя бью ремнем и таскаю под лесенку. А у меня там свои дела, я их сюсю-пусю слушать не собираюсь.
— А ты куда?
— Пойду пока в школе пару окон выбью, может унитаз удастся сломать. Надо дать понять педагогам, что таким, как мы с Вахером, буксиры — не в масть!
— Подсобить?
— Иди, Ткачева своей дорогой! А мы пойдем своей, пусть и не той, как считает Валентина Семеновна. Но мы дойдем по ней до конца! А в конце своего пути, Ткачева, вспомни, что где-то там у тебя, хороший кореш в тюряге сидит!
* * *
В следующей четверти Волкова дважды исключали из школы. Никакие буксиры ему уже не назначали, с апреля он был уже на прочном буксире в детской комнате милиции. Школа решила все же перетерпеть его обязательное восьмиклассное образование. Вахера тоже цеплять к буксиру поостереглись, помня о неожиданном мартовском рецедиве Волкова, когда он выбил окна на четвертом этаже и сломал краны у двух школьных питьевых титанов. На счет унитазов он здорово промахнулся, школа у них сдавалась при товарище Сталине, который таких шуток не любил, поэтому унитазы у них был чугунные, как на железнодорожном вокзале.
А по весне Варьку захватила какая-то непонятная тоска, она не могла дождаться каникул, хотя и знала, что хутора для нее уже больше никогда не будет. От бабушки из разных мест, где жили ее дочери, приходили странные письма без начала и конца со словами, слитыми в одну строчку. Папа очень расстраивался от этих писем, хотел даже забрать стариков к себе, отчаянно ругался по этому поводу с мамой, хотя и сам хорошо понимал, что ни одной уральской зимы в большом холодном городе его родителям не пережить.
Весенние грозы приходили в их город не в начале мая, а в самом его конце. Однажды Варя вышла из школы в тот самый момент, когда все вокруг неожиданно потемнело, и по земле забили крупные сильные горошины дождя. Возвращаться в школу не хотелось, и Варя заметалась по школьному двору в поисках укрытия. Из хозяйственной постройки ей свистнул Волков, и она понеслась под набирающим силу дождем в сарайчик рядом со школьными слесарными мастерскими. Волков стоял у стайки, где завхозиха держала двух крепких кабанчиков. Хотя он еще в прошлом году дважды выпускал свиней из сарая и катался на них по школьному двору, завхозиха все равно пускала к свиньям его одного из всех шестых классов.
— Ткачева, Танька домой ушла?
— Ушла, она близко живет, уже дома, наверно.
— А ты что такая ходишь, будто у тебя пять двоек вышло в четверти?
— Да так, личное.
— Втюрилась, что ли, Ткачева? Так вроде у нас из мужиков-то никто не ведет… Может десятиклассника какого присмотрела?
— Отстань, Волков! Я уж об этом давно не думаю, детство у меня еще прошлым летом закончилось. Я ни в какой пионерлагерь не хочу, а с Серегой отправят, наверно. Не еду я нынче на хутор, вот что. Зимой я тоже это знала, но почему-то зимой меня это так не расстраивало, а теперь… Мне даже вот со свиньями стоять тяжело. Вот сидишь на уроке в такую пору, когда там самое время уже огородину полоть, да еще ветерок свинячий дух со школьного двора принесет, совсем невмоготу становится.
— Не ной, Ткачева! На рыбалку пойдем с Коробом.
— С кем?
— С Ленькой, он мне краны помог в титанах свинтить, настоящий кореш, не то, что твой Железник.
— А хоть с Железником — все равно. Жизнь кончилась, а так хорошо начиналась, Волков! Слушай, а эти кнури любят, когда им за ухами чешут?
— Любят, Ткачева, чеши, сколько хочешь. Этот — Мишка, а тот — Васька. Ты и без меня заходи, говори всем, что Волков тебе разрешил.
* * *
Да какая там рыбалка! В пруду кроме ракушек и мелкой плотвы с берега ничего и не поймать было, а лодку Волков так и не смог спереть, больше хвастал. Хорошо, что мама у какой-то продавщицы, протезировавшейся у нее, купила по случаю немецкий сплошной купальник, поэтому Варе и без рыбалки в нем было очень хорошо. Даже Волков посмотрел на нее почти как на Таньку с глубоким одобрением: "Ну, Ткачева! И все у тебя есть, и все на своем месте! А то заваливаешь, иной раз, так хоть святых выноси! Как тебя, Ткачева, разглядеть, если у тебя фартук не только ниже платья форменного, но и ниже колен, блин! И это я из скромности не говорю о твоих колготках!" Колготки были ее самым слабым звеном, зря он о них напомнил. Жаль, что в школу нельзя было ходить в брюках. Она отлично научилась гладить брюки папе и Сереже. Просто здорово, что летом эти вечно рвущиеся колготки были ни к чему.
Ленька лежал на песке, подставив солнцу ослепительно белый живот, и делал вид, что он тут совершенно случайно. С Варькой совсем не разговаривал, а только односложно объяснялся с Волковым. Его тираду о скрытых Варькиных достоинствах он оборвал тоже одним словом: "Заткнись!"
— Ты, Ткачева, почитай нам стихи, но что-нибудь нейтральное, не про плотскую любовь. А то мы с Коробом совершенно убогие, не то, что Железник! С нами, может, тебе скучно, но ты, Ткачева, борись за нас! Поднимай нас до своего уровня, развивай в нас творческих личностей, формируй нового человека-то, Ткачева! А то Валентина Семеновна одна с ног сбилась, вот кому ты просто обязана помочь!
— Волков, ты все смеешься надо мной, а напрасно! Ну, какой из тебя может новый человек получиться, если ты считаешь, что все видишь наперед, как Ленин. Хвастаешь, что лучше всех знаешь жизнь. А на самом деле, ты ее просто боишься. И даже тюрьма для тебя — это какая-то самозащита от жизни, от будущего.
— Ты, Ткачева, видишь то, что хочешь видеть, а я знаю жизнь с изнанки. На мне с рождения клеймо: после школы — ПТУ и тюрьма, поэтому с первого класса мне за все про все — двойка!
— Но ведь у Ангелины Григорьевны было не так!
— У Ангелины все было по-человечески. За это ее и в нашей школе в черном теле держат. Давно бы на пенсию выперли, если бы родители за нее не просили. Терпят ее пока. А вот интересно, что сами эти родители на своих же работах тоже кого-то травят, как Ангелину, но для своих детей почему-то хотят хотя бы трех лет счастья в школе. Это потом они будут учить своих же деток пригибаться перед нужными людьми, травить ненужных. Они не понимают, что потом труднее, больнее перестраиваться. Лучше бы с пеленок учили: "Вырастай подлецом, сынок! Далеко пойдешь!"
— Волков, перестань! Хватит! Сумку мою из кустов тащи, кушать будем, я ни на какую такую вашу уху и не рассчитывала, свой харч захватила.
— Молодец, Ткачева! Короб, подползай к нам, жрать будем!
Ленька нехотя поднялся и отряхнул с плеч песок. Есть ему хотелось, но было неудобно объедать Варьку. К рыбалке он готовился серьезно, даже накопал червей, которых Варька выпустила на волю за ненадобностью.
— Волков, а как ты в преферанс у всех выигрываешь? — спросил Короб, пережевывая бутерброд со шпротным паштетом «Волна».
— Тут, Короб, одной пятерки по арифметике и трех классов образования недостаточно, тут надо мыслить, блефовать! Сейчас пожрем — научу.
Волков что-то долго показывал Леньке на картах, Варе это было совсем неинтересно. Она все раздумывала купаться ей сегодня, или обождать до середины лета. Купаться в такой воде смогли только Волков с Коробом, Варя все-таки решила ждать до июля. Солнце поджарило плечи Варьки и обуглило живот у Короба, а у Волкова здорово покраснел веснушчатый нос. Ребята подшучивали над ее не плавучестью, брызгались обжигающе холодной водой, и она смеялась вместе с ними. Разговорился даже Короб, хотя он так и не смотрел на Варю. По пруду проплыла лодка, в которой лежали двое пьяных — мужчина и женщина, поэтому Варька начала громко читать "Пьяный корабль" Артура Рембо. И они действительно опьянели от солнца, холодной воды и полной свободы. Но уже начинало что-то подгонять Варьку изнутри, хотя она была совершенно свободна до вечера, Сережку родители отправили в лагерь первой сменой. Наверно, заговорила совесть, ведь она ушла из дома тайком, на рыбалку с Волковым ее, конечно же, никто бы не отпустил.
Несколько раз возле их становища проходили обнаженные по пояс взрослые парни с полотенцами, зажатыми в кулак. Они с интересом смотрели на Варьку в голубом купальнике, но заговаривать не решались, потому что Короб и Волков сразу как-то хищно собирались и оборачивались к ним всем телом. Варе казалось, что между ними происходит напряженный безмолвный диалог, в котором она мало что понимала, но почему-то ей это было очень приятно!
Глядя на высокое, без единого облачка небо, Волков вдруг высказал одну мысль, которая будоражила и Варькину душу: "Я хотел бы уметь летать! Бросить все к чертовой матери и улететь! Но не в самолете, хотя и на самолете я тоже не летал. Лететь так, чтобы слышать ветер вокруг…" Короб только тихонько засопел и завозился на песке, поэтому Варька решила, что и ему хотелось бы услышать ветер. В тот день в самом начале лета Варьке было по настоящему хорошо и так спокойно на душе, как иногда бывает тихо в лесу перед самой грозой.
* * *
Лето в их краях пролетало быстро. Так быстро, что Варя даже не успела заметить, как вплотную подошли первые осенние мелкие дожди. После лагеря брата опять перепоручили Варе. Все лето она водила Сережу и его друзей на карусели, возле которых стоял дощатый сарай, выкрашенный в ярко-голубой цвет, где через каждый час показывали мультфильмы. Иногда они с самого утра отправлялись на первый сеанс в кинотеатр, а потом долго катались на трамвае до вокзала и обратно, и брат дремал у Варьки на плече. У родителей был и огород, до которого тоже можно было добраться на трамвае, но там было совсем неинтересно: ни реки, ни простора, только домики самого разного калибра, лепившиеся друг к другу через шесть соток. Волков провел лето на исполкомовскую дармовщину в пионерских лагерях и вернулся только к концу августа, как и Короб, ездивший куда-то в Рязань с матерью на все лето. К тому времени как раз созрела вишня, и Варя позвала Волкова и Леньку помочь ее собрать. Ягоду, подвяленную на солнце или чуть тронутую гнилью, она приказала мальчикам, сидевшим на перекладинах высокой лестницы, в ведерки не класть, а кушать, и ребята, наконец, досыта наелись терпкой вызревшей вишней.
ЛЕТО КОНЧИЛОСЬ
— Волков! Выворачивай карманы! Так, не хочешь по хорошему? Девочки, всем выйти из класса! — надсадно орала Клара на весь класс.
С конца сентября в школе стали пропадать деньги в гардеробе, с того самого момента, как дети начали оставлять там курточки и плащи. Клара усилила наряды дежурных, которые не выпускали никого во время уроков даже в туалет, но ничего не помогало. Последней каплей для ее подточенной временем психики было то, что кто-то умудрился обчистить плащи училок сразу после окончаловки пятого октября. Сумок и портмоне у многих учительниц не было, поэтому зарплату они рассовали по карманам верхней одежды. Разные были в их школе ЧП, однажды даже одну десятиклассницу уличили в беременности, но на деньги училок раньше никто не покушался.
Варя грызла ногти в коридоре, когда Волкова, придерживающего брюки, в расстегнутой рубашке Клара проволокла из класса в кабинет к Зое Павловне. Губы у Волкова дрожали, он был очень бледный, даже веснушки, казалось, выцвели на его лице, и силы не хватало уже на его обычную кривую ухмылку.
Два урока прошли без Волкова. Танька рядом сидела тихо, почти не шевелилась, на переменку не пошла и, уцепившись за рукав Варькиной формы, не пустила и ее. После уроков Волков тоже не появился, за его портфелем пришел пожилой физрук. Танька собирала портфель как замороженная, через ряд со своим пеналом возился Ленька. Уборщица уже дважды заглядывала в класс, надо было уходить, а Волкова все не было.
— Ладно, пошли, — сказала Варька, — они Волчиху с работы ждут.
— Это ведь не он? — с надеждой спросила Танька, когда они втроем уже вышли из школы. Ленька только задумчиво свистнул.
— Короб, сейчас Таньку проводим, а после меня пойдешь провожать, разрешаю! На, портфели наши возьми, в первый раз с девочками идешь, что ли? — зло одернула его Варька.
Они долго шептались у Варьки в подъезде, сидя на лесенке после того, как отвели Таньку домой.
— Слушай! У нас как раз физика была, когда училкам в препараторской деньги выдавали. Клара права, видел только наш класс, мы сидели тогда в кабинете физики.
— Нет, Короб, на наших я такого ни на кого подумать не могу. На училок руку из наших никто бы не поднял. Может это семиклассники? Алешку сейчас исключат, и как только из школы выгонят, так на него дело по всей форме заведут. В любом случае ты прав — стукач кто-то из наших, может, во дворе под влияние старших попал. Надо его проявить. Я у папы десятку из заначки вытащу и ей посвечусь.
— А вдруг это все-таки Лешка?
— Вот и проверим.
— Танька, сегодня после школы пойдем в кафе «Пингвин»! Мне папа деньги дал. Гляди: целая десятка! Мороженого на год вперед съедим!
— Не пойду.
— Тогда я возьму с собой Любу.
— Как хочешь.
Варя объявила о кафе громко и радостно на весь класс. Люба тут же с визгом запрыгала рядом. Короб со своего места подскулил: "Некоторым так папы деньги на кафе дают, а некоторым — так только по заднице!" Вроде ни кто не охваченным не остался, все каким-то образом поучаствовали в обсуждении предстоящего торжества.
— Ты бы лучше, Ткачева, портфель новый купила!
— А давай лучше в нашу столовку пойдем и на всех сочней с соком купим, раз ты такая добрая!
— Ну, знаешь! Я, может, и добрая, да вы — очень завидущие! Фиг вам всем! В кои веки мороженого покушать не дают. Остыньте! Я вот нарочно деньги в гардероб отнесу, чтоб на переменке никто не приставал с сочнями.
— Варь, ты с ума сошла? Там же… — А что? Волкова взяли, а кроме него — некому.
По карманам шарили на уроках, это было совершенно ясно. Но как такое могло происходить — непонятно. По коридорам ходили дежурные, в гардеробе тоже дежурный сидел. Дежурными Клара назначала крепких парней из материально обеспеченных семейств, с которыми проводила личные, доверительные беседы. Леня и Варя договорились, что с перемены она в класс не придет, а в гардеробе залезет под старый школьный стол, который стоял там, в углу, и спрячется за ящик. Вора она увидела бы в дырку, заранее проделанную в ящике. Ленька, выждав минут пятнадцать после начала урока, должен был под любым предлогом уйти из класса и встать за дверью, ведущей в гардероб. Обо все они, вроде, условились и как бы все предусмотрели. Варя положила десятку в карман и вышла из гардероба. Пройдя несколько шагов по коридору, она, пропустив всех спешивших в классы детей, тихонько вернулась в пустой гардероб. Никого из дежурных возле пальто не было. Только Варька успела спрятаться за ящик, как прозвенел звонок. Некоторое время, когда топот десятков ног затих, никого не было слышно. Умиротворенно тикали старые настенные часы, висевшие в гардеробе. Зря они это все затеяли, в классе все, кроме них, были уверены в виновности Волкова. Училки своих денег так и не получили, у Волчихи их не оказалось в помине. Поэтому все учительницы были очень злые, с особым остервенением накидываясь на их класс.
Дверь заскрипела, это, наверно, Ленька шел, как они и договорились. Варя подняла голову из-за ящика, но увидела перед собой коричневые югославские ботинки со щегольскими боковыми замочками и бронзовыми клепками. Таких ботинок не было не только у Леньки, но и у инструктора обкома, который часто проверял их школу по вечерам вместе с Зоей Павловной. Варька опустила голову и приникла к дырке в ящике. Карманы ее пальто бесцеремонно выворачивал Вахер. Он забрал не только папину десятку, но и две командирские пуговицы, которыми Варька играла в пристенную орлянку во дворе. Заодно он проверил и Танькин клетчатый плащик, накинутый на соседнюю вешалку. Вахер лениво глянул на другие пальто, висевшие поодаль, но осторожность взяла верх, и он спокойно повернулся к выходу на своих шикарных корочках. На его левом рукаве краснела повязка дежурного по этажу. Короб где-то честно считал минуты по своим командирским часам, а Варька просто растерялась. Она искренне думала, что воруют семиклассники или еще кто-то, но не проверенный Кларой тихий мальчик Вахрушев. Варя знала, что деньги у него водятся и без ее десятки. А еще на линейках эта Клара перед всеми божилась, что в дежурство по гардеробу ставит самых-самых проверенных парней. Поэтому вору, в случае чего, не поздоровится. Вот как раз ей, Варьке, без Короба и не поздоровится. Но деваться было некуда, поэтому она выскочила на четвереньках из-под стола, опрокинув ящик, и неожиданно выпрямилась между Вахером и входной дверью, преградив ему путь.
— Ты что, Вахер, самый из нас голодный, что ли? — услышала она свой голос, показавшийся ей неожиданно громким. Она как-то раньше совсем не замечала, что Вадик выше ее на голову и очень здоровый. Вот что значит качественное питание. Одну руку он тут же сунул в карман.
— Тебе чего, Ткачева? Иди, куда шла!
— Да я никуда не шла, мы тут сидели и тебя караулили.
— Си-де-ла, Ткачева! Одна сидела! Некому с тобой больше сидеть. А дружок твой тоже сядет, а я вот сейчас с тобою по простому, по нашему поговорю, — баритон надвигавшегося на нее Вахера внезапно осел. Кто-то резко оттолкнул Варьку от него в спину и просипел голосом Короба уже из-под самого Вахера: "Беги за Кларой! Бы-ы-стро…"
Она готова была приволочь Клару и за волосы, но старушке было не привыкать подниматься на бандитские шухера. Такого мата, которым обложила Клара Вахера, ловко шмоная его карманы, Варя не слышала даже от папы-строителя, когда он заказывал трестовскому КПП бетон с домашнего телефона. Коробу здорово досталось, и Варька повела его к фельдшеру Вере Петровне. Он обнимал ее за плечи для дополнительной опоры, а Варька при этом чувствовала себя как-то странно, как санитарка, наверно. Хорошо, конечно, что Вахер Короба ножиком не порезал, обошлось.
Таньку и Варю Клара допросила по всем правилам на счет содержимого ихних карманов, с понятыми уборщицами составила протокол изъятия вещественных доказательств у Вахера. За найденный охотничий нож Клара пообещала Вахеру дополнительный срок. С особой строгостью она предупредила девочек об ответственности за дачу ложных показаний: "Ну, девки, если соврали, из-под земли выну! Патлы на кривой пробор вычешу! После уроков сидите в классе, на очную ставку в кабинет директора пойдете!" Девочки сидели в классе почти до девяти вечера, Варька переживала за свои пуговки. С орлянкой в школе боролись, а у папы на шинели пуговиц больше не осталось, Варька проиграла их раньше. Наконец они решили сходить к Кларе сами и отпроситься домой до завтра.
Клара собирала и упаковывала со стола бронзовую чернильницу с медведем. Деревянные часы с золотой надписью: "Отличнику Внутренних Войск" уже лежали на подоконнике, завернутые в папиросную бумагу. В раскрытом шкафу на плечиках висел военный китель, юбку от которого Клара носила, не снимая, а на стуле даже лежала военная фуражка.
— Клара Семеновна! Вы это куда?
— На кудыкины горы, собирать помидоры. Все, Варвара, сходите тут с ума без меня! Кончилось мое время. Было, да все вышло. Суровое было время, но воров сажали беспощадно! Независимо от того, где у них папы работали! Нет, конечно, и папами интересовались, но в самую последнюю очередь! Чтобы заодно загрести! И швали по городу ходило меньше, а порядку было столько, что даже лишнего! Окурок мимо урны бросить ни одна сволочь не могла!
Варя вдруг поняла, что Клара уже выпила из бутылки, что стояла наполовину пустой возле стола, закуски нигде не было видно.
— Ты, Ткачева, не бойся. Кореша вашего завтра в класс вернут, а эту гниду в другую школу переведут. Пусть меня и выгнали, но этого я добилась в чистую. Папа Вахрушев все деньги учительские до копейки отдал. А меня до вечера крутили, чтобы я дело замяла. Ни разу в жизни так не ломали, как из-за сына зав складом обувной базы! Докатились. Ты, Ткачева, не пьешь еще? Правильно, а я выпью. Всем скажи, что Клара ушла, но ссучить ее никому не под силу! Вот им всем!
И Клара сунула под нос Варьке сложенный в кукиш кулачок, пропахший махоркой.
* * *
Все получилось, как обещала Клара. Вахера они больше уже не видели, а Волков вернулся. Но что-то в его глазах Варьке не понравилось. Это уже был другой человек, не тот, который хотел улететь без всякого самолета в жаркое июньское небо.
Октябрь заморосил дождями, солнце куда-то делось, а листья стали некрасивыми в коричневых гниловатых разводах. Ждать нового лета было еще рано. И что его ждать, если там только лагерь, кино, трамвай, карусели, вишня… Не так уж и мало, если учесть, что школы не будет, но чего-то очень важного для Варьки ни одно лето принести уже не могло.
ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ
Впервые после начальной школы Варя пошла в седьмой класс с желанием и нетерпением. Ей казалось, что наконец-то она может доказать Волкову всю беспочвенность его дурацкой теории, по которой следовало, что если его папа — тюремщик, а из мамы тоже путнего ничего не вышло, то и его, как ни постигай алгебру с геометрией, в жизни ожидает лишь небо в клеточку и дармовые ботинки. Впервые у нее вдруг появилось желание немедленно увидеть после летних каникул не только Любу, но и Таню. Она не могла себе признаться, отгоняя от себя эти мысли, как назойливых мух, что она даже соскучилась по Коробу. И вот на тебе! Вся эта эпопея с учительскими деньгами тут же свернула налаживающийся Варькин быт к самым истокам. К школе она опять потеряла всякий интерес, ничего она там не значила, ровным счетом ничего! После того, как Волкова оправдали, он даже говорить с ней не хотел. И не только с ней, у него полностью пропал интерес и к Таньке. Варя чувствовала, что он пытается учить уроки самостоятельно, но не может ни развернуть ответ, ни полнее развить собственные мысли, которых он теперь, кажется, стеснялся, а на его лице, в тот момент, когда его вызывали к доске, был написан откровенный страх. Эта история положила конец и его начинавшейся дружбе с Коробом. Словно то, что произошло с Волковым за три неполных дня, навсегда и бесповоротно сделало его совсем взрослым.
У Варьки оставалась еще одна отдушина — хор при городском клубе слепых, куда ее за руку отвела в начале шестого класса школьная учительница музыки. Вел занятия там слепой баянист, однокашник учительницы, хотя Варька и не понимала, как это они могли быть одногодками. Учительница была молодой смешливой особой с крашенными хной волосами. А этот ее сокурсник — с серым мертвым лицом с темно-коричневыми оспинами от какой-то въевшейся в кожу грязи. Почему у него глаз нет, учительница не рассказывала и как-то вся извертелась от прямого Варькиного вопроса: "Варя, ты только у него тоже не спрашивай. Понимаешь, взрослые не на все вопросы могут ответить. Это, наверно, даже военная тайна".
После прослушивания Варьки на лице руководителя хора появилось что-то вроде подобия улыбки: "Южный голосок, чистый! Но ведь ты, Лера ее мне перед самой мутацией отдаешь! Только я ей репертуар поставлю, как она где-нибудь у вас на смотре этой вашей самодеятельности голос потеряет". Учительница заверила его, что ни на какую самодеятельность Варьку распоряжением педсовета школы, где она и так редко появляется, не допускают. Она еще что-то долго шепотом рассказывала слепому про Варьку, они даже там смеялись, но Варваре все это было, как с гуся вода. А когда Василий Данилович подошел к ней, голос у него уже был не такой усталый, в нем появились теплые нотки, и Варя невольно подумала, что до этих военных тайн он был, наверное, симпатичным.
К седьмому классу у Варьки прошли два отчетных концерта со слепыми, где она с успехом солировала в произведениях Баха и Моцарта. Она была потрясена воодушевлением, с которым страшноватая, в черных очках публика встречала ее пение. На «бис» Варька пела без аккомпанемента старые донские песни, помня наставление бывшей хуторской певуньи — бабушки: "Ты только, Варька, не дишканть! Дишкантить в наших песнях непременно немолодой мужик должен! А ты свой голос смири, и подтягивай со всей душой. Вот у нас Федьку Фролова как в германскую убило, так такого дишканта хутор потерял! Мы без него так все песни и играли, но для его голоса простор оставляли, мысленно его слышали. Дишкантить может только мужик с седой головушкой, да чтобы от его дум голос, как конский волос дрожал. Думы и пережитое — в песне самое главное!" Варька и не дишкантила, смиренно подтягивая всем тем голосам, для которых мысленно оставляла простор.
У Василия Даниловича детей не было, но жена, дородная усталая женщина с мягким южным говорком, за ним приходила каждый вечер. Она не мешала его дополнительным занятиям с Варькой, а потом даже сама к ним подключилась в части изучения народного фольклора. С Варькой она поставила сольные партии всех украинских песен, которые Василий Данилович разучивал со своим незрячим хором.
Однажды Валентина Семеновна высказала ей наедине, что ей надо было бы лучше головой варить, когда она так подставила неопытного мальчика — Вадика Вахрушева, попавшего под влияние подонка Волкова. Теперь вот Волков ходит с гордо поднятой головой, а ей босоножки купить негде! Общеобразовательную школу Варька начала прогуливать еще активнее. У нее как бы постоянно были ангины, и болело горло с белым, очевидно, гнойным налетом, как писала в карте мама ее подружек-двойняшек. Это, конечно, не мешало Варваре во весь голос распевать первым сопрано в хоре слепых. Часть репетиций хора проходила вообще в открытом огромном холле клуба. Расписание репетиций висело в гардеробе. К толстой гардеробщице подходили люди с палочками и спрашивали, когда будет петь Варька. При публике, прячущейся за гардинами, разделявшими холл, Варвара особенно вдохновлялась, и от ее большого сильного голоса, с нежными, чистыми переходами дрожали стекла.
Потом в школу вызвали маму, выдали ей пачку Варькиных справок и сообщили, что ее дочь пропустила занятий больше, чем две девочки с врожденным пороком сердца вместе взятые. Варина мама, посоветовавшись со специалисткой по горлу и носам, протезировавшейся у нее, решила прекратить доступ инфекции в формирующийся организм ребенка радикальными методами. Она положила Варю в отделение к своей знакомой, и та, в период мутации Вариного голоса, удалила ей гланды на чисто. Петь ей после этого нельзя было с месяц, а когда она попробовала голос, то поняла, что вместе с верхними нотами из него навсегда ушла трогающая душу чистота. Погибла Варькина золотая мечта! По правде, она хотела стать примадонной оперетты! Это была ее настоящая военная тайна. Как бы она пела и скакала с голыми плечами там, на манившей ее сцене! Да эти слепые все очки бы поснимали и палки бы свои поломали от восторга! А все зрячие увидели бы, какой у Варьки стан!
Пусть прекрасное интонирование и жесткая диафрагма остались, но голос был уже не тот. И хотя Василий Данилович и его жена уговаривали ее готовиться к училищу, хотя она слышала, что даже тот голос, который остался у нее, на Урале встречается не часто, она понимала, что спеть так, как ей бы хотелось, она уже не сможет никогда.
Жена Василия Даниловича работала концертмейстером в музыкальном училище и иногда брала с собой Варьку на проходившие там концерты. У Варьки там впервые случился самый настоящий роман. Это были вовсе не непонятные вздохи Короба за спиной! К ней при всех на концерте пожилого преподавателя московской консерватории подсел и заговорил флейтист Володя — студент музыкального училища. Он когда-то раньше учился в их школе, а теперь он был совсем взрослым, а на верхней губе у него даже пробивались усы! Пока старичок-пианист пытался подагрическими, непослушными пальцами сыграть несколько маленьких прелестных вещичек Бетховена, Варя вся измучилась за него во время этого концерта. Как же она была рада отвлечься от этого унизительного для старого человека музицирования по такому необычному поводу!
Они стали ходить вместе в кино, Володя несколько раз встречал ее у школы на зависть всем девочкам, угощал ее мороженным и жареными семечками. А ей все это уже было можно, голос свой она уже не берегла. Он замечательно играл на флейте! Особенно то место, помните, из "Орфея и Эвридики"? Когда тонким голосом его флейта начинала плакать и жаловаться, вспоминая что-то из прошлого, а ее музыкант, закрыв глаза, перебирал нервными пальцами ее хрупкое тело, Варе страстно хотелось прикоснуться к нему губами. Но как только музыка заканчивалась, это желание почему-то тут же исчезало. Она не понимала себя, потому что Володя был очень приятным молодым человеком.
В начале весны Володе исполнилось восемнадцать лет, и он пригласил Варьку к себе на день рождения. Варя, поинтересовалась, как ее учила мама, будут ли дома его родители и много ли друзей соберется чествовать его. Он уверил Варю, что все будет вполне пристойно и чинно. Она пришла к нему в два часа дня с флаконом дорогого импортного мужского одеколона, который маме подарил кто-то из протезировавшихся у нее больных. Хуже всего, что Варька неожиданно выросла из выходного шерстяного платья, а другого у нее не было. Вернее, из него выросла ее грудь, а фартук и пионерский галстук на день рождения не оденешь. Да и школьную форму — тоже. Варька все утро ужом вертелась перед зеркалом, остановившись, наконец, на плиссированной юбке от пионерской формы и импортной маминой кофточке, которую та прятала от Вальки в комоде.
Никого в квартире кроме нее и Володи не оказалось. Зато был замечательный стол с шампанским и икрой! Тарелок было много, Володина мама накрыла все это великолепие и ушла надолго в гости. Пусть детки повеселятся! Но ее сын пригласил вместо шести оговоренных с ней человек одну Варю. Она вошла в квартиру только потому, что он уверил, что остальные, по бытующей русской привычке, несколько запаздывают.
Володя играл ей на флейте, они пили шампанское, заедали икрой, болтали, смеялись. Варя понимала, что ей пора бы уже и раскланяться, пора бы уже и честь знать. Но Володя опять начинал рассказывать что-то смешное, отчего Варя, враз все забывая, вновь захлебывалась смехом. Потом Володя сел рядом с ней и, примяв своим телом, начал ее целовать и быстро освобождать от одежды. Варька не сопротивлялась, но из-за охватившей ее вдруг жгучей тоски, под влиянием смеха и шампанского, она ударилась в другую крайность, стала плакать навзрыд беспричинными, не унимающимися детскими слезами с тоненькими жалобными всхлипами. Володя не знал, что с ней делать, ревущей в голос, с расстегнутой кофтой и задравшейся примятой юбкой, упрямо уворачивающейся от его поцелуев. А Варька просто поняла, что еще долго, очень долго не сможет никого поцеловать.
— Варя, Варь! Я же ничего такого не хотел! Я только хотел побыть с тобой! Меня в армию заберут, я только хотел поцеловать! Ну, прекрати, иди ко мне, ты же умеешь…
Горечь какой-то давней, забытой печали все не давала Варькиным слезам высохнуть. Потом она, кое-как утерев лицо, оттолкнув Владимира, стала собираться домой.
— Ты прости меня, Варюш! Мне ребята из школы про тебя такое расписали! Будто тебя еще в пятом классе под лесенкой…
— Да, я целовалась там с нашим практикантом Виктором Павловичем! Никого больше это не касается!
— Ну, ты даешь! А почему же ты меня-то оттолкнула?
— Потому, что ты — не он, не обижайся, Володя!
И Варя опять разревелась, пытаясь объяснить что-то сквозь слезы. Больше они не виделись, Володя ей ни разу не позвонил. Заниматься музыкой с печальным Василием Даниловичем и его зрячей, все подмечавшей женой, Варя тоже больше не могла. Но она навсегда все равно очень полюбила флейту и частенько слушала ту мелодию из "Орфея и Эвридики". Помните?
На свою бесконечную нить Душу музыка нижет опять. Все на свете могу я простить. Все на свете могу я понять. Потекут реки времени вспять, И вернется ко мне моя грусть. Покори мою душу опять! Я тебе до конца отдаюсь! О, какая же нежная власть! Пел когда-то вот так же Орфей. Пусть дарует мне музыка страсть, Пусть деваться мне некуда с ней…ВЕСЕННЯЯ ЛИХОРАДКА
Как ни сопротивлялась Варька всему миру, навалившемуся на нее, но в конце третьей четверти у нее в жизни осталась одна опостылевшая школа. После поражения на ниве музыкального творчества и провалившейся попытки демонстративного устройства личной жизни, это уже было слишком. А болеть теперь было совсем нельзя, а то бы мама еще чего-нибудь удалила. Когда залетишь высоко, то падать особенно больно. Девочки как-то узнали, что взрослый красивый юноша-музыкант больше с Варькой ходить не будет, вроде даже с какой-то другой его видели. Конечно, кто же из нормальных парней будет ходить с нашей Варей? Приговор Варюхе был подписан.
Как и во многих других классах, у них всем заправляли несколько девочек — протокольных ябед Валентины Семеновны. Но справедливость требует сказать, что с колготками и фартуками у них было гораздо лучше Варькиного, а уроки всегда были выполнены без клякс и помарок. Они не болели по неделям и не являлись после с тоскующими зелеными глазками, упертыми в потолок, не говорили странных вещей на истории и литературе, а на классных собраниях всегда с удовольствием делали доклады на политические темы. Поэтому у них сейчас были все основания всерьез взяться за Варьку, которой, конечно, именно в этот момент никого не хотелось видеть.
Обычно это начиналось так: на уроках ей приходили записки с настойчивыми просьбами задержаться после уроков. Только заканчивались уроки, как начиналось это безобразие. Выпустив всех мальчиков, они закрывали двери и накидывались на Варьку. Сначала они заставляли высказываться всех девочек, но Люба и Танька со своими подружками, которых наши активистки не очень-то и слушали, просто стали прорываться к двери и убегать, поэтому на вечеринки привлекли Железника, у которого на все была какая-то своя точка зрения, совершенно чуждая Варьке. Девочки порицали ее в форме диспута, разбирали ее поведение по косточкам при мощной идеологической поддержке Железника. Наверно, с другими это у них прошло бы со свистом, но Варваре почему-то весной всегда было совершенно безразлично, что говорят о ней другие. Почему-то весной они ей были неинтересны, она иногда даже с испугом ловила себя на мысли, что иногда не понимает обращенных к ней слов своих сверстников. Диспута о любви и дружбе у них не получалось, девочки никак не могли заставить Варьку высказаться и покаяться. Поэтому они обычно долго ругали ее, потом ругались между собой, а потом плакали все вместе. Несколько раз ее пытались защитить Люба и Таня, дежурившие под дверью, тогда плач особенно затягивался. Иногда Короб задерживался последней парте и громко вздыхал, но потом и он стал сбегать с этих разборок вместе с Волковым. Варя со всеми вместе не рыдала, хотя это и оставляло у нее самое гнетущее впечатление. Она вообще не понимала, откуда девочки почти ежевечерне берут столько горючих слез по поводу своих жизней, загубленных общением с ней.
Таня и Люба почти силой тащили ее из класса за собой, но она оставалась. Это был почти героизм с их стороны, так как им, Варькиным подружкам, по проверенной коммунистической методике девочки объявили бойкот. А Варьке хотелось дойти до смысла их непонятной для нее внезапной вражды. И, напротив, Валентина Семеновна стала вдруг внимательной и предупредительной к ней. Конечно, для чего ей теперь самой нервы с Варькой трепать, когда она такую смену вырастила! Бабушка бы сказала: "Дожила сучка — сама на завалинке, а щенята лают!"
И вот, наконец, Варька вспомнила давние, красочные сны, в которых ей и про это, оказывается, рассказывал желтолицый. Если у народа нет главной, связующей идеи, объединить его может только враг. За неимением внешнего врага, находится враг внутренний. Ненависть объединяет гораздо лучше, чем любовь или даже желание выжить. Варя совсем была не против, чтобы их класс жил дружно, но чтобы эта дружба держалась только на ненависти к ней? Вот уж увольте! Доказать что либо подросткам, измученным трудностями полового созревания, легко впадающим в истерику, она, конечно, не могла, но искренне ненавидела Валентину Семеновну, все классное руководство которой держалось только на успешно подогреваемой ненависти к ней.
Чего они хотели от нее? Чтобы она так же, как и они, радостно щебетала на переменках о новых туфлях, которые папа привез из Москвы? Чтобы, как попугай, вторила всему тому, что пишут в учебниках? Чтобы лгала, пресмыкалась перед сильными и презирала слабых? Да, наверное, они этого от нее хотели, именно так, они полагали, человек должен взрослеть. И ей было жаль их, потому что она понимала, что никому из них не дано достичь истинной зрелости.
Варя росла и вдруг именно эту одинокую холодную весну ощутила как подарок. Видеть чудо обновления мира — это уже счастье. Этой весной Варька решила быть счастливой всем назло, самой по себе. Да и кто там ей нужен для полного счастья? И что можно выдумать лучше полной свободы? Странно, но и об этом она когда-то давно слышала от желтолицего. Когда же она окончательно отошла от сверстников, не желая ни с кем делить одинокие прогулки после школы до своего дома, к ней опять вернулись мысли о желтолицем. Но на этот раз они заполняли всю ее душу мрачной страстной музыкой до самого дна. Почему-то теперь она полюбила тихое, прозрачное время сумерек, когда темнота постепенно заполняет собой мир. И всем существом теперь Варя чувствовала, что темнота для нее несет с собой и нечто важное, что надо осознать и принять. Иногда ей казалось, что дети понимают, что она становится другой. Может быть, таким образом, они пытались удержать ее властного зова ночи, который и днем теперь слышала Варька?
Жизнь в этой ежевечерней девичьей сутолоке стала для Варьки совсем невыносимой. Никто ей не смог бы помочь. Ни Короб с глазами, в которых стоял вопрос, на который у Вари не было ответа. Ни Волков, который вообще теперь ни на кого не глядел. А какой желтолицый, рассказывающий о прошлом, помог бы ей пережить настоящее, в котором девочки каждый день доказывали, что она — нетерпимая в классе дура? Ее заклевали бы так же, как некогда на ее глазах расправились с белым бройлером на хуторском птичнике куры-пеструшки. Но неожиданно ей на помощь пришла весна. Что же она делает с людьми — неприметная, скромная северная весна? Куда отходят мысли о комсомоле и программе партии? Почему весной так пахнет земля, даже истерзанная городским асфальтом? И почему весной наша душа так охотно заполняется верой и надеждой от одного мимолетно брошенного взгляда?
Варя даже не сразу заметила, что девочки оставили ее, они вдруг занялись какими-то своими очень важными делами, далекими от комсомола. Валентине Семеновне стало трудно собирать класс на политинформации, собрания, классные часы. Не только мальчики, но и девочки вдруг начали дерзить, а многие вообще сидели на уроках с отсутствующими, как у Варвары, раскрасневшимися лицами. Через класс полетели белые флаги записок, а на школьном дворе застрекотали звонки велосипедов доморощенных эквилибристов. И почему-то именно этой весной особенно громко заколотилось Варькино сердце и принялось звать за собой: "Лети-м! Лети-м!" Пусть и лететь-то будущим летом ей было уже некуда. После долгой уральской зимы в их класс хозяйкой входила весна.
* * *
В начале мая родители Варьки получили новую большую квартиру, и они до сих пор жили в ней на неразобранных узлах. Занятия в школе почти закончились, и после уроков к ней неожиданно пошел Волков с объемистым свертком. С осени они, кажется, и не разговаривали ни разу.
— Вот, Ткачева, это тебе на новоселье. Надеюсь, краны у вас там в порядке?
— В порядке пока. А что это, Волков?
— Дома откроешь. Эта просто такая вещь, мне она ни к чему, а тебе — сгодится.
— Краденая вещь-то?
— Естественно, но там, где она была раньше, ею почти не пользовались, она там была совсем ничья. Вот я и подумал, что там ей будет одиноко…
— Ладно, Волков, еще раз спасибо.
— Короб с родителями уезжает в другой город, у него отец военный, он прошлым летом туда с матерью ездил. А теперь вот они перебираются на совсем. Я к нему на проводы ходил, погрузиться помог, так он адрес твой новый просил узнать.
— Да зачем ему мой адрес? Хочешь, так запиши…
— Ты в восьмом классе в другую школу пойдешь?
— Нет, я, наверное, вообще школу брошу, не могу больше, по правде не могу.
— Не пори горячку, Ткачева, все будет хорошо, ты закончишь, школу, потом институт… А мне бы ПТУ, какое-никакое закончить.
Дома Варя обнаружила в пакете практически новую книгу "Мифы Древней Греции" с гравюрами Гюстава Доре. Правда, первой и семнадцатой страниц в книге не оказалось, потому что городские библиотеки на них обычно ставили свои незатейливые экслибрисы.
* * *
В начале июня Варя объявила родителям, что вместе с Любой уходит из школы и поступает учиться на водителя троллейбуса. Родители заперли ее дома, телефон отключили и стали срочно искать выход из сложившейся ситуации. Но, как это часто бывает, сама жизнь дает нам решение самых сложных проблем.
ВАРЬКУ ПРИЗНАЮТ ВУНДЕРКИНДОМ
В городе, где жила Варя, была отличная школа, которая по праву считалась элитарной. Здесь обучались уникумы, победившие на различных олимпиадах, ребята из приписанных к школе домов и дети партийных руководителей города. Ни к одной из перечисленных категорий Варвара не относилась, но совершенно неожиданно родителям Вари вдруг удалось устроить ее в эту школу. С троллейбусным ПТУ это не шло ни в какое сравнение! Варя никогда не попала бы туда, если бы у ведущей учительницы математики этой школы не прорвало бы унитаз. Высокие партийные начальники, чьи дети у нее обучались, или бедные интеллигентные родители небольшого числа одаренных детей, этот вопрос решить не могли. Да и не могла гордая неприступная математичка признаться им в своей сугубо бытовой проблеме. Жизнь бедной учительницы на четвертом этаже крупнопанельного дома стала невыносимой и лишенной житейского смысла. Одна из приятельниц учительницы, протезировавшаяся у Вариной мамы, со смехом рассказала ей об этой трагедии. На борьбу с канализационной стихией срочно был снаряжен Варин отец, занимавший тогда пост начальника строительного управления и имевший в подчинении более полутора тысяч человек. Вооружившись югославским компактом, пара дюжих молодцов из папиного управления за полчаса устранила вонь и создала из суетного кошмара благоустроенный рай. Варвара была немедленно признана одаренным ребенком и принята без экзаменов в математический класс школы.
Придя в класс, который был собран из детей руководства и немногочисленных действительных любителей математики, Варя стала задумываться, а представляют ли их родители, что такое математика? Может быть они, в своем заблуждении, спутали ее с чем-то увлекательным и интересным? Но она была верна хуторской привычке — ломать работу, а преподаватели еще толком в ней не разобрались, поэтому вели себя так же, как и с другими.
Варьке стукнуло пятнадцать! Наступила юность — пора познания. Девочка внимательно схватывала те знания, которые к тому времени накопили люди. Но если в прошлые века они наивно стремились познать суть, истоки, то сейчас они были более прагматичными. Знания, преподаваемые Варе в школе, были лишь следствиями высоких теорем, отвергнутых людьми без доказательств.
Учителя старались дать детям знания на уровне лучших в стране вузов, поэтому на идеологическую обработку, диспуты, классные часы и политинформации времени не оставалось. Они были весьма профессиональны, работали с огоньком, выжимая из детей последние соки. Варя приходила в школу к 8 утра, и только в седьмом часу вечера после обязательных факультативных уроков ее покидала. Поэтому вся ее юность проходила в этой школе, где к учебе относились не как к тонкому тихому делу, а как к борьбе. Это даже зажигало.
Школа непременно собирала все первые места на всех без исключения городских олимпиадах, получала призы и поощрения даже на союзных конкурсах и смотрах. Поэтому совершенно никого не покоробило то, что Варвара на конкурсе чтецов, куда ее допустили без всякой опаски, прочла кусок из "Баллады Редингской тюрьмы" Уайльда. К ней тут же подошла учительница литературы и деловито включила в какой-то клуб любителей поэзии для подготовки к поэтической олимпиаде союзного значения, предупредив об огромной ответственности перед школой и ее педагогическим коллективом. От этого Варькина любовь к поэзии несколько увяла на полгода вперед. Конечно, к литературе и истории Варя имела большую склонность, но естественнонаучная направленность школы обязывала ее кропотливо погружаться в математику, физику, химию. Варя оказалась даже на хорошем счету не только потому, что здесь от нее вдруг потребовался нестандартный ход мыслей. Стандартно мыслить ее безуспешно пытались приучить три последних года. Но еще она единственная из класса с удовольствием бралась делать доклады практически по всем предметам, а это для некоторых детей было уже непосильной нагрузкой. Для ее докладов учителя специально выделяли целый урок и садились слушать вместе с детьми за свободную парту. Варя открывала для них предмет совершенно с другой стороны, она рассказывала как очевидец событий, которым впоследствии давали совершенно иную окраску и направленность в школьных учебниках.
Она твердо знала, что впервые Пастер задумался о некоторых вещах, принесших ему в последствие всемирную славу, еще в юности, только приступив к изучению медицины. Он любил все подсчитывать, был очень бережлив к деньгам. А эта блестящая мысль о кипячении, которую, в последствии, назвали «пастеризацией», его осенила, когда он проанализировал количество летальных исходов при родах, принимаемых акушерами и студентами-медиками. Эти гады, оказывается, плохо промывали руки после обязательного при изучении медицины препарирования трупов и заносили в родовые пути трупный яд! Вот где лежали истоки его открытия!
Но на вопрос учительницы о том, откуда она это узнала, Варька чуть не брякнула, что ей это сказал сам Пастер. Она вовремя спохватилась и промямлила, что забыла название той книжки. Потом она стала без зазрения совести ссылаться на Большую Советскую Энциклопедию, которую все равно никто не читал. Нет, со школой ей совершенно неожиданно повезло. Даже физик искренне смеялся, когда она толком не смогла ответить на вопрос, откуда она знает, что перед попыткой измерения скорости света опытным путем один немецкий профессор скушал глазунью из пяти яиц и побил прислугу за прокопченный кофейник.
— Понимаете, Владлен Иванович, пятерка была для него всегда счастливым числом. А, кроме того, он решил, что бегать с фонарями будут его голодные студенты, а он, на полный желудок, будет стоять с зеркалом или хронометром. Но он был очень аккуратным, и взбеленился из-за кофейника, подумав, что этой ночью вот так же, из-за чьей-то недобросовестности у него может сорваться доклад на ихнем научном обществе.
— Нет, Варвара, ты не виляй! Ты прямо скажи: это так и было написано в Большой Советской Энциклопедии? Ой, уморила! Давай, я тебе тоже пятерку поставлю, раз это такое счастливое число для всех физиков.
Среди преподавателей она считалась неисправимой фантазеркой и детской врушей, но они полагали, что делу это не вредит. Это был краткий период в советской педагогике, когда считалось, что фантазия способствует развитию творческих способностей. И класс, обычно шумный, замирал на ее докладах, погружаясь в историю. Дети сидели задумчивые, вслушиваясь в волнующие отголоски времен в своих душах.
Почти круглосуточное пребывание в школьных стенах кроме призов и грамот за успешное формирование нового человека приносило и некоторые другие, не совсем приятные плоды, которые школа щедро собирала по переменкам. Со звонком учителя мгновенно ретировались, девочки тоже скидывали все с парт в портфели и стремительно покидали класс. Там начиналось буйство не выбегавшихся, незагруженных посильной физической работой подростков с переворачиванием парт, разрушением стульев, перестрелкой чужими портфелями. После звонка девочки входили в класс только после учителя. Однажды посреди перемены туда неосмотрительно сунулась Варька и приняла на себя удар находившегося в свободном парении портфеля какого-то математически одаренного гада.
Учеба так увлекла ее, что она даже не сразу заметила этого странного мальчика, сидевшего на последней парте. Только однажды, когда его вызвали к доске, у нее почему-то сжалось сердце, и забилась, заболела душа. Больше его она уже не выпускала из виду. Именно он насторожился и презрительно усмехнулся на ее докладе про Пастера, когда она не смогла сказать учительнице правду. Она была готова поклясться, что и ему известно, чем Большая Советская Энциклопедия отличается от призрачного шепота в сумерках наступающей ночи. И еще она, несомненно, уже где-то встречала этого крупного, мрачноватого парня с безликой фамилией Иванов. Вот только где и когда? На переменках Иванов пытался слиться с бездумным диким весельем одноклассников. Он скакал вместе с ними по партам, участвовал в побоищах или вел с ними скучные, утомительные разговоры о марках, фантастике, сложных заданиях по тригонометрии и зажигательных бомбах. Но Варя видела, что, не смотря на все это, Иванов вызывает у них неясное ощущение страха и преклонения. С этими чувствами бунтующие подростки, конечно, пытались бороться, но в спорах и словесных стычках Иванов легко выигрывал, иногда без нужды показывая свое интеллектуальное превосходство. Поэтому между мальчиками частенько происходили физические стычки. В этих драках Иванов проявлял какую-то взрослую ожесточенность, нападая на будущего, еще не проснувшегося от сна детства антипода. Иванов был блестящим учеником по всем предметам. Однако ему, зачастую несправедливо, из мелочных придирок учителя ставили двойки. Конечно, стыдно, но ее радовало, что в новом классе нашелся-таки человек гораздо более Варькиного раздражавший учителей. Им никак не удавалось поставить его на свое место. Он и так твердо стоял на своем, воспринимая окружающее с высокомерной холодной усмешкой. Но в своих ответах он никогда не допускал Варькиных оплошностей, на все вопросы он имел четкие ссылки на самые фундаментальные пособия, которые, очевидно, изучал достаточно серьезно.
Вообще-то в это время Варька стала проявлять заметный интерес к противоположному полу, этим объяснялся и возникший у нее интерес к собственному гардеробу. Но, поскольку она проводила практически весь день в школе, то выбор ее был ограничен, в основном, одноклассниками. Позади Вари сидел полноватый мальчик Олег. Ей казалось, что она слышит его тихие трусоватые мысли, в которых он никак не мог для себя решить — влюбляться ему в Варю или нет? Его и тянуло к ней и что-то останавливало. Эти терзания мальчика то трогали, то раздражали Варю. Неужели ему даже в любви были нужны гарантии? Олег боялся, что став слишком зависимым от нее, раскрывшись ей, он будет уязвимым и смешным в глазах окружающих. Как будто он был закрыт для нее или неуязвим! Как будто любовь могла быть для кого-то унизительной! Иногда он ей даже звонил по телефону и просил почитать свои стихи — он подсмотрел, что Варька что-то там пишет такое столбиком. Слушая ее стихи, он только шумно сопел и вздыхал. А однажды он стащил ее промокашку, на которой она долго что-то писала на уроке химии. Варя обернулась и увидела, что он был потрясен написанным. Ее это даже удивило. Она никогда не думала, что старинная боевая песня, переложенная ею на современный язык, так тронет этого явного самовара. Олег робко посмотрел на нее и вернул промокашку. С этого дня он навсегда оставил ее в покое, может быть к лучшему для себя.
Ой-я! А-ой! Выберу день и сражусь я с тобою, Враг — ты по мне! К солнцу с рассветом я встану спиною, Спина к спине! Панцирь воловьей продубленной кожи, Не защитит! Натиск сдержать мой тебе не поможет Из дерева щит! Ой-я! А-ой!ПОЧТОВЫЙ РОМАН
У нее накопилось уж целых два письма от Леньки, а она ему все не отвечала. Она понимала, какой это подвиг для Леонида — написать корявым прыгающим подчерком две странички в клетку. Для нее они вообще были полной неожиданностью, как снег на голову. Их еще надо было пережить, как землетрясение. Что это там с ним вообще приключилось?
Ленькины письма вносили некоторую сумятицу в стройную систему Варькиного жизненного устройства, давшуюся ей с таким трудом. "Никто ей не нужен, потому что она никому не нужна. Да и сами-то они себе-то нужны? Убогие!", — именно такие скромные мысли были написаны на физиономии Варвары два последних месяца, когда от Леонида вдруг пришло еще одно письмо. Варвара поняла, что все это входит в какую-то систему, а с системами на математике ее приучили обращаться осторожнее.
Здравствуй, Варя!
Мы переехали хорошо. Сами добирались поездом, а вещи приехали через полтора месяца. Кое-что пришлось оставить, но книгу Стругацких, которую Волков передал от тебя, я положил в свой рюкзак и читал всю дорогу. Спасибо тебе большое. Это твой брат ее немножко порвал? Ты не расстраивайся, там всего две странички вырваны в самом начале. Варя! Ты не верь никому, особенно девочкам, что ты — плохая, ты очень хорошая. Они тебя не понимают. Я теперь в новой школе учусь. Папу моего давно перевели, но мы с мамой оставались на месте из-за школы и ее работы. Восьмой класс тоже закончу здесь. Папа думал, что ему до нашего приезда квартиру дадут, но дали только общежитие офицерское. А скоро его вообще на точку сошлют, мы с мамой опять одни останемся в общаге, поэтому папа с мамой все время ругаются. Я думаю, что им мешаю жить по человечески, это трудно, когда на всех одна комната. Здесь с квартирами очень туго, но мне осталось уже недолго, после школы сразу пойду в военное училище, как папа, а там буду жить в казарме. Ты напиши мне письмо и пришли фотографию, а то мы после седьмого класса даже не сфотографировались. Совсем не знаю о чем еще написать, вроде больше нечего. Леонид.
Здравствуй, Варя!
Ты не пишешь, Волков только в самом начале сентября сообщил, что ты из нашего класса ушла вместе с Любой, но, вроде, не в троллейбусное депо. Как у тебя дела с пением? Я до сих пор помню, как мы в шестом классе пели песню про Москву, а ты солировала: "Дорогая моя столица, золотая моя Москва!" Я тогда решил стать военным, чтобы всех вас защищать. Здесь самое лучшее десантное училище, я хочу туда поступить. А всю осень я ходил в аэроклуб и несколько раз прыгал с парашютом. Теперь я знаю, как это летать без самолета. Волков тоже теперь не пишет ничего, наверно, его уже все-таки посадили. Я, может, как-то не так все пишу, да и некогда мне теперь, но мне очень хочется, чтобы ты написала. А то, как будто и не учились мы столько лет вместе. Я тебя с первого класса помню. А ты? Впрочем, что я все о себе, да о себе. Ты-то как? Напиши. Леонид.
И Варя села писать Леониду письмо, потому что вдруг устыдилась, что совсем его не помнит с первого класса. Ей казалось, что он появился где-то в классе пятом, а, может, в шестом? Она не привыкла откладывать дела и письма надолго, но с письмом Леньке все тянула и тянула так, что потом уже писать-то стало как-то неприлично. Ведь о некоторых вещах, которые волновали ее по настоящему, написать было просто невозможно, даже стыдно. Как всегда, о наболевшем у Варьки сложились такие строчки:
"Беспокоит и тревожит, Да и страшно мне порою, Что две узкоглазых рожи Всюду шастают за мною".Дальше она хотела бы написать о своих сложных ощущениях, вызванных внезапным появлением в ее жизни двух призраков мужского рода самой дикой наружности, но они ей просто не дали этого сделать. Когда она в задумчивости грызла пластмассовую ручку, проверяя рифмы, за ее спиной раздался громкий смех — один из призраков покатился с хохоту, тыча пальцем в ее писанину, а вот второй сочувственно и внимательно поглядел ей прямо в глаза. Когда же они появились возле нее? Ночью она иногда просыпалась от их тихого гортанного пения и долго слушала длинные баллады на чужом языке. Хуже всего, что она их прекрасно понимала, гораздо лучше, чем ребят из своего нового класса. При этом она совершенно не могла понять то, что было написано в Уставе комсомола, слова у нее никак не наполнялись смыслом, она даже не смогла запомнить и определить задачи этой организации. На молодость списать это было нельзя, Варя знала, что и в старости она никогда не сможет так гладко шпарить про политику, как освобожденный секретарь их комитета комсомола. На собраниях ее старались ни о чем таком не спрашивать, загруженная математикой девочка как-то брякнула в классе, что комсомол им всем, конечно, нужен, как кованая узда коням, чтобы, в случае чего, губы до ушей растянуть. Но исподволь ее стали усиленно готовить к вступлению в ряды ВЛКСМ, потому что ей, как никому, очень была нужна кованая узда.
А вот песням призраков про то, как жены побежденного императора, взяв в руки детей, бросаются с корабля в бурный поток, исполняемым, на черт знает, каком языке, она иногда даже была готова подтянуть. Два воина, шедшие за ней днем и ночью молчаливой невидимой свитой, не то, чтобы мешали ей, без них она бы уже и не смогла, но не с программой партии, а с ними теперь приходилось сверять свои мысли и поступки, и даже слова, произносимые вслух. Иногда, Варьке так надо было бы промолчать, ей это уже хорошо разъяснили шефы-комсомольцы. Но, зная, что за ее спиной понимающе усмехнется узкоглазый воин с длинными черными волосами, она, сжав зубы, кидалась в бой. Почему-то этим двум она постоянно должна была доказывать свое право на то, чтобы они покорно следовали за ней повсюду.
Даже математику, в душе Варька отдавала себе в этом отчет, она прилежно учила не столько для своего светлого будущего, в котором именно за математику дают хлеб с маслом, как ее ежедневно уверял папа, а чтобы поразить своей необыкновенной ученостью желтолицых. Особенно того, который был, по ее понятиям, старшим. Он после каждой задачи по геометрии восхищенно кланялся ей в пояс. Хотя она вроде бы смутно помнила, что и на хор в седьмом классе они вроде бы за ней уже ходили, но вот раньше… Где же они были раньше? О таких вещах Леньке не напишешь, да и сказать-то было некому. Что же ей делать с тоскующим непонятно по чему Ленькой и этими, взявшимися неизвестно откуда, чужими мужиками? Потом она все же взяла себя в руки и ответила Леньке большим добрым письмом, в котором объяснила свое молчание чрезвычайной загруженностью учебой. Бедный Ленька! От него полетели одно за другим несуразные короткие письма, в которых он все сожалел, что писать ему не о чем. А ей тогда о чем? Но Варвара все же нашлась, она решила использовать эту переписку, чтобы со спокойной душой отсылать Леньке свои настоящие сочинения по литературе, которые нельзя было сдавать учительнице, а дома было держать опасно из-за мамы, желавшей дочери только добра.
А ОНИ НЕ ПРОСТО ДУРАКИ, ОНИ ОПАСНЫЕ ДУРАКИ…
Самыми неприятными, пожалуй, были для Вари уроки военной подготовки, где детям рассказывали о новых способах уничтожения людей. В переменку после гражданской обороны она бегала в туалет, протирала виски холодной водой и дыхательными упражнениями пыталась остановить подкатывающую рвоту. До чего же додумались теперь люди! До чего они дошли в своем диком страхе, алчности, ненависти. В прежние времена при убийстве старались не затрагивать чужой души. Правда, существовал обычай сжигать заживо самых ненавистных врагов, как в Европе жгли колдунов и ведьм, но при этом под ноги жертве всегда клали сырые ветви, чтобы она могла задохнуться.
Ничего у человека нет, кроме его Души. Как же можно посягнуть на это единственное достояние, лишить последней надежды на мир и прощение? И кто может поднять руку на такое, если только посягая, накапливая в себе это желание, в первую очередь, разрушаешь свою Душу! Пожилой преподаватель военного дела совершенно спокойно рассказывал о каких-то химических препаратах, что превращают человека в полного идиота. И, слушая его, Варька понимала, что человеческая Душа не могла бы остаться невредимой в пекле атомной бомбардировки. Она думала, что именно эти уроки понравятся двум призрачным воинам, но напрасно. Они лишь сидели, зажав ладонями уши и плотно закрыв глаза. Весь урок они только молились нараспев каким-то Богам, давно покинувшим людей. И однажды Варя поняла, что, в сущности, учитель, сам того не ведая, рассказывает детям запретные знания, которые раньше передавали друг другу изустно лишь верховные жрецы самых кровожадных идолов.
Что же понимали нынешние люди в войне? Ведь такая война становилась не доблестью, не поединком со смертью, а постыдным убийством. Нет, она не видела никакого смысла в таких завоеваниях. Для нее война имела практический смысл, прежде всего, в разрешении споров, в выяснении противоречий, в покорении народов, в богатой добыче, наконец… Но тихое подлое ночное убийство врага до несмышленышей-младенцев?! Что можно доказать мертвецу? А какой смысл вообще уничтожать государства атомными бомбами, если «победитель» никогда уже не сможет воспользоваться плодами такой войны?
И в какой-то миг Варька вдруг осознала себя тем самым желтолицым воином, который так часто снился ей с самого детства. Все продолжается, все повторяется, все приходит вновь… Но такому оружию не место под Луной! Последняя война, в которой участвовал тот желтолицый узкоглазый человек, имела самым страшным оружием зазубренный меч, что просто выдирал все внутренности врага. После него не выживали, хотя он не убивал сразу, а только уродовал и причинял нестерпимые страдания. Им не надо было долго учиться владеть, направить его мог и новобранец. Настоящие воины пользовались им крайне редко — он был маломаневренным и тяжелым. Этот меч больше подходил для труса или мясника.
Так вот почему с детства ее так влекли военные рассказы. В прошлых временах ее Душа неоднократно возрождалась Воином. Иногда ей казалось, что в ней до сих пор звучит неповторимый, ни с чем не сравнимый гул битвы, в котором сливались грозные призывы к богам, вопли раненых, удары оружия. Поэтому ее удивляло, что войны новейшего времени прошли без нее. Желтолицый, которым она когда-то была, мог себе позволить многое. Например, построить на родине холм из засоленных ушей и носов покоренных врагов. Но это были носы и уши воинов, обезглавленных на поле битвы, перед смертью испытавших вместе с ним высокий экстаз.
Желтолицый не сомневался, что если бы он сложил свою голову, то и враги поступили бы с ним так же. Пусть! На то она и война! Военрук вовсе не готовил их к войне, он подготавливал их к бойне. Причем, никому из них не было ведомо, в качестве кого они попадут туда — мясниками или серой скотиной войны. Варя смотрела, как мальчики разбирают автомат — черного смертоносного кузнечика, и думала, что ведь у каждого из них в жизни обязательно приключится своя война, где победителем окажется только тот, кто сумеет спасти свою Душу. И никому из них не поможет это оружие, которое они увлеченно рассматривали. Чтобы оружие служило тебе, оно должно стать за долгие годы воинской школы твоим продолжением. А то оружие, что предлагал военрук, имело собственный скрытный характер. Нет, такое оружие не позволило бы владеть собой, оно было предназначено не для укрепления, а для покорения воли маленького мужчины. Она вспоминала тот последний меч, что был вложен оруженосцами в погребальный челн желтолицего воина. Он был произведением кузнечного искусства, из двух видов стали, с золотой накладкой у рукояти, легкий, обоюдоострый. Как хорошо, оказывается, она помнила мягкую теплоту согревшейся в руке стали! И иногда, когда Варька особенно злилась, ее правая рука, помимо ее воли, повторяла то обволакивающее, кошачье движение мечом, которым так славился когда-то желтолицый… Нет, она решительно не понимала, почему люди, открывшие для себя удивительные тайны природы, использовали их, в основном, лишь для создания оружия, страшного своей всеядностью, равнодушием, слепотой. Оружие — для труса в кустах, не знающего, что такое война, понимающего под этим словом только убийство. Раньше война была тяжелым, но интересным, захватывающим делом. Ненависть ведет тебя по следу врага, ты ешь, пьешь в походе свою ненависть, ты лелеешь ее как жену! Ненависть дает тебе силы для последнего рывка, для взмаха клинка во всю душу! Как можно отказаться от последнего взгляда глаза в глаза своего врага? Нет, своих врагов она не хотела бы так убивать, как это рассказывал военрук. В конце концов, надо уметь выбрать врага по себе. А если ты способен лишь отравы в реки налить, то может быть тебе и не воевать? Может быть такой гнили лучше сразу сдаться? И жить сытой спокойной жизнью раба или торговца рабами? И что же может дать тебе механическая, смертоносная игрушка в битве с жизнью, где любому из нас придется-таки прорубать дорогу себе мечом? Нельзя допускать в мир такую войну, где ты даже не знаешь своих врагов, не можешь их встретить, как подобает воину. У тебя в твоей войне всегда должно быть время на достойное выполнение всех ритуалов ухода при поражении… Дай и ты проигравшему воину время проститься с близкими, поднять и выпить последнюю чашу…
"Ты просто становишься идиотом или пламенем свечи", — в ужасе шептала она и давилась рвотой.
ПОСЛЕДНЯЯ ДРАКА И ПЕРВОЕ ПИВО
Как-то Варя забежала в обед из школы перед факультативными занятиями. Тут же раздался телефонный звонок. Звонил ее брат Сережа, который в тот день, вместе с четвертыми классами из разных школ, пошел в театр. Мама дала ему деньги на пирожинку и сок, и он, одевая наглаженные Варькой брючки, весь сиял от счастья. Сейчас в его голосе слышались слезы, он простонал глухо в трубку: " Варя-а-а…".
— Сережа, ты откуда звонишь?
— Из театра… Варя, приди, побей их!
— Сережа! Что случилось?
— Мальчиков всех в туалете бьют и деньги отнимают. Мне губу разбили до мяса и все до копейки отняли…
— Сколько их?
— Трое, они, такие как ты — большие. А я и идти-то домой не могу, сикать хочу-у…
Варя не могла больше слушать эти тихие всхлипы, от которых у нее сразу застучала кровь в висках. Сережку простудили в садике, у него был хронический цистит, и ему надо было ходить в туалет очень часто. Она уже давно не дралась, потому что поняла, что своих сверстников — парней ей уже не победить, они стремительно обгоняли ее в силе и ловкости. Ей тогда уже не хватало разворота плеч, тяжести в прямом ударе. Ее фигура, так рано сформировавшаяся, практически не изменилась, после операции по удалению аппендикса Варя уже не росла.
Сейчас она лихорадочно искала солдатский ремень отца. Найдя, она первым делом торопливо проверила пряжку. Все было на месте, ее хитрая приспособа с крючком — тоже. Ну, выносите, вороные!
Ожидая сестру и отслеживая выход, Сережа размышлял о том, как все раньше было просто в его жизни. Когда он был маленький, Варя водила его в женский туалет. Она сама проверяла кабинку, а потом запускала его туда и караулила. А как только он подрос, так взрослые тетеньки стали их из туалета прогонять. Варе было очень неудобно ждать его у мужского туалета, а он мог там встретиться с любой опасностью. Что же ему делать, если он никак не может не писать через каждые час-два?
Контролерша попыталась остановить ее на входе, но тут же отшатнулась от бешенного Варькиного взгляда и шипения сквозь зубы: "Я тебе глотку вырву!". В холле ее ждал Сережа, с его разбитой губы кровь накапала прямо на белую трикотажную водолазку, вещь была испорчена безвозвратно. Нос у Сережки распух, в глазах стояли слезы. Варя достала ремень, из-за вскипавшего в ней гнева, она не смогла сразу попасть рукой в подготовленную дома петлю.
— Где здесь мужской туалет?
— Вот там, Варя! Они все еще там стоят и курят, Мохначева из параллельного класса тоже побили! И Курочкина!
Варя влетела в туалет и сразу увидела этих троих. Сережка предусмотрительно остался за дверью. Он вообще не мог смотреть, как мордуется его сестра. Он только зажмурился, когда услышал знакомый по дворовым дракам свист Варькиного ремня и ее змеиный голосок: "Ну, здравствуйте, с-суки!". Драка длилась недолго, Варя вышла из туалета, потирая костяшки пальцев и правую щеку. Из приоткрытой двери туалета было слышно, что там кто-то тихонько скулил. Молча, они отправились к выходу, контролерша при этом торопливо повернулась к ним задом. Варя шла еще вся разгоряченная дракой, костяшки пальцев саднило. Сережа едва поспевал за ней с гордой, мстительной улыбкой.
Вдруг Варьку поразила одна мысль, она остановилась, как вкопанная.
— Сережа! Сколько мама дала тебе денег с собой?
— Сорок копеек.
— Что же ты сделал со мной, гаденыш! Я ведь у них шестнадцать рублей отняла! Меня ведь посадить могут!
Ну, почему она, выворачивая карманы этих подонков, не подумала своей головой, что не могла мама дать столько денег ее брату-молокососу! Варе сразу стало очень плохо, нести эти деньги домой она не могла. Они проходили мимо ресторана «Центральный», самого шикарного заведения у них в городе. Теперь ей было на все плевать.
— Серега, пошли в ресторан! Дома все равно есть нечего.
— Варь, нас же не пустят!
— Это вечером только взрослых пускают. И вообще нас сейчас с деньгами и солдатским ремнем везде пустят! Если куражиться, так куражиться на полную катушку!
Но когда они завалились мимо обомлевшего швейцара в зал с матовыми шарами настенных светильников и тяжелыми гардинами на окнах, Варька почувствовала, что начинает потихоньку терять весь свой кураж.
— Трудный выдался денек? — неожиданно раздался за их спиной насмешливый мужской голос.
Варя обернулась и увидела официанта, приятного молодого мужчину лет тридцати. Он был по вечернему роскошно одет. Это был человек из совсем другой жизни, до которой Варькины родители так и не сподобились. Он глядел ей прямо в глаза, при этом одна его бровь красиво изогнулась, на его улыбку, спрятанную в ухоженные усы, невозможно было не ответить.
— Нам надо бы пообедать. Деньги у нас есть.
— Понято! Но вам бы и умыться не помешало бы, а?
— А тут можно умыться?
— Господи, да тут все можно! Зеркала бить не будете?
— Нет…
— Ну, пошли!
Официант проводил их до большой курилки с зеркалами, умывальниками и диванами. Варя аккуратно вымыла брату лицо, он морщился и стонал из-за разбитой губы. Когда она, наконец, глянула на себя в зеркало, то увидела, что сбоку, на скуле у нее тоже приличная ссадина. Кое-как она привела себя в порядок. Когда они вышли, то стол для них был уже накрыт. Посетителей практически не было, развалясь в креслах в зале сидели несколько официанток или поварих с двумя мужиками. Они с интересом, изучающе осматривали Варю и Сережу. Брат не знал, как здесь держаться, и шепотом спрашивал Варю, какую вилку ему брать. Чтобы разрядить обстановку Варя громко, на весь зал сказала: "Официант! Будьте добры, подойдите к нам!". Вальяжной походкой роскошный мужчина с нагловатой улыбкой подошел к их столику.
— Семь рубликов, милая моя!
— Что же Вы нам пивка не подали? Из холодных закусок у вас — рыба, а в фойе висит запрещение только на водку до пяти вечера, что же у вас и пива нет?
— Девочка, все ведь нормально, а? Тебя никто отсюда не выставил, не взирая на ваши подбитые физиономии и явное несовершеннолетие, так нагличать-то зачем?
— А что они все пялятся на нас? У меня брат кушать стесняется!
— Один момент! А ну-ка, все вон из зала! Дети кушать стесняются!
Полные, ярко накрашенные женщины и два пожилых мужчины, посмеиваясь, лениво поднялись и скрылись в кухне.
— Спасибо! Может, присядете с нами?
— Отчего же не присесть с молодой и богатой?
Серега, успокоившись, полностью занялся едой. Официант, по-женски подперев щеку, улыбаясь смотрел как Варька руками с разбитыми костяшками пальцев ест курицу.
— Салфеточка рядом.
— Ага! А что у вас на сладкое?
— Обычно — я. А ты пиво-то пила когда-нибудь?
— Не-а! Это я так.
— Хочешь попробовать? Я угощаю.
— А оно вкусное?
— Кому как…
— Попробовать можно!
— Несу!
Он принес два высоких стеклянных запотевших бокала с янтарной жидкостью, поставив один перед Варей, а другой — себе. Она тут же принялась пить, но он остановил ее: "Сначала чуть-чуть рыбки или кусочек черного хлебца с солью!". Ловко нацепив на вилку ломтик филе с блюда рыбного ассорти, он поднес его прямо к Варькиному рту. Варя засмеялась, но взяла ртом у него эту рыбу и, пережевывая ее, стала запивать пивом. Это он, конечно, специально сделал, чтобы показать ей, какая она еще маленькая, что ее нужно с ложечки кормить! Вкус пива она как-то не сразу почувствовала, голова только становилась тяжелее. Мужчина начал под столом ласкать Варькину коленку, ей стало совсем смешно и легко на душе.
— Медленно откуси горбушу и во рту ее подержи, дай подтаять. Вот так! Тебе родители деньги дают, чтобы ты брата по ресторанам водила? Осторожнее, не торопись! Видишь, поперхнулась!
— Ой, у меня такие это деньги, что вот из-за этого придурка меня посадить могут. Отрываюсь напоследок!
И Варя, пережевывая рыбку, запивая ее пивом, рассказала все этому незнакомому мужику. Он не стал ни смеяться, ни ругать ее. Перестав почему-то кормить ее рыбой и гладить колени, он занялся своим пивом и какими-то невеселыми мыслями.
— Не переживай! Я этих ребят знаю, так что на этом дело закроем. Но впредь, девочка, держись от них и от ресторанов подальше.
— А Вы, почему от ресторанов подальше не держитесь?
— Почему, почему… Живу я здесь! Но ты, надеюсь, уже достаточно взрослая, чтобы сообразить, что я и ты — две большие разницы? Ну, хорош, друзья! Доедайте и выметайтесь! Нам еще зал к вечеру готовить. Пиво-то понравилось, смуглянка?
— Ага! Вот деньги за обед. А можно мне еще сюда к Вам прийти?
— Нет, не обижайся! Вот когда вырастешь — вспомни меня, а, главное, мои слова: "Я тебя пожалел!", — шепотом добавил он и опять улыбнулся, глядя Варе в глаза.
Обратно они ехали, конечно, на такси, в котором Серега заснул от излишней сытости и переживаний, склонив голову на Варькино плечо. На оставшиеся деньги Варя купила в магазине хлеба, молока и какую-то рыбу холодного копчения. Нарезав ее тонкими ломтиками, она медленно, не торопясь, задумчиво ела ее с вилки.
ВЕСЕННИЙ СМОТР
Весной весь новый класс Варьки подвергся тщательному медицинскому осмотру. Мальчики — на предмет будущей воинской пригодности, а девочки — по поводу всем понятно чего. Хотя их школу проверяли только для проформы, для порядка. Бывали, конечно, разные там единичные случаи по городу, когда старшеклассницы вдруг рожали детей неизвестно от чего, но это происходило только в педагогически запущенных школах на окраине, так там и от педикулеза никак избавиться не могли.
Межсезонье, переход от теплого времени года к холодному и наоборот создавали для Варьки множество проблем. Во что одеться? Мама считала, что у Вари все есть, она воспринимала эти проблемы со своей точки зрения, сформированной в военном детстве, когда у нее на все девичьи возрасты было три платья из крашеной бязи. По ее мнению, Варя была одета гораздо лучше эвакуированных девочек-полячек, поэтому ей и беспокоиться было не о чем. А когда Варька заикалась об обуви и колготках, которые ее мама сама-то так и не научилась носить, то вместо конкретного ответа слышала радостные воспоминания о том, как мама училась в школе в первую смену, а ее брат во вторую, а валенками они менялись на бегу посреди замерзшей улицы. Приходилось шевелить мозгами самой, хорошо, что бабушка научила ее вязать на спицах, крючком, на коклюшках. Пряжу можно было выпросить у сестры отца, державшей пуховых коз, но только тетя, имевшая большое хозяйство, очень долго собиралась с ответами и посылками. Как раз перед той весной Варька нашла в темной комнате старую Валькину клетчатую куртку, которую предприимчивая Валентина сшила из прибалтийского пледа. Старый Валькин гардероб стал краеугольной основой складывающегося стиля. Вещи Валька ни носить аккуратно, ни беречь от моли почему-то не могла. Поэтому Варваре все они доставались с небольшими дефектами, что тоже создавало массу неудобств. Найдя у папы в кармане плаща десять рублей, Варвара смело пошла в магазин и купила себе странную старушечью шляпку из синего мохнатого фетра с шелковой ленточкой по тулье. Шляп в магазине зимой было много, кому они нужны были зимой? Вообще-то Варя перемерила их все, но к Валькиной куртке, на ее вкус и средства, подходила только эта.
Перед медицинским осмотром Варя волновалась только на счет своей психической полноценности. В новом классе, где о ней ничего не знали, еще никому не приходило в голову, вместо факультативных занятий остаться с ней после уроков в классе и рыдать над странностями ее характера. И было бы просто ужасно, если бы сейчас ее объявили чокнутой, да еще и по медицинской части. Но полная, уставшая от жизни тетка, врач-невропатолог, ни о чем таком ее не спросила, а только ударила резиновым молотком по Варькиным коленкам и что-то быстро написала в ее карте. Варя еще честно потопталась у дверей кабинета, но врачихе было здорово не до нее. А у кого еще можно было спросить про две узкоглазые рожи, которые покатывались со смеху, когда Варька мерила шляпы? Только у этой врачихи, не у классной же руководительницы! Варю очень смущало это постоянное присутствие в ее жизни двух полупрозрачных мужчин, правда, ни в туалет, ни в кабинет к врачу они за ней не заходили, и за это им, как говорится, земной поклон.
Выйдя в коридор, Варя увидела, что кроме призрачных азиатов и ее новых одноклассниц на обшарпанных стульях сидят все девочки из ее старой школы, которые травили ее всю прошлую весну. Она хотела пройти мимо, потому что полагала, что им, как и ей, будет также неприятна неожиданная встреча. Но когда Варя, прикрывшись картой, проплывала мимо них, раздался радостный девичий визг: "Девочки! Это же Варька!". Варвару окружила стайка девчонок, они дергали ее за хвостики, за рукава, тянули к себе, хохотали, наперебой сообщали какие-то незначительные классные новости.
— Любка твоя в троллейбусное ПТУ пошла…
— Валентина Семеновна в декрете сидит со вторым, толстая стала до жути, мы ее с коляской видели.
— У нас теперь классная — физичка, все классные часы теперь только по физическим открытиям проводит, даже Ленинские уроки отменила, говорит, что нам это вредно. А про физику — так полезно!
— А Волков в милиции прописался! Его два дня там держали, побрили даже! Наверно, опять вшей нашли. К Таньке пристает каждую переменку, бить теперь его некому.
— Волкову мы даже говорить не будем, что тебя видели, он и так совсем чокнутый. Нам сказал, что ты из-за нас ушла, что мы тебя затравили. А мы ему сказали, что ты сама кого хочешь затравишь.
— Тише ты, дура! Тут же ее новые девчонки сидят!
— Да пусть не лезут, от Варьки им не отломится!
— Варька, а ты к нам обратно вернешься? — загнал ее в тупик вопрос самой глупой из них. Варя даже решила на нем не тормозить, но все девочки с ожиданием уставились на нее. Похоже, они так и остались наивными дурами.
И хотя бабушка говорила, что дураков и в церкви бьют, но, наверно, не про этот случай. Поэтому Варя, ласково улыбаясь, сказала, что в их класс она уже вряд ли вернется, но к любой из них придет, только пусть зовут как следует, трижды. Она услышала, как за ее спиной расхохотался один из призраков. Озадаченные девчонки расступились перед ней, когда она, кокетливо надвинув шляпку на лоб, вышла на улицу. Здорово, что она успела купить эту шляпу, все-таки не вязаная шапка на подкладе! Оглянувшись и помахав девочкам рукой, она опять увидела этих двух с непроницаемыми, ко всему равнодушными желтыми физиономиями.
Домой Варя сразу не пошла, она долго бродила по городскому скверу по дорожкам, заваленным прелой прошлогодней листвой. На душе у нее было как-то не так. Раньше она твердо знала, что все эти девочки — дряни последние, что думать о них — терять время понапрасну. И вообще, хорошие люди не могут говорить о ней, Варьке, плохо. А те, которые говорят, так они сами слова доброго не стоят. Так ей и бабушка говорила после того, как они на пару одновременно отлаяли старух шести соседних хуторских дворов. А сейчас что получается? Они что, любили ее, что ли? Или они просто врушки? Или они такие вот хорошие, плохого не помнящие? Или, может, дуры? Хотя, конечно, как их можно винить. Наверно, всего было понемножку: и не блистали умишком ее однокашницы, и даже любили ее по-своему, но эта их любовь омрачалась тем, что она сама к их любви была плохо приспособлена. Пагоду из соленых ушей в кармане не утаишь, пусть это и было давно, очень давно и даже неизвестно с кем. Но ведь Варя хорошо знала, что это такое. А бывало, что, задумавшись, она иногда глядела с надменным прищуром и на девочек, и на Валентину Семеновну так, будто примерялась, как половчее отхватить им уши. Нет, хватит! В новом классе она ко всем станет хорошо относиться, будет молчать и в пол глядеть, а на самый худой случай — в потолок. Варька беззаботно поправила сбившуюся шляпу и засвистела "Нам бы всем на дно!", с грустью вспомнив, как они здорово свистели с Волковым на два голоса. Никогда бы ей раньше не пришло в голову, что кое-что из старой школы она будет вспоминать с грустью.
ЛЮБОВЬ ЗА КОМПАНИЮ
Не влюбиться весной, в пятнадцать лет было бы просто неприлично. Вот и Варя тоже влюбилась тогда в удивительно красивого юношу из параллельного класса, вместе с большинством своих сверстниц. Она знала, что никакого продолжения этой влюбленности не будет, что пройдет совсем немного времени, и она вырастет из нее, как из старого платья. Но это была ее дань юности, понятному девичьему томлению.
Конечно, юноша этот был достоин самой высокой преданной любви. Мальчики в новой школе вообще были лучше одеты, ухожены, с аккуратно подстриженными ногтями. Чистые помыслы, чистое дыхание, прекрасная интеллигентная семья, лицо без юношеских угрей, отличные способности, хорошее физическое развитие. Что еще нужно для первой горячечной влюбленности?
И хотя Игорь был слеплен на славу, но чего-то очень важного для себя Варька в нем не находила. Была в нем какая-то крошечная червоточинка, разъедавшая его душу. Нет, такой Игорек не станет следовать своему предназначению, не увидит и не поймет его. От него заранее веяло обеспеченной скукой, полной солнца и незатейливых радостей. И все-таки она в него влюбилась, поддавшись общему психозу девушек восьмых классов. В ту весну Игорь, против своей воли, стал героем толпы. Большинство девочек школы увидели в нем подходящий объект для изливания своего незрелого чувства, иногда это принимало характер массового психоза экзальтированных барышень, и доставляло много хлопот и неприятностей как Игорю, так и его родителям.
Эта была еще одна странность новой Вариной школы. В переменку мальчики оставались в классе громить парты, а девочки гурьбой с визгом бросались отлавливать Игоря. У Вари было такое чувство, что она находится в сбесившемся от оводов коровьем стаде.
Такая любовь, естественно, случается за компанию. В клубе любителей поэзии она сидела за одной партой с тихой застенчивой девочкой Леной, которая всю зиму шепотом рассказывала ей о своей любви к школьному идолу — Игорю. Потом они вместе возвращались из школы, и Лена находила в Игоре все новые и новые замечательные черты. До формирования на их потоке двух математических классов, в одном из которых теперь училась Варька, Лена и Игорь были одноклассниками. За долгую зиму Варя узнала практически всю его жизнь. Кроме того, Лена вела дневник, в который подробно записывала все высказывания Игоря, отмечала каждую его гримасу или улыбку. Дневник она, конечно, заставила прочесть Варьку. После этого Варваре оставалось только влюбиться в Игоря, потому как она тоже была не каменная. Лена просто была в восторге! Они стали любить Игоря гордо, тайком, в отличие от остальных, которые с гиканьем бежали за Игорем из школы.
Это чувство захватило ее так, что, забыв все предостережения бабушки, она однажды погадала Лене на картах. Выходила практически немыслимая, невозможная картина. По картам получалось, что Игорь проживет интересную спокойную жизнь в чужой прекрасной стране с красивой верной женой, у него будут замечательные дети, которые будут стыдиться родины их отца. А Лена еще дважды в жизни после школы увидит Игоря, когда тот приедет в родной город навестить мать. Она будет долго говорить с ним, все в нем поймет, но никогда ничего у них не будет, даже поцелуя, и из всей дикой толпы сегодняшних влюбленных только она будет продолжать любить его до своего смертного часа. После этого предсказания девочки, кажется, недели две не разговаривали, но для Лены оно не изменило ничего. Случайно встретившись с Варей уже в другом отрезке жизни, Лена, забыв, конечно, их детские разговоры, рассказала ей все то, что та и так знала много лет назад. Игорь совершенно изменился, приобретя редкие для русского человека качества — прагматичность и расчетливость, и прекрасно устроился в США. Он так и не увидел в Лене того единственного, данного ему судьбой огонька, по которому многие тоскуют в юности и который благополучно забывают в зрелые годы.
Однажды на заседании клуба Лена попросила Варю написать в стихах что-нибудь об Игоре. "Это была бы наша тайна!" — чуть не со слезами умоляла она. Она оформляла тайный альбом, посвященный ему, и там оставалась несколько пустых мест, которые она решила заполнить стихотворными посвящениями своему кумиру.
А Варю к весне стало одолевать давнее беспокойство. Стихи лишь усиливали его. Они вообще лучше всего получались у нее только тогда, когда она слушала негромкое пение двух призраков с длинными жесткими волосами, собранными в какие-то немыслимые пучки, когда они сидели на корточках в войлочных расшитых жилетах с кисточками, одетых на кожаные латы. Стихи о любви поэтому получились энергичного, полувоенного содержания, но она знала, что ее мрачным спутникам они понравились, именно так они представляли любовное чувство в свою варварскую эпоху.
Я раздавлена копытами коней! Грудь пронзили спицы колесницы! Помню взлет рванувшихся бровей Не сдержавшего коней возницы. Солнце — пламя, грива у коня, Мнущего вселенную копытом. Жизнь по капле цедит из меня, Подступает смерть с лицом закрытым. Багровея, отгорит закат, Медленно поглотит колесницу… Мне теперь дороги нет назад! Мне отрезан путь тобой, Возница!Лена с сомнением спросила: "Это о любви?" Варя заверила ее, что стихи, конечно же, о любви, а не о давнем дорожно-транспортном происшествии.
— Понимаешь, Лена, — терпеливо поясняла ей Варя, — когда тебя рубанут от шеи до паха, а конь твой, испугавшись, убегает от тебя, то ты видишь, что в его гриве запуталось солнце. И такое ощущение возникает, что вместе с конем тебя покидает и солнце, рушится вселенная. А если при этом тебя и на колеснице переедут, что иногда в сумятице случается, то ты уже точно познаешь все муки неразделенной любви.
Лена ушла потрясенная, твердо уверенная в поэтическом даре Варвары и глубине ее чувств к Игорю.
СЕМЕЙНЫЙ ДОСУГ
Летом Варькины родители купили машину. И хотя мама копила на нее деньги очень долго, хотя это был всего лишь «Москвич» местного производства, хотя в дело пошли и отпускные родителей, деньги все равно пришлось занимать. Заняли у папиных подчиненных в управлении, других знакомых в городе не было, родных тоже. Поэтому надо было рассчитаться с долгами в строго оговоренные сроки. А ведь еще надо было на что-то жить. С покупкой, конечно, надо было бы обождать, но именно в то лето папе в тресте дали квиточек на машину, которую надо было забирать с завода в недельный срок. Родители просто за голову хватались от свалившихся на них проблем. Варя тоже раздумывала, потому что поняла, что без нее они уже не сдюжат. Утром она объявила родителям, что всю клубнику с их огорода, которая поспевает через неделю, она продаст на городском рынке. Клубники за сезон набиралось у них ведер двадцать, а то и больше, а клубничного варенья в яме хранилось на два-три года вперед.
Родители были в замешательстве. В газетах вовсю клеймили подростков, торговавших по осени на базаре клюквой, и призывали выкорчевывать нетрудовые доходы и частное собственничество. А тут сама Варвара на рынок попрется. Может быть, старуху какую нанять? А вдруг она заявление куда надо напишет? Или деньги не отдаст? Папе рисовались страшные картины, как его знакомые со смехом рассказывают друг другу, что его дочь торгует на рынке клубникой! А вдруг Варьку за это из школы выгонят?
Варька и сама была не полной дурой, поэтому и у нее мысли были самые невеселые: ее хватают на рынке, папу за плохое воспитание дочери выгоняют с работы и из партии одновременно, а маму снимают с заведующих отделением стоматологической клиники. Может быть, даже в местной газетке о них пропишут. Да пошли они все! Сейчас! Лебеду жрать начнем! Вот пусть ей кто-нибудь слово поперек скажет! Пусть вначале сам эту клубнику обработает два раза в год, а потом ей объяснит, почему ее продажа — нетрудовой доход.
Короче, много было опасений, но другого выхода никто из них не предложил. Варька твердо решила никому на рынке в руки живой не даваться, а если кто чего потом скажет, так на все отвечать твердо: "Ни колы цого ны було!"
Пол-литровыми банками и стаканами Варя решила клубнику не продавать. У них так сосед с огорода торговал, возле него собиралась вся окрестная ребятня и жадно глядела на истекавшие соком ягодки. Она расспросила огородных старух на рынке, выяснила ценовую политику каждой и напросилась в попутчицы. Клубнику решила срывать утром, перед базаром, чтобы ягода не потеряла радостного воскового блеска. Папа только вздыхал, потел и боялся, мама хмурилась, но перебрать клубнику вызвалась сама. Варя никогда не думала, что ее папу — коренного уроженца юга России, где народ так и продолжал большей частью существовать с базара, можно было напугать красными корочками КПСС до такой степени, чтобы он даже не помог дочери дотащить тяжелое ведро с клубникой до автобуса… И при полном коммунизме базар так и будет базаром!
А папа в тот день вообще уехал в соседний город проверять строительные участки своего управления. Алиби при этом получалось у него просто замечательное! Варька этого никак не понимала, полагая, что ее отец никогда трусом не был. Не станет трус в двенадцать лет вместе с таким же пацаном — Пиховкой вывозить раненых на подводах к Сталинграду. Но Варьке предстоял всего лишь базар, а не Сталинград, поэтому для геройства ее папы масштаб был явно не тот.
Городских продавцов не пускали не только в крытый павильон рынка, но и за крашенные прилавки на улице. Поэтому все те, кто не имел колхозных справок, выстроились неровной шеренгой по периметру полупустых деревянных навесов в центре рыночной площади. Варька искала место между рядами немолодых женщин с платками на головах, стоявших рядом с ведрами клубники. Ее попутчицы уже притулились с ближнего края, но Варе надо было взглянуть на выставленный товар. Хорошо, что папа привез с опытной станции в прошлом году усы отличных сортов, клубника у нее была самая крупная, а ведро щедрее заполнено. Никакого куража после тряской дороги в автобусе у Варьки не осталось, поэтому она бочком встала рядом с какой-то пожилой женщиной и сняла газетку с ведра. Женщина с любопытством посмотрела и на нее и на ягоду. Варька стеснялась своего блекло-желтого платья, купленного где-то мамой по случаю. Оно ей совсем не шло, платье это было из разряда тех вещей, которые выдавали малообеспеченным семьям от государственных щедрот. Но ягода у нее в ведре лежала самая отборная, поэтому все хозяйки, проходившие мимо них с пустыми ведрами, задерживали на ней придирчивый взгляд. Никто у Варьки про ягоду не спрашивал, поэтому она уже начала тихонько паниковать. Но это был, оказывается, целый ритуал. Покупательницы вначале обходили ряды, потом приценивались, потом возвращались к приглянувшемуся товару и начинали торговаться. Стоять молча было просто невыносимо, соседние продавщицы беседовали между собой, но, в основном, обсуждали Варькино явление. Кроме нее, никого моложе сорока с хорошим хвостиком лет в ряду не стояло. Ягода у них была так себе, мелкая, изможденная усами и пасынками, а просили они за нее все по двадцать пять рублей. Деньги им были очень нужны и, жуя хлеб с луком, они собирались вместе стоять до вечера. Варька совсем упала духом, она и так боялась, что ее увидит кто-то из ее новой школы. Конечно, они на базар только покупать ходят, у них у всех машины давным-давно куплены, по копейке их родители на хлеб не сбиваются! И платья у них, конечно, не с желтыми маками. Как это может, кому в голову прийти желтые маки на бязи рисовать? Как теперь стоять в таком платье до вечера?
И вдруг началось! К Варьке вернулась вначале одна покупательница, спросила о цене, Варька назвала на рубль дешевле цены, установленной на рынке. Тогда к ней тут же подскочили две других, предлагая обычную цену. Варька на провокацию не поддалась, взяла деньги и принялась скоренько перекладывать ягоду в подставленное ей пустое ведро первой покупательницы. В этот момент ее цепко ухватил за плечо какой-то дядька и потребовал показать билетик. Варвара изошла холодным потом, но, к ее удивлению, выручила соседняя женщина: "Это со мной! Вот наш билет! Не цепляйся к девке, рыло! Мне она просто ягоду помогает ссыпать!"
Рыло попыталось что-то возразить, но лучше бы оно их не трогало. Торговые ряды загалдели и заорали разом, радуясь возможности развеять скуку, им еще надо было до вечера молчком простоять. Варька предложила торговке рубль за спасение, но та с хохотом отказалась: "Иди, девка, с Богом! Молодая, а хваткая! И ягода у тебя ухоженная. А мои-то лбы только кушать ее могут. Не то, чтобы обработать, усы оборвать, но даже собрать не помогут. А ты вон и продать вышла. Молодец!" И между рядами завязалось бурное обсуждение сегодняшней молодежи, которую в школе учат совершенно не тому, что требуется для жизни. К диспуту подцепились и покупательницы, Варькин выход на рынок внес общее оживление во всю торговлю.
Пока Варька торговала, мама и брат сидели дома молча и ждали ее как из-под Сталинграда. Когда мама открыла дверь, Варя увидела, что она вся измучилась. Варька спокойно сунула ей двадцать четыре рубля, и мама поняла, что голодная смерть им теперь не грозит.
— А завтра… пойдешь? — робко спросила мама.
— Конечно, такая жара стоит, что клубника в неделю отойдет. Старухи там говорят, что смородину почти не берут, а малину продавать не выгодно. Ты, мам, у соседей бидончик займи. Я бидончиками торговать попробую, так денежнее выходит, хоть и дольше получается.
Папа мучался неизвестностью на пригородных участках до вечера. Но, приехав с работы домой, застал мирную картину с обильной пищей. Сергей объявил родителям, что назавтра пойдет торговать с Варькой, за это они после рынка кое-куда зайдут выпить пива. У папы с мамой просто гора с плеч свалилась! Сережину тираду они восприняли как невинную детскую шутку.
С Серегой торговля пошла веселее. Никто на них пальцем не показывал, все, наоборот, вокруг умилялись на деток, которые уложили ягодки одна к другой, да еще пошли и продали. Серега быстро вошел во вкус и не давал Варьке сбивать цену. Он бегал за мороженым, и они стояли до самой настоящей цены. Вначале Варька думала, что к ним подходят чаще других только из-за отборной ягоды, но потом поняла, что даже в своих маках она очень выгодно смотрится на фоне старух в платках. Поэтому она расправила плечи, подняла грудь и стала радостно всем улыбаться. А до этого она на каждого, кто к ней подходил, смотрела настороженно, из-подо лба, будто готовилась к драке. Стоявший рядом Сережка никаких вольностей по отношению к сестре от вольно шатающихся по базару мужчин не допускал, билетное рыло к ним больше ни разу не подходило, поэтому клубника в тот сезон прошла самым выгодным образом. На пиво они, конечно, не тратились, потому что других нужд и хозяйственных дыр у мамы оказалось очень много. А в августе они с Серегой даже вишни продали ведра три на школьное обмундирование. Но почему-то Варе не понравилось, что ее домашние, похоже, вошли во вкус. По осени папа вырубил две яблони, и освободившееся пространство они всей семьей принялись засаживать клубникой в ожидании предстоящих барышей.
* * *
С приобретением машины у них появился самый настоящий семейный досуг. Раньше для выездов на природу их семья пользовалась папиной служебной машиной, но ездить на рыбалки с папиными сослуживцами маме было уже невмоготу. Строители сильно напивались, им было безразлично в какой водоем и в каком виде лезть за рыбой с сетями, в которых они все время запутывались. Рыбу они вылавливали крайне редко, утверждая, что их влечет сам процесс рыбалки. Рыбу они покупали у местных жителей за недорого, потому, что уха к водке была весьма кстати. Вместе с ними пил и шофер, поэтому мама очень беспокоилась о безопасности их дорожного движения.
Теперь они отдельно от горластых нетрезвых мужчин, громко рассуждавших о центральных коллекторах и осадках фундаментов, ездили только своей семьей за грибами. Папа, правда, попытался увлечься охотой, подбиваемый к этому планово-техническим отделом своего управления, но мама решительно пресекла эти поползновения от семейного отдыха.
Варя и папа ничего не понимали в грибах. На Дону водились только шампиньоны и бледные поганки. После того, как несколько семей у них на хуторе отравились бледными поганками, перепутав их с шампиньонами, в обилии росших на коровьих лепёхах, папа вообще решил грибы в рот не брать. Что, в самом деле, жрать нечего, что ли? Но мама по своей Сибири помнила, какая это славная штука, если пожарить с масличком. Она вырвала страничку из книги «Домоводство» и заставила Варьку и папу внимательно изучить картинку с белыми, груздями, рыжиками, маслятами, подосиновиками и подберезовиками. Другие грибы она срывать им запретила. Но перед отъездом из лесу ей все равно приходилось внимательно перебирать их корзины, поганок там было все равно очень много. Отдых несколько омрачался тем, что маме приходилось подолгу выкликать их из лесу. Варя и папа, прекрасно ориентировавшиеся в степи, совершенно терялись в лесу. Варя ходила вместе с отцом, потому что слух у нее был отличный, и она сразу различала нервные мамины крики, да и сама могла заорать так, что отвечали из соседних деревень.
Однажды они вышли к болоту, на котором росло множество крупных ярко-красных бусинок клюквы. Клюкву мама покупала на базаре, поэтому они решили собрать для нее немного, чтобы она лишний раз не тратилась. Собирая клюкву, Варя почувствовала, что на нее кто-то внимательно смотрит. Она подняла голову и рядом с собой увидела смешную мокрую птицу, которая, наклонив головку, уставилась на нее блестящим черным глазом. Они смотрели друг на друга, наверное, с минуту. Было тепло, опускались сумерки, где-то стрекотала какая-то пичуга, у Вари во рту таяла созревшая клюква, и на нее пялилась серая птаха! А рядом стоял сосновый бор с перешептывающимися, клонившимися друг к другу соснами. И в какой-то миг цапля вся собралась и, сделав несколько шажков ножками-палочками, распахнув крылья, взлетела…
Никогда так близко Варя не видела, как начинается полет. В это мгновение она вдруг поняла, что тоже сможет летать, если только чуть-чуть оторвется от земли… Все прежние сны заговорили в ней, как же долго она была на земле! Она подошла к отцу и заявила, что ей нужна палка, с которой бы она ходила по лесу. Она задумчиво приглядывалась к деревьям, прислушиваясь к голосам, заполнившим вдруг ее душу. Наконец, по дороге к машине она нашла небольшой осинник. У папы был нож, и он срезал ей требуемую ветвь. Варя ножом сделала зарубку на ее основании, ей это для чего-то было очень надо. Дома она тщательно, любовно обрабатывала зеленоватую с терпким запахом древесину. Потом установила палку для просушки, следя, чтобы рядом с ней почти не открывали форточку. Родители не обращали на это внимание, потому что считали, что самое опасное в жизни их дочери далеко позади.
* * *
Когда обильными мостами пошли грибы, наступила осень, и Варя пошла в девятый класс. Но что-то не то с ней сделало общение с природой. Она стала рассеянной, невнимательной на уроках, а в переменку, пристроившись у окна в школьном коридоре, тихонько бурчала себе что-то под нос, царапала на листике бумаги неровные строчки. В те годы она все время так писала стихи, потом складывала их в кармашек фартука, из которого они выпадали, и терялись безвозвратно.
Тихо, капелька за каплей Наш земной уходит срок Серою болотной цаплей Средь нехоженых дорог. Думаю, что все успею, А остался только миг, Крыльев взмах — и, выгнув шею, Посылает птица крик. Неуклюжая нескладность С несуразностью в крови, Почему всего лишь странность Не прощается людьми? Серая сырая цапля, Как смешна она в болоте! Ничего не увидать в ней, Птицу видно лишь в полете. Навсегда ты улетаешь, Слез о нас не льешь напрасно, С нами ты родства не знаешь И земному не подвластна. В Царстве Божьем всех нас примут, "Прочь, юродивый!" — не скажут, И терзанья не отринут, В утешеньи не откажут. Сожалея об ушедших, Чья душа уже крылата, Нам с терпением и верой О живых подумать надо.КОЕ-ЧТО О ЧИСТОПИСАНИИ
Зимой Варя заболела по правде. У нее была высокая температура, опять к ней пришли странные сны. Они были очень отчетливые, красочные, осязаемые. Варька никак не могла отделаться от мысли, что все происходящее по-своему реально. Очень мешала мама, сидевшая возле ее кровати ночами.
В конце концов, Варька возмутилась и прогнала ее, попросив дать ей поболеть без надзирателей. У них теперь была большая квартира. Сережу Варя тоже отселила от себя, сказав, что она уже взрослая и должна иметь свою комнату. Сережка плохо засыпал на своем складном кресле. Он жаловался, что ему страшно, что он видит кого-то, кто всю ночь сидит у Варькиной кровати. В детстве папа набивал им на косяк двери большой гвоздик и приоткрывал дверь так, чтобы лучик света из большой комнаты падал на его шляпку. Гвоздик блестел в темноте комнаты холодной голубоватой искоркой, и Варя говорила брату, что это звездочка, на которую надо смотреть, чтобы заснуть. Но в ту зиму никакие звездочки Сереже уже не помогали, он уверял, что этот кто-то еще и поет по ночам, мешая ему спать. После болезни Варя и мама неделю дежурили у мебельного магазина по наводке одного из грузчиков, который у мамы поставил себе мост через весь рот, и купили для Сережи красивую тахту, которую Варька предложила поставить в большую комнату. Туда же она перенесла все модели его корабликов и аквариум с водяной черепахой. Сережины капризы тут же прекратились, ему понравилось быть хозяином собственной комнаты, из которой можно было даже выставить Варьку. И поэтому теперь ей уже никто не мешал уходить в свои сны.
* * *
Во время болезни Варвара написала роман из индейской жизни. Его читали запоем почти все девочки в классе. Там описывалась пряная жгучая страсть американской девушки и простого индейского парня. Главная идея романа заключалась в том, что мужчина, который скачет на коне, ночует в диком лесу, один на один борется с медведем и плещет виски в гнусные физиономии своих противников, оказывается беззащитным и трогательным в любви, проявляя, однако, высокий профессионализм в постельных сценах. Девочки передавали роман друг другу, ссорились, если кто-то из них задерживал его на лишнюю ночь, и даже всем классом чуть-чуть не побили одну умницу, которая взяла и выдрала самую чувственную любовную сцену из него, поленившись переписать. Эта возня не осталась незамеченной мужской частью класса. Как девчонки не скрывали Варькину писанину, ребята все-таки ее выкрали. У них началось тоже самое, но теперь девочки их класса, вместо просьб о списывании домашних заданий, получали записочки непристойного содержания с зарисовками женских гениталий. Дошел роман и до Иванова, он читал его прямо на уроках и громко смеялся.
* * *
— Итак, повторяю еще раз! Клевкин, перестань ржать! В выданных вам тетрадках с фамилией вашего одноклассника вы пишете ему все, что о нем думаете, подписываться не надо, пусть все останется в тайне. Чья тетрадка кому достанется, даже я не знаю. Я их тщательно перетасовала, сейчас всем раздам. Значит так, в пятницу вы пишете в чужой тетрадке правду о других, а в субботу вы получаете у меня свою тетрадку и читаете правду о себе.
— Кто писал — не знаю, а я, дурак, читаю! — громко сказал Иванов.
— Вот ты, Иванов, почитал бы о себе много интересного, но, по распоряжению педсовета, я, к сожалению, не имею права ни писать в тетрадях, ни читать ваши записи.
— Зоя Алексеевна! А чего тайны-то разводить? Если надо что сказать, так и пусть в лицо говорят! — подключилась Варька.
— Никто не сомневается, Варвара, что ты в лицо можешь сказать что угодно, любую гадость, но не все такие невоспитанные, как ты. Некоторые, знаешь ли, стыд и совесть имеют!
— Она, Зоя Алексеевна, и по морде дать может! Пусть уж лучше в тетрадках пишет! — выкрикнула какая-то серая математическая личность.
— Я напишу, напишу! Только я подпишусь, я не анонимщица.
— А чо это она, дык, будет подписываться, когда другие не хотят? — заволновался другой математик.
— Варвара! Тебе сказано — не подписываться! Все считает себя лучше всех! Может тебя на педсовет отвести, чтобы тебе там объяснили, если я тебе объяснить не могу?
Конечно, это была совершенно глупая затея. Педсовет школы решил, что формирование личности нового человека не может проходить без учета мнения окружающих людей, прежде всего, сверстников. Эти соображения должны были излагаться в обстановке полной секретности и безопасности каждого абонента. Слишком много драк случилось за последнее время в школе, которая должна была готовить интеллектуальную элиту города. Вот пусть-ка они на бумаге повоюют, как это и положено нормальным воспитанным людям. При этом определенный азарт вносила перетасовка тетрадей по известному рулеточному принципу: "На кого Бог пошлет!".
Как уж там тасовала Зоя Алексеевна эти тетрадки, но Варе которую неделю одна и та же сволочь писала левой рукой: "Варька! Пойдем е…ся!".
СОПЕРНИЦА
Еще с восьмого класса ее посадили за одну парту с ни чем не примечательной девочкой Ларисой. Она не мешала Варе писать на уроках стихи, выполнять задания, даже преданно отдавала ей тетради с конспектами классиков марксизма, которые Варвара не могла даже прочесть, не то, что законспектировать.
Поэтому Варя давала ей списывать математику и химию. "Призрак бродит по Европе…", — еще в прошлом году прочла как-то Варька и заранее было настроилась на захватывающее, полезное в практике общения с призраками, чтиво. Но дальше почему-то шло толкование, что европейские призраки, все, как один, являются призраками коммунизма. Из этого бородач делал выводы, совершенно не сообразующиеся с нормальным мыслительным процессом. Нет, чтобы написать нужную детям книжку о призраках! В библиотеках она ничего толком найти не могла ни о левитации, ни о призраках. Сплошная борьба пролетариата, которая Варьку уже начала утомлять. И ведь смешно, когда на собраниях некоторые проникновенно говорят об этой самой борьбе, а потом по углам рассказывают, что бабушка у них — графиня! И сам бородач не на пролетарке женился с обгрызенными ногтями. Бороться они собрались, а у самих нутро гнилое, завистливое…
Брехня все это! И ничего у Варьки из этих философских тетрадей в голове не задерживалось, хотя она по-честному несколько раз пыталась их конспектировать. У нее в голове была какая-то преграда тем знаниям, в истинность которых она не верила. Поэтому ее здорово выручали Ларкины конспекты, составленные без особой логики и ума, на одном девичьем старании. Лариса специально для нее стала их писать под копирку. Она запоем читала Варькины романы, по товарищески поправляла перекрученные лямки Варькиного фартука и снабжала ее отточенными карандашами. Кроме того, Варьке было спокойнее с Ларисой, которая постоянно шептала ей какие-то незначительные глупости. Ларискин шепот создавал вокруг нее некоторый круг интимного общения, иллюзию дружбы. Именно сейчас это было нужнее всего, потому что в Варькину жизнь незваной вошла соперница.
Варя уже хорошо узнала по личному опыту эту особую породу девочек-школьниц, что являлись непременными любимицами всех классных руководительниц. Конечно, колготки у них были без штопки и морщинок, а на рукавах школьной формы — аккуратные стрелочки свежей утюжки. Это была капризная школьная элита — вежливая, улыбчивая, с безукоризненно выученными уроками. Как правило, эти достоинства были исключительной заслугой их хлопотливых бабушек. Варька же могла полагаться только на себя. Была такая девочка и в новом классе — Марина. Она скоренько попыталась сколотить вокруг себя подходящий кружок, в одиночку, подобные ей, не ходили, им непременно нужен был соответствующий фон. Шестым чувством такие ласковые кошечки сразу и точно определяли, что Варвара — самая подходящая мишень для их нападок, и что их невинные развлечения за ее счет очень понравятся взрослым. Это был уже иной девичий возраст, в котором маленькие женщины кокетничают даже с учителем черчения, и с каждым молодым человеком дальновидно начинают говорить застенчивым полушепотом. Для Варьки было особенно опасно и невыносимо стать вдруг классным изгоем.
В этот класс их собрали из разных школ, где в прежние времена эти девочки были устоявшимися, незыблемыми отличницами. А теперь им, на равных с какими-то Варварами, приходилось доказывать свою принадлежность к определенным, отнюдь не элитным прослойкам. Требования были очень жесткие, особенно по естественным наукам, в которых бабушки с утюгами особо помочь не могли. Поэтому Марина, не смотря на титанические усилия, имела успеваемость гораздо ниже Варьки. И это перечеркивало в данной обстановке буквально все! Варька понимала, что пока она хорошо тянет в учебе, она полностью защищена от нападок Марины. А опасаться было чего! Марина придумала бы что-то по чище истерического рева после уроков, если даже ничего не зная о Варьке, она моментально прочла всю ее предысторию. Варьке повезло, что в этой школе непохожесть на других почему-то поощрялась. Вытекало это, наверно, из чисто прагматических задач школы, потому что люди, мыслившие нестандартно, и в математике добивались гораздо более высоких результатов. Поэтому никакие бойкоты и разборки после уроков Варе здесь не грозили. После уроков они шли не на диспуты, а на факультативы, чтобы там доказывать кто из них лучше. Марине оставалось только ненавидеть Варю и изводить ее колкими, обидными насмешками.
Но возникало еще одно обстоятельство, которое вызывало к Варьке враждебные чувства девчонок. Варя выросла в стройную смуглую девушку с выразительными зеленоватыми глазами и пропорциями храмовой танцовщицы. При удачном стечении обстоятельств она была бы не просто конкуренткой Марине, она могла бы оставить ее далеко позади. Поэтому Марина высмеивала каждое ее слово, каждый жест. Благодаря особому мастерству Марины и ее злому язвительному язычку, вокруг Варьки постепенно вырастал барьер отрицательного общественного мнения. Любой, кто выразил бы сейчас к Варьке живой интерес, должен был иметь смелость этот барьер преодолеть. Особенно выгодно Варя смотрелась в гимнастической форме. Но она стеснялась ходить на уроки физкультуры, где занятия их проходили вместе с мальчиками. Она очень плохо прыгала и скакала. Ее тело, казалось, было создано для плавных движений ритуальных танцев. Но оно еще и распаляло, волновало растущие мужские организмы. На уроках физкультуры мальчики внимательно следили именно за ней. Дошло до того, что и из соседних классов мальчишки стали сбегать со своих уроков, чтобы подглядывать за Варей. Старания Марины не пропали даром, каждый из них при этом вслух говорил гадости про Варю. Они поднимали на смех каждую ее ошибку, гогоча ломкими каркающими голосами. Однажды они так достали ее, что она в отчаянии даже пожелала им всем зла, причем, довольно профессионально и осознанно. Мальчик из соседнего класса, который более других донимал ее, громко доказывал свою беспредельную ненависть и крайнее презрение к ней всем встречным и поперечным, в тот же день был госпитализирован прямо из школы с острым приступом инфекционной желтухи. После тщательной медицинской проверки всех его соратников, болезненных уколов гама-глобулина, у них надолго угас интерес к ее длинным ногам и спелой груди. Более того, у многих, прошедших через городское инфекционное отделение, почему-то возник инстинктивный страх перед Варькой.
После этого случая и у Варьки на руках с неделю не проходили какие-то белые пятна, а по ночам снились кошмары. Она вдруг вспомнила душную южную ночь, кружку воды в своей руке, странный полет по ночной степи и ведьмины скапажи на дедушкиной племяннице. Ни черта подобного! Варя решила, что если ей удастся, то она будет только летать, но ведьмой не станет ни за что! Поэтому больше на глупость мальчишек и Марины выпады она не реагировала.
Лариса любила молча, неотрывно смотреть на Варю, которой было на это как-то наплевать. Но однажды она спросила, почему та так пялится на нее. Лариса засмущалась и сказала, что она очень бы хотела быть такой же красивой, как Варя, что, наверное, Варя будет артисткой. Марина, услышав их диалог, тут же повернулась к ним и громко, на весь класс прошипела, что Варе с такой смуглой рожей только по радио выступать. Класс зашелся в смехе. Это уже надо было карать. Варя внимательно взглянула на Маринину спину и задумалась.
* * *
Для начала следует выявить все слабые места противника. Противника без слабых мест не бывает. Если кто-то открыто пытается напасть на тебя, он уже несет в себе порок слабости. У него нет в душе мира, он слабее тебя. А если ему что-то надо от тебя, то именно в этом, в первую очередь, его слабость.
Нападают, чаще всего, по двум причинам. Во-первых, ты можешь с виду казаться легкой добычей, и в этом слабость твоего врага. Во-вторых, враг может бояться, что ты нападешь первым. И в его страхе тоже заложена слабость. Но самое главное, что при любом нападении враг более всего уязвим. Стой и жди, когда он откроется. Жди! И нанеси свой смертельный удар. Умение ждать — это высшая мудрость воина, хотя и выглядит иногда как слабость.
* * *
Конечно, и у Марины слабостей было много. Если не считать плохих оценок по тригонометрии и вычислительным машинам, то второй ее слабостью было тщеславие. Ей все время хотелось доказать окружающим, что она — красавица. Хотя она была недурна, но и только. Не было в ней того особого выражения, которое делает женщину неотразимой, красавицей. Излишняя расчетливость, зависть и высокомерие портили не только ее характер, но и простое личико с аккуратным носиком и большими фиалковыми глазами. Узкая ниточка губ выдавала Марину с головой. Не было в ней тайны, изюминки, но она располагала огромным преимуществом перед другими обычными городскими девчонками из их класса, измученными сопутствующими половому созреванию угрями. У нее была чистая нежная кожа деревенской девки. А это-то на прыщавом фоне девушек, постигавших математику, было огромным плюсом. Но Марина прекрасно понимала огромную значимость общественного мнения даже в таком сугубо индивидуальном и несколько физиологическом вопросе, как красота. Вот про Варьку вслух пара идиотов заявила, что она — некрасивая дура, значит, так оно и есть. А про Марину кое-кто скажет, что она красавица, так оно и останется. Для оттачивания коготков ею был выбран здоровенный парень по имени Толик. Толян был сыном известного партийного деятеля, тройки ему ставили и так, в учебе он по этой причине был не напряжен, а основным интересом его были девчонки. Варя чувствовала, что Толик уже даже имеет кое-какой опыт по этой части. Но к Варваре он не лез, откровенно ее побаиваясь. Нет, размаху, с каким действовала Марина, можно было только завидовать, а ее хваткой — только восхищаться!
Сам же Толик, с которым кокетничала Марина, кроме громогласного признания ее прелестей, быстро решил перейти от слов к делу. Несколько раз Марина едва удирала вместе с классом после уроков от его разлапистых объятий. А на следующий день, как ни в чем не бывало, опять начинала разогревать его до подходящей кондиции. Пусть все видят, как она это умеет! А вот эта калоша Варвара никого себе не подцепила и не подцепит, уж мы за этим проследим! Класс давно уже не обращал внимания на скулившую, уворачивающуюся от Толика после уроков Марину. Все расходились по своим делам, когда их обгоняла с визгом Марина, а за ней несся, уже только для удальства, Толя. А, может, это все и было затеяно ею для такой триумфальной пробежки по школьным коридорам? Естественно, что вне класса у Толика хватало ума только бежать за ней, не приставать. Но вот за Варькой никто не бегает, а за ней, Мариной, вон какие кони несутся!
Но настал день, когда Толик показал свою железную хватку. Он основательно зажал Марину, задрав ей подол, кричать она не могла, ее рот был закрыт Толиковым фирменным поцелуем. Раздирая ему лицо наманекюренными когтями, она все-таки вырвалась. С ревом она побежала в учительскую. Она не только была испугана и обижена, но жаждала дополнительной славы оскорбленной невинности. Было назначено доверительное собеседование с группой свидетелей происшествия из их класса, результаты которого должны были пойти на закрытое судилище над Толиком на педагогическом совете школы. Толик ходил бледный, сексуальная его жизнь явно пошла на спад. Варвару тоже пригласили, хотя ей было очень стыдно участвовать в этой разборке. Их классная руководительница, молодая женщина, муж которой служил в армии после вузовской отсрочки, испытывала некоторые нежные чувства к большому добродушному Толику, готовому утешить кого угодно. Но она боготворила и Марину, как послушную девочку, которая схватывала все с полуслова и была незаменима на комсомольских собраниях класса. Бедная учительница понимала, что Толян вылетит из школы с волчьим билетом. Она уже имела беседу с его отцом, который ей льстил и угрожал одновременно. Ситуация возникла сложная с многочисленными подводными течениями и подтекстами.
Варя, как всегда, опоздала. Она пришла, когда мальчики и девочки сидели, опустив головы, Марина не скрывала скромной торжествующей улыбки, Толик был на грани отчаяния, а классная, выбрав, наконец, приличествующий случаю тон, вовсю его клеймила. Выждав, когда учительница выговорится, Варвара взяла слово. Толика поклеймили уже все мальчики под поощрительными взглядами Марины, кроме Иванова, мрачно молчавшего в углу, из девочек она была первой. Толя только дернулся досадливо, когда она начала говорить, ему было уже все равно.
— Я вот совершенно не понимаю, ради чего мы здесь собрались? Конечно, одна из нас вела себя крайне недостойно, но обсуждать поведение девочек в присутствии мальчиков как-то неприлично.
— Варя, ты что такое говоришь?
— Скажите, Зоя Алексеевна, я что, уродка?
— Да нет…
— Да или нет?
— Нет, Варя, ты не уродка.
— А как Вы считаете, почему мне никто из мальчиков не задирает прямо в классе подол? А что вы все молчите? А то, может быть, кто-нибудь хочет задрать мне подол прямо сейчас, здесь?
Собрание растерянно уставилось на Варю, даже Толик посмотрел на нее оторопело и оценивающе. Иванов тоже глянул с интересом, он уже понял, куда она клонит.
— Вы знаете, к другим девочкам за все время никто с такими вещами не приставал. Если Анатолий такой растленный тип, то как объяснить, что Люду, которой он покупал регулярно коржики в буфете до того, как им заинтересовалась Марина, он принародно не тискал? Я хочу сказать, что Марина, безусловно, очень симпатичная девушка. Но кроме этого, каждая из нас должна вести себя так, чтобы ей не задирали подол в общественных местах.
— Но ведь это Толик… он оскорбил Марину…
— Да бросьте! Еще не хватало, чтобы она сама себе подол задирала! Но она дразнила и намеренно доводила Анатолия до срыва в течение продолжительного времени. А тут она говорит, что он ей совсем не нравился, что он сам к ней приставал. Это, может, мальчики не совсем понимают, но все девочки видели, кто к кому лез! Сейчас она с другим такое же начнет вытворять, так мы другого дурака разбирать начнем? Я вот, например, не желаю быть пассивной свидетельницей ее разнузданного поведения! Вы бы, Зоя Алексеевна, поговорили об этом с ее мамой, с ней наедине, прочли бы всем нам лекцию о половом воспитании. Сегодня ей подол задирают, а завтра насиловать прямо в классе начнут? И что? Какие выводы-то нам, девочкам, из этого делать? Ведь речь-то здесь не о кодексе строителя коммунизма, а о девичьей скромности!
У Марины просто челюсть отвисла, Варвару она явно недооценивала. Зоя Алексеевна и Варя серьезно, на равных обсуждали ее поведение прямо при ней, говоря о ней в третьем лице, а Толик, для которого уже забрезжил луч рассвета, убежденно им поддакивал. В самом начале собрания Марина решила не плакать, а войти в образ оскорбленной гнусными домогательствами гордой красавицы. На некоторых это подействовало безотказно, и Марина даже начала перестрелку глазками. Все шло отлично, но только до выступления Варвары. Теперь Маринин образ приобретал несколько иное значение, но ничего уже сделать было нельзя, ситуация уже вышла из-под ее контроля. Толик был уже не злодеем, а беспомощной жертвой. А Марина — развязной притворщицей из-за недостатка полового воспитания. На том и порешили.
Если бы на этом можно было поставить в их отношениях точку! Но, как вы понимаете, до этого были только цветочки, и лишь теперь Варя приобрела по настоящему страшную врагиню. В этом конкурсе красоты и девичьей скромности Марина полностью подставилась ей. Но второго такого случая могло и не представиться. Ведь еще древние говорили: "Переживи собственную победу!" Варьке бы надо было понимать, что расплата грядет, но в жизни было много других интересных вещей, кроме ожидания следующих вражеских вылазок. Да и какой Марина ей враг! Жалко ее теперь, она, говорят, потом даже плакала. Но главное, после собрания Иванов поглядел на нее с восхищением! Он потоптался у входа, хотел что-то сказать, а потом вышел. А Варька так и стояла, изображая саму девичью скромность. Жаль, что она никого не умела разговорить и раззадорить так, как это всем только что продемонстрировала Марина
РАКУШКА
Условные и безусловные переходы, создание вычислительных циклов стали для Варьки после болезни непередаваемым кошмаром. Что-то очень важное пропустила она на занятиях по вычислительной технике, а учебников по ней никаких не было. Предмет этот вел по своим собственным программам преподаватель из института. Варька искала эту недостающую деталь в тетрадках Ларисы, но и та совсем не понимала предмета. Варя просила объяснить часть пропущенных ею уроков девочек, которые хоть как-то разбирались в том, что говорил преподаватель, но чувствовала, что каждый раз проскакивает мимо какой-то важной мысли и не может ухватить всю картину. Да и этих девочек ставила в тупик любая новая задача. Самым страшным в этой ситуации было то, что занятия по вычислительной технике были построены у них в школе на институтский манер — они были сгруппированы парой по два урока. А преподаватель — не изработавшийся на институтских хлебах сорокалетний мужчина в соку почему-то принялся вызывать каждую такую пару к доске одну Варьку. Он давал ей задачку, над которой она безуспешно мучилась два долгих урока подряд, чувствуя спиной, как весь класс потешается над ней. В переменку Варя так и стояла у доски, а Марина неслась в соседние классы с новостями, поэтому вся школа доподлинно знала, как обстоят у Варьки дела по вычислительной технике. Преподаватель не помогал ей, он стоял то у окна, то садился за свободную парту, откровенно рассматривая Варьку со всех сторон. На остальных никакого внимания он не обращал, поэтому расшалившиеся дети бросали в нее шарики жеваной бумаги и кусочки ластика. В конце пары он с улыбкой и какой-нибудь новой смешной шуткой на Варькин счет ставил ей двойку. В журнале против ее фамилии уже стоял ровный рядок из шести двоек, и до конца четверти ей оставалось заработать еще четыре. Не смотря на то, что больше ни у кого не стояло ни одной оценки, их классная руководительница начала исподволь роптать на нее и готовить Варины документы к отчислению из математического класса. При этом выбор у Вари был невелик. Можно было бы перейти в любой обычный класс этой же школы. Вот только все ученики этих классов, непринятые в свое время в элитные математические классы, со злой иронией, плохо скрывавшей зависть, обсуждали Варькины вычислительные подвиги. А еще можно было с позором уйти из этой школы, куда она попала лишь по счастливому стечению обстоятельств.
Но большую обиду Варе причиняло то, что ни Марина, ни Иванов, ни кто-то еще из их класса так и не решили ни одной из задач, за которые получила двойки одна Варя. Они и спрашивать-то боялись у своего педагога, потому как ему могло неожиданно прийти в голову на следующую пару вызвать к доске их, а не Варьку. В педагогическом коллективе школы он не числился, вел занятия так, как считал нужным, не придерживаясь всяких там планов урока, узких целей и широких задач. А в институте работу в школе преподаватели рассматривали как нудную обязаловку, необременительную шабашку. Он и Варе ничего не объяснял. А на ее отчаянные вопросы сквозь слезы он, в вольной позе облокотившись на подоконник, с улыбкой отвечал еще более странными вопросами: "А откуда же я знаю, почему ты, Ткачева, ничего не понимаешь? Думаешь, наверно, совсем про другое, а? Думаешь? О чем думаешь-то, Ткачева?"
Варька действительно думала о другом. В ожидании нового позора на вычислительной технике, она уже даже не могла сосредоточиться ни на одной из задач, она думала только о том, каким образом ей покончить с собой.
Вычислительная техника стояла по расписанию в четверг. Ночью в среду она села писать записку маме и папе, потому что с утра, до уроков она решила броситься с четырнадцати этажного дома, стоявшего у края городской площади. Она уже прошлась накануне по незадымляемой лестнице этого дома и побывала на его открытых лоджиях. Палку с собой она решила не брать, потому что теперь ей никуда не хотелось лететь. Она в последнее время долго куда-то падала, ей только надо было поставить в этом падении точку.
Слова в записке как-то не складывались, она понимала, что ее родители, знавшие войну, голод и еще кое-что по страшнее, не поверят, что можно покончить с жизнью только из-за задач с циклами. В прошлом году какой-то участок папиного управления случайно порвал правительственный кабель. Кабель был очень секретный, поэтому о его местонахождении не знали и инженеры телефонных сетей города, выдавшие ордер на земляные работы. Папу долго допрашивали в КГБ, временно приостановили его членство в КПСС, грозили снять с работы и дать ха-а-роший срок. Папа и мама неделю не спали ночами, но никто из них с собой не кончал, наверно, из-за Варьки с братом. Потом все обошлось, папу оправдали, его только заставили выплатить шесть окладов, поэтому он опять, как после двух теплотрасс, затянутых грунтовым плывуном, сидел полгода без зарплаты. Нет, она решительно не знала, как объяснить родителям свой последний полет. Она плакала и терла без того уже красные глаза, но найти подходящих слов утешения папе и маме не могла. А, кроме того, ее еще что-то смутно тревожило в этой ситуации, что-то темное, нехорошее, что непременно всплывет наружу после того, как ее не станет. Но как только Варька пыталась сосредоточиться на этих мыслях, они ускользали от нее, как эти проклятые вычислительные задачи.
Беда Варьки заключалась в том, что слишком долго в своей жизни она махала кулаками, так и не увидев грозной силы своего главного оружия. Лоб в лоб привыкла она встречать все невзгоды своего недолгого пути, так и не научившись заходить с флангов. И никто не потрудился ей объяснить, что одного лишь ее взгляда зеленых глаз и ласковой улыбки малиновых губ было бы достаточно, чтобы вся эта дикая карусель с условными и безусловными переходами вдруг крутанулась в ее сторону. И уж не Марина, которая лучше ее понимала своим рано повзрослевшим умом, что скрывается за упорным вниманием их преподавателя к Варьке, кинулась бы сейчас ей на помощь. Никого Варя не просила о помощи, да и кто бы смог сейчас ей помочь? Но она совсем забыла о двух мужчинах за своей спиной, умудренных опытом давно прошедшей жизни. Она вздрогнула, когда рука старшего из них легла на ее плечо. Рука оказалась на редкость тяжелой и до ужаса реальной. В сгустившейся тьме вокруг горевшего ночника эти двое вовсе не были прозрачными, а на стене колебались их длинные тени. Человек знаком руки позвал ее за собой. В другое время она бы, конечно же, не пошла. Но сейчас она молча вышла за ними в лунную, без единого облака ночь.
* * *
Она сидела в странном доме с окнами, на которых вместо занавесок висели пожелтевшие газеты. Стены между стеллажами книг были оклеены вырезками из журналов, создававших сплошной пестрый коллаж. На них запуски ракет чередовались с фотографиями машин и голых женщин, видами Каракумского канала. Над разложенным диваном, на котором кто-то спал, укрывшись огромной медвежьей шкурой, висел некогда красивый, траченный молью ковер. Возле спящего у дивана стояла недопитая трехлитровая банка разливного пива.
Мужчина зашевелился, зевнул, потянулся выключить горевший над ним торшер и с удивлением уставился на Варьку. Она сидела в кресле напротив него в полупрозрачном хитоне с золотым шитьем по краю. Ее темно-каштановые волосы азиаты убрали под длинную заколку резной слоновой кости. Варя потерла глаза, их еще щипало от недавних бурных слез, и дюжина тонких дутых браслетов на ее руках издала нежный переливчатый звон. Мужчина натянул на себя шкуру, он был совершенно нагой. В отчаянии он откинулся на подушку и уставился в потолок.
— Вячеслав Алексеевич! Я очень прошу вас объяснить мне самую суть все этих задач, и, если можно, дайте мне до завтра какую-нибудь литературу по этому вопросу, — сказала Варя скорбным, усталым голосом.
Вячеслав Алексеевич беспомощно посмотрел на свой портфель, стоявший у письменного стола. Добраться до него без штанов при Варьке он решительно не мог. Не смотря на то, что хитон практически не скрывал ничего того, что он силился раньше рассмотреть в Варе под коричневым форменным платьем, он старался отвести от нее взгляд, потому что портфель ему был подан одним из двух суровых мужиков, в обществе которых она находилась. Они были с виду совершенные узбеки с наглыми свирепыми физиономиями. Возражать что-либо не имело никакого смысла, потому что на кожаных поясах у них висели огромные узкие мечи.
Сейчас он очень жалел, что в последнее время несколько злоупотреблял спиртными напитками. Неужели теперь приступы белой горячки начнут трясти его и с пива? Варя сидела близко, как же она была хороша… Доступна и красива. Вот чего ей так не хватало в реальности — доступности. Жаль, что рядом с ней сидели на корточках два чучмека и не сводили с него глаз.
Конечно, Вячеслав Алексеевич к занятиям в школе не готовился вовсе, у него была большая загруженность на кафедре и сложная личная жизнь. До задач, диктуемых Варе у доски, он не успел прочесть классу несколько важных для их решения лекций. Просто забыл, закрутился, одним словом. В параллельном математическом классе он вел другую тематику, а с Вариным классом все шло как-то наперекосяк. Когда Варя болела, у него случилось два крупных запоя, в период которых он совсем забывал, что он там кому давал и за сколько. Но его всегда неизменно выручала кафедральная методичка, откуда он черпал все свои задания. Объяснять среди ночи решения организованных циклов практически голой девочке, обвешанной сверкающими драгоценностями, было выше его сил, поэтому он просто достал из портфеля методичку и молча сунул ей в руки. Он с ужасом смотрел, как Варя и этот ее знакомый просачиваются сквозь стену, когда другой ее друг замахнулся на него мечом. Вячеслав Алексеевич зажмурился, ожидая немедленного удара, но тот, другой, только дико что-то прокричал ему в лицо короткими гортанными словами, резко вложил меч в ножны и ушел за Варькой.
Утром Вячеслав Алексеевич проснулся совершенно разбитый. Кроме него самого разбитой оказалась и банка с остатками пива. Портфель валялся тут же с выпотрошенным на пол содержимым. Заветная методичка лежала как-то на отлете, чуть в стороне. Голова у него была совершенно пустой и гулкой, зря он так надрался вчера, видит Бог, зря. С ужасом он вспомнил, что как раз сегодня — четверг, и у него стоит пара в школе не в восемь тридцать, как в институте, а прямо с восьми утра. Единственным спасением для него сейчас была эта пара часов полного забвения где-нибудь на последней парте… Только надо вызвать к доске эту…ну, такую… Ну, есть там у них такая… с развитой грудью…
* * *
Вообще-то Марина думала, что Варька не посмеет больше прийти в школу, и в таких вещах она редко ошибалась. Но утром Варя все-таки вошла в класс.
— Ну, можно два урока заниматься своими делами! Опять будет этот цирк с тупыми животными, — громко сказала Марина своей подруге. Обычно она была более остроумна, но шутки, заготовленные ею, касались сегодня не присутствия, а отсутствия Варьки. Нет, Варвара была положительно тупа. Уже после двух двоек ей следовало бы просто прогуливать эти уроки, любой разумный человек поступил бы именно так. Но продолжать ходить и ходить, получать эти двойки и получать, стоять по два урока и стоять… Дура!
Варя молча сидела за своей партой и смотрела только в свою тетрадку, под глазами у нее залегли темные круги. Ни на чьи вопросы она не отвечала, даже Ларисе, которая участливо спросила ее о самочувствии. Все привычно встали, когда в класс вошел Вячеслав Алексеевич. Варька, не садясь за парту, молча направилась к доске и взяла в руки кусочек мела. Класс зашелся в смехе, Вячеслав Алексеевич, чувствуя какой-то подвох, посмотрел на Варьку, но она стояла очень сосредоточенная, опустив глаза. Он пожал плечами и, продиктовав ей очередную задачу из методички, отправился досыпать за последнюю парту. Класс бесновался как всегда. Проснулся Вячеслав Алексеевич от гулкой тишины, прерываемой только тихими просьбами к Варе чуть подвинуться и не загораживать доску. Весь класс торопливо списывал с доски Варькино решение. Оно было абсолютно верным, просто классическим. Что-что, а уж такие вещи математические детки чуяли и без двух пропущенных лекций. Гордость Вячеслава Алексеевича была несколько уязвлена, поэтому он дал Варе еще одну задачу, потом еще одну, еще… Условия он уже придумывал сам на ходу, но и Варька с ходу выдавала решения. Появились первые смешки, а потом класс грохнул, но не над Варькой, а над ним. Нет, он не был глупцом! Он выжал буквально все из совершенно безнадежной для себя ситуации. Повернувшись к классу, он громко сказал: "Я знал, что Варя талантливее всех вас! Знал! Но никак не получалось у меня раскрыть ее… И вот ракушка раскрылась сама собой, а там — ослепительная жемчужина! Варвара, я исправляю все твои двойки на пятерки. Дай, я пожму твою руку…"
Дети смотрели на него с обожанием, его справедливость вызвала у них наивный восторг. Но едва он прикоснулся к белой от мела Варькиной ладошке, как тут же отдернул руку, потому что в его ушах раздался кошмарный гортанный вопль того дикого азиата, который снился ему всю ночь.
Варя не обратила на его чествование никакого внимания, она торопилась на свое место. Только бы успеть! В его хвалебной речи прозвучало одно гадкое слово — «ракушка». Вернее, слово это было очень опасным, оно являлось крайне удачным для вечных, прилипавших на всю жизнь кличек. Если она сейчас не опередит Марину, то скорая на язык соперница непременно воспользуется этим случаем, чтобы окончательно свести с нею счеты. Но Марине было пока не до острот, она тоже торопилась списать последнюю задачу, которую Вячеслав Алексеевич уже стирал с доски. Он наконец-то решил дать детям новый материал. Повернувшись лицом к доске, он услышал, как Варька громко сказала Марине: "Ну, что списала? Ракушка… пустая! Приоткрытая!"
Она успела, успела! Теперь не она, а Марина навсегда стала для всех параллельных классов «ракушкой». Причем некоторые, после той истории с Толиком, вкладывали в словцо и иной, скабрезный смысл.
АМОРАЛЬНЫЕ МЫСЛИ
Раз в неделю Варя садилась писать письмо Леониду. Такая у нее сложилась традиция. Письма за раз не получались, она долго их переписывала, исправляла ошибки. А всю неделю она записывала все важные, на ее взгляд, мысли, которые приходили ей в голову. Думалось почему-то особенно хорошо на стереометрии. Но с математикой эти мысли не особенно вязались.
В комсомол в старой школе Варьку так и не приняли, поэтому в новой ей навязали массу поручений, в основном, по художественной части. Рука у нее была набита, и она на мах выдавала двухметровые лозунги и стилизованные контуры Кремля. Она все думала, почему даже в их математической школе так много внимания уделяется этой самой политической грамотности и моральному кодексу строителя коммунизма? Бабушка рассказывала, как ее брат Григорий по слогам вслух читал в курятнике передовицы из районной газеты, потому как из хаты его с этим чтивом выставила жена. Так у них куры нестись тогда перестали. А что про людей говорить, если инструкторши из райкома комсомола, которые к ним школу ходят, сплошь незамужние… И к чему такая мораль?
Поэтому одно из писем Леньке она посвятила полному отрицанию общепринятой морали. Самой ей это письмо очень понравилось, она так растрогалась, что даже подарила Ларисе от чистого сердца транспортир из готовальни, украденной когда-то Волковым.
Здравствуй, Леня!
Две недели оформляли школу к выборам. Каждый уголок кумачом занавесили. А кто же это читать-то станет? Никто! Призывы, в принципе, хорошие, но вот когда это все идет под давлением сверху, то мораль эта вызывает только внутреннее стеснение, неудобство. Как будто у тебя прямо в классе вшей нашли. У меня самой даже несколько лозунгов сложилось на эту тему. Например: "Мораль на государственном уровне — есть полное моральное разложение на уровне бытовом!"
Государство все пытается втолковать нам свою мораль, даже не самую худшую и далеко не новую. Но эти моральные принципы изложены, так путано и расплывчато, так оторваны от нашей жизни и людской природы, что становятся заведомо невыполнимыми. Я тут кодекс моральных принципов строителя коммунизма читала, так там десять принципов. А чем друг от друга отличаются — так и не поняла. Мне бабушка смертных грехов называла всего семь штук, а тут — десять!
Нет, принципам возможно следовать только в том случае, если их немного, ну, не больше трех-четырех. И сформулированы они кратко — как догма, как приказ. И нечего было огород городить со всей этой марксистско-ленинской философией, которая в нашей жизни — не пришей кобыле хвост называется. И бабушка говорит, что никто из людей после Нагорной проповеди ничего нового не сообщит, а все партейные народ учить берутся, потому, как работать не хотят. Но вот меня что тревожит, ведь Иисус никому свою проповедь не стал навязывать силком, почему же они-то так в глаза со своей моралью лезут? На истории учитель нам сказал, что Иисус — первый коммунист. Но те, когда хлеб на всех делили, того, кто этот хлебушек вырастил, не спрашивали! А что вышло-то? Никого ведь не осчастливили поделенные на всех богатства… И даже не потому, что человек не может поделить все поровну, по справедливости, его природа внутренняя для этого не назначена, хоть крохи к рукам да прилипнут…
Но Иисус мог всех накормить семью хлебами, потому что только от сердца оторванная горбушка может насытить голодного. Каждый, по промыслу Божьему, должен делать выбор только за себя. А они за нас думать лезут. И очевидно, что и выбор между Добром и Злом для любого человека разбивается на множество мелких, незначительных, с виду, шагов, которые надо совершать ежедневно, ежечасно и только за себя! И, знаешь, удивляет, что многие люди, понимая, что давненько уже бредут не в ту сторону, при этом ссылаются на Время, как будто оно когда-то было иным! Времена, дескать, таковы, поэтому и мы вот такие!
У одного английского писателя я вычитала такую мысль, которая и будет моим моральным выбором на все времена: "Добро — всегда добро, даже, если ему никто не служит. Зло — всегда зло, даже, если все кругом злы". Именно так! Иначе куда-то уходит, ускользает смысл жизни. Ведь какой-то смысл был в том, что мы пришли в этот мир? С уважением, Варя.
ВАРЬКИНО РАБСТВО
Откуда он взялся этот Иванов? Теперь Варьке приходилось совсем туго. В ней появилась неуверенность, скованность в движениях и поступках. Теперь ей надо было соизмерять их не только с мнением двух призрачных азиатов, которое явно читалось на их высокомерных узкоглазых физиономиях, но и с тем пристальным оценивающим взглядом, что внимательно следил за ней с последней парты. Иванова звали Александр, но к нему иногда обращались и несколько глумливо — Шура. Варька так его бы назвать не могла, она слишком хорошо понимала, что скрывается за коренастой фигурой с непропорционально длинными руками. Когда мальчики хотели его обидеть, то именно эта кажущаяся непропорциональность его внешности была предметом насмешек. При всей приземистости облика Иванов был одним из самых высоких мальчиков в классе. И по тому, как именно его настороженно изучали редкими острыми взглядами два призрака, Варька догадывалась, что за угловатой внешностью скрывается опасный противник, настоящий воин с кошачьей грацией и неутомимостью в бою.
Казалось, эти два призрака только и пытались внушить ей: "Держись подальше от него! Спасайся! Не подходи к нему близко!" Но напрасно. К своей шестнадцатой весне Варя окончательно решила для себя, что Иванов и есть тот самый ее единственный человек. Да, из всех он один был ей по настоящему интересен. А чем именно он ей интересен, она старалась не задумываться. Хотя и к умозаключению об исключительной важности для нее этого юноши она пришла путем долгих логических выводов. Оставалось только полюбить его на всю оставшуюся жизнь, как водится, но именно это почему-то никак Варьке не удавалось. Она восхищалась его глубокими ответами на уроках, его высокомерным взглядом, его пренебрежительным отношением к классным мероприятиям, к мнению учителей и однокашников, но любить его только за это она не могла. И еще это тихое тоскливое чувство, которое шевелилось где-то у Варьки в глубине души… Оно останавливало ее, шептало, что никогда она не сможет повелевать Ивановым или быть хотя бы на равных, не будет она даже его вассалом, и только рабская доля уготована ей этой душой. Но, смущавший Варю, голос заглушался мощными толчками юной крови в висках. Нет, она не будет одинока! Не будет она больше одна! И пусть Варька даже не знала, как подступиться к этому самому Иванову, она твердо взяла курс на его покорение. Любить, так любить Иванова, а не Игоря, который каждую перемену прятался от девочек в туалете. К черту! Ей шестнадцать лет, и скоро весна! А весной она обязательно полетит, и у нее будет этот странный интересный друг!
* * *
Был теплый весенний вечер, Варя вышла из школы задумчивая. Она никак не могла взлететь. Может быть, она делает что-то не так? Или она неправильно выбрала палку, доверившись своему чутью? Вдруг кто-то, подошедший к ней сзади, взял портфель из ее рук. Она оглянулась и увидела Иванова, а поодаль остолбенело маячил весь их класс вместе с Мариной.
Они прыгали через лужи, мягко светило садившееся солнце, отражаясь в стеклах домов, и Варе впервые за много-много лет не было одиноко. Под звон капели и забавную болтовню началось Варино рабство.
Это была не тривиальная дружба и детская любовь, которой можно было бы с умилением посвятить оставшуюся часть повествования. Иванов сделал Варькину жизнь мучительно разнообразной. Когда Варя сидела, надувшись, он подходил и, ласково заглядывая ей в глаза, о чем-то заговаривал с ней, ждал ее после школы, но как только Варька воспаряла в уверенности особой значимости для него, он, к неописуемой радости ракушки — Марины, резко обрывал с ней знакомство.
И выражался при этом как-то странно: "Неужели ты сама не чувствуешь, что у нас с тобой никогда не может ничего быть?" Варя тоже чувствовала что-то подобное, поэтому твердо решала больше к нему не подходить и постараться быть гордой. Но на следующий день он, как ни в чем не бывало, опять был рядом. Он не давал ей сосредоточиться, обдумать что-то важное в отношении его. Опять начиналась эта петрушка — жестокий любовный поединок без всякой любви. Никакой определенности в их отношениях не наступало. Варя сама себя не понимала, но что-то помимо ее воли властно тянуло к нему. И еще он, в отличие от других, почему-то так хорошо ее понимал! Хотя каждую ее мысль он жестко анализировал и цинично высмеивал.
Бывая у нее в гостях, Иванов решительно отвергал ее попытки угостить его даже чаем. Варя откуда-то помнила, что все древние народы придерживались правила не делить трапезу с врагом. Но какой же она ему враг? Она так молода, свежа, хороша собой! Конечно, они просто обязаны любить друг друга, а иначе тогда зачем все это? Во всех книгах и кино это выглядело именно так, как у них: встретились, поняли друг друга, полюбили! Что поняли-то? Что же ей надо было понять? Иванов тянул ее времечко, а Варя все не могла расстаться с надеждой его покорить.
Как-то Иванов сидел у нее в комнате. Он уже по-свойски приходил к ней, не согласовывая время визитов, но Варя была рада ему. Он был неизменно интересен. В тот день ему попался на глаза зеленый плюшевый альбом, и он внимательно изучал Варины детские фотографии. Дойдя до натуры в никелированной кроватке, где она провела все младенчество, он с желчным сарказмом неожиданно обрушился на это простенькое фото.
— Ах, мы росли принцессами, у нас кроватки были с плюшевыми накидками! Оно и видно, что выросло!
Варька смеялась, но он был весьма серьезен.
— А я, милая барышня, кроватки не имел! Нас тогда отец бросил, поэтому я в это время спал в табуретке!
— Саша, именно поэтому нас мучают непреодолимые противоречия! Но если бы я знала, какое влияние на меня окажет младенческое пребывание в кроватке, то я бы лучше спала в табуретке!
С этих пор он, если она что-то не понимала или говорила, по его мнению, не то, он сразу же попрекал ее этой пресловутой кроваткой. Они часто ругались, и Варя насмешливо звала его «табуреточником», а он ее — "принцессой на панцирной сетке".
Однажды они сидели, как обычно, у нее в комнате. Сумерки сгустились, и у Варьки необыкновенно зажглись ее зеленые глаза. Саша вдруг схватил ее и стал грубо целовать прямо в рот. Конечно, Варя давно мечтала об этом моменте, ждала его. Из разговоров с девочками она знала, что эта гадость и означает окончательную победу. Но происходившее с ней было просто омерзительно. Все внутри нее умерло, окаменело, она хотела только одного, чтобы Иванов скорее ушел. Ей было плохо и на следующий день, поэтому она даже не расстроилась, когда Иванов вдруг опять перестал с ней здороваться.
Их совместные хождения по мукам стали известны всему классу. Неунывающая Марина громко хохотала над тем, что наконец-то Варвара нашла такого же дурака, перед которым ей и юбчонку-то задирать бесполезно — он смотреть не хочет! Действительно, Саша и Варя были с ярко выраженными отклонениями, и роман их был с ярко выраженным приветом.
* * *
— Саша, я красивая?
— Да, так себе…
— Так что же ты опять пришел, целуешь меня?
— У тебя на лице написано, что ты хочешь, чтобы я тебя поцеловал. Мне просто очень жаль тебя и очень скучно.
— Значит, это просто жалость и желание развеяться… Странно, ведь я тебя тоже целую из жалости, я себя понять не могу! И тебе совсем-совсем это неприятно?
— Мне все равно.
— Ты либо лжешь, либо хочешь сделать мне больно. Можешь радоваться, ты причинил мне боль.
— А ты бы хотела сама причинить боль мне? Со мной у тебя этот номер не пройдет! Тебе меня на крючок не подцепить! Не разжалобить!
— Послушай, почему ты можешь быть добрым со всеми, только не со мной? Что же ты все ходишь ко мне?
— Хорошо, завтра я пойду к Марине.
— Иди куда хочешь…
— А ты забавная!
— Нет, милый, я не только забавная, я еще красивая, чувственная! И я все в тебе слышу! Ты просто трус! Как же ты боишься боли, которую я могу тебе причинить! Какая-то в тебе любовь-то странная… И любить хочешь, и мучить!
— А тебе — нет? Ну, признайся, ведь это ты хотела бы сейчас меня терзать. Ты бы меня в мелкий шашлык изрубила, если бы я только выказал перед тобой слабость!
— Нет, я бы, наверно, обрадовалась, потом тоже сильно полюбила тебя. Я в этом уверена, я полгода внушаю себе к тебе любовь, изо всех сил стараюсь полюбить!
— Врешь! Ты с первого дня следишь за мной! Ты еще тогда влюбилась в меня, как кошка! А теперь ты за мной бегаешь, ждешь у школы, напрашиваешься на эти дурацкие проводы. Если бы ты знала, как ты надоела мне!
— Что-о? Ты ведь… ведь сам сегодня пришел ко мне… Я тебя не звала… Я не хотела… Уходи-и…
— Ах, эти вечные твои слезы! То она смеется, то плачет… Не плачь, пожалуйста, ну, не реви… Я не хотел, Варя, не надо… Ну, успокойся, вот платок, вытри слезы, давай, поговорим о чем-нибудь другом, что тебя на любовь-то все тянет?
— Я же не старуха еще, Саша! Сам меня целует, вот меня и тянет на любовь… Не надо, пусти. Сначала он обижает, а потом, как маленькую, по головке гладит!
— Нет, ты не старуха… Варя… Ты очень даже не старуха. Знаешь, в тот день, когда я подошел к тебе… Мне в тот день Столбов сказал, что, наверно, решится ходить за тобой. Разве за старухой он бы решил ходить?
— И ты пошел, мой портфель выхватил, чтобы Столбику помешать? Как было бы славно, если бы сейчас я сидела с милым простым Столбиком! Ой, мне больно, волосы… волосы отпусти!
* * *
— Ты сегодня такую глупость сказала на литературе…
— Какую?
— Ну, когда мы разбирали партийность в литературе и значимость исторического подхода, ты вдруг брякнула, что эти ужасные исторические картины выгодны партии только в том, что все начитаются, например, о крепостном праве и жить без парткомов не захотят. Как ты выразилась, «забоятся»!
— Что думала, то и сказала! Сам-то даже меня боишься, любовной боли струсил! Все вы трусы! Вы только другим не боитесь больно делать! А я не боюсь говорить, что думаю! И никакой мне партком для этого не нужен!
— Вот, именно! Я все не могу понять, что у тебя за котелок на плечах, что такие мыслишки варит?
— Какой есть.
— Да, уж! А помнишь, как ты весь класс насмешила со своими "ка градусов"? Не знать в твоем возрасте, что эта приставка обозначает не "ка градусов", а "такой-то и компания", вообще смешно!
— Неужели вам больше не над чем смеяться в жизни? Ведь вокруг столько смешного, но вы боитесь на это глаза поднять! Да, я этого не знала! Я ведь живу сама по себе, только книжки читаю, я уверена, что и родители мои этого не знают. Мне и говорить-то не с кем было до тебя, вот глупости и получаются, когда я рот раскрываю.
— Ну, наконец-то ты со мной согласилась! Причем, как ты точно заметила, у тебя всегда получается глупость, как только ты раскрываешь рот! Надеюсь, ты теперь понимаешь, что я никак не могу тебя любить? Пробовал — не получается! Никакой логики, мысли, только дикие чувства, которые ты и высказать-то не можешь. Смешно, мой старший брат назвал тебя — "изящная брюнетка"!
— Действительно, это все просто смешно…
— Вот и поговори с тобой, давай хоть целоваться станем. Ну, не злись, я весь день хотел тебя поцеловать, мне просто бывает неприятно, когда все над тобой смеются… Ты так легко подставляешься! А мне это неприятно.
— А мне все равно. Хотя, наверно, если бы я была мужчиной, то постаралась бы защитить девушку, которую мне захотелось бы поцеловать. Я бы не позволила, чтобы кто-то смеялся над ней при мне. Да, я бы ее защитила!
— Мне противно, когда ты говоришь, что хотела бы быть мужчиной! Ты бы была тряпкой, а не мужчиной! Защитить! Чтобы и надо мной все смеялись? Уж такого ты от меня не проси. Мне слишком дорого далось мое место, чтобы вставать вровень с тобой. Нет, я ничего такого не имел в виду, не плачь… Иногда все обстоятельства против тебя, и иногда ты не властен…
— Ты будто оправдываешься передо мной, Саша? Успокойся, я знаю, что никогда ты мне не будешь ни защитой, ни опорой. Почему-то я очень хорошо это знаю, поэтому между нами ничего и не может быть, это ты верно подметил. Столбик, он хоть и гораздо слабее тебя, но когда-то он хотя бы попытается, если, конечно, решится… Не смейся! Ведь ты гораздо сильнее любого Столбика, но ведь и ты, даже любя сильнее в тысячу раз…
— Замолчи! Ракушка права — ты дура!
— Значит, горячо… Значит, я попала почти в точку!
— Прекрати! Отстань, я ничего не хочу слушать, я ухожу домой, закрой дверь. Подожди, дай я тебя поцелую…
— Нет, с меня на сегодня хватит, иди-ка ты домой, Саша. Мне уроки надо учить, а после тебя только выть хочется.
* * *
Это было рабство. Выгнав Иванова, Варя на следующий день торопливо собирала учебники, чтобы пойти с ним домой, а он садистски оттягивал свой выход из школы. Но как только она переставала следовать за ним, он являлся к ней домой со странными поцелуями, от которых веяло смертью, но и без них Варя уже не могла. Конечно, она показала ему свои стихи. Безнадежно проиграв, она цеплялась за любую соломинку, чтобы понравиться ему, чтобы на миг испытать хотя бы иллюзию победы. И, конечно, он язвительно посмеялся над Варькиными стихами. А она все равно показывала ему их. Но, после того как он назвал одно из ее стихотворений "мистической чушью", она навсегда перестала записывать рифмованные строчки. Правда, он долго раздумывал над последним ее стихотворением с закрытыми глазами, тер виски, Варя уже стала надеяться, что он скажет что-то идущее от сердца, от души, но он отбросил ее тетрадку, и она больше никогда к ней не прикасалась.
Сквозь туман и мерцанье огня В этот мир я с надеждой стремлюсь, Может кто-то и вспомнит меня, Если только я здесь появлюсь? Без меня там промчались века, Но не стану я прежним, доколь, Не увижу опять облака, А душа не почувствует боль. Я развею давнишнюю грусть И прижмусь к мягкой морде коня, Я вернусь, я, конечно, вернусь, Вспоминали ль вы, люди, меня?* * *
— Варь, я тебя хотел спросить, с чего это ты так здорово в вычислительной технике стала разбираться? У тебя книжка какая-то появилась? Дай почитать.
— Если бы я такую книжку имела, я бы шесть двоек не получила. Где я только книжки не искала… Во сне я все решения увидела.
— Так… Вровень с великими, значит? Врешь!
— Не веришь? Да я уже с высотки кидаться задумала, и тут — бац! Приснилось! Там принцип один на все задачки, как одну решил, так остальные — семечки!
— Это я уже понял. А ты и тригонометрию во сне видишь? Ты все уроки во сне выполняешь? Или еще чем-нибудь занимаешься там? Про любовь и дружбу сны смотришь?
— Нет… Хотя лучше бы про любовь. Вот хорошо, Саша, что ты сам об этом заговорил. Я, как тебя увидела, то поняла, что очень давно тебя знаю. А знать-то раньше я тебя не могла, ты ведь в девятой школе учился? Вот, я вообще никого из девятой школы не знаю. Думала, думала, а потом догадалась, что я тебя во сне видела давно!
— Варь, тебя в пионерах учили, что врать — не есть хорошо?
— Саш, меня это так терзало! Весь восьмой класс! А потом я вспомнила, что два лета назад я видела странный сон, когда была у бабушки на хуторе. Не то, чтобы я видела именно тебя, но там было такое очень неприятное и страшное место… Ты там был! Это ты! Я тебя узнала!
— Слушай, а как ты в математический класс попала?
— Да у нашей завучихи протек унитаз, я же тебе рассказывала.
— Я не об этом. Мне почему-то неприятен этот разговор, словно ты меня пытаешься обвинить в чем-то, а в чем конкретно — не понимаю. Но вот давай все-таки разберем ситуацию логически, мы ведь, Варь, с тобой математики, хоть и санитарно-технические… Ты утверждаешь, что какое-то неприятное место в твоем сне касалось меня, но меня самого ты во сне не видела, так? А до этого сна ты вообще никогда меня не видела, так? Элементарная логика-то должна быть, а? Как ты условия задач-то записываешь?
— Что ты кричишь на меня? Я видела сон, там сидел такой парень лет шестнадцати в подземелье и последнее письмо кому-то писал палочкой на досочке. Мне было очень страшно, но так хотелось узнать что к чему. А как тебя увидела, так поняла, что ты это все знаешь, и можешь мне рассказать. Но мне тоже неприятно почему-то об этом говорить с тобой, хотя я ни в чем тебя не обвиняю.
— А больше ты ничего нее видела? Нет? Тогда и ответ — нет! Ничем не могу помочь, извините, барышня. Единственное, что могу посоветовать — лечение током, два пальца в розетку — и бац!
— Какой еще рецептик пропишете, товарищ врач? Может мне для полного выздоровления еще и яду принять? Змеиного, например.
— Змея подколодная!
— А что это мы так заволновались-то? Что это мы по комнате забегали? Был ты там! Был! Если бы не был, то у тебя бы нос не побледнел.
— Тебя действительно математике и вообще всем наукам, в основе которых лежит здравый смысл, только за унитаз и можно взяться учить.
— А теперь, дружок, целоваться будешь с унитазом! Чтобы духу твоего здесь не было!
Они в очередной раз поссорились навсегда. Но, как только Иванов ушел, Варе стало так жалко его, себя… всех! Поэтому на следующий день она опять ждала его после уроков, твердо решив, не заикаться больше в разговорах с ним ни о змеином яде, ни о снах. Но почему-то больше ни о чем разговаривать с ним не хотелось. Странно, после последнего разговора ее сердце умирало от жалости к нему, но только пока его не было рядом, а как только он приближался к ней, его сковывало холодом отчуждения.
* * *
Перед самыми летними каникулами в девятом классе Варя попросила Сашу, к сдержанной радости двух ее воинов, никогда больше не приходить к ней. Она чувствовала, что подошла очень близко к разгадке их отношений, своей привязанности к нему, что за всем этим стоит что-то очень плохое, гораздо более страшное, чем неразделенная любовь. Ведь в лучшем случае, все разгадки приносят пустоту, а в худшем — боль и разочарование.
НАСЛЕДНИКИ
Все лето Варя и Сережа торговали на базаре. Мама сложила и свои, и папины отпускные в то лето сразу на сберкнижку на черный день. "Чтобы соблазна не было", — как она объяснила домашним. А поскольку небольшой соблазн все-таки оставался на счет того, чтобы просто пожрать или в кино сходить, купить бензин для машины и еще чего по мелочи, то ходили они в то лето на базар, как на работу. Мама сказала, что это гораздо лучше, чем кататься на вокзал на трамвае. Но они тайком ездили и на вокзал, потому что Варе нравилось бежать за проходящими поездами и кричать: "А вот огурчики соленые!" От этого веяло чем-то родным, и на минуту даже казалось, что это она не на опостылевшем Урале, а с теткой на станции Лихая, куда та ее сколько раз взять обещала, да так и не взяла. Мамины соленья, которыми была завалена яма на огороде, лучше всего шли на вокзале. Варвара твердо решила по осени вычистить яму, но там всего так много собралось! С морковью она только к августу управилась, когда народ уже молодую морковку принялся продавать. С прибылей Варьке сшили на заказ форменное платье, которое ей так шло, словно его ей выдали в польском Красном Кресте. А еще она признакомилась на рынке со старухой, которая из-под полы продавала всякую одежу. Серега торговался с ней до хрипоты, а Варьке было совестно, поэтому брат называл ее «деревня». Он ей у старухи и сапоги зимние купил, и две кофточки, а переплатил сущие копейки. В июле, когда на рынке был, в общем-то, мертвый сезон, они ненадолго съездили всей семьей в дом отдыха на машине как белые люди, спасибо клубнике и луковому перу.
Почистить яму Варька позвала Клевкина, но полностью в нем разочаровалась. Кроме Клевкина Варя взяла с собой свою кошку, чтобы та отдохнула на свежем воздухе. Вначале он сорвался с подгнивших ступенек деревянной лестницы прямо в яму и разбил там очки. Потом он уронил в яму кошку, и она чуть не выцарапала ему последние глаза при спасении из тьмы. А потом он решил у соседей сорвать красные яблочки, хотя Варя ему положила полную авоську паданки осенней полосатой. Соседская собака порвала ему штаны. Бегая по меже, они с собакой подавили свежие Варькины посадки чеснока. Яму они, правда, вычистили. Но Клевкин почему-то с угрозой пообещал ей, что никогда этого не забудет.
В десятом классе родители поставили перед Варварой вопрос о комсомоле ребром. Пришлось писать заявление и готовиться ко вступлению в ряды. У них в классе осталось только трое неохваченных: Варька, Иванов и придурок Клевкин. Одно это и то, что комсоргом класса с самого начала бессменно была Марина, навевало на Варвару нестерпимую скуку еще до начала изучения Устава ВЛКСМ. Без этого комсомольского членства невозможно было мало-мальски заполнить даже анкету абитуриента в институт. Одним словом, с комсомолом ее здорово припекло.
Принимали в комсомол в два этапа: в классе и в школьном комитете ВЛКСМ. Вызывали еще и в райком ВЛКСМ, но уже просто для галочки: о жизни поговорить или о чилийской хунте, в зависимости от того, какое будет настроение у главного комсомольского секретаря. Туда-то сходить можно было бы, отчего же не сходить, если у Лариски там сестра секретаршей работала. А вот в классе…
* * *
— Ну, что ты можешь сказать о политическом завещании Ленина Всесоюзному Коммунистическому Союзу Молодежи? Повнятней, Клевкин! — командирским тоном потребовала Марина.
Иванов и Варя молчали, они чувствовали, что Марина оставила их на закуску. Действия они свои не согласовали, каждый решил быть только за себя, поэтому Марине не составило бы труда разбить их по одиночке. Они втроем в рядок стояли у доски, как на рынке. Вот только огородины с ними не было, потому как в комсомол они решили продаться сами. Маринка была покупательницей придирчивой, на зуб пробуя выставленный товар. И что-то их невольный соратник с первым вопросом явно затормозил. Он потел, смотрел в окно, переминался с ноги на ногу, пытаясь хоть что-нибудь выдавить из себя. Если бы его попросили для комсомола интеграл взять или, на худой конец, яму почистить… Марина подошла к нему вплотную, поэтому Варька ничего не могла подсказать мученику идеи.
— Ленин… он завещал… он это… завещал все… он нам все завещал… — занудно тянул он под пристальным взглядом комсомольской богини.
— Отстань от него! Ленин нам все завещал! Мне и Клевкину, — не выдержала Варька. Она бы, конечно, промолчала, но уже была не в силах терпеть тонкий Маринин садизм по отношению к безобидному классному шуту. Но после нехорошего, аполитичного хохота класса Варька поняла, что им, наследникам, на этот раз в комсомол не пройти. Понял это и Иванов. И по тому, как он весь собрался, Варька решила, что он задумал немедленно отмежеваться от них, чтобы вступить в ВЛКСМ прямо по их трупам. Зря он списал Варьку со счетов столь откровенно. Он уже высокомерно улыбнулся одними уголками губ, и только было приготовился что-то уместно ввернуть, как Варька дернула за рукав Клевкина: "Давай, отрывайся на последок! Все одно — пролетели".
— При чем тут политическое завещание, Марина? Как же Ленин умер, когда он всегда с нами, он живой! Ты в окно выгляни! — резво вступил в полемику Клевкин, которому, как пролетариату, было уже нечего терять.
Напротив их школы находилось здание райисполкома, на фасаде которого висел транспарант — "Ленин с нами! И будет жить вечно!" Марина вначале даже опешила, но тут же шутливо его пожурила: "Он, конечно, живой, но уже отошел от активной политической борьбы, которую и завещал комсомолу. Как-то ты все слишком буквально воспринимаешь, Клевкин!" Сказала она все с этаким хохотком, выставляя их полными идиотами.
— По Клевкину, я думаю, вопрос ясен. У нас в первичной комсомольской организации ненормальные и без него имеются, — мимоходом кинула она камешек в огород мрачного Анатолия. — А вот с Варей… Это что же у тебя за язык такой? Как он у тебя на такое поворачивается? Что ты думаешь по этому поводу, Иванов?
В тот день Толик отработал Варькино участие в обсуждении его половых аномалий на все сто! Он вступил в комсомол еще в старой школе и после некоторых событий совершенно не воспринимал Марину в роли комсорга класса. И когда оппортунист Иванов опять уже было раскрыл рот, чтобы дать разъяснение по поводу Варькиного толкования политического завещания вождя пролетариата, Анатоль вдруг на весь класс истошно завопил: "Я боюсь, мамочка! Я боюсь! Дедушка Ленин умер, но он — живой, и он так любит маленьких детей!"
На бурное комсомольское собрание в десятом классе, посвященное приему в комсомол трех новых членов с выкриками политических лозунгов, хохотом, распечатыванием заклеенных на зиму окон и пением Интернационала уже сорок минут собиралась ворваться завуч по воспитательной работе Аделаида Матвеевна. Их классная, Зоя Алексеевна, поехала навестить мужа в армию, просила приглядывать за детьми. Завуч просто была в замешательстве, как-то надо было это кончать. Но она останавливала себя и спрашивала свой внутренний голос, будет ли все это педагогично? Она всегда советовалась сама с собой, потому что иногда и посоветоваться-то было не с кем. Внутренний голос у нее был очень осторожный, он и на этот раз тихо напомнил ей о том, что в данном классе учатся дети партийных работников, которым вечером детки доложат, что она, Аделаида Матвеевна, помешала им вести политическую дискуссию. Вдруг дверь в коридор распахнулась, и из класса вылетела растрепанная Марина. Она тут же повернулась и принялась дергать за ручку двери, которая быстро захлопнулась за ней и, видно, хорошо придерживалась изнутри. Внутренний голос взорвался негодованием, Аделаида Матвеевна подскочила к Марине помогать тянуть за ручку. Неожиданно дверь в классе отпустили, и завуч с Мариной покатились по полу…
Когда Аделаида Матвеевна, поправив юбку, вошла впереди Марины в класс, в нее уперся грязный палец Клевкина. Он стоял в позе Наполеона, не глядя на нее, в бумажной треуголке и с рукой, заложенной за борт форменного пиджачка.
— Политическая проститутка! — фальцетом выкрикнул он.
— Это что тут за… диспут? Что это такое? — срывающимся голосом просипела Аделаида Матвеевна.
Клевкин молчал, зачарованно глядя ей в рот. После раскрепощенного выражения политических пристрастий на всех как столбняк напал. В коридор Марину выпихнули несколько ошалевших от свободы девчонок во главе с Ларисой, а дверь держал, конечно, Толик. Но сейчас Марина, выглядывая из-за спины Аделаиды Матвеевны, мстительно смотрела только на Варьку. Все молчали, молчала и Марина, она вновь воцарилась здесь и спешить ей было некуда.
Если бы она не приземлилась в коридоре, она сразу же доложила все учительнице. Но испытанное унижение, заставляло ее выдерживать паузу. Прыгали по партам и раскидывали портфели практически все, даже Марина во время пребывания в классе жестоко отлупила Толика скатанным рулоном наглядных материалов по синусам и косинусам, из которых, собственно, Клевкин и свернул несколько треуголок. Кроме него в треуголках стояли еще четверо. На доске аккуратным девичьим подчерком было написано: "21 января — День памяти Ленина и День рождения Ткачевой. Пора проводить исторические параллели. Поделим историческое наследство!"
— Кто писал? Как вы до такого додумались? — прошипела Аделаида.
— У Вас, Аделаида Матвеевна, в день рождения "Ленин в Октябре" и "Сердце матери" по телику не показывают! А у меня — из года в год! Я не виновата, что такая революционная получилась, — отчаянно проговорила запыхавшаяся Варька.
— Ты что такое говоришь? Да я тебя… Я вас всех по стенке расставлю! Немедленно очистить доску!
— Сами нам внушаете, что мы — наследники завоеваний Октября, а в активную политическую борьбу не допускаете! Наше поколение должно жить в коммунизме! И будет, раз должно! — обратилась Варя к народу, сжав в правом кулаке чей-то вязаный берет. Класс одобрительно загудел. Аделаида Матвеевна поняла, что помимо своей воли, становится участницей стихийного митинга на весьма скользкую тему. И тут совершенно некстати Иванов нагло заметил: "Верно! И в обкоме партии люди сидят!" Что он конкретно имел в виду, завуч не поняла, но вдруг вспомнила, что у двух идиотов, один из которых сидел на подоконнике в треуголке, папы действительно сидят в обкоме. Это была трудная ситуация и трудный выбор. Надо было обязательно кого-то наказать, например, Иванова, у которого отца совсем не было. У Вариного папы партийная организация в управлении была второй по численности в районе и первой по соцсоревнованию. А у комсорга Марины папа был простым инженером, а мама учительницей литературы. Что она вообще за комсорг, если ее с собрания в коридор вышвыривают?
— Нельзя так горячиться, молодые люди! — примиряющим мудрым тоном сказала завуч. — Что подумают о нашей школе на улице, если вы, стоя на окнах, поете революционные песни? Окна закрыть и опечатать! Почему тематика диспута не согласована с комитетом комсомола? Что значит — возник стихийно? Почему в других классах никто не возникает? Не ожидала от тебя, Марина… Где у тебя план собрания, где список участвующих в прениях? Хотите петь песни — ради Бога! Согласуйте время и пожалуйте в актовый зал! Мы подшефных старых большевиков пригласим, с ними и споете.
— Да у нас с Зоей Алексеевной все хорошо проходит, Вы не волнуйтесь! А Марина совсем не виновата! С этими мальчиками всегда так, у них возбуждение из инертной массы в революционеры неожиданно происходит, как у колхозных коров при осеменении. Заранее не угадать, — грудью встала за враз сомлевшую Марью Варвара.
— Вот что, на сегодня достаточно. Марина, давай завершай собрание. Голосуйте — и по домам! Быстро, при мне.
Марина, глядя в пол, устало спросила: "Кто за то, чтобы…" Лес рук она считать не стала, подошла к своей парте, собрала портфель и первая вышла из класса.
Только на улице Варя попыталась осмыслить происшедшее. Она была на волосок, на одно неловкое движение от полного поражения. Как же она дошла до такого? Мама права, куда ей податься-то без комсомола? Только коров колхозных осеменять. Вот все-таки надо ей научиться у Иванова выдержке и еще вот этому… как его? Ну, вот когда он чуть прогнулся перед Мариной, был уже готов ей поддакнуть, подыграть. Наверно, она так все равно не сможет… Нет, никогда она так не сможет… И самым страшным для нее была эта Сашина податливость, готовность ее предать. Конечно, он сошлется на то, что у других папы — во-о-он кто! Им все можно! А ему надо с низов пробиваться. Но Клевкина тоже, можно сказать, в капусте нашли, а он какой-то другой. И рефреном всей пронесшейся над ее головой кутерьмы в ушах все звучали строки Уайльда про то, что каждый, кто на свете жил, любимых убивал…
ЗМЕЯ ПОДКОЛОДНАЯ
Уже с конца второй четверти все Варькины одноклассники бросились завоевывать похвальные грамоты по предметам, поэтому им стало совсем не до митингов. Учителя привычно завинчивали гайки перед экзаменами, поощряя возросший интерес к среднему баллу. А поскольку каждый теперь боролся за свой балл, школа была гарантирована от спонтанных переходов к революционному возбуждению масс.
А в тот день, когда Варька взяла очередной доклад по биологии, она был страшно зла. Похвальная грамота по биологии была нужна ей, как кошке пятая нога. Но так уж получилось. Вначале декабря брат потребовал, чтобы она написала стихи про зиму так, как будто бы это он написал. В конкурсе стихов у них в школе разыгрывался комплект шариковых ручек, оформленных в виде гладкоствольных винтовок их знаменитого оружейного завода, и Серега уже нашел на него покупателя в параллельном классе. Варька два дня изнывала в творческих мучениях и выдала, наконец, такой стих:
Лето кончилося вдруг… Все белым-бело вокруг. Веселятся, скачут дети — Снег укутал все на свете! Любопытными носами мы прижалися к стеклу: Не покажутся ли сани? Не услышим ли мы сами Колоколец перестук? Дед Мороз! Твои подарки Ждали даже летом жарким! С Новым годом, Дед мороз! Доставай-ка, что принес!Серега стих одобрил, а комиссия решила, что в нем звучит излишне меркантильный, частнособственнический интерес к Новому году. Короче, приз брату не дали, но обязали писать стихи в школьную стенную газету. Он поставил перед Варькой вопрос о возмещении материального ущерба. Они лаялись два дня. Помирились при активном вмешательстве мамы на условии, что до конца года Варька будет за этого засранца писать сочинения и доклады по зоологии. Разница между биологией и зоологией, с маминой колокольни, была незначительной, что, собственно и вынудило Варьку проявить интерес к этому предмету. После второго ее доклада Серега заранее предвкушал научный триумф.
Но в тот день она просто была зла. И как зла! Накануне Иванов посреди урока послал ей билет в кино, а потом на других уроках он присылал еще три или четыре записочки с напоминанием о том, что вечером они идут в кино. У Вари тогда уже был другой мальчик, конечно, не Клевкин, но он тоже несколько раздражал ее. Ходить совсем без мальчика уже было как-то неприлично, тем более что у него, в отличие от Клевкина, были деньги от продажи папиных марок, и они весело кутили уже на второй кляссер. Мальчик этот умел вставлять дюбеля, ремонтировать выключатели и безропотно ходил по магазинам. Поэтому Варя с большой выгодой использовала его в домашнем хозяйстве. А от Иванова решительно не было никакой пользы, он не умел даже прочистить засорившийся сифон.
И почему она решила пойти в тот вечер с Ивановым? Глупая надежда опять шепнула ей, что вдруг сегодня Иванов решил стать человеком и за все попросит прощения? А она его как раз сегодня и не простит!
Они шли тихим зимним вечером, падал пушистый снежок, Саша был особенно внимательным. В фойе кинотеатра он угостил Варю чем-то сладким, развлекал ее, шутил почти без издевки. Но когда они прошли в зал, выяснилось, что их места расположены в разных концах зрительного зала. Саша был в своем репертуаре, он оставил ее одну в тот момент, когда был по настоящему ей нужен. Фильм оказался достойным его шуточки — какие-то «Жнецы» с толстой развратной бабенкой в главной роли. Варя, возвращаясь домой одна, всю дорогу себя ругала! Ну, как можно было ему верить? Он же никогда не остановится, он всегда будет пытаться унизить ее за что-то неведомое ей. Неужели его все-таки так задело, что у нее когда-то была кроватка, а у него — табурет?
И вот, когда учительница по биологии попросила добровольцев сделать доклад о змеях и применении змеиного яда, Варя первая рванулась с места. Обидеть девушку может каждый, назвать ее змеей подколодной… Ничего! У девушек тоже ядовитые зубки имеются! Варя знала, что Иванов за ее спиной только бессильно выдохнул, когда она активно выразила желание сделать этот доклад. Она знала и как подать этот материал, нутром чуяла. Биологичка с удовольствием дала ей эту тему, но заранее предупредила, что литературы по змеям мало, а книги изобилуют специальными терминами на латыни, что Варе надо бы постараться, чтобы доклад получился живой, с изюминкой. Но именно это и входило сейчас в Варькины планы. Ее невидимые спутники от Иванов тоже не были в восторге. Они, похоже, знали о нем гораздо больше, чем она. Но спрашивать у них об Иванове для Варьки было зазорно. Кто они такие? Они даже не люди! И их неожиданное ликование по поводу доклада о змеях было ей неприятно, подпортило и без того поганое настроение.
Ночью они втроем были в местечке возле Каира, в гостях у коричневого дяденьки с морщинистыми руками, испещренными синими точками змеиных укусов. Он был кем-то вроде потомственного сторожа в тамошнем серпентарии. Воин, что по моложе, уверял ее знаками, что это самое лучшее место для изучения змей. Гадов дедок ловил не только в Сахаре, но и в городе мертвых — мусульманских мавзолеях, которые окружали Каир, подбираясь вплотную к жилым массивам. До утра она слушала неторопливую речь старика, которую почему-то хорошо понимала. Он был семнадцатым по счету змееловом в своем роду, в обязанности которого входил не только отлов змей, но и сбор драгоценного змеиного яда. А раньше, они должны были еще, и готовить специальный состав отравы для нужд высокородных особ. И когда какой-то его предок принес такой яд одному правителю, то тот, прежде чем принять его самому, испытал его действие на пра, пра, пра и еще восемь раз прадедушке рассказчика…
— Раньше змеиный яд добавляли в жвачку из маковых зерен, получалась такая пастилка. Древние думали, что человек засыпает от опиумного мака и практически не чувствует действия яда. Смерть раньше была делом трудным. Телевизоров и проигрывателей не было, поэтому чужая смерть была самым захватывающим развлечением. И каждый мечтал не умереть, а просто уснуть. Считалось, что такие пастилки и дают самую легкую смерть. Но яд песчаной гадюки действовал гораздо быстрее опиума. Человек вдруг чувствовал ледяной холод, который сковывал его обручами. Смерть была действительно скорой, но вовсе не такой легкой. А, главное, потом что-то происходило с душой после смерти… Она никак не могла освободиться от этого холода… Холода вечности…
— Достаточно, Варя! Садись на место! Открываем тетради…
— А что потом, Ткачева? Что после смерти-то? Что потом?
— Суп с котом, Клевкин! Прекрати! Варя, садись!
— Вас, Светлана Ивановна, наверно, в прошлой жизни змеиным ядом отравили! Какая-то Вы холодная… Вас такие вещи совсем не интересуют?
— Замолчи, Клевкин! Ой, зарекалась я, Варвара, больше тебя не слушать! Хорошо так про виды змей и состав ядов доложила, но про убийство змеиным ядом, про холод вечности ты явно хватила через край. Я ведь тебя просила про лечение! Про лечение змеиным ядом!
— Она про лечение и рассказала. Самое лучше лечение, окончательное!
— Ну, ты пожалеешь еще, Клевкин! Посмотри, Ткачева, все же с ума от твоих змей посходили! Иванов, ты что? Спать улегся? Подними голову и смотри на доску! Ой, что это с ним? Иди, Иванов, в туалет, умойся, приведи себя в порядок… Иди! А тебе этого, Варвара, я не прощу! Так и знай! На экзамене по химии я сижу в комиссии, я тебя там в такой холод вечности окуну! Я никому не позволю свои уроки срывать!
Варька даже не могла предположить, что на Иванова это произведет такое впечатление. Нет, она, конечно, надеялась, что впечатление будет сильным, но чтобы такое! Плакать от обычного рассказа о змеях! Хотя сама она тоже часто плакала из-за него. Слезу из нее могла вышибить только неожиданная сильная душевная боль, причинить которую Иванов был большой мастер. Но когда она сделала больно ему, ей тут же стало опять его жаль…
* * *
В сумерках они снова принялись ее куда-то звать, бурно жестикулируя. Младший даже попытался ей что-то сказать, но старший грубо его оборвал. Они всем видом показывали, что есть кто-то, с кем ей очень важно встретиться, поговорить. Варя и сама понимала, что нужно с кем-то посоветоваться. А о снах и призраках она никому не говорила, кроме папы. Но папа только страшно напугался за нее и попросил больше об этом никому не рассказывать, а то ее не только не примут в институт, но и посадят в психушку и будут колоть уколами до тех пор, пока она сама не станет призраком.
Они привели ее к немолодому бритому мужчине в апельсиновом халате. Он был совершенно нерусский, сидел, вывернув коленки, и совсем не удивился, когда увидел Варьку. Беседа была содержательной, правда, Варька так и не поняла о чем. Этот, к кому они ввалились среди ночи, не ответил ни на один ее прямой вопрос, но все сворачивал разговор на какие-то фрагменты, которые бесполезно красть или отнимать силой.
— Долгие лунные ночи я размышлял над тем, что тебя гнетет, Обезьяна. Сам я только пытаюсь подняться над страстями, но ты — человек страсти. Удерживать тебя бесполезно. Допускаю, что этот фрагмент необходим тебе для восполнения духовной памяти. Но если утраченный фрагмент действительно так важен в твоем кармическом цикле, провидение, как правило, предоставит возможность его изъятия. Но только возможность. Нет гарантии, что ты получишь его. Передача, насколько я знаю, определяется временем суток, циклом Луны и полной добровольностью владельца фрагмента. Это часть его души, но и кусок твоей души одновременно.
Как это сделать? Не знаю. Знаю только, что любой энергетический обмен происходит между людьми в период совокупления, поэтому так опасна для человеческой души продажная любовь или совокупление без внутреннего влечения. Существуют и какие-то более тонкие механизмы изъятий фрагментов, но они основаны на магических обрядах и, поверь, гораздо опаснее первого способа. Лучше всего здесь плыть по течению, держась ближе к берегу. Идеально было бы научиться управлять течением событий, их естественным ходом. Но ты — не Будда, хотя и он испытал на себе власть провидения.
Для тебя вопрос даже не в том, как изъять фрагмент. Вопрос в том, как поступить после. Ты только человек, поэтому дополнительная боль (а фрагмент — это всегда боль) может поднять со дна твоей души такую муть, что ты можешь не сомкнуть змею, а напротив — пробудить ее, создать новый виток кармы на давно пережитом фрагменте…. Почему-то тебе дан еще один шанс, великая возможность. Милость богов к тебе безгранична. Но никто не сможет тебе в этом помочь, это только твой путь. И прошу тебя, не искушай меня своим появлением вновь, я уже не твой вассал, Обезьяна. От тебя веет холодом вечности…
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
Перед окончанием школы Варю усиленно обрабатывали родители. Она не хотела их огорчать своим выбором, хотя знала, что, только уехав из дому, она будет счастливой. Из дому надо вообще уезжать вовремя. Родители в свое время уехали и прожили замечательные студенческие годы. Но теперь они хотели жить за Варю. Мама пригрозила, что денег не даст даже на билет. Варя всегда старалась, чтобы все проблемы решались в семье мирным путем, поэтому сдалась и поступила на строительный факультет института у них в городе.
Саша поступил в МГУ на экономический факультет. Ему не хватало нескольких баллов, но его приняли. Здесь единственный раз в жизни ему помогла его безотцовщина, ему за его неприютность добавили полтора бала. Браво табуреточникам! Он не мог не похвастать своим успехом перед Варей и не посмеяться над ее выбором института и будущей профессии. После его отъезда у них завязалась какая-то вялая, натянутая переписка. Возникла она на почве возобновления их странных бесплодных отношений любви-ненависти. А может там, в Москве Иванову стало до такой степени плохо, что он вспомнил о Варе. Затосковав в своем городе, осенью Варя поехала в Москву. Папа даже устроил ей командировку, обязав провести патентный поиск в библиотеках Москвы для будущей ее научной работы по набивным сваям. Ей это, по правде, было до лампады. Она, конечно, ехала ради Саши. Ее все тянула к нему недосказанность, неясность.
Ее рабство продолжалось. Никакая это не любовь, это гораздо сильнее. Любовь — это запах свежего снега, гуаши и акварели, это вкус ирисок и подмороженных персиков, это чей-то неясный шепот в ночи. От любви не пахнет кровью.
Уже подлетая к Москве, в самолете она ощутила рвотные спазмы, накаты темных провалов. В магазине, куда она вышла из гостиницы, она потеряла сознание у мясного отдела. Хотя она была вполне выносливой девушкой отнюдь не субтильной конституции, ее доканал запах запекшейся крови и истерзанного мяса. Она чувствовала, что пропахла им вся. Вечером второго дня пребывания Саша пригласил ее к себе в общежитие МГУ. Варя очень любила танцевать, а Саша объяснил, что сегодня вечером у них будет замечательная дискотека с множеством музыкальных новинок.
У нее сразу возникло неприятное чувство пустоты и досады, когда он почти криминально протащил ее через вахту, затеяв какой-то спор с тремя дюжими вахтерами.
— Понимаешь, теперь тебе отсюда до утра не выйти, до окончания их смены. На дискотеку, естественно, тоже, — заявил ей Саша.
Конечно, его соседа так же до утра не ожидалось. Саша стал лихорадочно раздеваться. Он подошел к застывшей Варе и обнял ее, прижавшись оголенным торсом. В этот момент как будто сбылись какие-то ее давние кошмары. Что-то вновь нахлынуло на нее, она отстранилась от Саши и прошлась по комнате. Вроде все складывалось так, что лучше не придумаешь. Вот он — на блюдечке, вынимай любые фрагменты, какие в нем есть, но Варька поняла, что у них действительно ничего не может быть. И никакой энергетический обмен с этим полуголым дураком ей не нужен.
— Вот, значит, как ты тут живешь. А-а, Чехова читаешь! Ты лучше бы, милый, что-нибудь по сексу почитал, тогда бы хоть знал, что вначале надо попытаться раздеть женщину, прежде чем оголяться самому.
— Ну, я же прочел твой роман про индейца, ничего более сексуального я не читал.
— Да, это хорошее пособие. Но читал ты его невнимательно. Похоже, что ты все учел в своем плане, даже то, что при твоем возможном насилии я кричать не буду, иначе мое присутствие здесь будет запротоколировано, бумажку пошлют в мой институт, и тогда начнется для меня там веселенькая жизнь. Мой индеец учитывал как раз другое! Он планы осуществлял так, чтобы женщина орала от страсти, радости жизни и наслаждения!
— И сама сдирала с него штаны из оленьей кожи и мокасины! Читали, читали… Поверь, у меня все тоже самое, что и у твоего индейца, только мокасины я сам снял.
— Ну, и сиди так, а мне не жарко, я и в пальто могу до утра, как на вокзале.
— Ты хочешь сказать, что не догадывалась на какие танцы шла?
— Почему… Но я была достаточно наивна, чтобы предположить, что ты все-таки выведешь меня на эти танцы.
— Чтобы ты там сняла там кого-нибудь себе?
— Хотя бы присмотрела. Я полагала, что, такой как ты, обязательно выжмет из ситуации все, что можно. Ты обязательно должен был меня продемонстрировать, показать себя эдаким разухабистым самцом.
— А я уже сделал это! Ты не поняла, с кем мы поднимались на лифте? Это были ребята с нашего потока.
— Хм… Саш, ты ведь смотришь на меня только как на проходной вариант?
— Верно.
— И все делаешь так, чтобы у меня не возникало никаких иллюзий на свой счет. Но я ведь тебе не продавалась, и ты мне ничего не платил.
— Я думал, что ты хочешь меня, что же ты все эти годы бегала за мной, как собачка?
— Не преувеличивай. А, кроме того, одно дело хотеть любви, другое — опуститься до того, что у нас сейчас с тобой. Просто я вижу в тебе нечто, чего нет в других. И мне так нужно это нечто, но вот я стою в пальто, и раздеваться мне не хочется.
— Ничего, ночь длинная, я подожду.
— Околеешь без штанов-то до утра. Топят у вас тут неважно.
Варя сняла пальто, сапоги и легла на продавленную студенческую койку. Ей было тошно. Почему с ним всегда так? А с другими она и поговорить-то не может.
Как только она чувствовала полную, почти безграничную близость с ним, как тут же со дна души вставала непреодолимая горечь… И сам Саша — то неприступно высокомерен, то, захлебываясь от какой-то животной нежности, начинает гладить ее, как маленькую, по голове. Варьке вдруг захотелось прижаться к нему и плакать, плакать у него на груди, ее так давно никто не жалел! Саша устроился на кровати в ее ногах, и Варьку снова окатила волна холода и отторжения. Нет, она не испытывала никакого влечения к такому близкому и доступному сейчас Саше. И они опять затеяли свой вялый беспредметный спор о том, кто из них кого любит.
— Варь, ну, давай, попробуем… Ляг ко мне, когда мы еще будем вместе…
— Слушай, я ничего не хочу! Ты сам во всем виноват.
— Ляг! Почему ты не хочешь помочь мне?
— Изнасиловать себя? Но ты ведь у нас такой умный, ты считаешь, что со мной можно и без любви. Давай, действуй! Но без меня! А я — "не подниму парчовых туфель к пологу, не встану, словно львица, над воротами"! С какой стати? По любви, так я давно бы уже под тобой была!
— Варя-я! Я очень тебя хочу! Я хочу, чтобы ты была моей первой женщиной!
— Тоже мне, царь Соломон! Если бы я по тебе не видела, какой ряд жен и наложниц ты соберешь, то, может, и встала бы с ними, а так…
— Ты считаешь, что у меня плохой вкус? Действительно, плохой, раз я решил начать с тебя.
— Саш, у тебя ведь был план? Был! И я, в принципе, допускала, что за танцы у нас с тобой будут. Ну, и что вышло-то?
— Варь, ты повернись ко мне и трепи, что хочешь, только, может, ты немного помолчишь?
— Сашенька, как же ты в экономике страны планы партии собрался осуществлять, если своего маленького планчика осуществить не можешь? Ну, и вздрогнет наше плановое хозяйство от таких плановиков!
— Вот гадина!
— Шурик! А давай просто дружить?
До утра он так и не оделся. Когда Варя раздевалась на ночь, он даже не отвернулся. Она замоталась в одеяло, но ноги все равно мерзли, потому что Саша их гладил и буровил постель, его все время приходилось отпинывать, а от этого холодный воздух проникал под одеяло.
Они долго болтали о своей юности, много смеялись, никогда раньше не было между ними такого свободного, ненатужного общения. Они даже немного поспали в обнимку. Первой сдалась Варя, она свернулась калачиком и стала отвечать ему невпопад, а потом, наконец, замолчала. Иванов заботливо укутал ее дополнительным одеялом, подоткнув его со всех сторон, в комнате было действительно прохладно. Какая же она милая, когда молчит!
Положив Варькину голову себе на плечо, он все размышлял, почему его так сильно тянет к ней? Жениться, по его жизненной программе, можно было на ком угодно, кроме Варьки. Это девица совершенно не думает о чем говорит, никто ей не указ, она не станет считаться с общепринятыми нормами, она никогда не повзрослеет. Варька завозилась, засопела во сне, и, с внезапно накатившей волной нежности, Иванов подумал про себя, что она просто никогда не станет старой. Бесполезно ее об этом просить. Он ругал последними словами и Варьку, и себя самого. Продумывая свой план, он так желал одного — мучить, насиловать ее, топтать ногами. Ему так надо было почему-то, чтобы Варька признала, наконец, себя побежденной. И у него был такой шанс. Ведь он знал точно, что она любит и жалеет его. Вот эта ее жалость сводила его с ума. Он должен был заставить ее сдаться, покориться, признать… Что же она должна была признать? И как же она могла оказаться с ним в одном классе? Каким образом? Нет, она и это сделала нарочно! Но почему-то рядом с ней ему хотелось только смеяться ее шуткам, кормить мороженным, которое он хранил к ее приходу в авоське за форточкой, и сторожить ее сон до утра. Он невольно улыбнулся, глядя на спящую Варьку, и, засыпая, решил никогда больше с ней не встречаться. Называется, в Москву приехала, даже не поцеловала. Интересно, кого сейчас там, дома она заставила таскать за собой портфель и выносить мусор? Убить бы обоих…
Перед самым утром Варя проснулась совершенно умиротворенная, кто-то долго разговаривал с ней во сне, утешал, говорил, что все будет хорошо. Саша, уловив какое-то движение в соседней комнате, стал вести себя как-то излишне шумно, не смотря на раннюю пору. Она понимала, что это — всего лишь его эгоистическое желание продемонстрировать их связь соседям, чтобы иметь возможность произнести вслух нарочито скромные монологи, которые Варя слышала в нем, о своих мнимых ночных похождениях. Он вновь заигрывал с толпой, пытался слиться с массой, он так и не постиг, в чем же состоит истинное величие. Но ему так было проще, понятнее. Поэтому Варька со смехом принялась ему подыгрывать. Она стала громко стонать и кричать: "Саша! Ах, как хорошо! Я еще хочу!". Они оба не выдержали и долго смеялись, уткнувшись в подушки.
Утром Варя собралась идти, Саша не пытался ее остановить, он и проводить не вышел, утром в нем вновь проснулось болезненное желание унизить ее. Перед уходом Варя ласково, стесняясь, советовала ему на будущее не говорить женщинам некоторых вещей, которые они свободно обсуждали с ним, а по больше лгать и льстить. Вначале ему следовало медленно и страстно раздеть даму, подержать ее на коленях и, наконец, позволить раздеть себя… И только потом приступать к выполнению своих грандиозных планов! Он рассвирепел, вполголоса выругался и оттолкнул ее от себя к двери. Варя с грустью подумала, что нельзя давать младенцам спать в табуретках.
ХОЛОД ВЕЧНОСТИ
Совершенно несчастная она шла сырым утром по Москве, душа ее тосковала. Ничего она не смогла. Иванова она, конечно, больше не увидит. Она почему-то не может больше его видеть, с ним она теряет себя. Он решил, что ей надо от него только это, будто с панели привел…
Вдруг, как удар током, ее пронзило чувство стыда, раскаяния, неожиданно на нее начали катиться мутные волны времени. Она остановилась посреди улицы, растирая виски. Какой-то ранний прохожий участливо спросил о самочувствии, видно, ее бледное перекошенное лицо испугало его. Варьке было действительно больно, пожалуй, так больно ей еще не было ни разу. Ледяной холод сковал сердце. Осторожно ступая, она мелкими шажками продвигалась к метро. Нет, не зря она так хотела увидеть Иванова. Не зря было ее унизительное рабство… Каким-то образом она все же смогла отторгнуть, изъять тот, касавшийся ее, фрагмент. До того как потерять сознание, Варя успела дойти до метро в гаснущем для нее настоящем и сесть в вагон, даже не взглянув, куда он направлялся. Немногочисленные ранние пассажиры видели юную девушку в мешковатом зеленом пальто, мирно спавшую на сидении у поручня.
…В тот миг она увидела себя сероглазым юношей, почти мальчиком, у ног великого владыки с позолоченными ногтями и ступнями, окрашенными хной. Она не могла видеть его лица, потому что цепь, продетая сквозь ошейник, не давала приподнять головы. И все же она попыталась поднять голову, ей почему-то очень надо было увидеть его глаза… Но, даже напрягая все мышцы, она увидела лишь огромные перстни на правой руке повелителя. Она твердо знала, что там, где заканчивались мраморные ступени, сидит Саша. Всплеск теплого чувства, которое включало в себя доверие, любовь, надежду на жизнь, на спасение мгновенно пронизало все ее существо. Но рядом с юношей стеной стояли какие-то мрачные бородатые люди в длинных темных платьях. От них веяло смертью, сердце сжимал страх, и по занемевшим членам пульсировала боль, которую причиняли хитроумные узлы ремней из сырой кожи… Задыхаясь, она слышала страшные слова. Она ждала, что он — могущественный и властный прервет их, он встанет и скажет, что это не так, ведь это не так! Но он молчал, и приговор, вынесенный жрецами, был произнесен вслух в этом зале с колоннами, увитыми цветами…
Это была не просто смерть, это была действительная, окончательная смерть. И она стояла рядом, хотя вокруг было столько жизни. В саду пели птицы, а на яшмовых плитах пола грелись в солнечных лучах дворцовые кошки. Древние знания, доставшиеся нынешним жрецам при разграблении храмов покоренного народа, жившего когда-то в низинах реки, пригодились им только в одном — теперь они знали тайну пыток и убийства самой Души. Им было мало просто убить человека, им надо было навечно стереть его имя из Книги Создателя. По скользким каменным ступеням она спускалась за юношей вниз вслед за стражниками, все еще надеясь, что Саша… Мысленные заклинания юноши к тому, кого она знала как Сашу, проносились сквозь ее Душу, объятую ужасом. Сама ее Душа вопила, потому что через мгновение она могла навсегда утратить свое свечение. Нет, такого не случится! Он, конечно, все-таки придет! Но время уходило золотыми песчинками сквозь пальцы, дважды приходил стражник с просьбой скорее закончить письмо, иначе он не успеет его вынести, а надежда все не гасла… Она затихла, перестала мучить эта глупая надежда, колоколом бившая в сердце, только тогда, когда гулко раздались шаги спускавшихся в подземелье жрецов. Нет, спутать их нельзя было ни с кем, потому что с первой ступени они затянули хором начало заклинания, и Душа, почувствовав ловушку, содрогнулась. Но пока они не свернули в его коридор, стражник успел сунуть мальчишке в руку крошечную пастилку змеиного яда…
Это было твое милосердие? Твое спасение, украдкой вложенное в руку? Холод, только страшный холод кругом, в сердце, в душе…
Варя медленно приходила в себя, оттирая лицо, залитое слезами. "К чему теперь слезы?" — думала она, и перед ее глазами вставала последняя панорама подземелья, унесенная ее Душой в глубины времени. Она таила в себе не только бесконечную печаль, но и какую-то неясную загадку, оставшуюся от той жизни, так и не разгаданную в свое время. Но это была уже не ее загадка, и ее разгадка теперь была уже ей ни к чему.
… Растерзанный до мяса стражник и тусклый мерцающий свет факелов… Голова мальчика со слипшимися в смертном поту волосами почему-то лежит на коленях владыки, на его украшенном богатой вышивкой платье. Короткие пальцы в перстнях нежно прикоснулись к щекам с юношеским пушком, а на лбу мертвеца бриллиантом горит единственная горькая слеза правителя…
* * *
Перед ее отъездом из Москвы он позвонил. В путаных выражениях он пытался сказать, что не хочет, чтобы она уезжала от него с неприятным чувством. Варя совсем не хотела ни говорить с ним, ни слышать его объяснений. Неприятным чувством? Да она с трудом удерживается, чтобы его не убить! Она все ночь думала только над тем, как вернее его убить, окончательно! Она все-таки решила этого не делать только из-за родителей, которых бы очень огорчила мысль, что они вырастили дочь-убийцу. А сейчас этот субъект дрожащим голосом просит о свидании, шепчет, что он, наконец-то все понял… А вилку в горло не хочешь? У Варьки был и такой план, она ночью даже заточила для этого гостиничный столовый прибор. Он видно понял, что эта ночь положила конец ее рабству, ее добровольной кабале. Теперь он вновь хочет ее вернуть. Но отчего бы ему просто не повернуть время? Он вечно хотел восседать на своем троне и судить настоящее с той, давно исчезнувшей вершины. Бог в помощь! Но без нее!
Странно, но ее чувство, которое она теперь испытывала к Саше, было не только определеннее, но и гораздо противоречивее. Горечь, презрение, желание покончить с этим раз и навсегда делили ее душу с жалостливой нежностью… Ведь он все-таки спас тогда ее душу, и все изменилось с течением времени вокруг. Они теперь совсем не те люди, что были когда-то давно так мучительно дороги друг другу. Нечего им нынче делить… С теми, чьи тени заполняют прошлое, нет будущего…
Вот и чудесно! Вот поэтому она ничего больше не желает знать об Иванове. Пускай живет, гад! Еще хуже него живут. Но фрагментарная передача, говорил ей бритый, предполагает некую завершенность, возврат какой-то части выхваченного фрагмента. Поэтому Варя знала, что, не смотря на все ее почти физическое нежелание последующих встреч с Сашей, они будут против ее воли происходить в самое неподходящее для нее время.
* * *
Варя вернулась в свой город. Она потихоньку втянулась в учебу и в свою будничную жизнь. Два раза, приезжая на каникулы из Москвы, Иванов еще приходил к ней домой, пытаясь добиться с ней встречи. Но она не открывала ему двери. Униженно просил он впустить его для каких-то запоздалых объяснений. Один раз даже он приволок с собой Клевкина, заставив и его просить об аудиенции. Хотя Варя ничего не имела против Клевкина. Он иногда ей звонил. Но сейчас через запертую дверь она крикнула им, что видеть их совершенно не желает, что она больна ужасно заразным гриппом, что ей необходимо лежать в постели. После этого Иванов надолго оставил ее в покое. Радости от этого было немного, Варя знала, что их последняя встреча еще впереди, что от этого ни ей, ни ему не уйти.
ВАРЬКИНЫ УНИВЕРСИТЕТЫ
Учеба на строительном факультете провинциального вуза по сравнению со специализированной школой, которую она закончила, была просто погружением в чан с дерьмом под саблей янычара.
Оглядев придирчиво пареньков, Варя с огорчением поняла, что даже взгляд ей тут кинуть не на кого. Ей хотелось хотя бы найти подружку, чтобы с нею вместе бегать на танцульки, но и девушки что-то не очень располагали к себе. Суетливые, легально теперь бегавшие в курилку, они вели, в основном, бесконечные разговоры о тряпках. Это была актуальная тема, потому что магазинная одежда шилась на кого-то, кому уже было совершенно все равно, в чем ходить. Но для общения Варе хотелось чего-то большего. Прав был Иванов, сто раз прав. Надо было уехать из города и без боязни окунуться в самостоятельную жизнь. У ее сокурсников, оставшихся, как и она, дома, будто продолжалось великовозрастное, неестественно затянувшееся детство. Даже ребята из общежития — их одногодки выглядели значительно взрослее. Общежитские, выходцы из уральских деревень и крошечных, в две-три улочки городков, изначально были совершенно другими. Растягивающие на месяц ведро картошки и лукошко яиц, они были скупы на проявление чувств и мыслей, как и природа, родившая их. И от их лиц, когда они смотрели на доску с рисунками по начертательной геометрии, веяло только усталостью, смирением и покорностью судьбе. В своем кругу они оживлялись, тут же замыкаясь, когда среди них появлялся кто-то из городских.
Перед институтом Варвара питала некоторые, свойственные ее возрасту надежды, но среди своих сокурсников она не встретила не только любви, но даже дружбы.
Впрочем, ее вполне устраивал выбор профессии. Она прекрасно понимала, что ее ждет на стройке. Она была готова полностью окунуться в учебу, но после школьных учителей преподаватели провинциального вуза не выдерживали никакого сравнения. Она привыкла раньше к тому, что учитель полностью владеет излагаемым предметом, что в любой момент он может поставить в тупик даже Иванова, но с блеском тут же может вывести из любого тупика. Здесь же почему-то считалось, что задача преподавателя — создать для любого студента тупиковую ситуацию. Варя пришла на только что открытый строительный факультет при механическом институте, который изначально создавался только для подготовки кадров оборонной промышленности. Вначале на строительный факультет планировалось привлечь иногородних преподавателей, для этого на новый факультет обкомом было выделено даже несколько квартир. Но в других городах хорошие преподаватели были самим нужны. Конечно, квартиры бесхозными не остались. Факультеты института, выпускавшие оружейников, механиков, прибористов скидывали сюда негодных, зачастую спившихся сотрудников, не имевших никакого строительного образования. Поэтому Варя, с малолетства проверявшая вторые смены с отцом, знала о стройке гораздо больше их. А древняя профессия, в которой звучала сама история, в которой было больше предвидения и озарения, чем во всех искусствах вместе взятых, выглядела в жалком, косноязычном изложении препарированным трупом.
И этому кошмару, только из-за того, что, видите ли, когда-то обещала маме не покидать ее, она должна была посвятить лучшие годы своей жизни! По настоящему Варя ужаснулась сделанному выбору на втором курсе, когда косяком пошли профилирующие предметы. Учебниками, специальной литературой факультет практически не располагал, методичек не было, а лекции их нетрезвых преподавателей даже выходцы из колхозов всерьез не воспринимали. Хорошо, что отец собрал неплохую техническую библиотеку, иначе Варька осталась бы без образования вовсе. Особенно Варю радовали огромные тома строительных справочников, изданных при великом кормчем. Похоже, что он действительно во всех науках ведал толк, потому что изданная при нем литература имела непревзойденное научное качество, доступность изложения и достоверность, в ней практически не встречалось опечаток.
Вначале Варвара была самой выдающейся прогульщицей. Староста, которому она делала задания по математике, смотрел на это сквозь пальцы. Но однажды на первом курсе она здорово засветилась перед деканатом. Что-то перепутала она в расписании и только после начала лекции поняла, что попала не на начерталку, а на историю КПСС, слушать которую совершенно не могла, у нее от этих страшных историй потом очень болела голова. Она тогда тихонько выползла из аудитории через заднюю дверь на четвереньках. Возмущению заметившего ее маневр преподавателя, парторга их факультета, не было предела. Деканом у них работал пожилой дядечка, специалист по холодильным установкам. Он же возглавлял Совет ветеранов института, поэтому отыгрался он на Варьке по полной программе, с часовой нотацией. Слушать его было просто удовольствием, поскольку старичок был редким занудой и матершинником. Но Варвара была тертым орешком. Копируя деда Саньку, с тупым отсутствующим видом она твердила, что очень захотела в туалет, а возвращаться таким же образом ей было просто неудобно. После этого случая за ее посещением занятий стали следить особо.
Время для размышлений у нее теперь разделилось на пары — короткую и длинную половинки. Делать на лекциях было совершенно нечего. Она сидела и слушала невнятные отголоски времен, которые несли в себе ее сокурсники. Иногда чужая душа хранит давно отзвучавшие голоса. Кто их произносил эти слова, на каком языке, в какую пору? И только по чисто человеческой интонации можно было бы догадаться что вложено в эти звуки — боль, страсть, раскаяние, страх, радость. К счастью, всем еще доступен язык Души, но только многие ли хотят его понимать?
Варя чувствовала, как уходит сквозь пальцы ее молодость, ей хотелось видеть рядом с собой любимого человека, это здорово бы скрасило ее существование. Она пыталась как-то его искать, разглядеть, не пропустить. Но его все не было, а время все шло.
Дар прорастал в ее душе. Варька взрослела, а вместе с ней становились ярче и самостоятельнее два призрака за ее спиной. Она привыкла к их присутствию, к тому, что их не воспринимают другие. Но они все больше отвлекали ее от реальной жизни, смещая все ее интересы от дневного света в сумерки, от людей — к призрачным теням прошлого. У них постоянно шла какая-то деятельная возня. Они обсуждали девочек на их потоке, громко смеялись и жестикулировали, шептали, друг другу на ухо явно неприличные вещи, азартно резались в кости. Иногда на них нападала тоска, и они сидели, поджав ноги, раскачиваясь всем корпусом, подолгу молились с закрытыми глазами. Как-то на экзамене по физике они затеяли драку между собой. Причем, заспорил младший, а старший долго сдерживал себя. Похоже, что он сам чувствовал какую-то вину в этом споре. И Варька почему-то понимала, что спорят они на ее счет. Потом старший внезапно так озверел, что испугался не только младший узбек, но и Варька. В гневе он был поистине страшен. Она дергалась, отвлекалась, крутилась во все стороны, пытаясь уследить за их прыжками по столам с короткими кривыми мечами. Дикие гортанные вопли не давали ей сосредоточиться. Они прекратили убивать друг друга только тогда, когда поняли, что их вместе с Варькой выгнали с экзамена вон.
Получив двойку, Варвара устроила своим попутчикам генеральную выволочку. Она уже знала, что в сумерках может их даже избить. Варя потребовала, чтобы днем они по чаще молились. Она помнила, что замаливать этим сволочам до скончания веков грехов хватало. Странно, но эти два узкоглазых мужика в боевой одежде беспрекословно принимали все ее приказы. Варя с удовольствием почувствовала, что они ее не только уважают, но и почему-то очень боятся.
* * *
Студенческие годы были для Вари годами полной свободы. Не надо было думать о хлебе насущном — ее кормили родители, а учебой она себя старалась особо не загружать. Возникавшие время от времени какие-то незначительные увлечения, которые с трудом можно было бы назвать романами, сводились к обычному посещению кино и танцевальных вечеров. Почему-то ее совсем не зажигали окружавшие ее молодые парни. Не перед кем ей было склонить свою буйную головушку, ни с кем из них она не хотела бы встречать рассветы после ночи любви. Правда, на своем потоке она встретила вновь и некоторых старых знакомых.
Весьма сдержанно с ней по утрам здоровался Николай Железник, ставший, конечно, комсоргом потока. А в самом вначале учебы к ней подошел симпатичный детина двухметрового роста и радостно заявил, что он с ней на одном горшке в садике сидел. С трудом она узнала в нем маленького Игорька Сударушкина и даже всерьез некоторое время размышляла, что хорошо бы ей как-нибудь вспомнить с ним былое. Но потом Игорь почему-то ни разу к ней не подходил и не подсаживался на занятиях, а когда она попыталась однажды с ним заговорить, он весь покраснел, и не поддержал разговор. Он все время ходил в обнимку со своим другом — Вадиком, который плотно его опекал наверно потому, что Игорь выполнял за него почти все задания. Странно, но молодые люди у них на потоке вели себя так же, как и ее призраки. Так же они резались в карты, так же вслух обсуждали девочек, вот только замаливать им было пока что нечего. Но это был только вопрос времени.
* * *
— Алло, алло!
— А… это ты, Клевкин.
— Ты в кино пойдешь?
— Нет, дома буду сидеть. От тоски помирать.
— Так я тебе и поверил.
— Не хочешь — не верь.
— Варь, тебе, может, полы надо помыть или прибить что-то, а? Так я могу.
— А тебе что, делать нечего?
— Да я так… по-дружески…
— Ну, заходи…
— Так я мигом! Может пива по дороге купить?
— Точно! И рыбки какой-то соленой, ладно?
Клевкин поступил в местный университет, который выпускал школьных учителей и инспекторов уголовного розыска. Почему-то сам он решил стать учителем физики, и от этого на Варьку заранее накатывала дикая тоска. Вот кого бы она меньше всего хотела иметь в знакомых, так это учителя физики. Но Клевкину было все до лампады, как он только собирался с таким характером детей учить — непонятно! И еще у него была слабость к спиртному, так что в советской школе Клевкин непременно стал бы алкашом. Варька заранее за него переживала и исподволь приучала к более легким напиткам. Она пыталась ему внушить, что пить пиво — это значит не зазюзюкать три литра разом, а строго выдерживать и соблюдать традиции. Но Клевкин продолжал при ней самоотверженно напиваться так, что уже после часа их общения никак не мог поймать ртом подаваемую ему с вилки соленую рыбу.
С чего бы ему, вроде, было так пить? Но на этой почве он на втором курсе даже пережил некоторую трагедию, сломал, можно сказать, свою жизнь. На седьмое ноября он с такими же идиотами решил отметить рождение Революции у себя дома. Скромно, по домашнему. Несколько раз звонил Варьке и заплетающимся языком просил ее прийти. Она, конечно же, не пошла и правильно сделала. Он жил на пятом этаже типового дома, в цоколе которого располагалось молодежное комсомольское кафе «Спорт». На седьмое ноября там было особенно людно. Народ вышел покурить, когда из окон Клевкина на головы полился кипяток. Вернее, это им снизу вначале показалось, что это кипяток, потому что от этой влаги в морозном воздухе шел обильный пар. А это Клевкин и его друзья на них сверху пописали. Неделю после этого он Варьке не звонил, ему было очень некогда, его всю неделю разбирали на разных собраниях, выгоняли из комсомола, куда они с Варькой проникли с таким трудом, а под занавес вышибли из университета. Выгнали из семи пивших с ним друзей его одного, потому что заступиться за него было некому. До армии он устроился фотографом в Варькин институт, поэтому она к нему часто теперь заходила в фотолабораторию сделать очередной снимок своей наружности и выпить пива.
— Я, Клевкин, наверно, в партию вступать буду.
— Ну и дура.
— Безусловно! Но мама мне все уши прожужжала на счет этой партии.
— Ты, Варь, что ли, маму слушаешь?
— Ну, я же девушка, Клевкин! Я до замужества маму слушаю, потом буду мужа слушать. Что ты так наливаешь быстро? У меня уже глаза стаканчик не видят. Рыбку надо во рту подтаять, а только потом в таких неимоверных количествах заливать пивом. Я же совсем пьяная, Клевкин!
— Ты мне такой еще больше нравишься. Пойдем за меня замуж, а?
— Меня тебе никто не отдаст, мы же с тобой мигом сопьемся.
— То-то и оно! Я, может, и пью с этой печали. Тебе муж нужен положительный, партийный, другому тебя не отдадут. Давай еще по одной дерябнем?
— Только рыбку подтаим, а?
— Само собой, Ткачева! Куда же мы без рыбки?
НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ
Смешно, но ей, как ведьме, в то время было совершенно некого искушать, не у кого было испытывать нравственные устои, проверять их на прочность, устойчивость и податливость связей (все-таки эта ведьма изучала строительную механику)! Все вокруг на ее потоке были непрочны, неустойчивы, с удивительно податливыми связями! Может быть действительно так, поменялись времена? Почему-то люди перестали бояться за сохранность своей души. Иногда ей казалось, что она заглядывает не в души, а в пустые комнаты, дано покинутые хозяевами, по которым лишь свободно гуляет сквозняк. Что же ей оставалось, если ее Дар требовал следования против течения? Хорошие времена — хороший выбор! Что могла сделать отдельно взятая ведьма в отдельно взятом социалистическом государстве? Вдохнуть новые души вместо добровольно исковерканных слабыми, пригнувшимися перед холодными временами людьми? Но на это своей души не хватит.
Хотя кое-что она уже могла. Варька уже научилась создавать свой ночной мир. Она умела заставить своих сверстников жить по его законам, как они заставляли ее днем жить по своим. Она могла забраться в любую голову, независимо от крепости марксистско-ленинских убеждений ее обладателя. Каждый видел с ней свой собственный сон, каждому она дарила свой ночной шанс. У каждого она выдирала свою заветную, глубоко спрятанную мечту. Утром студенты сидели заспанные, сумрачные. Обсуждать сны в обществе победившего социализма было не принято. На это имелись другие учреждения с крепкими решетками на окнах и пижамами с неимоверно длинными рукавчиками. Поэтому каждый осмысливал увиденное наедине с собой. Иногда Варя ловила косые взгляды, но отвечала кристально чистым, идейно убежденным взором своих прозрачных зеленых глаз. А если кто-нибудь из ее подопечных все-таки пытался заговорить с ней о своих снах, она ехидно хихикала: "Ну, ты, прям, Вера Павловна! Жди четвертого сна, будешь знать, что делать!"
* * *
В эти сны, не смотря на все ее заслоны, каждый раз умудрялся каким-то образом пробиваться Клевкин. Ее призраки почему-то были особенно к нему расположены, они встречали его с улыбками, хлопали по спине, трясли его руки в крепком мужском пожатии. От Варьки Клевкин предпочитал держаться подальше, она несколько раз безуспешно пыталась его прогнать. У них с узкоглазыми был свой мужской кружок, которому Варька не мешала. Иногда у них во снах откуда-то брались кони, и Клевкин самозабвенно за ними ухаживал под руководством того желтомордого, что был по моложе.
Очень редко ей удавалось докричаться и до Леньки. Он, умаявшись за день на своих прыжках, бросках, маршах, откликался все реже. А жаль! Только с ним было так славно лететь и лететь без всякого самолета далеко-далеко за Сириус, куда их когда-то настойчиво звали братья Стругацкие.
Но особенно Клевкину и призракам нравилось, когда Варька устраивала сны для Коли Железника. Учеба в институте давалась ему без труда, он был в ней по-хохляцки упорен. А всем их преподавателям, не слишком уверенным в том, что они говорят, он преданно глядел в рот. Вот если бы Железник был конем, то цены бы ему не было. Но он родился Железником, и от этого был даже несколько опасен. Его давно, еще в школе, стали выдвигать и продвигать по пионерским, а затем и по комсомольским линиям. Коля имел большие ораторские способности, что очень ценилось взрослыми. А еще он умел с лету ухватить намек старших и логически выверенно развить его в своей речи. Его не надо было вызывать для тихих предварительных разговоров, он ориентировался с ходу, он был всегда рядом, под рукой. Железник был просто незаменим, когда преподавателям надо было кому-нибудь врезать из учащихся или студентов как бы по инициативе снизу. Кроме того, он ни в чем не был никогда замечен, отмечен, его никто не видел даже пьяным. Поэтому его правильные, убежденные речи воспринимались как суровая неизбежность, как приговор без права переписки. Хотя многие, если бы умели говорить как он, поступали бы так же, его все же недолюбливали. За Колиной фанерной вывеской не чувствовалось жизни. К девушкам он тоже относился как-то странно. То он почти ласково, посмеиваясь, шутил с ними, то вдруг тут же грубо цедил что-нибудь, разомлевшей было девице сквозь зубы. Пусть удивляются те, кто мало знает. Но Варя еще со школы поняла, что Железник несет в себе изуродованную душу гаремного евнуха. Его вечные страстные желания были бесплодны, приносили лишь разочарование. Влечение кастрата упорно, неутомимо, ему невозможно следовать, невозможно и уничтожить, потому что нет ему утоления. Она часто влезала в его сны со своей неизменной свитой и Клевкиным. Ей хотелось просто повеселиться, развеяться. Жизнь была скучна, а Варя любила шалить, все-таки ей мало довелось безобразничать в детстве. А то, что происходило там, в снах, было, даже забавно. Они всегда оказывались в одном и том же роскошном серале у мелкого бассейна с золотыми рыбками. На парчовых расшитых подушках лежали скромно одетые молодые женщины. Ну, не в том смысле, что скромно, драгоценных камней на них как раз было очень много, просто с остальной одеждой — несколько туговато. Два желтолицых воина чувствовали здесь себя как золотые рыбки в воде. Они, по такому, случаю надевали шелковые халаты прямо на голые тела с многочисленными ссадинами, шрамами и потрясающими цветными татуировками. В снах они с лихвой компенсировали вынужденное дневное бездействие и с пользой для себя проводили время, не мешая размеренной беседе Коли и Вари. Клевкина они там тоже со смехом поучали чему-то, наверно, уходу за лошадьми.
Коля был здесь толстоватым, богато и вычурно одетым человеком. Он сидел возле Варьки на корточках и рассказывал скучные длинные романы Жюля Верна. Здесь всегда было жарко даже под тенистой кроной деревьев с золочеными стволами, росших в керамических вазах. Как бы это мягче сказать, но на Варваре, в силу, конечно, жаркого климата, было одето при этом только одно огромное алмазное колье, со множеством висюлек, издававших тихий звон, когда она от души потягивалась на ласкавших кожу подушках. Коля, то есть, теперь полноватый безбородый человек с высоким голосом, старался невзначай прикоснуться к ней влажными ладонями. Глаза его то загорались, то бессильно гасли. Он осторожно трогал сверкавшие в солнечных лучиках камешки на ее груди, и Варя в полудреме слушала его льющуюся речь о странах, где алмазы лежат между раскаленными камнями, в сплетающихся клубках змей…
МЕСТЬ ЖЕЛЕЗНИКА
Из-за этого гада ее не приняли в партию. На собрание, где обсуждалась ее кандидатура, она пришла в облегающей кофточке и с химической завивкой. С завивкой Варька выглядела скромной партийной овечкой. Ее седая прядка при этом казалась данью моде. Спрашивать ее об Уставе партии, который она так и не смогла прочесть, хотя очень старалась, партийцам совершенно не хотелось. Ее хотелось посадить себе на колени и качать, укачивать… Поэтому спрашивали, в основном, о ее социальном происхождении, ее интересах, увлечениях, о том, почему она решила так круто изменить свою жизнь — вступить в КПСС. Все шло просто замечательно, даже парторг не счел нужным напомнить ей о том скверном случае с историей КПСС.
Женщинам-партийкам Варвара не понравилась, но она хорошо училась, не грубила, проблем с ней не было. Правда, партия у них рабочая, а у девочки — папа — инженер, а мама — врач. Но, с другой стороны, они и сами не крестьяне. А мужчины уже вслух рассуждали, кому бы заняться наставничеством молодой коммунистки в период ее кандидатского срока. Вот тут-то и взял слово кандидат в члены партии Николай Железник.
— Я Варвару Ткачеву знаю с первого класса, поэтому мне есть, что сказать. Вот вы, товарищ парторг, хоть знаете, что она ни одной работы Ленина не читала, а конспектов у нее сроду не было? А о материалах партийных съездов она как-то заявила, что их писали сумасшедшие, поэтому это вообще и прочитать невозможно!
Зал зашумел, кто-то пытался остановить Железника, но это было равносильно остановке взлетающего пассажирского лайнера или брошенной снайпером гранаты.
— Оценки по общественным дисциплинам ей ставят молодые ассистенты, которые вместо вас, уважаемые лекторы, экзамены принимают. Что они могут поставить Ткачевой, если она с ними в кабинете общественных наук, не стесняясь студентов, которые в этот момент конспектируют классиков марксизма-ленинизма, за шкафами целуется по очереди, заметьте, и дает гладить коленки?
Варя начала тихонько всхлипывать, откровенно не зная, что же ей предпринять. Выходит, он еще и выслеживал ее. Ну, целовалась! Она просто ничего с собой поделать не могла. Как только услышит про пролетарии всех стран и повышение производительности труда, так с ней такое делается, такое! Но она честно пробовала это конспектировать, пробовала! Подумаешь, поцеловала она этих дураков за пятерки! Да они сами от своих классиков на стенки лезут! Они сами в пятидесятый раз о детской болезни левизны весной на экзаменах слушать не хотят! Они сами хотят только целоваться! А про покойников она потом почитает, когда уже никто не захочет ее целовать…
Железник все говорил, говорил, говорил. Прощай, партия КПСС!
— Да, портрет студентки Ткачевой висит на доске почета! А когда я пришел в фотолабораторию института в назначенное время, заметьте, тоже фотографироваться на доску, мне сказали, что сейчас мастеру некогда, попросили прийти через неделю. Но я вошел в кабинет к начальнику лаборатории и что увидел? Фотомастер, по фамилии Клевкин, сидел в кресле, слушал музыку. Ткачева лежала, заметьте, на спинке этого же кресла в сапогах и гладила ногой в сапоге, заметьте, фотографа по щеке! И в этой лаборатории просто ужасно пахло пивом! Я просто уверен, что они успели его спрятать под стол! Она деморализует всю фотографическую службу нашего института!
— Вы, Варвара, действительно гладили его сапогом? — с нескрываемым интересом спросила пожилая преподавательница немецкого языка.
— Ну, да, Нина Кузьминична! Он же небритый все время, руки ведь обдерешь!
Варя повернулась и вышла из аудитории, но даже у раздевалки она еще слышала обвинительную речь Железника.
О ТОРГОВЛЕ ЖИВЫМ ТОВАРОМ
Здравствуй, Леня!
Моего друга, Леонид, нынче в армию забрали. Он косил, сколько мог. Очень мы с ним жалели, что нынче в армии нет кавалерии. Странно, в армии — нет, а в милиции — есть! Очень он к коням расположен. Но вообще-то он такой идиот еще со школы, что только его к вам в армию и направляй. Вы там из него отбивную сделаете. Или, может, напрасно я переживаю? Мне тут два товарища говорят, что из дурака Клевкина хороший воин получится, но у них свой взгляд, а у наших отцов-командиров — свой. Отобьют они Клевкину селезенку. Не тебя, Леня, я имею в виду. Ты у нас — военная косточка, воин по сословию, сын полковника.
Не знаю, как там тебе в казарме живется, Леня. Может так, что ты и в письме написать побоишься. А раньше в казарме жили весело. Военное сословие умело устраиваться с размахом в любых условиях. Нынче этого нет. Но ведь человеческое общество не существует без сословий, это не Царство Божие, где мы все равны. Сословность общества всегда основывалась на воинских успехах предков, на их разбойном прошлом, или на их же удачливой коммерческой жилке. А теперь, вместо уничтоженных сословий пришли новые, за плечами которых только тьма неизвестности, небытия. Они хорошо знают лишь новые правила игр в бумаги, доносы, телефонные звонки, тихие словечки. Как бы мне хотелось, чтобы у вас с Клевкиным было иначе, чтобы вы действительно были уважаемым сословием — воинами, защитниками Родины. Да ведь те, тихонькие наши сословия житья вам спокойного не дадут, продадут вас за дешево, любому продадут. Потому что сами они — беспородные и так недорого стоят, стремясь продаться любому, кто даст их цену. Прости, выпила я сегодня одна, поэтому и письмо получилось такое. С уважением Варя.
Варя не стала писать Леониду, как на проводах Клевкина в армию они долго целовались с ним в подъезде. Почему-то она понимала, что писать Коробу такое — это совсем лишнее. Без Клевкина стало скучно, в институт идти не хотелось. Только с его отъездом она почувствовала, что вокруг нее больше нет никого, с кем можно было бы так свободно потрепаться, кого можно запросто захватить в любой сон. И кто, оказывается, единственный, из тех, кого она последнее время целовала, знает, что настоящий поцелуй, от которого можно услышать колокол собственного сердца и потерять голову, сплетен из страсти и нежности, горечи разлуки и беспечной надежды на скорую-скорую встречу… Вот только совершенно плевать было Клевкину на вассальскую преданность, на походы к вершинам славы.
И Варька заранее до глубины души боялась за него, потому что понимала, что не станет Клевкин держать ровную нитку строя, и никого, может быть только кроме нее, не признает своим командиром. А на лицах других своих сверстников Варька не видела готовности к любви, подвигам и славе, а лишь одно желание — продаться по дороже. Главное, что им было абсолютно все равно кому продаваться, да и в цене они мало что понимали. Хозяев они выбирать совершенно не умели. Она помнила и уже встречала в чужих снах эти пустые взгляды, потерявших свою человеческую сущность рабов. И ей почему-то казалось, что ничего в человеческой истории не заканчивается и не проходит со сменой производственных отношений к орудиям производства, дудки! Если человек — раб, то никакие общественные формации не выпрямят его спину.
* * *
— Варя, позвони Андрею, я же видела, что ты ему очень нравишься, и он тебе не безразличен! Все-таки он — сын наших давних друзей, семья очень приличная, мы друг друга знаем.
— Мам, его все время дома нет для меня, я уже не могу слышать голос его матери, которая мне с радостью это сообщает. Может быть, она и ваша знакомая, но на меня это явно не распространяется.
— Значит, ты опять что-то не так сказала…
— Мамуля, почему вы все такое значение придаете прилюдному трепу?
— Я думаю, что девушке на выданье надо держать язык за зубами.
— Поэтому у нас столько разводов.
— Почему ты отказала Королеву?
— Но он же подонок, мама! Подонок и комсорг нашего факультета. И я видела, как он продает друзей.
— Наша жизнь создана для подонков, они всегда хорошо устраиваются в жизни.
— Мам, я понимаю, что замужество, если оно не по глупости или по любви, — это своеобразная продажа живого товара, но я правда не вижу достойного себе владельца.
— Я просто не знаю, как ты будешь жить?
— Проживу как-нибудь.
— Но так же нельзя! Почему все люди вокруг тебя — плохие?
— Да почему плохие-то? Они даже не то, что недостойные, а какие-то беспородные!
— Ты не знаешь, что бы с тобой было в наши с отцом времена!
— А ничего бы не было! Я бы в колхозе пахала, там разницы нет, о чем у коровы из-под хвоста кукарекать.
— Тебе надо еще раз попытаться вступить в партию!
— Это еще зачем?
— Если ты будешь беспартийной, то тебя никогда не выберут заведующим кафедрой.
— Мама, мама… Позвони Андрею, выйди за Королева, вступи в партию… Знаешь, я ведь уже старовата для помоста. А ты все норовишь продать меня по дороже для моей же пользы.
Варя пожалела, что сказала это, потому что у мамы болезненно искривилось лицо, а в глазах опять появилось выражение бесконечной муки. Чем она-то могла утешить ее? Ну, не та она девочка, о которой ее мама видит сны! Не бывает такого второй раз! Господи, почему же Ты не лишил ее этих осколков старой памяти, жалящих Душу? Каждую ночь на полную Луну Варина мама звала свою девочку, но она уже была там, куда наш зов не доходит…
Вот кто знал, как продавать себя, так это ее мама! Сама-то она в партию не вступала и за подонка замуж не пошла. Но ей довелось продаваться в буквальном смысле этого слова как-то очень давно, когда она была совсем другой женщиной. Варька помнила этот часто повторяющийся мамин сон, пахнувший морем и заржавевшей рыбой, в котором было все совершенно не так, как позже написали в учебниках истории. И каждый раз после этого сна Варька долго размышляла: достаточно ли она свободна, чтобы вот так же суметь продать себя?
* * *
Ее в последний раз выставили на рынке живого товара перед отплытием галеры перекупщиков за море. Это был конечный пункт, где еще говорили на ее языке, и где она еще могла за себя торговаться. За века существования таких рынков до тонкостей была отработана методика продажи, когда сама жертва набивала себе цену с помощью специального глашатая и стремилась быть немедленно проданной за как можно большую цену.
Несчастную родину их покорили соседи, говорившие с ними на одном языке, благодаря предательству части их граждан. Ей было двадцать восемь лет. По рыночным понятиям она уже была старухой. На предыдущей остановке она, увидев богатого не очень молодого мужчину, сама вытолкнула на помост свою двенадцатилетнюю красавицу-дочь, сама сказала скабрезность глашатаю, которую тот тут же стал выкрикивать на всю площадь. Ее бедная девочка под неумолимым материнским взглядом держалась из последних сил. Вместе с ней загоревшийся мужчина купил и двух ее бывших рабынь, оставшихся в живых после захвата и разграбления их небольшого государства. Ее побили плетьми, за то, что она долго кричала тому человеку, чтобы он не обижал ее девочку. У нее был еще сын, но их разлучили сразу же, при сортировке рабов. Он был уже достаточно взрослым для мужского сарая.
В основном на эти военные рынки приходили рабы-управители, которым хозяева полностью доверяли. Ее они отличали сразу же, рабским чутьем они видели в ней госпожу, которой никогда не смогли бы приказать. Поэтому они издевались над ней больше всех. При них она молчала, это были не ее покупатели, не те, кому бы она могла себя отдать.
После этой последней остановки она могла попасть в руки оптовых торговцев для самых гиблых мест. Она хотела бы остаться здесь, где говорили еще на ее языке, хотя испытывала к этим свободным людям жгучую ненависть. Но день, когда ее выставили на продажу, был крайне для нее неудачный. Вечером в тот город морем доставили партию южных славянок, которые были готовы на все, чтобы только не попасть дальше, на восточные рынки. Глашатай рынка подходил к каждой и спрашивал, как объявить о ее достоинствах. Славянки ничего не понимали, но они задирали свои грязные драные подолы одеяний выше головы, чтобы желающие могли увидеть все, чем наградила их природа.
А ей уже было, к сожалению, далеко не пятнадцать лет, на помост ее не поднимали, она стояла в общей женской толпе. Вот тогда-то она увидела эту свиту, сопровождавшую крупного надменного мужчину, праздно шатавшегося среди голых женских тел. Она видела, как стоявшие до этого неподвижно македонянки выскочили вперед, предлагая себя. Всех их ждала впереди еще одна голодная ночь с пьяными корабельщиками, которым владелец сарая живого товара сдавал их по сходной цене. Она властно ухватила рыночного глашатая за плечи и, развернув к себе, глядя ему в глаза, прошипела свой клич. Окинув ее наметанным взглядом, он ощутил тот запах наживы, который может дать только настоящая женщина. Отогнав всех взволнованных рабынь, он выставил ее на помост, ничего не объявляя. С улыбкой она глядела на замедлившего шаг мужчину. Сопровождавшая его свита тоже разглядывала ее, прошедшую ночь захвата города, все потерявшую, даже детей. При ней убили мужа, а потом было недельное голодное плавание, кочевья по рыночным сараям и почти ежедневная смена мужчин. Уже много дней у нее не было ни теплой воды, ни розового масла. Но почему-то все в молчании смотрели только на нее, а не на голые животы так и державших подолы славянок.
Глашатай насладился молчанием и громко заорал на весь притихший рынок: "Эта женщина не умеет ничего, но она умеет все! Она не имеет ничего, но даст тебе все!". Его последние слова потонули в реве ставок. Выбранный ею в повелители мужчина купил ее за баснословную цену и никогда не жалел об этом. Она действительно дала ему все, о чем только мог мечтать смертный. Она умерла через три года, и ее тоскующая душа стала, наконец, свободной.
САРЫНЬ НА КИЧКУ!
Накануне пролетарского праздника мира и труда 1 Мая, бывшего ведьминого дня по старому стилю, Игорь Сударушкин заснул как обычно, ближе к двум часам ночи, придя от друзей не очень трезвым после партии в покер. Только его голова коснулась подушки, в лицо ему ударил холодный ночной ветер. Они мчались на конях с пиками наперевес. Эти мерзавцы Розенцвейги опять совершили набег в его владения, их надо было немедленно покарать. Копыта стучали: "Только догнать, только догнать!".
Почему-то здравые мысли о том, что с ними бы можно было договориться по-хорошему или, хотя бы, пожаловаться кому-нибудь повыше, он сразу же откинул. Их надо было бить! Рядом с ним на взмыленном кауром жеребце неслась Варвара из их группы, а поодаль за ней, дико повизгивая, мчались два всадника с длинными черными волосами и азиатскими физиономиями. Они нагнали Розенцвейгов у лощины. У Игоря нехорошо засосало под ложечкой, он быстро прикинул, что тех раза в три-четыре больше. Но Варька уже вклинилась в самую гущу, а два ее спутника вовсю орудовали какими-то странными мечами. Игорь никогда не слышал хруста костей и их противного скрежета о металл. Ночь сразу же наполнилась ржанием коней, мучительными воплями, Игорю стало как-то не кошерно, но тут ему очень больно вдарили обломанным древком в плечо, и он взъярился. Копье в его руке оказалось удобным, маневренным оружием для его баскетбольного роста, он серьезно зацепил троих, сбив их наземь. Кони с жалобным ржанием уносили запутавшихся в стременах всадников в темную пропасть ночной степи, до неузнаваемости уродуя, обдирая их лица о голые еще кусты можжевельника и вереска.
Краем глаза Игорь увидел, что один из Варькиных косоглазых замахнулся своим мечом на всадника, который был смутно ему знаком, но он не успел даже вспомнить, кого тот ему напоминал, как голова седока, вся в пепельных кудрях, после свистящего взмаха меча медленно скатилась под ноги вздыбившегося коня…
Они сидели с Варькой вдвоем у костра, двое воинов держались поодаль. Плечо у Игоря распухло. Он подумал, что ему придется завтра сачкануть с демонстрации. Но никогда ему не было так здорово, так хорошо. Они говорили с Варей, перебирая странные, добытые у Розенцвейгов, большие тусклые монеты с обрезанными краями. Почему-то здесь он не мог ни лгать, ни притворяться, ни ерничать в обычной в их среде шутейной манере.
— Ты хочешь еще побывать здесь, Игорь?
— Все это очень странно, боюсь, что мне будет очень трудно проснуться, трудно продолжать обычную жизнь.
— Но ведь это совсем не обязательно!
— Знаю, но мне так привычнее. Ты интересная девушка, Варя, и красивая, по-моему. Но из наших вряд ли кто-то решится подойти к тебе, завязать серьезный роман. Хотя очень многие думают об этом, даже говорят, что спали с тобой.
— Но почему так-то, Игорь? Говорить, как о свершившемся факте, о том, о чем мечтаешь, даже не попытавшись воплотить свою мечту в реальность… Не понимаю.
— С тобой все слишком серьезно, слишком непросто. Многие боятся тебя. Боятся, что ты откажешь, бояться показаться смешными в глазах других. Тебе ведь нужна верность, кипучая страсть, вот такие приключения. А эти времена отошли, Варюша, безвозвратно. Нынче народ выбирает беспроигрышные, проходные варианты. У нас на рисковые затеи, вроде этой, времени нету. Ты опоздала родиться.
— А ты? — спросила Варя, — я ведь выбрала твой фрагмент, это твое приключение, Игорь!
— Мне в этой жизни такие приключения совершенно ни к чему, и серьезные любовные страсти как-то тоже не по карману.
— Но ведь придется же когда-то заводить и серьезное, Игорь.
— Может быть, когда-то…
— Игорь, но ведь ты здесь — все, эта земля твоя по праву, ты мог бы и в теперешней жизни…
— Варя, — перебил ее Игорь, — я слышал кое-что о снах с тобой от Юрки-маленького, ты меня больше сюда таскай! Я только лишь хочу прожить обычную жизнь — обеспеченную, без твоих неразрешимых проблем!
— Что ж, живи…
* * *
Игорь просыпался с тяжелой головой, нестерпимо ныло плечо. Кое-как он оттрубил демонстрацию, протащив по городу огромный транспарант с надписью на все времена: "Партийная организация строительного факультета решения очередного съезда КПСС выполнит!".
ВСЕ ЖЕНЯТСЯ, А ВАРЬКА — НЕТ…
Семестр закончился быстро, а летом Игорь женился на младшей сестре Вадика. Ребята часто собирались у него выпить пива и поиграть в карты. Здесь же крутилась и восемнадцатилетняя сестренка в коротеньких шортиках и открытой маечке. Квартира была большой и ухоженной, чувствовался достаток, имелась и большая библиотека с красивыми подписными, никем не читаными изданиями. Папа Вадика был начальником цеха большого завода, а мама занимала какую-то крупную должность в обкоме партии. Игорь после женитьбы отпустил усы и совершенно переменился внешне. С Варькой он теперь даже не здоровался, будто за новой своей личиной старался что-то от нее скрыть.
Вадим был симпатичным пареньком с пепельными кудрями и обаятельной улыбкой. Он даже одно время ухаживал за Варей, но старался никогда не приглашать ее на вечеринки, особенно, если им уже был приглашен Игорь. Особой привязанности Вадика Варя почему-то не чувствовала, но всякий раз, когда раньше Игорь пытался заговорить, он кидался ухаживать за ней, будто с отчаянием бросался в воду. До женитьбы Сударушкина это льстило Варе, она полагала, что это ревность. И ей, как и всем девушкам ее возраста, хотелось бы, чтобы поклонники вот так добивались и перехватывали ее внимание. Но после того как Игорь женился, Варя с огорчением поняла, что в интересе Вадима был только примитивный житейский расчет.
Он обманул ее, отвлек. Он лучше ее понимал настоящую цель всех девушек их потока, целыми днями теперь напролет только и шелестевшими губами друг дружке: "Замуж, замуж, замуж…." Это было похоже на жужжание проснувшихся от зимней спячки насекомых. Странно, но он, видно, был умен каким-то иным умом, которого Варьке не дал Бог. Ведь в учебе он был совершенным дураком, не мог понять простейшей формулы. Варя с удивлением думала, как же он окончил среднюю школу и поступил в институт? Все проекты в период его ухаживаний делала за него Варя. Но все, что касалось материального, имеющего твердую цену, Вадик понимал гораздо лучше ее. Варька никогда не была мелочной, но и ее покоробило, когда Вадик не вернул ей одолженную на время коллекцию магнитофонных пленок, заявив, что она их ему подарила. И еще она ни разу даже не попыталась взять его в свои сны, у нее и мыслей подобных не было, она инстинктивно боялась делать это с людьми, чьи мечты можно купить за деньги. Нет, он был совершенно иным, из мира, наполненного вещами, в котором не было места страсти, в котором все желания и чувства имели свои четкие границы без полутонов.
Она перенесла завершение этого странного меркантильного романа с легкостью. Да, и женитьбу Сударушкина — тоже. В конце концов, что ей-то беспокоиться, если в каждом письме Ленька обещает приехать за ней после училища, а Клевкин — угрожает расправой, если она еще с кем-то будет целоваться?
Сессию обычно Вадик проваливал, а потом как-то за неделю умудрялся все сдавать. Без звонков его родителей это, конечно, не обходилось. И как-то после экзамена архитектуры Варя сидела в коридоре на столе, ожидая выхода из аудитории старосты, который должен был выдать ей стипендию. Выполз и Вадик с очередной двойкой, она, видно, досталась ему с большим трудом. Он был весь какой-то помятый, изломанный. Из штанов он вынул огромный учебник архитектуры, просунутый сзади за ремень, из пиджака достал пачки шпаргалок. Ему было по-настоящему плохо. Увидев Варю, он вдруг рванулся к ней с жалким растерянным видом, как к мамке. У нее не было к нему никакой обиды, но продолжать какие-либо отношения с ним она не могла. Поэтому Варя на лету остановила его тяжелым взглядом в упор. Вадик весь как-то съежился и кособоко пошел прочь, бросив перед уходом на нее быстрый озлобленный взгляд.
И после сессии началось! Вадим притаскивал к ним на поток девушек с младших курсов, почти интимно ласкал и целовал их на глазах всего потока. Варю абсолютно не задевала половая и любая другая стороны Вадиковой жизни, но на нее неожиданно обрушились насмешки однокурсниц. Оказывается они, наблюдая за развитием их романа, исходили завистью и ревностью, а теперь искренне потешались над Варькиным поражением.
Ничего не испытав с Вадиком, даже поцелуя, вытерпев пустые, нудные отношения без разговоров, без общения, она теперь еще и в глазах однокашников оказалась брошенной! Следующая сессия подвела черту под этим кошмаром. У Вадика опять что-то там по учебе не клеилось, но к Варе он больше не подступался. К концу четвертого курса половина всех девчонок потока повыскакивали замуж. Но Варя не заметила, чтобы с кем-то из них произошла та романтическая история, о которой она так мечтала с юности. Период ухаживания, в который и случаются такие истории, у девочек, как правило, длился недолго, а после пьяных свадеб с непременным мордобоем их девочки быстро переходили от облегающих джинсов к платьям-колоколам. Такое замужество, по хуторским меркам, Варьке было ни к чему. Но она-то когда замуж пойдет? Родители уже всерьез переживали за нее. Хмурились и озабоченно вздыхали призраки за ее спиной. Варька и сама понимала, что Игорь прав, никто из ее нынешних знакомых не решится сделать такое со своей жизнью — жениться на ней. Вот если бы она осталась на хуторе, то все бы там было ясно и понятно. Там она была бы к месту, там никто с нее не потребовал членства в партии и поверхностного скольжения по линии жизни. Нет, там к жизни относились всерьез, а все парни, которых она там знала, были бы ей надежной опорой. Но здесь все не так, и с этим надо было примириться.
Конечно, она могла бы выйти замуж за Клевкина, и это, наверно, было бы даже здорово, но мама ничего слышать не хотела о наглом ссыкуне-фотографе. История эта была достаточно известной в городе, а родителей Вари тоже хорошо знали. По своей же хуторской ментальности Варя не могла оскорбить своим выбором родителей. И Ленька, решивший без всяких палок и самолетов освоить небо, тоже был со своим будущим неустроенным офицерским бытом, с точки зрения мамы, совершенно непроходным вариантом.
Мама сказала, что после института Варьке надо сразу же ехать в аспирантуру. Вот она и поедет. Там ее не знает никто, кого-нибудь она там облапошит. Она будет плыть по течению, держась ближе к берегу, пускай за нее все решают мама и жизнь. Эти две дамы все расставят по своим местам: и Клевкина, и Леньку, и всех остальных. И все же Варьке хотелось выходить замуж за тех, кто неизменно нравился маме, от них заранее веяло обустроенной скукой, в которой Варька не находила места себе самой.
ВАРЬКА — ИНЖЕНЕР!
После успешной защиты дипломного проекта, Варя не почувствовала никакого удовлетворения, одну пустоту в голове. Осенью она уезжала в аспирантуру. Как говорится, больше учись, меньше работай! Она шла после защиты в начале июня по городу и не знала, куда себя девать. День был солнечный, но временами дул свежий неприятный ветерок.
Она шла, шла, и неотвязно ее преследовали назойливые мысли о будущем. Вот мама планирует это ее будущее, планирует, а приедет Клевкин из армии, и все будет иначе! Она поедет в другой город вместе с Клевкиным! Тайно! Он там поступит в тот же институт, все-таки инженер будет маме гораздо приятнее пропитого учителя физики. А во время учебы они будут жить в общежитии на полную катушку! Вот с ним-то она, наконец, хлебнет этой чудесной школярской жизни! Конечно, с Клевкиным могло получиться и по-другому. Неизвестно каким он мог вот-вот вернуться из армии, может быть ему там уже все объяснили на счет проходных вариантов. Письма от него шли в последнее время странные, в которых он многое не договаривал. А азиаты отказывались к нему идти и не пускали Варьку.
И Ленька написал, что уезжает служить куда-то, куда пока Варьку с собой взять не может, но, возможно, приедет к ней потом. Все было зыбко вокруг, а ей было так одиноко…
Вдруг рядом с ней притормозил «Жигуленок» ярко-желтого цвета. Железник открыл ей переднюю дверку, а в салоне она увидела соблазнительно блестевшие бутылки пива. Когда Варя устроилась на переднем сидении, машина рванула, они включили «Маяк», где как раз что-то передавали в рабочий полдень. Коля завез ее далеко за город, в лес, к петлявшей в глинистых обрывистых берегах тихой речушке.
— Давай, искупаемся, — предложил он.
— Коля, вода холодная, у меня даже купальника с собой нет, и ветер такой противный! — взмолилась Варя.
— А к чему тебе купальник, Варь? А если алмазов на шее не хватает, то я специально по этому случаю у матери все подвески с хрустальной люстры снял, одевай — и в воду!
— Ну, разве что после пива, — неуверенно сказала Варя.
Они сидели на берегу и медленно осваивали по второму литру пива. Железник не пьянел, глядя на Варю холодными злыми глазами. Варвара поняла, что Николай решил взять напоследок реванш за все ее ночные издевательства. Но ведь после ее неудачного вступления в партию, она ни разу не была в его снах! Он был выше ее на полголовы и, конечно, сильнее. В рукопашной ей Железника не одолеть, это факт. Но отдаваться ему она тоже не хотела. В бардачке машины Железника Варя видела карты. Что-что, а карты он под столом крестить не будет! Стола рядом не было. Партийная закваска не позволит ему спасовать перед ведьмой!
— Коль, а давай так, я в воду не пойду, но разденусь… потом. Драться я тоже не буду, делай ты со мной, что хочешь, но выиграй хотя бы две партии в дурака подряд. А? Играем до двадцати партий!
Железник тут же с облегчением согласился. Но менялись козыри, а дурак все не менялся. За рекой неумолчно куковала, заливалась кукушка. Ветер утих, ласково светило солнышко. Так под бесконечный подсчет кукушки и чертыханья опять проигравшего Коляна и закончились ее студенческие годы. А, ну, и черт с ними!
* * *
И если забежать по реке времени чуть-чуть вперед, всего лишь на десять лет, не больше, то можно увидеть все то, что и так было ясно с самого начала… Игорь Сударушкин заведет двух детей, их семья получит сразу же прекрасную квартиру. Родители жены будут здорово помогать им, через три года они отдадут им свою «Волгу» в вполне сносном состоянии. Каждый год он с женой будет отдыхать у моря в отличных пансионатах. Спору нет, Игорь сделал удачный выбор.
А потом он вдруг начнет сильно пить, натура его даст какую-то странную трещину. Всех удивит его неожиданный развод. Он как-то особенно склочно поделит квартиру, и будет жить один, пропивая остающуюся от алиментов зарплату. На вечер, посвященный десятилетию окончания института, он придет чисто выбритый и почти не пьяный. Всех будет спрашивать о Варе, искать ее, потом напьется и будет кричать на весь зал: "Варя, Варька!". Но Варя, купив пригласительный билет, почему-то решила не идти на тот вечер. Вспоминать ей было, в сущности, нечего. Да и жизненные обстоятельства ее в тот момент были неважными, не для обсуждения с бывшими однокашниками. Через месяц после этого вечера Игорь умрет в глубоком запое.
У Вадика все и всегда будет прекрасно во всех общественных формациях и экономических реформах. Он единственный, пожалуй, будет иметь от приобретенной профессии больше всех остальных. Одним из первых он заведет в их городе строительную фирму «Вадим», которая каким-то образом без всяких конкурсов будет получать заказы на отделку престижных офисов банков и глав местной администрации.
Железник женится поздно. На женщине с ребенком, дачей, машиной и двумя квартирами в центре города.
В ОЖИДАНИИ ВЗЛЕТА
Здравствуй, Леня!
Можешь не отвечать, если тебе нельзя. Но мы тут уже хорошо знаем этот ваш номер полевой почты. Никакой это не Бобруйск. В старый наш двор еще год назад прислали гроб с Афоней, но тогда мы еще ничего не знали, никаких сопроводительных писем к нему не было. Моя мама сказала тогда, что, наверно, Афоня — самострел, что если бы он случайно на учениях погиб, то его командиры хотя бы соболезнование прислали. А так его Афонин папа с военного самолета получил в аэропорту, как собачий ящик. Гроб был очень легкий, и мамка Афони до сих пор уверена, что Афоня живой. Теперь никто уже о мертвых плохого не говорит, все только страшно боятся за живых.
Теперь-то даже моя мама расчухала, какой Афоня самострел! Теперь с ней истерики случаются после каждой неважной оценки брата. У нее надежда только на наш институт, там военная кафедра есть, и Серегу в армию не заберут. Ведь если он только к вам попадет, его в тот же день замочат. Он какой-то подмороженный, одним словом, самовар.
Ничего я не понимаю, ничего. Ребята у нас с потока играют в карты, ходят с девушками в кино, пьют, веселятся. Никто нам, вроде и не угрожает, но почему вы там? А тут еще со мной страшная история произошла, и даже поговорить не с кем, никто про это и слышать не хочет, а про Клевкина говорят, что он сам виноват, так, мол, ему и надо.
Клевкина прислали в конце июня. Какое-то наступление было там у вас. Теперь, правда, двое солдатиков его привезли. Чин по чину. Гроб открывать не разрешили, поэтому мне все казалось, что это его как бы не касается, ну, не он это. Мать его тоже достаточно спокойно все это пережила, нервничала, конечно. А спустя две недели после похорон, получила она посылку с его вещами и письмом, что, мол, ждите, скоро приеду. Она меня к себе каждый вечер принялась вызывать, мы каждый вечер летом ездили на вокзал — поезд с Клевкиным караулить. И, знаешь, хорошо нам было, верилось, что он в самом деле приедет. Я и днем туда иногда заезжала, мама-то его не могла, у нее первая смена в заводе. А по осени ее забрали в психушку, говорят, что оттуда уже не отпустят. А мне в аспирантуру надо уезжать, я умом-то, вроде, все понимаю, а иногда меня вдруг мысль такая ошарашит: а кто теперь Клевкина-то будет встречать?
Леня, пожалуйста, побереги себя! Возвращайся обязательно живым, на душе у меня за тебя неспокойно. Все будет хорошо, Леня! Только останься живой! Варя.
* * *
Ленька приложил листочек с неровными, наползавшими одна на другую строчками к губам и еще раз вздохнул тонкий аромат, который лист хранил и после двух недель пребывания в кармане истлевшей гимнастерки. Пахло домом и Варькой. Он разорвал письмо на мелкие кусочки, и ветер жадно их подхватил, сея среди сухой жесткой травы. Быстро темнело, а рокота вертолета все не было слышно. Пальцев ног он уже не чувствовал. С гор потянуло ночным холодом. На небе разом вспыхнули звезды, и Леньке казалось, что его голова покоится на коленях отчаянно ревущей Варьки…
КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА
Смири свою душу и жди. Надо только дождаться полной луны — и небо распахнет тебе свои объятия.
Чтобы взлететь, нужна палка лиственной породы дерева. Дерево всю свою жизнь стремится вверх, и даже мертвая палка таит в себе это стремление. Главное ведь взлет, а не посадка! Палка выбирается очень тщательно! За многие века накопилось столько тонкостей! Это — кустарное, ремесленное дело, которое нельзя поручать никому. Чтобы точно знать, как росла палка раньше, где у нее начало, а где конец, и чтобы она не бросалась в глаза, ее маскируют под метлу или голичок, привязывая сухие ветви к началу.
Если летаешь недавно, то лучше начинать в безветренную тихую погоду. Взлет должен быть медленным и вертикальным как у ночного бомбардировщика. И бесполезно с палкой в руках кидаться с высотки, это тебя манит земля, а не небо! Держишь палку крепко, сжимаешь ее двумя руками перед собой, второй конец зажат ногами. Делаешь глубокий вздох, дыхание задерживаешь, глаза у тебя закрыты, и всей душой ждешь и ловишь ту сухую, нервную энергию, которая передается тебе через враз запотевающие ладони. Лишь когда оторвешься от земли на пять-семь метров, открываешь глаза. Этот миг узнаешь по волнению воздуха вокруг тебя, с шумом выдыхаешь, и полет начался! Небо — твоя стихия! Что тебе земля с каждодневными заботами! Что тебе люди, если ты умеешь летать!
Управлять полетом нужно с огромной осторожностью. Направление выбираешь поворотом своего деревянного коня, скорость целиком зависит только от твоего внутреннего состояния и желания. Здесь есть одна тонкость: палка будет слишком быстро, порывисто изменять направление при ее повороте, если выбранное тобой дерево было слишком молодо или плохо просушено. Поэтому на большой скорости ты можешь на мгновение выпустить палку из рук, и твоя песенка спета!
Войти в сон — это как войти в воду, страшно только вначале. Но потом надо всегда вовремя уйти, этот момент надо чутко слушать по нарастающему металлическому звону в ушах. Берегись, ведьма!
АСПИРАНТУРА
От окна вагона тихо отплывал городской вокзал, залитый сентябрьским дождем. Варя уезжала в соседний город в аспирантуру, в иную жизнь без папы и мамы. И от этого ей было особенно трудно. Хотя она ехала в аспирантуру не по собственному внутреннему влечению, а лишь из вассальской преданности своим родителям, она мучилась сомнениями о том, что в незнакомом, чужом для нее городе ей некому будет оказать честь своей преданностью. Она очень боялась, что там не найдет себе хозяина, достойного ее, и будет совершенно одинокой.
Опасалась она не напрасно. На новом месте никто и не помышлял завладеть ее преданностью, да и сама она никому, собственно, там была не нужна. Так, наверно, и происходит, если идея, с которой идешь по жизни, не выстрадана твоей душой совершенно самостоятельно и только за себя. Варька оказалась предоставленной только себе самой. Она была заключена в прозрачный, открытый всем досужим помыслам, сосуд, но была полностью при этом изолирована от необходимого в ее возрасте общества.
Варя жила в отдельной комнате студенческого общежития, неплохо, по тем временам, обустроенной ее родителями. Мама считала, что в аспирантуре Варе, в первую очередь, необходимо полноценное питание, поэтому родители, приехав проверить, как устроилась Варька на новом месте, тут же купили ей небольшой холодильник. Но, оставшись после наезда родителей одна, Варя почему-то не могла ничего толком готовить. Впервые за все время своего существования она должна была готовить только для себя и кушать в одиночестве. Общежитие и корпус, где располагалась кафедра, на которой работала Варя, стояли неподалеку друг от друга в огромном массиве соснового бора, добираться туда из города надо было минут сорок в переполненном автобусе. Город и сосновый бор разделяла огромная мрачная река. Когда на мосту, соединявшем два берега, шли какие-то работы, то их лесной мир был совершенно оторван от суетливой цивилизации. Варя полюбила эти долгие поездки до города и обратно и всегда с неохотой выходила из теплого автобуса.
Гулять в сосновом лесу одной, дышать напоенным хвоей воздухом было бы просто здорово, замечательно лет, эдак, в шестьдесят, но в двадцать два года это было несколько рановато. Варя ездила в большой, по дореволюционному красивый город только в магазины, иногда в театры или библиотеки. Она непременно заходила на телефонный переговорный пункт, чтобы сообщить родителям, что она жива и здорова. Она старалась говорить о себе в самом радужном тоне, чтобы родителей не волновало ее неприкаянное существование. На кафедре к ней относились как к девочке, студентке. Разговаривали снисходительно, смотрели свысока, в свой замкнутый преподавательский мирок особо не допускали. Ей предстояло год работать инженером-исследователем, а после кандидатских экзаменов поступить в аспирантуру. Кроме нее в аспирантах числились обремененные семействами мужики под сорок, проживавшие большую часть учебного года в своих городах, с семьями. Они изредка появлялись на кафедре, быстро решали какие-то свои организационные дела и снова надолго исчезали. Она даже не знала их фамилий. Общие семинары, принятые на других кафедрах, по этой причине практически не проводились. Но раз в две недели кафедра рассматривала две-три кандидатских диссертации из других вузов страны. На кафедре был отличный, высоко профессиональный совет, поэтому защиты шли косяками. Эти побоища, после которых соискателей отпаивали сердечными каплями добрые пожилые лаборантки, были лучшей школой и лучшими семинарами для любого начинающего деятеля науки.
Варя, как будущая аспирантка кафедры, должна была обязательно задавать вопросы. Если вопросы были глупыми, что случалось чаще всего, ей влетало наравне с соискателями. Поэтому она заранее дрожала перед каждой чужой защитой. За отсутствие вопросов били еще больнее.
Варин научный руководитель был родом из поволжских немцев, его ребенком этапировали сюда во время войны. Немцев в этом уральском городе было очень много, особенно поволжских. В войну стариков, баб и детей немецкой национальности из Поволжья ссылали сюда целыми поселками. Ихних мужиков увозили куда-то дальше. Потом сюда же в старых вагонах для скота начали свозить уже настоящих военнопленных немцев, которыми заполнили тогда все лагеря на севере области. Военнопленные немцы работали в шахтах, на стройках, в лесодобывающей промышленности. Они оказались очень полезными в развитии местной производственной базы. Военнопленные были, в основном, молодыми людьми. А молодость, как известно, берет свое. Поэтому к концу войны некоторые военнопленные немцы стали жениться на поволжских немках, потому что никто из ихних мужиков из дальних краев обратно в семьи не вернулся. Характерной чертой у этих немцев были высокая организованность и какая-то генетическая упертость в работе. Как всю жизнь барабанили на производстве их родители, так и народившиеся немчики по инерции перли на горный, строительный, лесотехнический факультеты вузов. Не было в них никакой фантазии и желания хоть на шаг отступить от заведенного властями в их немецком околотке порядка. Многие немцы даже после того, как им разрешили вернуться на родину, по раз и навеки заведенному порядку остались в Союзе. Именно немцы громче всех остальных порицали некоторых отщепенцев, которые решились для себя изменить этот порядок и уехать в Фатерланд. Немецкий порядок как-то ненавязчиво существовал и в вузе, куда приехала Варька. Он как бы просто витал там у них в воздухе, во всей атмосфере. Удивительно, но к нему привыкли, как легко привыкает человек ко всему действительному и разумному. Варьку же поразила сама нумерация студенческих групп. Каждый номер начинался с аббревиатуры специальности, далее шел год поступления студентов в институт, а заканчивалось все это номером группы на потоке. Эта кажущаяся простота несла в себе полную информацию и давала возможность немедленной идентификации личности. А у Варьки номер группы в их вузе менялся с каждым семестром, некоторые студенческие проступки так и оставались безнаказанными, потому что иногда невозможно было отследить студентов только по фамилии и шифру специальности. Варвару назначили куратором группы на потоке, закрепленном за их кафедрой, по специальности "Строительство дорог". Естественно, номер группы начинался с аббревиатуры «СД». Варвару предупредили, что, в первую голову, она поставлена куратором для порядка, а потом уже для всего остального. Преподаватели-евреи их кафедры вовсю потешались над врожденной порядочностью немцев, а всех кураторов студентов-дорожников, в том числе и себя, именовали "Группенфюрер СД". Правда, сами они всегда отдавали этому порядку должное. По сложившейся традиции старостами групп назначались непременно немцы. И Варя сама слышала, как заместитель декана, еврейка по национальности, требовала перевести какого-то Герберта Росса из одной группы, где уже и так есть два немца, в другую, поголовно прогуливающую занятия, и поставить там старостой.
Стремление к порядку не гасло в немецкой крови даже от значительного разбавления ее кровями местного разлива. Наоборот, оно только возрастало. В некоторых глухих местах, куда даже гэбэшники не смогли довезти поволжских немок, военнопленные немцы женились на русских, татарках, коми-пермячках… Ни одному немцу даже не пришло в голову обмануть, как водится, девушку. Они сразу женились, намертво. А для простоты обращения нередко брали при этом фамилию жены. Поэтому руководство института с удовольствием ставило старостами и Вальтеров Ермаковых, и Гюнтеров Корепановых… Все знали, что с таким старостой не промахнешься. Если немец еще мог бы поразмыслить над приказом начальства, допустить некоторое душевное колебание по поводу его целесообразности, то Иоганн Перевозчиков исполнял его совершенно буквально. Поэтому с ними надо было быть осторожнее, шуток они не воспринимали, твердо уверенные, что начальство создано не шутки ради.
Варю до глубины души поражала умиротворенная уверенность этих немцев, что все действительное — разумно. Да она бы с этого разума съехала, если бы и ее дедушка под рюмку водки бодренько вспоминал на 9 мая, как он "браль Смоленск", "шагаль нах Москау" и "пиль самогонка" в деревне под Курском. Как они после этого могут быть и пионерами, и комсомольцами и даже коммунистами? К счастью, ее научный руководитель с той стороны Москву не брал, в войну он был еще маленьким.
Спокойный, уравновешенный, энергичный мужчина вызывал в ней симпатию и уважение. Неизменно доброжелательный, неизменно оптимистичный, неизменно выдержанный. Более точная характеристика этого высокого светловолосого человека до тошноты бы походила на характеристику самого образцового члена СС: "Прекрасный семьянин, характер нордический, выдержан…" Хотя такое даже намекнуть ее шефу было нельзя, любой коммунист бы на его месте обиделся. И вообще он искренне считал и пытался заверить всех, что в нем уже не осталось ничего от немца, что он уже давно стал русским. Правда, встретив Варьку, он строго ее предупредил, что работать ей придется методично и исключительно по намеченному плану. Все листы должны быть пронумерованы и прошиты, разложены по соответствующим папкам. Потом он долго рассуждал, что ей предстоит трудный путь, поскольку лично он на написание кандидатской диссертации затратил 11 865 часов, а вот на написание докторской у него ушло уже свыше 48 тысяч часов. Более точно он даже затруднился указать, сделав в этом месте глубокомысленную назидательную паузу.
Его выгнали из школы как немца после седьмого класса. Он окончил шоферские курсы, а потом — днем крутил баранку, а вечером шел в школу рабочей молодежи, которую и закончил с золотой медалью. Тогда существовали значительные льготы для медалистов, только поэтому он и смог поступить в институт со своим кошмарным именем — Адольф. С этого момента усидчивого, работоспособного и очень неглупого немца не могли остановить никакие партийные установки. И все это Адольф Александрович приводил Варьке с глубоким уважением к порядкам того времени в пример абсолютного торжества самозабвенной работы по намеченному плану.
* * *
В этом городе ни у нее, ни у ее родителей не было знакомых, способных вывести ее в какой-то свет, познакомить с подходящим ей по возрасту и интересам кругом людей. И хотя Варя подозревала, что такого круга не существует в природе, но ей так не хватало общения! Вокруг нее было столько приятных молодых лиц. Какого же было сознавать, что эти студенты, ехавшие с нею в автобусе, поднимавшиеся по ступеням одного общежития, и она пребывали уже в параллельных, не соприкасавшихся друг с другом мирах. Если бы она жила здесь в студенческие годы, без родительской опеки, ей было бы о чем потом вспомнить. Более богатая на события студенческая жизнь, большая свобода и раскованность, большая демократичность, более высокий уровень преподавания вызывали у Варвары щемящую зависть. Преимущество немецкого порядка заключалось и в неуклонном соблюдении и развитии студенческих традиций. Фестивали, конкурсы, смотры проходили весело, с размахом и непременным сто процентным посещением. Особой любовью в этом институте пользовались пролетарские демонстрации и спортивные праздники. Все немцы — от старост до заведующих кафедрами радостно сучили копытами от предвкушения шествия под бравурные марши с красными флагами или пробежки в трусах по главным улицам города. Но Варю, как группенфюрера, обязали при этом следить за тем, чтобы ее староста — Губерт Ябс случайно перед демонстрацией не напился. Шепотом ей сообщили, что как-то на 1 мая под пьяную лавочку один такой староста так вдохновился народным ликованием, что затянул "Дойчен зольдатен унд дер официрен…" вместо "И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди" Никакой пьяный немец не был способен уловить столь тонкие нюансы. К сожалению, немцы не обладали врожденным иммунитетом к русской водке.
Ох, ей бы сюда в студентки, она бы тут развернулась! Она бы им такие планы вместе с горами наворотила! Но сейчас было слишком поздно, хотя и еще несколько месяцев назад она была такой же безалаберной студенткой. Шумное, озорное население их общежития смотрело сквозь нее, ее уже воспринимали по другую сторону баррикад — как одну из преподавательниц, для которых она тоже пока не стала своей. Бабушка Настя сказала бы об этом: "От ворон отстала, а к павам не пристала!"
ВОСТОК — ДЕЛО ТОНКОЕ!
Ее шеф брал тогда в аспирантуру много учеников из среднеазиатских регионов: казахов, киргизов, узбеков. Никто их не брал, а он в этом видел свой гражданский долг. Они очень плохо говорили по-русски. Их надо было как-то понимать, когда они привозили пробы грунтов, результаты экспериментов, статьи, написанные, по их разумению, на русском языке. На их кафедре в то время работало много евреев и немцев, почти все преподаватели неплохо знали немецкий и английский. Что-то слышали об этих языках и азиатские аспиранты шефа. Поэтому обсуждение научных проблем проходило на кафедре иногда на каком-то морском жаргоне, с усиленной жестикуляцией всех его участников. Варвара, в силу некоторых своих способностей, понимала и без слов этих неглупых, в данной ситуации глубоко несчастных людей, стремящихся получить заветную степень кандидата наук любой ценой. Поэтому ее часто приглашали на такого рода дискуссии в качестве толмача.
Она жила полнейшим изгоем. Совершенная, абсолютная, полная свобода всегда тяготит молодость, поскольку это все-таки довольно стадный период жизни. И она была даже рада, когда приезжали все эти киргизы. Перед отъездом к своим верблюдам, они обязательно звали ее к себе на плов. Водку они тоже пили неплохо. Варя не умела тогда еще с легким кряканьем опрокидывать стакан, как позже научилась на кафедре, поэтому ей вполне хватало на весь вечер одной рюмки, и ею она насасывалась до полного опьянения.
Плов — жирный, с золотой верхней корочкой, почтительно выкладываемой ей на блюдо, был замечательный. Они говорили с ней на своем языке, старясь понять то, что она отвечала им на русском. Но общению это как-то не мешало. Никогда ее не приглашал кто-то один из них. Пусть это была, за ее исключением, мужская, но всегда многочисленная компания. Они рассказывали смешные случаи из своей жизни в России, потешались друг над другом, повествуя о своих похождениях по ресторанам и приключениях с женщинами. Варя хорошо воспринимала их азиатский юмор, видела смешную сторону именно с их узкоглазой точки зрения. Ей нравилось и их уважительное ухаживание, нравилось ловить на себе быстрые ласковые взгляды, но никто из них не переступал установленной ею черты доступности, не проявлял настойчивости. Они до слез смеялись над размерами калыма у них на родине, рассматривали разные аспекты проблемы такого выкупа от половых до уголовно-правовых. Особенно рассмешило Варю то, что девушки с высшим образованием подлежали в Азии значительной уценке. То есть она, по их меркам, стоила бы вообще какой-то пустяк. Но, насмеявшись вдоволь, высокий широкоплечий узбек, взяв в руки ее ладонь, тихо сказал, на удивление понятно: "Ты стоишь всей жизни!". После ужина они степенно гуляли по кольцевой бетонной трассе, проложенной в лесу. Конечно, эти периодические интернациональные дефилирования Варвары с несколькими узкоглазыми, счастливо улыбающимися после сытного плова субъектами, были замечены. Они способствовали возникновению в изустном творчестве масс несколько иных версий об их совместном времяпрепровождении. Только потом до Вариных ушей дошла ее новая кликуха — "Звезда гарема".
ДРУЖБА ПО ГРАФИКУ
В их общежитии на первом этаже проживала коммуна аспирантов-математиков. Все они были намного ее старше. Но когда она из вежливости расспрашивала их о детках, о семье, они уверяли, что либо в разводе, либо собираются разводиться. Хотя уж ей-то они могли бы и не врать о нестабильности своего семейного счастья. С двумя из них, Александром и Андреем, она сдавала кандидатский минимум по марксистско-ленинской философии. Попивая холодное пиво из Варькиного холодильника, они гоготали до двух ночи, готовясь экзаменоваться. Варя хохотала вместе с ними, но ее несколько тяготило, что ее ночи теперь были заняты не чем-нибудь иным, а марксистско-ленинской философией. В сумерках в ее крошечной комнатке было совершенно негде повернуться. Кроме двух дюжих аспирантов тут же на холодильнике и подоконнике откровенно скучали два призрачных азиата. На узкоглазой физиономии старшего из них читалось непомерное изумление. Раньше он очень интересовался литературой, заглядывая в Варькины книжки из-за ее плеча. Он даже иногда давал ей понять, какие книги он считает полезными для нее, а какие — не стоящими внимания. Но теперешнее ее чтение вызывало у него сложные чувства. С одной стороны, вместо того, чтобы сквозь ночь мчаться над мрачными соснами к чужим грезам и снам, они были вынуждены теперь сидеть с Варькой над книжками. А с другой стороны, он никак не мог сообразить, для чего же были написаны такие книжки? Он еще мог представить себе, что огромный том мифов Древней Греции, взятый Варькой из дому, для чего-то может быть ей полезен, хотя все, что там написано — вранье. Ведь всем известно, что никакого Посейдона в океане нет, там живет огромный морской змей, чьи движения и рождают волны, несущие смерть. Пусть, даже эти лживые мифы можно было перетерпеть. Но все-таки для чего же написаны такие книги, как "Материализм и эмпириокритицизм"?
А потом математики вдруг стали приходить к Варьке по одному. Они как-то поочередно заболевали, а может, просто завели более содержательную личную жизнь вдали от покинутых семейств. Но отряд их, в этом случае, старался не замечать потери бойца, и на распорядок их занятий это не влияло: музыка на всю мощь, кипа первоисточников и составных частей марксизма, ернический разбор вопросов и лошадиное ржание почти до утра. Днем они отсыпались в своих конурах, а к вечеру добывали новые книжки о партии.
Экзамен Варя сдала на пятерку. Она вообще хорошо сдавала пожилым мужчинам. Да и марксистский философ ей попался что надо! У нее принимал экзамен сам заведующий этой самой кафедры. Он не был немцем, но два года преподавал на университетской кафедре в Калининграде, где когда-то читал лекции Кант, поэтому он весь пропитался немецким духом. А Варька в последнюю ночь перед экзаменом как раз имела долгую беседу с Эммануилом. Призраки убедили ее, что это будет полезно. При ответе на билет она незаметно для себя почему-то свела всю марксистско-ленинскую философию к вопросу, волновавшему ее не меньше Канта: достаточно ли человеку звездного неба над головой и нравственного закона внутри? Они долго спорили в захлеб с экзаменатором, поскольку положительный ответ на этот вопрос делал совершенно бессмысленным марксистский раздел философии, а отрицательный — всю философию сводил в куриную гузку, как сказала бы ее бабушка. В результате бывший наместник Канта даже отметил в приказе по институту ее замечательный ответ.
А ее боевые соратники экзамен провалили, их оставили на осень, но и тогда они с трудом сдали его только на трояк. Варя искренне сочувствовала их провалу, но после экзамена они к ней не заходили, наверно, за что-то обиделись. Осенью, приехав после каникул, Варя от добрых людей узнала об истинной, по мнению Александра и Андрея, причине их провала с философией. Оказывается, виновата в этом была она. У них, оказывается, был с ней безудержный, не сковываемый никакими условностями, секс.
Эти два философствующих математика даже повесили у себя в коммуне на стенке график, кому и когда к ней ходить «заниматься». Поэтому они, демонстрируя всему общежитию особую близость с ней, и стали приходить поочередно, то бишь, по графику. Она, конечно, растратила на себя их мужские силы, проявила некоторый сексуальный вампиризм. Поэтому ей-то было хорошо сдавать после этого, а они с трудом смогли восстановить силы только к осени. Ну, и с билетами им тоже не повезло, в отличие от нее. И о Канте с ними беседовать не стали, потому что у них титек нету.
* * *
Варе было очень плохо. Она пребывала в полной растерянности. Эти взрослые мужчины, опустошая ее холодильник, никогда ничего ей не дарили, даже цветка, она не слышала от них ни одного комплимента. Они даже не пытались подступиться к ней. Но почему-то они повесили график, следуя которому, у них и происходил этот самый воображаемый секс. Они самозабвенно врали друг другу, но при этом даже не сказали ей ни одного интимного, ласкового слова! Они даже не попробовали ее совратить! А вдруг бы она, до полоумия доведенная марксистско-ленинской философией, и кинулась бы кому-нибудь из них на шею? Ну, и что, что они женатые, ведь не померли же еще, как говорили у них на хуторе. Это что же будет, если все, кто ее захочет, просто скажут себе и окружающим: "Я с ней уже переспал!", и этим полностью удовлетворятся? Что же это за кошмар-то, Господи! Аспирантская коммуна математиков вела преимущественно ночной образ жизни. На стене одной из комнат, которые они занимали в блоке, висела обычная школьная доска. Они до глубокой ночи исписывали ее формулами, что-то преувеличенно громко доказывая друг другу. Варя сидела невидимая в углу со своими неразлучными призрачными спутниками среди обычного общежитского мужского бардака с голыми бабами на стенах и тумбочках, составленных одна на другую. Она ждала их поздних чаепитий, когда они начинали говорить о ней.
— Ну, что, Сань, опять по графику будете наверх таскаться? Ты у нас прирожденный математик, тебе даже вашу шведскую семью с Андре надо было изобразить графически, дискретно. А чего уж она вас до утра-то не оставляла? Или у нее тоже какой график там был? Опять поползете назад среди ночи?
— Вы лучше расскажите, как пролетали-то, кайф хоть поймали? Я не про экзамены говорю, — под общий хохот вступал другой.
— Они, понимаешь, под секс философскую базу подводили, а секс — стихия чувств, здесь логики и системы нет. Понятия несовместимы. Вот у них и получилась стихийная философия!
— Да нет, у них там было сложное уравнение регрессии, а в качестве отклика они ошибочно приняли не свою, а ее оценку за философию!
Варя ждала, и те, кого она искренне считала своими друзьями, начинали, потупясь, с наигранной скромностью, а затем, перебивая друг друга, повествовать как это все у них происходило. Смакуя, они описывали самые извращенные позы и какие-то совершенно неведомые ей приемы. У них на хуторе, наверно, никто и не слыхал про такое. Даже у азиатов от некоторых подробностей неестественно округлялись глаза. Варя и не подозревала, как много она потеряла в общении с математиками. Наслушавшись вдоволь о своих несостоявшихся развлечениях, она покидала эти мужские вечеринки, на которые приходила не званая и невидимая. Она внимательно следила за реакцией своих косоглазых, но те тоже, похоже, были обескуражены не меньше ее. Они вылетали в открытую форточку и до полного изнеможения носились над сумрачным лесом. Она просто не знала, что же теперь ей делать. Ей казалось, что все, с кем она с таким трудом здесь познакомится, тут же скажут другим, что они с ней просто спят и повесят графики на стенку. Создавая собственные сны и повелевая чужими, она вдруг с ужасом поняла, как просто можно объяснить все в ее жизни с житейской точки зрения. Она впервые испугалась приземленной развязности чужого разума, что, словно кованая узда, рванул ее, желая намертво привязать к земле. Не стоило допускать эти чужие, полные бессильной похоти мечты так близко к собственной душе…
На какое-то время Варя даже почувствовала свою душу как нечто цельное, большое, но настолько беззащитное, что ее вполне может убить неумное гадкое слово. И вот тогда с ней впервые заговорил младший из призраков. А старший, взяв ее за руку, ободряюще похлопал по спине.
— Ты выросла, девочка! Мы помнили твою душу иной. Ты вытащила нас, двух отступников, из тьмы забвения. Мы не живем, проходим сквозь жизнь, но мы благодарны тебе, мы любим тебя! Не тоскуй понапрасну. Почему-то теперь в мире смешаны воедино все сословия, а это неправильно. Чернь, сколько ее не учи философии, всегда останется чернью. Трусливой чернью, которая боится поднять на тебя глаза и лишь шепчет по углам о том, что ей недоступно. В тебе душа воина, и тебе нужен воин или никто. Если бы я был живым, то весь мир бы сложил к твоим ногам! Это невозможно, мне уже никогда не совпасть своей мужской жизнью с твоим девичеством, человеческое время уходит быстро. Прости нас за все, наша вина перед тобой безмерна, но в том, что происходит с тобой сейчас, ни нашей, ни твоей вины нет…
О ТОМ, ЧЕМ ОНИ ЗАНИМАЛИСЬ НЕСКОЛЬКО РАНЬШЕ
Они сидели втроем. Она никогда не воспринимала их всерьез, твердо зная, что никому нельзя об этом сказать, и что это все не по правде. Но они знали о ней все, им и говорить-то было ничего не нужно. И, похоже, это были единственные мужики, на которых она могла положиться. Варя впервые внимательно вгляделась в них, так долго сопровождавших ее. Оба были, похоже, по земным меркам намного старше ее. Тому, кто выглядел по моложе, было около 35–40 лет, точнее по его узкоглазой физиономии она определить не могла. Его она помнила плохо, а вот того, что был постарше, — даже слишком хорошо. Она даже припоминала его имя, но язык, на котором они говорили тогда, был слишком чужд сегодняшнему. Поэтому Варя переиначила его для себя, отныне он обрел другое имя, и навсегда стал для нее Исайкой.
Втроем они размышляли о ее жизни, сравнивали с той, в которой они все трое были живыми людьми, воинами. Почему так изменился мир? В их времена с детства, с рождения человек знал свое место, предназначение, которому он верно следовал всю жизнь. В их времена нового бесполого коммунистического человека не воспитывали. Их воспитывали мужчинами, воинами. И в этом смысле никакого различия между дворцами и хижинами у них не было. В хижинах воспитывали мужчину и пахаря. Как воспитывали женщин, она, конечно, не помнила, но женщины получались просто замечательные! И города здесь какие-то странные, созданные только для гранитных идолов и проезда с работы до дому. Они хоть знают, для чего строились людьми города? Похоже, что они об этом забыли. А вот она и ее воины помнили, какое это счастье — ворваться в город после долгих скитаний без очага. Уж они-то там все эти социалистические обязательства за одну ночь перевыполняли! Странная жизнь наступила, что ни говори. Они ко всему относились в свое время совсем иначе, чем нынешние математики, к любви и ночному делу, конечно, тоже. Уж они графиков не чертили. Исайка частенько приводил в шатры и таких сопливых, которые вообще с трудом понимали, что от них хотят. Но каждой удавалось это растолковать так, что они сами бежали потом за обозом, а по ночам с молчаливым упорством лезли под их воловьи пологи.
И у них тоже были в те времена какие-то, на их взгляд, чисто мужские фантазии, которые почему-то были совершенно забыты этими, пишущими по ночам сложные формулы, живыми мужчинами. Например, ей припоминалось о существовании некого струнного женского квартета. Молодые красивые женщины с удивительным мастерством исполняли сложные старинные баллады. Их они брали в каждый поход. Ни одного вечера не обходилось без маленьких домашних концертов с последующими поэтическими оргиями. Они знали, что эти женщины пойдут за ними и в огонь, и в воду. Так и было во все времена.
Они искренне любили и своих жен, в которых ценили, прежде всего, образованность. Теперь мужчина отворачивался от умной женщины, брал какую по проще, предпочитая проходные варианты. Но ведь именно такие жены, какие были у них, могли сами создать чудо любви. Они умели не только поддержать, утешить в трудную минуту, но они украшали свою речь древней притчей, стихами давно ушедшего поэта, изречением мудреца. А в момент поражения, краха надежд, который мог настигнуть каждого воина, такая жена просила, чтобы он убил вначале ее, а только потом себя. Как можно было отказаться от такой? От желания покорить ее на своем ложе?
Для того чтобы взять такую женщину, надо было знать сложные, проникнутые самой изысканной эротикой, церемониалы. Да, это было не на каждый день, но их жены обиженными не были. Нет, они, в свое время, не пели о любви, они пели о походах, о жизни, о верности, о давно минувших грустных историях. Но они делали, творили свою любовь каждую ночь. А сейчас люди, не стесняясь, пели в каждой слагаемой ими песне о том, что в их время обсуждали только в вдвоем у дрожащего пламени масляного светильника. Но где же в жизни была эта их воспетая любовь?
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС
— Ябс! Вставай! Вставай, говорю, негодяй! Вы зачем его так напоили? Ведь выборы же сегодня, кого-то там в Верховный Совет выбираем! О, Господи! Вставай, подонок, — теребила Варя бесчувственного Ябса. Возле нее сочувственно перетаптывались с ноги на ногу Копылов и Шикльгрубер, тоже студенты ее группы, жившие с Ябсом в одной комнате.
По доброй немецкой традиции в день выборов все кураторы групп вместе со старостами должны были явиться на избирательный участок до двенадцати часов дня и выполнить свой гражданский долг. Ябс был вообще-то старше Варвары на год, он держал с ней несколько покровительственную дистанцию, прикрывая ее на всех институтских мероприятиях, куда она неизменно опаздывала. Он уже показал себя великолепным организатором и стопроцентным арийцем на ноябрьской демонстрации, она так была в нем уверена! И вдруг — нате!
— Вчера, Варвара Анатольевна, день автодорожника был. Вот мы и выпили немножко… — заискивающим тоном произнес Копылов. При этом на Варвару потянуло таким амбре, что впору было закусывать.
— И Ябс? Он тоже налакался вместе с вами?
— А что он, не человек, что ли? — обиделся Копылов.
— У него глубоко личные причины, у него папа — автодорожник. Его теперь надо из чайника полить, мы всегда его из чайника поливаем, — подсказал Шикльгрубер.
— Вот что. Вы идите, Копылов, поднимайте остальных. Если все сейчас проголосуем в течение получаса, то я вам в буфете пиво куплю.
— Там не бывает.
— Это для тебя, Копылов, не бывает! Барменом-то наш студент работает. А для преподавателя инженерной геологии у студента-заочника все бывает. А если чего не окажется, так он живым из моей каменоломни не выйдет!
— Это мы мигом, Варвара Анатольевна! Сейчас мы в момент эту доярку изберем, Вы не переживайте! На пиво с бодуна все пойдут! Не обманите только, — сказал приободрившийся Копылов, натягивая вязаную кофту.
— Шикльгрубер, тащи чайник!
— Есть!
Ябс от воды зафыркал, приоткрыл было глаза, но их тут же затянула какая-то пленка, как у дохлой курицы, и он снова уронил голову на подушку.
— Шикльгрубер, немедленно снимите эту гадость, — указала Варя на плакат, написанный готическим шрифтом, висевший у старосты в изголовье кровати: "Каждый Ябс любит шнапс!"
— И это тоже снимите! — несколько поколебавшись, сказала Варя о ярком журнальном развороте, приколотом к двери. На нем совершенно голый немец прижимал к себе щуплую голенькую немочку, а немецкая надпись гласила: "Оhne Angst!" Парень был так красив, что она сама бы с удовольствием прижалась к нему без всякого страха.
— Умеют же там разлагаться со вкусом, в проклятом феэрге, — тоскливо произнесла она.
— Умеют… — понимающе поддакнул Шикльгрубер, снимая плакат.
Оставалось последнее средство, о котором ей рассказали более опытные группенфюреры. Варя набрала в легкие по больше воздуха и заорала страшным немецким голосом: "Штейн ауф! Швайн! Шнеллер! Их циле фон нумер драй! Айн, цвай…" На нумер драй Ябс уже качался на ногах.
— Помогите ему одеться, Шикльгрубер. Я жду вас внизу через пятнадцать минут.
— Есть!
* * *
К пиву у заочника нашелся вяленый лещ. Дурак дураком, а, похоже, тянул на крепкую четверку. Бутылки с «Жигулевским» ребята попрятали за пазухи и направились, было, к общежитию, но Ябс отстраненно, но твердо произнес: "Ферботтен!" В общежитии действительно было запрещено распитие спиртных напитков, и все разочарованно застыли на месте. Бесполезно было что-то доказывать Ябсу.
— Слушай, а как ты-то напился до такой степени, если там — ферботтен?
— Я же о Вас, Варвара Анатольевна, думаю!
— Спасибо тебе, Ябс! Но объясни мне свое утреннее состояние! Как ты умудрился напиться при дежурном преподавателе, ведь у вас по субботам дежурят, комнаты обходят…
— Повод был.
— Нет, повод всегда найдется, я о другом спрашиваю.
— Есть место.
— Веди!
Не доходя до вахты, Ябс круто свернул влево, и они гуськом спустились в подвал общежития. Немцы там устроили что-то вроде спортивной комнаты со штангами, списанными матами и скамейками. К потолку помещения были подвешены отвратительные толстые трубы. Резко пахло канализацией, тускло светила лампочка без плафона. Они расположились на матах, а Ябс закрыл дверь изнутри. Варя тут чувствовала себя совсем неловко, но, выпив пива, как-то отошла. По крайней мере, здесь стояло устойчивое влажное тепло. В комнатах у них было холодно, а обогревательные приборы тоже были ферботтен. Правда, по ночам, когда все проверяющие спали, они вывешивали на стены голые спирали от электроплиток. Они были, конечно, опасны, но отлично нагревали комнату. Это называлось — "устроить Ташкент". Ябс даже сделал такой Ташкент из старой электроплитки и для Вари. А сейчас он молча чистил Варьке леща, аккуратно складывая шкурки на расстеленную бумажку.
Областной город, где они все теперь учились, лежал на великом пути переселения народов в уральские лагеря, и пятая графа личных дел поражала своим национальным многоцветьем. Кроме немцев в группе учились поляк Пшебершевский, мадьяр Януш и Ламе — рыжий прыщеватый парень с французскими, как он утверждал, корнями. Грузинов и всяких там украинцев с белорусами она не считала, они хорошо говорили по-русски. А вот два узбека, принятые шефом из чувства интернационального долга, вызывали у нее особое беспокойство.
Во-первых, они практически не говорили по-русски, а во-вторых, они тут же попали в кабальное подчинение к узбекским аспирантам шефа. Варя не раз видела, как они мыли у тех в комнате полы и выносили мусор. Впрочем, узбеки жестами намекали, что с удовольствием вымоют полы и у нее в каморке, но Варя отказалась.
Отец Ябса действительно был простым немецким автодорожником, проложившим под лагерной охраной не один километр северных трасс области. Наверно, с таким трудом на благо родины у папы Ябса было связано много неприятных моментов. Поэтому Варя к Ябсу больше не приставала на счет утреннего прокола. Раз Ябс сказал, что повод был, значит — был.
Рядом с ней пристроился щупленький юркий Шикльгрубер, преданно глядя ей в глаза. Она давно с ним хотела поговорить и после второй бутылки решила, что более подходящего момента трудно себе представить.
— Шикльгрубер, мне уже дважды про вашу фамилию намекали. Сменили бы вы ее, а?
— Да я и сам думал, Варвара Анатольевна, но ведь у нас в семье все Шикльгруберы, и все достойные, порядочные люди. Никто ничего такого вовсе не делал. А вот я вдруг ее сменю, и вдруг меня наши Шикльгруберы не поймут? Да и кем я стану? Петровым? А так, меня все немцы уважают.
— Что у вас, немцев, за пристрастие такое к таким вот, с позволения сказать, фамилиям? Позор ведь с вами, немцами, один. На факультете авиадвигателей — Борман с Гессом учатся, Геринг на электротехнический факультет пошел… Их кураторы на каждом партсобрании за этих эсэсовцев краснеют!
— Да я не немец, я — еврей.
— Ну, Шикльгрубер… Ну, это уже чересчур! Конечно, если вам это так нравится… Нет, тем более не понимаю…
НОВАЯ ВЕСНА
В работе, в неизменных насущных дневных заботах наступала еще одна весна. Варя постарела еще на год по людскому подсчету. Возле нее время от времени появлялись какие-то молодые люди, которые не нравились ни ей, ни ее привычной свите. Ей так хотелось вот так же, как эти веселые студентки, возвращаться автобусом из города, кокетничая и перекликаясь со знакомыми парнишками. Поэтому иногда она приближала к себе заведомо непроходные для нее варианты, те, что изредка подворачивались ей под руку. Хуже было то, что ее незадачливые поклонники, обуреваемые наилучшими чувствами, пытались чему-то учить, как-то дотянуть до общепринятых стандартов совершенно несуразную, нестандартную девушку. И Варька вместо непринужденной пикировки была вынуждена в чем-то оправдываться перед ними, а в завершении этих отношений и откровенно огрызаться. А что бы они, бедные, делали, размышляла Варвара о своих знакомых, живя в других временах, со своми стандартами в голове? Они бы, сердешные, не смогли с ними до ветру сходить без тяжких последствий для себя! Оптимизма эти истории ей не прибавляли. Ей стало казаться, что она никогда не встретит человека по себе. Постепенно она уверилась в этой мысли, свыклась с ней.
На кафедре работала лаборанткой одинокая женщина сорока с лишним лет. Они с Варькой часто пили чай вместе, вместе ходили мыть посуду после этого. И однажды, на обычные девичье нытье Варьки на тему: "Жениха все нет…", эта женщина спокойно и цинично сказала ей: "Ну, не выйдешь ты замуж. Не ты первая и, боюсь, не последняя. Заведешь собачку, это все равно, что ребенок, и будешь жить с ней. У меня вот две собачки — так милое дело! Никакой мужик тебя не полюбит так, как собачка!" Варя на миг взглянула на сложившийся у них тандем со стороны и ужаснулась. Две смиренно и достойно стареющие женщины, и второй только собачки не хватает. Она перестала пить чай в лаборатории и осталась совсем одна.
Эх, как понятна была бы жизнь, если бы она осталась на хуторе! Каждое утро ее будили бы простые, но очень важные дела, и весь день бы лежал перед ней, как взрезанный арбуз. Никто и не позволил бы ей там слоняться без дела по жизни в полном одиночестве, ее бы там давно в драчку оприходовали, как уверяла ее когда-то бабушка. А здесь она чувствовала себя никому ненужной и до крайности неуместной. Ошалев от механики грунтов, вечерами Варя садилась за вязание и, с притухнувшей за долгие годы болью, вспоминала такие же вечерние посиделки с бабушкой. Рукоделие служило ей не только отдыхом, но приносило и ощутимую пользу. Даже Ябс только и смог присвистнуть, когда она появилась на еженедельной политинформации в сарафане с вывязанными узорами, отдаленно напоминавшими те, какими когда-то украшали свои изделия женщины их хутора.
И каждую ночь Варя звала кого-то из темноты, плакала и стенала о своем одиночестве. Два призрака, неразлучно сидевшие возле нее на корточках, только сочувственно покачивали головами. Она уже не летала. Тяжкая грусть не давала ей взлететь. А может жизнь смеется над ней? Или готовит к чему-то? Почему до всего, что естественно и просто дается другим, так трудно дотягивается ее рука, чтобы прикоснувшись, ощутив, тут же выпустить сотканную ею трепетную материю желания.
Желание… Мало желать, надо творить атмосферу чуда, взбивать ее в пену своей страстью и нетерпением, ведь только из пены рождается любовь. Как же она завидовала великим юродивым любви из прочитанных ею давным-давно книжек! Но любовь никак не укладывалась рядом с той тяжелой ношей, которую Варька взвалила на себя когда-то в детстве теплой южной ночью.
Хотела Варька того, или нет, но слова призрака все же запали в ее душу. О, теперь-то она знала, искать в скитаниях по чужим снам! Ей нужен был мир у ног! Чужой мир у ее ног. Может, за века люди забыли, как это делается? Ну, как же этому научить? Да и чего, казалось бы проще: вот — мир, а вот ее, Варькины ноги…
Мир вокруг Варьки был чудесен! К весне по обочинам кольцевой дороги, которой Варя ходила на кафедру, распускались пушистые нежные подснежники. А еще она любила выходить в лес часов в пять утра, в это время спали все. И весь мир с щебечущими птахами принадлежал ей. Никто не сложил его к ее ногам, мир сам ложился ей под ноги. И она была рада ему, раскрывая ему всю свою душу.
Весна! Ее душа, наконец, излечилась от горечи своих бесконечных поражений. Наверно, Варя понемногу становилась женщиной. Раз уж ничего она не смогла добиться во всеоружии, то решила положиться на волю победившего ее случая… И Варька стала летать. Вновь они втроем путешествовали в призрачной ткани видений и снов, к неописуемой радости ее азиатов, которые только в чужих снах обретали жизненную силу.
КНЯГИНЮШКА МЕДОВАЯ
В апреле общежитие засыпало поздно. Студенты все хихикали, все перекликались у Вари под окнами. Сны, в которых она бывала, были наполнены любовным бредом. Казалось, что сама природа за стенами многоэтажного общежития диктует эти сладкие весенние грезы. А Варьке казалось, что на макушке у нее нахлобучена шапка-невидимка. Никто ее не видит, никто не замечает. И лишь однажды ее заставило усомниться в этом чье-то настойчивое видение, властно позвавшее в ночь.
Она неслась над землей в теплой весенней ночи. От земли шел пар, повсюду ровными радостными языками горели костры, снопы искр взвивались в темное звездное небо. Сама земная красота вызывала какое-то тянущее ожидание и томление. Варя увидела бегущие внизу фигуры обнаженных людей, пронзительный бабий визг и идущие, казалось, от самой земли женские вздохи, странного возбуждающего ритма: "А-ах! А-ах!".
Она встала посреди поляны обнаженная, с распущенной гривой своих темно-каштановых, слегка вьющихся волос и с любопытством вглядывалась в развертывающуюся перед ней, никогда ранее не виданную картину. Варя раздумывала, не побежать ли и ей со стайкой смеющихся голых женщин, легко дававшихся в руки мужчин, подхватывавших их и тащивших в укромные, подготовленные с вечера места. Костры, освещавшие покрытый яркой ласковой зеленью луг, удивительно украшали это возбуждавшее ее ночное действо. От самой земли доходили до нее ритмичные волны весенней жажды. Вдруг Варю развернул к себе за плечи красивый светловолосый мужчина, показавшийся ей огромным в неверных отблесках пламени. Как все вокруг, он был совершенно голый, на его мощном торсе она увидела свежие, едва затянувшиеся следы. Варя хорошо знала эти боевые отметины меча. Он, не прижимая ее к себе, молча, с улыбкой рассматривал ее всю. Рванувшие было к ней другие мужчины, тут же с опаской отступили.
Воин медленно провел ребром ладони по ее груди, животу и бедрам рукой так, что все ее тело выгнулось от жгучего, вырвавшегося на волю желания. Он нежно подхватил ее под колени, и Варя, закрыв глаза, в истоме склонила голову ему на плечо. Он бережно нес ее к голым еще кустам тальника, где в прикрытой со всех сторон ложбинке была расстелена у него мягкая овечья шкура с не ободранной мездрой. "Любушка моя, княгинюшка! Откуда же ты такая?" — нежно шептал он ей, лаская ее тело, которое уже сотрясала мелкая внутренняя дрожь. Помимо Вариного сознания ее ноги сами собой раскинулись, и она вся раскрылась ему навстречу.
Вдруг безмятежную сладость весенней ночи прорезал дикий женский крик: "Татары! Ой, мамоньки, татары!". Ее мужчина со стоном оторвался от нее и глянул поверх ее головы затуманенным желанием взглядом. Он тот час же весь напрягся, собрался в комок. С улыбкой он отвел ее руки, вцепившиеся ему в плечи, и сказал: "Обожди немного, ладушка, обожди! Полежи здесь, я приду, приду, я только тебя хочу, медовая моя!". Он с криком рванулся на поле, и Варя, с тоской провожая его взглядом, с ужасом увидела двух желтомордых негодяев, голыми стоявших спина к спине посереди луга.
Мужики с медвежьими воплями выхватывали тлевшие колья из кострищ и от души дубасили по желтым телам ее спутников. Долго им было не продержаться, у Исайки, получившего удар лесины по шее, уже беспомощно болталась голова, он должен был поворачиваться всем торсом, открывая тем самым спину второго мерзавца. Надо было скорее уходить.
Варя рыдала на своей одинокой постели в общежитской комнатушке. Эти двое на ее вытертом стареньком коврике, на полу поочередно массировали друг другу вздувшиеся ушибы, переломов у них, к счастью, не было. Все тело ее внизу живота разрывалось от боли.
— Подонки! Что же вы за подонки! — плакала Варя, — где я его теперь найду? Я ведь даже не знаю, в чьем сне оказалась.
Внезапно ее пронзила мучительной ревностью мысль, что какая-нибудь из тех женщин, что подняли панику на поляне, уже непременно заняла ее место на овечьей шкуре.
— Я вас убью! Я вас сама убью, медленно, по частям! Вы, что, не могли в кустах посидеть до рассвета, гады узкоглазые?
Воины виновато смотрели на нее разбитыми, заплывшими лицами. Наконец тот, который иногда говорил с ней, тихо ответил: "Мы не могли! Мы так давно не видели таких красивых женщин!" И два избитых идиота с восхищением зацокали языками.
ПЛАНИРЕН, ПЛАНИРЕН УНД НОХ МАЛЬ ПЛАНИРЕН!
Утром Варя предстала перед светлыми германскими глазами своего шефа. Он брезгливо рассматривал ее записи.
— Ты что-то вообще перестала работать, Варя! Как можно работать не по плану? Тебя вообще сейчас куда-то не в ту сторону кинуло! Ведь у нас с тобой четко разработанный, утвержденный план! Вот защитишь диссертацию и делай ты, что хочешь, хоть романы пиши! Я две недели не смогу с тобой встретиться, я не знаю теперь, что ты мне принесешь в мае. Страницы опять не прошиты, не пронумерованы… Ну, с какой стати тебя в реологию-то потянуло? Ну, не было ведь этого в плане!
Варя тихо виновато вздыхала, потупив свои зеленые глаза. Ее шеф никак не мог остановиться. Ее отступление от плана он, пусть даже здорово обрусевший немец, рассматривал как предательство.
— Вот мне сейчас к майской демонстрации пятьсот флагов надо готовить, транспаранты, колонну праздничную, у меня голова — как сельсовет! А ты на утвержденный на кафедре план наплевала!
— Да-а, раньше май на Руси не флагами встречали, — совсем некстати брякнула Варя, — раньше его отмечали по ночам, открытым сочетанием полов! Рождаемость повышали — неимоверно! Бегали друг за другом голыми, без всяких флагов!
— Ну, ты, Варвара, даешь! — краснея с макушки до мощной шеи в воротничке белой рубашки, произнес оторопевший шеф.
— А чего Вы, Адольф Александрович, так смотрите! Я в Большой Советской энциклопедии прочитала! — не моргнув глазом, привычно соврала Варя.
— Знаешь, — задумчиво сказал шеф, — я на будущий год, в сентябре в аспирантуру молодых мужиков возьму, неженатых. Вот с ними и бегай хоть с флагами, хоть без флагов! А все лето, миленькая, давай-ка паши по плану! Как положено!
* * *
— Немедленно принесите план мероприятий и политинформаций прикрепленной группы! Я вижу, что группа болтается сама по себе, раз такое происходит!
— Да что происходит-то? За что меня опять вызывают? Я-то ничего не делала!
— Вот именно! Но Вы должны были знать, что за каждый проступок студента Вашей группы будете отвечать персонально — Вы!
Декан автодорожного факультета завелся не на шутку. Сколько раз он просил, чтобы аспирантов кураторами ему не спускали, сколько раз! Нет, выставят такую вот, которая думает, что ему неизвестно, как она студентов пивом спаивает… Что делать?
— Что они натворили-то? Вы хоть скажите…
Все дело было в автобусах и военке. Автобусное сообщение комплекса институтских строений в лесном массиве с городом было достаточно терпимым. Но военная кафедра, располагавшаяся здесь же, проводила занятия со всеми факультетами строго по вторникам и четвергам. Военным, наверно, просто нравилось работать только два дня в неделю. С другой стороны, несколько немецких военоначальников этой кафедры страстно любили собрать на институтском плацу огромную колышущуюся толпу в форме защитного цвета. Студенты были обязаны присутствовать на этих занятиях только в форме, что, например, совершенно не требовали в институте, где раньше училась Варя. Пребывание в военной форме, выполнение разных военных команд и поручений так способствовали подъему воинского духа, что после военки автобусы штурмовались по всем правилам военного искусства. Гражданские лица при этом опасливо жались в сторонке. По вторникам и четвергам их дорога домой оказывалась особенно длинной. Но никакой автобус не мог долго выдерживать штурм и натиск диких военизированных орд, поэтому, усугубляя общее положение дел, автобусный парк намеренно сокращал в эти дни количество машин на линии.
Желая как-то поправить положение, руководство военной кафедры одно время требовало, чтобы кураторы групп встречали своих подопечных с военных занятий и головой отвечали за сохранность государственного имущества автобусного парка города. Варя как-то раз попробовала выполнить такое распоряжение. Но на нее вынеслась дикая визжащая толпа ошалевших от военной дисциплины молодых людей в одинаковой форме, и лица у всех тоже были совершенно одинаковые. Она успела прижаться к толстой вентиляционной трубе, иначе они бы ее просто стоптали. Поиск Ябса в этой грязно-зеленой массе был чисто военной утопией…
Декан, устало растирая виски, рассказал ей, что студенты ее группы после военки устроили столкновение двух автобусов. Один придержал двери переполненного первого автобуса, чтобы его дружок успел повиснуть на подножке. Водитель был вынужден притормозить, а в это время в него влепился второй автобус, лавируя от выскочившего на дорогу еще одного Варькиного студента. По чистой случайности все остались живы, потому что дуракам, как известно, везет. В этих случаях, по установившейся немецкой традиции, вначале били куратора, а уже потом отдавали в его безраздельную власть провинившуюся группу. Порядок после таких мер устанавливался самый замечательный. Вот если бы Варька была штатным преподавателем, или хотя бы членом партии, то весь комплекс ответных действий был бы на лицо, что делать с этой конкретной Варькой? И что писать в ответ на угрозу автобусного парка вообще больше не присылать машины в дни войны?
Варька попыталась блефануть, что это, конечно же, были вовсе не ее студенты. Как они их различили-то в форме, если она сама их в форме не узнает? Но декан обреченно выложил ей пачку объяснительных, составленных в дежурной части собственноручно идиотом Пшебершевским, удерживавшим первый автобус ради скотины Януша, чья объяснительная лежала второй. Пришили к делу и рыжего Ламе, кинувшегося под колеса второго автобуса. Почему-то объяснительную взяли и с Ябса, который характеризовал нарушителей в целом положительно. Но вопрос с Ябсом был тут исчерпан, поскольку протоколы объяснительных были подписаны милицейским старшиной Дауенгауэром.
— Ладно, Василь Петрович! Давайте сюда объяснительные, раз Ябс в курсе, то уже легче. Вмажем им по первое число.
— Я вот думаю, может, отчислим кого?
— Да у меня, кроме узбеков, отчислять-то некого…
— Хорошо бы, если бы они узбеками были, — размечтался декан.
— Не-е, узбеки хитрые, они после военки плац подметают.
— В общем так, составь план мероприятий и принятых мер. Я его утвердю… нет, утвержу… подпишу, одним словом. Мы тебя и Ябса, наверно, на месяц стипендии лишим, а этим автобусным громилам вообще никогда больше стипендии давать не будем.
— Не-е, я так не согласная! Давайте лучше мы этих на месяц лишим. У Ламе мать одна, отца нет, а Януш — третий ребенок в семье. Месяц они еще на картошке продержатся. Да Вы не переживайте, мы их так с Ябсом изуродуем, что мало не покажется!
— Учти, милая, у нас в вузе всех уродуют только по утвержденному плану! А самодеятельность у нас устраивается только в дни студенческих фестивалей и тоже по плану.
— Само собой, Василь Петрович!
* * *
— А давайте я их в лес выведу и побью…
— А я как это в плане напишу, Ябс? Пункт первый — "Избиение в лесу"?
— Так давайте лучше их сразу замочим. Десять лет без права переписки… А то сейчас мы будем им политинформации читать? Рассказывать, как это нехорошо — подводить товарищей и разбивать автобусы?
— Нет, не мы, а Шикльгрубер! Пускай он две, нет, три политинформации с ними проведет. Что там, кстати, с Луисом Корваланом?
— Откуда я знаю… А мы-то что делать будем?
— Тебе вот обязательно надо что-то делать, а в жизни иногда полезнее ничего не делать! Понял? У нас что с тобой по плану?
— День Победы, подведение итогов семестра, студенческий фестиваль, спортивный праздник…
— Все, как у людей. В эстафете от нас первым кто бежит?
— Я, конечно. Четыреста метров — моя любимая дистанция!
— Побежит Ламе. Он у нас слишком прыткий, где не надо. После эстафеты он долго шагом ходить будет.
— Эстафету завалим.
— Зато человека спасем, Ябс! На День Победы я из Совета ветераном самодеятельных поэтов позову, закажу им для молодых идиотов стихи о Партии и Родине. Сейчас кураторов обзвоню, мы туда всех гаденышей отправим, а время для стишков назначим в аккурат фестивальное.
— Это уже какой-то садизм, Варвара Анатольевна!
— Пусть помучаются пару часов. Ты их за сколько побить хотел? Сунул бы пару раз — и айда водку пить! А тут они у нас еще и цветочки ветеранам поднесут. Шикльгруберу скажи, чтобы на счет цветочков проследил. А нам надо перед фестивалем пивом затариться. В воспитательных целях.
— Может, в кино еще сходим, Варвара Анатольевна, а? Давайте, на самое патриотическое кино пойдем, а?
— А у нас есть кино в плане?
— Так у нас и пива в плане нету…
— Тогда, Ябс, без кина перетопчемся. А без пива мы при такой жизни просто пропадем.
— Ой, не нравится мне этот ваш студент-заочник! Рожа у него протокольная! Хороший человек барменом работать не будет! И на нас он тогда как-то смотрел… Донесет! Вот кого бы в лес вывести!
— Ябс, Бог с ним! Ты только его не бей! Пусть клевещет, все равно ничего не докажет!
— Я же о Вас беспокоюсь.
Вот если план изначально хороший, то и его осуществление принесет только хорошие результаты, любил отметить Варькин шеф. Ламе едва дополз четыреста метров в трусах, правда, потом его вырвало прямо у центрального фонтана. Но он заверил всех, что больше вообще никогда бегать не будет. Слава Советскому спорту! Эстафету вытянули до пятого места Ябс с Копыловым. Поэтому все на студенческом фестивале совершенно заслужено выпили из-под стола тайком заготовленное пиво под закуску, щедро организованную комитетом ВЛКСМ. И только когда уже на землю опустился поздний майский вечер, под окнами студенческой столовой, где проходил фестиваль, появились несчастные физиономии Януша, Пшебершевского и Ламе. Все прониклись к ним горячим сочувствием под влиянием космополита Шикльгрубера.
— Я думаю, что их уже надо простить, ведь вечер ветеранской поэзии в два часа дня у них начался, а сейчас уже четверть восьмого… — осторожно начал Шикльгрубер.
— А по аттестации у них за семестр что? — проявила строгость Варька.
— Да мы все, Варвара Анатольевна, одинакие, — заверил Ябс.
— Отходчивый ты нынче! А помнишь, как нас с тобой на парткоме и в комитете ВЛКСМ из-за них песочили? И чего их теперь звать, если у нас тут все равно ничего, кроме воздушных шариков и плакатов с голубями, не осталось?
— Не-е, мы с Ябсом пиво и еду для них закроили… Так я за ними сбегаю? — с готовностью предложил Шикльгрубер.
Торопливо глотая холодные столовские шницели с тушеной капустой, любимцы автобусного парка клялись после института ездить только на такси. Ветераны, как начало смеркаться, еще и про любовь им почитали. Поэтому Пшебершевский, выпив пива, даже расплакался: "Почему ветеранам разрешают писать стихи? Это же кошмар какой-то! Пушкин не был ветераном, Мицкевич тоже ветераном не был… Настоящий поэт непременно должен в молодости помереть! "Квят засушенный и безмовный…" Матка боцка, я же теперь стихи читать не могу… "Я за Родину-Мать, могу жизнь свою отдать!" Будь прокляты эти автобусы, пешком с Янушем до города ходить буду…"
Провожая Варьку до комнаты, захмелевший Ябс высказывал крайнее восхищение ее недюжинными педагогическими способностями. Ведь надо же было так ук-катать всех стишками! Чужими ветеранскими руками расправиться с нарушителями дисциплины! После пережитого, они так за пиво благодарили, что даже позабыли, кто им поэтический вечер организовал. Как там Пшебершевский про Родину-то говорил? Надо ему на политинформации сказать, чтобы больше так не выражался… Теперь у них и в плане, за который Ябс втайне от Варьки переживал, все галки на месте!
ГЕРМАН — КАК ОАЗИС РУССКОЙ ДЕМОКРАТИИ
К началу лета вся их кафедра начала подготовку к пятидесятилетию шефа, которого любили без обычного российского пресмыкательства. Было решено наряду с традиционными подношениями изготовить какой-то необычный подарок, например, альбом с юмористическим жизнеописанием шефа. Самыми главными остроумцами у них на кафедре были евреи, которые при любых обстоятельствах не теряли умения смешно и цинично пошутить, в том числе и над собой.
На восьмое марта, например, этой весной всем женщинам кафедры, начиная с молоденькой секретарши и заканчивая маститыми доцентшами, от всех мужиков, в том числе и от побагровевшего шефа, начальник зала вычислительных машин Герман Табаков, еврей по национальности, преподнес по паре финских беленьких трусиков. Возникшую паузу он разрядил торжественным посвящением: "Поздравляем вас, дорогие женщины! Желаем вам всего, чего мы сами себе желаем! Подарочки вот от нас примите. Под белым флагом, знаете ли, и сдаваться легче!". Дружно заржавшая кафедра тут же выпила за пролетарскую дружбу полов. К концу вечера, когда уже через марлю с марганцовкой процедили и выпили весь спирт, выданный на протирку приборов, у них даже чуть-чуть не дошло до публичной примерки этого необходимого предмета женского туалета.
Юбилей шефа совпадал с концом семестра и началом сессии, в это время студенты шли как горбуша на нерест, мешая подумать о вечном. Варю, как малоценного члена экипажа, отрядили к Герману готовить юбилейный альбом. Отлынивающий от педагогического процесса Герман листал редкие в то время иностранные журналы, принесенные ему из дому преподавателями кафедры. Он уныло глядел на яркие фотки и соображал, с чего бы ему начать. У него не было этой самой первоначальной смешной идеи, развитие которой, привело бы с его еврейским юмором к феерии веселья. А делать что-то несмешное для него было зазорно. Но что смешного можно было найти в кристально честном немце, члене партии, с трудной, но оптимистически сложившейся судьбой? От всего этого на Германа накатывала одна скука.
Вообще-то, посмеяться он мог абсолютно над всем. Варя очень любила его шутки. Ей нравился этот высокий сорокалетний мужчинами с живыми темными глазами. Они с Варварой потешались над вышедшими огромными тиражами продолжениями известного бестселлера Леонида Ильича Брежнева. Герман подходил к преподавателям кафедры и тихо, всерьез, расспрашивал их о том глубоком впечатлении, которое, очевидно, произвела на них литературная новинка, получившая Ленинскую премию. "Ой, Герман, отстань!" гоготала новая жертва.
Как-то он высмеял и Варю. Она написала статью о том, как изготовить в основании сваи грунтовые, как бы выразиться по проще, шары. Они ей были нужны для повышения прочности фундамента. Для этого необходимо было забить в грунт трубу с сердечником внутри, а потом, вынув сердечник и порционно подсыпая в трубу, к примеру, песок, надо было этим сердечником песок из трубы выбивать. При этом песок, выйдя из трубы, разворачивался в такую шарообразную поверхность. Понятно, в общих чертах, чем она там занималась?
Герман нараспев, с интимными вздохами, придав всему описанию гнусное эротическое содержание, прочел выдержки из ее научного труда, посвященного механике этого сложного процесса: "Каждая последующая порция, внедряясь в предыдущую, становится ее сердцевиной, равномерно распределяя, ее по своей поверхности. В работу вновь включается дизель-молот…". Дальнейшего, повалившаяся на столы в хохоте кафедра выдержать не могла. Варя смеялась до икоты вместе со всеми. Ей как-то не приходило в голову взглянуть на свое научное творчество с этой, столь волнительной для нее, точки зрения.
* * *
Герман листал журналы, устало скреб лысину и, в который раз, смотрел на красивых немочек, рекламировавших пену для ванн и итальянские колготки.
— Варюша, привет! Как жива? Еще не беременна? Ну, сейчас мы все вздрогнем от твоей интеллектуальной мощи. Чем ты нас сегодня поразишь?
— Салют, Герман Борисович! Я сегодня до зари встала, по широкому прошлась полю, что-то с памятью моей стало, то, что было, блин, не со мной — помню! Потому что со мной ничего не было! Ничего не происходит. И вообще у меня голова с утра болит!
— Варя, в твоем возрасте с утра должно болеть другое место, от перенапряжения, — похотливо заметил Герман.
— Я виновата, что все только разговоры говорят, и никто не напрягает? — обиделась Варя.
— Так, тебе же, Варенька, нужен честный, неженатый, а где я тебе его возьму? Я сам — лживый, насквозь женатый еврей!
— Ай, ладно, давай о деле. Чего там с Адольфом-то?
— Вот, думаю…
— Герман, ты за границей нашей Родины был?
— Ага, нашей области, в соседние районы с лекциями выезжал.
— Журналы у нас заграничные, а мы с тобой за границей ни разу не были, и вряд ли нас с тобой туда пошлют.
— Нас точно, Варька, только на хрен с тобой пошлют!
— Поэтому давай сочинять про заграничные подвиги нашего шефа.
— Ты думаешь, ему понравится? — с сомнением спросил Герман.
Шеф у них несколько лет назад стал, наконец, выездным. Он мотался по всем конференциям и конгрессам, привозя из-за границы японскую аппаратуру и какие-то незатейливые шмотки жене на свой основательный немецкий вкус. Родную кафедру он тоже не забывал. В книжном шкафу у них пылились огромные тома международных конгрессов по механике грунтов на английском и японском языках.
Варя внимательно рассматривала голую по пояс ухмыляющуюся немку, сидевшую в ванне, наполненной пеной.
— Вот как ты думаешь, Герман, мог бы шеф встретить такую, к примеру, в Австрии?
— Ну, не в ванне же, блин!
— А ты-то, откуда знаешь? Ты что с ним был?
Герман с загоревшимися глазами вырезал контур Адольфа из общей кафедральной прошлогодней фотографии, подрезал пену в ванне и вставил в нее улыбающуюся физиономию шефа. Теперь грудастая девка как-то более осознанно захихикала, в фотке появился глубокий смысл, наметилась какая-то интрига.
— Ну, Варвара, ты — молоток! Смотри, как они друг на друга пялятся! Все, теперь мы его заграничную опупею изобразим! Будет хоть о чем с семьей вспомнить, а то ведь и рассказать-то толком ничего не может, кроме этих конгрессов.
— Я, Герман, на занятия пойду, сеять разумное, доброе, вечное! Ты уж тут без меня, а то я, может, как-то сковываю твой творческий порыв, может ты, неожиданно, стесняться меня начнешь.
— Ладно, я уж сам дальше, баб этих тут — море, после пары заходи, посмеемся хоть вдвоем. Варь! А чего тебя так студенты-то боятся? Я к тебе заглянул, так они сидят как мертвые с косами, они там у тебя хоть в одну-то ноздрю дышат?
— Герман, я с ними строга, но справедлива! У меня для каждого из них пуля отлита, и каждый свою получит! Не-на-ви-жу!
— На почве неудовлетворенности что ли?
— И не говори, до утра под окнами отираются, их на вахте к бабам не пускают, они в окна лезут, и все, понимаешь, мимо меня. А я должна планы шефа в жизнь воплощать! У самой, ты знаешь, ни жизни, ни радости!
— Варь, хочешь я посодействую? Я, Варя, очень полезный! Меня даже можно включать в работу, как дизель-молот!
— Да пошел ты!
Варя собрала свои длинные прекрасные волосы в безобразную культю на голове, заколола ее под осуждающим взглядом Германа, стерла помаду, отвернувшись, подтянула колготки и пошла на занятие.
* * *
Вообще-то ставить одинокую молодую девку на преподавание инженерной геологии было утонченным садизмом со стороны преподавательского состава кафедры. Но именно с этим предметом вышел небольшой прорыв из-за того, что преподаватель, который читал его раньше, перешел на другую работу в середине семестра из-за каких-то внутренних кафедральных разборок на научной, конечно, почве.
Студенты тихо ненавидели Варвару. Тихо, потому что при ее горячем желании, никто бы из них действительно из ее каменоломни живым не вышел. Перед занятиями она настраивала себя на педагогическое творчество как могла, выражалась отточенным, технически грамотным языком, приводила предусмотренные программой примеры. Но при этом от нее веяло такой дикостью нравов, необузданностью натуры, что все смешки и шепотки сами собой засыхали.
Герман несколько раз заглядывал к ней в лабораторию и аудитории, где проходили занятия, и Варя видела, как он осуждающе покачивал лысиной. Ростовская девочка все бросалась в жизнь с шашкой наголо, забывая о своих мягких, с поволокой глазках и гладких коленках, на которых играли солнечные зайчики. "Господи, когда же она станет женщиной-то, наконец", — сочувственно думал еврей. Это его сочувствие было так явно написано у него на физиономии, что Варя неделями иногда не заходила к нему в зал вычислительных машин. Но потом она опять шла, как ни в чем не бывало, потому что очень любила с ним посмеяться.
Зайдя к Герману после занятий, Варя с внутренним содроганием увидела, как он развил заданную ею тему. На страничке, посвященной Италии, среди фотографий шефа у собора Святого Петра и у Колизея сидела наглая девица в прозрачных итальянских колготках на голое тело, разведя ноги на ширину плеч, демонстрируя особую прочность заграничной галантереи. Прямо между ног у нее расположился радостно улыбающийся Адольф Александрович в импортной шляпе. Смотреть на воспоминания шефа о Франции, где бабы вообще все голыми рекламировали, и о Японии, о которой у Германа оказался рекламный проспект с их машинами и японками без всего на капоте, она уже не стала.
— Ну, Герман, и развратный же ты тип! — потрясенно сказала Варя.
— Не развратный, Варюш, а полезный! — самодовольно усмехнулся он в бороду.
* * *
От всего их коллектива на большом пьяном заседании кафедры шефу вручили портрет местного художника, выполненный по фотографии Адольфа. Он был изображен в реалистической лакировочной манере, в которой тогда художники с большим финансовым успехом писали заслуженных доярок и маршалов Советского Союза. Среди подарков там был еще телефон, соковыжималка, что-то еще. Ну, конечно, всплыл и их с Германом альбомчик, который внимательно, с комментариями и наводящими вопросами изучался всей кафедрой. Шеф сказал, что их творчество — замечательная вещь, поэтому он не возьмет альбом домой, а станет держать на кафедре, для гостей. Но все завозмущались, зароптали, заговорили о том, что вот они своих интимных вещей для гостей почему-то на кафедре не держат, и шефу пришлось-таки отнести его домой.
После юбилея Варя и Герман сидели в зюську пьяные на стенке испытательного стенда, не заполненного еще грунтом. Они вполне могли ухнуться с пятиметровой высоты на бетонное днище лотка. Герман приволок ее сюда для не хватавшей ему остроты жизненных ощущений.
— Слушай, Варь, что сказать-то хотел, мужика тебе нашел!
— Ну, да!
— В щелку тебя на лекции ему показал, он даже не дрогнул! Говорит, все равно хочу!
— Да врешь ты все!
— Честно-пречестно! Аспирант из университета, неженатый, старше тебя на два года. Пойдет?
— Еврей?
— Само собой, где я тебе русского найду, чтобы тебя на лекции до полной утери мужского достоинства не напугался.
— Герман, меня же убивать на свадьбу приедет половина ростовской области!
— А ты им скажи, что он… грек!
— Их обманешь, как же!
— Вот подлый они народ все же, твои казаки! Жениться на тебе они не едут, а на евреев — так они с погромами!
— Это точно! Называется: "Так не достанься же ты никому!". Погоди, он случаем не математик?
— Математик! Как же нам, жидам, прожить без математики?
— Вообще хана. Я математиков — ненавижу! Математику теперь с трудом еще переношу, а самих математиков — ни в жисть!
— Сложно с тобой, мать, но интересно. Ты когда, милая, жить-то начнешь жизнью половой? Ведь тут про тебя что только не говорят, кто только, по слухам, на тебе не побывал.
— Не верь, Герман! Я одинокая и злая.
— Да сам вижу, я что, слепой?
ЛЕТО В ГОРОДЕ
Приехав на лето в свой город, Варя окунулась с головой в свершения планов шефа. У нее самой был один научный интерес — писать статьи так, чтобы они поменьше напоминали Герману о неудовлетворенном половом влечении соискательницы. Диссертацию Варвары он вообще не мог воспринимать без специфического юмора. Предложенная ею технология упрочнения грунта при помощи обсадной трубы и ходившего внутри нее сердечника, защищенная несколькими авторскими свидетельствами, слишком хорошо напоминала народный жест, обозначавший совокупление. Герман частенько показывал ей его из-под тишка с серьезной, погруженной в научные раздумья лукавой миной непосредственно на заседаниях кафедры, где обсуждалась ее работа. Поэтому, отвечая на глубокомысленные вопросы коллег, Варя едва сдерживала душивший ее смех.
По ночам из своего города она теперь вместе со своими Исайками неслась по прямой к Герману. До рассвета они еще успевали побывать в древних Ассирии и Китае, где когда-то, в иной жизни Герман бывал с торговыми караванами. Но иногда ей приходили сны из далеких, канувших в Лету дней. Верхом на бронзовом медведе неслась куда-то Клара Семеновна, конопатый Волков снимал крючком кошелки с форточек и уничтожал все зеленые яблоки во дворе, и какой-то забытый голос тихо звал ее: "Варя! Ва-ря…"
А в ее родном городе было то же, что и повсюду. Она иногда встречала прежних институтских однокашников, но дальше обычного "здрасте — до свидания" отношения с ними Варя не поддерживала. Ее сверстники вели устоявшуюся взрослую жизнь: работали, пили водку, рожали и растили детей, получали квартиры и сбивались на паласы и телевизоры. Брат выводил ее в кино на какие-то свои деньги. Мама жаловалась, что, продавая на базаре клубнику, он теперь не отдает ей все деньги, привирая, что клубника перестала быть столь доходным товаром. Кроме клубники брат, за время Варькиного отсутствия, по дешевке продал ее студенческий портфель — «дипломат» и механизм кульмана, который она еще в студенческие годы покупала за поллитру у факультетского лаборанта.
Страсть к продаже так захватила Сережку, что он выгодно продал даже их общий с Варькой велосипед, который они когда-то полгода просили у родителей. Зимой, когда Варя ездила в командировку в Москву по своим заявкам на изобретения, Сережка дал ей деньги на шампуни и кремы. Давясь за кремами в столичных очередях, Варя думала, что у брата, наверно, появились девушки, поэтому он для них и заказал столько подарков. Но все, что привезла Варька, брат, не дрогнув, продал однокурсницам. Время какое-то начиналось другое, поэтому Варя не осуждала брата. Ей вообще жаловаться на него было не за что. Хотя у нее и не было сейчас ухажера, брат старался скрасить его отсутствие, покупая ей на свои деньги мороженное, ириски, колготки там всякие. Торгуя полулегально на рынке косметикой, он неизменно что-нибудь прикупал и для Варьки. И она полностью доверялась его опыту и вкусу. Он гораздо лучше ее понимал, что ей следует носить, а к чему даже присматриваться не стоит.
Фильмы они оба предпочитали зарубежного производства, потому что отечественное кино снималось в этот период, в основном, о творческих, ищущих личностей, у которых в жизни есть большая, иногда непонятная простому народу, цель. Поэтому сам сюжет строился вокруг того, сколько хлопот доставляет главному герою народ, как он мешает ему в воплощении его целей, будь то строительство фонтанов в каждой привокзальной дыре или заводов-гигантов в чистом поле. Люди мешали геологам, дорожникам, космонавтам и рыбакам, но особенно они мешали разведчикам. Конечно, в целом народ оценивался достаточно положительно, но Варька со своей аспирантурой после этих фильмов острее чувствовала собственную жизненную незначительность и ненужность. И потом она так хорошо знала с самого детства, как мешает жить окружающему ее народу.
Заграничные фильмы удивительно много давали ей в сравнении с отечественными. Ее вдохновляло самоуважение главных героев. Причем, чем вреднее для общества была профессия героя фильма, тем больше самоуважения выявляли его эффектные пробежки по экрану. А под конец он обязательно заставлял уважать себя всех — от полицейских и ярко накрашенных актрис, до разинувших рот кинозрителей.
За неимением велосипеда, Варька иногда по привычке каталась на трамваях. Но она оставила это занятие после того, как ее с несколькими лицами трудоспособного возраста среди дня ссадил с трамвая наряд милиции. И долго еще молодой стеснительный милиционер выяснял в районном отделении, почему она в будний день, в рабочее время загружает собой общественный транспорт.
Летом Варька навестила некоторых своих старых учителей. Клара Семеновна долго не узнавала ее, выглядывая из-за дверной цепочки. А потом за чаем все спрашивала, в какой колонии сидела Варька. Ангелина Григорьевна угощала ее пышными пирогами с капустой, рассказывая про девочек из старого класса. Они, оказывается, после школы почему-то предпочитали навещать ее, а не Валентину Семеновну, которая даже жаловалась ей на них в магазинной очереди. Узнав у Ангелины адреса девочек, Варя навестила и их, с удивлением отметив для себя одну странную деталь. Радостно визжащие молодые женщины, когда-то дружно испортившие ей юность комсомольским задором, совершенно не помнили этого. Они вспоминали только какие-то общие моменты про сбор макулатуры и походы в кино. Странность заключалась не только в этом, но и в том, что, искренне радуясь ее появлению, они были уверены, что она училась с ними до десятого класса.
"А помнишь, как мы сидим на биологии в девятом классе…" — в захлеб вспоминали они. Как же она их действительно достала за семь лет совместного обучения, как же въелась она им в душу, что они помнили даже ее платье на выпускном вечере, на котором она никак не могла быть…
А некоторых давних друзей, с кем она в детстве играла в войну во дворе, заросшем бузиной, она навестила на кладбище. Они все-таки добрались до своей войны в чужом краю с палящим солнцем. На их могилах не разрешали тогда указывать, что ребята погибли в Афганистане, не позволяли помещать на памятниках их последние фото в солдатской форме, поэтому ребята так и смотрели на нее со своих могил со старых снимков в гражданском, такими, какими она их хорошо помнила. Могилы Афони и Костыля были ухоженными, а последний приют Клевкина она нашла с трудом в зарослях одичавшей акации. Прибрав его могилу, она, выставив стакан и для Клевкина, выпила и помянула его. И только сейчас она, наконец, поверила, что его уже нет, что никогда он не приедет за ней в огромный чужой город, где ей так плохо одной.
Это лето в городе, полное воспоминаний о прошлом, одним махом перечеркнуло все ее научные достижения. Она не нашла никого, с кем можно было бы о них поговорить. И это делало ее работу совершенно ненужной, бессмысленной. Но, привыкнув все доводить до конца, она также привычно соглашалась с отцом в его длинных монологах об огромной пользе для Родины набивных свай, проводила эксперименты, обрабатывала результаты опытов, чертила графики, строила номограммы и слушала далекие голоса своих, ушедших от нее навсегда, друзей.
Наступила осень. Запахло прелыми листьями, солнце стало неохотно согревать землю. Варе пора было возвращаться в свой лес. Она уложила в сумку пошитые у маминой портнихи платьица, собранный за лето научный материал и поехала к своим грунтовым уширениям.
БОЛЬШАЯ ОХОТА
В институте ее ждали новости. Адольф был как всегда верен своему слову. На их кафедре появились молодые неженатые аспиранты-дневники. Двое из них были даже очень ничего. Она воспряла духом, решив, что вот сейчас и начнется настоящая жизнь. Но кроме нескольких оценивающих взглядов и игривых фраз Варвара ничем иным со стороны новичков не удостоилась. Между ними лежала пропасть — время. У Варьки его практически не было. По хуторским меркам, она в свои двадцать четыре года была уже перестарком. А молодым людям оно расстилалось бескрайней равниной будущего, в котором их ждало огромное множество встреч и открытий. И в будущем их ждали девушки даже еще лучше Варьки и при этом гораздо моложе ее…
Выяснив для себя, что никто из ее новых знакомых не собирается складывать мир к ее ногам, она успокоилась. Все вошло в обычную колею. Но вот как быть с призрачными азиатами, которые волновались гораздо больше нее? Каждый вечер они подкидывали на Варю гадательные кости. Что-то дружно соображали, а потом один начинал по-восточному витиевато доказывать ей преимущества семейной жизни. Даже Ябс весь изнамекался, что у него, мол, давно однокурсники язвительно спрашивают о семейном положении их группенфюрера. Варька и сама понимала, что надо как-то определяться, что, возможно, другого шанса может и не представится, но аспиранты почему-то сами не проявляли к ней того интереса, без которого все ее действия не выглядели бы навязчивыми.
И как же начинать с ними извечное женское кокетство, если два призрака за твоей спиной, усиленно жестикулируя и обсуждая каждого, толкают то к одному, то к другому. Если сочувствующий ее партии попутчик Герман без конца и края подскакивает с одним вопросом: "Ну, что, сняла?".
Но не она одна положила глаз на интересных неженатых мужчин. На их кафедре уже появилась молодая поросль менее углубленных в научный процесс секретарш-вечерниц, комсомольских богинь и просто студенток, которые маскировали свои истинные интересы под учебно-научные. Они были и менее требовательны к мужчинам, полагая, что если те и не замечают девушку, то это вовсе не ее личный недостаток, а следствие неудачно приобретенной косметики. Варвара спохватилась лишь тогда, когда ее уже вовсю теснили с флангов. Теперь уже с ней эти наглые девицы пили чай и как у старшей спрашивали у нее отеческого совета, за кого бы им выйти замуж. Еще год назад она сама так гоняла чаи с пожилой лаборанткой.
Это была война. Вот это она хорошо понимала. Вот так бы и надо было с самого начала. Сейчас все, кто заранее празднует над ней победу, получит свое, с прибором. И Варвара новым взглядом оценила свои позиции, пересмотрела планы наступления, спешно выработала тактику ведения ближнего боя и сконцентрировалась на направлении главного удара. После того, как одна из студенток, взявшая академический отпуск по слабости здоровья, с завидной ловкостью захватила себе одного из аспирантов, которого Варя поначалу и не заметила вовсе, ее охватил великий азарт большой охоты. Одно смущало, эти аспиранты явно не были воинами. Но тут уж ничего не поделать, не с собачкой же жить. Теперь перед выходом на работу она придирчиво рассматривала свою фигуру, волосы, лицо, имевшуюся скудную косметику и кое-какую одежду со сравнительных позиций. Как воин, заранее подготавливая оружие к бою.
Результаты сказались немедленно. Ее спокойная уверенная агрессия смешала все карты. Самонадеянный противник с выщипанными бровями и травленными перекисью волосенками явно дрогнул и затаился. Но она никак только не могла решить для себя, кто же из двух намеченных жертв нравится ей больше? Она боялась признаться себе, что в отношении обоих она дышит достаточно ровно. Поэтому ночью она отобрала кости у призраков и стала раскидывать их сама. Получалась какая-то ерунда. А вообще-то, какая ей разница, если этим мужикам нет разницы, кто их охомутает? Ведь не они добиваются ее, а ей надо добить их! Вот кого первого утром встретит, тот и станет ее суженным. Аминь!
Утром она долго репетировала свою влюбленность перед зеркалом, интересно щурила глаза и загадочно поднимала брови. Придя на кафедру, она направилась к тому аспиранту, что появился раньше, и, используя все свое женское коварство, наивно поинтересовалась: "Я вот хочу спросить тебя, как художник художника, ты вообще-то целоваться умеешь?". Молодой человек, обычно державшийся с нею довольно заносчиво, поскольку папа у него работал на какой-то необыкновенно высокой должности, вдруг поперхнулся, глядя на ее соблазнительно выставленные пухлые губы. Что-то дрогнуло в нем, и он торопливо сказал: "Я вот сейчас занят, мне работу надо до вечера сдать, а ты вечером приходи, мы с тобой это обсудим, а?" Но до вечера Варвара ждать была не согласная. Не понравилась ей его реакция. Он, наверно, решил, что настоящая страсть возникает в удобное время, по заказу, после плодотворного рабочего дня. Дудки! Поэтому она спокойно подвела под несбывшейся любовью черту, и без колебания двинула ко второму. Хорошо, когда есть свобода маневра!
Ко второму аспиранту Варя подошла менее агрессивно и более осторожно, потому что почти уверила себя, что этот второй нравится ей все-таки значительно больше первого. Вот только бы, если бы он сам к ней подошел, то ему и цены бы не было… Но на каждое «нет» — комсомольский наш ответ! Он был по-мужски красив, с глазами, полными смысла и жизни. Как же любили его все секретарши, студентки, лаборантки и даже рафинированные библиотекарши. И Варя побаивалась его, зная, что рано или поздно для него раскроется ее суть.
С грустной тающей улыбкой, потупив глаза, откинув волосы и встав перед ним в выгодном освещении так, чтобы он мог увидеть ее всю, она тихим, не целованным голосом спросила у него о том же самом. Он молча сгреб в ящик стола все свои бумаги и решил отложить все свои срочные дела на завтра, послезавтра, после послезавтра…
* * *
У него было ласковое имя А-ле-ша. Варя стала с ним женщиной. Она отдавалась ему утром, днем, вечером, ночью. Она все никак не могла утолить измучившую ее жажду. На другом конце города у него была комната в коммунальной квартире. Родители его жили вообще в другом городе, поэтому его встречам с Варькой никто не мешал. Подрабатывая сторожем в садике вблизи от дома, он не мог каждую ночь быть с Варей, но он врывался к ней утром и брал теплую, заспанную. Если он понимал, что не успеет увидеть ее утром, то бежал к ней на обед или пытался улизнуть с кафедры пораньше. А когда у него ничего не получалось со временем, он вечером тащил ее к себе домой через весь город, чтобы любить перед дежурством в садике, а потом успеть взять свое еще утром, до автобуса, которым они вместе возвращались на кафедру.
Варя жила в любовном угаре. Наконец-то, она могла дарить мужчине всю себя. Наконец-то ее тело, так долго требовавшее от нее свое, получало теперь все сразу и за все ее годы одиночества. Она безоглядно отдавалась мужчине. И какому мужчине, все женщины в автобусе подобострастно пялились на него! С ним были связаны грезы всех незамужних девушек их факультета. И Варька испытывала некоторую неловкость от того, что именно она воплотила их в реальность. Ничего не интересовало, не волновало ее, кроме ее любви. Вся природа вторила ее чувству, радовалась ей, женщине! Даже эти песни про любовь, несшиеся ото всюду были теперь про нее! Люди казались теперь Варе такими хорошими, просто замечательными. Как прекрасен был мир, наполненный ее любовью!
На кафедре ничего не подозревали. Алеше все так же были адресованы самые нежные женские взгляды, после которых он с ухмылкой подмигивал Варьке. А она с отстраненной улыбкой увиливала от всех аспирантских поручений и заданий. Но она и раньше была, по общему мнению, с большим приветом. Шефа она уверяла, что работает исключительно по плану, и он успокаивался. Только двое в их дружном коллективе кое о чем догадывались. Аспирант, который так и не дождался ее вечером, и Герман. Он поймал ее в коридоре, когда она пыталась проскользнуть с заседания кафедры.
— Варя, ты что, с ума сошла? Ты что делаешь?
— У меня все хорошо, Герман! Я люблю его! Герман, какой ты смешной, лысенький весь!
— Варя, я ведь совсем не это имел в виду. Опомнись, Варька! Вы хоть предохраняетесь?
— Что?
— Варя, дура проклятая! Ты хоть знаешь, откуда дети берутся? Ты когда у гинеколога была?
— А, там… Ну-у, ты месяц назад абонементы в бассейн для кафедры доставал, со всех справки требовал. Вот я туда и ходила. Тетка толстая спросила девушка я или кто-то еще, я сказала, что девушка, она мне справку для тебя и дала.
— Может, месяц назад ты и была девушкой, но сейчас ты явно не девушка. У тебя месячные давно были?
— Герман, я такие тонкости с тобой обсуждать не намерена! Грани приличия все-таки надо соблюдать!
— Варя, может мне поговорить с ним?
— Слушай, Герман, вот с какой стати ты решил испортить мне настроение? С какой стати ты ко мне лезешь? Тебе что, жены мало?
— Не обижайся, Варюша, мне просто очень страшно за тебя.
— Ну, и напрасно! Давай лапу!
* * *
Но почему-то всем теперь что-то надо было от нее. Почему-то именно теперь ее не хотели оставить в покое! Жила себе, жила, никому не была нужна, теперь сразу всем понадобилась! Первый ее художник, вдруг стал зажимать ее на кафедре, отчаянно напрашиваться на разговор. Ей было совершенно сейчас не до разговоров. Ей бы только до постели добраться! И почему в общежитиях такие узкие кровати? Вот какая она глупая, что не купила софу у выезжавшей семейной пары. Алексей был очень большим для такой кровати, но зато ей он был впору. Ночью, проводив его домой, она осталась одна. Она лежала голая и, вспоминая его, тихонько пела: "А-ле-ша! А-ле-ша!".
И даже тут, кто-то настойчиво стал ее теребить за руку. Господи, это что такое? Она увидела перед собой какую-то узкоглазую, желтую рожу! Как он вошел в ее комнату, неужели она забыла запереть дверь? Это что, новый аспирант шефа, что ли? Может, на кафедре что-то случилось, и за ней прислали этого азиата? Постепенно до нее стало доходить все то, что она так легко забыла за месяц своего счастья. Перед ней стоял Исайка и рукой показывал на своего соратника. Тот, что раньше говорил с ней, стал почти прозрачным, теперь он уже был настоящим призраком. Он сидел безучастный ко всему и смотрел куда-то внутрь себя. Она вопросительно поглядела на Исайку, и тот, крайне невежливо, прямо указал рукой на ее живот. До нее стал доходить весь ужас этого самого ее положения. Имея готовые к воплощению души прямо у себя за спиной, на расстоянии вытянутой руки, не думая ни о чем, она отдавалась мужчине. Она выпивала постепенно эту душу. Как только он истает окончательно, в ней заработает, забьется сердечко ее ребенка. Боже, что же ей теперь делать?
Она решила сама сказать своему любимому, что ждет ребенка. Но когда он пришел, ей было так хорошо, что она решила пока ничего не говорить. А потом он опять ушел, и она осталась одна со своими невеселыми мыслями, с Исайкой, горестно подперевшим голову рукой, и с их тающим третьим. Интересно, сколько это не будет заметно?
* * *
Герман понял все по ее потухшему личику.
— Варя, значит, все-таки ты залетела?
— Ага, Герман, долеталась…
— Ты ему сказала?
— Нет, не могу, он подумает, что я нарочно, ну, чтобы только выйти замуж.
— А ты-то хочешь за него замуж?
— Хочу, наверно. Только я не хочу с ним об этом говорить, хоть что-то мне может достаться просто так, в подарок? Хоть что-то я могу получить в жизни, не завоевывая?
— Тебе уже жизнь сделала самый лучший подарок, не реви. Я вот, например, никогда не смогу родить ребенка. А того, что ты боишься, это все внешнее, ведь самое главное уже произошло. Не тяни, Варя, времени у тебя мало. Тебе сейчас уже никогда не придется воевать за себя, у тебя уже началась война за ребенка. И тебе надо выйти замуж красивой, с таким красным носом тебя вряд ли кто возьмет. А потом, если я не ошибаюсь, тебе еще и за своего Алексея придется повоевать. Что делать, если мы не воины? Я вот вообще мирный еврей, за меня всю жизнь жена, сестра, мать воюют.
— Ты такой славный, Герман!
— Ага, смешной и лысенький.
ВАРЬКА — МУЖНЯЯ ЖЕНА
День ее свадьбы был самым счастливым днем в ее жизни. Вообще-то Варя хотела бы, чтобы свидетелем с ее стороны был Герман. Но, во-первых, мужчину в качестве подружки невесты не потерпел бы никто из ее родственников, которые и так умирали со стыда, глядя, как она, мучаясь ранним токсикозом, без конца бегает в туалет. А, во-вторых, они могли бы в пьяной свадебной драке припомнить ему и пятую графу. Поэтому он отказался присутствовать на этом торжестве, поздравив Варьку и прослезившись в темном коридоре у лотка. Подошел поздравить Варьку и совершенно растеряный Ябс. Хорошо зная для чего люди женятся, он, наверно, терялся в дурных предположениях на счет нового группенфюрера. На свадьбе Варя была удивительно хороша. Беременность еще не наложила на ее внешность печать безразличия ко всему, что было не связано с ее ребенком. Глаза ее сияли, она сама придумала фасон платья, который отдаленно напоминал женский, праздничный наряд казачки конца прошлого века, и удивительно шел ей.
Она все время смеялась, а молодой муж смущенно шипел, чтобы она не так откровенно демонстрировала свою радость. На свадьбу приехало множество незнакомых Варе девушек, которые, не скрывая слез, плакали, очевидно, от радости за нее. Но почему-то свои цветы они вручали не ей, а Алексею. Это было очень похоже на траурную церемонию возложения венков к могиле неизвестного солдата.
На обычном для свадеб тех лет похищении невесты в роли похитителя выступил муж одной из таких девиц. Он не отказал себе в удовольствии, для усыпления всеобщей бдительности, потанцевать с невестой, крепко прижимая Варьку к себе. Потом он схватил ее на руки, унес и закрыл в холодильной камере кафе. После похищения у него возникло желание немедленно выпить, поэтому он не смог сразу связно объяснить разгневанному мужу, где находится его жена. Варю извлекли из холодильника на предпоследней стадии окоченения. По этой причине все немного подрались, но потом, как всегда, свадьба закончилась всеобщим братанием.
* * *
Первые восторги прошли, и Алексей начал внимательно присматриваться к той, что сама упала ему в руки. Он видел, всю полноту неодолимой власти, которую он приобрел над ней тем, что брал ее каждую ночь. По утрам Варя готовила вкусные завтраки, которые приносила ему в постель, чтобы еще полежать рядом с ним, приласкаться к нему. Она внимательно прислушивалась к его критике своей стряпни, запоминала рецепты кушаний, которые готовила его мама. Алексей утверждал, что Варьке еще многому надо учиться у нее. Но Варя понимала, что готовка свекрови всегда была основана не на обилии ингредиентов и вкусовой изысканности, к чему ее приучили на хуторе, а на скудости стола, на судорожных попытках работавшей уральской городской женщины вытянуть с пустых прилавков магазинов что-то по вкуснее для своих ребятишек.
Алексей впервые с Варей открыл для себя многообразие блюд из простой курицы, с которой его жена творила чудеса. Его скупую похвалу она воспринимала с таким ликованием и бурной постельной деятельностью, что он тут же решал хвалить ее по реже. Он был счастлив с ней по выходным. Варя, с обметанными за ночь полукружьями глаз, просыпалась, зарывалась к нему в объятия и вновь находила самую короткую дорогу к его желанию. Потом она неслась на кухню, гремела там посудой и тащила что-то скворчащее, шипящее, издававшее удивительный аромат. Иногда за выходные они так и не выбирались из постели. А в понедельник он шел на кафедру, где ему начинали с неудовольствием указывать на недостатки в его работе, высказывая мнение, что во всем виновата его жена, которая сама-то давно уже толком ничего не делает. Недовольство их женитьбой было так велико, что Варю, молодой руководитель хоздоговорной тематики выкинул из всех ведомостей на зарплату. И теперь Варя, нахмурив брови, долго соображала по вечерам, как она будет покупать на рынке продовольственные запасы для своего Лешика, рассчитывая только на аспирантскую стипендию в сто рублей.
* * *
Постепенно до Вари с большим опозданием начал доходить и смысл давних хуторских перепалок с бабушкой, которая утверждала, что порядочная девушка должна выходить замуж только с учетом мнения родителей. Варька тогда робко возражала про любовь и все такое. На ее попытки отстоять в этом вопросе самостоятельность бабка снисходительно цедила сквозь зубы: "Ты девка молодая, за мужем не жила, так откуда тебе знать, что хорошо, а что плохо? Только вдовые, да разведенки сами сходятся. А когда девушек выдают, то старухи всю родову молодых до седьмого колена ради их же пользы перебирают! Ты ведь не за парня замуж выходишь, а за его родителей! Что в ком заложено, то и скажется!" И Варя только теперь начала признавать правоту бабушки и в этом вопросе.
Иногда к ним приезжали свекор или свекровь. Свекор заезжал по служебным делам, непременно напиваясь до бесчувственности к концу рабочего дня. Варя никогда такого раньше не видела в своей семье. Диван в комнате был один, поэтому свекру ее пребывание в комнате мужа явно мешало. Не слушая ее ответы, с пьяным упорством он спрашивал каждый раз, не надо ли ей возвращаться назад, в общежитие. С явным неудовольствием оттого, что тупая невестка так и не понимает прямых намеков, он с ворчанием ложился на пол, на заботливо расстеленный Варей матрас. Переехать в другой город родители мужа были вынуждены именно из-за этой пагубной привычки отца семейства. Но и сменив обстановку, он не собирался ей изменять.
Свекровь, конечно, не пила, но в отношении ее к Варе со времени их спешной свадьбы наступила разительная перемена. Она заранее старалась поставить Варьку на какое-то не слишком высокое место в своей жизни и закрепить это место за Варькой навеки. Варя, еще до свадьбы настроившаяся на доверительное и уважительное отношение к свекрови, чувствовала, что ничто не спасет ее от мелких придирок, если только она допустит маму мужа в свою жизнь чуточку ближе. Она решила просто не реагировать на эту глубоко неудовлетворенную жизнью женщину, пытавшуюся в каждой фразе уколоть невестку за то, что она так счастлива с ее сыном. Родители Алеши не считали нужным заранее согласовывать с ними время своих визитов, за три часа добираясь до них речным трамваем, ломая все их совместные планы. Свекровь любила навещать своих старых знакомых, прихватив за компанию Варьку. В гостях она много шутила, громко смеялась. Демонстрируя свою невестку, она говорила о ней в третьем лице, как о не блещущем умом бедном родственнике. А, придя в их комнатку, становившуюся с ее приездом такой тесной, мрачно умолкала, погружаясь в свои невеселые думы.
Для Вари эти участившиеся весенние наезды родителей мужа, благодаря вскрывшейся ото льда реке, были тягостны тем, что она оказалась связанной с совершенно далекими от нее людьми. Еще до свадьбы, побывав в гостях у Вариных родителей, сваты решили, что те гораздо богаче их. Поэтому теперь они требовали, чтобы любую помощь молодой семье оказывали именно Ткачевы. Да и свадьба Вариным родителям была гораздо нужнее ихнего, ведь не их же сын был беременным. Родственные визиты были и достаточно накладными для молодых, поскольку гости являлись как подарки, с пустыми руками. Иногда свекровь бывала у них проездом, навещая старшего сына, давно уехавшего от них с женой и дочерью. Старший брат не был на свадьбе, с родителями у него были какие-то свои, непонятные для Вари отношения.
Свекровь показывала невестке приготовленные для внучки гостинцы, и Варя видела, что она делает это почему-то нарочно. До их свадьбы родители не слишком часто навещали Алексея, поэтому ему тоже было не по себе, но он все равно делал вид, что ничего особенно в таких участившихся вояжах не видит. О том, чтобы хотя бы в летнее время перед родами молодым можно было оставить работу в садике, теперь уже не было речи. И Варе казалось, что, сама того не желая, она вошла как в реку в чужую, очень несчастливую жизнь, только обострив возникшие до нее нелегкие отношения.
* * *
К началу лета у Вари неожиданно для всей кафедры появился живот. Мужики, обрадованные редким теперь ее появлением на кафедре, бросившиеся к ней, чтобы по давней привычке пошутить, потрепать по щечке, с оторопью увидели ее набухающее материнскими соками чрево и дурацкую блаженную улыбку, с которой она прислушивалась к чему-то внутри себя. Сразу же вспыхнули огнем все давние сплетни и скабрезные разговоры о ней. Варя проходила сквозь совершенно не касавшиеся теперь ее споры о том, в какие сроки она может родить и что, собственно, из этого следует. Ей было очень смешно, когда ее любимый, придя домой, нервно запретил ей показываться на кафедре, а потом зло допрашивал ее, что у ней было с аспирантом, которого она когда-то, так давно, что и не припомнить уже когда, спрашивала, умеет ли он целоваться. Она хохотала во весь голос, когда он коротко бросил ей в лицо гнусное слово, от которого ее смех высох сам собой.
Алексей решил, что в сложном процессе укрощения и управления своей совершенно, на его взгляд, неуправляемой и порывистой половиной, единственной методологической основой мог служить только секс. Он внимательно просмотрел всю имевшуюся по этому вопросу литературу, и сообщил Варваре дни, когда, по его мнению, они будут заниматься сексом. Остальные дни недели они должны были посвятить научной деятельности, творческому общению и самообразованию.
Варе еще на хуторе, когда она была девочкой, объяснили, что муж волен располагать ее телом и душой так, как ему заблагорассудится. Бабушка иногда даже добавляла, с укором глядя на нее, что, очевидно, Варькин будущий муж будет частенько бить ее батогом. Ее основательно подготовили ко всему, кроме того, что заявил ей Алеша, потому что никому на хуторе не приходило в голову, что ее муж откажется с ней спать.
Она принадлежала ему вся. Она без остатка отдавала ему все, что у нее было. Ее поразила мысль, что он может желать ее только два раза в неделю. Она тут же сделала вывод для себя, что она в чем-то провинилась перед мужем, поэтому он перестал желать ее вообще. Варя встречала его теперь еще ласковее, пытаясь загладить эту вину, которую она никак не могла вспомнить, но все было напрасно. Иногда Алексей, видя, как Варька кусает пухлые губы в раздумьях, чем бы ему еще угодить, звал ее к себе, но, обласкав, утешив, напоминал, что ей надо ждать до завтра.
А иногда, когда она пыталась что-то стыдливо пролепетать об этом, обнимая его, и особенно назойливо напрашивалась на это, он мог отказать ей в достаточно жесткой, категоричной форме, и Варька тогда абсолютно терялась с этим высоким красивым человеком.
Она не знала, как это объяснить ему. Ей было очень неудобно говорить об этом, хотя твердо она знала, что он не прав. Они могли беседовать о реологии и консолидационных процессах в грунте, но их отношения еще не вошли в ту стадию ровной, почти равнодушной друг к другу супружеской жизни, когда со спокойным цинизмом можно говорить все, что угодно. Она теперь стала чувствовать себя с ним в постели скованно, неловко, боясь, что он о ней подумает так же, как тогда вечером, когда он сказал ей это слово.
После визитов родственников и в ведении домашнего хозяйства у Варьки было выявлено множество изъянов. Алексей с маминых слов теперь искренне считал, что в чем-то помогать жене по дому — это самому готовить своими руками неприглядное будущее. А Варька была слишком горда, чтобы, выслушав один раз отказ, просить о помощи еще раз. Ее муж наивно полагал, что упрямо закушенная нижняя губа жены говорит о ее смирении.
В июне белили фасад их дома, и Варьке дважды пришлось мыть их единственное окно одной. Только сейчас она поняла, почему в народе беременных называли «тяжелыми» женщинами, а беременность — «тягостью». Это было невероятно тяжело, а Алексей лежал на диване с газетой, выполняя мамины наказы. И что было толку сердиться на свекровь, если всю его короткую любовь можно было притушить не от большого ума сказанным словом. А потом их соседки, тоже, наверно, раздраженные счастливым Варькиным видом, потребовали у Алексея, чтобы он заставил жену вымыть и подъезд в их очередь. До его женитьбы они ни разу не просили его об этом. Последнюю площадку Варька домывала в кромешной темноте, только потом сообразив, что, как часто она ни меняет воду, на кафельном полу остаются грязные подтеки, что соседки вовсе не мыли эти полы, а лишь подметали. Утром на нее неожиданно накинулась с криком одна из соседок за эти подтеки. Варька только хотела ей по-хуторски ответить, чтобы у дамочки раз и навсегда пропал интерес к чистоте в подъезде, как неожиданно муж резко велел ей замолчать. Довольной соседке он сказал, что Варька полы, конечно, сегодня же перемоет заново. И Варька пошла перемывать полы, а Алексей, как и в прошлый раз, остался пить пиво с зашедшим на огонек другом. Ничего поделать было нельзя, он не мог быть ни защитой, ни опорой, ни ей, ни будущему ребенку.
На кафедре в это время Алексея частенько стали отправлять от нее в командировки, а он как-то очень охотно соглашался ехать. Поэтому у них иногда срывались и те, выделенные им для нее, дни. Будущее материнство все сильнее забирало над Варей власть, и, постепенно, она совершенно потеряла интерес к их регулируемому сексу.
Ее муж тихо радовался тому, что никто на кафедре не знает, что его жена по ночам, раскачиваясь на табурете, подолгу беседует с кем-то, чье присутствие он стал явно ощущать, наблюдая за ней из-под одеяла, натянутого на голову. Она оживленно жестикулировала и бросала какие-то отрывистые фразы, не договаривая конца слов, смеялась ответам на них и грустила с кем-то, глядя в темноту за окном. Она все дальше уходила от него. Но Алексея радовало, что она стала такой спокойной, выдержанной в дневной жизни. Сквозившего в ее взгляде равнодушия он старался не замечать. Она вся повернулась от него к своему будущему ребенку.
Когда она приехала на кафедру оформлять академический отпуск, Герман с горечью отметил для себя, что Варвара понемногу превращается в обычную русскую бабу со злыми глазами, и от всей ее располневшей фигуры веет только безнадежностью. Именно тогда Герман твердо решил уехать на хрен из этой страны, где укатывают даже таких сивок, как Варька.
В ПРОЗЕ О ЖИЗНИ
Варя задумала вернуться домой. Оставаться с Алешей для нее не было никакого смысла. Она ему не нужна. Она потеряла интерес к кулинарии, подолгу теперь лежала одна и гладила свой живот.
Она поняла, что Алексей кое-что заметил ночью, когда они окончательно провожали с Исайкой своего третьего, который погружался в сон у них на глазах. Они просили его только о том, чтобы он непременно постарался сразу родиться как можно с более огромными глазами, и чтобы все у него было на месте — руки там, ноги, голова. Он из последних сил кивал им и таял, таял. К утру его не стало. Посмотрев на сгиб своего правого запястья, Варя увидела четкую черточку, обозначавшую будущую девочку. Ну, что же, бабы к миру родятся, говорила ее бабушка.
Формальным поводом для ее отъезда стало непредсказуемое поведение их соседей по коммунальной квартире. Кроме них в ней проживали еще две многочисленные пьющие семьи рабочих с соседнего комбината. Выйдя утром на кухню, Варя застала главу одной из них, голого по пояс, со щедро разрисованным наколками торсом. Он рылся в своих и соседских ящиках в поисках ножа, лихорадочно сравнивая размеры найденных с необходимыми ему. В конце концов, он удовлетворился огромным хлеборезом и, оттолкнув обмершую Варю в сторону, бросился в свою комнату, откуда тут же раздался бабий визг: "Режут! Па-а-ма-ги-те-е!". Варя, шатаясь, добрела до своей комнаты и без слов стала тыкать Алексею на соседскую каморку. Тот равнодушно махнул рукой: "Да они все время так! Тебя только немножко стеснялись. Ты-то чего так перепугалась? Я же тебя не режу!".
На следующий день она уехала домой. Алексей проводил Варю до ее города. Очевидно, до него стала доходить вся безвозвратность ее шага, он стал нежным и ласковым с ней по-прежнему, и Варя даже недолго жалела о своем отъезде. Но она видела, что была уже в тягость мужу, который стеснялся выходить с ней гулять по вечерам.
Дома все встало на свои места, они с мамой стали готовить все к родам. Папа и брат бегали в поисках кроватки и коляски. Брату удалось очень выгодно приобрести комплект младенческого приданного, и Варя с умилением рассматривала крошечные распашонки. Она никогда не думала, что маленькому человеку надо столько разных вещей. И только дома Варя вновь с грустью иногда думала, что ей так и не удалось создать для будущей малышки свой собственный дом. Ее поражала хрупкость незатейливого семейного счастья в окружении усталых, потерявших надежду людей. И с огорчением она понимала, что война за Алешкину любовь проиграна ею окончательно, потому что вести войну без правил она не могла.
Мама устроила ее к своей знакомой геникологине, которая протезировалась у нее со всей своей родней. Анализы Вари показали, что у нее сильная анемия. Заботясь о полноценном питании своего мужа, Варя как-то забывала поесть сама. Этот факт был обсужден на медицинском консилиуме всех маминых подружек, протезировавшихся у нее. Они пришли к выводу, что раз у Варьки есть штамп в паспорте, то на никакой муж ей теперь, кроме мамы, совершенно не нужен. Через месяц из своего города позвонила свекровь и поинтересовалась, когда Варя вернется к мужу. Она как раз хотела бы их навестить. Мама, которая всегда брала на себя самое сложное, с удовольствием ей объяснила, что у Вари теперь в паспорте есть отметка, с которой для нормального рождения малыша ей нужны только мама и папа Ткачевы. А от хороших мужей на седьмом месяце беременности не уезжают, а если и уезжают, то им тем более плевать на всяких там других родственников, которые, от нечего делать, шарахаются на речном трамвае туда-сюда.
Алексей, приезжая к Варе по выходным, поражался резкой перемене, произошедшей в ней. Она уклонялась от каких-либо разговоров с ним по существу об их общем будущем, отсылая его со всеми трудными вопросами к своей маме, которую он начинал ненавидеть. Он не понимал ее четкой казачьей ментальности. Раз, по ее соображениям, он отказался от нее, она вернулась в железную юрисдикцию своих родителей. Но и ее родителям, изливавшим на него на свадьбе свою признательность и уважение, он тоже был уже не нужен. Он был вреден для здоровья их дочери и ее будущего ребенка. К еде Ткачевы относились по-прежнему трепетно, а про Алексея они знали только то, что ему было плевать, кушала что-нибудь их беременная дочь или нет. Такое у них не прощалось. Варя была нежна с мужем, старалась его по вкуснее накормить, обстирать, давала ему ценные советы по науке, но и только. Она вся была погружена во внутреннюю подготовку к родам, он теперь только мешал ей.
* * *
В сентябре Варя, вопреки всем предсказаниям опытных акушерок, протезировавшихся у ее мамы и утверждавших, что родится мальчик, родила большую красивую девочку. Глазки у нее были преогромные! Обращенное к Варе светлое, будто роспись на большом фарфоровом яйце, личико излучало такую любовь, что сердце у молодой мамы растаяло. Ручки и ножки были там, где им полагалось, только с черными жесткими волосенками до плеч их третий немного подкачал. Но она знала, что эти волосики быстро вылезут, и девочка приобретет вполне цивильный вид. Ночью Варька прошептала сидевшему рядом Исайке, что, слава Богу, их третий догадался стереть с себя эти дикие татуировки. Они захохотали так, что лежавшие с ней в палате женщины вызвали постовую сестру.
Варина мама тут же заявила всем, что внучка — вылитая она сама в молодости. Алексей взял на кафедре отпуск и просидел его у кроватки красавицы-дочери. Он не понимал, как он мог жить раньше без нее. Вспоминая о том, как они с Варварой ходили куда-то раньше, он все время ловил себя на мысли, а где же при этом они оставляли дочь? Ему казалось, что она была всегда и всегда улыбалась ему неуверенной улыбкой младенца.
Родители Вари заявили, что никуда не отпустят ни дочь, ни внучку, которые принадлежат им безраздельно. Но что Варькин муж может переехать к ним, в силу того, что имеет определенное отношение к появлению внучки на свет. Места у них в большой, полногабаритной квартире достаточно для всех. Варе было все равно, она была поглощена уходом за маленькой. И, скрепя сердце, Алексей начал подготовку к переезду. К искреннему удивлению Вари, он расценил все происшедшее как ее тонкую, коварную игру.
СЛОЖНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ ХАРАКТЕРОВ
Жизнь сыграла с Алексеем жестокую шутку. Он, вдохновенно муштровавший жену, оказался теперь во власти муштрующей его тещи. То, что вдолбили Варе с детства, плохо воспринималось взрослым самолюбивым мужчиной, с семнадцати лет жившим по собственному разумению. По представлениям же его новых родственников, он совершенно не понимал основ семейной жизни. Но время, когда это четко усваивается, было безнадежно упущено.
Варя вдруг увидела его муки, его одиночество, она тут же бросилась на его защиту. Никто не мог досаждать ее мужу бессмысленными нотациями! Никто не мог помешать ему жить так, как он того хочет! Он приехал к ней, значит, она его жена, и тот, кому он не по нраву, будет иметь дело с ней! И родители ее отступили от Алексея, потому что знали, как трудно иметь дело со своей дочерью, развернувшей военные действия. При этом надо заметить, что все происходившее между ними протекало без громких разговоров и скандалов, на одном безмолвном противостоянии характеров.
Варя ввела себе за правило жить чисто человеческими интересами своего мужа. Она ходила с ним на хоккей, смотрела футбол, скрывая свою скуку, расспрашивала об особенностях игры того или иного спортсмена. Но главным их общим интересом теперь стала их дочь. Необыкновенная, фантастическая! В восемь месяцев сказавшая им «мама-папа»!
* * *
Варин отец как-то принес ей несколько журналов с научными статьями, в которых дышавшие ей в затылок последователи вовсю растаскивали ее публикации без всяких ссылок на нее. Ее все списали со счетов, кому интересна баба, которая завела младенца? И, очевидно, они хорошо знали, как тупеет только что родившая женщина. Варя, например, с ужасом обнаружила, что она вообще не помнит теории упругости. И это она, а как тогда другие? Вот тогда-то она со стыдом вспомнила беспомощные бегающие взгляды совершенно не соображавших, о чем их спрашивают, студенток, прибегавших к ней что-то сдавать от маленьких детей. Господи, сейчас бы она, ставшая такой же дурой, и спрашивать-то бы их ни о чем не стала. Но эти работы ее конкурентов, подстегнули что-то спавшее глубоко внутри нее. Рано радуетесь, мальчики! Вот мы сейчас, сейчас с сабельками-то наголо из кустов выскочим и покрошим всех вас в капусту!
Потерянный было интерес к включаемым в работу дизель молотам, после этого зазвучал в Вариной душе боевыми трубами. Она была рождена для того, чтобы врываться на поле боя тогда, когда ее ждут меньше всего. По ночам, катая одной ногой детскую кроватку на колесиках, она вернулась к своей заброшенной диссертации. Постепенно ее работа обретала очертания, наполнялась смыслом. Варя пахала, не жалея себя, как когда-то пахали ее предки на своих кровных десятинах, не давая глохнуть земле под сорной травой. Никому она не отдаст своего! Не на ту руку подняли!
Не может так просто отдать свое человек, которого когда-то бабушка выводила в степь и наказывала: "Вот как краснопузи жрать захотят, они землю обратно вернут. Тогда крепко гляди! Вот тот надел наш, потомственный! Вот та полоска — тоже наша, сюда всю зиму навоз таскать будешь. А тот заливной клочок испокон веков Ткачам под покос обществом выделялся. Фролы на дыбки встанут, так ты им прямо в глотку вцепляйся, своего не уступай!" Муж не понимал и не поддерживал ее стремления закончить свою работу. Он неоднократно высказывал мнение, что она не сможет защититься, поэтому Варьке, и без того растерявшей всю свою уверенность, приходилось вновь находить опору только в себе самой.
Он злился на нее и потому, что вся их кафедра ожидала, что Варя отдаст ему для защиты свою работу. Варя даже думала об этом, но когда их отношения несколько охладились, она, поразмыслив о будущем ребенка, решила, что для него необходимо, чтобы его мама сама имела этот давно обещанный ее папой кусок хлеба с маслом. Алеша же, в случае чего, мог и сам прокормиться. Но об этом ей приходилось помалкивать, потому что муж, как и прежде, считал ее мнение не только несущественным для их семьи, но и иногда явно вредным. Ведь все мужчины на их прежней кафедре убеждали Алексея, что теперь для их семьи важнее его диссертация, а жена — кандидат наук просто несчастье для не остепененного мужа. И Варька ненавидела всех, кто щедро делился своим мнением о ней с ее мужем, начиная со свекрови. Иногда она с отчаянием ощущала в себе какой-то изъян, который не давал ей возможности внушить, навязать Алеше свое мнение. И, как когда-то ее охватывала горечь оттого, что не он, а она сама подошла военным марш-броском к нему с тем вопросом, не давала покоя тяжкая грусть оттого, что ее муж — не воин, поскольку борется он не за нее, а с ней самой. Но так уж повелось, что одни начинают войну, а заканчивают ее другие по своему разумению…
НЕСЧАСТЬЕ
Ее работа была почти готова, когда с ее мужем случилось несчастье. Алеша, как всегда снедаемый голодом, решил проверить парившийся в скороварке гуляш. Скороварка взорвалась у него в руках, обдав паром и раскаленным жиром его грудь и такое красивое лицо. Он лежал теперь в больнице с ожогом лица и груди третьей степени. К навещавшей его Варе он выходил, повесив на черную обугленную физиономию белоснежную марлевую маску. Проходившие мимо врачи и сестры требовали, чтобы он немедленно снял свой намордник, он снимал на минуту, а потом, когда медики отходили, опять завешивал свое обезображенное лицо. К счастью, он успел зажмуриться, и его глаза, в которых теперь была одна мука, практически не пострадали. Он писал ей странные письма, в которых просил простить за все, не винить его ни в чем. Варя плакала над ними ночами.
— Ну, что? Ты еще себе никого не нашла? — спрашивал он ее каждый раз нарочито равнодушно.
Врачи сказали ему, что безобразные малиновые рубцы так и останутся, что без дополнительных, специальных операций по шлифовке, которые делаются только в Москве, он будет пока нетерпим в обществе. Правда, при этом они, покачивая головами, высказывали большие сомнения по поводу косметического эффекта. Алексей никак не мог внутренне примириться, что стал уродом. Подходя утром к зеркалу, ожидая увидеть свое привычное лицо, он каждый раз внутренне обмирал от своего нынешнего безобразия. Иногда ему приходили в голову мысли, что таким образом с ним разделалась Варвара. Он догадывался, что несколько перегнул с ней палку, которая могла и треснуть. Но так он думал только глубокой ночью, когда ее не было рядом. Глядя же на Варю, с искренним сочувствием приносящую ему необходимые соки и лекарства, — такую красивую, в полном расцвете родившей женщины, он переисполнялся чувством вины перед нею и садился писать очередное письмо. Сказать ей в глаза, то, что его мучило, он попрежнему не мог.
Варе были непонятны его терзания. С таким, каким он стал, с обостренными, вырвавшимися наружу чувствами, она была бы счастлива. Она бы каждую ночь доказывала бы ему свою верность и преданность. Но она понимала, что дневная жизнь в страшной, отвратительной маске, будет ее мужу не по плечу.
С едва поджившими ранами, с багровыми рубцами, так безобразившими его когда-то красивое лицо, Алексея выписали из больницы, и для него начался кошмар. Он не мог выносить сочувственных женских взглядов, для него было еще живым, осязаемым то время, когда женщины глядели на него совсем иначе — с тайным обожанием. Он стал опасаться выходить из дому, предпочитая терпеть назойливую воркотню тещи и суету чужой семьи вокруг себя. И тогда Варя властно призвала свой Дар. Ее муж не должен был страдать. Она мучалась ночами от нестерпимого, идущего изнутри ее тела нервного зуда, она расчесывала свою гладкую когда-то кожу. Ничего, все пройдет, она перетерпит. На теле у нее тогда впервые появились мокнущие пятна, которые не поддавались медицинской классифицикации — ведьмины скапажи. Если ты в чем-то превышаешь отпущенное человеку, то смирись, ты заплатишь за это частью человеческого естества. Вскоре пятна прошли, хотя и долго еще не загорали на солнце и сохраняли на ее смуглой коже ярко белый цвет. Варя все лето носила платья с длинными рукавами, стесняясь демонстрировать странную пятнистую окраску своего тела.
Когда Алексей пришел через два месяца после выписки из больницы на прием к врачу, та не смогла скрыть своего потрясения увиденным. Гладкая, без единого рубца, не помнившая об ужасном происшествии, кожа украшала его лицо. И только слабый, уже проходивший, ее медный оттенок напоминал об уродливой физиономии, которую еще смутно помнила доктор.
Дама в возрасте, она все-таки не могла не отозваться на его волнующую мужскую красоту, и Алексей с удовольствием принимал, привычное ему, женское кокетство.
* * *
Так же, как разгладилась его кожа, Алексей быстро обрел прежнюю уверенность в себе. К нему вернулось обычное недовольство Варварой, которое он высказывал ей в принятой для себя снисходительной манере. И теперь, по ночам, вместо того, чтобы любить мужа, Варя опять вернулась к своей диссертации. В работу вновь включался дизель-молот.
ОНА — НЕ ЖЕНЩИНА, ОНА — САМОДОСТАТОЧНАЯ СИСТЕМА!
Варя стала взрослой самостоятельной женщиной. Даже слишком самостоятельной. И призрак, по прежнему сидевший возле нее, сковывал ее, напоминал о том, о чем ей совсем не хотелось помнить. Она давно стала самодостаточной системой. Никто не был нужен ей, кроме дочери. Но она заранее смирилась и с тем, что сама будет нужна дочери только до определенного природой времени. А вот ее муж был волен делать все, что хочет, вот это совершенно не ее дело, ее это не касалось. Он почему-то не хотел быть ей мужем по-настоящему, словно решил и жизнь прожить понарошку. Ему нравилось демонстрировать жену своим новым друзьям и сослуживцам, выслушивать завистливые реплики о ней, ему нравилось с женой и дочерью идти по городу, где женщины сначала кидали на него призывные взгляды, которые тут же гасли, когда они замечали Варю. Дома же он был скучен, лежал у телевизора, подсмеивался над Варей, которая упорно работала над диссертацией.
Работа так захватила ее, что отношения с Алешей без душевной близости и человеческой теплоты уже не ранили ее как прежде. Но почему-то иногда Алексею страстно хотелось вновь видеть перед собой ту наивную смешливую девушку, которой она была когда-то. Он вспоминал, что раньше она так много смеялась, что он узнавал о том, пришла ли она уже на работу по ее громкому заливистому хохоту, который он слышал, еще только входя в корпус. Как он боролся с ее смехом! Ему было так тогда стыдно за нее. Но спокойная уверенность и равнодушие, окружавшие теперешнюю Варьку словно броней, пугали его. Он полагал, что ему надо только задеть ее за живое и все вернется: милая непосредственность, слезы и смех по любому поводу. И он решил попытаться вновь несколько усовершенствовать свою супругу. Здесь, по его мнению, надо было начать с ее внешнего вида, приблизить его к общепринятым стандартам, и в этом он понимал гораздо больше ее. А Варька так и не научилась кожей чувствовать мельчайшие изменения в моде, до сих пор предпочитая всему широкие юбки и кофты с оборками, она все тянулась к давно ушедшему хуторскому шику конца прошлого века.
Алексей, проходя с ней по улице, обращал ее внимание на хорошо одетых женщин и девушек, выказывая свое недовольство ее совершенно немодным видом. Варя понимала стремление мужа доступными ему средствами сблизиться с ней, ее радовало уже и то, что он думает о ней. Но почему-то сравнение с другими женщинами всегда было не в ее пользу. Она располнела после родов, округлилась. До замужества она сохраняла стройную девичью, почти детскую фигурку, которая теперь раздалась в бедрах. Плечи ее стали шире, а грудь, которой она кормила их дочь, естественно, больше. Варя расцвела махровой южной красотой, ее тело властно требовало хозяйской ладони, а муж без конца только и шпынял ее за лишние килограммы. Она пыталась голодать, но не наедавшаяся малышка стала плакать ночами, и Варя с отчаянием оставила свои попытки вновь стать для мужа желанной.
Она раздала за ненадобностью обносившимся, замученным жизнью, худым подругам, навещавшим ее, весь свой девичий гардероб, доставив им нежданную женскую радость. На этот счет мама и Алексей были едины в своем мнении — со своими вещами она поступила совершенно по-дурацки. На приобретение новой одежды нужны были деньги и время. Позволить себе покупать вещи с барахолки они не могли, а то, что приносили маме беззубые продавщицы, было добротным, но совсем не модным. Просить деньги у родителей, которые помогали ее семье выжить, она не могла. Отец все утешал Варю, что когда она защитится, то у нее будет и хлеб, и масло на хлеб. Для Варьки это означало, что ее Алеша будет всегда с хлебом и маслом. Ее удивляло его нетерпение, ведь не голодом же они сидят и не голые ходят. Но все их общие разговоры вновь и вновь сводились лишь к тому, что с юности было ее самым слабым звеном — к одежке.
— Варя, если ты совсем не умеешь одеваться, то хоть на людей посмотри! Вот, видишь, какие сапоги нынче носят, на хлястики внимание обрати! И сколько можно быть такой толстой? Стыдно по улице с тобой идти! Все женщины аэробикой занимаются, а ты — дизель-молотами!
А Варя с тоской высматривала в толпе толстух и думала, любит ли их кто-нибудь при таких размерах? Она мысленно мерилась с ними окружностью бедер, выходило для нее не так уж и плохо, но она, конечно, была к себе снисходительна. Но почему Алеша не мог проявить к ней хотя бы часть той снисходительности, в которой она не отказывала и ему? К следующей весне у них остались только две нескончаемые темы: ее одежда и ее подлый срыв Алексея из аспирантуры. Ему-то одежду покупали его родители, непременно требуя за нее предоплаты. Варю это несколько коробило, поскольку его родители были прекрасно осведомлены, что молодые живут на хлебах сватов. Но свекор и свекровь почему-то считали, что раз ее папа и мама могут себе позволить помогать им, то, значит, они очень богатые, и церемониться с ними нечего. Такое отношение здорово осложняло взаимопонимание в Варькиной семье, и, в первую очередь, Алешину жизнь в их доме. И в этом бабушка была права, доказывая ей неоспоримые преимущества родительского сватовства. Ведь выходишь замуж за парня, а всю жизнь живешь с его родителями, даже если их нет рядом. Однажды во время их прогулки со спящей в коляске дочерью, ее так достал тихий раздраженный шепот Алеши на вечные темы, что она сорвалась, хотя понимала, что муж просто не может иначе высказать свою неуверенность перед будущим и недовольство неустроенностью их быта. Она неожиданно покатила колясочку быстрее и значительно оторвалась от не поспевающего за ней мужа. При этом она смотрела не на женщин, а на идущих во встречной толпе мужчин. Заметив симпатичного холеного мужчинку лет сорока в пыжиковой шапке и кашне из тонкой шерсти, Варя радостно, как старому знакомому ему разулыбалась, тот немедленно сделал резкий крен в ее сторону. Пальтишко с расставленными пуговицами и потертые сапожки ни сколько не портили молодого очаровательного личика с откровенным развязным выражением. Не обращая внимания на коляску, мужчина стал спрашивать дорогу к нотариальной конторе. Под поощрительным Варькиным взглядом он пояснил, что разводится с женой и в настоящий момент делит имущество. Что машина уже, к сожалению, не его, поэтому он и топает на своих двух, заверить этот факт нотариально. Варя развернула свою коляску и поперлась показывать ему дорогу, жалостно поигрывая глазенками. Ах, как от такого можно уйти, да еще и машину отнять! Но что-то же эта стерва должна была ему оставить? Конечно, у него есть… В этот момент подскочил Алексей и за шиворот оттащил ее от разведенца.
— Блядь — это не женщина!
— Ошибаешься, милый, еще какая женщина! Впрочем, ты прав, я — и не блядь, и не женщина. Я — толстая, плохо одетая баба. Самодостаточная система! Я не женщина, если мой муж не хочет меня. Давай поставим на этом точку.
— У тебя ужасный характер!
— Скажи спасибо, что он есть! Я полагаю, что мы моему характеру еще очень много раз скажем спасибо!
— Не дождешься!
ВОЙНА И ВАЛЕНКИ
Ночью возле Варьки появилась бабушка. Она осматривалась в комнате, трогала потертую обивку на кресле, восхищенно цокая языком.
— Варь! А на окна мануфактуры-то пошло аршин семь, не меньше! Славно живете, зажиточно!
Варя плакала, сидя на диване, понимая, что бабушка зашла попрощаться.
— Что ты все ревешь? Что ты все ноешь? Вот каково мне уходить, если я знаю, что Кузьмич без меня зимы не переживет! Хлипкая же ты детина! Вот я чего вынесла! Две войны, коллективизация и террор! А до таких годов дожила! Да… Дожила, вспомнить нечего…
Бабушка села рядом с Варей и потрепала ее по голове.
— Живи долго, Варюша, и помни все, что ни встретишь. Будешь помнить-то нас?
— Буду.
— Вот-вот, ты, главное, помни. Я ведь и сама не понимаю, как это такую глыбу перелопатила — восемьдесят пять годков, да каких! Ты тоже, милая, силенок набирайся на все остатные дни. Не могет такого быть, чтобы кто-то без войны жизнь прожил. Но ведь ты с малолетства такая была, что прямо звала на себя войну-то! Не зови войну, не надо! Она сама тебя найдет…
Утром принесли телеграмму о смерти бабушки. Последнее пристанище старики нашли в Морозовской, где купили дом, на половине которого разместился их внук от старшей дочери с семьей. Дочка все ходила к бабушке и просила ее подписать дом в наследство внуку, но бабушка все тянула с завещанием. А потом она уступила настоятельным просьбам дочери. Они даже отметили это событие бутылочкой, после чего бабушку потянуло в сон. Наутро она не проснулась…
Александр Кузьмич последние годы жизни жил внутри себя. Из-за давней контузии он совершенно ослеп и оглох. Единственной нитью, связывавшей его с миром, была бабушка, которая как-то могла до него достучаться. Он понял, что потерял жену навсегда только тогда, когда ему в ладони вложили ее холодную застывшую руку.
От дома до туалета была протянута для него веревка, бабушка всегда следила за его передвижениями на улице. Но как-то уже после ее смерти, выйдя из туалета, веревки он не обнаружил. Он пытался на ощупь найти дорогу к дому, кричал, но не слышал ни ответа, ни собственного голоса. Он замерз в двух шагах от крыльца своего дома. И папа опять поехал на похороны. На поминках великовозрастный внук, ставший хозяином дедушкиного дома, все прятал от папы глаза и огорченно вздыхал: "Да… Девяносто семь годков…Пора уж…".
Теперь папа все думал по ночам, какой памятник ему поставить своим родителям. Он сбился на плиту черного гранита и стал размышлять над эпитафией старикам. Написать следовало по жалостней, чтобы у местных крохоборов не поднялась рука обобрать последний приют стариков. Могилы вдруг начали грабить повсеместно. В конце концов, папа обратился за помощью к дочери. Варя сказала ему последние слова бабушки, и папа решил, что это будет самой лучшей надписью. Так на двух скромных могилах в Морозовской появилась плита, на которой был портрет бравого казака и старушки в платочке. Надпись на плите сообщала: "Александр Кузьмич и Анастасия Федоровна Ткачевы. Семь детей, три войны, коллективизация и террор".
Что остается после людей? Память… И Варька помнила все, заставляя себя припоминать каждую мелочь и каждое слово, вскользь оброненное когда-то бабушкой. И почему-то особенно часто она вспоминала в ту зиму, когда бабушка и Гришкина жена двое суток дежурили у телеграфного столба на большаке, по которому день и ночь везли на Тацинскую врагов народа, чтобы забросить Гришке валенки в трехтонку. Отойти было нельзя, расписаний у трехтонок не было, а в метель лучше всего было дежурить у столба. И надо же было так опростоволоситься, чтобы попасть под приклад конвойного, когда на их вопль: "Кукарека-а!", из кузова отозвался сам Гришка. Один валенок они забросили, а один так и остался на дороге. Подобрать его у них уже души не хватило. И Варя со слезами все примеряла бабушкину жизнь на себя, и наряд получался для нее великоватым. А смогла бы она вот так простоять на морозе с валенками для своего Лешика? А смогла бы! Ни чо, смогла бы… Но она не допускала до себя другой мысли, потому что очень боялась ее. А стал бы Лешик ждать двое суток ее печальную трехтонку?
После этого горя Варька стала готовиться к войне. Воевать с мужем было не о чем. Умишка у нее хватало, чтобы понять, что в любви важны не завоевания, а неожиданные подарки, которых ее никто не удостоил. К черту, снижать планку для убогих она не собиралась — мир к ногам, а там посмотрим…
Ее работа была для нее войной, которая ее, слава Богу, в жизни миновала. Она воевала с язвительными оппонентами, с собой, она хотела всех заставить, наконец, считаться с нею. Исайка многое в ее теперешней жизни воспринимал с явным неодобрением. Он не менялся. Он звал ее в ночь, а она давно стала дневным человеком.
Муж насмешливо пытался остудить этот боевой пыл. Ему казалось, что Варя переоценивает свои силы. Он считал, что должен доказать это ей, образумить. Но на все его вопросы о том, как она собралась защищаться на такую сложную даже для любого мужчины тему, Варя спокойно отвечала: "Я не собираюсь защищаться, я буду нападать. А передо мной никто не устоит. Нет таких нынче".
Дочке исполнилось полтора года, декретный отпуск заканчивался. Весной она последний раз приехала в свой лес, в котором провела молодость, на защиту диссертации. На кафедре все было по-старому, только Герман уехал в какие-то далекие страны.
Защита у Варьки прошла нормально, в одном месте только она было «поплыла», но шеф тут же подставил ей плечо. С шефом они, конечно, выпили по этому случаю довольно крепко.
После защиты Варе надо было оформить множество документов для отсылки в ВАК. Для их печати ей давали ключи от кафедры. Денег на оплату машинистки у нее не было, да и печатала она гораздо быстрее и грамотнее любой машинистки. Поскольку днем машинка была занята, она, к своей тайной радости, могла на ней работать только ночью. Ночи снова стали звать ее, но она еще тщетно старалась быть как все.
Варя скучала о дочке, но радовалась своей полной свободе, только теперь осознав, как тяготит ее семейная жизнь. В пять утра, когда она возвращалась с кафедры, лес прощался с ней торжественным, хаотичным, призывным весенним пением пташек.
К концу второй недели пребывания в полном одиночестве, нарушаемом только стрекотом пишущей машинки, она вдруг почувствовала даже настоятельную необходимость полета. И они летали вдвоем с Исайкой, как когда-то летали втроем. Но она не могла себя заставить войти в чьи-то сны, полные чужих оценок и мнений. А свое мнение, как показала жизнь, навязывать кому-то у нее не было особой охоты.
Вот и Исайка вдруг полез к ней со своим мнением. Он постоянно намекал о том, что ей надо искать нового мужа. Нет, с нее хватит. Она устала от этих поисков. Не нужен ей никто! Она никому не была нужна всю молодость, а теперь они ей все до феньки!
* * *
Она вернулась в свой город кандидатом наук. Но почему-то ничего для нее это не изменило. Она устроилась в свой прежний институт. Вот и началась, наконец, для Варьки обычная взрослая жизнь.
Наступила осень, и она взлетала все реже. Чужие сны теперь были ей совсем неинтересны, а творить свои она почему-то уже не могла. Исайка все качал головой и рукой с ненавистью тыкал в спавшего Алексея, которому все же удалось укротить душу своей жены. Желтолицый воин ломал кнутовище в своих руках, показывая ей, что ее муж просто сломал ее, как он — этот кнут.
Но Варя не соглашалась с ним. Ее Алеша спас ее душу от одиночества, подарил ей чудного младенца! А то, что она так и не научила его любить, складывать свой мир к ее ногам, так может быть это только ее вина…
* * *
На кафедре, куда она поступила работать, время замерло на середине семидесятых годов. Ни защит, ни научной работы не было, зато процветала грызня на уровне партийных ячеек. Один пожилой преподаватель после Вариных лекций, где она рассказывала студентам о зарубежном опыте строительства и некотором отставании по этой части в СССР, даже подал на нее в прокуратуру заявление о том, что она занимается антисоветской пропагандой среди молодежи. Поскольку этот преподаватель был членом союза ветеранов института, районному прокурору пришлось брать с Варьки письменное заверение ее преданности к отечеству. При этом сам прокурор непрерывно курил и крыл матом научные кадры Варькиного вуза. Скука, одна скука, сдобренная политической информацией.
В городе постепенно стали исчезать с прилавков магазинов все привычные продукты питания, последние предметы верхнего и нижнего туалета, человеческого обихода вообще. Зато появились талоны, которые надо было отоваривать в потных раздраженных очередях.
На празднике Великой Октябрьской Революции в садике Вариной дочке вместо подарка дали одну шоколадную конфетку. Маленькая бережно сохраняла ее всю дорогу, но в переполненном трамвае не выдержала и принялась кушать. Вагон был полон детей, ехавших с мамами из садиков домой. На них публичное поедание измызганной шоколадной конфеты произвело неотразимое впечатление. Они громко заверещали, требуя себе конфет, а их мамы стали ругать Варьку, правительство и начальников, которые сожрали все конфеты сами.
Варя прекрасно обходилась без всего, что продавалось в магазинах раньше, но очень страдала без книг.
В книжных магазинах лежали только мемуары передовиков производства и партийных деятелей, которые Варя не могла читать.
После праздника Великой Октябрьской революции на Варькиной кафедре теперь все время происходили какие-то пламенные дискуссии о политическом моменте. Преподаватели обменивались журнальными статьями о лагерях, о вождях пролетариата, у них, по их словам, "открылись глаза". Но всех интересовал, прежде всего, прагматический вывод из публикуемых материалов: когда в магазинах появится колбаса? Варя старалась не посещать кафедральные политинформации. Ей было трудно удержаться, когда народ с жаром рассуждал, сколько бы колбасы у него было сейчас, если бы Ленин прожил еще с пяток лет. Обычно, Варька презрительно щурилась, криво улыбалась и честно пыталась молчать. Но, в результате, как-то не выдержала: "Судя по тому, что стали сейчас печатать о незабвенном товарище Сталине, Брежневе и о других товарищах, нас ждут новые открытия. Вы бы не спешили с ранними выводами. Вот как-то товарищ Ленин откровенно посетовал на то, что революцию 1905 года он проспал. Я полагаю, что в скором времени мы из тех же газеток узнаем, с кем именно и в каком борделе ему довелось проспать русскую революцию". Вся кафедра тогда возмутилась, Ильича у них искренне любили и ценили, за то, что он все знал наперед и никогда не ошибался. В кабинете у заведующего висел его огромный портрет с фотогеничной доброй улыбкой. Встал ветеран кафедры и от имени всех коммунистов факультета потребовал, чтобы Варвару допускали до занятий только при наличии справки из психодиспансера о том, что она там на учете не стоит и о ее дееспособности. Варька с ним полностью согласилась, но поставила условие, чтобы такой справочкой запаслись все ее коллеги. Вопрос со справками был тут же снят, поскольку все знали, что многие преподы из тех, которым было далеко за шестьдесят, не пройдут и простого тестирования, а эта сука, пожалуй, докажет свою полную профпригодность, особенно, если ее мужик будет проверять.
И хотя Варвара была кандидатом наук, написала множество научных работ и изобретений, а их кафедра имела один из самых низких рейтингов по институту, весь их коллектив втайне хотел только одного — чтобы Варвара поскорее их покинула. Как замечательно, достойно им жилось до нее!
В городе пропали сигареты, папиросы и даже махорка. Курящие стали снабжаться через предприятия, на которых работали. Вначале курево распределялось только среди мужчин, но свою долю потребовали и работники женского пола. Кто-то из них говорил, что просит никотин для мужа, отца, кто-то стыдливо признавался в дурной привычке. Варвара тоже потребовала своей доли при дележе сигарет на кафедре. Когда ее стали упрекать тем, что она не курит, она заявила, что начнет курить из вредности, чтобы всем партийным, которые довели страну до этого хамства, досталось поменьше.
Той же осенью, ее муж уехал в московскую аспирантуру. Он сообщил о своем решении в свойственной ему категорической манере, но Варя и не собиралась его удерживать. Она уже не хотела быть сломанным кнутом, жизнь в суетных обыденных рамках сковывала ее.
Она переехала с дочерью от родителей в общежитие, заняв там две комнатки, отремонтированные Алексеем перед отъездом. Теперь, уложив дочь, она могла делать все, к чему звала ее душа. После отъезда мужа, они особенно сблизились с Исайкой, который, показывая ей свою вассальскую преданность, мог всегда поддержать ее, хотя бы просто потрепав по плечу.
ОБ УМЕНИИ УМИРАТЬ, СТРАСТИ И ЖИЗНЕННОЙ СИЛЕ
Варька хотела бы видеть в окружавших ее людях больше страсти, желания жить, а не выжить. Но вся человеческая жизнь на протяжении многих поколений, вся непечатная, а изустная, действительная история их семей, оглушала, отучала их от страсти.
Страсть… Даже в их с Исайкой призрачных скитаниях было больше страсти, чем в Варькиной реальной дневной жизни. Постепенно все интересы для Вари опять сместились в сумеречное время, где она вдвоем со своим неразлучным спутником не была одинока. Исайка всегда знал, когда надо уходить, и с ней ни разу больше не повторилось той первой ошибки, едва не стоившей ей жизни тогда, когда она получила Дар. Варя откуда-то знала, что при передаче Дара вновь обращенному дают сонное питье, чтобы память о прежних жизнях не обрушивалась так, как это произошло с ней. Бабушка не могла знать такие вещи, но Надя заранее готовилась к избавлению от Дара. Значит, это и было задумано ею заранее! Варька не могла представить, чтобы кто-то кроме нее смог выдержать просмотр такого кино. За что же Надя выплеснула на нее эту муку? Ну, что же, зато, благодаря последней пакости Надьки, она приобрела двух замечательных приятелей, один из которых стал ей чудесной дочкой с фарфоровым личиком.
Проходя времена и судьбы, Варя поняла, что не так страшно придуманное за годы последних войн оружие, как то, что сам человек может сделать со своей душой. Она видела, как люди ломают свои души и судьбы, в угоду слепому случаю, который им надо было лишь пережить и с достоинством вынести. Как же быстро они впадали в отчаяние! Будто разочарование жизнью и было для них естественным состоянием. Она поразилась мудрости прежних своих учителей, которые воспитывали в воине, прежде всего, умение умереть с соблюдением лица. Люди разучились умирать, но, в своем зверином желании жить, в своей низменной привязанности к жизни, они теряли чувство меры, проливая чужую кровь.
Она презирала людей, готовых при первом прикидочном ударе судьбы наложить на себя руки. С древности существовали строгие ритуалы и правила, когда воин мог прибегнуть к своему последнему оружию, чтобы уйти непокоренным, или кровью смыть низость проступка. А эти — по любому поводу готовы по-собачьи накинуть себе петлю на шею!
Война уже не влекла Варьку. Она видела, что войны-то есть, но идут они без воинов. Воин превратился для трусливого кабинетного человека в кусок мяса, в скотинку войны. Все мыслимые законы войн были нарушены. Они не мешали пахарю раньше, стремясь дойти строевым шагом до выбранного места сражения, чтобы занять лучшую позицию. Пахарь же мирно вел свою борозду. Теперь войны рушили, прежде всего, жизнь мирного труженика. Нет, нельзя ни давать власть в слабые руки черни, ни вкладывать оружие в ее грязную неухватистую руку. Да, тут, пожалуй, забоишься жить… У них никогда с Исайкой не было такого страшного оружия, им оно было ни к чему, они и с мечом не боялись жить. А нынешние вояки, во всеоружии даже перед мифическими чудовищами, которых давно уже не было, во всеоружии своих знаний боялись самой жизни, потому что так мало значили в ней. Но они боялись и страсти, боялись ее — молодой, красивой женщины, которая в каждом движении была слишком живой для них! Даже ее заливистый, искренний смех вызывал страх в покорителях Природы и Космоса
ДОЧКИ-МАТЕРИ
Когда муж уехал в Москву, Варя и ее крошечная дочка стали жить затравленной жизнью одиночек. Школьные подруги, к детям которых она пыталась водить свою дочь играть, были недовольны тем, как на Варвару смотрели их мужья. Но лишь после того, как одна из ее прежних знакомых попросила приходить к ним только с мужем, до Вари дошел, наконец, смысл ее соломенного вдовства.
Родители устали за то время, пока их дочь с семьей жила у них. Они были уже немолоды и хотели хотя бы немного перед старостью пожить для себя. Брат Сережа был еще не женат, что-то их ждало после его женитьбы? Поэтому Варя не знала, что ответить дочке, когда та после садика с надеждой спрашивала, куда они сегодня пойдут в гости. Дочку из садика она забирала пораньше, а если она задерживалась, маленькая девочка начинала нервничать, метаться по группе. Только с мамой ей было хорошо. Мама прижимала ее к своей груди, и мир вновь обретал для маленькой свои краски.
В воспитании подрастающего поколения Варя столкнулась и с другими проблемами. Например, совершенно негде было купить детские книжки. Раньше у Варьки в садике было много книжек, но теперь даже в садике книжек не было. Варька учила дочку стихам Чуковского по своей памяти детства, но картинок не было, поэтому кроха стихи запоминала, но они странно трансформировались у нее голове. Как-то в садике ее спросили домашний адрес, а Варька никак не могла его с ней выучить, потому что он начинался со сложного слова «Общежитие», которое тоже не укладывалось в маленькой голове. И девочка объяснила, что живут они с мамой на Занзибаре, в Калахари и Сахаре… Единственное, что смогла Варя купить для развития дочери — набор ярких открыток с гномами и коровами в киоске «Союзпечати». Целый вечер она сочиняла к ним стихи. Стихи про гномов получились вполне приличными.
Бархатные строчки В мхах лесных зеленых. Их писал на кочках Гном другому гному.Сложные коллизии из жизни гномов, изложенные в поэтическом почтовом романе, понравились даже воспитательнице — моложавой грубоватой татарке. Она их оформила как стихи Корнея Чуковского в рубрике "Выучите с детьми!" и повесила для родителей в раздевалке. Но вот стих про корову не получился. Он вышел каким-то излишне саркастическим. Поэтому за него влетело не только дочке, но и матери.
Жила-была корова На дальнем берегу. О ней воспоминанье Я в сердце берегу. Давала та корова Парное молоко, Но на колхозной ферме Жилось ей нелегко. Свое больше вымя Вставляла в аппарат И сливками кормила Партийный аппарат….Шагая с мамой в общежитие после проработки в садике, маленькая задумчиво спросила: "Мам, а я, когда вырасту, тоже буду татаркой?" Почему-то везло Варькиной девочке на воспитательниц именно этой национальности. Мама с дочкой два вечера разучивали "Актия Ханелисовна" и "Зульфира Раузбакаевна", а без этого девочке просто было в садике не выжить. Ей и так было очень трудно. При детях Актия Ханелисовна прошипела малышке: "Лучше бы твоя мать про Ленина написала! Корова толстая!" С Лениным отношения у дочки тоже не складывались. Варька взялась повышать ее музыкальный уровень, они два дня подряд с упоением слушали пластинку с музыкой к балету «Щелкунчик». После этого на занятии, на вопрос о том, кто является создателем первого в мире государства рабочих и крестьян, девочка, широко разведя руки, громко ответила: "Петр Ильич Ленин!" С грустью Варя подумала, что и у ее дочери что-то не то с головой. Стихи она ей писать перестала, они решили вдарить по сказкам Пушкина. А вот от русских народных сказок малышка пугалась как от милиции и пожарников, и после них кричала во сне.
Кажется, в сумерках она видела и Исайку. Уложив дочку, Варя два раза заставала ее в постели за какими-то сложными манипуляциями с тетрадными листиками, в результате которых получались бумажные собачки и журавлики. На такие штуки Исайка был большой мастер. Он и для Варьки придумывал замечательные забавы, показывал фокусы и по ночам пел гортанным голосом длинные интересные песни, в которых оживало их время. Он по прежнему не говорил с ней, но так внимательно слушал! Кивал, когда соглашался, или удивительно красноречиво объяснялся жестами. Он остался с ней один, даже ее молодость не казалась теперь такой безрадостной, тогда они все-таки были втроем, и их третий иногда разговаривал с ней.
И все же в их ночи проникали дневная суета и сомнения. Это было ужасно, ночь должна быть ночью. А по ночам у маленькой часто болели зубы. И Варя, по совету своей мамы, решила удалить парочку молочных зубиков, чтобы радикальными методами перекрыть доступ инфекции в формирующийся организм ребенка. Две чистенькие молоденькие докторши очень понравились наивной малышке, и она спокойно пошла с ними в хирургический кабинет, откуда немедленно раздался ее отчаянный вопль. Варя в это время рыдала в коридоре. Обессиленную дочку она несла из больницы на руках. Когда маленькая пришла в себя, первыми ее словами были: "Я на них напишу!" И она действительно написала огромными печатными буквами, налепленными на тетрадный разворот: "Две каровы толстыи! А гаварили ни больна будит!" Всю ночь Варя с Исайкой уговаривали девочку не посылать это письмо пожарникам и милиции.
Но теперь Варе никто не мешал совершать ночные полеты. Ее беззубая дочка мирно спала, мама сочиняла ей чудесный сон, который малышка смотрела до утра. А днем Варя глушила себя работой. Кроме преподавания она руководила хоздоговорными темами, брала проектные работы. Потом она по случаю купила себе компьютер и неплохо освоила его. Ее интересовало все, что потихоньку входило в жизнь, становилось нормой. Она заканчивала множество курсов по бухгалтерии, ценным бумагам, операциям с недвижимостью, финансовому менеджменту…
С их курсов растущие как грибы малые предприятия набирали себе штаты, но на Варвару не западал никто, хотя она далеко опережала всех, в том числе и своих преподавателей. В ней было всего слишком много. Ей говорили: "Вы нам не по карману!", или "Мы до Вас еще не доросли!". А потом мужики с собеседований пытались связаться с ней по телефону из чисто платонических интересов.
Она не умела навязываться. Она ходила с таким видом, будто у нее целая кипа предложений, но она еще не знает, которое же из них выбрать. На самом деле, Варя перебивалась случайными заработками, потому что ее мужу жилось несладко в финансовом плане в Москве, где соблазнов всегда было больше. На этот счет кафедральные дамы смеялись над ней, говоря, что муж ее должен кормить, а не она его. Но Варьке еще на хуторе внушили, что все, что у нее есть, принадлежит не ей, а мужу. А, кроме того, когда его не было рядом, она могла придумать себе своего Алешу таким, каким все еще его любила, поэтому ей было очень плохо без него. Отправив ему очередной перевод, Варя шла умиротворенная, как после свидания со своим Алешей.
Студенты принесли ей программу по составлению гороскопов. Варя очень любила приобретать всякие игрушки для своего компьютера. Даже Исайке он нравился, косоглазый по ночам теперь любовался яркими синтетическими красками ходилок и тетрисов. Ее единственный призрачный мужчина и без нажатия клавиш как-то общался со вторым мужчиной в теперешней Вариной жизни. Если Варька сама решалась поиграть, то компьютер предупредительно выносил ей результаты предыдущих игр с кошмарным количеством очков, которые до нее набрал «Исаиёси-сан», как уважительно величал компьютер Исайку. Варя составила свой гороскоп по предыдущему рождению. Они с Исайкой покатились с хохоту. Оказывается, в прошлой жизни она была австралийским землекопом с огненной натурой! Да, с такой натурой, какая была у нее в прошлой жизни, она бы всю Австралию насквозь перекопала! Но, посмеявшись, они посмотрели на карту и задумались. Их настоящая родина лежала от Австралии совсем близко, да и ошибся компьютер всего на восемьдесят лет…
Варя стала курить. Она убивала в себе слишком здоровую, слишком цветущую женщину. Она не могла разговаривать с людьми, не выкурив по утру две-три сигареты. Исайка только качал головой, глядя, как Варя перед зеркалом старательно учится своим красивым чувственным ртом пускать колечки табачного дыма.
Люди становились злее, ядовитее. На Варю все сыпалась и сыпалась жгучая людская ненависть. Она была рядом — молодая, полная надежд. Ее старались обидеть по больнее, зная, что то, чего иной и не выдержит, Варька может просто не заметить. Люди цеплялись за старые идеи, ради которых вытерпели столько напрасных несчастий и лишений, а она смеялась над ними. Их мир рушился, но это были лишь картонные стенки, ограждавшие и хранившие их от жизни, а они так боялись жизни, ведь они совсем не знали ее. Поэтому Варьке, в которой жизнь не просто кипела, а взрывалась, переливалась всеми своими красками, здорово доставалось от них.
Она не старела. Ее смуглое здоровое тело все расцветало, глаза становились все ярче. Улыбка ее манила и обещала чудо. И только по тому, что она старалась не носить одежду с коротким рукавом и жила в томительном, тревожном ожидании сумерек, можно было догадаться, что Варька стала настоящей ведьмой.
ЯБЛОКИ
Иногда, чтобы не идти сразу в общежитие, Варя с дочкой бродили по большому городскому парку, в котором когда-то бабушка уговаривала Варьку держать корову. На постаменте здесь стоял коренастый памятник Кирову с засунутыми в карманы руками. Варя помнила этот памятник с детства, но тогда он стоял ближе к трамвайной остановке. Теперь его задвинули вглубь паркового массива, и Варе казалось, что Киров стал какой-то другой. Может быть, в этом было виновато иное освещение в лесу, но вся романтичность и революционность облика с него за эти годы слетела. Киров теперь всем как-то нехорошо улыбался, и Варя ловила себя на мысли, что если он вынет руки из карманов, то самое лучшее, что там будет — маслянистый чугунный кукиш. Если погода не благоприятствовала общению с природой, то они просто совершали круговую поездку на одном из трамвайных маршрутов.
В кино они ходили в выходные, а репертуар театров пересмотрели еще зимой. К весне все занятия в кружках, куда Варя водила дочку, заканчивались, и деться им было совсем некуда. Как-то раз на углу двух центральных улиц Варя из трамвая увидела прилавок, с которого торговал яблоками высокий худой мужчина. Очередь была небольшая, поэтому они с дочкой соскочили на ближайшей остановке, решив купить яблок. Весной, как говорила мама, надо было пополнить витаминный запас ребенка. Продавец сложил выбранные Варей яблоки в кулек из газетки и протянул ей. Варька видела, что свернул он кулек неудачно, попыталась подхватить пакет, но крупные яблоки одно за другим посыпались на прилавок. Мужчина помог ей собрать яблоки, а на ее «спасибо» сказал: "А ты совсем не изменилась, Варя!" И тут только она поняла, что седой мужик в белом халате с грязными рукавами — Волков.
— Это твоя такая барышня? Красивая будет… На тебя похожа, но более мягкая, что ли… А муж у тебя кто?
— Да он уехал от нас, он в Москве живет, в аспирантуре учится.
— Понятно… Все понятно мне с тобой. Значит, не вышло у вас с Ленькой ничего?
— Да у нас и не было ничего.
— У кого не было, а кого — было. Ленька бы тебя по трамваям девкой ездить не пустил и одну бы в городе не оставил. Мы с ним, может, и не шибко культурные были, да простые вещи хорошо понимали.
— А сам-то ты как?
— Никак. Я с детской колонии со всеми связь потерял, думал, что вообще все уже забыл, а вот тебя увидел — вспомнил.
С самой последней отсидки Волков удивительно удачно устроился продавцом торгово-закупочного кооператива. Торговал, в основном, фруктами. Он очень мечтал, что кооператив как-то развернется и снимет несколько квадратных метров в магазине хотя бы на зиму, потому что к осени ему на природе стоять будет уже трудно, а зиму с его легкими тут не пережить. Братья его с трудом сводили концы с концами, и помочь ему мало чем могли. Другой работы найти он не мог, везде требовался еще и медосмотр, который ему бы нигде не подписали, а в кооперативе он со справкой другого человека стоял, строго говоря, работал за того парня. Поэтому его два раза уже обманывали с деньгами, но возбухать в его положении было просто нельзя. Все было ненастоящим и зыбким вокруг Волкова, и Варя почувствовала, что время, которое бежало для нее трамваем, стуча по рельсовым стыкам, для Волкова сделало здесь свою остановку.
— На этом углу и стоять-то уже опасно. Место хорошее, я никогда с товаром до шести не остаюсь, у меня все женщины-слесаря во-о-он с того завода после первой смены скупают. Это некоторым совсем не нравится. Вадик-то наш Вахрушев, вот кто приподнялся на полные сто! Он всю улицу контролирует до пристани. Здесь хочет своих поставить. Ко мне сам лично два раза предупреждать приезжал! Честь-то какая! Я говорю: "Вадим, побойся Бога! Исполкомом разрешено, санэпиднадзором, выездная торговля оформлена! Отстань!"
— А он что?
— А, говорит, все равно свалишь! Пригрозил даже разгромить тут все… Что делать? Просто не знаю. А хозяин кооператива даже слышать об этом не хочет. И место в магазине арендовать не хочет и Вадика нашего башлять — тоже. Решил даже, что я с Вадиком в сговоре, хочу таким образом, свои деньги за май от него вернуть.
— Ну, и гад же этот Вадик! А ведь учились вместе.
— Да кто об этом помнит-то нынче, Варь?
— Я помню.
— А ты и раньше и раньше была ненормальной. Прости. Возьми еще яблок.
— Нет, у меня денег больше нет.
— Ах, забыл, ты же у нас только на свои кушаешь.
Они засмеялись, но Варе все равно было грустно и как-то не по себе. Волков все время мелко покашливал, и Варя бессильно думала, что осенних ветров и дождей ему точно не выстоять.
— И как это тебя муж одну оставил? — притворно вздыхал Волков, кантуя пустые ящики из потемневших рассохшихся досок.
— Понимаешь, что-то у нас не так, тяжело стало жить вместе…
— Ну, не знаю… Впрочем, я и сам давно уже наших мужиков не понимаю. Им бы всем в тюрьме с годик без баб посидеть, тогда бы, может такие огурчики, как ты, одни бы по городу с детьми не бродили. И они снова смеялись, а Варина дочка вторила их смеху тоненьким ломким голоском.
— Волков, вот тебе мой адрес, совсем станет худо — приезжай.
— Варька! Ты в общаге живешь? Все уж давно квартиры получили, машины заработали, пока ты по аспирантурам ездила. И денег ты на кило яблок с трудом наскребла. И чем твоя аспирантура лучше моей тюрьмы?
— Не зли меня, Волков! Приезжай! Я с комендантом общаги поговорю, мы тебя электриком устроим и поселим на первом этаже в прачечной.
— Варя, Варя… Я тебе про медосмотр толкую, а ты про работу с подрастающим поколением, где медосмотр — три раза в год. Впрочем, спасибо. Может и приеду. Никогда ведь не знаешь…
До самой осени Варька с дочкой катались на трамваях. Теперь это было не так приятно, как раньше. В вагонах частенько собирались наглые нетрезвые типы. Молодые ребята иногда могли здесь и закурить, а на все замечания отвечали: "На такси езди, жопа!" Зайдя однажды с дочерью в трамвай, Варя увидела, что весь народ скучился у дверей вагоновожатого, а на другой половине не было никого, кроме трех нетрезвых парней. Варя так устала, что тут же села, обрадовавшись многочисленным свободным местам, даже не подумав, по какой причине их не заняли другие. Только потом, когда вагон тронулся, она поняла, что оказалась в довольно опасной компании. Она шикнула на дочку, чтобы та молчала, решив выйти на следующей остановке. А маленькая с любопытством уставилась на пьяных дяденек, размахивающих бутылками и выкрикивавшим короткие странные слова. Это был самый длинный проезд на всем маршруте, Варя уже совершенно измучилась, спиной ощущая угрозу, когда ее дочь на весь трамвай громко спросила: "Мам! А это вьетнамцы едут?"
На базаре у них тогда появилось очень много вьетнамцев, работавших в соседнем городе на комбинате шелковых тканей. Узкоглазые юркие люди, торговавшие теннисками с крокодильчиками и невиданными доселе заколками для волос, почему-то у коренного народа вызывали крайнее раздражение. А Варькиной дочке они, напротив, нравились, она очень интересовалась вьетнамской жизнью. Знакомая Вари рассказывала, как эти самые вьетнамцы орут всю ночь в общежитии, жарят скумбрию холодного копчения вместе с рисом, а несчастная скумбрия при этом издает неописуемые ароматы на половину жилого микрорайона.
Дочь эти рассказы не смущали, и она все время лезла к мамке с расспросами о том, полезные вьетнамцы или нет? Варька от ответов уклонялась, потому что никак не могла найти какие-нибудь положительные примеры практической пользы от вьетнамцев. И вот надо же такое спросить! В такой решающий момент, когда только-только осталось дотянуть до остановки. Варька прижала дочку к себе и приготовилась к обороне, сунув сумку себе под ноги.
На минуту в вагоне стало очень тихо, народ боязливо косился на испитые рожи местного гегемона, не торопясь на выручку дочке с матерью. Сами «вьетнамцы» тоже несколько ошалели и даже на минуту перестали материться. А потом до всех одновременно дошел смысл вопроса малышки. Залитые водкой узкие щелки глаз, опухшие плоские рожи, невнятная матерная речь… До какой же степени может упиться русский человек, чтобы окончательно слиться с извечным азиатским окружением! Смех начался с робких хохотков и все больше набирал силу.
Иногда ведь можно остаться человеком, только взглянув своему страху в глаза. Под общий хохот занимать свободные места первыми кинулись вездесущие старухи, острыми локотками зло распихивая «вьетнамцев», а двое дюжих мужиков под всеобщее улюлюканье выкинули их на той долгожданной остановке из трамвая…
Несколько раз из трамвайного окна они видели и торгующего фруктами Волкова, стучали ему в окно и радостно махали руками. А как-то они Волкова не увидели, и лишь на углу копошился хмурый народ, подбиравший яблоки у порушенного прилавка.
— А где дядя Волк? — спросила маленькая.
— Он, наверно, устроился в магазин. Не смотри туда, не надо, — сказала Варя, не в силах оторвать взгляд от двух яблок, лежавших в кровяной лужице. Они были, наверно, самыми большими и красивыми, но на них почему-то так никто и не позарился.
ЭХ, МАТЬ-ПЕРЕМАТЬ…
После случая с «вьетнамцами» Варина дочка стала проявлять неподдельный интерес к неформальной лексике. Хуже всего, что в этом она нашла себе сильного заинтересованного союзника в Вариной маме. Мама к старости как-то слишком резко вдруг превратилась в крикливую, ехидную старушку. Раньше она совершенно не вспоминала про свои юные годы, проведенные в Сибири, а теперь вдруг только об этом и принялась говорить. Встречным и поперечным она с умилением рассказывала о Сибири разные жутковатые истории про то время, когда сами заключенные лагерей просили начальство ввести у них смертную казнь. Даже Варя была не совсем готова адекватно воспринимать мамины рассказы про то, например, как выбежавший из зоны зек прямо на улице зарезал молодого студентика, приехавшего домой на каникулы. Романтические путешествия мамы домой из Иркутска, когда проводник поезда запирался на ночь в своем купе, а все студенты до утра боролись за свою жизнь и вещи, производили на публику не совсем то впечатление, на которое мама, очевидно, рассчитывала. Слушать, как мама кричит: "Полундра!" и в тонкостях повествует о сложном быте привокзальных урок, тоже особой радости не доставляло. А уж материться мама стала вдруг намного витиеватее папы-строителя. Причем она совершенно не признавала разные там блинные суррогаты, утверждая, что в Сибири младенцы сначала учатся материться, а только затем говорить «папа-мама». Поэтому Варя была вынуждена ограничивать общение дочери с распоясавшейся бабушкой. Татарки-воспитательницы с крайним возмущением рассказывали ей, какие примеры народной мудрости приводит ее дочь на занятиях. В качестве считалочки она прочла:
"Чики-чики, чикалочки, едет х… на палочке, а п… на тележке щелкает орешки" Почему-то ничего такого мама Варьке в детстве не сообщала, а тут, как прорвало ее. Варя попыталась строго поговорить с маленькой, но та, закатив огромные с поволокой глаза, сварливым маминым голосом ответила: "Мам! Все люди — как люди, а ты у меня, как х… на блюде!"
Сибирская экзотика так достала Варю, что, взяв дочь за руку, она потащила ее в клуб слепых, но Василия Даниловича они уже не застали, он умер от рака. Его грустная толстая жена расплакалась, узнав Варьку. Она с некоторых пор работала концертмейстером хора слепых и взялась учить малышку за недорого. Коротенькие названия нот так походили на «вьетнамскую» лексику бабушки, что девочка усваивала их слету. Бабушка была недовольна утратой самой благодарной слушательницы, шумела, что, мол, и сама сможет научить внучку песням бесплатно, но Варя проявляла непреклонную твердость в этом вопросе.
Мама не просто компилировала народное наследие, но подвергала его творческой обработке. Эти слова у мамы легко ложились в стихотворные строчки, точно отражавшие злобу наступивших дней. "Эх, мать-перемать! Где ж нам деньги теперь взять?" — риторически вопрошала мама саму себя, поняв, что все ее сбережения на сберкнижке превратились в дым. Варе она доказывала, что материться в нынешние времена — очень полезно для здоровья, иначе запросто можно заработать инфаркт.
По субботам, когда садик не работал, а у Варьки были консультации у студентов, бабушка и внучка наконец воссоединялись. После этого по понедельникам девочка на все общежитие орала, подражая народному хору: "Славное море — священный Байкал" и "Хазбулат удалой". Однажды она, широко разведя руки как для объятий, прочла:
"Кем ты естешь? Поляк малый! В цо ты вежешь? В орял бялый!"И Варя поняла, что у мамы окончательно съехала крыша.
О СТРАСТИ СО СТРАСТЬЮ
Ночь творит таинство жизни. Пение ночных птиц по весне — самая прекрасная ода пробуждению природы. Разве яркий, без полутонов и призрачного свечения день может быть так притягателен? Как удержаться в такую ночь от полета? Огромная луна, что висит за окном, что глядит на мир сотни тысяч лет… Сколько же раз она звала ее душу в разных обличьях по весне? Теплый ветер и лунный свет следует прописать каждой женщине, как лекарство от старости и преждевременного увядания.
Пусть не нашла она в жизни любовь, но звездное небо каждую ночь распахивало ей свои объятия. Блеск в глазах и счастливую улыбку дарили ей эти полеты. Она выбирала светлое, голубоватое свечение чужих снов, где оживляла давние мечты и древние легенды. Любая душа живущего с трепетом отзывалась на ее зов. Что день! День превращал людей в озлобленных подавленных животных, только ночь ненадолго делала их свободными, только ночь освобождала их истерзанные сомнениями и завистью души для полета. Многое произошло за эти века, что ее не было.
Горько, но видно из жизни людей навсегда ушла страсть. Страсть — та самая закваска, что заставляет бродить и вскипать все наши лучшие чувства. Люди перестали обожествлять ночь. Наперекор природе они продолжали дневные заботы, дела ночью. В ночь отодвинулись и дневные страхи, кошмары. Музыка ночи в человеческой душе была осквернена, она погибала.
Ночь — преддверие смерти, благоуханное и облагороженное напоминание о ней. Люди теперь так боялись умереть, что радость жизни ушла из их сердец. Разучившись умирать и принимать смерть с достоинством, люди забыли дорогу в ночь и в вечную любовь.
Отказавшись от Богов, люди в этом веке отказались и от вечной жизни, отказались от своей души. Они забыли, чем живет их душа. Они испытывали страх за каждый свой миг, а время все сеяло и сеяло сквозь их беспомощные пальцы…
Страх перед жизнью убил в человеке страсть. Страх рождает только зависть и ненависть. Страсть — это то, что движет человеком, открывающим новые миры, невиданные земли, страсть притягивает мужчину к женщине, толкает женщину в его объятия. Блажен тот, чье появление на свет осеяно страстью! Страсть делает мужчину мужчиной, вкладывает блеск в его глаза, смех в уста и разум в голову. И если нет в тебе огня страсти — ты не мужчина! Так стоило ли проливать столько крови, ветром разнося бесчисленные песчинки человеческих жизней, которым никто и никогда не назовет цену, ради беспомощной, не имеющей жизненной правоты идеи, если все эти философии, вместе взятые, не помогут найти тонкую тропку к звездам? Так стоит ли цепляться за ужас прошлого, если душу зовет днем земля, а ночью — небо!
ВАРЬКУ ЗОВЕТ ЗЕМЛЯ
По весне знакомые Вари помогли ей взять землю под коттедж в живописном месте, и она, так тосковавшая в городе, всеми правдами и неправдами захватила себе около тридцати соток.
Помочь ей было некому, и она стала одна поднимать свой запущенный, заполоненный дерновиной участок. На соседнем участке работал крепкий немолодой мужик. Варя знала, что очень нравится ему.
Он всегда выходил при ней работать на их границе, голый по пояс. Варя исподтишка любовалась его загорелым торсом, военной выправкой и представляла его в любви. Но Федор Фомич не заговаривал и держался с ней хмуро и неприветливо. Глядя, как она, не разгибаясь, ковыряется в земле, он только неодобрительно вздыхал. Но он не понимал, что земля давала Варе гораздо больше, чем брала от нее. Земля наполняла ее жизнь давним смыслом, успокаивала ее душу, отодвигала от нее, пусть ненадолго, все сомнения и тревоги.
Как-то он выкатил большой мотоблок и стал обрабатывать оставшиеся на своем участке куски дерновины. Варя стыдливо попросила его позволить, в то время, когда он обедал или работал с вилами, немного попахать и ей. Федор Фомич был крайне удивлен ее предложению.
Мотоблок был очень тяжелым, для пахоты нужна была недюжинная сила, да и само его обслуживание требовало крепкой мужской руки. Но Варя, наблюдавшая за ним, уже приметила все особенности работы с этим страшилищем. К хохоту всех соседей, соломенная вдовица стала с мужицким матом пахать на своем участке. Ей и самой было смешно. Она вспоминала хуторские рассказы про женщин-трактористок. Паша Ангелина, например, поставила свой первый рекорд потому, что забыла, как глушить трактор, поэтому пахала до тех пор, пока не закончилось в баке горючее.
Мотоблок выворачивал дерн, который Варя потом трусила вилами. Запускать участок было нельзя, потому что откинутый мотоблоком сорняк все норовил прирасти, и засеять все вновь своим крапивным семенем. Перекуривая на куче сорняков, Варя соображала, как лучше ей вырыть компостную яму, терять в качестве удобрения выращенную ее землей траву не хотелось. Она глядела, как судорожно пытались выжить вывороченные ею из земли сорняки, и ее зажигала эта жизненная страсть, пусть и проявляемая хотя бы только сорняками.
Варе представлялось, что она — такой же сорняк с перепутанным обрубленным корневищем. Отброшенный на обочину дороги, втоптанный в землю, с палимыми солнцем корнями, ухватившими все же толику родной земли, он медленно, упорно выправлял свои листья, привыкая и к такому их положению, и, не смотря не на что, выкидывал цветущий семенной стебель.
Теперь ее манила и земля, раскинувшаяся под блеклым северным небом. Какая же она родная, близкая ей! Как же ей хорошо с ней! Они так понимали друг друга… Ведь Россия, по ее представлению, тоже была женщиной, что лежала, раскинувшись, под бескрайним звездным небом. Что была ей Вселенная? Она сама — Вселенная! Что ей мир вокруг нее? Она сама — огромный, многокрасочный мир! Какую сказку они все пытались ей рассказать? Что не видела еще она на своем веку? Ну, с какой философией можно было подступиться к ней, такой! Ничего ей не надо: ни чужих мыслей, ни чужих денег, ничьей жалости. Ей не надо и свободы из наших беспомощных рук. Она, как в зеркало, испокон веков вот так же смотрелась в сверкающий небосвод, и все ее грезы были только о любви…
* * *
К лету Федор Фомич построил на своем участке небольшой кирпичный дом с камином и крошечной банькой. Соседи тоже потихоньку застраивались. Это была заводская элита одного из крупных оборонных заводов, деятельно растаскивавшая свое предприятие на садовые участки и коттеджи. Федор Фомич вообще ходил на работу с набором отверток и, из хозяйских соображений, скрутил даже ручки от ящиков столов в своем конструкторском бюро. Варька тоже приволокла со студентами-заочниками на свой участок списанный строительный вагончик. Но ночевать там было все равно нельзя, поэтому она каждый день отправлялась грязная, потная домой. Иногда она брала с собой дочку и свою собаку, которую завела к огромному неудовольствию Исайки. Маленькая сидела на травяной куче и играла с куклами, а Варька понемногу приводила свои сотки в божеский вид. Она совершенно всерьез решила в одиночку устроить для отдельно взятой дочери отдельно взятый хутор.
Федор Фомич давал Варе всякие саженцы, он подолгу подробно объяснял ей, как лучше их выращивать. При этом он почему-то не глядел ей в глаза. У него на участке был колодец и скважина, он провел ей нитку водопровода, и ей теперь не надо было возить воду из пруда в большой фляге с колесиками.
Однажды, когда среди недели он был на участке совсем один, а Варя приехала без своих домочадцев, оставив дочку у родителей, Федор Фомич подошел к ней и сказал: "Варвара, у меня вода горячая в бане осталась, поди, сходи ополоснуться!". У Вари ослабели колени, но она пошла. Когда она, помывшись, вышла завернутая в полотенце в предбанник, он уже ждал ее голый, расстелив байковое одеялко на широкой деревянной скамье. Варя подошла к нему, обвила его мощную шею руками и стала с жадностью целовать.
Приезжая теперь на участок, она шла в ельник, что рос неподалеку, там уже ждал ее Федор Фомич со своим байковым одеялком. Он оказался неутомимым и искушенным любовником. Со своего завода он притащил плащ-палатку, и они занимались этим и под проливным дождем. Потом они порознь расходились по своим участкам и, обрабатывая землю, с улыбкой обменивались откровенными взглядами. А потом лето закончилось, они собрали урожай и в последний раз сходили вместе с ним в его баню.
Жена Федора Фомича, как начались холода, почти не ездила на участок. Это было самое чудесное лето в ее жизни. Земля, жаркие полдни, тихие вечера, и этот немолодой мужчина просто спасли тогда ее от смертного кошмара одиночества и увядания. Она хотела бы, чтобы в ее жизни было много-много таких вот огородных сезонов, когда бы она могла отдаваться Федору Фомичу под каждой елкой.
* * *
Всю зиму Варя провела в борьбе за кусок хлеба насущного, а когда она по весне отправилась на свой участок, душу ее теснило от неясных мрачных предчувствий.
Федора Фомича на участке не было, там ходила только его жена, Галина Петровна. Она все поглядывала в ее сторону, не решаясь заговорить. К полудню она все же крикнула Варьке: "Варя, зайди в дом, поговорить надо, не бойся, бить не буду!" И Варя пошла, уже зная, что никогда не увидит Федора Фомича.
— На, вот, выпей! Помянем Федора!
— Земля пухом.
— Я все про вас знаю, да поздно уже теперь об этом. Погиб он. Ехал сюда на машине, колесо спустило, а когда перебортовывал, самосвал его сбил. Парень за рулем был восемнадцатилетний, в дымину пьяный. Вот так, нет теперь Федора.
Варька заревела, она знала, знала.
— Ты не реви, а то я тебе, сучка, врежу! Вон, уже все соседи говорят, что дочка твоя от него!
— Ага, и собака у меня тоже от него, раз я — сучка!
— Ой, не смеши, — грустно рассмеялась Галина Петровна, — у нас ведь две дочки, в другом городе обе живут, такие, как ты, будут. Тоже, не поймешь что у них с мужьями, ладно, что не жалуются, а то — хоть вой! Я, ты знаешь, даже довольна была. Мне это не надо уже, болею очень, Федор хоть от меня отстал. В семью ты мою не лезла, а при тебе он пить бросил и огород поднял. Из меня-то уже работник никакой.
— Да вашего Федора Фомича на батальон бы таких, как я, хватило бы.
— И не говори, ласковый был мужик, с понятием…
Они снова выпили, закусывая янтарными пластиками капусты.
— Варь, мне без тебя землю не обработать, давай, я тебе, как могу, помогу, а ты бери мотоблок из гаража и паши. Ты ведь умеешь… Прошу тебя, Федьке будет больно, если все тут заглохнет.
— Я и сама хотела предложить, да, думала, опять обматерите.
— У меня картошка хорошая сортовая, а у тебя ведь и ямы-то нет! Потом семена мне подруга с опытной станции все время возит, ладно, справимся! Пей!
И Варька, пьяная, обливаясь слезами, пахала огород Федора Фомича. На другой день она перешла с мотоблоком на свой огород. Галина Петровна водилась с ее дочкой, помогала садить, пропалывать. Тяжелая работа по поливке легла теперь целиком на Варьку, которая научилась управляться с насосом и вычистила колодец. Они подружились с вдовой Федора Фомича, стали просто не разлей вода.
ТРИ ДИАЛОГА, НАВЕРНОЕ, О ЛЮБВИ, ХОТЯ, КОНЕЧНО…
— Варь, ну, сними ты, что-нибудь, а то ведь как двойная защита от кариеса! Дай хоть потрогать!
— Отстань, Андрей! И прекрати при мне свою ширинку расстегивать!
— Слушай, как вы с мужем живете? Он — в Москве, а ты — здесь. Варька, дай! От такой, как ты, не убудет!
— Оно и тебе ничего не прибудет!
— Это просто смешно. Мне тебя искренне жаль. Ты, в конце концов, понимаешь, что такое женская физиология? Женщине долго без мужика не протянуть!
— Я не хочу заниматься физиологией, если бы хотела — стала бы доктором. Хватит, не лезь ко мне! Не щипайся! О деле давай! Вот здесь все, что у меня есть, я без этих денег полгода проживу. Смотри, не обмани только! Да, не трогай ты меня!
— Варь, зачем ты так? Почему ты меня отталкиваешь? Я думал, что у нас с тобой что-то будет, надолго…
— Ага, и в твоем банке стали бы о нас говорить: "Он ей помогает!".
— Ты вечно что-то требуешь от меня, но если я стану другим, то где ты будешь крутить свои деньги?
— Это резонно! Вот поэтому и стараются не смешивать селедку со взбитыми сливками.
— Как ты была гадиной, так ею и осталась!
— Особенно необыкновенно гадкой я была в двадцать лет!
— Сколько можно этим попрекать?
— Поверни время, и не услышишь от меня ни одного упрека…
* * *
— Варенька, Варюша! Наконец-то я с тобой! Послушай, разведись с мужем, я хочу жениться на тебе. Я хочу, чтобы ты встречала меня в обед, хочу идти домой, и знать, что ты меня ждешь…
— Н-да, батенька… Дела-а… Только, милый Онегин, еще ни одна женщина не стала лучше за десять лет. Тебя не было дома, когда я звонила тебе в девятнадцать, в двадцать лет, последний раз твоя мама сказала мне по телефону, что тебя нет дома, когда мне уже стукнул уже двадцать один год.
— Варенька, ты же все понимаешь! У меня папа служил в КГБ, он ведь не там работал, где ты думаешь. А меня только-только пригласили в обком комсомола! И я бы стал ездить с тобой в ресторан аэропорта вместо того фотографа и прилюдно целоваться, изображая расставание на всю жизнь?
— Ты вообще его не трогай! Даже не заикайся! Он бы меня никогда не оставил так, как ты!
— Варька, если бы ты хотя бы светилась поменьше! Но нет, тебе ведь надо было на лекции по философии при всем потоке заявить, что ты лично, заметь, разговаривала с Гегелем, который сказал тебе, что "Философские тетради" — муть в синей обложке! Он, видите ли, просил тебя передать, что не желает быть никаким источником и составной частью! Он, понимаешь ли, был до глубины души возмущен, что его религиозную, теософскую философию соединили с каким-то придурком Фейербахом, которого бы он не допустил ватерклозет чистить!
— Андрей, да ты бы только видел этого Людвига с его учениками, когда они в ночных рубахах до обеда таскались по деревне и из вульгарных материалистических соображений щупали девок! И это ведь все происходило не у нас, в колхозе "Красный луч", а в немецкой деревне девятнадцатого века!
— Ва-а-ря! Сколько же можно! Тебя даже к нам банк не взяли! Ты зачем на собеседовании по аналитике пассива баланса с вопросами к заму полезла? Сейчас у нас проверка, все думают, что это ты навела.
— Так ведь они сами попросили сделать финансовый анализ баланса! А проверку ваш управляющий вызвал, ты же сам мне это сказал!
— Неужели на собеседовании нельзя было хотя бы раз вести себя как-то иначе? Мы могли бы вместе работать, ведь у тебя такая светлая голова! У нас там тренажерный зал, комнаты отдыха! Я бы хоть среди дня к тебе не срывался!
— А ты знаешь, боюсь, что тебе бы вряд ли удалось посетить со мной эти самые комнаты отдыха среди дня. Из пяти членов комиссии мне после собеседования звонили трое и просили о свидании. Я думаю, что они не о финансовом анализе хотели со мной пообщаться. Занимаемые ими посты несколько выше твоего, а ты у нас всегда был такой послушный мальчик!
— И Доденко звонил?
— Его Вячеславом зовут?
— Да…
— Мне звонил приятный мужской баритон и представился Вячеславом. Успокойся, я сказала, что меня нет дома.
— Сука!
— Доденко или я?
— Нельзя было одеться поскромнее? На собеседование ведь шла! Как ты выглядела, что они все тебе звонили?
— И не говори! Меня утешает только то, что я не выглядела лесбиянкой, потому что оставшиеся члены вашей комиссии были женщины, они мне, слава Богу, не звонили.
— Что мне делать с тобой, Варька? Что мне делать с собой?
— Андрейчик! Мне казалось, что ты уже это решил для себя много лет назад.
* * *
— Варя, почему ты перестала приходить тогда ко мне в сны? Знаешь, я все время жил, считая часы до сумерек. Ты не слышала, как я тебя звал?
— Слышала, но после того, как ты с мальчишами-плохишами применил против нас баллистические ракеты… Нет, мои больше к тебе не пошли!
— А почему всегда я был Мальчишом-Плохишом? Скорее я должен был быть Мальчишом-Кибальчишом! А им была все время ты, какой-то китайский батальон с тобой, они вообще-то были китайцы?
— Нет, они — австралийские землекопы. А впрочем, кто их разберет, узкоглазых! Ты чего такой хмурый сегодня, Андрей? Ах, да, у тебя же отчет филиалов был сегодня…
— Варя, куда мы все идем?
— Это зависит от того, откуда мы идем и кто мы такие. Почему тебя это так волнует, Андрюш? Куда-нибудь все равно придем.
— У нас разговор, как у Алисы с чеширским котом. Она у него дорогу узнает, а он ее спрашивает, куда она идет. Если, говорит, тебе все равно куда попасть, то все равно и по какой дороге идти.
— Ну, ты совсем взрослый мальчик! А сон-то понравился?
— А ты откуда знаешь? Может я читал про Алису?
— Брось, читал он! А то я не знаю, что ты читал!
— Так это ты там была черной королевой? Значит, ты меня все-таки взяла в свой сон!
— Нет, это был уже не наш сон, а Алискин!
— Алиса — твоя дочь? Красивая девочка! Я бы мог отправить ее потом учиться за границу.
— Нет, ей пока без меня не выжить. Она еще слишком во мне. И, кроме того, вряд ли Алиса согласиться поехать на деньги чужого дяди, а не своего папы. По-моему, ты ей активно не нравишься.
— А почему я был белым кроликом? Даже чеширским котом был твой узкоглазый, кстати, а где второй?
— У тебя сплошные вопросы! Не думала, что финансисты такие мятущиеся личности. Для чеширского кота в тебе так мало огня! А потом, ты же сам принес мне подшивку «Плейбоев» с кроликом, у меня возникла сложная ассоциативная цепь: ты — кролик, а кролик — это ты! Не надо было растлевать меня, милый!
— Выходи за меня замуж. Я ведь год назад развелся с женой. Я серьезно. Я хочу, чтобы ты была только моей.
— Да, все так начинают. Потом они хотят, чтобы я не смеялась, не говорила, не думала, не шаталась по чужим снам, чтобы я любила только два раза в неделю и так далее. Остановимся. Это мы уже проходили.
— Почему ты мне не веришь, ведь ты же видишь, что я совсем другой!
— Вот это меня всегда в вас, партийных функционерах, умиляло до слез! Вы так органично вписались в джипы и брокерскую деятельность, что кажется, будто вы родились в итальянском пиджаке с мобильником на ухе! Поверни время назад, милый, пусть мне опять будет двадцать, а ты будешь все время дома для меня!
— Ты так и не успокоилась? Прошло десять лет, а ты не простила? Все изменилось вокруг, а ты все живешь вчерашним!
— Я всех предам ради тебя, я буду жить только тобой, я стану такой, какой хочешь, я вся стану твоей, если ты только ответишь мне на вопрос: "Где же заканчивается вчера, и начинается сегодня?".
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА
К началу лета Варя и Галина Петровна немного разобрались с огородами. В институте у Вари распределяли путевки на базу отдыха. Галина Петровна очень советовала ей ехать туда, обещая последить три недели за Варькиным участком. Она высказала предположение, что Варвара там себе кого-нибудь встретит. Но у Вари были какие-то нехорошие предчувствия, ехать она все не хотела, наконец, Галина Петровна просто выгнала ее, забрав ее ключи от бытовки на участке. Варя собрала дочку, определила собаку на время к брату, покидала свои вещички и двинула в путь. Предчувствия ее оправдались на все сто. Она встретила там себе Иванова. Правда, она с облегчением поняла, что это уже в последний раз в жизни.
Варя создала вокруг себя небольшой дружеский мужской кружок. Это было не совсем то, что вы подумали. Они пели хором под гитару, сочиняли остроумные спичи для выступлений у костра, ловили рыбу, ночью ели уху. До Вари мужики пели скабрезные сюжетные туристические песни и напивались запасенной водкой, но, подчиняясь Вариному обаянию, стали гнусаво тянуть печальные песенки Окуджавы и белогвардейские романсы. Бестселлером сезона стала тогда "Песня у новогодней елки": "Синяя крона, малиновый звон", слова которой они с ошибками списали себе под Варину диктовку.
Все эти достаточно прожженные в институтских интригах и искушенные в жизни матерые мужики возле Вари на краткий миг чувствовали себя шалящими на приволье детьми. Прекрасный сосновый лес, житье с минимальным комфортом приблизило людей к природе. Не надо было большого колдовства или ворожбы, чтобы на время краткого летнего отдыха вернуть этим взрослым мальчуганам ощущение личной свободы, они и сами рождали вокруг себя ауру легкости и веселья.
"Варька! Давай к нам!" — раздавался каждое утро чей-нибудь зычный голос. И Варя, пристроив дочку к какой-нибудь детной мамаше, неслась на клич. Недовольство жен, их ворчание и подозрительные взгляды никого не останавливали. За этой странной веселящейся компанией из Варьки и семи мужиков за сорок таскался повсюду и холостой тогда Иванов. Варю поражало, как старательно он подтягивает их хору, собирает с ними ягоды и травы, в очередь и без очереди таскает дрова в ветхую баньку у реки.
Иванов после окончания аспирантуры в МГУ работал в их институте, был отчаянно беден. Старые заношенные майки, неизменные розовые сатиновые трусы, которые он носил как спортивные, странные заторможенные движения старика служили поводом для многочисленных насмешек представительниц слабого пола. Они были злы на него потому, что здесь, на отдыхе, единственный неженатый мужчина тридцати лет, недурной наружности не проявлял к ним, щедро оголившимся под капризным уральским солнышком, никакого интереса. Варе то, что он предпочитал проводить время с ней, по слухам имевшей где-то мужа, тоже очков не добавляло.
А ей вдруг вновь стало его очень жалко. Она не могла глядеть как своими короткопалыми руками, украшенными когда-то драгоценными перстнями, он сам стирает себе ветхое белье. Он нес свое отшельничество, свою нищету без моральных терзаний, кротко и естественно. Конечно, он не мог не слышать язвительных перешептываний институтских дам за своей спиной, не мог не замечать выразительных подкручиваний пальцев у виска. Он молча проходил сквозь людей, он и в нищенском рубище был царственен и полон достоинства. Но Варя, задетая как-то насмешками над ним, подошла и, стараясь проявить как можно больше такта, заметила ему, что не надо бы купаться в речке в исподнем белье. Саша искренне удивился: "Но на пакете было написано, что это плавки! Это югославские плавки, Варя!". Краснея и запинаясь, Варя еще долго объясняла ему, что белое изделие югославских галантерейщиков с кармашком посередине предназначается для иных плаваний.
А однажды она застала его под детским грибком. Саша писал недомученную свою экономическую диссертацию. Варя, заглянув через его плечо, увидела трехэтажную формулу. Саша пояснил, что он выводит формулу ущерба, который нанесли обществу монополизация и огосударствление экономики. Варя положила руку на его мощное богатырское плечо:
— Саша, может быть, уже хватит?
— Ты уверена? — сразу поняв, о чем речь спросил он.
— Саша, я уверена в том, что никому из тех, кто был ограблен при огосударствлении экономики, твоя формула уже не поможет, они мертвы. Сейчас идет обратный процесс, создаются частные состояния. Почему бы тебе, такому умнице, не участвовать в этом? Докажи эту формулу от обратного — какую выгоду будет иметь общество от разгосударствления экономики и обогащения его гражданина Иванова.
— Мне это не нужно.
Он сцепил в замок до хруста крупные, ухватистые руки. Варя увидела, что он просто не пускает к себе деньги, которые так и льнут к этим рукам. Значит, его добровольное нищенство — искупление. Но ведь не этим же, в конце концов, можно искупить…
— Саша, все смеются над тобой. Я не могу этого выносить. Сама не знаю почему, но не могу. Если ты только пошевельнешь пальцем, то денег у тебя будет не меряно, я даже не знаю, как они к тебе придут, но они к тебе придут. Все равно, я уверена, что дело не в деньгах, в другом. Ты такой умный, ты сам все поймешь! Но, пожалуйста, не ходи больше в этих драных штанах, в этой тенниске!
В столовую у них завезли какие-то странные ранние сливы. Варину дочку, которая съела и свою и мамину порции, весь вечер рвало. Потом она уснула, и Варя, вся в слезах, вышла к костерку, куда ее давно вызывали тихие мужские голоса. Исайка всегда с удовольствием оставался сидеть с маленькой по ночам, надеясь, очевидно, как и Галина Петровна, что у Варьки хоть на этот раз что-то выйдет в личной жизни. Иванов присел на бревно рядом с ней. Петь Варя не могла, поэтому все остальные потихоньку разошлись по домикам.
— Не расстраивайся, Варя! Вот увидишь, завтра все будет в норме. Ну, вырвало, значит, желудок не принял…
— Да, главное, только с ней было плохо!
Иванов ласково приобнял ее за плечи и прижал к себе. Варька почувствовала, как успокаивается ее сердечко. Она стала замерзать,
Саша закутал ее в свою драную спортивную кофту. Тлели угли костра, в ветвях деревьев шумел ветер.
— Саша, если ты хочешь, то я пойду с тобой в твой домик. И мучить тебя больше не буду, и смеяться над тобой.
— Не надо, Варька, не валяй дурака. Ты все правильно тогда сделала, умница. Даже не знаю, что бы с нами было, если бы я все-таки поступил так, как задумал тогда. Я думал, что только таким образом смогу кое-что понять, а потом и так все понял… Ты совсем замерзла?
— Слушай, вот ты — экономист, все понимаешь, что сейчас делается. Вот скажи, нам землю обратно вернут?
— Нет, Варя, не вернут. Иначе нашему народу все мы будем до лампады, он начнет жить сам по себе весело и сытно. Тогда обогащение отдельно взятого гражданина Иванова вряд ли состоится так скоро, как может быть. Земля тебе нужна, а мне для богатства этого не нужно.
— А что тебе для этого нужно?
— Игра. Игра в бумажки. Собственно, на этом и базируется нынешняя экономическая наука. И я полагаю, новая политическая элита захочет сыграть с народом в бумажки для начала, а старая — напоследок. Вот тогда такие, как я, и станут исключительно богаты…
— Саш! А ты чего не женишься-то?
— Не переживай, женюсь. Ты сама-то, когда определишься со всем этим? У тебя хорошая дочка, Варя, муж где-то там есть… А зачем ты Андрею из сбербанка голову открутила? Мстишь, что ли? Извини, я тут эту историю случайно узнал…
— Заныл, прямо как мать моя! Что хочу, то и ворочу!
— Выпороть тебя, что ли?
Варька засмеялась, прижимаясь к его теплому плечу. За весь этот тяжелый день она впервые почувствовала душевную легкость. Жаль, что их пути разойдутся навсегда теперь, когда он стал другим. Так вот и бывает, когда люди встречаются только затем, чтобы узнать друг друга и простить…
Лето закончилось неожиданно, застучали тихие нудные дожди. В лесу было сыро и неуютно. Вся их компания перебралась на заброшенную речную пристань. Они разжигали костер, пили травяной чай, пели под гитару и болтали чепуху. В последний их вечер на природе Варя загрустила. Расставания ведь всегда печальны, тем более что вместе им было всем очень весело. А в городе — все будет не то и не так. Потом как-то вышло, что они остались с Сашей одни у тлеющего костра.
— Знаешь, Саша, я совсем не могу сейчас почему-то читать книги, — сказала Варя.
— Значит, не те книги читаешь, или уже созрела для графоманства, — ответил Саша, и они рассмеялись.
* * *
Иванов проживет еще долгую, весьма успешную в бизнесе жизнь. Деньги, которые предсказала ему Варька, нашли, наконец, дорогу к его хозяйским рукам и крепкой голове. Поговаривают, что он даже имеет игорный бизнес! А чему тут удивляться, если он во всех воплощениях был чрезвычайно азартен. Через два года после их последней встречи он женился, у них с женой родилась дочка. Варя позвонила поздравить его с этим знаменательным событием и, похоже, невольно обидела его. Она выразила уверенность, что его замечательная дочка спит все же не в табуретке. Иванов раздраженно бросил трубку. Не смотря на то, что их жизни теперь пойдут в совершенно разных общественных измерениях, они иногда будут перезваниваться, и Иванов всегда будет живо интересоваться Варькиными делами, но не более того.
Забегая далеко-далеко вперед, чтобы окончательно поставить точку в их встречах, можно сказать, что через много лет пожилой папа подарит свой юной дочери браслет из двух сплетающихся серебряных змеек. Он заказал его очень давно, когда она была совсем малышкой. Он долго хранил его, прежде чем решился ей его подарить. Однажды он уже делал такой подарок смешливой, гибкой красавице, которая родила ему сына, с такими же, как у него, серыми глазами…
— Папа! Я же говорила, что хочу золотой! Почему серебряный-то?
Девушка не могла знать, что когда-то серебро было гораздо дороже золота…
ПРО СОСТОЯНИЕ ЛЕГКОГО ДУШЕВНОГО ПОДЪЕБА
(выражение для тех, кто болен хроническим насморком)
На кафедре начались первые перебои с заработной платой. А одним летом впервые преподавателям не выдали отпускных. Все лето из меркантильных соображений народ позванивал и захаживал в институт. Варька бегала по каким-то бесконечным приработкам, постоянно реализуя возникавшие у нее коммерческие проекты. Но она никак не могла долго удержаться ни у одной, из создаваемых ею касс. Как только она налаживала механизм зарабатывания денег, слабые и беспомощные до этого момента партнеры неизбежно оттесняли ее. Она уходила с гордой, презрительной усмешкой, хотя это, конечно, звучит банально. Предавшие ее друзья искренне при этом считали, что для них это последний шанс выжить, а от Варьки не убудет, еще чего-нибудь найдет. Все стремились выжить, пережить это время, как будто бывают иные времена, как будто изломанный, изверившийся человек, мог еще научиться жить.
Она хваталась за любую работу. И как-то ей здорово повезло. Взяв подряд с отцом и братом на прокладку сложной теплотрассы, просидев по траншеям половину лета, Варька смогла из прибыли купить себе трехкомнатную квартиру и даже скромно ее обставить.
* * *
В августе Варька заглянула на кафедру поинтересоваться своими отпускными, которые бы очень ей были кстати. Машинистка кафедры при виде ее фыркнула и ехидно объявила, что таким, как она, следовало бы в настоящий момент живо интересоваться сухарями и подбивкой валенок, потому что робу таким, как Варвара, выдают на месте. Варя совершенно не знала, что ей сказать. Она смотрела на машинистку — свою бывшую студентку-вечерницу, которой помогала выполнять курсовую работу, и не понимала, о чем та говорит. Сжалившись над Варькой, секретарша подсунула ей газету: "Вы, как всегда, газет не читаете! Они Вам пачкают руки! Ну нельзя же быть такой темной, Варвара Анатольевна! У нас теперь ГКЧП, все по старому теперь будет! Язык-то надо за зубами держать! Я вот уже докладную заведующего нашего куда надо на Вас допечатываю…"
— Скоренько же вы перестроились!
— Стараемся!
Варька побежала в тревоге к родителям, ей надо было срочно узнать все. Господи, ее Лешик в Москве! Но ее мама цинично заявила с порога, что ее переживания за Алешу совершенно напрасны: "Я в своем зяте уверена! Он никуда не влипнет, под пулю не полезет! А вот ты, милочка, лучше дома сиди! Под замком! А то, действительно, не ровен час, либо пристрелят тебя, либо в каталажку упекут! Что же у вас за родова такая с папенькой? У вас что, шпынь в заднице? Вечно куда-нибудь влезете!".
Вечером спала поздняя августовская жара, стало легче дышать. Позвонил Алеша, успокоил жену. ГКЧП тоже как-то пошло на спад. Алеша со смехом рассказал, что под пули он все же попал. В магазинах в честь ГКЧП выкинули по старой забытой цене водку без талонов. Аспиранты с огромными баулами ходили ею отовариваться. В сумку Алеши попала шальная пуля, вдребезги расколов одну поллитровку. И Варька, в страхе за мужа, вся обмирала от этих рассказов.
А осенью студенты написали на Варьку жалобу в деканат. Конечно, всем было ясно, что студенты не писали, а подписывали, поскольку короткая фраза "Просим сменить преподавателя по металлическим конструкциям" была напечатана на деканатской машинке. Старосты вытрясли подписи практически со всех. Не подписали только жившие раньше с Варей в общежитии ребята, с которыми у нее были простые дружеские отношения. Они частенько выручали ее, забирая дочку из садика и отоваривая ее продовольственные талоны, в том числе и на водку. Давиться сама в этих кошмарных очередях она не могла, что же ей теперь и водку не пить? Но со студентами она водки не пила из принципа, хотя как-то после зачета они здорово надрались разливного пива прямо на кафедре. У них на четверых была одна вилка, и Варя, тонко нарезав скумбрию холодного копчения, учила трех парнишек пить пиво по всем правилам, с вилки подавая им ломтики рыбы.
Может быть, такого бы и не произошло, ведь даже крах ГКЧП Варе на кафедре все же простили, но коллег доконало Варькино новоселье. В то время как им третий месяц не платили заработную плату, Варвара переехала из общежития сразу в трехкомнатную квартиру! А, пригласив преподавателей кафедры на торжество по этому случаю, она угощала их балыком и икрой! Варька уволилась из института. Вот тебе и хлеб с маслом!
* * *
Теперь Варе надо было думать о новом куске хлеба. Она так устала что-то организовывать сама, ей уже просто хотелось спрятаться за чью-то спину. Она умела отлично держать чужую спину, этот человек при ней мог бы быть уверен за свой тыл. Только где же найти такого человека? Она все искала, искала, но никак не могла найти того человека среди живых. Через полгода к Варе вернулся из Москвы муж. У них всегда были дружеские отношения, которые в тот момент переросли во что-то вроде любви, но без прежней страсти. Алексей был потрясен ее достижениями на ниве укрепления материально-технической базы их семьи. К его приезду она даже купила машину, при помощи своего приятеля, который убедил руководство продать новенький седан по балансовой стоимости Варьке. Так он рассчитался с ней за то, что она курировала двух его придурков-сыновей в институте. Алексей с трудом устроился на государственную службу, где еще до него начались задержки с заработной платой, поэтому на его заработок ей рассчитывать не приходилось.
Варьке надо было кормить семью хотя бы не балыком, а чем по проще. Хорошо, что с поднятого ею огорода они имели картошку, овощи, другие консервированные припасы, хранившиеся в яме в гараже Галины Петровны.
* * *
Помня о своем печальном опыте собеседований в крупных фирмах, банках, фондовых биржах, она даже не пыталась устроиться туда. Ей нужна была небольшая крепкая шарашка. Только там она могла бы спокойно работать, только там, где каждый отвечал за свой участок работы, ее могли бы оценить по достоинству. Она опять стала искать среди знакомых, бывших однокашников подходящих себе соратников, пыталась восстановить связи, значительно поредевшие за шесть лет ее аспирантуры. С огорчением она должна была констатировать, что работать с ней не хочет практически никто. А многие даже были рады ее просительному тону, ее затруднительному положению.
Действительно, что она о себе думала, что понимала? А вот они по аспирантурам не ездили, шибко грамотных из себя не изображали, а теперь у них итальянский офис и «Вольво» во дворе, а она в дешевеньком, самошитом костюмчике на готовое напрашивается! С плохо скрытым злорадством ее расспрашивали о работе с прежними партнерами. Никто не понимал ее чистоплюйства по отношению к ним. Как можно было добровольно оставить свой законный кусок? А раз ты не от мира сего, значит, что-то не то у тебя с головой. Кто же возьмет на работу полоумного бухгалтера?
Варькины нервы стали потихоньку сдавать. Лариса, учившаяся с ней когда-то в классе и работавшая теперь на блатной должности в аптекоуправлении, устроила ее в центр психологической разгрузки в группу женщин, самостоятельно занимавшихся бизнесом у них в городе. На этих занятиях Варя, утопая в мягком кресле, и, оглядывая нервных, холеных дам, пыталась с закрытыми глазами, по требованию женщины-психотерапевта, представить абсолютно ровную снежную равнину. Но вместо этого она все время видела только расхлябанную степь, изрытую оврагами и балками, и баб, тащивших мешки с житом на плечах.
О ТОМ, КУДА МОЖНО ПОПАСТЬ ПО ПЬЯНИ
Как-то она шла по улице, погруженная в невеселые размышления, и вдруг рядом с ней притормозил новенький темно-синий "Рено".
— Варвара! Своих не замечаешь! — заорал ей из чужой заграничной машины Сашка Касихин. Остановившись, она с удивлением смотрела на почти незнакомого мужика, с улыбкой распахнувшего ей дверцу машины. Он был из давнего прошлого, о котором она старалась не вспоминать. Когда-то они учились на одном потоке. Звезд он с неба не хватал, но с деревенским трудолюбием отпахивал все занятия. Был душой общежитской компании, в которую Варя, конечно, как городская, была не вхожа. Его взяли в армию после завала сессии на третьем курсе.
— Ты чего такая смурная? Красивая баба идет по улице, так все отпадать должны, а не шарахаться от ее озлобленной рожи! Садись в машину, я подвезу.
Она уже несколько раз сталкивалась с панибратством тех ребят с их потока, которые в годы учебы даже не смели на нее взглянуть. Теперь, обзаведясь семьями, постарев, заматерев, они держались с ней раскованно, сразу принимали тон закадычных друзей, которым есть что вспомнить. Так сказать, тон дружбы с подтекстом. Ее похлопывали по спине, прижимались к ней всем телом на правах однокашников, смачно целовали в губы при встрече. Очевидно, молодость уходит вместе с комплексами. Они перли на нее теперь, как танки, четко придерживаясь, однако, очерчиваемых ею границ дозволенного. Варька опасалась этих встреч, не зная, что же ждать от них в будущем, поскольку считала, что у них не было прошлого.
— Я, Саш, иду, сама не зная куда. Думаю вот, чем буду кормить семью, когда деньги кончатся.
— Так ты ведь, по слухам, таким оборотистым дельцом стала! Где только я о тебе не слышал! Ты же, по моим подсчетам, вся раскрученная и навороченная!
— Я не у дел, Саша. А, кроме того, я устала тянуть все сама. На работу меня никто не берет, все боятся.
— Да, такой как ты испугаешься. А дети у тебя есть?
— Девочка, шесть лет.
— А моему — одиннадцать будет! Давай, поженим?
— Прямо сейчас?
— А чего тянуть? Они сами ведь потом могут и передумать!
— Сашка! Ты такой же болтун!
— Ну, повеселела, наконец-то! Поехали-ка ко мне, там и поговорим, заодно с Веркой повидаешься. Варь, ты стала такой бабой, такой…
— Какой я стала бабой? Комплимент сказать решил, что ли?
— Могу же я сказать что-то, пока жены рядом нет. Варя, от тебя мертвый поднимется!
— Спасибо на добром слове, Александр!
* * *
Сашка тогда не сдал сессию потому, что влюбился в второкурсницу Веру из их общежития. Признаться и по-человечески поухаживать за симпатичной глазастой девчушкой Сашке мешал какой-то дурацкий молодеческий гонор. Он задирал Веру, доводил ее глупыми шутками и толчками до слез. Это такая колхозная манера у него была ухаживать. Но каждый парный танец на вечерах в общежитии он сычом смотрел — стоит Вера у стенки, или не стоит. Если она, набравшись храбрости, шла с кем-нибудь танцевать, драка на танцах была обеспечена. Сашка тут же выводил соперника на разговор. И еще он все время приходил к ней пьяным. Смотрел мутными глазами, молча уходил. Над Верой уже стали смеяться в общаге. Никто к ней не подходил, все знали, что она — Сашкина.
Самое дурацкое в этой истории было то, что Вера полюбила Сашку с первого взгляда. Поэтому под Новый год, когда он вдруг подошел к ней, так и стоявшей одиноко у стенки, на танцах и сказал: "Пойдем!", она пошла. Они «жили», когда соседи уходили в кино, уезжали домой. Репутация Веры таяла на глазах, Сашка ей ничего не предлагал, но она ждала его каждый вечер. Когда Сашку весной забрали в армию, Вера была беременна. Ему даже тогда не пришло в голову с ней расписаться. Она скрывала свой живот, как могла. Сколько девиц устроило у них животом вперед свое семейное счастье на факультете, пожаловавшись в деканат! Но, во-первых, Вера не была таковой, во-вторых, Сашка был уже отчислен из института, так что взятки были с него гладки.
За аморальное поведение ей не дали общежития. Домой она теперь совсем не ездила, мать ей сказала без мужа не приезжать. Подружки пускали ее жить, заведя раскладушку, но надо было как-то проходить перед вахтой. По вечерам дежурили студенты, которые пропускали Веру, но до вечера после занятий надо было еще дожить, и Вера сидела до вечера у городских подружек или просто гуляла среди деревянных частных домиков, что окружали институт, утопая в зарослях черемухи.
Она любила часами стоять здесь у водопроводной колонки, и это было единственное место в городе, которое напоминало ей деревню. Здесь же она познакомилась с одинокой старушкой, по привычке здороваясь со всеми, кто приходил за водой. Старушка пустила ее жить в свой дом. Это была вросшая в землю, покосившаяся хибара с маленькой горницей и совсем крошечной спаленкой, но старуха дала Вере кое-какое бельишко на обзаведение, и две женщины хлопотливо стали ждать нового человека.
Вера родила мальчика. Девочки с потока помогали ей, чем могли. Здорово выручала эта чужая, безродная бабка. Ходила водиться к ней как-то и Варька, отдававшая Вере все свои курсовые, из которых она уже выросла. А к весне Сашке дали отпуск, он не поехал домой, а сразу рванул к Вере. В Афганистане, где ему довелось служить, он, наконец, понял, что такое жизнь. Они расписались в первый же день его приезда, потому, что он представил в ЗАГСе какой-то военный документ.
Парнишка рос, Вера стала замужней дамой, и они с сыном и тающей на глазах старухой стали ждать из армии законного теперь папу. Из армии Сашка пришел контуженным. Вера доучивалась сама, училась за Сашку, растила сына, копала бабкин огород. Старуху они уже давно считали своей, бабуля была уже очень плоха, поэтому подросший Андрейка начинал теперь сам приглядывать за ней. Перед самой смертью бабушка всех их прописала у себя и завещала им свой домишко. Уже после ее смерти, когда дом снесли, им дали квартиру. Сашка мог бы получить квартиру гораздо раньше через афганский комитет. Но Верка наотрез отказывалась съезжать от старухи.
* * *
Вера встретила Варвару со всегдашней своей боязливой улыбкой. Двухкомнатная их квартира была обставлена с деревенским шиком. В доме чувствовались неплохие деньги, но вид у Веры при этом был невеселый. Накрывая на стол, она с покорной лаской глядела на своего мучителя.
— Вот, Варвара, ты все работу ищешь, как лошадь ломовая, а у меня Верка не работает, дома сидит! Чем у тебя муж-то занимается? Что он не кормит тебя, такую гладкую?
— Саш, твое-то дело какое? — вступилась за Варьку Вера.
— Да как это какое? Ты бы видела ее на улице! Идет, глаза зеленые, злые, все мужики от нее в стороны летят!
— Ты просто забыл, что у Вари всегда такие глаза были, и мужики всегда от нее в стороны летели!
— Ну, не скажи! Ладно, девочки, давайте выпьем!
Они замахнули по рюмке водки и стали закусывать. Варя удовольствием угощалась Веркиной стряпней, дома та руки не складывала, и тесто ставила сама, по всем правилам. Кругом все сияло чистотой. Глядя, как Сашка ходил в ботинках по паласу, Варя подумала, что Вере и дома, без работы, до соплей забот хватает с таким кабанчиком. Сашка с набитым ртом под водку рассказывал об истоках своего благополучия.
Когда только начались кооперативы, его позвал к себе работать его бывший сослуживец Хомченко — Хома. Из 28 человек, взятых в армию вместе с Сашкой весной и посланных в Афганистан, вернулось 12. Они держались сплоченной боевой группой. Хомченко вытащил Сашку из-под пуль с тяжелой контузией, и Сашка готов был за него тоже отдать жизнь. У Хомы было несколько палаток, часть денег он вкладывал в строительство, взяв через афганский комитет землю недалеко от города под застройку коттеджами. Сашка трудился на строительном участке фирмы Хомченко. Бухгалтером у него работал старичок Барановский. Варя что-то глухо слышала о нем. Не смотря на то, что Хома завалил налоговую инспекцию мешками с мукой и сахаром, вот-вот должна была прийти к нему проверка. Барановский давно ныл, что ему нужна баба на бухгалтерию, а то, ежели его инспектор увидит, то сразу дела в ОБЭП сдаст. Варя, конечно, сразу поняла, что Сашка работает прачкой.
— Я вот что думаю, Варь, ты у нас вид имеешь достойный, кандидат даже всяких наук! Ты вот хоть на проверке у меня посиди, а там — видно будет. Тем более что проверять мужик будет, а ты — юбочку покороче, глазками постреляй…
— Слушай, я ведь не последний кусок хлеба доедаю, чтобы вот так вот на проверки выходить!
— Варь, да мне этот Барановский вот уже где! — и Сашка показал ребром ладони на горло. — Я ничего в его оборотках и накладных не понимаю, что он там делает — тоже не знаю, он меня каждый день перед Хомой дураком выставляет. Я тебя знаю, ты, хоть и со странностями, но верная баба. Ты мне там нужна, Варя! Веришь, ехал, про тебя думал, а тут ты сама идешь!
— Варя, если бы ты к Саше пошла, то я бы хоть чуть-чуть за него успокоилась! — со слезами шептала Верка. Идти ей все равно было некуда, и Варя под водку с огурчиками согласилась.
* * *
Неделю перед проверкой она не отрывалась от документов, уходя домой в девять-десять часов вечера. В офис Варя приволокла свой компьютер, и они пахали с ним, не разгибаясь. Домой за ней приезжал теперь старенький серебристый «Форд», за рулем тоже сидел бывший афганец — Михаил. Он и отвозил ее до дому. Варя в машине сидела сосредоточенная, бухгалтерия была Барановским запущена, концы торчали из каждой дыры в счетах. А Михаил осторожно выяснял, не хочет ли Варя развлечься под выходные в узком кругу. Да, нет, не с ним, он ей такого мужика подыскал!
Варя вежливо, но твердо отнекивалась, потому что все выходные она была намерена провести только с одним мужиком — компьютером, да и вообще она замужем. Михаил с сожалением отстал от нее. Не только выходные, но и две ночи подряд Варя сидела за столом Барановского перед своим компьютером. Она только курила и пила кофе из огромной сиротской кружки, на которой по китайской технологии была нанесена старая военная фотография Сашки и Хомы в обнимку.
Проверка прошла хорошо. Не последнюю роль, конечно, сыграла и мини-юбка, но сам, поставленный Варей, бухучет тоже произвел впечатление. На них наложили мизерный штраф, а инспектор при Сашке и Барановском звал Варю работать в отдел камеральных проверок. Она со смехом отказалась, в Сашкиной шараге ей выписали премию, в размере полугодового оклада обведенного ею вокруг пальца инспектора.
* * *
Сашка тут же ввел Варю в свой штат, Барановский смотрел на нее, набычившись. Он знал, что эта девочка не остановится, пока не приберет все бразды правления в свои руки. А, кроме того, Сашка стал вдруг разговаривать с Барановским, смело оперируя бухгалтерскими терминами, показывая, что он все про него, Семена Абрамовича, знает. Варвара деятельно включилась в работу участка. Из бухгалтерии она поняла, что если они с Сашкой не раскрутят обороты, то ничего их шарага отмыть не сможет. Она налаживала снабжение, пройдясь по давним отцовским связям. Импортными строительными материалами у них в городе еще не торговали, рассчитывать можно было только на склады гибнущих государственных строительных трестов. Они с Сашкой проводили летучку с утра, а потом носились весь день, Сашка — на новеньком «Рено», а Варя — на «Форде» с Мишкой, который не переставал склонять ее к блядству. Втянувшись в работу, Варя потихоньку стала оглядывать место, куда она, напившись, попала. Многое она поняла еще из бухгалтерии, но многое ей еще предстояло выяснить. На их участке трудилось четырнадцать строительных рабочих, почти все — бывшие афганцы разных наборов. Варя старалась с ними близко не сталкиваться. Вообще строители всегда были наглым и хамоватым народом, но у всех афганцев были еще и совершенно разные заскоки по фазе, ей это было совсем ни к чему. Поэтому командовал ими только Сашка.
Как бывший деревенский житель, Сашка без долгих разговоров понял Варькину тягу к земле и оценил ее желание выстроить на своем участке хоть какой-то немудреный домишко. Он теперь сам, без Абрамовича отслеживал движение строительных материалов, умело управлял им, и кое-что из этого потока непременно попадало на Варькин участок.
О КОРАБЛЯХ В МОРЕ
На стройку к ним направлялась не только часть средств от торговли спиртным и сигаретами, но и дань Хоме, который для многих в городе был «крышей». Торговые точки Хомы располагались в хлебных местах города. С конкурентами он разделывался крайне жестоко. У Вари опустились руки, когда она узнала, что Хома и его пять братков спалили ночью два киоска. Продавцы — молодые ребята были доставлены в больницу с ожогами 4-й степени в безнадежном состоянии.
— Саша, это же убийство!
— Мы тут не при чем!
— Нет, при чем! Мы отмываем его деньги и прикрываем его задницу! Ведь есть же цивилизованные методы конкурентной борьбы!
— Хома не позволит никому даже приблизиться к своим палаткам, а не то, что начать конкурентную борьбу!
— Саша, мне так плохо, это совсем молодые ребята!
— Разговорчики в строю!
* * *
Хомченко был у них старшим по званию и неформальным лидером одновременно, проще говоря, паханом. Он обладал страстью и умением подчинять себе людей. Высокий, с резкими нервными чертами лица, тихим голосом и острым взглядом. Все эти ребята добровольно приняли его главенство в боевых условиях, многие, только благодаря этому, остались живы, поэтому Хома для них и в мирной жизни был командиром. Варя понимала и уважала это отношение, но резкость, категоричность и жестокость Хомы пугали ее. Кроме того, Хомченко и еще пятеро человек из этого круга были наркоманами.
Варя ничего не могла узнать о Хомченко и этих пятерых. Она никогда особо ни о ком не спрашивала, предпочитая слушать человека, самой понимать, познавать его суть. Конечно, так упускались некоторые, быть может, важные детали, но не было и ложной информации. Эти же шесть человек были впервые непроницаемы для нее. Варя давно поняла, что не может читать наркоманов, в их бред ей ходу не было. Они представлялись ей сосудами из прокопченного стекла. Она не видела их внутренним зрением, и это пугало ее.
Каждый вечер курьер привозил от Рашида, аптекаря Хомы, аккуратный сверток для Хомченко и его братвы. Варя всегда инстинктивно остерегалась людей, добровольно разрушающих свою душу. Это могло быть заразительно и очень опасно.
Несколько раз в шараге появлялся и сам Рашид — высокий черноглазый красавец-татарин. Он о чем-то подолгу совещался с Мишкой. Рашид мог смерить Варю откровенным оценивающим взглядом с головы до ног, но у нее было столько работы, что она не обращала внимания на его развязное поведение. Да она привыкла уже тут ко всякому. Он хоть не был наркоманом. А вот Хоме в этом прислуживать начал еще с Афганистана. Рашида взяли в армию с четвертого курса мединститута. Его отчислили после обычной для мединститута тех лет истории. Он помог одной знакомой девушке, попавшей в трудное положение, да-да, в это самое положение. Но там возникли какие-то осложнения, которые никак не могли замять деревенские родители Рашида, возившие в его защиту ободранные туши баранов и трехлитровые банки с медом. Перед сердобольным молодцом встал выбор: армия или тюрьма. Он выбрал первое. В Афганистане он служил фельдшером, ребята отзывались о нем с уважением. Он стал бы хорошим врачом, но, придя из армии, в институт он больше не вернулся.
* * *
После проверки налоговой, после нескольких прекрасных дизайнерских работ, после налаженного ею снабжения и многих других дел, выполненных Варей за четыре месяца работы, ее впервые вызвал к себе Хома.
— Здравствуйте, Владислав Дмитриевич!
— Здравствуйте, Варвара! Вот вы у нас какая Варвара-краса, длинная коса! Я хотел бы с тобой поговорить, милая.
— Я внимательно Вас слушаю.
— Вижу, вижу, что не дура. Сам бы я, конечно, тебя к нам не взял. Ну, еще на проектирование там, хрен с ним. Но то, что такую щучку, как ты, Сашка в бухгалтерию сунул, это надо быть полным идиотом.
— Я не знала, что Саша взял меня на работу, не посоветовавшись ни с кем. Я нуждалась в деньгах и готова была взяться за любую работу. Не скажу, что мне все у вас нравится, но, пока я работаю на Вас, я обязуюсь соблюдать Ваши интересы. Если я не смогу делать то, что делаю — я уйду.
— Ты не задирайся на меня! Я ведь твоей тонкости душевной не оценю. Мне не привыкать использовать таких, как ты, по их прямому предназначению, — Хома встал из-за стола и неслышно продвинулся к Варьке, которая вся собралась, готовая вцепиться ему в рожу.
— А ты — ничего… грудастая, — тихо сказал он ей прямо в лицо. — И я не прочь снять с тобой свои штаны, и трахнуть тебя во всю душу, мать твою! Но когда ты у меня в бухгалтерии, я чувствую себя совершенно без штанов, не по случаю голым. Мне не нравится это, я не привык зависеть от баб вообще, тем более, от такой, как ты! В тебе вся проблема — ты для меня непредсказуема!
— Хорошо, с завтрашнего дня я у вас не работаю, — развернулась на выход Варька.
Хома ухватил ее за локоток и прибавил с развязной ухмылкой:
"Так просто? Ты в самом деле думаешь, что после того, как ты выяснила обо мне с помощью Сашки и полудурка-жида всю подноготную, мы разойдемся, как в море корабли? Боюсь, что у нас с тобой это не выйдет. Но вдруг мы сработаемся? Вдруг я ошибаюсь в тебе? Может еще у нас с тобой все хорошо будет? Давай пока поживем!". Он притянул ее к себе и прошептал на ухо: "Я слежу за каждым твоим шагом, лады?", потом пинком под зад выставил из своего кабинета.
* * *
Сашка не мог нарадоваться на свое приобретение. Его кадра потихоньку решала все! Сашкин участок оживился, появились и солидные зажиточные клиенты, что добавляло весу его шараге.
— Нам бы, Варвара, парочку таких бойцов, как ты, мы бы до Индийского океана дошли!
— Саша, я никогда раньше не была наемником. До вас было проще — воевали, в основном, чтобы пограбить, а чего ради вы кровь проливали — не пойму!
— Я был не наемником, ты! Я выполнял свой интернациональный долг!
— Саш, я очень плохо ориентируюсь в синтетических понятиях. Вот что такое национальный долг, я имею представление, а что такое интернациональный, прости, не знаю.
— Не прикидывайся! Ты что, хочешь сказать, что мои товарищи гибли там напрасно? Да, если бы не такие, как ты, мы бы победили!
— Ты взрослый мужик, Саша, и сам все понимаешь. Эти афганцы — они же дикий народ, они со своими долгами-то разобраться не могли, а тут вы, с интернациональными! Да им такие долги просто не понять было, они им, как перышко в попу! Ну, какой у тебя, кондового вятского парня из колхоза "Путь Ильича", может быть интернациональный долг перед азиатом в полотенце на башке и длинной телогрейке? А вот перед Веркой тебе до конца жизни свой национальный долг не восполнить!
После этих разговоров Сашка надувался и не разговаривал с ней часа три, потом отходил, потому что понимал, что Варька, рассуждает совершенно по-бабьи, что природу в этом ей не обмануть. Ну, какой национальный долг у него может быть перед Веркой? Смешно!
РАШИД ЗАХОДИЛ…
В то утро Варя стояла с пачкой отчетов у стола Семена Абрамовича. Вот-вот должен был подойти Сашка. Им надо было обсудить день, и кое-что решить.
— Здравствуйте, Варя! — у двери стоял и широко улыбался ей Рашид в роскошном белом распахнутом плаще и сером английском костюме. Сашкин участок недавно отделал по Вариному проекту ему квартиру, и он, очевидно, зашел ее поблагодарить.
— Здравствуйте, Рашид Ибраевич! Вы замечательно выглядите! Как Вам понравилась наша работа? Как живется в новых апартаментах? — улыбнулась в ответ Варя.
Рашид, благоухающий дорогим одеколоном, подошел вплотную к ней и, глядя прямо в ее глаза, выдохнул: "Мне понравилась ваша работа, мне не понравилось, что ты не пришла ее сдавать!"
Ответить она не успела, потому что Рашид сделал что-то трудно уловимое, быстрое, Варя только с ужасом почувствовала полное отсутствие опоры под ногами. Она рухнула на стол к Барановского, больно ударившись затылком, и тут же потеряла сознание. Она приходила в себя от ноющей головной боли, лоб горел, Варя поднесла руки к голове и тут увидела над собой лицо Рашида. Он по-прежнему как-то бессмысленно улыбался. Варя поняла, что у нее там, внизу, совершенно все голое, ни трусов, ни колготок. Ноги были раздвинуты, и Рашид, массируя прямо внутри нее рукой, готовил путь своему огромному, обнаженному члену. Никогда Варя так не пугалась, у нее все внутри онемело, горло сжал сухой спазм.
— Ты что делаешь, гад?! — услышала она Сашкин голос.
— Уй-ди-и… — протяжно простонал Рашид.
— Варвара, убирайся в мой кабинет! — крикнул ей Сашка, прыгнул сзади на Рашида и заломил ему руки. Рашид выл и выкручивался из Сашкиных тисков. Варя тихо уползла в приоткрытую дверь кабинета и забилась в угол дивана. Она никак не могла согреться и унять противную дрожь в ногах. Колени не сводились, не соединялись вместе, потому что у себя внутри она все еще чувствовала огромную лапу Рашида. Из соседнего помещения доносились шум борьбы и треск разбиваемой мебели, отборная матерщина. Потом все стихло.
— Варя, пойдем сюда, я туфли твои нашел.
Сашка надел на нее туфли, поправил разорванную, державшуюся только на поясе юбку, надел плащ и аккуратно застегнул на все пуговицы, в карман плаща он положил ее скомканные колготки и трусики. Голова у Вари очень болела, голос Сашки доносился сквозь плотный туман. Он посадил ее в кресло Барановского. Черный итальянский стол, гордость Семена Абрамовича, был расколот посередине столешницы. Сашка достал из шкафчика водку и наполнил ею большой хрустальный фужер под шампанское.
— На, Варя, выпей!
Варя совершенно не чувствовала жгучего вкуса водки, она выпила ее небольшими глотками, как воду. Желудок обожгло, по телу разлилось долгожданное тепло, и Варя уронила голову на спинку кресла.
— Варь, ты на этого дурака зла не держи! Это больше не повторится, поверь. Он всем бабам мстит. Он, когда его в армию взяли, девчонку оставил здесь, русскую. Любил ее очень, по ночам выл, они жили перед армией. Она, конечно, ждать обещала, и ждала… недели две. Пришел он в отпуск, родители его на татарке женили, молодая такая была, хорошенькая. Рашид телеграмму перед приездом с дембеля не дал, так у него вышло. Ну, и татарку свою в постели застал со своим же двоюродным братом. Теперь вот, как бешенство члена у него, и, главное, ни с кем остановиться не может, ни одну юбку второй раз к себе не допускает. Мишка замаялся к нему блядей возить. Я сейчас тебя с Мишей домой отправлю, ты только молчи обо всем, лады?
Варя кивнула. Видок у нее был еще тот. Она что-то внимательно старалась рассмотреть в одной точке на стене. Потом она свернулась клубочком на кресле и закрыла голову руками. Вошел Михаил. Сломанной мебели у них в организации удивляться давно перестали. Но вид Варвары его явно потряс.
— Чо это у вас тут, а?
— Рашид заходил.
— Слушай, я ведь этого кобеля сколько раз предупреждал. Говорю ему: "Это рабочая баба, ра-бо-ча-я!". А он мне: "Так и скажи, что для себя с Сашкой держите!".
— Ты ее сейчас домой отвези. Только бы мужа ее там случаем не оказалось, а то вмандячит он тебе, как ебарю-ударнику.
— Она болтать-то не будет? — спросил Михаил шепотом, одними губами.
— Да не из таких она, чо вы боитесь-то ее все? — также понизив голос, ответил Сашка.
— Не скажи, она с большим-большим приветом, — сказал Михаил.
— Я лучше ее приветы потерплю, чем Рашидкины. Вот он мне уже где, — показал Сашка ребром ладони на горло.
— Саш, мне ведь завтра ее надо было в трест везти, материал с КПП выписывать. Там ведь, сам знаешь, ножку надо выставить, коньячок со старичками отпить! Я им чо, вот это вот повезу?
— Да не ссы ты, она быстро оклемается!
Они закурили и еще немного поразмышляли о настоятельной необходимости срочной кастрации Рашида. Но на последней затяжке пришли к выводу, что если даже подрезать ему член, то он будет это делать пистолетом ТТ, привезенным из Афганистана.
Варя действительно оклемалась довольно быстро. Рашида она больше не встречала, Сашка и Михаил старательно следили, чтобы этого не произошло. Эта история потом даже стала у них чем-то вроде шутки. Если Варя приходила с утра не в настроении, огрызалась или говорила, по их мнению, какую-нибудь глупость, ребята по-свойски ее спрашивали: "К тебе что, мать, Рашид с утра заходил?", и они все вместе смеялись.
САШКИНЫ СНЫ
Не реже двух-трех раз в месяц на Сашку накатывало из-за контузии, взрывом ему перемешало все мозги. Врачи, кроме горсти таблеток, помочь ему ничем не могли. Голова его росла и разбухала изнутри, мощные горячие волны боли пытались разнести его бедную головушку. Он сходил с ума, единственное, чего он хотел в эти минуты, расколоть свою голову о стены. Верку, пытавшуюся удерживать его, он жестоко, не жалея, избивал.
Среди ночи у Вари раздавался звонок, и она слушала Верин плач. Она брала такси и неслась через весь город к ним домой. Одно прикосновение ее прохладной ладони к Сашкиному лбу дарило ему покой и отдых. Варя сидела в ногах у Сашки на их семейной кровати и сторожила темные кольца боли, свертывавшиеся в клубок в его голове. Вера и Андрюшка спали вместе в соседней комнате. Сашка просил ее при этом: "Варя, я хочу увидеть сон, чтобы только не про войну!". И Варя дарила ему замечательные сны про Африку, которой он грезил в детстве. Там ходили величественные львы с золотой гривой и скакали газели с кроткими Веркиными глазами. Она прислушивалась к вскипавшим у него в голове кровавой пеной чужим, нерусским названиям мест, где Сашка терял друзей и обретал врагов. Бедный, бедный Сашка.
Иногда Сашка орал, что всех взорвет к чертовой матери двумя противопехотными минами, которые он каким-то образом привез из Афганистана. Варя и Верка несколько раз перетрясали весь дом в поисках этих мин, но ничего не находили. Поэтому решили, что Саша, как всегда, преувеличивает.
Только где же вы живете? На горе или в болоте? Мы живем на Занзибаре, В Калахари и Сахаре, Мы повсюду ходим смело С минометом, бэтээром, Как-то дома не сидится С автоматом в перевес! Шастаем мы с Гиппо-попо По широкой Лимпо-попо С незастегнутой ширинкой, С членом — прямо до небес!Как-то после очередной такой ночи, Вера, отпаивая утром Варю на кухне горячим кофе, с грустной улыбкой произнесла: "Знаешь, Варь, тебя Сашка называет "Повелительница снов"!". Губы ее задрожали и на глазах появились слезы.
— Когда уж это закончится-то, Варя? Перед тобой неудобно, у тебя ведь свой мужик, что попало, поди, думает. Мы уже столько на эти таблетки денег извели, ничего не помогает.
Почему-то тогда Варя, с сосущей тоской подумала, что кончится это все очень скоро.
КОНЕЦ ШАРАГИ
Торговли водкой и сигаретами, неприкрытого рэкета для Хомченко было уже мало. В складах у них появились новые габаритные ящики с просьбами не кантовать на боках. Варе не нужно было заглядывать в накладные, чтобы понять, что Хома занялся оружием. В офисе у него появились развязные кавказцы в голубых каракулевых папахах. Для любого дончака голубой каракуль был визитной карточкой чеченцев. Варя ходила сумрачная, все это ей крайне не нравилось. Она чувствовала запах новой войны, запах падали. Начиналась торговля горем русских матерей. Варя смотрела в цифры, и они расплывались перед глазами, вся ее сущность восставала теперь против того, чтобы покрывать Хомкины делишки. Варя не спрашивала ни о чем Сашку и не прислушивалась к нему, но потому, что теперь Вера стала вызывать ее чуть не каждую ночь, она поняла, что Сашка все знает. Варя попыталась уговорить его уйти от Хомченко, но он, глядя на нее воспаленными глазами, сказал, что Хома его друг, и он кое-что должен понять. Больше он с ней говорить не стал, мол, чем меньше она знает, тем лучше для нее же.
Конечно, теперь она могла позволить себе и датское пиво, и норвежские креветки к нему, и многое другое. Но она без всяких проблем могла вернуться и к «Жигулевскому». Варя знала, что надо уходить. Но раз оставался Сашка, оставалась и она, хотя и понимала, что все это добром не кончится.
* * *
Перед самой отгрузкой ящиков Сашка и Хома сцепились в кабинете. Сначала они орали друг на друга, потом стали драться и крушить мебель. Сашка вышел злой с заплывающим глазом и выбитым зубом, кровавые крошки от которого он непрерывно сплевывал. Варе отрывисто бросил: "Пошла в жопу!".
В ту ночь Варя так и не ложилась, ожидая Веркиного звонка, но ей почему-то никто не позвонил. Утром Варя не обнаружила у подъезда Мишкиного «Форда», поэтому пришла на работу с большим опозданием, но там творилось что-то странное. Двери у склада были сорваны, часть ящиков — разворочена и закрыта брезентом, под которым пузырились стволы. Никто ей ничего не объяснял, все отворачивались от нее. Все у нее стонало, выло внутри. Господи, где Сашка?
Она зашла в свой кабинет и увидела, как Семен Абрамович выворачивает ящики ее стола.
— Ну, что? Доигралась, красавица? Где все твои записи, стерва? Где папка с накладными, где договора?
— Семен Абрамович, Вы объясните, что ищете, я Вам сама все найду и отдам. Что вообще происходит? Александр-то где?
— В п…де, вот где! Он тут ночью склад крушил и пытался минами подорвать, за каким-то фугасом домой поехал, там его братва и прикончила. Все знают, что вы с ним заодно были, так что и к себе гостей дожидайся!
— Я вообще обо всем впервые слышу, на складе я не была, я-то тут при чем?
— И зачем тебя только Сашка к нам притащил! Я-то давно тебя раскусил. Все ходишь, вынюхиваешь, глазищами своими зыркаешь. С такими глазами тебя никто в городе на работу не брал, правильно делали! Умная она очень, кандидатка всяческих наук! Один Сашка, дурак, на твою манду польстился. Сука ты, дешевая! Вот что ты о себе думаешь? Вот кто ты такая? Ты — обычная поблядешка, все знают, что тебя Сашка среди ночи к себе вызывал! В наше время семейные женщины на такси к мужикам не носились! Вы что с Сашкой, решили сами кусок отхватить? Вам объедков мало показалось? Из-за твоей жадности трех человек порешили, всю Сашкину семью!
— Верку-то с Андрейкой за что?
— Я эту дуру вообще понять не могу. Ей сказано было с сыном выметаться, так она не столько за сына, сколько за этого ублюдка Сашку дралась, царапалась. У Саламатова чуть глаз не выдрала. Сколько этот Сашка ее бил, сколько она от него, пьяного по подъездам на окнах с малышом сидела! Какая же скотина безответная, русская баба! Хоть бы о ребенке подумала!
— Нет у меня никаких записей, Семен Абрамович. Я по-хорошему Вас прошу не ходить сегодня к Хомченко. Я, правда, не знаю всех ваших с ним дел, но, конечно, догадываюсь. Саша мне никогда ничего не говорил. Послушайте доброго совета дешевой суки — не ходите к Хомченко! Вы обязательно сболтнете что-нибудь лишнее, идите лучше домой.
— Ты что решила, что Семен Абрамович будет у такой, как ты, советов спрашивать? — и он добавил несколько выражений, по которым Варя поняла, что Барановский проходил-таки в свое время через тюремные ворота. Варя вытерла слезы, высморкалась, взяла свой календарик и косметичку со стола. Сказав Барановскому, что ей надо подтянуть колготки, она зашла в Сашкин кабинет, где все уже было верх дном перевернуто, залезла за панель, где Сашка прятал от Веры заначки, вынула какую-то папку, сунула ее за пазуху и стала медленно подтягивать чулки. Когда Варя обернулась к выходу, Барановский стоял в дверном проеме. Ее манипуляций с папкой он, кажется, не заметил, потому что молча пропустил ее. Она пошла домой, все смотрели уже сквозь нее. Похоже, они ее уже считали трупом.
В заброшенном, давно неработавшем садике около своего дома Варя, не заглядывая в папку, сожгла ее. Больше ничего сделать для Сашки и Веры она не могла. Раскидав пепел носком сапога, она стала мучительно соображать, как ей уйти от Хомы живой.
* * *
Она попыталась подать заявление в милицию. Ну, это, конечно, было из области анекдотов. Дежурный по части посоветовал ей обратиться в психушку.
Варя попыталась даже нанять ментов за деньги, но ей сказали, что подыхать за нее никто не собирается.
Она еще прошлась по известным ей адресам, но там ее даже не пустили, не стали разговаривать. Она была нежелательной пешкой в крупной игре. Ни одной из сторон этой игры не нужна была симпатичная молодая женщина, у которой, по слухам, было слишком хорошо с головой.
Никто не хотел помирать за нее. Единственный, кто верно сопровождал ее, поддерживал, и вновь, молча, заставлял ее вспоминать еще кого-нибудь, кто мог помочь, был Исайка. И он не отказывался умереть за нее, он не лишал ее своей защиты, но он был призраком, который не мог вмешаться в реальную жизнь. После очередного отказа она оборачивалась к нему, он недоумевающе разводил руками, и они опять брели к очередному бойцу. Так прошел день. Вечером Варя заявила мужу и ребенку, что завтра они не должны выходить из дома. Муж уже слышал о Сашке и по этому поводу наорал на нее. Он знал ее хорошо, поэтому справедливо полагал, что она могла бы свалить от Хомы в безопасное для всех них время. Варя было совершенно нечем оправдаться. Конечно, она оставалась там только ради Сашки и Веры, которым уже ничем не помочь.
Они с мужем вытащили металлический уголок, который Сашка не успел переправить на ее дачку, и принялись старательно укреплять дверь. Соседи, проследив за их действиями, собрали вещи и в тот же вечер выехали среди недели на дачу. На Варькины вопросы они ничего не отвечали. Варя почувствовала неприятный холодок между лопаток. В эту ночь к ним не пришли.
* * *
Вечером того же дня в лифте зарезали Семена Абрамовича. Он возвращался в тот день поздно, поэтому обнаружила его утром соседка, вызвавшая лифт. С ней случился приступ, жильцами кроме милиции была вызвана скорая, дело получило нежелательную огласку.
Варя узнала о смерти Барановского еще ночью. Они сидели с Исайкой и соображали, что же еще можно предпринять, как вдруг рядом с ними появился третий. Живой дороги бы к ним не нашел.
— Меня зарезали, Варя! Прямо в лифте зарезали, даже не разглядел кто.
— Семен Абрамович, вам нельзя здесь, вам нельзя долго оставаться человеком!
— Варя, я, дурак старый, сегодня к Хомченко ходил, про тебя все ему рассказал, думал, что он меня оставит жить. Про папку Сашкину тоже сказал, про то, что ты очень много знаешь. Я ведь даже полагал, что, сдав тебя, очки заработаю, повышение мне дадут. Вот и получил повышение.
— Семен Абрамович, вы не думайте об этом, не тревожьте себя, вам сейчас совсем в другом месте надо находится, отойти ото всего. У вас большая дорога и долгий отдых впереди.
— Я не мог уйти, Варя, не попросив твоего прощения.
— Миленький, мне так жаль вас, зря Вы меня не послушались. И я прощаю Вас, и Бог, конечно, простит. Идите, дорогой мой, не таите на всех нас зла.
— Спасибо, Варюша, на добром слове! Пойду я. Очень ты славная девочка. Я сколько знал, столько завидовал тебе. Я финансовый техникум закончил, потом институт, я ведь еще с совнархозов дела начинал, а ты день в мои записи поглядела и на голову меня, старого еврея, переросла. А компьютеры эти ваши! Где мне было за тобой угнаться. А сейчас мне так жаль тебя, так стыдно за себя, а поправить уже ничего нельзя…
Барановский ушел. Варя, высморкавшись и утерев слезы, подвела итоги дня. Времени у них нет, или почти нет. Резать их будут, скорее всего, следующей ночью. Днем не станут светиться из-за Барановского. Придут под видом разбоя, чтобы два дела не связали. Хома и его братва анашаться с вечера, значит, для них с Исайкой к ним хода нет.
Почему же они действуют именно так? Хотя, какая разница как, любому следователю с головой достаточно выяснить, где работали потерпевшие, чтобы понять, о чем идет речь. Но вся проблема в том, что голова у этого следователя должна быть бедовая.
В реальности ее шансы равны нулю. Здесь она не воин, и здесь на Исайку она рассчитывать не может. Собака ее спецназовцу на пять секунд, она и муж — на две. О дочке она не думала, она просто не могла допустить этой мысли.
Если вот ей взять и кончить с собой? Остальных все равно прикончат, никого она так не спасет. Да, она и не может сделать этого, Дар этот чертов не даст. Ну, так вывози же! А, может, и нет у нее никакого Дара? Она как-то прочла в одной научной статье, что левитация — это вполне реальная и достижимая вещь, а все остальное можно списать на экстрасенсорику. Вон, уже даже по телевизору люди, как батарейки, банки с водой и мази заряжают! Так, если они принимают наркотики вечером, часов в восемь, то, придя к ней часов в двенадцать, они еще будут непроницаемы. И найти-то раньше их никак нельзя, ее время — сумерки. Лишить их наркотика? Ерунда! Подменить его? Чем? Уж эти-то наркоши свою норму знают. Подмешать! Подмешать сильное мочегонное для выведения и чуть-чуть той радиоактивной пакости, которую раковым больным дают, чтобы попытаться найти их раньше. Они c Лариком в аптекоуправлении все, что надо намешают, даже снотворного подсыпят.
Варя вопросительно посмотрела на Исайку, тот молча степенно кивнул. Он пойдет с ней в меченый радиацией, совершенно чужой, изломанный наркотиками мир. Варя просчитала, у них будет где-то около часа реальной жизни, для снов этот подсчет не имел смысла, там это мог быть хоть год. Но это ведь даже не сон, а бред, галлюцинация на зыбкой грани с реальностью. Что же их там могло ждать? И туда надо было еще попасть.
* * *
Увидев ее в глазок, Рашид хотел не открывать дверь, но Варя все-таки была женщиной, хоть и чуточку ведьмой, поэтому он открыл ей. Он стоял в дверном проеме в шелковом черном халате, и, не пропуская ее в квартиру, насмешливо улыбался.
— Рашид, я понимаю, тебе такому живому и красивому, недосуг разговаривать с потенциальными покойниками. Но я прошу только минуту. Неужели тебе не будет любопытно завтра то, что я хотела сказать? Меня-то завтра уже не будет.
— Проходи, но если ты пришла за оружием, то сразу же выбрось эту глупость из головы.
Он пропустил ее в просторную прихожую, отделанную по ее проекту, когда Саша еще был живой. Рашид вольготно устроился на резном диванчике с атласной обивкой, Варя осталась стоять у двери. Но она и этому была рада, и, пытаясь улыбаться совершенно омертвевшими губами, начала говорить, прямо глядя ему в его черные неподвижные глаза.
— Может, я проститься зашла, а ты сразу за свои пистоли хватаешься. Слушай, ты еще лекарство своим клиентам не отправлял?
— А ты по умнее ничего спросить не хочешь? Ты что думаешь, я ради твоей коровьей жопы травить кого-то буду? Давай-ка, ты милая, чеши отсюда!
— Рашид, я знаю, что я — человек конченный. Если бы это могло кого-то остановить, я бы убила себя сама. Это только из-за дочки, они вот все проанашенные будут, а вот если бы это отошло у них пораньше, то, может быть, они пощадили бы ее или хотя бы не мучили. А то ведь с Андрейкой Сашкиным они такое сделали!
— Я уже здорово пожалел, что впустил тебя. Если бы я не знал точно, что не пойду к тебе сегодня ночью, то и разговаривать бы с тобой не стал. Уходи, я ничем помочь не могу.
— Я ведь только хотела попросить тебя добавить чуточку мочегонного, обычного фуросемида. Выполни мою последнюю просьбу! Ну, это же пустяк!
— Это точно фуросемид?
Варя достала аптечный флакон и вывалила половину содержимого себе в рот. Рашид с интересом следил за ее манипуляциями.
— Скушала витаминку? Ну-ка, дай-ка сюда… Знаешь, польский фуросемид видел, венгерский, югославский, а вот фуросемид областного аптекоуправления вижу в первый раз. Ты, что, детка, папу решила обмануть?
— Тебе-то, какая разница, все равно ампулы вскрывать, а тут все за тебя сделано. Да не лгу я, какой дали — такой и взяла. Прошу тебя, Рашид!
Рашид встал и подошел вплотную к Варе, сухими ладонями стал ласкать ее шею. Она ничего не ела с того времени как узнала про Саньку, почти не спала, два дня она пребывала в нервном, горячечном возбуждении, нынешней ночью ее семью должны были уничтожить, так что ей для полного счастья оставалось только трахнуться с этим наглым татарином. Расстегнув пару верхних пуговок шелкового блейзера, освободил ее плечи и, наклонившись над ними с поцелуем прошептал, обдав ее ухо горячим дыханием: "Четыре часа и пять процентов твоего дерьма!". Варя тоже раздвинула полы его халата и стала выговаривать свои условия в его покрытую буйной растительностью грудь.
Торговались они долго, щеголяя друг перед другом похотливостью. Они ударили по рукам на двух часах и двенадцати процентах фуросемида, когда Рашид был уже практически готов к употреблению, и дальнейшая торговля могла пагубно сказаться на его половом здоровье.
Поправляя свой растрепанный вид, отстраняя его руки, которые все не хотели прерывать свою работу, Варя заявила, подкрашивая перед зеркалом полные губы:
— Только я, Рашид, по коридорам и по столам не кусочничаю. Давай-ка, все вместе приготовим, гонца пошлем к Хоме, а потом примем коньячку — и в постельку! Так даже больше возбуждает!
Рашид, с трудом гася вожделение и переходя на деловой тон, сказал:
— Лады! Ну, ты и держишься! Может замолвить за тебя словечко? С такой как ты, я бы хоть куда пошел!
— Ага, в разведку! Проблемка только со мной, милый, я не хожу куда попадя.
— Я давно заметил, что у тебя все горе от ума, была бы маленько полегче, цены бы тебе не было. А то, вон, чуть всю нашу игру не испортила, Сашку с пути истинного сбила.
— Про Сашку — не надо! Пойдем, Рашид, время дорого, мне еще к смерти готовиться.
Варя впервые следила за приготовлением дерьма. У Рашида было немецкое фармацевтическое оборудование, выглядело все весьма эстетично и достойно, особенно на его финской кухне. Они опять, шутки ради, поторговались из-за процентов, Рашид попытался было что-нибудь с нее снять, но Варя предупредила, что тогда включит счетчик, и два часика затикают. Уговор есть уговор, и Рашид четко взвесил двенадцать процентов. Варя не думала, что готовить качественную отраву так долго. Фуросемид, щедро опрокинутый ею в рот в качестве демонстрации его безобидности, делал с ней кошмарные вещи. Мочевой пузырь дергало острыми спазмами, но, преодолевая мучительные позывы, она внимательно следила за тем, как Рашид кипятил и процеживал эту гадость. Он догадывался о ее затруднении и выполнял все нарочито медленно. Наконец, одноразовые шприцы были тщательно упакованы в пакетики с позолоченными монограммами, а затем в общий легкий сверток. Рашид был известной фирмой!
Варя выхватила у него сверток и прямо с ним помчалась в туалет. Сидя там, она услышала зуммер, и единственное слово, сказанное Рашидом в телефонную трубку: "Да!". Она вышла из туалета бледная, ей было плохо. Она спросила: "Ты обо мне говорил? Меня выследили?". Рашид ответил: "Успокойся, звонил курьер, сейчас придет за пакетом".
Когда раздался условленный звонок в дверь, Варя спряталась за косяком двери, и следила, как Рашид отдал кому-то в руки взятый у нее пакет. Он закрыл дверь и, обернувшись к ней, посмеиваясь, сказал: "Варь, тебе все равно в течение двух часов до дома не доехать — обсикаешься! Не знаю, стоит ли на тебя сейчас коньяк переводить?".
Варя пошла в его спальню и, скинув на кресло одежду, молча легла в не заправленную постель. Рашиду снимать было особо нечего, поэтому он тут же оказался рядом. Он был выше Вари на голову, а после армии он вернулся мощным тренированным мужиком. Первый раз он взял ее очень больно, молча и быстро. У нее все ныло, пульсировало, от боли она не могла сдержать коротких горловых всхлипов. Но она честно отрабатывала двенадцать процентов и всем телом отвечала на его лихорадочный, нервный ритм. Когда он, наконец-то, ушел из нее, Варе стало легче дышать. Вдруг ее пронзила острая жалость к этому человеку, только что мучившему ее. И она со спокойной нежностью погладила его плечи, уткнувшуюся к ней в плечо голову и тихонько прошептала: "Какой же ты дурак, Рашид, бедный, бедный дурак!".
— Пойдем в ванну, Варя, передохни, — осевшим голосом сказал Рашид.
Там он стал ласкать ее под прохладным душем. Ей, как всегда от воды, стало легче. Она просто оживала от тоненьких струек, бивших в кожу. Но Рашид уже заторопился, стал тянуть ее из ванны, он уже опять хотел ее. На этот раз он довольно долго, весьма умело ее готовил. В нем уже не было желания сделать ей больно, он уже не насиловал. Может быть, в других обстоятельствах у них бы что-то и получилось, но сейчас у нее все не то было внутри. Она не понимала, как это она может здесь лежать, когда ее муж и ребенок, умирая от страха, сидят дома. Даже собаку они не выгуливали, и она гадила на синтетическом коврике в туалете.
Ее удивило и даже несколько покоробило то, что Рашид стал вдруг шептать ей ласковые слова. Вот этого ей сейчас совсем было не нужно.
Два часа истекли, и Рашид, лежа голым в постели, ловил ее руку и мешал одеваться.
— Ты знаешь, я никогда не думал, что у тебя такая нежная, просто шелковая кожа, ни одного волоска, только пушок, как у абрикоса.
— Правильно, вы ведь все уверены, что у меня кожа, как у носорога! Ты не видел, куда я скинула свои колготки?
— Возьми в верхнем ящике трюмо, там несколько пачек безразмерных. У тебя все такое теплое, удобное, ласковое.
— Теперь уже ненадолго. Скоро все будет холодное, безразличное и вывернутое наизнанку!
— Ты с Сашкой спала?
— Что? А, впрочем, да, спала.
— Дурак он, все имел, «Рено» купил только-только. Тебя имел, так какого черта?!
— Знаешь, ему все время снилась война.
— Ну, и что? Мне вот тоже все время снится, что мне горло перерезают. Я крикнуть не могу, на помощь позвать, а режут в Афгане вот так, — показал он на своем горле, — часто снится.
Пока Варя подкрашивалась, Рашид, начал понимать, что женщина, которую он бы хотел оставить себе, уходит навсегда. Он мучительно размышлял — дать ей свой ТТ или нет. Но строевая дисциплина и осторожность взяли верх над ласковыми абрикосами, он решил, что и так сделал для нее вполне достаточно. Варя, с надеждой слушавшая эти мысли, с внезапной оторопью поняла, что он при этом имел в виду постель, свое мужское мастерство.
Он вышел запереть за ней дверь совершенно голый. Прижав ее к стене, он глубоко, по-хозяйски поцеловал, съев всю тщательно уложенную помаду, и прошептал ей в ухо слова, ударившие ее, как пощечина: "Останься живой!".
Дома ее встретил измученный ожиданием и тревогой за нее муж. Дочь, довольная, что опять не пошла в школу, сидела у телевизора. Они еще не знали про Барановского.
— Варь, я с ума сходил тут! Ты была-то где?
— В п…де! — честно призналась Варька.
Тогда Алексей, впервые за всю их совместную жизнь, от души врезал ей по физиономии. Варвара восприняла это как должное. За ужином Варя успокоила мужа, соврав, что видела Хомченко, что тот не причастен к убийству Сашки и его семьи, что им бояться совершенно нечего. Поужинав, они спокойно легли спать.
* * *
Они долго вдвоем выбирали и проверяли оружие. Ничего хорошего они не ждали. Варька с недоумением смотрела, как Исайка принялся точить два огромных тесака с багровыми ржавыми подтеками по лезвиям. Он знаками объяснил, что без тесаков им там долго не продержаться. Но Варя полагала, что и с тесаками быть там они смогут очень недолго. Надев кожаные латы, они еще некоторое время не решались выйти в путь. Исайка, закрыв глаза, молился. Радиоактивные маяки для них уже зажглись. Им пахнуло в лицо горячечное дыхание чужих грез. Даже перед входом Исайку всего передернуло от нестерпимой боли. В ушах стоял почти непрерывный звон. Само время сжималось вокруг них, но они все-таки шагнули, наконец, туда, откуда, быть может, не было пути назад…
* * *
Не зови войну, не надо. Она сама тебя найдет. Ты ешь, пьешь с ее стола, поднимаешь тосты с кровавым рубиновым вином за то, чтобы вечно не иссякало в людях это неутолимое желание оборвать жизнь себе подобного. Но война слепа и всеядна. Она найдет и тебя по запаху крови. Она ворвется к тебе в сумерках с жутким гортанным криком, с ржавым тесаком, расплескивая твою жизнь и мозги по стенам. И никакие стены ее не удержат, потому что в тебе она слышит не умолкающий, алчный зов смерти…
* * *
Хому и его пятерых братков обнаружили утром. Милиционеры, глядя на изуродованные цепями лица, запекшиеся мозги на стенах и рубленные страшные раны, нанесенные так и не найденным тесаком, от комментариев воздерживались. Допрос вахтера, вертевшего в руках бесполезный теперь мобильник, практически ничего для следствия не дал. Тридцатилетний растерявшийся качок в строгом английском костюме только тупо повторял: "Все быстро случилось, быстро все произошло… Не знаю, что это было, но это очень быстро было… Я добежать даже не успел… А я быстро бегаю…" Почему он вызвал милицию только утром, объяснить он не мог, очевидно, и в самом деле бегал он очень быстро. Потом вдруг, видно опасаясь, что ему не поверят, он все-таки добавил, что из кабинета Хомы он вроде бы слышал, как баба кричала. И вроде бы это была Сашкина бухгалтерша, которую, между ними, мальчиками говоря, Хома давно кончить хотел. Ну, конечно, в абстрактном смысле… А эта дура сразу в дежурку побежала, а там ей пригрозили в психушку упечь, так она сразу успокоилась… Да нет, она не так, чтобы вопила, а вроде бы кричала что-то о кораблях в море…
Но бухгалтер Варвара Анатольевна мирно спала до самого утра в своей квартире, вернувшись, домой около семи вечера в несколько расстроенном виде, что словоохотливо подтвердили соседи с нижнего этажа, которых эта стерва дважды заливала, размораживая свой американский холодильник. Никакого тесака у нее в квартире, конечно, сроду не имелось. Поэтому показания вахтера даже не подшили к делу, решив, что он, как и Хома, наширялся с вечера.
Дело закрыли за полной недоказанностью и нераскрытостью. Но в городе оставался еще Хомкин бездокументный, бесхозный караван с оружием. За него началась настоящая война. Кто воевал за груз, кто за Сашку, кто за Хомку. Разметывало самые крепко сбитые банды. Власти предпочитали не вмешиваться, предоставляя бойцам выяснить свои отношения без третьей стороны. Взрывались машины, ночью и днем раздавались автоматные очереди. Братки били друг друга профессионально и идейно, как их учила КПСС и завещали все вожди пролетариата. Всем сразу стало наплевать на такую мелкоту как Варя и ейный муж.
В последних рядах погиб и Рашид, его прикончили именно так, как ему снилось, по-афгански. Из их шараги практически никого не осталось в живых, кроме Мишки, который и сейчас возит блядей новым хозяевам.
ПОЕДЕМ ЗА МОРЕ, МОЙ БРАТ!
Их совместные путешествия по чужим душам и снам, похоже, подошли к концу. Ее воин погибал, душа его медленно разлагалась, свечение гасло. Раньше у него была только едва заметная седина, а теперь в его черных, как смоль, волосах появились яркие седые пряди. Под глазами набрякли огромные желтые мешки. Силы, казалось, совершенно покинули это мощное тело. Варя даже удивилась, каким легким он стал. Он еще жил. В молчании, он внимательно следил заплывшими щелками глаз за ней, за тем, как она старается уложить его поудобнее. Иногда он порывался ей что-то сказать, но не мог. Ему мешал какой-то комок в горле, и он только влажными глазами глядел в багровое безмолвное небо.
Варя пыталась брать его в свои полеты, взваливая себе на спину, но это уже не помогало. Она не знала, чем еще можно было ему помочь. Он уже становился невидим днем, не мог ее сопровождать. И только теряя его, она поняла как этот пожилой, видавший виды мужчина за ее спиной был нужен ей все эти двадцать лет. Каждую ночь она сидела у его изголовья и слушала его молчание. Она вспоминала их прошлые походы и размышляла о нынешней, более чем странной встрече. Думали ли они когда-то, что вместе будут жить так далеко от их прежней родины, что вместе будут нести удивительное бремя Дара.
У каждого из нас есть свой Дар. Разглядеть его, не потерять, служить ему — многим ли это дано? Но Дар Памяти, нетленный во временах, наш общий Дар! Мы будем великим Племенем, если останемся верны нашей Памяти, если не унизимся до бессмысленной лжи самим себе. Ведь надо только помнить о том, кто ты и откуда, и тогда будет видна в тумане Времен наша нетореная тропка в Будущее…
Время — вечный путник, неутомимый труженик. Оно все расставит по своим местам. Только Время может показать человеку тщетность его усилий, неразумность его поступков, казавшихся ему верхом хитроумия. Только Время возвысит безвестные подвиги Души своих верных трубадуров. Их имена и судьбы утонут в его темных водах, но волны пощадят, с легким шелестом отступят от того, что незыблемо с начала Времен, что составляет нашу Память.
— Знаешь, если бы он не смеялся мне в лицо, я бы его пощадил, — донесся до нее тихий шелест, неясный вздох.
Ну, что ж, пусть так. Время сравняет и героя, и правителя, и скромного пахаря, утирающего пот. Время всему назовет его имя и точно выставит свою цену. Не ставь себя выше Времени, мы только его слуги, его неразумные дети. Слушай в груди его пульсирующий ритм: "Это — было, и это — было!".
— Ты слышишь меня, Обезьяна? Это я убил твоего внука, я довел твоего единственного сына и твою жену до самосожжения!
— Что? Это ты? Ты молчал… все время молчал… все время был рядом… Зачем же я… Ты же в душу мне врос!
— Я не мог сказать это тебе. Ты сам вытянул наши души из коконов, хотя и чудом спасся тогда. Что я мог сказать ребенку, девочке? Потом — девушке, которая грустит днем и летает над соснами ночью? Невеселая у тебя теперь жизнь, странная. Но мне было хорошо здесь с тобой, даже лучше, чем раньше. А теперь я умираю навсегда. Помнишь, мы пели: "Сгорая, как звезда ночная, я прочерчу мой путь земной!".
— Ты лжешь, ты не мог так поступить со мной! Скажи мне, что ты солгал!
Варя плакала, обхватив голову и раскачиваясь всем телом. Она со стыдом вспоминала свое прежнее предсмертное унижение, мольбу умирающего о клятве верности. Значит, все было напрасно! Сильному не нужна верность, ему вполне достаточно страха, но больному и умирающему… А они столько пережили вместе, как можно было это предать? Она схватила худую прозрачную ладонь воина, поднесла к самым глазам — так и есть! Резкий перелом линии жизни и подъем ее через четкую метку предателя. Все напрасно, все труды прахом…
— Знаешь, тот, что стал твоей дочерью, первый предал тебя. Ты не вини его, старшие в роду настояли. Он очень любит тебя, поверь. Я убил его, всех убил! Была большая битва, два холма из голов! Перед сражением были нехорошие знамения. Меня предупреждали: "Не ходи! Тебе дороги не будет!". Я тогда подумал о тебе, ты ведь когда-то говорил нам, что дорогу надо прорубать мечом, поэтому я не послушал предсказателей. Мы шли с нашими родовыми стягами, в твоих цветах. Мы шли против всех! И мы победили! Только знамения те были правильными, я после той битвы навсегда потерял себя, я предал тебя, предал все, что так любил всю жизнь. Я стал думать так: "Если я могу побеждать всех, как Обезьяна, отчего же мне не стать правителем, как стал он?".
Знаешь, та победа затмила мой разум. Твой сын уже повзрослел, но ему было далеко до тебя, он никогда бы не стал таким как ты! Я запер их в замке с его матерью. Я думал, что они сдадутся, признают меня, склонят головы передо мной, а они подожгли замок ночью, сгорели там сами. Потом мне доносят — идет слух, что внук Обезьяны жив, он, дескать, был вынесен слугами из огня. Я стал его искать, мне даже было интересно взглянуть на него.
— Ну, что, взглянул?
— Не злись, это ты жил без памяти, а я, в коконе, помнил все и каждый миг! Его смех так и не смолкал для меня целую вечность! Понимаешь, он был маленький, но очень гордый. Примерно твоего возраста, когда ты вновь позвал нас. Он издевался надо мной, смеялся мне в лицо, я рассвирепел и убил его. Задушил. Мертвый, он сразу же стал хрупким, тоненьким. Совсем маленьким. Его, пока прятали от меня, видно, очень плохо кормили.
— Что же мне делать с тобой, отступник?
— Убей! Я не хочу ничего помнить, я хочу умереть по-настоящему. Но мне жаль расставаться с тобой, я ведь и тогда очень любил тебя, Обезьяна! Он приподнялся на локтях, оголил свою худую шею для удара, и запел старинную песню, сложенную задолго до их прошлого рождения. Они пели ее, когда собирались плыть за море на большую разбойную войну.
Твое молчание, мой брат, В согласье я приму. Кто возвращается назад, Пожнет одну войну. Зачем нам воевать с собой? Давай, закатим пир! И рядом с голубой горой Откроем новый мир. Поедем за море, мой брат, Я парус подниму! Кто возвращается назад, Пожнет одну войну…Душа ее исходила болью. Что же тогда изменилось в людях с тех пор? Так же любят, так же, любя, предают. Все эти годы он верно служил ей, столько раз рисковал ради нее, зная, что рискует последним — душой. Что же ей делать с этим варваром? Как же ей поступить с этой простой, как удар клинка, душой? Если бы можно было повернуть время! Но даже Богам это не под силу, оно возникло раньше их. Наконец, после долгих раздумий она приняла решение.
В конце концов, она ведь — женщина, значит, любой измученной душе она может дать еще один шанс, еще одно воплощение. И в этом ее Дар…
Она внимательно посмотрела на сгиб правой кисти руки. Черт, еще одна девка!
— Слушай, ты, упырь, хочешь бабой родиться?
* * *
Через девять месяцев Варя родила вторую дочку с раскосенькими узкими глазенками и черными слипшимися волосами.
Ижевск, 1997

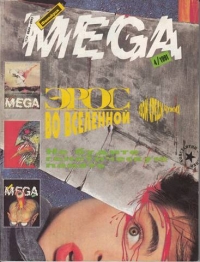

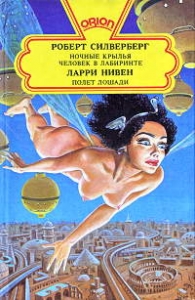

Комментарии к книге «Повелительница снов», Ирина Дедюхова
Всего 0 комментариев