АНДРЕЙ ЩУПОВ ПОЕЗД НОЯ
"Человечество, как справедливо замечено,
состоит больше из мертвых, чем из живых."
Егор пил, и лицо наливалось знакомой тяжестью. Точно невидимым шприцем под кожу порцию за порцией вгоняли отвратительно теплый парафин. Нос и щеки мертвели, отучались чувствовать. Глаза и губы — напротив начинали жить своей независимой жизнью. Если вовремя им не давали команды «оправиться» и «подравняться», они разбредались в стороны, все равно как толпа новобранцев, не в лад бормоча, не в ногу перетаптываясь — словом, переставали быть единым целым — то бишь лицом. Глаза отчаянно косили, норовя закатиться под веки, щеки обвисали бульдожьими брылями, верхняя губа приподымалась, показывая зубы, лоб собирался в неумную гармошку. Бардак, если разобраться, тем не менее он твердо знал, стоит осерчать и рявкнуть на все это хозяйство, как из бесформенного, подергивающегося теста вновь слепится нечто благообразное, дипломатически улыбчивое, где-то даже интеллигентное. Если не для себя самого, то уж во всяком случае для окружающих. Старая кокетка, доказывающая всем и каждому, что она не такая уж старая.
Два ссохшихся лимона из вагонной оранжереи напоминали два старческих кулачка, зеленый огурец уснувшей гусеницей покоился в центре стола. Пальцы вполне самостоятельно стиснули вилку, сделали боевой выпад. Увернувшись, гусеница откатилась к самому краю. Егор отложил вилку и породил вулканический выдох. И черт с ним — с огурцом! Не очень-то и хотелось… Взяв лимон, он задумчиво покатал его на ладони. Древние греки называли лимон мидийским яблоком, почитали за символ веселья и брачных церемоний. А что в нем веселого? Где и в каком месте? Снаружи — пупырчатое, внутри — кислое. Разве что блестит, как солнце, так опять же — лишнее напоминание об ушедшем. Ибо солнца уже нет. Умерло. Вместо солнца теперь кварцевые лампы — обжигающе яркие, гудящие, неживые…
Надрезав одну из скрытых под жабьей кожурой артерий, он выдавил в бокал струйку желтой крови. Теперь получится вполне приличный коктейль. А главная изюминка в том, что коли он способен готовить коктейли, значит не превратился еще в алкоголика. Да-с, сударики мои! Пока еще и еще пока!..
Рука грациозно подняла бокал, пронеся уверенной траекторией, ювелирно пришвартовала к причалу распятых в готовности губ. Сделав глоток, Егор улыбнулся. Глотку и собственным уверенным движениям. Хотя по большому счету гордиться тут было нечем. Любой самый вычурный профессионализм представляет собой набор отработанных рефлексов. Четких и тем не менее банальных. Ни ум, ни талант здесь совершенно ни при чем. И та же бедолажка история, латанная-перелатанная, злящаяся на весь белый свет за то, что ей приходится видеть и слышать, знавала массу бездарных профессионалов: генералов, побежденных дилетантами, президентов и королей, сброшенных с трона вчерашними сержантами, портными и дровосеками…
Огибая ресторанные столики, словно судно разбросанные тут и там коралловые островки, к нему подплыла женщина. Черное, туго облегающее фигуру платьице, кремовые, полные, балансирующие на высоких каблучках ноги. И тотчас заработали спрятанные у позвоночника блоки, обиженно заскрипели суставы, — медленно и степенно Егор поднял голову. Все верно, ля фам этернель с миндалевидными глазами.
Миндалевидными?… Любопытно. Отчего женские глаза так любят сравнивать с миндалем? Просто красивое словечко? Возможно. Мин-даль… Даль-мин. Что-то по-китайски мягкое, по-небесному звонкое. Как шелк и бубен. Орех с таким чудным названием просто не имел права оказаться невкусным.
Егор приглашающе кивнул, и, падающим листом качнувшись туда-сюда, женщина опустилась за его столик — привлекательно пьяная, чем-то напоминающая Сесилию Томпсон, его первую открыточную любовь. Егор расслабленно улыбнулся. У детей многое начинается с картинок. Знать бы наперед, чем завершаются подобные увлечения. Какой восторг мы испытываем на заре и какую грусть на закате. Как может взрослый человек всерьез воспринимать сексуальную романтику, если вместо романтики все десять раз успевает обратиться в труд — не каторжный, где-то даже приятный, но все-таки труд. Тем более, что масса вещей есть куда более интересных, волнующих и азартных. А секс… Секс без чувственной смазки Любви — есть всего-навсего оргастическое трение, разрядка, в которой зачастую мы не столь и нуждаемся. Одна из огромного множества сомнительных привычек. Впрочем, это приложимо только к мужчинам, у женщин иной мир и иные правила. Та же Лилечка Брик была с Любовью на «ты». Настолько на «ты», что превратила любовь в приятный ужин, в порцию лакомого мороженого. Проголодалась, высунула язычок, и тут же подплыла тарелочка с голубой каемочкой, а на тарелочке — облаченный в вафельный пиджачок мужчинка. Здравствуй, милый, кажется, я чуточку проголодалась… То есть мороженое — вещь безусловно вкусная, но если вдруг падает на асфальт, особого сожаления не испытываешь. Тем более, что знаешь — не пропадет. Всегда найдутся голодные воробушки — налетят, доклюют. А мы вздохнем и новое купим. Красивое, с орешками, в розовой фольге машины-иномарки.
Во время кремации Маяковского в Донском монастыре та же Лилечка позвала мужа Осипа к специальному окошечку, позволяющему видеть горящее тело. Пригласила, так сказать, поглядеть. Ведь любопытно! А муж, дурачок такой, отказался. Лилечка жила потом еще долго, пережив и мужа, и множество иных лакомых друзей. Она и смерть попробовала, как яство, — смешав с порцией нембутала. Заглянуть в окошечко собственной кончины ей отчего-то показалось страшным. Таковой была эта умная, одаренная массой талантов кокотка — с сердцем большим, как воздушный шарик, верно, столь же пустым внутри.
Егор медленно вытянул перед собой ладонь, и присевшая за стол Сесилия покорно уместилась в ней мягкой щекой. Точь-в-точь — котенок, хватило как раз вровень с краями. Все равно как уложили в детскую ванночку ребенка. Он держал ее лицо на весу, изучая лучики легких морщин, глаза, и это было совсем не то, что эпизод с Гамлетом. Абсолютно не то! На ладони Егора покоилась Жизнь, и Жизнь эта готова была откликнуться на малейший зов извне… Пальцем он шевельнул мочку ее уха — словно тронул потайную кнопку, в зрачках женщины зажглись две маленьких свечки, две лунных капельки. Каждую из них хотелось слизнуть языком, но стоило ли тушить этот свет? Егор знал, сейчас она попросит у него любви. Один маленький глоточек, ни за что, просто так. И придется объяснять, что он давно проигрался в дым, что он пуст и сух, как заброшенный колодец в какой-нибудь Сахаре. И бедная Сесилия, наполнив ладонь горючими слезами, сама же выпьет их, как яд, как снотворное, чтоб после обиженно заснуть. Здесь же, за столиком. А может, соберется с силами и уйдет искать другие ладони, другие источники…
— Приветствую, сир!
Егор встряхнулся. С некоторым недоумением разглядел в руке все тот же сморщенный лимон. А вместо Сесилии на стуле громоздился Марат, начальник местной охраны, юнец с парой румяных яблок вместо щек и непокорным вихром на голове. Как он его не мочил, не приглаживал, успеха не было. Воинственный вихор торчал нахальнее прежнего, одновременно напоминая о чубатых казаках и клепанных-переклепанных панках века минувшего.
— Что-нибудь стряслось?
— Угу!.. Путятин, олух такой, в тамбуре заперся. Пулемет ДШК в дежурке украл, ленту на полторы сотни патронов.
— Там же у вас этот… Замок!
— Выломал! У него ж силища, как у медведя.
— Не покалечил никого?
— Пока нет, но постреливает. О парламентерах слышать не желает. Мы уж и так, и этак подкатывали — ни в какую! А купе-то у нас не бронированные, — весь вагон одной пулей можно прошить. Короче, эвакуировали кого сумели, сейчас политесы разводим, уговариваем дурака сдаться.
— Интересно, что ему взбрело в голову?
— Известно, что. Шутнички тут одни подарок ему решили преподнести — термометр комнатный. Только прежде взяли и упаковали в кокос. Молоко выпили, мякоть съели, а внутрь этот самый термометр сунули. Половинки-то нетрудно склеить. Снаружи написали «Председателю Земного Шара».
Егор фыркнул.
— Это он любит… Что дальше?
— Ничего, Путятин юмора не понял, взял топор, хряснул по ореху. Термометр, разумеется, раскокал. Теперь обижен на весь свет. О правде мирской талдычит, что продались, мол, все от мала до велика инсайтам. Президента страны требует. Бывшего, значит. А где мы ему возьмем президента?
— Красивая ситуация!
— Еще бы!
— Как выкручиваться будешь?
— Вот и я спрашиваю — уже у тебя: как выкручиваться будем? Может, ты это… Сходишь к нему, платочком помашешь, попробуешь что-нибудь?
— Что пробовать-то?
— Так это… Скажешь ему пару ласковых, объяснишь, что поэтам так себя вести не положено.
— Не подействует.
— Тогда объяснишь, что он талант, а таланты, дескать, надо беречь. Путятин тебя знает, поверит.
Егор неспешно покачал головой.
— Он и себя знает, Маратик. Не поверит он. Не такой уж осел. Да и нет смысла его улещивать. Путятин внимание любит, публику. Я его еще по тем временам помню. Обожал на сцены выбираться, диспуты про смысл жизненный устраивать. То на масонов наезжал, то на американцев с мусульманами. И виноватых, само собой, искал повсюду. Водился за ним такой грешок. Так что, Марат, чем больше будете уговаривать, тем меньше шансов, что он вообще когда-либо сдастся.
— Клевать его в нос! — Марат искренне огорчился. Дернув себя за вольный вихор, ковырнул ногтем справа и слева, словно осторожно подкапывался под чубатую поросль. — Что же делать-то? В аппаратную докладывать? Так ведь шлепнут балбеса. Проще простого. Пришлют бультерьеров с автоматами — и кокнут. Там народец такой — цацкаться, как мы, не будут.
— Не будут, это точно, — Егор вздохнул. — Тут, Марат, подходец требуется, тактика.
— Так я и толкую! — Марат приободрился. — Сходи к нему, поболтай о тактике, о том, о сем.
— Я про другое… — Егор потер лоб. Напряжение лобных долей чувствовалось абсолютно явственно. Словно мысли и впрямь что-то весили, уподобляясь пересыпаемой из полости в полость свинцовой дроби. — Ты вот что сделай, Маратик. Оцепи тамбур на часок, и ни в какие переговоры не вступай. Категорически. Пусть себе буянит, президентов с министрами требует, а вы — молчок. Нету вас — и все тут.
— Ну?
— Вот тебе и ну. Скучно станет паршивцу — и успокоится. Без всяких парламентских дебатов.
— Так как же успокоится? А кокос?
— Не в кокосе дело, кокос — только повод. Я же говорю, Путятин внимание любит, аплодисменты. Не будет публики с аплодисментами, не будет и Путятина. Сам уйдет, вот увидишь. Только чтобы в течение часа никто там даже не мелькал. Первое и непременное условие!
— А пассажиры?
— Пусть потерпят. Зато гарантированно пули в лоб не получат.
— Попробуем, — Марат поднялся. Еще раз копнул почву вокруг чуба. — Хмм… Попробуем!
* * *
Скрипач Дима наигрывал что-то из давнего французского, а может, просто импровизировал на ходу. Смотреть на него было грустно и больно. Он точно гладил свою глубоко музыкальную душу смычком, содрогаясь от неведомых публике сладостных всхлипов. Юное и бледное лицо скрипача собиралось морщинками семидесятилетнего старичка, губы плаксиво кривились. Егор хорошо помнил, как еще около года назад, на что-то надеясь, Дима ходил между столиков, интересуясь у посетителей, кто и что хотел бы услышать. Ему жестокосердечно говорили «спасибо, не надо», Дима возвращался в свой уголок и с отрешенной миной включал аудиосистему. Зеркальные диски он вколачивал в аппаратуру, как пацифист, вынужденный вопреки всему заряжать снарядами ненавистную пушку. Но когда музыканту все же называли имя какого-нибудь композитора, он тотчас расцвечивался румянцем, чуть ли не вприпрыжку бежал к своей скрипке. И даже играть начинал как-то взахлеб, словно ребенок, не верящий, что его дослушают до конца. Взрослый человек, до взрослой скорлупчатой суровости так и не доросший. Иным везунчикам удается остаться детьми, задержаться на стадии цветка, распускающегося по первому лучику солнца. На таких бы светить и светить, ан, не светится отчего-то. То ли батареек у людей не хватает, то ли лампочки перегорают. Еще в юные нерасчетливые годы…
— Да-с, ребятушки! — с пафосом вещал Горлик. — Одни дорастают до правды, другие — до иллюзий! Первые бьются головой о стены, с пеной у рта обличают и критикуют, вторые, к примеру, пишут добрые и смешные сказки.
— Пишут-то пишут, но в тайне про себя грустят.
— Возможно! Не спорю. И все-таки — пишут!
— Это ты, брат, про меньшинство говоришь, а большинство вообще ни до чего не дорастает. — Кареглазый Жора подмигнул безучастному Егору, рукой-катапультой метнул в рот очередную рюмку. С аппетитом захрустел соленым огурцом. — И не дорастают, кстати, потому, что первый свой актив успевают прожечь и протранжирить уже в молодости. А дальше либо буксуют, либо вовсе бросают весла. Плывут себе по течению и в ус не дуют.
— Правильно. Оттого и жанры всегда делились на коммерческие и элитные.
— Согласен! Успех и тираж вовсе не подразумевают наличие таланта! Иначе все слезливые сериалы следовало бы именовать шедеврами.
— Да уж, произведения на прилавках мелькали отменные. Взять, к примеру, ту же «Свадьбу Скрюченного»! Воистину крутой сюжетец! Один язык чего стоит! «Правым указательным пальцем он нажал на спуск пистолета марки „ТТ“, с горькой усмешкой на красивом бронзового оттенка лице проследил за тем страшным результатом, который наделала его последняя решающая пуля»… Честное слово, ничего не выдумываю, цитирую по памяти!
— Хорошая у тебя память.
— Да нет, специально выучил. Были куски и похлеще.
— Потом ведь еще печатали «Охоту на Скрюченного», «Золото Скрюченного», «Месть Скрюченного»…
— Не перечисляй, я помню. Полное собрание сочинений — сорок три тома! И все про этого самого Скрюченного.
— Обалдеть можно!
— Подумаешь! Всего-навсего еще один Джеймс Бонд.
— О том и речь. Но какой успех! Вы вспомните!
— Помним, помним! И знаешь, в чем секрет этого успеха? В том, милый мой, что писали о том, чего не было. Фрейд это в свое время популярно растолковывал.
— Эдипов комплекс?
— Сам ты Эдипов комплекс! Сравнил грабли с лопатой. Я про боевики говорю. И эротические фантазии. Уж вы мне поверьте, про такие вещи лучше всего кропали либо вечнопечальные импотенты, либо невостребованные женщины. Выход нераскрытого либидо через литературу.
— Униженцы и возвышенцы?
— В точку!.. Помнится, Моравиа тоже эту темочку обсасывал. Жаль, не развил идейку. Утонула за картинками половых приключений.
— Так может, Моравиа тоже, к примеру, того? В смысле, значит, невостребованный?
— Кто же знает. Теперь всякое болтают. Про поэтов с прозаиками, про танцоров. Невостребованность — она действительно бывает плодовитой.
— Ну вот, договорились!.. А мы с вами — что, импотенцией страдаем? Я, к примеру, решительно возражаю! И думаю, появись такое желание, сумели бы зафуфырить какую-нибудь эротико-приключенческую блудодень. Даже проще простого!
— Пожалуйста, кто мешает! Зафуфырь!
— И зафуфырил бы! Только пакостно мне, к примеру! И душе претит.
— Им тоже претило, однако преодолевали. И себя, и мораль, и стихию.
— Ну и что?
— Ничего. И ты преодолей! Волю прояви, настойчивость!
— Я так не могу.
— Не могу, не могу, свело правую ногу! — весело подхватил Жорик.
— Не ногу, а ногу! — хрюкнул Егор.
— Все равно не могу!..
— Зря ржете. Грустная это вещь — сочинять строки, которым не увидеть свет при жизни автора.
— Если бы только при жизни!
— О том и толкую! — Горлику очень хотелось продолжить прежнюю тему. — В кино — сериалы, в музыке — рэп-частушки. Докатились, так-перетак! Поспрашивайте у тех же инсайтов, какие у них самые крутые игры, и, как пить дать, укажут на какой-нибудь мыльнопенный триллер. А в сюжете очередной «Скрюченный» бродит по тоннелям, крошит ползающих повсюду вампиров и соблазняет на все готовых принцесс. Нет, братцы, я не против массовой культуры, — черт с ней! — я против культуры скучной и безмозглой.
— Запомни, камрад, массовая культура — всегда безмозгла.
— Чего, чего?
— Разъясняю. Если Толстого с Апдайком распространить по всей планете, то и они перейдут в разряд серого и сирого.
— Ну уж… Это ты не туда загнул. Я ведь о наших временах, о наших условиях.
— А что ты хочешь от наших условий?
— Как что? Я много чего хочу. К примеру, чтобы уровень той же массовой культуры чуток приподняли. Не могут сами, пусть заимствуют у классиков. Не из головенок своих пустых, не с потолка, а из чужих, к примеру, шедевров. Все таки облагородили бы беллетристику.
— Благородная беллетристика! Отменно звучит… — Жорик гоготнул. — Как-то читал я одного пиита, — тоже увлекался вольными переводами…
— Вольными или невольными?
— Это уж как взглянуть. Впрочем, кое-что у него действительно выходило забавным — в смысле, значит, облагороженным. — Жорик взмахнул руками, с завыванием продекламировал: нежно раскрылись уста / лица ее живота, / и острый клинок джигита / что будет сильней победита…
— Хватит, хватит! Суть мы уже поняли.
— Что вы могли понять, это же только начало!
— А я говорю: достаточно!.. Помнится, наш преподаватель эстетики, старый хрен, похожий на Эйнштейна, как-то, разъярившись, воскликнул: «Я вас культуре учу, говна такие, а вы тут лясы точите!» Мы потом чуть ли год эту фразу цитировали. На доске мелом писали. Ох, и посмущался он у нас! Даже жаль старика было. Вот и тебя с твоим половозрелым джигитом туда же понесло.
— Меня?!..
— Кого же еще! Только, ради Бога, не обижайся. Какая разница, как называть — компиляция или облагораживание. И то, и другое — по сути своей воровство.
— Я бы сказал мягче: заимствование…
— А что тут плохого? Если заимствуют, значит, чего-то стоишь. У меня, к вашему сведению, раз семь или восемь заимствовали идеи. Прямо кусками текст выдирали.
— Так ведь, к примеру, и у меня то же самое!
— Возможно, не спорю. Зато твой «Иммануил» точь-в-точь как Тургеневский «Рудин». До точек и запятых. Ты извини за прямоту, но это уже факт. Ты даже абзацы ленишься местами переставлять и прилагательные старорусские оставляешь.
— Ну и что ты этим хочешь сказать? — узловатым пальцем Горлик вывел в воздухе замысловатый иероглиф. — Тут ты, братец, на скользкое ступаешь! Потому как, во-первых, я уже сказал: писатель Горлик в принципе не возражает против списывания, — лишь бы доходило до народа, а во вторых, это надо еще выяснить, кто у кого списал. Великий ли, заглянув в скважину будущего, или я, всмотревшись в дыру прошлого. Таланты — они, милый мой, — вне времени.
— Славная же тебе попалась дырочка! Этакая дыра-дырища! — Жорик громко расхохотался. — Не расскажешь, где такие водятся? Тоже разок бы заглянул.
— Ну, не дыра, так омут. Что ты привязываешься к словам! Я только хотел сказать, что, может, и нет в мире ни будущего, ни прошлого. Один голимый океан информации. Все, понимаешь, там есть — все и обо всем. А мы с жалкими своими ковшиками и ложками, как солдаты из какого-нибудь Баязета, — доползаем и черпаем…
— А я считаю так: все по кругу идет. Друг за дружку цепляемся и лезем. Тех же музыкантов послушайте — Боччерини, Альбинони, Вивальди, Паганини и прочих. Кто там у кого скатывал — теперь и не разберешь. То есть, слов нет, красиво, пышно, но так, пардон, одинаково, что диву даешься. А если уж такие великие заимствовали, то чего нам, грешным, стесняться? Это даже не плагиат, а всего лишь трансформация уже написанного — на свой лад и по своему разумению.
— Пожалуй, из тебя вышел бы неплохой адвокат!
— Не спорю, краснобайствовать я всегда любил…
Грузный и большой, подошел Путятин. По-медвежьи крепко пожал всем руки, по-медвежьи кряжисто уселся на скрипнувший стул.
— Ну, как, отстрелялся? — Жора весело блеснул зубами, не дожидаясь ответа, придвинул новоявленному гостю рюмку, налил до краев.
Егор протянул поэту свою.
— За то, что никого не угробил!
— А мог бы… — Путятин хмуро выцедил водку, шумно крякнул.
— Как тебя так быстро отпустили?
— Почему быстро? Вовсе не быстро. Гильзы попросили собрать, тамбур проветрить. Марат еще лекцию прочел, как стрелять из пулемета, как ставить на предохранитель. — Путятин фыркнул. — Мальчишка сопливый, а туда же — учить вздумал!
— Имеет право! Потому как в погонах.
— Ладно, проехали… — Путятин рассеянно пошевелил бровями. — А вообще-то и впрямь хорошо. В смысле, значит, что никого не зацепил. Жизнь, как ни крути, — прекрасна и удивительна!
— Дурачина, — Жора ласково покачал головой. — Удивительна — возможно, но что прекрасна — это, извини меня, звучит пошло. Вспомни лучший из всех палиндромов: мы — дым!
— Мухи и их ум! — тотчас откликнулся Горлик.
— Вот именно. И то и другое — про нас. Так что поосторожнее с определениями, мон шер. Потому как с тем же успехом жизнь может быть жестокой и грязной, вонючей и мерзкой. Прекрасное и жуткое уживается в чудовищнейшем симбиозе. Все равно как орхидея, проросшая из навозной кучи. Все дело — в нас самих, понимаешь?
Путятин свирепо поскреб прячущуюся под бородой челюсть.
— Значит, получается, это я прекрасен, а не жизнь? На это ты намекаешь?
— Именно! Взгляни на Диму. Он чуть ли не каждый день прекрасен. Потому что ухаживает за собственной оранжереей, земельку возделывает, холит и нежит каждый цветочек, каждую почечку. И Горлик по-своему прекрасен. Даже когда переписывает по ночам из фолиантов классиков главы. Я так и вижу его одухотворенное чело, каплю пота на кончике носа… Признайся, Горлик, сколько уже переписал? Да не красней, все ведь в курсе. Тем более, я не в укор. Знаю, что хочешь упаковать в контейнер и сбросить посылочку для потомков. Хорошее дело! Все правильно! А то, что под рукописями Тендрякова, Гулиа и Куприна будет стоять твоя закорючка — экая беда! Вон и с Шекспиром по сию пору ни черта не выяснили, он писал или не он. То ли мясником в действительности был, то ли актером в «Глобусе». Но ведь сути такой пустяк не меняет. Шекспир там или граф Рэтленд, Лопе де Вега или какой другой испанец — какая мне, собственно, разница? «Гамлет» от того хуже не стал, верно? А что Лева Толстой его не любил, так он нам тоже не указ. Граф много чего не любил — в том числе и Чехова с Достоевским, и музыку с балетом. Так что пиши, Горлик!.. Как у тебя, кстати, с почерком?
— Вроде разборчиво, — смущенно пробормотал Горлик.
— Тогда порядок! Хочешь, я тебе своих книжонок подкину? Без-воз-мездно!
— Зачем же…
— Да нет, я, конечно, понимаю: это малость побледнее Вересаева с Гоголем, но тоже неплохо, уверяю тебя! — Обличитель Жорик продолжал с аппетитом жевать. Озорной взгляд его так и осыпал собеседников искрами. — В каком-то смысле я тебе даже завидую. Честное слово! Ты ведь не просто переписываешь, ты глубже любого читателя в текст погружаешься. Воспринимать язык через пальцы — особое состояние! Помню, когда-то таким же образом начинал: переписывал целые страницы из Лондона, Паустовского, Платонова. И представьте себе, начинал видеть то, чего не видел глазами!
Горлик, маленький, сутулый, с аккуратной проплешиной на затылке, потупившись, чертил пальцем на скатерти. Путятин крупной ладонью похлопал его по плечу.
— Не тушуйся, брат. Лучше так, чем никак.
— Хорошо сказано!
Егор скупо улыбнулся. Смешно они смотрелись — два бородача — Путятин и Горлик. Один похож на окладистого иконописного Маркса, второй — на присмиревшего Свердлова, первый — и впрямь революционер, второй — без пенсне и абсолютно ручной. Один — большой, другой — маленький, два брата от двух мам и одного отца.
Немного помолчали. Чтобы как-то прервать затянувшуюся паузу, Егор разлепил губы и глухо продекламировал:
— Нам салютуют молнии вчерашних лет,
Когда сбриваем седину чужой обиды,
Но главный приоткроется секрет
Лишь после нашей с вами панихиды.
— В точку! — Горлик поднял палец. — Чье это? Бальмонт? Северянин?
— Мое, — признался Егор. Тяжело перевел взор на Путятина. — А ты бы, мил друг, все-таки лучше не за пулемет брался, а раздевался и бегал по вагонам голым.
Поэт с удивлением воззрился на Егора, захлопал редкими ресницами.
— Зачем? Я, кажется, эксгибиционизмом не страдаю.
— Не о том речь. Видишь ли… — Егор исторг глубокий вздох. Он и сам толком не знал, что собирается сказать. Наверное, просто жаль стало Горлика, хотелось отвлечь от него внимание. — Видишь ли, Путятин, пули всегда и всего хуже. Самый распоследний аргумент, если разобраться. А потому… Делай, что хочешь, кричи, напивайся, бока отлеживай, но только не стреляй.
Длинная фраза унесла остатки сил. Он почти физически ощутил, как тускнеет лицо и гаснут без того тусклые глаза. Пришлось в экстренном порядке мобилизовываться. Проявляя недюжинную волю и внешне довольно уверенно Егор подцепил пальцами подсохший колбасный кружок, виртуозным движением переправил в рот, тут же промокнул губы салфеткой. На него взглянули с удивлением. Салфетки на этой стадии действительно воспринимались тяжело. И снова он мысленно усмехнулся. Опять всех обманул. Напился в дым и притворился трезвым.
— Ну-с! За тех, кто в море? — он поднял свою посудину.
— А кто нынче не в море? — Жорик коротко хохотнул, но тут же спохватился. — Отличный тост! Поддерживаю! За нас, стало быть, — за всех оставшихся…
* * *
— Опаздываем, Павел Матвеевич?
— Есть немного, — полковник, приподняв рукав, покосился на мерцающий изумрудным светом циферблат. — По идее, следовало бы чуток ускориться.
Ускориться им и впрямь не мешало. Хоть по идее, хоть вовсе безыдейно. Однако скорость предвещала риск. Ноги на мокрых шпалах опасно разъезжались, мутная пелена плотно закрывала бредущих впереди и сзади. Безумные условия для тех, кто шагает над пропастью. Павел Матвеевич припомнил фразу Столыпина: «Вперед, но на мягком тормозе!». Для них это было тем более справедливо, что по сию пору не у всех получалось идти ровно. Раскачивались, словно морячки, после годового плавания впервые ступившие на сушу. Потому и подбирали людей особенно придирчиво. Потратив лишнюю пару дней, выводили на крыши вагонов под открытое небо. Проверка оказалась нелишней. Многих храбрецов скручивало в первые же секунды. Люди ложились на живот, начинали задыхаться, выпучив глаза и напоминая выброшенную на песок рыбу. Таких приходилось уносить за руки и за ноги. Тем же, кто преодолевал приступ страха, завязывали глаза, предлагали пройти по прямой восемь-десять шагов. И снова получалось далеко не у всех. Шли словно по тросу, протянутому над пропастью. Почти половина «срывалась». Наконец дополнительный процент отсеялся, стоило им выбраться наружу. Оно и понятно. Потоптаться пару-тройку минут на крыше вагона — одно, а оказаться предоставленным самому себе в полном окружении стихии — совсем другое. Отойти от поезда, для пассажиров значило примерно то же, что для младенца быть оторванным от теплого материнского тела. Открытое пространство повергала в шок, и добрая треть волонтеров вернулась на исходные позиции. Именно таким образом происходило формирование батальона. Людей набирали по конкурсу, словно в цирковое училище.
Батальон!.. Полковник фыркнул. Две с половиной роты по количеству, а по качеству — ближе к разноголосому табору. Потому как настоящей армией у них не пахло. Впрочем, где она сейчас настоящая армия? Уцелела ли хоть в одной точке планеты? Очень и очень сомнительно. Так что, какой ни есть, а батальон. Пестрый, неопытный, однако слитый единой целью и единым командованием. В большинстве своем людишки храбрились, хотя глядеть предпочитали преимущественно под ноги. Сознание людей отравляла сама мысль о близости бушующих волн. Всего-то и лететь — метров тридцать-сорок, жалких две-три секунды. Потому и организовали связки по два-три человека. Точь-в-точь как у альпинистов. Самый неловкий из отряда, Бакстер, уже дважды умудрялся срываться с моста, повисая на альпинистском тросе, как муха на паутине. Чертыхаясь, его вытягивали наверх и, не теряя драгоценных минут на охи-ахи, вновь возобновляли движение. Момент атаки был оговорен самым жесточайшим образом, опаздывать они просто не имели права. Увы, что хорошо просчитывалось на расчерченной зигзагами мостов карте, в реалиях принимало иное обличье. Они не выдерживали предписанной скорости, и потому Павлу Матвеевичу, бывшему полковнику российских ВВС и нынешнему предводителю отряда, приходилось сокращать паузы, отведенные на еду и отдых. Время — вечная нагайка, жестоко подстегивало, офицеры сердились и ругались, рядовые бойцы их понимали, на слякоть и кружащую головы высоту по мере сил старались не обращать внимания. Впрочем, высоты, как таковой, не существовало. Дождь плотно занавесил пространство справа и слева, — головы кружил призрак высоты — той самой, что будоражила воображение, навевала мысли об обморочном падении, об акульих караулящих пастях. Шагающие по железнодорожному полотну ясно сознавали, что под ними не чернозем и не гранит, — всего-навсего зыбкий пролет, ощутимо раскачивающийся под напором ветра и волн. Высотные составные опоры убегали далеко вниз, стрелами вонзались в пучину океана. Последний из года в год вгрызался пенным оскалом в стальные сваи, уподобляясь медведю, раскачивающему дерево с незадачливыми грибниками. С делом своим, надо признать, он справлялся успешно — расшатывал и валил мосты один за другим. Иной раз разошедшиеся волны доставали до самого верха. Немудрено, что надводный флот продержался относительно недолго. Во всяком случае о судах, которые еще года три тому назад можно было углядеть в дождливой полумгле, теперь не было ни слуху ни духу. Все повторили судьбу Титаника — даже самые непотопляемые.
Подняв голову, полковник прищурился. Показалось на миг, что в высоте мигнул огонек. Он оглянулся. Так и есть. Три или четыре луны. Справа — огромная, оранжевая и две зеленых слева. Но самая страшная — та, что зависла чуть ниже товарок, бьющая особым светом — всепроникающим, мертвенно голубым, за что и была прозвана Луной Смерти.
Павел Матвеевич судорожно сглотнул. Подобную картинку он наблюдал не впервые. Голубоватое сияние делало дождь невидимым, и мир вновь становился прозрачным на десятки миль вокруг. Более того — пугающий свет позволял видеть людей и предметы насквозь. Вот и сейчас по бесконечному мосту брела не колонна волонтеров, а вереница вооруженных скелетов. Понурые, вяло переставляющие костяные сочленения, с черными невидящими глазницами, пугающе зубастые. На спинах — нелепые, склепанные из винтиков и пружинок автоматы, на серых скрипках тазобедренных костей — набитые патронами подсумки. Но страшнее всего выглядели собранные из белых шашечек стебли позвоночников. Чем-то они напоминали кобр, упакованных в клетки из ребер. Сюрреалистическая пастораль угасающего мира…
Полковник вновь запркинул голову, и показалось, что он видит ниточки иных, протянувшихся на немыслимой высоте мостов. Еще один мираж, о котором любили распускать слухи инсайты. Существование мировой паутины, которой в принципе не могло быть.
Мгновение, и синяя луна погасла. Дождь и тьма разом накрыли горизонты, скелеты вновь превратились в людей. Что-то там в высоте еще моргало и потрескивало, видимо, дотлевали угольные стержни небесного прожектора. Павел Матвеевич сморгнул. Может, случайный самолет?… Хотя какие, к черту, самолеты! То есть опять же энное время назад, говорят, и впрямь кто-то еще летал. Дирижабли встречались, последние из сверхдальних экранолетов. Да только горючка давно кончилась, самые счастливые из пилотов успели пустить себе пулю в висок, и можно было не сомневаться, что вся аэрофлотилия землян тихо и мирно переправилась на дно морское. Может, кто и дотянул до Тянь-Шаня, но и те, должно быть, давно сгинули. Что им там делать в высокогорье? Без еды, без жилья, под этим нескончаемым дождем?
Полковник передернул плечами, сунув руку под плащ, растер левую грудину. Это место давало о себе знать не впервые. Он вздохнул. Укатали сивку крутые горки! А ведь в далеком детстве казалось непонятным, как это люди болеют, отчего умирают и почему вдруг однажды затихает такой вечный и такой неугомонный пульс. Даже душить себя как-то пробовал. Из любопытства. Не получилось.
Павел Матвеевич нащупал карман с квадратиком карты. Сухо. Во всяком случае пока. Не будь на бойцах водолазных костюмов, давно бы промокли до нитки. Потому как не дождь это был, а ливень. Особенно поначалу. Сейчас стало чуть тише. Хотя, возможно, они попросту привыкли. Так или иначе, но оружие старались держать под накидками, без лишней нужды наружу не высовывали. Нужда, между тем, могла проявиться в любую минуту. Павел Матвеевич снова посмотрел на часы. Если верить светящимся стрелкам, группы вот-вот должны были выйти на исходные рубежи.
— Черт бы их всех!.. — идущий рядом сержант Люмп с отвращением сплюнул. — Какая все-таки мерзость — эта вода!
— Точно. Особенно, когда плещется в карманах и за шиворотом, — охотно отозвались сзади.
— Зато фляг не надо. Черпай пригоршнями и пей! — хохотнул другой голос.
— А как после таких дождиков у нас в Загорье начинали благоухать леса! Земляника, черника, барбарис… Ешь, не хочу! Я малышом был, а до сих пор помню. Такой, ребята, ароматище стоял, — голова кругом шла!.. Нет, господин сержант, как там ни крути, а вода — это жизнь! Полагаю, случись великая сушь, было бы много хуже.
— Хуже того, что есть?
— Ясное дело! Давно бы сандалии откинули. И года бы не прошло. А так живем, бурчим помаленьку.
Полковник обернулся. Зубоскалил лилипутик Во Ганг. Глазки-щелочки смешливо поблескивают, рот, как обычно, до ушей. И не в словах даже дело, — в интонации. Ясно, что посмеивается. И вот ведь странно, такая сявка, а находит в себе силы ворковать! Сержанта вон не боится, на дождь поплевывает. То ли взбадривает себя самого, то ли связанного с ним бечевой рядового Злотницкого. Друзья хреновы! Разного росточка, а топать умудряются в ногу.
Полковник ощутил укол зависти. Маленький такой укольчик, однако вполне чувствительный. Дружба, как и прочие мудреные категории, не раз переосмысливается за жизнь. Цена, которую дает ей небрежная молодость, с годами доползает до немыслимых высот. Расходятся жившие десятилетия супруги, разбегаются родные братья, разругиваются однокашники. Если даже кровное родство не в счет, чего уж толковать о дружбе посторонних! Оттого, верно, и раздражают те, у кого сладилось, у кого не рвется. Люмп, бредущий рядом, наверняка, ощутил нечто схожее, потому что выругался с особенным чувством.
— Паскудный дождишка! — упрямо повторил он. — Ублюдочный и паскудный!
— Все дело в точке зрения, сержант, — добродушно пробасил Злотницкий. — Мир никогда не был идеальным, а свадьбы тем не менее справляли в любое время. И плясать, и петь не стеснялись.
— Это жизнь! — тонкоголосым эхом поддакнул Во-Ганг. — Войны сменялись диктатурой, голод уступал место эпидемиям, а те в свою очередь вытеснялись климатическими казусами.
— Что ты называешь казусом!? — взъярился Люмп. — Четыре четверти земного покрова под водой, люди переселились на мосты, какие-то вшивые недоучки рвут напропалую рельсы, и это для тебя всего-навсего казус?
— Речь о другом, сержант. Мне кажется, стоит следить за нервишками. Жизнь, какая она ни есть, продолжается. Иначе, согласитесь, вы бы вряд ли вызвались в этот рейд.
— Что ты сказал? — рука Люмпа дернулась под плащ, лицо исказила болезненная гримаса.
— Спокойно, парни, спокойно! Скоро у вас будет повод побеситься. — Павел Матвеевич неодобрительно покосился на Злотницкого.
— Господин полковник! — голос сержанта дрожал от ярости. — Я, конечно, не стукач, но о подобных вещах, видимо, следует докладывать.
— Что там еще? — полковник наперед ощутил усталость. Знавал он эти доклады! Листочки, неразборчиво подписываемые сверхбдительными ура-патриотами, однообразные, доводящие до сведения фразочки. Уж, верно, не одну сотню сплавил в штабной титан.
— Вот эти, значит, оба… То есть, я хочу сказать, что перед операцией о подобном полезно знать. Так вот, по моим сведениям Злотницкий и Во Ганг уже на протяжении полугода являются активными участниками движения инсайтов. Я лично не раз видел их заходящими в компьютерные вагоны!
— Ну и? — Павел Матвеевич продолжал смотреть себе под ноги. Не хотелось, чтобы сержант разглядел на его лице неподобающую ситуации скуку. — Что дальше?
— Считаю, что на них нельзя полагаться!
— Что ж… В бою проверим, — так и не подняв глаз, полковник опустил ладонь на плечо сержанта. — Не спеши с выводами, Люмп. Поверь мне, люди сложнее, чем кажутся на первый взгляд.
— Я только хотел уведомить…
— После, — голос полковника построжал. — Отстреляемся, тогда и уведомишь. А может, и повода уже не будет.
— Как же не будет, если они скрытые инсайты!
— Сегодня ты инсайт, а завтра, глядишь, в пуриты подашься! — ернически пробормотал за спинами коротышка Во-Ганг.
— Все! — отрезал полковник. — Почесали языками, и хватит! Останетесь в живых, продолжим разговор, а нет, и тема будет исчерпана.
Он чуть ускорил шаг, отрываясь от сержанта и парочки строптивых зубоскалов. Всерьез напугался, что вспылит. А тогда уж достанется всем и вдосталь. И сержанту, и Злотницкому, и сопляку Во Гангу. Тем более, что принимать чью-либо сторону не хотелось. Он давненько уже был ни за кого. Ни за белых, ни за красных, ни за черных. За всех разом, какие они есть. За пестробурополосатых. И не было желания вникать, кто прав, а кто не очень. Все было гнило, и все при этом заслуживало сочувствия. Даже свихнувшиеся пуриты с инсайтами. А убивать их он шел вынужденно. Ради тех тысяч, что с надеждой ждали результатов боевого рейда.
Сила. Вот, что правило миром. Сила этот мир и добила. Перегрызла сук и загнала лошадь. Однако права выбора у них не было, и совершенно отчетливо Павел Матвеевич понимал с кем он и против кого. Разумеется, с сильными, и, без сомнения, против сильных. Потому что слабые от участия в мирской толчее отстранялись с самого начала. И правильно! Не крутись под ногами, коли никто, не мешайся!..
Впереди послышался неясный шум, Павел Матвеевич замедлил шаг, и вскоре из пелены косых струй вынырнула фигура Мациса. Широкие, облепленные дождевыми каплями скулы, довольный взгляд. Возбужденно дыша, разведчик шагнул к начальнику.
— Пост, господин полковник! Самый натуральный.
— Ты не ошибся?
— Обижаете! Что я, лох какой!
— Значит, дошли, — Павел Матвеевич удовлетворенно кивнул. — И то хлеб. Кто там у них, не разглядел?
— Три козлика с пулеметом. Одна чахлая винтовочка.
— Сумеешь снять?
Мацис самоуверенно хмыкнул.
— Запросто!
— Я тебя спрашиваю серьезно!
— Снимем, господин полковник. У них там навесик хлипкий — дыра на дыре, а смену, похоже, давненько не присылали. Это же пуриты, не кадровики! Так что успели заскучать. Двое, как мне померещилось, вообще дрыхнут.
— Померещилось… Померещиться может всякое.
— Да нет же, точно дрыхнут!
— Хмм… Видишь ли, Мацис, стрельбы нам надо бы избежать.
— Стрельбы не понадобится. Возьму Коляныча, Адама… Короче, справимся!
— Может, еще кого дать?
— Обойдемся. Меньше шуму — больше толку. Коляныч — гиревик, а Адам, если что, ножами поможет. Вы же знаете, как он их мечет.
— Действуй, орел…
Полковник поднял руку, давая команду на остановку. Бойцы с готовностью повалились на железнодорожное полотно. Кто-то усаживался прямо на рельсы, кто-то подстилал брезентовые и пластиковые коврики. Разумеется, зашуршали пакетами, доставая энзэ. Полковник не стал фыркать. Кадровиков у пуритов, конечно, не было, однако и у них в этом смысле похвастать было нечем. Одно слово — волонтеры, народ вольный, к дисциплине не слишком приученный. Только где их взять нынче — приученных? Да еще, чтобы согласны были идти на смерть. А эти, как ни крути, сами вызвались. Вот и придется потерпеть.
— Привал, — объявил он подошедшему Люмпу. — Впереди пост, так что не ржать и не ругаться. Пройдись по людишкам, предупреди.
— Понял, — сержант сухо козырнул, в два четких движения развернулся.
Все коротко и ясно. Глядя на удаляющуюся спину, полковник крякнул. Вот ведь штука какая! И неумный, и злой, а все ж таки стопроцентный служака. Скверно, но в серьезных делах частенько полезны именно такие. Зачастую даже более полезны, чем головастые Во-Ганги и Злотницкие…
* * *
Лбом Егор уперся в деревянную раму. То есть, деревянной она ему показалась сначала, а как уперся, сразу понял — пластик. Кожу, пусть даже на черепушке, не обманешь. Неживое она чувствует безошибочно, пусть оно и прячется под слоем бодрого макияжа. Впрочем, и люди до поры до времени таятся под аналогичным камуфляжем. Потому как что такое человек? А человек, господа присяжные заседатели, это поступки. Нам необходимы победы, величественные финалы, этакие знамена над тем или иным рейхстагом. Премию получил — поступок, медальку — еще один. То же — с постельным соитием. Вполне природный поступок! Совершил, значит, ты здоровое и сильное животное. Честь тебе и хвала! Да черт бы с ним, только вот беда, — после подобного рейхстага люди удивительно раскрываются. Игра в прекрасное прекращается, все карты выкладываются на стол. Любовь действительно становится любовью, а нелюбовь обращается в неприязнь. Так, вероятно, вышло и у них. Предначертанное и сладкое состоялось, после чего он понял, что любит, а она поняла, что нет. Все проще простого — и одновременно абсолютно неразрешимо. А на горизонте вновь маячит вековечное: что делать и как быть?…
Огонек случайной звезды блеснул на небе, рассыпающей искры бабочкой подлетел к вагонному стеклу, обратившись Вандой. Егор задержал дыхание, как ребенок, узревший волшебную игрушку. Она не являлась для него игрушкой, но нечто волшебное безусловно собой представляла. Они глядели друг на дружку: он из вагона, она — с той стороны. Волосы ее струились под набегающим ветром, теплые глаза, одинаково теплые для всех, сейчас улыбались ему одному. Егор сморгнул, и чудное лицо пропало. Он сообразил, что она, должно быть, уже здесь, в поезде. И снова не с ним, хотя, конечно, не одна…
Господин в замусоленном, местами откровенно лоснящемся фраке выскользнул из распахнувшихся дверей, и до Егора долетел знакомый смех. Зубы капканом сомкнулись на нижней губе, выдавили ртутную капельку. Тусклыми, ничего не видящими глазами Егор вновь устремился к окну. Еще одно шило в бок, еще одна шпилька в сердце. Разумеется, Ванда продолжала веселиться, стремительно перебирая мужичков, мало кому отказывая и мало кого близ себя задерживая. Для того сюда и вернулась. Ненасытная вагонная Клеопатра! И разномастные ловеласы мотыльками слетались со всех сторон, спеша подпалить мохнатые крылышки на щедром огне. Благо и бояться уже было нечего. Аналитики в аппаратных, эти седые филины возле набитых окурками пепельниц, давненько перестали делиться с пассажирами маршрутными выкладками. Потому что надежных мостов оставалось все меньше и меньше, а количество поездов, на скорости ныряющих в волны, день ото дня росло. Марат как-то проболтался, что и у них в середине состава основательно дымит. То ли буксы горят, то ли что еще. И ничего на ходу не исправишь. Разве что можно усилить охлаждение, только что толку? Дождь за окном — тоже охлаждает, однако дым-то идет! Вот и веселится народишко, устраивает свой маленький пир во время чумы. Спешит отдохнуть перед грядущим.
Он припомнил, как однажды, столкнувшись с Вандой в коридорчике, пригласил ее в свое купе. Поблескивая ровными зубками, она весело согласилась. И также весело предупредила:
— Только учти, у меня бяка какая-то. Наградил один мерзавец. Впрочем, все равно ведь чепуха, правда?
Он ошарашенно кивнул, а она обошла его, покачивая бедрами, двинулась дальше. Обернувшись, крикнула:
— Если не испугаешься, вечером приду.
И не пришла. Хотя пугаться он и не думал. Просто такие, как он, женщинам не нужны. Веселее кутить с веселыми, а он был хмур и сумрачен.
Выбираясь из шумливого ресторанчика, кто-то снова отворил дверь. Уступая дорогу, Егор качнулся к окну. Мужчина однако проходить мимо не стал, остановившись, зашелестел по карманам в поисках сигарет.
Из-за неплотно прикрытой двери вновь долетел смех.
— А из соседней комнаты, — с удивительно знакомыми интонациями продекламировал мужчина, — доносился девичий визг, постепенно переходящий в женский.
— Помолчите! — толчком ладони Егор прикрыл створки. Толкнул, словно ударил, и мужчина неловко прикашлянул. Видимо, сообразил, в каком настроении пребывает сосед.
— Пардон! Не думал, что обижу… Закурите?
Егору протянули сигарету. Он машинально стиснул пальцами по-китайски желтушный мундштук. Словно мстя кому-то, с силой сдавил. Наверное, мысленно щипал. За сосок — ту же Ванду или за ухо кого-нибудь из ее дружков.
— Все хлещет и хлещет, — собеседник кивнул за окно. Егор машинально поднял глаза. Действительно хлестало. По стеклу стегали и разбивались в бесцветную кровь струи дождя.
Переведя взгляд на мужчину, Егор узнал Ван Клебена, в прошлом комивояжера, ныне одного из многих, мчащихся в неизвестность.
— Слышали новость? Рухнуло пять или шесть мостов. Чуть ли не одновременно. Где-то над Ла Маншем и в районе Белфаста. Три литерных оказались в ловушке.
— Совсем нет выхода? — голос был тих и бесцветен, и Егору подумалось, что говорит кто-то другой, а он лишь в такт открывает рот. Попугайничает, подпевая. То есть, разумеется, было жаль неведомых пассажиров, однако себя было жаль куда больше. Кроме того сочувствовать ежедневно — невозможно. Как держать мину участия на протяжении нескольких дней. Заработаете либо окостенение лица, либо геморрой. Хотя причем тут геморрой?… Он нахмурился. А причем тут Белфаст с его обвалившимися мостами? Они — там, он — здесь, и всем по-своему плохо. Мосты на то и мосты, чтобы рушиться. И понятно, что не за горами тот день, когда в воды планеты Океан (ха, ха!) с плеском погрузится последняя из платформ. Все идет и катится, подчиняясь логике событий. Под уклон. Волны бушуют внизу, дождь душит сверху, стихия с азартом дожимает человечество. Лопатками к близкой земле. То бишь, уже — к воде. Давит, надо признать, крепко. И, конечно, в конце концов выдавит. С мостов, с планеты. Как остатки зубной пасты из жестяного тюбика.
— Вообще-то они могли бы вырваться. Там оставалась веточка через Абердинский мост до норвежских берегов.
— Берегов?
— Ну да, берегов, — собеседник невесело рассмеялся, словно по-новому прислушиваясь к слову, утерявшему былой смысл. — Да… В общем эти парни совсем потеряли голову от страха — ринулись туда всем скопом. Хотели друг дружку опередить, дурачье.
— Столкновение?
— Не совсем. Первый литерный развил критическую скорость, почти выскочил из западни, но отказали буксы. Износ-то всюду предельный. Короче говоря, развалилось сразу несколько колесных пар. Ну и… Выхода у них не оставалось, главный штурман дал команду о ликвидации части эшелона.
— Авторасцепка?
— Вроде того. Оператор потом уверял, что эвакуацию все равно не успели бы провести. Хотя что там сейчас проверишь!.. Предварительно действия штурмана признали правомерными.
— А те, что ехали следом?
— В том-то и закавыка. Сперва надеялись, что вагончики вниз кувыркнуться, но не вышло. Застряли на пути самым подлейшим образом. В них-то и врезался второй литерный. На полном ходу. Будь это один или два вагона, он бы их смел к чертовой матери, да только, видно, вагончиков оказалось поболе. Теперь уже и не дознаться, сколько именно. Словом, кишмиш получился жутковатый! А там подоспел и третий состав. Тормознуть-то он тормознул, но смысл? Семь километров пассажирских коробок, масса — гигантская! Да и амплитуда была такой, что удирать следовало со всех ног. А куда удирать? Колесить по рельсам англо-ирландского периметра?
Егор пожал плечом.
— Лучше колесить, чем тонуть.
— Вот и они так решили. Дали задний ход и отделались парой шишок. То есть ударились, но не сильно. Сумели отойти. А те, что остались, минут через пять рухнули.
Егор, напрягшись, припомнил пару строк из случайно услышанной радиосводки.
— Кажется, в Шотландии уцелела пара стоянок. Они могут отогнать состав туда.
— Э-э, батенька, да вы на карту давно не глядели. Между ними и Шотландией распадок за распадком. Если бы умели летать, тогда ладно, а так — и говорить не о чем. Недельку максимум еще протянут — и все. Где им там кружить? Это вам не Кавказ и не Тибетское нагорье!
— Да уж…
— А еще где-то на Фиджи затонул целый станционный узел. Представляете, столкнулись с атомной субмариной! И как она уцелела, не пойму. То есть, экипажа там, ясное дело, не было, — пустая по волнам моталась. Как банка жестяная. Ну и долбанула этакая махина по опорам. Парочку враз смела — все равно как веником, а там все прочее пошло гнуться и трещать. Тоже, говорят, были жертвы.
Жертвы… Одну из таковых Егор видел сейчас в окне. Небритый синелицый мужчина неопределенного возраста, а рядом ореол крутобедрой убийцы. Еще одна латиноамериканская мелодрама. На фоне общей трагедии пустячок, потому и называется меловой… В том же окне-зеркале он неожиданно увидел, как лапает Ванду очередной провонявший вином мужланчик. Может, даже и не мужланчик, а совсем еще вьюноша. Спелогубый, с пылким взором подгулявшего кретинчика. Ванда в последнее время переключилась на молоденьких. Захотелось подруженьке попробовать из всех рюмок!.. Колени Егора мелко задрожали, пальцы безжалостно теребнули сигарету, просыпая табачные крошки на пол.
— Кстати! Я что хотел спросить. Может, есть свежие новости от брата?
Егор сделал мысленное усилие, пытаясь отвлечься от видений.
— От брата?
Собеседник кивнул.
— Марат нам что-то такое рассказывал, но, честно сказать, я мало что понял. Очень уж туманно вещал господин секретчик. Все с какими-то полунамеками. Кажется, планировалась специальная акция против пуритов?
Егор пожал плечами. С натугой объяснил:
— Мы с ним, видите ли, не очень общаемся. То есть, значит, с братом. Оттого и разбежались по разным эшелонам.
— А я, признаться, к Павлу Матвеевичу всегда с большой симпатией. Да-с… Этакий, знаете, чистокровный мужчина! Рокоссовский в миниатюре. Суворов… Мы ведь, простите меня за прямоту, давным-давно выродились. Не рыба, не мясо. Особи с неопределенными гениталиями. А ваш братец — в некотором роде исключение. Его и за глаза-то, знаете, как звали? Господин ПМ. Все равно как пистолет Макарова. Мда… Все верно решили. Кого и спускать на пуритов, как не нашего ПМ! Они ведь, сволочи такие, опять зашебуршились. Голову подняли! Хорошо, хоть у нас в вагонах относительно чисто, а то было бы делов! Наш-то Маратик Павла Матвеевича не переплюнет. Все равно как олешек против медведя.
— Медведя? Вы сказали, медведя?
Коммивояжер кивнул.
— А то!.. Я ведь хорошо помню вашего братца. На первый взгляд добродушен, неповоротлив, а придет в ярость — и разбегайся кто куда. Нет, что там ни говори, а Павел Матвеевич — интересная личность. И женщины это, кстати, отменно чувствовали. Помните, какое обилие дамочек за ним волочилось? Чуть на шею не вешались.
Егор скрежетнул зубами. Это он как раз помнил. Как помнил и то невзрачное утро, когда словоохотливый приятель сообщил, что Павел переспал с Вандой. То есть, возможно, братец ведать не ведал про его чувства, но сути это не меняло. Егор затаил обиду, и «добродушный медведь» это прозорливо подметил. Может, потому и пересел при первой возможности на литерный восточного направления. В любом случае вспоминать о нем не хотелось.
Егор достал платок, не слишком стесняясь Ван-Клебена, трубно высморкался. Заодно протер пальцы от табачных крошек. Скучным он был собеседником! Даже слушал с превеликим трудом. Как те дорожки, что всенепременнейше ведут к Риму, его собственные мысленные тропки постоянно упирались в Ванду. Разумеется, от внимания Ван Клебена это не укрылось.
— Похмельный синдром? — собеседник участливо улыбнулся. Снизив голос до вкрадчивого шепота, посоветовал: — А вы знаете что? Могу дать совет? Крайне простой… То есть, я, конечно, понимаю. Нынешние устои об ином талдычат, но только мура все это. То есть, когда кризис и вообще пасмурно, лучше не рыпаться. Сходите-ка вы к инсайтам. Там по каталогу выберете что-нибудь повеселей, и уверяю вас, уже через часок почувствуете себя лучше.
— А через десять?
Ван Клебен занервничал.
— Зачем же так? Я вам от чистого сердца, чтобы помочь… Все лучше, чем в мерихлюндии погрязать. В конце концов все от человека зависит. Я, скажем, свою норму знаю. Два-три часа — и баста. Ну, если, конечно, прижмет ретивое, могу и дольше позабавиться. А что такого? После спиртяги, извините, во сто крат хуже себя чувствуешь. Главное — не пересидеть и инъекции вовремя делать. Зарядил в подлокотник капсулу — и порядок. Для надежности можно заказать диспетчеру побудку. Вы же не сопливый тинэйджер, чтобы торчать там до посинения.
— Возможно, вы правы, — Егор рассеянно кивнул.
— Ну вот! Вам бы к Деминтасу забежать. Он же вас знает. У него еще преизрядный запас ампул. Шепнете ему на ухо, он поймет.
— Думаете, поймет? — Егор поднял глаза на Ван Клебена, пытаясь сообразить, что же ему только что сказали. Мозг с усилием расшифровывал запись. Бедный, бедный жираф! Шея длинная, оттого так долго доходит…
— Конечно, поймет! Он же врач. И тоже, кстати, не слишком критикует инсайтов. То есть, конечно, при соблюдении меры. Мера — она, Егор Матвеевич, всюду нужна. Кушать, знаете ли, тоже много вредно. Излишняя токсикация и так далее.
— Да, да, понимаю.
— Там в каталоге появилась новая директория, — азартно продолжал шептать Ван-Клебен. — «Винус» называется. Очень рекомендую! Можно входить в сеть и играть практически вживую. С партнерами самых разных составов. Само собой — анонимно. Пустячок, а остроты заметно прибавляет! Заодно акустикой насладитесь. Ребята много чего там навертели. Цветовая развертка «глюк», эффекты спирального звука и все такое…
Улыбка на лице Ван Клебена стала шире и неприятнее. Чувствуя поднимающееся в груди отвращение, Егор отвернулся.
— Мне пора… — пробормотал он.
— Конечно, конечно! Только вы непременно туда загляните. Советую от чистого сердца.
— Я подумаю.
— И ничего не говорите Марату. Он не Деминтас, не оценит. Наживете себе врага, а зачем вам это?
— Зачем мне это? — тупо повторил Егор. Сам себе и ответил: — То есть, мне это, может быть, и не надо, но зачем, я знаю. Определенно знаю…
По счастью, невразумительных слов его Ван Клебен не услышал.
* * *
Никаких ампул он брать с собой не стал. Может, постеснялся, а может, решил, что не понадобятся. В отсек инсайтов пробирался по нижнему грузовому ярусу, старательно отворачивая от встречных лицо. Не хватало еще столкнуться с кем-нибудь из знакомых — с тем же Жориком, например, или Путятиным. Последний уж точно бы оскорбился. Самым искренним образом… Однако обошлось без встреч, и хорошо, что не стали ни о чем расспрашивать в компьютерном салоне. Распорядитель отсека, рыжеватый, сухонький господинчик с очумелым взором, попросту указал на свободную кабину, равнодушно осведомился, понадобятся ли консультации. Егор сказал, что скорее всего нет, но распорядитель все-таки ткнул пальцем в табличку на стене.
— Здесь все основные команды. Клавишей «ЗЭТ» вызываете меня, F1 — запрашивает непосредственно электронного секретаря. Если не будет вас понимать, повторяете вызов тройным нажатием, говорите в течение одной минуты.
— Что говорить?
— Все, что угодно. Чем больше сложных слов, тем лучше. Звуковой блок сам настроится под ваши ключевые фонемы. А далее выбор по вашему усмотрению. Можете заходить в каталог Рампса, а можете использовать директорию информационного Океана. Клавиатуры после акустической настройки в принципе не нужна, секретарь будет понимать все с полуслова.
Егор мутно кивнул, на всякий случай поинтересовался:
— Сколько времени обычно отводится клиентам?
Распорядитель пожал плечами.
— Сами видите, это парсоновское кресло, так что теоретически можете сидеть здесь хоть несколько суток. Мы, правда, ограничиваем сеансы до десяти-двенадцати часов. Но только для того, чтобы не создавать очередей.
— Если что, — неуверенно пробормотал Егор, — отключите меня часика через три.
Распорядитель снисходительно улыбнулся, и на миг в тусклых его глазках промелькнуло нечто человеческое, столь знакомое Егору по прежней жизни.
— Видите ли, волевое отключение запрещено. Это просто опасно! — словно малому ребенку объяснил он. — Если нужно, запускается специальная программа высвобождения. Что-то вроде режима декомпрессии. Чем дольше сеанс, тем более длительна процедура реабилитации.
— Реабилитации-реанимации… — пробормотал Егор.
— Что вы сказали?
— Да нет, ничего… В общем я все понял. Спасибо.
Кивнув, распорядитель качнулся, как-то боком и неловко вышел. То ли был пьян, то ли настолько пересидел во всех этих парсоновских стульях и креслах, что чуточку разучился ходить. В пластиковой двери деликатно щелкнул замочек. Егор огляделся. Вот и все, гражданин обыватель! Никто вас не видит, не слышит. Можете обнажаться, вставать на голову, выть по-волчьи, вытворять самое непотребное.
Усевшись в кресло, он перетянул туловище электромагнитным бандажным поясом, на голову нацепил обруч с очками. Особенно неприятно оказалось надевать на руки громоздкие краги виртуальных перчаток. Внутренняя поверхность была еще теплой, чуть влажноватой. «Тепло и пот того, кто играл до меня…» — сообразил Егор. Вспомнив слова Ван Клебена, выщелкнул из подлокотника вакуумный шприц. Стеклянная капсула оказалась пуста. Ну да ничего. Не месяц же ему здесь париться! Всего-то часика полтора…
Егор включил питание, компьютерный блок чуть слышно загудел, перед глазами заиграли слабые всполохи, а мгновением позже он вдруг обнаружил, что стоит на песчаном берегу, и прямо перед ним в воздухе парит розовощекий ангелок. Тот самый электронный секретарь, о котором поминал распорядитель. Чуть задувал ветер — солоноватый, до одури пряный. Самое удивительное, что ветер этот ощутимо толкал в грудь, и Егор мучительно напрягся, пытаясь сообразить, каким образом достигается столь волнующий эффект. Впрочем, долго ломать голову здесь не позволялось.
— Развлечемся? — шепеляво порочным голоском осведомился ангелок. Пухлые ручки были скрещены на груди, крылышки часто порхали за младенческой спиной. Все равно, как лопасти вентилятора. Егор подумал, что опошлить действительно успели все на свете — в том числе и этих иконных созданий. Армия ангелов превратилась в обслуживающий персонал, в гидов и сладострастных сводников.
— Ну же, не стесняйтесь! — ангелок взмахнул складчатыми ручками, и в них оказался вдруг лук с золотистого цвета стрелой. — Может, подстрелим сирену? — игриво вопросил он. — Тут есть парочка страждущих. Томятся в ожидании прекрасных витязей. Внешне — очень даже ничего, не разочаруют. Рыженькая озорница, заблудившаяся на необитаемом острове, и брюнетка Софи, дочь новорусского нефтяника-миллиардера, искательница приключений…
— Нет! — быстро произнес Егор. Слишком лихо ангелок взялся за дело. Конечно, глупо было стесняться электронного секретаря, однако так вот сразу преодолеть себя — показалось неожиданно сложным, и, через силу выталкивая слова, Егор пробормотал:
— Сначала… Сначала давай повоюем.
— Сначала? — понятливо откликнулся собеседник. — Отлично! Сперва — помашем мечиком, а после к девочкам. Истинно мужской подход! Браво!.. Итак? Выбираем эпоху, оружие, врага?
— Выбираем, — Егор кивнул и задумался. Так ничего и не выдумав, предложил первое, что пришло на ум: — Карибский кризис, шестьдесят второй год…
— Вторжение американцев на Кубу?
— Точно.
— Ваше положение и звание?
— На твое усмотрение, парень…
* * *
Вероятно, в прошлые времена Мацис легко и просто вписался бы в ряды знаменитых пластунов. Ловкий, инициативный боец был прямо-таки создан для разведки. Посылая его вперед, полковник мог не волноваться. Распираемый молодой силой воин делал все, как положено, и в должные сроки. Кроме того, дождь, нещадно проклинаемый бойцами, на этот раз превратился в союзника. К посту мятежников троица разведчиков сумела подкрасться незаметно. Часовой под глыбой лоснящегося капюшона только и успел раскрыть рот. Ни крикнуть, ни схватиться за пулемет ему не позволили. Прыжком взмыв над бруствером, Мацис торпедой сиганул вперед, одним безжалостным ударом в лицо погрузил противника в беспамятство. Еще двое заворочались среди набитых песком мешков, но Коляныч лесным топтыгиным навалился на них, в пару секунд заставил умолкнуть. Услуг Адама, поигрывающего на отдалении ножами, не понадобилось.
К тому времени, когда подошли основные силы волонтеров, пленники уже сидели связанные по рукам и ногам. Вместо кляпов Мацис использовал их же собственные перчатки. У одного, впрочем, кляп пришлось вынуть. Молодой парень до того отчаянно свиристел носом, что стало ясно: долго с заткнутым ртом он не выдержит.
— Будешь говорить, красавец? — Коляныч поднес к сопливому носу пудовый кулачище. Парень с готовностью закивал.
— Но только когда спросят, — уточнил рыжебородый Адам. Ножи, прокрутившись в его пальцах лихими зигзагами, нырнули в спрятанные на груди ножны.
— Сморкайся, заморыш! — Без особой брезгливости, с некоторым даже состраданием Коляныч помог бывшему часовому опорожнить нос в ту же обслюнявленную перчатку. — А теперь рассказывай. Все самым подробным образом. Да не мне, а вот начальству, — он указал на приближающегося полковника. Это наш ПМ, понял? Ему все и расскажешь. Без лишнего трепа, как на исповеди!
— Справились? Отлично! — Павел Матвеевич развернул автомат стволом вниз, привычно упрятал под мышку. — Ну, докладывайте, архаровцы.
Мацис, спрыгнув с мешков на мокрый бетон, небрежно и потому с особой щегольской лихостью козырнул.
— Все тип-топ, полковник! Ни одного трупа! Взяли дуриков тепленькими. Пулемет, правда, устаревший. По возрасту — в дедушки годится.
— Устаревший там или не устаревший, а дырок в шкуре навертел бы за милую душу, — проворчал Адам.
— За то и шнобель сосунку попортили. Пострелять, стервец, вздумал.
— Я же не знал… — заерзал на мешках шмыгающий юнец. — Честное слово, все вышло случайно! Автоматически…
— Автоматически, — Коляныч без особой злобы наградил пленника подзатыльником. — Ты, чай, не робот, чтобы автоматически действовать.
— Нет, правда! Если надо, спрашивайте, я все расскажу!
— Расскажешь, не сомневайся, — полковник зашел под навес, с удовольствием откинул скользкий капюшон. — Давненько не менялись?
Юноша с готовностью закивал.
— Давно… Уже шестой час пошел. А обещали через два послать смену.
— Обманули, значит? Обидно… Чем вооружены ваши обманщики?
— Есть еще с десяток таких же пулеметов. Пара скорострелок шестиствольных, но к ним патронов почти нет. Одна артиллерийская установка, гранаты.
— Взрывчатка?
— Кажется, тоже есть.
— Это понятно, что есть. Я спрашиваю, какая и в каком количестве? Тротил, пластид, шимоза, другая какая зараза?
— По-моему… — пленный растерянно огляделся. — То есть… Я ведь в этом не очень разбираюсь. Стружки там какие-то были в мешках. И еще такие желтенькие кирпичики…
К юноше с мычанием рванулся связанный сосед. Похоже, он только сейчас очухался. Бешеные глаза его горели жутковатым огнем, руки и плечи часто дергались, силясь справиться с путами.
— Спокойно, лишенец! — кулак Коляныча жестко боднул «лишенца» в бок, заставил скрючиться. Не удовольствовавшись сделанным, Адам наградил бунтаря звонкой затрещиной, вынырнувшей из ножен сталью пощекотал подбородок.
— Трепыхнись еще разок, побрею и скальп сниму!
Пленник по-звериному зарычал.
— Ишь, ты! Сердится!..
— Это Бес! Дружок Знахаря, — пленный с разбитым носом опасливо косился на поверженного коллегу. — Колется постоянно. Либо порошки нюхает. Вы в карманах у него пошарьте! Там должны быть такие прозрачные пакетики.
— Вот еще! Шариться… — Коляныч тем не менее вывернул карманы Беса. На брезент высыпались миниатюрные полиэтиленовые упаковки.
— Я же говорил! Он с кокаина не слазит!
— Ничего, у нас слезет… Кто такой Знахарь? Ваш местный атаман?
Пленный кивнул.
— А тебя как звать?
— Леон. Леон Куроганов.
— Леня, значит. Понятно… — Павел Матвеевич, спрятав в кулаке сигарету, пощелкал зажигалкой, сосредоточенно закурил. Собственно, спрашивать больше было не о чем. О пулеметах со взрывчаткой знали и раньше. О сюрпризах типа артиллерийских установок и многоствольных комплексов тоже подозревали. Были уже прецеденты. Дабы доказать серьезность намерений, пуриты не стеснялись подрывать опоры, давать предупреждающие залпы по головным локомотивам. Вот и здесь разбушевавшиеся юнцы успели уничтожить одну из обходных ветвей. Досталось от них и вылетевшему на рекогносцировку вертолету. Должно быть, зацепили из скорострелок. Штучка еще та — опасная. При полном боекомплекте — пароход пополам разрежет, а уж удержать неприятеля на узком мосточке — дело вовсе плевое. Хоть табуном атакуй, хоть по одиночке.
Полковник озабоченно покосился на часы. По идее допрос можно было сворачивать. А то и впрямь вспомнят, пришлют смену — и выйдет шутка-прибаутка…
— Чего хочет Знахарь?
— Ну… Это я тоже не очень. Знаю только, что говорит он здорово. Как примется молотить языком, так людей качать начинает. У кого судороги, у кого глаза под лоб…
— А у тебя?
— Что у меня?
— У тебя тоже глаза под лоб?
Пленный смешался.
— Я у них недавно, еще не привык. Но вообще-то слушать интересно. Знахарь про потустороннее все на свете знает, про мировую паутину рассказывает, про штольни.
— Про паутину?
— Ага. Будто бы наш мир — это оследний слой, понимаете? А над нами, якобы, другие мосты и другие цивилизации.
— Инопланетяне, что ли?
— Зачем же, — тоже люди, только из иного времени. И так — слой за слоем. Но это все мертвые. Те, кто живые, обретаются на дне. И если постараться, то одного большого лифта может хватить, чтобы переправить все человечество.
— Это в смысле, значит, на дно?
Леон замялся.
— Я уже сказал: я в этом не силен. Вы лучше Беса поспрашивайте.
— Ничего, как-нибудь перебьемся без бесовщины. — Павел Матвеевич переглянулся с Мацисом. — Все вроде ясно, а?
— Что ж тут неясного! Крошить надо гадов — и все дела!
Полковник вновь затянулся. Каждый раз, когда истаивающая сигаретка подплывала к губам, пальцы касались колючей щеки, и это нервировало. Собственную неопрятность и небритость он не переносил более всего.
— Что ж… Раз ясно, значит, закругляемся.
— Я еще могу рассказать. Вы только спросите!
— Понимаю, Лень, конечно, можешь. Только времени у нас нет, чтобы с тобой душевно беседовать. Поболтали, и будет. Пора выдвигаться.
— Там ждет заслон, — торопливо залопотал Леон. — Я думаю, они будут стрелять.
— Ай, беда какая! — язвительно протянул Мацис. Взглянув на полковника, деловито спросил: — Куда их? С моста?
Павел Матвеевич кивнул и тотчас разглядел, как стремительно побледнел юноша. Услышанная фраза чуть было не отправила его в обморок.
— Не надо, — заикаясь, забормотал пленный. — Пожалуйста, не надо! Я же случайно! Честное слово, случайно!
— Все случайно, — Адам похлопал его по плечу. — Случайно рождаемся, случайно умираем.
— За что?… Я же ни кого не убивал!.. — Пленный сполз с мешков на колени. Слезы струились по его щекам.
— Это потому что не успел, — с той же нравоучительностью произнес Адам. — Не дали бы тебе вовремя по чухальнику, и наделал бы делов.
— Я же машинально! Я не хотел!..
Полковник вздохнул.
— Ладно, — он отшвырнул окурок. — Сопляка оставьте, может, еще сгодится. Остальных за борт.
Мацис холодно кивнул. Ему приходилось вытворять и не такое. Двоих извивающихся пленников подхватили под микитки, рывками поволокли к перилам моста. Павел Матвеевич отвернулся. Неожиданно вспомнилось, как давным-давно разобидел его в транспорте какой-то обабок, заподозрив в том, что он не передал деньги на билет. Подозрение показалось юному Павлу столь мелочным, гадким и неправдоподобным, что он вскипел лишь минут через пять или шесть. Так долго доходило до него мутноватое обвинение человечка. А когда наконец дошло, он выбросил мужчину из автобуса и, наверное, убил бы, не вступись за него случайные прохожие. Как бы то ни было, полыхнувшая в нем тогда ярость напугала его самого. Напугала прежде всего несоразмерностью случившегося. Жизнь человека и какой-то разнесчастный билетик. Тогда он еще не знал, что несоразмерность — явление закономерное и обыденное, что чаще всего в мире так и поступают. Спустя всего полтора десятилетия, по его приказу к стенке поставили первого мародера. За первым последовал второй и третий. Вереница напуганных, злых и оплывших от слез лиц. В дни смут военным пришлось поработать вдосталь, но никогда более Павел Матвеевич не испытывал такой жгучей ненависти, которую породил в нем тот давний пассажир.
Нет, он вовсе не очерствел. Просто со временем стал что-то понимать, хотя и попахивало подобное понимание чем-то болотно-тяжелым, откровенно дьявольским. Словно вытянули из тины проржавевший сундучок и водрузили перед самым носом. Сундучок следовало открыть, но полковник не ощущал ни малейшего желания делать это. Он не хотел знать никаких тайн. Он был сыт ими по горло.
— Готово! — утирая лицо от влаги, вернулся сияющий Мацис.
Павел Матвеевич ответил кивком, с вялым любопытством взглянул в сторону Леона. Стоя на коленях и громко всхлипывая, тот продолжал что-то благодарно бормотать.
* * *
Прошло часов часов семь или восемь, прежде чем он покинул вагон инсайтов. Никто его, конечно, не разбудил. Рыжеволосый распорядитель, побродив туда-сюда, видимо, в свою очередь завалился в одну из кабинок. В какую именно, разобрать было сложно. За всеми дверцами в одинаковой степени что-то хрипело и взрыкивало, воздух остро пах разогретой пластмассой, человеческим потом и электричеством. Вопреки предсказаниям Ван Клебена никакого облегчения Егор не ощутил. То есть поначалу он и впрямь отвлекся, но длилось азартное состояние недолго. В сущности все эти часы во главе эскадрилий бомбардировщиков он бомбил и расстреливал земную цивилизацию. С эпохи древнего Рима, где от теней пикирующих стальных громад люди в туниках с воплями разбегались по узким вертлявым улочкам, до самых последних благополучных лет, когда удачным выстрелом из пушки можно было завалить баобаб Эйфелевой Башни, накатить управляемой скоростной бомбой по Белому Дому, разметать в щепки действующую корриду на испанском стадионе.
Разумеется, электронный ангелочек предложил сперва полетать на великих и всемогущих «Стелз», а в качестве врагов указал на маячившую вдали стайку вертолетов «К-52», однако Егор отказался. Про «великих и всемогущих» он объяснился с ангелочком кратко и выразительно. Попутно с каким-то истерическим мазохизмом поаплодировал былой силе американской пропаганды. Допотопные и неуклюжие «Стелз», псевдоневидимые, проще простого сбиваемые российскими самолетами третьего поколения, оказались действительно замечательно разрекламированными. С родной авиацией все наблюдалось с точностью до обратного. Так или иначе, но ангелочек с легкостью поменял их местами. И на родных «Су-34» и «Су-37» Егор ринулся крушить все, что вставало на пути, пыталось улететь, убежать и телепортировать. Уж тут-то он развоевался не на шутку, и ничего не могли с ним поделать ни «Миражи», ни «Фантомы», ни похожие на утюги «Стелз». А, спустя какое-то время, вторым пилотом нежданно-негаданно оказалась женщина. То есть сначала она только помогала ему, затем умудрилась взобраться на колени и обхватить за шею. Когда же мелькнувший за стеклом ангелок шепчущим голосом посоветовал Егору катапультироваться над случайным островком с пальмами и уютными лагушами, он ее узнал. Возможно, по улыбке. Одна из скучающих пассажирок его родного поезда. По крайней мере несколько раз он ее уже встречал — в коридорах, в ресторане, в тренажерном зале. Ван-Клебен был прав, партнер здесь мог оказаться вполне живым. Более того его несложно было узнать. Именно это обстоятельство Егора и смутило. Дамочку он покинул внезапно, ничего не объясняя, аккуратно ссадив с колен. Не стал ничего говорить и звенящему комариными крылышками ангелочку. Обрывая игру, стянул с себя шлем и перчатки, освободившись от бандажного пояса, покинул кабину.
Главным и, возможно, единственным плюсом было то, что он налетал волчий аппетит, а потому ноги сами привели в ближайший вагон-ресторан. Точнее сказать, только в этот ресторан Егор в последнее время и хаживал. В этом месте он чувствовал себя более или менее свободно. Может, потому и свободно, что привычно. Именно тут его раза три или четыре выуживали из-под столов. Подобное не забывается. Переночуй в любой халабуде, обставь ее своими вещами, обклей календариками с бронзовокожими феминами, и через пару ночей будешь вполне искренне называть ее своим домом. Нечто подобное наблюдалось и здесь.
А в общем… Определенные выводы он все же успел сделать. В частности лишний раз подтвердил для себя, что инсайты и фэны — сословия абсолютно разные. И совершенно неясно, кому понадобилось смешивать эти два понятия. Еще ведь и пуритов сюда приплели! Играли как в старые добрые времена — одних записывали в хиппи, других в инсайты, третьих — вовсе в клан прокаженных. Кто, как говорится не с нами, тот просто обязан быть против нас… То есть, кому это нужно — на самом деле, пожалуй, ясно. Практически всем. Инсайты вещуют и каркают, а значит, неудобны ни рядовым обывателям, ни седовласым штурманам. А к виртуальным развлечениям господа инсайты потому и неравнодушны, что этот мир знают насквозь. Можно ли обвинять тех, кто по виртуальной радуге убегает в нереальное?
С этой мыслью Егор поднес к лицу рюмку, коротко нюхнул и поморщился. Водка была, конечно, не той температуры, не того состава и вообще не та, однако подходящего сорта здесь попросту не водилось. Лимонная тридцатиградусная приятна для приятной жизни, скверную жизнь заливают пойлом покрепче и погорше.
Он успел пропустить несколько миниатюрных порций, когда за столик к нему опустилась Мальвина, девчушка с ровно остриженной головкой с неизменным песиком на поводке.
— Здравствуйте, — она робко улыбнулась. Словно заранее извинялась за свою навязчивость. Не слишком естественно Егор улыбнулся в ответ. В голосе и на кукольно аккуратном личике девочки все читалось до последней буковки. Мальвина по обыкновению смущалась, продолжая сторониться людей. Доверяла она только близким знакомым, а таковых у нее в этом поезде имелось немного. Нехитрую историю девочки Егор уже имел счастье узнать. Не так давно Мальвину ссадили с европейского литерного. Из-за пса. Порывались высадить и отсюда, но поблизости оказался он, неизменный рыцарь и герой ненашего времени. Свара была не слишком приятной, но, вмешавшись в спор и призвав на помощь Маратика, дело он в конечном счете выиграл. Спор разрешили в пользу песика, и уже значительно позже Егор рассудил, что в спор он вмешался по той простой причине, что однажды уже побывал свидетелем аналогичного скандала, где седого старичка-боровичка вынуждали выбросить за окно столь же седую и старую собачку. Старичок свою кудлатую питомицу обожал и выбрасывать отказывался категорически. Разгорелась некрасивая перепалка, в результате которой кто-то, воспользовался общей сумятицей и ткнул четвероногого друга вилкой. Егор видел потом, как старик плакал в тамбуре, прижимая к груди завернутый в холстину собачий трупик. И собственное гневливое недоумение впечаталось в память надолго. Конечно, у людей неврозы, кое-кто откровенно сходит с ума, но причем тут старики и собаки? Еще запомнилось, что сам он наблюдал за скандалом, не вмешиваясь и не приближаясь. Верно, оттого вина за гибель собаки косвенным образом легла и на него. Потому что видел. Своими собственными глазами! Значит, вроде, как поучаствовал. Это и решило судьбу Мальвины. Девочку и песика удалось отстоять. С тех пор они частенько здоровались, хотя пространных бесед не заводили. То ли стеснялись, то ли не о чем им было беседовать — двенадцатилетней девчушке и мужчине, перевалившему уже через свой главный жизненный перевал. Впрочем… Разве не такие временные распадки обещают хоть какое-то подобие интереса к собеседнику? Что нового можно узнать о собственных одногодках? О Горлике, о Жорике, о том же разобиженном на весь мир поэте Путятине? Другое дело — детство. Тут все напрочь забыто, а потому ново. Здесь есть о чем порасспрашивать.
— Гуляем? — он поглядел на бутылку и, подумав, что стесняться ему нечего, вновь наполнил бокал.
— Я бы и в купе почитала, но Альбатросу вредно. Он и так все время лежит и лежит. От этого у собак портится характер.
Густо заросший пес, смахивающий на уменьшенную шотландскую колли, переступил белыми лапами и, словно подтверждая слова хозяйки, угрюмо улегся возле стола. Черная спина, рыжие симпатичные подпалины, белая манишка на груди — прямо как конь в яблоках. Хотя причем тут конь?
— Даже вылизываться перестал, — пожаловалась Мальвина. — А раньше был таким чистюлей.
— Чистюлей, говоришь? — Егор протянул девочке самое румяное яблоко, подмигнул сидящему на полу псу. — А почему Альбатрос, почему не Артимон?
— Артимон?
— Ну да, не читала книжку про Буратино?
Она замотала головой.
— Напрасно. Там и ты есть, и песик твой. Тот, правда, пуделем был, а это ведь, кажется, шелти, верно?
— Правильно! — Мальвина обрадовалась. — Это хорошая порода — красивая. Вам нравится?
— Ничего. Забавная.
— Почему? — она готова была обидиться. — Почему забавная?
— Не знаю… Все эти коккер-спаниэли, афганские борзые, салюки, чау-чау — они, понимаешь, вроде как не отсюда. Не из мира сего. — Егор поморщился, пытаясь выудить из того кисельного болота, в который постепенно превращался его разум, доступное девочке объяснение. — Они вроде как женщины собачьего рода. И не женщины даже, а дамы.
— Как-то я не очень…
— Да я и сам! — с коротким кряком Егор опустошил бокал, вилкой ткнул в салатницу, загарпунив нечто округлое, под слоем майонеза совершенно неузнаваемое.
Недоуменно хмуря светленькие бровки, Мальвина терзала зубами яблоко. Он хмыкнул. Забавно она его ела — все равно как мышь. Прогрызала этакую аккуратную дорожку по экватору. Яблоко оказалось для девочки чересчур крупным.
— Хмм… Видно, разучился я расписывать красивое и мирское. — Егор яростно потер лоб. — Ты видела, как бегает коккер-спаниэль? Забавно, да? Этакий озабоченный аристократик. А как фланирует афганская борзая? Точь-в-точь — фотомодель перед объективами. Бедра гуляют туда-сюда, как у Мерилин Монро, осанка, как у юной гимнастки. Даже купеческая чау-чау — и та не похожа на своих собратьев. Ну сама скажи, смахивают они на лаек с овчарками? Ведь нет же? Те — в шаге от волка, эти — за добрую версту.
— Вы, наверное, хорошо разбираетесь в породах.
— Какое там! Друг эрделя дома держал, кое-что рассказывал.
— Значит, по вашему, собаки делятся на аристократов и агрессоров? — разговор всерьез воодушевил Мальвину. Выложив локти на стол, она даже чуточку подалась вперед. Взглядом прочертив линию вдоль ее безукоризненно ровной челки, Егор улыбнулся.
— Не знаю. Я, видишь ли, вообще не люблю делить кого-либо на что-либо. Скучная это штука — классификация. Ямб или хорей, меланхолики или холерики — какая, к черту, разница!
— Но ведь надо как-то все называть?
Егор снова заставил бутылку поклониться дворянину-бокалу, подумав немного, пожал плечами.
— Наверное, надо. Только мне это скучно. В последнее время мне вообще все скучно.
— Но ведь это плохо, правда?
— Конечно, плохо.
— Значит, нужно с этим бороться! В себе самом.
— Не хочу, — признался он.
— Почему?!
— Во-первых, лень, во-вторых, не уверен, стоит ли в себе что-то менять. Правды, Мальвина, все равно не доищешься. — Он пожал плечами. — Взять, к примеру, тех же собак. Вот не люблю я левреток с доберманами, не люблю — и все тут! Ничем они вроде не виноваты, а приязни нет. А те же колли отчего-то нравятся. Сам не знаю почему. И твой песик — из симпатичных.
Альбатрос поднял голову, тускло глянул в тусклые глаза Егора. Точно в зеркало посмотрел. Казалось, пес разделял тоску собеседника хозяйки. Моргнув, печально опустил голову на вытянутые лапы.
— Я только хотел сказать, — с натугой продолжил Егор, — что есть псы сильные и земные, а есть непонятно откуда взявшиеся.
— Космические, — предположила Мальвина.
— Может быть, космические, хотя… — Егор почувствовал, что окончательно упустил логическую ниточку, запутался в том, что хотел выразить словами. Досадливо прикусил губу, а лицо вновь самостийно съежилось в дикую гримасу. Трезвые подобным образом изображают задумчивость, пьяные попросту выдают себя с головой. Бог знает, что могла подумать о нем девочка. Впрочем, особого красноречия от него и не ждали. Мальвина, казалось, ничего не заметила.
— Возможно, ты права. Космические псы и земные. Именно так!
— Тогда вам, наверное, должны нравиться командоры и ньюфаундленды, правда?
— Командоров я не видел, а ньюфаундленды — да, нравятся.
— Мне тоже. Я даже сначала ньюфаундленда просила купить. Только мы жили в городе, а в городе большая собака — это такие сложности!
Вспомнив о городе, Мальвина загрустила.
— Боже мой! — совсем по-взрослому вздохнула она. — Как все быстро разрушилось.
Егор покосился на нее с удивлением. Странно было слышать подобные слова от такой пигалицы. В ее годы все обычно тянется и тянется. Все равно как жевательная резинка. Сто раз на дню можно развеселиться и поскучать, и нет еще тех недель-страниц, что перелистываются с беспощадной легкостью — чем дальше, тем проще.
Он снова ткнул вилкой в салатницу, выуживая грибок (теперь-то было уже ясно, что это грибы!), и внезапно понял, что ему бесконечно жаль эту одинокую девчушку, неведомо каким образом занесенную в этот умирающий поезд.
— Может, ты хочешь мороженого? — предложил он.
Мальвина стеснительно улыбнулась.
— У меня обычная кредитная карточка. Боюсь, что здесь она недействительна.
— Наверное, категории «М»? Ничего, это не проблема, держи! — он протянул свою с золотистой окантовкой.
— Зачем? — она попыталась спрятать руки.
— Скажу по секрету, у меня их две: писательская и гражданская. А это ведь не очень честно, верно? Так что бери и ничего не бойся. Тем более, что Альбатроса тоже надо кормить. Кстати, почему ты его так назвала?
— Не знаю. То есть, сначала не знала, а потом… Потом я поняла, что это как предвидение.
— Не понял?
— Ну как же! Получается, что я угадала его будущее.
— Будущее? — Егор недоуменно приподнял бровь.
— Ну да! Ведь он сейчас как альбатрос! Мы летим по мостам со скоростью птиц, а под нами волны. Выходит, и он летит. Почти как птица над водой. И такой же одинокий.
— Альбатросы — одинокие птицы?
Она растерянно пожала плечиком.
— Я читала в стихах…
— А-а… Тогда ясно. В стихах это встречается. — Егор, не удержавшись, погладил Мальвину по плечу. — Ладно, на первый раз возьму тебе мороженое сам. Ты его скушаешь и оставишь мрачного дядю в покое. Договорились? Неподходящее у него сегодня настроение. Развязаться ему хочется, понимаешь? Водочки попить, котлеток покушать, в ухо кому-нибудь дать.
И снова совсем как взрослая, она покорно вздохнула.
— Видишь, какая ты понятливая! — он подмигнул псу. — И тебе, одинокий ты мой, попрошу каких-нибудь косточек. Чтобы не был таким мрачным…
* * *
Дым сгустился над полом, без особого труда вылепился в знакомую женскую фигуру. Привидение бесшумно пересекло купе, дразняще поманило рукой. Егор не двинулся с места. Укоризненно покачав головой, Ванда приблизилась к стене, чуть пригнулась, словно боясь удариться о низкую притолку, и пропала. Скользнула в другое измерение через невидимый ход. Повеяло холодом и сыростью. Вздрогнув, Егор очнулся.
Вот так… Писать не для кого, а хохочущая ненасытная Ванда снова ушла. Не просто БЕЗ него, а От него. А раз так, значит, к другим. Спрашивается, что еще держит его в этом мире? В мире, который, выражаясь истертым языком литераторов, катится в пропасть и погружается в бездну? А вернее сказать — уже скатился и погрузился. Потому как куда же еще ниже? Внизу — волны и акульи плавники, вокруг зыбкая паутинка мостов с паучками-составами. И не паучки они, пожалуй. Длинные неуклюжие гусеницы, угодившие в клейкую западню. Собственно, и миром это называть уже смешно. Так, некая пародия на мир. Нелепые движения агонизирующего. Нелепые и некрасивые. А в мире имеет смысл только красота. Он сам только что говорил об этом Мальвине. То есть пытался сказать. На примере собачьих пород, но не вышло. Ну да девочка все равно бы не поняла. Что способны воспринимать люди в двенадцать или сколько там ей лет? Разве что ужасающий разрыв между мирской несостоятельностью и пирамидой собственных амбиций. То есть, к Мальвине это, возможно, не относится, но если говорить вообще… В самом деле, зачем подростку пропасть энергии, когда он мало что может? То есть, может-то он многое, но нет сопутствующих обстоятельств. Барьеры, одни только барьеры…
Егор поднял крышку чемодана, из потайного отделения извлек короткоствольный револьвер. Шестизарядный «Штурм-Рюгер» полицейского калибра. Вот уж в чем поднаторело человечество, так это в изготовлении подобных игрушек. Изящные, удобные, всесокрушающие — и, кстати, по-своему — очень и очень красивые. Говорят, некрасивые самолеты не летают, а как быть с этими дарителями смерти? То есть здесь-то причем красота?
Егор выщелкнул барабан, высыпал на ладонь патроны. Подумав, вставил один обратно. Нахмурившись, припомнил название развеселой игры. Ну да, русская рулетка, занятие, запатентованное белым офицерством. Когда отнимают родину, лучше развлечения, не придумаешь. У него отняли Ванду, у него отняли мир, — чем не повод?
Раскрутив барабан, он прижал ствол к виску и, помедлив, потянул курок. Металлический щелчок громом отозвался в голове, вызвав удивление, но не страх. Или он настолько пьян?
Недели две назад кто-то ему поведал об очередном прозрении инсайтов. Дескать, под водой жизнь тоже продолжается. И такие же поезда беспрерывно носятся по глубинным тоннелям, такие же пассажиры режутся с друг дружкой в преферанс, запираясь в купе, плачут и колотят кулаками по столу. То есть, это, собственно, не прозрение даже, потому как и в газетах писали, и по радио обсуждали. Два масштабных проекта. Либо спустить людей в подземные города, либо водрузить на ниточки мостов с прутиками опор. Взялись, разумеется, претворять в жизнь оба проекта сразу, но в конце концов победила идея мостов. Вероятно, захотелось быть поближе к привычному — к небу, так сказать, к солнышку. А под землей — оно всегда страшнее. Все равно как заживо себя хоронить…
Егор повторно прокрутил барабан. Что же в конечном счете спасает? Мир красоту или наоборот?… Зрачок ствола глянул в лицо. Ровный, бездушный взгляд. Так и должно быть. Никаких эмоций у железной игрушки, — делала свое привычное дело — только и всего. Дело, если разобраться, банальное, абсолютно неоригинальное. Как там писал классик? В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей… Кровью, говорят, писал. Чернил не нашлось, вот и полоснул по вене. А после Маяковский, Вячеслав Кондратьев… Сколько нашлось последователей, — музей можно собрать! Вместо экспонатов — веревки, пистолеты, химикаты, которыми спользовались писатели. Как говорил Эренбург, не все радости и не все горести пристают к писателю, только те, что должны к нему пристать. Красиво, но мутновато. Потому что долги, бывает, приходится оплачивать и чужие. А с кредитоспособностью у нас у всех одинаковые проблемы…
На этот раз рука пошла тяжелее, суматошно заколотилось сердце. Наконец-то догадалось, что все происходящее не шутка, — вовсю било тревогу, взывало к опоенному разуму. Подобно пробуждающемуся от зимней спячки медведю организм начинал ворочаться, поднимаясь на задние лапы, спьяну еще не понимая, что же там снаружи творится, однако нюхом шатуна чуя недоброе. Егор зловеще улыбнулся. К подобному раздвоению он был готов. Даже любопытствовал, насколько сильнее окажется природа, успеет ли предотвратить роковой финал.
Очередной щелчок вызвал на лбу испарину. Заломило зубы, и предательски дрогнули коленные суставы. Организм скулил, болью пытаясь образумить.
— Черта лысого!.. — Егор ладонью разогнал барабан, поднес оружие к голове. Руки еще слушались, а вот пальцы начинали бастовать. Нужны были новые аргументы, новые полешки в хищный зев печи самоистребления.
Разумеется, он не стал бы стреляться из-за одной Ванды. Он любил эту хохотушку до желудочных колик, до потери пульса, но в сущности мог бы смириться с платонизмом. Ванда только добивала его, колола стилетом уже смертельно раненного. Операцию разрушения затеял его величество океан. Планета Океан, ибо Землей она уже не имела права именоваться. Шарик покрывали километры и километры соленой тяжелой воды, пенные волны могли беспрепятственно путешествовать от полюса к полюсу, все жизненные сроки превратились в условные. Вот и думай-гадай, как дальше существовать! Потому что, если не работать и не любить, то незачем жить. Верно пел незабвенный Владимир Семенович: «Я люблю и значит — я живу…» Все правильно. А они сейчас не живут. Пьют и болтают, скандалят и дерутся. Разве что Горлик еще чем-то всерьез озабочен. Кует славу будущего классика. Сколько он, интересно, успеет переписать? Наверное, немало. И будут после восхищаться потомки, выводя образ нового Платона. Впрочем, не все ли равно…
Щелчок! Егор обморочно вздохнул. Перед глазами плавали огненные кольца. Природа тоже не собиралась церемониться с самоубийцей, слоновьими порциями впрыскивая в вены спешно сотворенный яд, превращая мышцы в подобие безвольных тряпок. И самое забавное, что интеллект, еще пару минут назад однозначно ратовавший за суровый исход, теперь вдруг с тем же рвением принимался изыскивать доводы иного порядка.
Что-то загремело за дверью, донеслись возбужденные голоса. Егор усмешливо прищурился. Еще одно вмешательство судьбы?… Уж не собираются ли его спасать?
Увы, причина шума крылась в ином, в дверь, как выяснилось, наколачивала кулаками будущая знаменитость вселенной — гениальный писатель Горлик.
— Егор! Тут у нас, понимаешь, заварушка! Слышишь? Надо бы вмешаться!
Несостояшийся самоубийца шатко поднялся, с интересом покосился на револьвер. Что ожидало его через пару секунд? Ослепляющая боль или очередная отсрочка? Отведя ствол в сторону, он нажал спуск. Грохочущее пламя обожгло обшивку диванчика, револьвер скакнул в кисти, испытывая на прочность суставы.
— Егор! Ты что там делаешь?! — в дверь забарабанили с удвоенной силой.
— Тута я, тута, — Егор отворил дверь.
— Ты зачем это тут? Чего это?… — козлиная, чуть отдающая рыжинкой бородка Горлика заметно тряслась. Друг выглядел напуганным. — Ты что, стрелял?
— Гром и молния. — Егор кивнул на револьвер. — Баловался. Думал, нет патронов, да вот ошибся.
— Как же так можно! Нельзя же так… — испуг Горлика проходил. — Это ведь оружие, к примеру! А ты баловаться затеял.
— Ты вроде о заварушке говорил? — напомнил Егор.
— Что? Ну да! Путятин, понимаешь, опять спятил. Ван Клебена чуть не убил.
— За что?
— Кто же их, паразитов, разберет! Одно слово — поэты! Сидели за столиком, мирно разговаривали, потом кто-то что-то сказал — повскакивали и давай драться. Только какая там драка! Ты ведь знаешь нашего Путю! Под горячую руку вагон перевернет.
— Знаю. Он в тамбуре с пулеметом запирался.
— Ну вот! А сегодня, к примеру, автомат у Марата отобрал. Короче, свалка идет капитальная.
— Нужны кулаки, я правильно понимаю?
Горлик лихорадочно кивнул. Егор бросил револьвер в чемодан, отодвинув приятеля в сторону, быстрыми шагами устремился к ресторану.
* * *
Привязанный цветастыми занавесками к стулу, с полотенцем во рту Путятин продолжал рычать и ворочаться. Три тяжело дышащих мужика сидели вокруг и мрачно зализывали раны — все равно как дворовые псы после драки. Зализывали в буквальном смысле, потому что бинтов пока не принесли, а салфетки оказались перепачканы соевыми приправами. Ворчащие официантки восстанавливали прежним аккуратным каре опрокинутые стулья, тряпками затирали винные лужи, заметали битое стекло. Иллюстрация того, что может натворить одна-единственная раздухарившаяся компашка, была вполне наглядной. Операция разорения вагона-ресторана прошла более чем успешно и в сжатые сроки.
— Вовремя подоспели, — Марат сплюнул под ноги, растер каблуком. — Народец-то у нас геройский, — как стали орать да кулаками размахивать, так и кинулись врассыпную. Дверь вон даже выдавили… А Жорика, непоседу вашего, Путя сразу в нокаут посадил. Первым же ударом.
— А что с Ван Клебеном?
Марат махнул рукой.
— Коммерсант же, что ему сделается! Удрал, конечно. Получил в лоб и сделал ноги. А Жорик только и подошел спросить, что, мол, братцы, не поделили. Ну, Путя ему и разъяснил… — Марат, лицо которого напоминало битое яблоко, хотел было рассмеяться, но тут же поморщился. Скосив глаза на Путятина, с укоризной покачал головой. — Эх, ты! А еще поэт, представитель вымирающей интеллигенции…
— Ага! У истинно интеллигентных людей нет такой силищи! — Горлик с кряхтением потирал ребра. — Я думал, точно всех за борт повыбрасывает. И что на него, дурака, находит?
— То же, что на всех, — Егор осторожно потрогал припухшую щеку. — Деминтас, кажется, предупреждал про полнолуние. А в полнолуние, господа, всегда что-нибудь происходит. Помните самоубийц в прошлом месяце? А еще чуть раньше — зарезанного в тамбуре?
— Ну?
— Тоже было аккурат в полнолуние.
— Странно. Причем здесь Луна? Далеко же!
— Все одно достает. — Егор хмыкнул. — Я точно знаю. Тем более, что их нынче аж до семи штук доходит! Раньше от одной лунатиками делались, а тут целых семь.
— Стервы! — Марат простодушно поднял голову, словно надеялся разглядеть сквозь потолок виновниц сегодняшних событий. — Может, и наш океан из-за этих Лун стал подниматься, а?… В самом деле! Взяли и притянули! Типа, значит, большого прилива.
— Вряд ли… — промычал Горлик. — Они ж все вместе и всегда с одной стороны.
Опустившись на четвереньки, он зашарил рукой по ковру.
— Так и есть, разбил, стервец!
— Что разбил-то?
— Да очки. Специально ведь в карман спрятал, боялся, что слетят, а он меня кулаком в грудь. Нет, чтоб по роже!.. Балбес такой!
— Ничего, протрезвеет, возместит, — утешил Марат.
— Как же возместит? У меня же, к примеру, астигматизм! Плюс бифокальные линзы. Тут особые очки нужны.
— А зачем они тебе? Газет-то все равно нет. И письма некому писать.
Егор покачал головой. Простодушная логика Марата умиляла. Действительно, зачем человеку глаза, если видеть особенно нечего? Слава Богу, не в тоннелях катаемся, — по мостам. Хотя и в тоннелях, должно быть, темнотища не хуже…
Хлопнула дверь, стремительным шагом в зал вошли трое с автоматами. С тяжелой сумкой через плечо за ними семенил врач Деминтас. Сухонький, как циркуль, с умным ощупывающим взглядом, он первый разобрался, что к чему.
— Ну, слава тебе Господи, обошлось! Я, признаться, уже на травмы настроился. Днем-то одному клиенту череп табуретом раскроили. Еле-еле спасли. Еще один кисть сломал. Целил кулаком в голову приятеля и промахнулся. Угодил, дубина такая, по титановому бачку… — Доктор на ходу расстегнул сумку, вытащил шприцевый пистолет.
— Ты погоди расстраиваться, — Марат указал на собственное опухающее лицо. — Это что тебе, не травма? И Жорка у официанток в подсобке валяется. Едва дышит.
— Если дышит, уже хорошо. Сначала займемся этим субчиком, — Деминтас, манипулируя наборной рукоятью на пистолете, приблизился к Путе. Тот с рыком попытался достать его ногой, но доктор проворно уклонился.
— Сейчас, голубчик, сейчас! Зачем же так? Я тебе, сударик, не враг. Проснешься завтра, самому стыдно станет. Придешь извиняться.
— Ему станет стыдно, как же!..
Орлы с автоматами расслабленно присели на стулья. Сигнал застал их врасплох, заставил в считанные минуты натянуть униформу, с оружием в руках рвануть через вереницу вагонов. Увы, инцидент оказался исчерпанным, и ребята выглядели даже чуточку разочароваными.
— Помогли бы, чего расселись! — одна из официанток толкнула бедром ближайшего автоматчика. Веснушчатый широкоплечий парень удивленно взглянул на нее. Сердитая насупленность, проступившая на бритой физиономии, тотчас сменилась улыбчивой готовностью балабонить и шутить. Лица подметающей девушки он не видел, зато имел прекрасную возможность лицезреть туго натянутую и лакомо располовиненную на ягодицах юбку. Серьезнее аргумента было не придумать. Забросив автомат за спину, он легко поднялся.
— Так ведь мы не против. Если надо, всегда готовы. Помочь, значит…
Поймав многозначительный взгляд офицера, Егор кивнул. Оставив Горлика с врачом, они вышли покурить в тамбур. Марат тут же отворил специальным ключиком окно, подставил воздушному потоку опухшее лицо.
— Ну что там? — Егор промокнул кровоточащую губу платком, огладил рукой ноющий затылок. — Есть новости?
— Верно, сообразил, — Маратик невесело рассмеялся. — Кое-что действительно есть… Собственно, я не имею права этого говорить, но какие уж тут, к черту, тайны! Тем более, что дело касается твоего брата.
— Павла?
— Точно… — Марат выдержал загадочную паузу. — Думается мне, ты не из болтливых, так что, пожалуй, скажу.
Некая вопросительная интонация в его словах все же угадывалась, и Егор досадливо покривился.
— Начал, так выкладывай!
Глядя на азартно поблескивающие глаза Марата, подумал, что тот еще в сущности мальчишка. Узнал боевой секрет и горит желанием поделиться.
— Конечно, ничего пока не случилось, но пуриты — те самые из взбесившегося поезда — три дня назад перекрыли Карельский проход. Такая вот кулебяка.
— Карельский проход? — Егор нахмурился. — Это где-то рядом?
— Не просто рядом, это прямо по курсу! Вот и соображай, чем нам эта заваруха грозит.
— Признаться, не очень разбираюсь в географии мостов…
— А что тут разбираться! Если это впереди, стало быть, еще немного — и окажемся в ловушке! Все в точности как с абердинским мостом, только в более худшем варианте. Пуриты славное место выбрали. И момент — самый подходящий! От материка оказалось отрезанными более дюжины составов. Дюжины, представляешь? Это более сорока тысяч человек!
Абердинский мост, норвежские берега… Что-то знакомое засквозило в памяти Егора. Подумав, он натужно кивнул. Все верно, рассказ Ван Клебена об абердинском крушении. И про брата он что-то там мямлил… Егор вздохнул. Ни рыдать, ни изумляться он не спешил, а Марат, похоже, чего-то подобного от него ждал.
— Ну? И что нам теперь светит?
— А вот это целиком и полностью зависит от ПМ. То бишь, твоего братца. Мне сообщили, что его группу высадили неподалеку от Курумы — станционного узла, захваченного пуритами. Его и еще два отряда волонтеров. Общая численность — около двух рот.
— Не густо.
— В том-то и дело! Пуриты совсем спятили — пригрозили взрывом главного моста, а это удар по всей европейской мостовой сети. Потому и принято жесткое решение: пуритов уничтожить, при атаке бить из всех имеющихся огневых средств. Напалм, вакуумные бомбы, оружие «Кобальт» и так далее.
Егор кивнул.
— Что ж, тогда можно дышать ровно. На беспощадные дела братец мой всегда был большим охотником.
— По нашим сведениям, пуритов там не менее пяти сотен. Втрое больше, чем в отрядах добровольцев. Ты считаешь, они справятся?
— Ничуть не сомневаюсь. Павлуше и в детстве удавались все его затеи.
Марат заметно приободрился. На мятом лице его проступило ребячливое любопытство.
— Затеи? А что он такое вытворял?
Егор усмехнулся.
— Разное… Скажем, частенько давал слово поколотить вашего покорного слугу.
— Какого еще слугу? — простодушно удивился Марат.
— Да меня, кого же еще!
— И что?
— Не припомню ни единого случая, чтобы он не сдержал обещание.
Офицер непонимающе захлопал глазами. Он явно готовился услышать иное.
— Такие дела, Маратик! Если я больше не нужен, пойду отсыпаться.
Во взгляде собеседника промелькнуло удивление. Егор внутренне хмыкнул. Молодость никогда не поймет греющуюся на солнышке старость. То есть — тогда и поймет, когда сама перестанет быть молодостью, когда время, отведенное на сны, перестанет казаться потраченным напрасно.
— Устал я, Маратик. Голова раскалывается.
— Да, конечно…
— Значит, до завтра, — Егор потоптался перед дверью, как всегда забыв, в какую сторону она открывается. Рефлекторно дернул на себя и угадал.
* * *
Только сейчас полковник сумел окончательно разобраться в обстановке. Мацис со своими орлами-соколами облазил все сходящиеся к узлу ветки, и новости, которые он принес, оказались самыми неутешительными. Никто уже не сомневался, что в рядах пуритов имелись свои профессионалы военные. На подступах к Куруме Мацис обнаружил несколько искусно установленных мин. Но худшее открытие поджидало впереди. Обнаружилось, что все приузловые пути залиты светом прожекторов. Мощные потоки голубоватого сияния пробивали влажную пелену, превращая штурм в авантюру. Инфракрасные очки, имевшиеся в багаже каждого волонтера, становились совершенно ненужными. Не приходилось сомневаться, что полтысячи вооруженных до зубов гавриков легко отобьют атаку волонтеров. Даже если в числе первых пуритских шеренг окажется немало таких сосунков, как Леон. Так или иначе, но следовало всерьез поразмыслить над тактикой, и на боевом совете под растянутым тентом полковник, в прошлом излазивший немало горных кряжей, предложил альпинистский вариант. Согласно докладу Мациса взорванный обходной мост затонуть полностью не успел. На протяжении сотни метров пролетные строения прогнулись и ушли в волны, однако гигантские полусферы со стальными растяжками по-прежнему возвышались над водой. Этой-то дорожкой и намеревался воспользоваться полковник.
— По-моему, это бред! Кто рискнет двинуться по этим аркам?
— Лезть все равно придется. Всем.
— А если мост сдвинется с места и пойдет на дно?
— Мы за тем сюда и пришли, чтобы рисковать.
— Но мы окажемся на самом виду — совершенно незащищенными!
— На виду да не совсем. Пуриты не освещают взорванную эстакаду. Они тоже убеждены, что только сумасшедший двинется этой дорогой. Надеюсь, среди волонтеров наберется достаточное количество отчаянных ребят.
Рушников, полноватый майор с часто потеющей лысиной и кнопочным немужским носом, явно волновался.
— А если придет смена? Этот ваш Леон, кажется, сказал, что их вот-вот должны подменить.
— Вот и надо поторопиться. Если же подойдет смена, Леон встретит их с парой наших ребят. Сменщики отправятся следом за Бесом.
Собеседник на мгновение опустил глаза, и полковник сразу догадался, о чем пойдет речь.
— Давай, майор, смелее! Не тушуйся, как девка перед алтарем.
— Я только хотел сказать… — Майор поднял голову. — Не кажется ли вам, что пленные требуют иного обхождения?
— Нет, не кажется!
— Но мы в конце концов не варвары.
— Не знаю!
— То есть… Как это не знаете?
— А вот так. Не уверен, что ступивших на тропу войны мужчин можно величать не варварами. Война, как это ни прискорбно, диктует свою мораль и свои правила. Кроме того, дражайший майор, у нас просто нет лишних людей, дабы охранять и ублажать этих выродков.
— Однако среди них могут оказаться вполне нормальные люди.
— Могут, не спорю. Но иного выхода нет. Пуриты настроены решительно, один мост уже взорван, и запасов взрывчатки у них, судя по всему, предостаточно. Если главная эстакада Курумы взлетит на воздух, все составы, что следуют за нами, будут обречены.
— Вы сгущаете краски… Возможно, подойдут силы с материка? Я слышал, центральный сетевой штаб предпринимает какие-то меры…
— «Какие-то меры» меня не устраивают. Это во-первых! А во-вторых, не уверен, что это может что-либо изменить. — Полковник фыркнул. — Тем паче, что и в штабе мало кто знает, чего же хотят от нас господа пуриты.
— Их требования изложены во вчерашнем меморандуме…
— Брось, майор! Какие, к черту, требования? Бред сивой кобылы — этот твой меморандум! Освобождение из-под стражи главных идеологов? Так никто и никого у нас давно не держит под замком. Некого освобождать и неоткуда!.. Или ты всерьез хочешь обсуждать строительство глубоководной штольни? А кому, скажи на милость, она нужна? Конечно, пусть строят, если так приспичило, но мосты-то рвать зачем?
— Они утверждают, что на земле… — Рушников смешался. — То есть, на дне люди совладали со стихией, что на месте столиц возведены акваполисы и кое-где даже добились осушения гигантских глубинных полостей.
— Подводные пузыри, в которых выращены райские кущи? — полковник ядовито усмехнулся. — Ты на самом деле веришь во все эти россказни?
— Я только пытаюсь объективно оценивать факты. В конце концов инсайты тоже поминают о каких-то штольнях, и люди за ними идут.
— Боже мой! Какие люди?… Недозрелые сопляки и спятившие от безделья бараны? Поинтересуйся на досуге, что они вкалывают себе в вены, какие коктейли мешают в кружках, и вы поймете, о каком контингенте идет речь.
— Я интересовался. Специально запрашивал сводки. И знаете, что сказал мне один из психологов? Вполне популярно объяснил, что пуритизм в сложившихся обстоятельствах — естественное явление. Люди не выдерживают замкнутого пространства, их душит обступившая со всех сторон вода. Поэтому годится любая идеология, любой повод, чтобы вырваться наружу.
— Ностальгия по солнцу и по суше? Возможно. Пусть! Кто бы был против… — Указательный палец полковника закачался перед лицом Рушникова. — Только не за счет чужих жизней, ясно?! Желаете верить в двадцать три луны, — попутного ветра! В слоеную цивилизацию, в глаза дьявола? Пожалуйста! Но это не повод для подрыва мостов. Не повод, дражайший майор!
— Они полагают, что иными средствами внимание человечества попросту не привлечь.
— Значит, ты за то, чтобы разрешить им эту чертову штольню? — Павел Матвеевич каркающе рассмеялся. — Весело! Значит, всю наличную сталь бросим под ноги свихнувшимся юнцам, чтобы потом дружными шеренгами устремится вниз в объятия счастливцев из акваполисов. В этом суть твоего предложения?
— Не знаю… — Рушников смешался. — Разумеется, теорией должны заниматься ученые с политиками. Но мы могли бы по крайней мере обходиться с ними…
— Не столь жестоко? — полковник хрустнул кулаком. — Ты ошибаешься, Рушников! Ты сострадательный человек, и этим объясняются все твои колебания. И прости мою прямолинейность, майорские погоны тебе не к лицу. По той простой причине, что ты — не военный. Запомни, любая война — это чья-нибудь глупость, поэтому не ищи мудрости в армейских уставах. Не для того они выдумывались. Предназначение армии — сворачивать головы врагам. Безжалостно и без лишних рефлексий. Кроме того, не следует забывать, что пуритами командуют такие, как Бес, — обкурившиеся пустобрехи и неврастеники, которых хватало во все времена. Одни из них затевали войны, другие взрывали храмы и палили с небоскребов по пешеходам. Это хронические неудачники, Рушников! Изовравшиеся демагоги, энергетики, не умеющие делать ничего собственными руками. Не спорю, наверное, их тоже можно понять. Более того — их можно даже пожалеть! В конце концов все заслуживают сочувствия. И этих обормотов, вероятно, следовало изучать в каких-нибудь институтских вивариях. Только, увы, мир чуточку изменился. Ни вивариев, ни лечебниц у нас более не осталось. Пуриты впрямую посягают на человеческие жизни, на наши с вами законы. На той же курумской станции, если не ошибаюсь, они расстреляли около десятка местных операторов. Или тебя это не трогает?
— Я полагаю, это был не расстрел. Операторы оказали сопротивление…
— Правильно! Потому что они обязаны были оказать сопротивление! — прорычал полковник.
На короткое время под навесом повисло молчание. Переведя дух, Павел Матвеевич заговорил чуть спокойнее:
— Мне не нравится твое настроение, майор. Очень не нравится!
Рушников покраснел.
— Прошу прощения, господин полковник. Я не отказываюсь от выполнения приказов. Меня смущает только суровое отношение к пленным.
— У нас нет и не может быть пленных. Во всяком случае пока. — Полковник поднялся. — Все! Треп окончен. Пора браться за томагавки.
— Господин полковник!..
— Я сказал: все!.. Тебе лично могу обещать: когда операция завершится, с теми, кто попадет нам в руки, разбираться будешь ты лично. Эту честь мы, так и быть, тебе окажем.
* * *
Спокойно заснуть Егору так и не удалось. Вновь замолотили в дверь, призывно возопив к его совести, к его мужскому достоинству. Узнав голоса Горлика и Деминтаса, Егор удивленно отпер замок. С бутылками наперевес, подобно революционным, вооруженным гранатами матросикам, в купе ввалилась горланящая парочка. От Горлика можно было ожидать чего угодно, но пьяный Деминтас являл собой занимательную редкость. Вероятно, оттого и не пришлось его долго уговаривать. Пораженного Егора взяли голыми руками, без единого выстрела.
Уже через десять минут они сидели за столом и сумрачно опустошали винный запас.
— К чему беречься? — горячечно бормотал Деминтас. — Все равно помрем. Жорик вон берегся, а теперь валяется с сотрясом. Спрашивается, зачем, для чего?…
— Но он оклемается?
— Конечно, оклемается! Что ему сделается? Только все равно ведь ненадолго. Как себя ни обманывай, как ни выпячивай грудку, — от судьбы не уйдешь. Только она, голуба, и знает наше точное предназначение! Всех приберет! Рано или позно спустит на корм акулам!
— Не надо про акул, Деминтас!
— Нет, надо! И именно про акул! Люди привыкли беречься, зачем?… Я вот врач, а спросите меня, какого рожна я занимаюсь медициной — и вряд ли сумею ответить.
— Как это не сумеешь? Ты клятву, к примеру, давал! Этому, как его?… Гиппократу.
— Ничего я ему не давал! Ни в долг, ни взаймы! — Деминтас вскинул голову. — Кто он вообще этот Гиппократ? Родственник с Соломоновых островов? Папа или дядя?… Да вы спросите любого студентика, и обнаружится, что ни черташеньки мы о нем не знаем. Древний грек, увлеченный натурфилософией — и все! А он, к вашему сведению, лечил то, за что мы и сейчас не возьмемся. Потому что — слабо! Теодор Морель, личный врач фюрера, не мог вылечить Гитлера от банального сифилиса! И это в двадцатом просвещенном веке! Давал ему чуть ли не до трех десятков лекарств одновременно! Даже непонятно, как при таком варварском лечении фюрер протянул до последнего года войны! А Гиппократ, к вашему сведению, без всякого пеницилина брался за самое страшное и побеждал. Потому что морил голодом пациентов и тем самым к таинству духа приобщал! Дико? А вот хренушки! Оказывается, абсолютно разумный подход. Это мы с вами не умели лечить и не умеем. Настроили хосписов — этих символов человеческого бессилия, придумали клятву идиотскую… Будто в ней все дело! Гиппократ-то не клялся — просто лечил и думал! Башкой, милые мои! Мозгами и сердцем!
— А вы почему не лечите?
— Потому что тупицы и снобы! Потому что эгоисты до корней волос!
— Причем тут эгоизм?
— Да при том, что вся суть нашего первейшего лекарства кроется в эгоизме! Зарядка, диеты, кросс по лужайкам — все красивые словеса и голимый эгоизм на деле! Ибо нет жертвенности, — нет и главного.
— Разве в здоровом теле не здоровый дух? — поддел его Егор.
Деминтас шумно высморкался в пятнистый платок, этим же платком протер запотевшие очки, и неожиданно проясневшие глаза доктора показались Егору совершенно трезвыми. С иными умниками такое и впрямь случается. Ноги кренделя выписывают, руки не гнутся, а голова, как ни странно, работает — возможно, даже яснее прежнего.
— Года три-четыре назад я бы запросто ответил на ваш вопрос. Раньше я все про все знал…
— Говори ему «ты»! — разобиделся Горлик. — Чего мы как неродные! Я, к примеру, тебе тычу и ему тычу, значит и вам надо между собой тыкать. Логично? По-моему, да.
— А по-моему, нет!
— Почему?
— Потому что свыкнуться — это не тыкнуться.
— Вы отвлеклись, — напомнил Егор.
— Чепуха! — Деминтас беспечно отмахнулся. — О чем ни говори, все пути ведут в Рим. Раньше толковали о женщинах, теперь о смерти. Вот и я говорю, что отношение к истинам меняется. Смешно, правда? Истины не меняются, а наше к ним отношение меняется. Бродим вокруг дуба, трогаем его за златую цепь, за разные там ветки и делаем выводы. Как те слепцы, что ощупывали слона. Мда… — Врач встряхнулся. — Так вот, дорогие мои! Сначала природные факторы заболеваний вытеснялись техногенными, и только под самый занавес вдруг выяснилось, что мы попросту эволюционировали до понимания космического фактора — то бишь не радиации с ультрафиолетом, а фактора Божественного. Бердяев писал об этом два столетия назад, а до господ жирафов дошло только сейчас. Можете кричать «ура», но мне почему-то не хочется.
— Эволюция, к примеру, — явление естественное! — Горлик разлил вино по стаканам. — Даже мы с Егором… Вообще вся наша пишущая братия, включая того же Путятина, доперла! Нет, мы, конечно, не Бердяевы, но только вообразите на минуту, если бы мы все кропали об одном и том же! Можете себе такое представить?
— А вы и так кропаете об одном и том же.
— Как это?
— Да очень просто. Все те же ветки одного и того же дуба. Только кто-то желуди рвет, кто-то в дупло заглядывает, а кто-то лопатой к корням подкапывается, — Деминтас хохотнул. — Это уж кому что легче дается.
— Я, к примеру, не согласен!.. — Горлик готов был поспорить, но Егор, поморщившись, тронул его за рукав.
— Ты бы не перебивал, лады? — Егор не требовал, просил. Ему и впрямь интереснее было послушать Деминтаса. Не каждый день тот разражался подобными монологами, а все, что мог сказать по тому или иному поводу Горлик, Егор знал наперед.
— Продолжайте, Деминтас.
— Да продолжать-то, собственно, нечего. Просто раньше я верил в жизнь. Верил и вечно чего-то ждал. Что вот, мол, грянет блистательное завтра, и человечество враз преобразится. Либо люди прозреют, либо объявится некое знание, от которого пусть не всем, но многим станет легче. Под этим углом и рассматривал все сущее. Даже торсионными полями пытался заниматься, в физические клубы записывался. Не потому что очень любил физику, — потому что постоянно ждал глобального обновления. В природе, в сознании, всюду… А торсионные поля и впрямь казались вещью увлекательнейшей! Уже только потому, что переворачивали все с ног на голову. Ну, да вы слышали, наверное.
— Не слышал, — Егор покачал головой.
— Тогда совсем коротко… Про гравитационные поля и электромагнитные вы знаете. Первые порождаются массой объекта, вторые — зарядом. Так вот торсионные поля наводятся спином или угловым моментом вращения…
— Ты еще кориолесово ускорение вспомни! — гоготнул Горлик. — С детства не любил «термех».
— Эта не «термех», это другое. Начни человечество этим заниматься, как знать, возможно, и не было бы всей этой водяной свистопляски. Топливная энергетика, электромагнетизм, фармакология — все было бы иным.
— Так уж и иным?
— Качественно иным! Не вы первые иронизируете по этому поводу. Нильс Бор в свое время не верил в практическое применение атомной энергии, а Герц полагал нереальной дистанционную связь с помощью электромагнитных волн. Даже Эйнштейн еще за десять лет до появления атомной бомбы считал абсолютно невозможным создание ядерного оружия. А уж сколько ушатов грязи вылили на головы апологетов экстрасенсорики!
— Так твои торсионные поля — что-то вроде телепатии?
— Тьфу ты! — Деминтас и впрямь сплюнул. Досадливо пробормотал: — Мы генерируем тепло, злобу и глупость. Третье тоже, к сожалению, передается с помощью торсионного излучения.
— Я и толкую: телепатия!
Деминтас повернулся к Егору.
— Меня-то, честно говоря, на первых порах интересовала возможность перезаписи лекарств на экологически чистые носители. И даже не лекарств, а этакого субстрата здоровья.
— Бррр!.. — Горлик помотал головой. — Не понимаю.
Деминтас по-прежнему на него не глядел, обращаясь главным образом к Егору.
— В качестве иллюстрации — простейший опыт Фолля. Две пробирки с намотанным на них медным проводом. В одной лекарственный раствор, в другой дистиллированная вода. Если исключить влияние чужеродных магнитных полей, то спустя энное время лечебные свойства передадутся обычной воде. Вот вам и решение проблем химического зашлаковывания человека!
— Так просто?
— Вовсе нет. Я привел самое удобоваримое и наглядное… — Деминтас вздохнул. — В качестве носителей здоровой и нездоровой информации могут выступать самые разные субстанции — от еды и питья до одежды и авторучек. Интересная книга, прочитанная трижды или четырежды, доставляет большее наслаждение, ибо несет на себе торсионный заряд восторга предыдущих читателей.
— А иконы, литье, другие предметы искусства?
Деминтас многозначительно шевельнул бровями.
— Все то же самое. Эффект любого кумира кроется в том же торсионном шлейфе, что подпитывается энергией поклонников. Мы воспринимаем не образ, а ореол. Человек умирает, его нет, но мы и тогда поклоняемся праху. На самом же деле — не праху, а торсионному призраку, что живет до тех пор, пока жив хоть один фанат и последователь кумира. В общем, с какого конца ни зайди, тема — благодатнейшая! С лихвой хватило бы на весь грядущий век. Но, увы, не успели. Даже торсионные двигатели, которыми намеревались оборудовать все поднятые на мосты локомотивы, в конце концов так и оставили на земле. Не решились рисковать, а доводить до ума опытные образцы было уже некогда. Трубы Иерихона протрубили отбой, и с тех самых пор… С тех самых пор, милые мои, занимать меня стала одна-единственная тема — тема смерти!
Егор поневоле припомнил свою недавнюю игру с револьвером и опустил глаза.
— Вы превратились в пессимиста?
— Ничего подобного! Просто я собрался с духом и вознамерился взглянуть на наш развеселый дуб сверху. Или снизу, — это уж как пожелаете. Надоело, знаете ли, ходить вокруг да около точно пушкинскому коту! Дайте мне точку опоры, говаривал Архимед, — вот и я жажду подобной точки, тем более, что точка такая имеется. Смерть! Да, да! Именно смерть — та площадка, с которой многое можно увидеть и понять. Надо только взойти на нее. Хотя бы умозрительно. И тогда изменится все разом. Даже болезни! Потому как и они — наша исконная неизбежность, то, во что нужно всматриваться с уважением и вниманием. Не лечить и выкорчевывать, а воспринимать, как стимул и помощь в постижении мира.
— Уважение к болезням?
— Верно! Болезнь — кара и наказание, болезнь — опыт и подсказка. Нечто нашептывает нам на ухо, и все, что от нас требуется, это насторожиться и прислушаться. Чего, казалось бы, проще! Но нет, мы глотаем антибиотики, режем опухоли, сбиваем температуру, не понимая того, что в иных случаях болезнь — дар, которого мы просто пока не в состоянии оценить. Готовность к торсионному перебросу в иное состояние. Сытый голодного не разумеет, как здоровый больного. Один лишь шажочек в этом загадочном направлении, всего один! — и занавес начнет подыматься! Потому что мертвые знают то, что недоступно живым… — глаза Деминтаса горели лихорадочным огнем. — Не ждите того дня, когда прекратятся ваши страдания, ибо это будет днем вашей смерти, — говаривал Теннесси Уильямс. Красиво? — да! Но верно ли? День смерти — великий день! Ради него мы живем и мучимся несколько десятилетий, ему посвящаем всю свою жизнь. Толстой очень точно приблизился к описанию смерти на примере Болконского. Это и впрямь час, когда земное отступает в сторону, становится чужим. Глупец оказывается один на один с самим собой, мудрец напротив прозревает, краем уха и краем глаза видя и слыша приближение того извечного и великого, что ждет нас всех за чертой последнего вздоха. Ибо там все! И свет, и знание, и любовь. Сколько раз мы являемся в этот мир? Что такое наше видимое тело, и существует ли что-либо помимо него? Что вечно, а что умирает через девять и через сорок дней? И умирает ли вообще? Может, попросту улетает? Сначала от тела, а потом от планеты? Не зря ведь люди вспоминают под гипнозом о прошлых веках, о времени, проведенном в леопардовой или волчьей шкуре, о прохладе морских глубин, о высотах, в которых они порхали с легкостью лесных пичуг…
— Лес! — вздохнул Горлик. — Знали бы вы, господа, как я тоскую, к примеру, о лесе. Шелестящая листва, звон мошкары, солнце! Вдвоем с сестрой мы убегали доить березы. Напивались сока до такой степени, что животы барабанами раздувало. Черт подери! Почему все так закончилось?
— Потому что детство, Горлик, всегда проходит. Это одна из земных аксиом! — Деминтас был недоволен, что его перебили. — Времечко, когда деревья были большими, а яблоки казались величиной с глобус. Детство подобно той же воде. Было — и нет, утекло. Иные пропускают его меж пальцев, другие выпивают в пару глотков.
— Наверное, я его выпил, — с печалью вымолвил Горлик. — Потому что помню все до денечка. Оно где-то тут — над желудком…
На какое-то время за столом повисло молчание. Собеседники осмысливали сказанное, пробовали слова на вкус. Каждый погрузился в свое. Горлик убегал мыслями к березовому соку, Егор отчего-то вспоминал свои детские прыжки с подскоком. Мальчишеское тело легко преодолевало земную гравитацию, требовало вычурных движений, словно и впрямь одна из прошлых жизней была заполнена конским галопом. Отдыхая на даче у бабушки, Егор любил бегать по лесным склонам, взлетая иногда на немыслимую высоту. Мгновения стремительного переноса по воздуху впечатались в память накрепко.
— Словом… — Деминтас оглядел собеседников мутным взором. — Здоровое тело — это только здоровое тело и ничего больше! Оно может радовать дух, но с тем же успехом может угнетать и расслаблять. Последнее, кстати, случается значительно чаще.
— Вы против здоровья?
— Вовсе нет. Безусловно, тело — вещь приятная во многих отношениях, однако второстепенность его очевидна. — Деминтас отхлебнул из бокала и отчаянно поморщился. Он словно специально отравлял себя, дабы стимулировать высвобождение от яда потоком откровенных и потому особо жалящих слов. — Очевидна, если в шеренге приоритетов мы поставим смерть на свое законное первое место.
— Первое? По-моему, это чересчур, — подал голос Горлик. — Я понимаю, чудовищная загадка, величие темного покрова и все такое, но коли уж мы явлены этому свету, зачем думать о смерти? Надо, наверное, как-то жить.
— Давайте! — легко согласился Деминтас. — Только сразу возникает вопрос: для чего жить? Для какого такого мифического результата?
— Как это для какого?
— Вы ни разу не задумывались о смысле жизни?
— Отчего же? Разумеется, задумывался! Все-таки я писатель, в некотором роде был попросту обязан…
Глаза Деминтаса полыхнули парой орудийных выстрелов. На мгновение он напомнил Егору кобру с раздувшимся капюшоном.
— Так для чего же мы живем, голубчик?
— Ну… Вероятно, для восприятия красоты, для того, чтобы помогать ближним, делать их чище, мудрее.
— Кто же спорит! — Деминтас скривился. — Но для чего все это?
— Что для чего?
— Я спрашиваю, для чего помогать и зачем восхищаться? В чем ваш конкретный смысл?
— Ммм… Честно говоря, так вот сразу я не готов. — Горлик бросил взгляд на Егора, и последний, помешкав, протянул коллеге руку помощи.
— Вы хотите сказать, что все наши лучшие деяния — только ступеньки перед пъедесталом? Своего рода — разминка перед главным?
— Точно! — Деминтас кивнул. — И этот пъедестал, господа, — наше главное событие жизни. Ее терновый венец и чарующий финиш! Уйти более лучшим, чем ты пришел, или, как уверял братец Шиллер: когда явился ты на Божий свет, ты плакал, но другие ликовали; живи же так, чтоб уходя из мира, другие плакали, а ты спокоен был.
— Сафо говорил иначе: «Если бы смерть была благом — боги не были бы бессмертны.»
— Сафо был варваром, хотя и умным. Тот же Плутарх утверждал другое. Дескать, медицина заставляет нас умирать продолжительнее и мучительнее. Красиво, да? И это уже про меня, понимаете? В мой огород камушек! — Деминтас яростно ткнул себя в грудь. — Я-то помню, как нас учили лечить. По трупам шагали! Ставим, к примеру, укольчик бедному орангутангу и выжигаем из гипоталамуса осморецепторы. Занятная процедура, правда? Сто очкастых рыл собирается вокруг и смотрит. Потому что действительно есть, на что полюбоваться. Знаете, как ведет себя после такой операции собрат-обезьянин? А ведет он себя преинтереснейше! Он не ощущает ни голода, ни жажды, не пьет и не ест, хотя, разумеется, нуждается в этом. А мы кропаем в блокнотики и говорим: ага, понятно! Дескать, вот он, падла, научный анализ! Знания через чужую боль и кровь.
— Что ты, к примеру, хочешь этим сказать?
— Ничего, — Деминтас покачал головой. — Только то, что медицина и впрямь заставляет нас умирать продолжительнее и мучительнее. Сказано, что называется, не в бровь, а в глаз!
— Любите цитаты?
— Как раз нет. Но если не слушают тебя, отчего не привести в пример какого-нибудь Софокла с Гераклитом. Торсионные призраки тем и сильны, что их уже нет. И, увы, мало кого интересует, что зачастую для изречения тех или иных истин вполне достает собственного ума.
— Вы действительно так полагаете?
Деминтас остро взглянул в глаза Егору и неожиданно рассмеялся.
— Пожалуй, я рад, что вы такой, какой вы есть.
— Хотите сказать, что я не дурак?
— Выражаясь проще — да. Видите ли, общение с дураками расслабляет. Возникает ложное ощущение собственной значимости, а я этого не люблю. Поэтому рад любому умному собеседнику. В настоящее время — вам.
— Еще бы! У Егора три литературных премии, — горячо заговорил Горлик. — Пятнадцать книг и серия журнальных публикаций.
— Пятнадцать книг? Это, верно, килограммов десять? Что ж, впечатляет… — продолжая улыбаться, Деминтас протянул руку к непочатой бутылке, сковырнув пробку, аккуратно разлил вино.
— Ну-с, мсье Егор. За ваши публикации и книги, которые никто и никогда уже не прочтет. Кстати, за ваши, Горлик, тоже!
Егор согласно кивнул, Горлик тоненько хихикнул. Спевка, судя по всему, состоялась. За куплетом наступала очередь припева.
* * *
Дважды налетали разрозненные стаи мышей, но от них отмахивались, как от докучливой мошкары. Только ворчуну сержанту маленькие коготки располосовали ухо и оцарапали щеку, в остальном обошлось без потерь. Фонари все-таки пришлось включить. В целях безопасности. До позиций пуритов было далековато, а вот волны бушевали совсем рядышком. Полковник справедливо рассудил, что добровольцев переться в полной темноте по притопленным сферам можно и не найти. Правда, обнаружился другой коварный минус: в свете фонарей в прозрачной глубине под ногами тотчас замелькали мощные черные тела. То ли мелькали они там постоянно, то ли хищников привлекло сияние ламп. Так или иначе, но людишки попятились.
— Мать честная! Сколько их там!
— Да уж… Не хотел бы я подскользнуться.
— Типун тебе на язык!..
— Разговорчики! — полковник первым шагнул вперед. — Тут и ползти всего ничего, а эти дуры, если не трепыхаться, не кинутся. В общем проверить обвязку — и за мной!
Не очень-то он верил в то, что говорил, но, кажется, подействовало. Вниз старались не смотреть, цеплялись за скользкие поручни, животами приникали к металлу, усеянному пупырьем заклепок. Павел Матвеевич, оглядываясь, видел, что пошли все. Значит, действительно отобрали кого следовало. Мимолетно подумалось, что не мешало бы захватить с собой несговорчивого майора. Чтобы растряс жирок, пацифист задрипанный, да вкусил почем фунт лиха! Полковник смутно подозревал, что из-за таких вот в сущности неплохих людей и затевались на земле самые страшные смуты. Ржавые доброхоты, болтуны и пентюхи, понятия не имеющие о реалиях! Конечно же, человечество — не стадо, и, конечно же, имеет ценность каждая отдельно взятая жизнь, все правильно и понятно до оскомины, да только предназначены сии правила вовсе не для тех, кто стоит у кормила. Если президент перестает быть тираном и впадает в Достоевщину, если забывает о технике дрессуры и выпускает из рук кнут, то гнать и гнать надобно такого в три шеи. Потому что наломает дров похлеще любого дуче и фюрера. Сначала ринется в конверсию, потом вляпается в войну, затем передерется с собственным разобиженным народом и вовсе опустит руки. Дескать, хотел, как лучше, ребята! Правда, хотел!.. Павел Матвеевич фыркнул. Мысленным диалогом он сознательно ярил себя, синтезировал мужество, которое убывало по мере того, как росла высота. Сферы заметно раскачивало, дождь хлестал по глазам, холодеющие пальцы все чаще соскальзывали с поручней. И это только начало! Дальше пойдет хуже. Стальная дуга достигнет пика и станет клониться к воде, а метров семь-восемь придется и вовсе плыть. Пустяки, конечно, но кто-нибудь обязательно дрогнет. Ну никак без этого не обойдется! Значит, что? Значит, придется стрелять. Для того и навинчен глушитель. При удачном стечении обстоятельств — по акулам, при неудачном…
Полковник повернул голову, рассматривая ползущую за ним вереницу людей, еще раз от души обругал Рушникова. Ведь не дурак, кажется! Изучал, верно, историю, периоды смут и революций, а поди ж ты! Так и не понял, курдюк жалостливый, что ни одному из доброхотов так и не удалось превратить землю в централизованный Эдем. В кладбище, в гигантскую свалку — это пожалуйста, но никогда в нечто приближенное к райским кущам! И ведь всегда в избытке находились разномастные пророки. Вещали, кликушествовали до потери пульса. Так ли уж сложно было прислушаться? Кажется, отец Авель предсказал некогда взятие Москвы, ее последующее сожжение. Что же с ним сделали после этого? Медовыми пряниками накормили, деньгами одарили? Фига-с два! Взяли и заточили в тюрьму. Уже потом, когда все сбылось, старца расковали и отпустили. Но опять же с непременным условием — молчать в тряпочку и не трепать языком попусту. А он и не трепал, пытался помочь, как мог. И конечно, сохранились кое-какие письмена, кое-какие протоколы. На досуге венценосцы их рассеянно листали. Выводы вряд ли делали правильные, но любопытство проявляли…
Позади коротко вскрикнули. Полковник обернулся. Над черной пропастью червяком извивался человек. Руки его елозили по тонкой веревке, еще двое пыхтели на мокром металле и, кажется, даже не делали попыток вытянуть приятеля. Лежали, вцепившись в поручни, испуганно сопели.
— Кого ждем! — приглушенно рыкнул полковник. — А ну сдвинулись плотнее! Ручками взялись друг за дружку и потащили…
Никто никого не потащил. Один из лежащих сделал попытку дернуть за трос, но сам чуть было не сверзился следом. Павел Матвеевич прикусил губу. Вот и первое наказание за «светлые» мысли! Веревочной лестницы нет, и яснее ясного, что процедура спасения грозит всерьез затянуться. Придется ползти назад, попарно группировать людей, впрягаться в веревку. Да при такой тесноте кто-нибудь снова обязательно соскользнет. Это уж как пить дать! И плакала операция горючими слезками!..
С каменеющим лицом полковник выдернул из-за пазухи пистолет. Все, что можно сделать для бедолаги, это прикончить его прежде чем он упадет в воду. Он тщательно прицелился.
Хлопок, наверное, даже не услышали. Для верности полковник выстрелил еще раз. Тело внизу дернулось и обмякло.
— Режьте трос!
Они глядели на него со страхом.
— Режьте, я сказал!
Кто-то наконец достал нож. Лопнула одна нить, вторая, убитый волонтер кулем полетел в воду. Павлу Матвеевичу почудилось, что к бойцу метнулись со всех сторон тени, но такие вещи лучше не разглядывать в подробностях.
— Чего уставились! А ну, вперед!..
Бойцы зашевелились. Может, даже чересчур суетливо. Порции адреналина, впрыснутые в кровь, сделали свое дело. Одним махом одолели первую сферу, ход замедлили только у самой воды. Но он и здесь не позволил им остыть.
— Слушайте и запоминайте, парни! Так сразу на людей они не кидается! — внушающе произнес он. — Это вам не летучие мыши. Будете бразгаться, конечно, дождетесь. Но если быстро и без шума, все обойдется. Если что, буду прикрывать. Возьмите в руки ножи, но просто так не махайтесь. Еще чего доброго порежете друг дружку.
Он говорил и видел, как бледнеют их лица. В этой полумгле они становились похожими на покойников.
— Короче! Делайте, как я, и ни о чем не думайте, — Павел Матвеевич осторожно сполз в волны, ногами переступая по железу, сделал несколько шагов. С особой ясностью вдруг ощутил, что на вершок влево и вправо опоры нет, а есть лишь пугающая, взятая под контроль хищниками бездна.
Когда вода дошла до груди, полковник толкнулся вперед и поплыл. Стараясь дышать ровно, не делая лишних взмахов, сплюнул, проникшую в рот соль океана. Десятки глаз неотрывно следили за ним. Впрочем, не только следили. Самые умные уже догадались, что первые рискуют меньше. Гиревик Коляныч и Мацис уже плыли следом. Почти одновременно все трое добрались до выныривающей из воды сферы, проворно перебирая гнутые прутья, взобрались наверх. Разведчикам полковник кивнул вперед.
— Давайте, орелики, двигайте! Все по старой программе…
Еще двое храбрецов осторожно пересекли водное пространство. За ними, по-собачьи гребя, тронулся Адам. Видно было, что плавает он абы как, но тоже уразумел изюминку ситуации, сообразил, что медлить опасно.
Господи, только бы обошлось!..
Держа перед собой пистолет с глушителем, полковник бдительно всматривался в волны. Пока вроде чисто. В темноте, правда, особенно и не разглядишь, чисто там или нет, но без света хоть какие-то шансы… Где-то слева проплыл треугольный плавник, полковник немедленно напрягся. Нет, кажется, бойцы ничего не заметили. Правда, сработала иная пружина. Разглядев, что еще трое вполне благополучно миновали опасную водную полосу, вниз сыпанули всей толпой. С плеском, с бранным перешептыванием. Теперь спешили обогнать друг дружку, добраться до спасительных поручней прежде других. Работал инстинкт самосохранения. Павел Матвеевич, сцепив зубы, смотрел вниз и ждал неизбежной атаки. Возможно, все обошлось бы, сумей они с той же одновременностью выползти на стальную дугу моста, однако внизу образовалось подобие пробки. Цеплялись сразу по двое и по трое, конечно, не удерживались, срывались вниз.
— Не плескаться, болваны! Кому говорю!..
Никто его не услышал. С таким же успехом можно было обращаться к акулам. Последние, кстати, уже нарисовались вблизи вполне явственно. Прищуренный взор Павла Матвеевича все чаще ловил справа и слева проблески стремительных силуэтов. Но и стрелять пока не хотелось. Черт его знает, как они себя поведут. Хлынет кровь, совсем обезумеют. Словом, не вышло бы хуже…
Но хуже все-таки вышло. Сдавленно заверещал один из бойцов и тут же скрылся под водой. Плеснул серповидный хвост, и одну за другой Павел Матвеевич влепил три пули в широкую черную спину. Хищницу изогнуло дугой, не переставая содрогаться, она ввинтилась шурупом в чернильную глубь. Еще одна пасть показалась вблизи толкущихся внизу волонтеров, рука полковника сработала рефлекторно. Он даже не целился, но выстрелы не пропали даром. Все пули угодили в зев акулы. Захлопнув пасть, она вильнула в сторону.
— Быстрей, соколики! Быстрей! — пропустив мимо себя мокрого и дрожащего солдатика, Павел Матвеевич заглянул под мост. Здесь выписывали кренделя сразу две морских террористки. Полковник дважды даванул спуск, и почти тотчас щелкнул в крайнем положении затвор. Следовало сменить обойму, но помешал очередной солдатик. Плечом неловко боднул скрюченного полковника, и обойма, кувыркаясь, полетела вниз. Ладно, хоть сам не сорвался. Однако на то, чтобы достать запасную обойму, ушли драгоценные секунды. Еще несколько выстрелов, гигантская тень, взметнув каскад брызг, метнулась в сторону.
— Все?
— Кажется, все… — Последний из выбравшихся нервно припал грудью к клепанному железу, плачуще засмеялся. — Фиму сжевали, Злотницкого…
— Кто еще?
— Не знаю. Пойди разбери в темноте.
— Ладно, потом посчитаем, — полковник неловко хлопнул бойца по плечу. — Давай, паря, соберись. Немного осталось. Совсем чуток.
Безусый волонтер часто закивал головой, ладонью шоркнул по глазам. То ли воду стирал, то ли и впрямь плакал.
* * *
Маратик все-таки уговорил их посмотреть пушку. Через сторожевой люк все четверо вылезли наружу и тотчас ослепли от хлещущих отовсюду струй. Поездные прожекторы полосовали тьму, лишь усиливая ощущение одинокости и потерянности.
— Идет ковчег, качается, вздыхает на ходу! — Деминтас пьяно засмеялся. — Это ведь про нас, а? Поезд Ноя, ковчег из двух с лишним сотен вагонов.
— А вон и пушка, про которую я толковал. — Марат указал пальцем. Метрах в сорока впереди действительно матово поблескивала орудийная башня. Указующий перст пушки понуро глядел под углом вниз, словно наперед информируя о капитуляции перед силами стихии. А вообще странное это было видение — череда пассажирских вагонов и бронированный сундук с самым настоящим орудием.
— Может, подобраться да стрельнуть?
— Куда стрельнуть?
— Да хоть по той же Луне!
— Ага, размечтался!
— Мы только парочку раз, к примеру!
— А потом под трибунал сбегаете. Тоже парочку раз.
— Почему — парочку?
— Потому что вас двое.
Горлик с вызовом захохотал.
— Во-первых, нас трое. Деминтас, думаю, тоже непрочь побабахать. А во-вторых, что нам твой трибунал сделает? Под домашний арест посадит? Так мы и без того, к примеру, все под домашним арестом. И даже если закуют в кандалы, будем заниматься тем же, чем занимались. Мы, Маратик, на более страшное обречены.
— Это на что же?
— А вот на то самое! И Егор, и Путятин, и я — все мы вынуждены сочинять то, что уже никогда и никому не понадобится. Это еще хуже, чем в стол.
— Так вы не сочиняйте, беда какая!
— Дурила, мы иначе не можем…
Егор хотел было сказать, что Горлик порет ерунду и банальщину, что все они на самом деле вполне могут и только прикидываются этакой страдающей богемой, но мысль пружинисто толкнулась от черепной коробки, совершив странный кульбит. Банальное и впрямь было правдой. Он подумал, что действительно ничего иного они уже не могут. Не умеют, не хотят и не будут делать, даже если их перестанут кормить и поить. Воистину человек — ленивое существо. Пожалуй, одной-единственной профессии его только и можно выучить к тридцати годам. А дальше бег по инерции, все равно как у этого многовагонного ковчега, — сугубо по рельсам, не делая ни единого движения вправо и влево. Не зря кто-то из великих съязвил: все, что человек хочет, непременно сбудется, а если не сбудется, то и желания не было, а если сбудется не то — разочарование только кажущееся: сбылось именно то… Остро сказано. Точно. Как перочинный нож, всаженный меж ребер. Прочувствуешь обязательно, а вот выдернешь ли?
Точно выставленную посудину, дождь заливал их по горлышко, делая одежду тяжелой и мерзкой, сковывая по рукам и ногам, заставляя пить и глотать вездесущую воду. Но все было на благо. Им хотелось бороться, и они боролись. С окружающим мраком, с собственными, превратившимися в вериги костюмами, с шаткостью бронированной почвы под ногами.
— Дождина козлячий! — ругался Марат. — Откуда ты только взялся!
— Это наша целина и гекуба! — с пафосом цедил Горлик. Обратив мокрое лицо к Егору, лихорадочно шептал: — За всю свою жизнь я не соблазнил ни одной женщины! Ни одной! Я всего лишь следовал их желаниям, ты понимаешь?
Егор энергично кивал.
— Стоило им, к примеру, хоть раз намекнуть на желаемое мое отсутствие, и я тотчас испарялся. То есть, может, им этого и не очень хотелось, они же любят поиграть в кошки-мышки, да только я, к примеру, подобных натюрмортов не приемлю! — Горлик потрясал рукой. — Мною всегда, к примеру, повелевал разум. Всегда и всюду!
— Отчего же у них все иначе?
— Да потому что они, Егорша, притворяются. Давно подмечено! Сам рассуди, было бы от чего там охать и ахать! Но ведь ахают! Стонут, понимаешь, ногтями спину раздирают! Спрашивается, для чего?
— Считаешь, притворяются?
— Все без исключения!.. Вот, к примеру, я! Обычное, казалось бы, существо, но с половым трепетом всегда расправлялся без труда. Делал этакое волевое усилие — и преодолевал. Все, думаешь, почему?
— Почему?
— Потому что оставался прежде всего человеком!
— Болваном ты был, а не человеком! — пробасил Деминтас. — Неужели можно всерьез изрекать подобные глупости? Стоите тут под дождем, взираете на вселенную свысока и бормочете вздор… Вон Маратик — и тот умнее вас.
— Почему это умнее!
— Потому что даже Достоевский собирался писать продолжение «Карамазовых»!
— Не понимаю… Причем здесь «Карамазовы»?
— А при том! — Мефистофелем захохотал Деминтас. — При том, мой дорогой Горлик, что ангелочка Лешеньку он хотел превратить в революционера-террориста. И это не блажь писателя, не сиюминутный каприз. Как всякий настоящий провидец, он только хотел констатировать факт. Вчерашние грешники — это сегодняшние монахи-затворники и завтрашние террористы-фанатики. Такая вот психоделическая эволюция. И коли вы пишите, вы тоже обязаны быть провидцами!..
— Луна! — испуганно выкрикнул Горлик. Рука его взметнулась вверх. — Синяя Луна!
Все четверо задрали головы.
— Говорят, — задышал Деминтас в ухо Егору, — с орбитальных станций можно видеть не семь Лун, а одну-единственную. И наша Земля выглядит оттуда совершенно иной.
— С орбитальных станций? Да ведь там все давно погибли!
— Это официальная версия. Потому как связь пропала, а сообщения в последнее время поступали такие, что впору было за голову хвататься. Но только это не сбредивший бортовой кибер, уверяю вас! Астронавты живы. Молчать-то они молчат, но живы. С чего им погибать? Резерва солнечных батарей еще лет на двадцать должно хватить, жратва — сугубо синтетическая, плюс парниковый урожай. Конечно, удобно предполагать, что все там давно спятили от затянувшейся невесомости, только я лично в этом крепко сомневаюсь. Здесь спятить проще, однако живем! На Луну вот эту сволочную глядим, даже смеемся…
Егор взглянул на Деминтаса и содрогнулся. Вместо близкого лица он разглядел желтый костистый череп. Нижняя челюсть его шевелилась, словно пережевывала что-то невидимое, и странным было слышать речь доктора — четкую, вполне связную. Черепа не должны разговаривать, однако Егор воочию наблюдал иное.
Стайка летучих мышей спикировала вниз, но неудачно. Вагон пролетел мимо, — на скорости крылатым тварям трудно было атаковать. Неровная цепь костистых трупиков, промахнувшись, уплыла вдаль.
— А-а!.. — пьяный скелетик Марата покатился по крыше вагона. Запрокинувшись на спину, охранник угрожающе задрал ствол автомата. Кажется, закричал и Горлик. Костлявыми фалангами обхватив себя за плечи, великий компилятор чужих романов присел рядом с Маратом. Громыхнула очередь, и трассирующая нить понеслась в ночной небосвод. Сверкающий пунктир бил в водную мглу, быстро теряясь из виду. Марат жал и жал на спуск. Егору стало казаться, что автоматные пули дырявят и без того ветхие тучи, отчего дождь становится гуще и гуще. Впрочем, сейчас его занимало иное. Обхватив рукой шею Деминтаса, он вместе со всеми надрывался в крике. Мысли ушли, выбитые синими жутковатыми лучами. Небеса рентгеном прошивали их насквозь, пытались запугать. Четверо выбравшихся на крышу топорщились, потрясая кулаками, отвечая небесам бранью. Стоять на крыше несущегося вагона было непросто, но они балансировали руками и продолжали валять дурака. Совершенно оглохший Горлик опустился на четвереньки, мертвой хваткой вцепился в трубу вентиляционного поддува. Патроны у Марата кончились, тишина обволокла черной ватой, попутно укутала жутковатый зрак Луны. Наваждение прошло, люди снова стали людьми.
— Я беллетрист! — сипло выкрикнул Горлик. Откашлявшись, повторил: — Я жалкий никчемный беллетрист!
— Все в жизни беллетристика! — горько успокоил его Деминтас. — Абсолютно все. Умные молчат, глупые спорят. В споре рождается то, в чем не нуждается настоящий ум. Оттого накануне страшного Бог всегда прибирает самых лучших и самых достойных.
— А мы остались, — невесело отозвался Егор.
— Правильно. Все художники — либо мученики, либо откровенные дети.
— А графоманы?
— Графоманы — вообще не художники.
Егор захохотал.
— А мы ведь и есть графоманы! Горлик, я, Путятин! Три дряхлых вагона с дымящими буксами.
— Иногда полезно и подымить! Толстой говаривал, что сначала должна быть энергия заблуждения. Юношеский максимализм — плодовитая штука. Без него нет и не может быть ни жизни, ни роста!
— Но далее по тому же Толстому должна идти энергия стыда! — возразил Егор. — А у кого она есть?
— У меня есть, у тебя… Вон Горлик плачет, значит, и у него есть. И вот когда эти два верблюжьих горба преодолены, тогда начинается энергия постижения…
Врач не договорил, потому что именно в этот момент Марат перезарядил автомат и с диким воплем, в который немедленно тонкой нотой вплелся визг Горлика, ударил очередью вверх. На этот раз пули рассыпались густым веером, и на миг оглохшим пассажирам почудилось, будто с поездом вместе — среди дождя и бушующих внизу волн плывет фонтанирующий огненный кит. Деминтас вскинул голову, глазами впитывая в себя грохочущий фейерверк. Отраженные искры заплясали в его черных зрачках.
— Мы Манкурты, Егор! — яростно выдохнул он. — Вместо энергии стыда синтезируем энергию разрушения.
— Что поделать, нас стало слишком много. Бредовые идеи Мальтуса оказались не столь уж бредовыми.
— Тогда уж не Мальтуса, а господина Тейлора! Это он первый заговорил о мести природы.
— Не знаю… — Егор качнул головой. — Можно ли назвать всемирный потоп местью природы.
— Разве нет? Океан тянется не в абстрактную пустоту, а к нам. Вектор приложения силы — направлен к человечеству. Убежден, когда захлебнется последний из жителей планеты, все само собой успокоится. Животное по имени Земля вздохнет с облегчением, ноосфера скомандует отбой, вода пойдет на убыль. Подобно очищающей лимфе она сделает свое дело, на сдобренных тиной равнинах зародится новая жизнь. Все проще пареной репы, Егор! Природа неистребима. Просто она долго раскачивается. Все ее потопы сродни одному нашему движению, когда ладонью мы утираем с лица пот или налипшую мошкару. Вы правы в одном, нас и впрямь стало слишком много — настолько много, что это ощутила даже Земля.
— Фрактальщики утверждают, что Земля пустотела. — Выкрикнул Егор. — А может, все обстоит чуточку иначе? Может, там внутри — особая земная кровь? Или та же морская вода? Тогда потоп — обычное кровотечение. Пока раны не зажили, кровь будет бежать и бежать.
— Красиво, — Деминтас кивнул. — И потому скорее всего неправда.
— Почему же?
— Потому, дорогой Егор, что мы живем в эпоху Апокалипсиса, в годы, когда красота рушится и нивелируется. Больные редко бывают красивыми. Не самым лучшим образом выглядит и смерть. А значит, начинают доминировать иные понятия, иные категории. Скорее всего нас вообще не должна интересовать первопричина потопа.
— То есть?
— Все просто, Егор. Помните, мы говорили о смерти — зачем, дескать, она приходит, зачем приключаются болезни, — и тут то же самое. Интересен не факт потопа, интересен вывод, который нам навязывается. В очередной раз человечеству, словно капризному больному, дают кулаком в глаз, напоминая о главном. А главное всегда было и есть — наше собственное необъясненное «я». От дарвиновского вопроса «кем мы должны стать?» мы вновь возвратились к исходному «кто же мы такие?». Нет точки отсчета, не будет и пути. Решительные люди, вроде вашего братца, движутся вперед, расплевавшись с системой координат, довольствуясь одной лишь почвой под ногами. Это люди-ледоколы и люди-танки. Такие, как вы, топчутся на месте. Если рассуждать логически, траектории — той, что выписывают сейчас эти пули, у вас нет. Ни у Горлика, ни у того же Путятина.
— А у вас?
— И у меня нет. — Деминтас бодро хлопнул Егора по спине. — Мы трусы, понимаете? И потому постоянно оглядываемся на других, измеряем прожитое общепринятыми мерками, а это глубоко ошибочная практика. У каждого из нас свои буйки, свои заветные глубины. Кто-то рожает детей, кто-то считает и копит в мензурках дождевые капли. Тот же Диоген в своем пивном бочонке жил небесцельнее изобретателя космических ракет, а уличный идиотик впитывает в себя столь же великое число истин, сколько способен разглядеть самый пытливый психолог. Вероятно, и Серафиму Саровскому в сущности было не так уж важно, кем именно быть — Серафимом или Досифеей. Он попросту пожалел своих учеников, устранил возможную путаницу в умах. Потому что главное всегда оставалось неизменным.
Егору неожиданно захотелось сделать что-нибудь из ряда вон выходящее. Слова Деминтаса, его страстные интонации действовали чарующим образом. Залезть бы и впрямь в бронированную башню, врезать прямой наводкой по одной из лун. И хорошо бы еще попасть. Чтобы брызнула расколотой лампочкой, россыпью метеоритов изрешетила вселенную.
Марат, расправившись с последним рожком, устало попытался сесть. Горлик, глядя на него, чуть шевельнулся, но колени «беллетриста» заскользили по мокрой крыше, и он вновь ухватился за вентиляционную трубу.
— А счастье? — вспомнил Егор. — Почему вы ничего не говорите о счастье? Ведь мы его тоже заслуживаем!
— О счастье, Егор, тоскует слабое время. Сильное время тоскует о подвигах.
— Но ведь оно все равно существует? Должно существовать!
— Оно есть. Везде и всюду. Потому что оно как воздух. Надо лишь научиться задерживать дыхание, ощущать его в себе. — Деминтас взмахнул рукой. — Оглянитесь! Мы летим на скорости семьдесят километров в час, под нами бездна и пенные, кишащие акулами воды. Все против нас! Все от верха и до самого низа, а мы живы! Вопреки логике, вопреки тысячам черных пророчеств. Вот и сумейте оценить это мгновение! По достоинству оценить! Расширьте глаза и признайтесь себе открыто, разве в данную минуту вы не счастливы?
— Пожалуй, что да…
— Ну вот! А я что говорил! Тот же Достоевский почитал за счастье свои припадки, что не мешало ему кричать во время падучей от боли. Такая вот кулебяка! Все его герои от Смердякова до князя Мышкина страдали эпилепсией. Величие боли, способность прозревать через страдания — даже через банальный геморрой! Он понимал это лучше других. Потому и стал Достоевским!
Сунув руку за пазуху, Деминтас вынул черный длинноствольный пистолет, сунул в ладонь Егора.
— Держите!
Егор с готовностью стиснул мокрую рукоять.
— Спускайте с предохранителя и покажите им всем, кто вы есть. И даже не кто вы есть, а то, что вы ЕСТЬ и ЖИВЕТЕ, что вы и впрямь существуете. Ну же!
Егор выстрелил, и Марат завистливо поднял голову. Пьянея от нового, доселе незнакомого чувства, Егор выстрелил снова. И неожиданно вспыхнуло северное сияние. То есть, это только так его называли для простоты. Сам Егор слышал о нем десятки раз, видел отсветы в матовых окнах, но чтобы в ответ на его пули и прямо над головами — такого еще не бывало. Три бледно-розовых Луны одновременно всплыло из-за горизонта — каждая со своей определенной стороны и, сойдясь в зените, взорвались бесшумным фейерверком. Время остановилось, и каждый осколок на миг показался Егору пульсирующим, а может быть, мигающим глазом. Большие и малые, фиолетовые и золотистые, они кружились и сталкивались в черном плачущем небе, неровный их свет обжигал роговицу, смотреть вверх становилось больно. Егор опустил голову и ахнул. То есть, возможно, это ему только показалось, но в жутковатом сиянии небесных глаз он вдруг рассмотрел мчащийся под ним вагон насквозь. Словно гигантский рентгеновский снимок на миг поднесли к его лицу и тут же убрали. Но и одного короткого мгновения хватило, чтобы рассмотреть детали, которых не видят и не должны видеть нормальные люди. Клепка листовых швов, тонкий абрис металлических стоек, столов и полок на втором этаже, трубчатая паутина в стенах, веточки электропроводки и множество движущихся и неподвижных человеческих скелетов. Еще были бешено вращающиеся колеса, буксы и какие-то пружины. А сразу за ними… За ними мелькнуло то, что и вовсе не укладывалось в сознание. Призрачным кинжалом взор пронзил толщу океана, узрев далекое дно — дно, которое на самом деле дном не являлось…
Егор сморгнул, и видение пропало. Все стало прежним, и собственные ноги не висели больше в пустоте, упираясь в темную подрагивающую крышу.
— Вы видели? — Деминтас смотрел на него в упор. — Видели, что Они вам показали?
— Они? — Егор кивнул вверх на угасающую россыпь глаз-огоньков.
— Кто же еще! — Деминтас загадочно хмыкнул. — Самая жуткая для нас правда, что Они всегда над нами. Мы живем в разном, понимаете? Потухнет солнце, наши беды умрут вместе с нами, планета покроется коркой льда, а Они останутся. Это очень болезненно, егор, соприкасаться с вечным.
Расстроенно клацая автоматным затвором, Марат посылал им умоляющие взоры.
— И все равно — на сегодняшний момент мы еще живы! — звонко произнес Деминтас. — Мы есть, мы существуем, и Они это знают!
Не очень ясно было, кого в точности он имеет в виду, но каждый, должно быть, подумал о своем, потому что закивали все разом. И, по-волчьи задрав голову, Горлик неожиданно завыл. Не тоскливо, а почти сладостно, как человек, взлетающий ввысь, как самец, победивший соперников, ценой ран и крови завоевавший самую красивую самку. Оставив в покое свой автомат, с готовностью заблажил Марат. Радостно щерясь, Егор вновь вскинул пистолет и раз за разом начал палить в небесное разноцветье. Наверное, Они действительно изучали их — неведомые, потусторонние, надменные, и он гасил их, словно лампочки, развешенные в парке. Потому что мог и хотел это делать. Потому что был человеком погибающим — гомо новусом, зародившимся на земле лишь в последние десятилетия. И, надсажая связки, он тоже вопил. Три голоса вторили ему, а рука содрогалась от жесткой отдачи. Грудь и горло саднило, но и это казалось приятным. Так рвут в несколько глоток канат — не мускулами, а именно горлом, взрыкивающей волей подавляя противника, взбадривая себя и друзей, сантиметр за сантиметром перетягивая на свою сторону плетенную великанью косу. Свой канат они тоже сейчас вырывали из небесных пут. Всего-то и нужно было для этого — отречься на минуту от тягостной узды цивилизации и дать волю собственному естеству. Наверное, не животному, однако и не человеческому. Они знаменовали собой новую биологическую ступень. Человек погибающий, гомо-сапиенс с вывернутыми наизнанку глазами. И оттого крик казался освобождением, волевым проявлением катарсиса.
Четверо вымокших до нитки людей сидели, стояли и лежали на крыше пронзающего мглу вагона и, захлебываясь от струящейся с небес влаги, распахивали рты в торжествующем реве. Они не боялись ливня, плевали на бушующий океан, смеялись над северным сиянием. Миг, о котором толковал доктор, волшебно растянулся.
* * *
В какие-нибудь пять минут пара атакующих минометов выплюнула все взятые с собой снаряды. Вакуумные разрывы были страшны, станционный узел утонул в клубящем разгрызающем все живое пламени. Розовая шапка вспенилась над мостами, приветствуя силы волонтеров, медлительно поплыла в небо. Рукам было жарко, а на лице через каждую минуту выступала испарина. Впрочем, возможно, попросту нагревалась липнущая к щекам дождевая влага.
Стоило смолкнуть разрывам, как тотчас тяжелой дробью ударил пулемет Мациса. Разведчик бил из трофейного оружия и потому патронов не жалел. Головенки уцелевших пуритов, словно шляпки грибов, угодивших под гигантскую косу, шустро поисчезали. Кто-то нырял вниз, кого-то отбрасывало за баррикады свинцовыми ударами. Яростно крича, грузовую площадку пересек сержант Люмп. Он бешено вращал стволом автомата, брызгая искристым пунктиром по серым нагромождениям мешков. Шел, дурачок такой, в героическую атаку. Один против всех.
Чертыхнувшись, полковник согнулся неловкой запятой, не поднимая головы, перебежал к ближайшей будке. Искушение было велико, но внутрь заскакивать он не стал. До позиций пуритов было рукой подать, — если изловчатся, вполне могут добросить гранатой. И будет тогда тепло и сухо. Совсем и навсегда.
В окошечко Павел Матвеевич все же заглянул. На обитой жестью скамейке сидел свеженький труп — с улыбкой на устах, с застывшим в глазах удивлением. Человек в прошлом, а в настоящем — неизвестно что. А может, как раз наоборот. Говорят, даже мерзавцы, умирая, в свои последние минуты превращаются в людей…
Другой из местных повстанцев оказался более сметливым. С винтовкой в руках приятель сидящего успел сделать несколько шагов и теперь лежал у самого порога.
Рывком перегнувшись, полковник подцепил винтовку за истертый ремень, потянул к себе. Как ни крути, а карабин и пистолетик работают в разных весовых категориях. Если первый создан действительно для войны, то второй исполняет скорее роль успокаивающего амулета. Павел Матвеевич повертел в руках ружьецо, довольно прищелкнул языком. Вот и с первым трофеем вас! Кстати, вполне приличный карабин. Разумеется, все тот же мосинский вариант, почти не битый и не царапанный. Полковник выщелкнул обойму, по весу определил, что полная. Высунувшись из-за угла, присел на колено. Как и следовало ожидать, сержант уже крючился между рельсами, зажимая ладонью раненное колено. Добегался, герой!.. Полковник намотнул ремешок на локоть, приклад вдавил в плечо, плавненько повел мушкой вдоль укреплений. И то хорошо, что прожекторов у них больше нет. Всего-то два и осталось после взрывов. Зоркоглазый Мацис раскокал их одной очередью. Теперь дрались в лунной полумгле, а точнее — пуляли друг в дружку с дуэльной дистанции в сорок-пятьдесят шагов. Ближе подойти было трудно, дальше — все размывал дождь.
Павел Матвеевич с шипением набрал в грудь воздух, задержал дыхание. Ш-образный прицел цепко угадал среди округлых мешков шевельнувшуюся тень. Никак еще один грибок? Занятно! Откуда они набрали столько касок? Нашли на каком-нибудь складе? Или вскрыли вагон с театральной бутафорией?… Полковник притопил спуск, и голова в простреленной каске качнулась назад. Готов! И немедленно пару пулек в пластуна справа! Он-то, умник, решил, наверное, что невидим и неуязвим. Да только очки протри, наркоман хренов! То есть, теперь уже и протирать поздно. Опоздал, милок…
За спиной снова загрохотал пулемет разведчиков. По баррикадам зафонтанировали тяжелые пули. Из брезентовых дыр струями потянулся грязноватый песок. Совсем как кровь из ран. А секундой позже одна за другой рванули гранатки. Как раз за наваленными шпалами. Громко заверещал чей-то голос. Значит, попали куда следует. Полковник оглянулся. Должно быть, Коляныч постарался. Сил у парня немерено, — бомбочку может швырнуть похлеще любого миномета.
— Вперед! — полковник махнул рукой, и жиденькая цепочка волонтеров поднялась с земли, не очень смело затрусила к баррикадам. Тем не менее, они все-таки атаковали. И продолжал поливать из пулемета Мацис — уже скорее для острастки противника и дабы подбодрить своих. Должного эффекта они добились. Пуриты опомнились только когда первые из волонтеров посыпались им на головы. Перескочив через нагромождение шпал, полковник молотнул прикладом в чужой затылок, выстрелом в упор положил бросившегося к нему юнца. То есть, юнец-то он юнец, но лицо было таким, что лучше в темноте не разглядывать. Потому как плохо смотрятся люди во время ломки. Зеленый румянец, мимика упыря и все такое… Крутанувшись, полковник ударил выстрелами в зашевелившиеся на отдалении тени. Меньше спать надо, ребятки! А желаете жить, извольте ручонки вверх! Чай, не варвары, как вещает майор Рушников, повздыхаем да простим.
Кто-то по собственной инициативе заблажил «ура», и крик, к изумлению полковника подхватили. Ее величество Смерть умеет взбадривать. Волонтеры пошли разом с двух сторон, смыкая оскал пасти, с остервенелыми лицами рассыпаясь между зданиями станции, полосуя из автоматов по окнам, гранатами дожигая остатки пуритов. Полковник удовлетворенно тряхнул карабином. Неизбежное произошло. Вчерашние неумехи-новобранцы успели превратиться в солдатиков. В считанные дни и часы. И не понадобилось многочасовых лекций с изнуряющей строевой подготовкой. Огневой тренаж — лучшая из школ. Таков секрет всякого оружия! Мужчина, если он, конечно, мужчина, — генетически чувствует основные функции оружия. Дайте ему на денек винтовочку, и он срастется с ней, как с частью тела. И попадать научится куда положено, и беречь будет. Несколько сложнее с умением убивать, но и тут лишний интеллект — не помеха. Как толковал покойный Злотницкий, если мысленный грех — тоже грех, то не значит ли это, что свершивший его во благо идет на риск и самоотречение? А коли так, то, может, и греха, как такового, уже нет?… Красиво загнул, философ, ничего не скажешь! И по всему выходит, что мысленно грешит большинство, чем и исправляется скользкость всякой войны. Что и говорить, парнем Злотницкий был отнюдь не глупым! В корень зрил. А вот погиб глупее глупого, пал жертвой акульего аппетита…
Полковник отшатнулся. Из чердачного окошечка диспетчерского поста лизнуло гигантским огненным языком. Заглушая грохот стрельбы, закричали пылающие люди. «Язык» зацепил разом троих. Двое волонтеров катались по земле, третий слепо ринулся за ограждение, с криком полетел вниз. Плеснула далекая вода, но полковник уже не прислушивался. Карабин выплюнул еще пару свинцовых гостинцев и смолк. В руке Павла Матвеевича блеснул пистолет с глушителем. Прятаться было некуда, да и поздно было прятаться. В открытую он зашагал к посту, посылая пулю за пулей в зев чердачного окна. Огнемет не отвечал. То ли решил подпустить ближе, то ли полковнику отчаянно повезло.
В том, что ему действительно повезло, Павел Матвеевич убедился чуть позже, когда, перепрыгивая через три-четыре ступени, поднялся на злополучный чердак. Пурит, лежащий на грязном керамзите, был обряжен в бронежилет. Рядом покоился ранцевый огнемет «Шершень», пугающий раструб ствола по сию пору выглядывал наружу. Полковник присел. Горючки под завязку, модель из категории десантных. Может колотить на тридцать с лишним метров, а в умелых руках — штучка вполне грозная. Только отвоевался поджигатель! Одна из пулек полковника угодила прямехонько пуриту в глаз. Склонившись, Павел Матвеевич закатал рукава на убитом. Нет, этот, кажется, не кололся. А жаль. Плохо, когда не выстраивается картинка. Лишние сложности — они всегда лишние.
На улочке к полковнику подбежал раскрасневшийся Мацис.
— Кажись, все! — тяжело дыша, сообщил он. — С той стороны майор даванул, это дурачье даже многоствольник не успело развернуть. Он у них под брезентом стоял, а патроны в ящиках отдельно. Короче, всех положили.
— Неужели всех?
Мацис пожал плечами.
— Сотни две мины положили, а остальных — наши. Остервенели ребятки. Кровушки попробовали, ну и взбеленились. Все-таки не кадровый состав.
— Это точно. Такие, считай, самые страшные.
— Ну так!..
— Взрывчатку не нашли?
— Под главным въездом возле опор. Лежала в обычных мешках.
— Много?
— Прилично. Снарядный керамит в стружках. Мы не взвешивали, но центнера три наверняка будет.
Полковник нахмурился.
— Если керамит, на станцию вполне могло хватить.
— Ясное дело. Все-таки триста килограммов!
— Однако не взорвали. Почему? Даже странно.
— Что странного? Просто не успели. Они ж тут всего парочку дней гужевались.
Павел Матвеевич задумчиво почесал пистолетным стволом переносицу. Вот и свершилось еще одно смертоносное действо. Должно быть, в миллиардный раз люди покрошили соплеменников в кровавые ошметья, и только, вероятно, единицы ощущали при этом подобие вины. А может, и таких не нашлось…
— Надо все-таки пошарить в домишках. — Пробормотал он. — Не может такого быть, чтобы никого не осталось. Хоть одного язычка, но найдите.
— Так на хрена? — простодушно удивился Мацис. — Для показательного расстрела, что ли?
— Дубина ты стоеросовая! — полковник устало взглянул на разведчика. — Это же не последние пуриты, правильно? А врага надо знать в лицо. Душу его изучать, повадки.
— Врага надо бить.
— Не будешь знать, не будешь и бить.
Мацис кротко вздохнул.
— Значит, поищем. Как скажете, Павел Матвеевич…
* * *
Вместо пространства — звуки, вместо людей — цветочные бутоны, и кругом пенные волны стен, бьющие по ребрам обломки кораблекрушений — столы, стулья, ручки дверей…
Как хочется любить! Всех и каждого! Может, в этом и кроется истинный смысл опьянения? Хмель — иллюзия любви, которой не хватает в действительности. Иллюзия, но не суррогат. Ибо любовь не подделываема. Алкоголь лишь пробуждает то, что кроется в нас до поры до времени. Пара стопок, и ты становишься воздушным змеем, тебя приподымает над землей и уносит вслед птичьим стаям в теплые края. Еще порция, и ты превращаешься в ветер — мощный, живой, всепроникающий, призрачным языком слизывающий с побережий города и рыбачьи поселки. Сегодня, впрочем, он был отчего-то не ветром, а поездом. Возможно, потому что понятие ветра постепенно уходило в небытие, исчезало из людской памяти. Главной реальностью становились вагоны, значит, и превратиться в таковые было неизмеримо легче.
Скорость снижается, кто-то дергает в голове стоп-кран, и карусель окончательно замедляет бег. Хлопают створки, Егора выбрасывает в чей-то спор. Пыльный тамбур, подозрительно знакомые голоса, но лиц не разглядеть. Приходится шарить руками. В пыли о озвученной пустоте.
— …Ну и что? Я, к примеру, с Урала! Из города Екатеринбурга, слыхали о таком?
— Слыхали. Где-то возле Москвы, так?
— Сам ты «возле»! Совсем даже не возле. Екатеринбург, к примеру, столица Урала, бывший Татищевский бастион близ Рифейских гор. На три четверти — хрущевки, на одну десятую — дворцы.
— Дворцы — это как?
— Обыкновенно. Как у шейхов в Саудовской Аравии. Месяцок назад проезжали через Челябинский мост, я специально к знакомому штурману забегал. У них там эхолот мощный, пишет рельеф дна.
— И что?
— Ничего. Думал засечем шпили и крыши, а лента ползет — и ничего. Пусто там. Бездна голимая, точно и не было никакой столицы.
— Может, врет твой эхолот? У нас сейчас, как в Бермудах, — стрелки пляшут, приборы отказывают.
— Кто знает, может, и врет.
— А насчет бездны как раз понятно. Тут ведь все написано… Разверзлись хляби небесные и лил дождь сорок дней и ночей, поднималась вода и по истечению сорока суток покрылись водой самые высокие горы…
— Что ты нам туфту всякую читаешь? Давно наизусть выучили! Только тем и занимаемся, что читаем о башнях да о потопах.
— Каких еще башнях?
— Дубина! Помнишь Вавилонское чудо? Когда, значит, языки перемешались, люди гордыми стали, крутыми, — башню затеяли строить. Вот им и врезали по кумполу.
— А потом водичкой из леечки…
— Дурак! Водичка — это совсем в другом веке.
— По-моему, в том же.
— Ты сюда мостик перекидывай, сюда! Вавилон — и наш двадцать первый век. Как ни прикидывай, одна картинка. Люди в единое целое превратились, границы стерлись. Плюс ассимиляция полов, повальная бисексуальность, наркотики и телезомбирование. При этом к бессмертию умудрились подойти, ген старения вычислили.
— А еще клонирование запчастей!
— Точно! У моего соседа ногу заново вырастили, глаз живой вставили. Он по пьяне под трамвай попал, а из больницы вышел свежее прежнего. Нехило, да?
— Я еще про языки не сказал. С ними та же тарабарщина. Раньше-то один-единственный был. То есть при Вавилоне.
— Ну да?
— А ты как думал? Лингвисты так прямо и говорят: был, мол, первоязык, от него пошли все прочие. Сравни хоть немецкий с французским, хоть английским с русским!
— Чтобы сравнивать, нужно владеть, к примеру, особым метаязыком, языком — посредником, который в равной степени мог бы описывать сравниваемое.
— Ты еще о метемпсихозе заговори!
— Что тут говорить — и так ясно, все станем акулами. Кем больше-то?
— Не-е… Ты, Горлик, акулой не станешь. Скорее, карасем. С красными опухшими жабрами и слезливыми глазками. Или кактусом с тыквой.
— Кактусом с тыквой?
— Ну да. Голова, значит, в тыкве, задница в кактусе.
— И вовсе даже глупо, к примеру…
— Тут, мужики, другое непонятно. Почему именно сорок дней и ночей?
— Вот я и говорю — тыква! И он тыква, и ты.
— Ты ответь, не ругайся!
— Все течет, все изменяется. Сорок дней вполне могли трансформироваться в сорок лет.
— В точку!.. Дай, Путя, я тебя расцелую. По духу ты псих и фашист, но ты честен! И тыквой ты никогда не станешь!
— Конечно! Он у нас святой угодник!
— Что за категория дурацкая, не понимаю! Свято — и угождать! Как это может быть?
— Именно так и может! Это фанаты-дурики за правду с бескопромиссностью витийствуют, а умные люди всегда угождали.
— Ну уж…
— Вот тебе и ну уж! Ты, к примеру, можешь женщине сказать, что она дура и уродина? Ясное дело, нет, хотя, возможно, не соврал бы ни на полсловечка. Потому что это жизнь! Мудреная и заковыристая! Начнем изрекать правду — до оскомины договоримся. Весь мир перемажем в черное, младенцев в идиоты запишем.
— Причем тут это?
— Да при том, что это и есть угодничество. Святое — если служит добру, дурное — если корыстным интересам.
— А я, мужики, штурманам нашим завидую. Они ж там всегда у экранов.
— Что им завидовать? Вон, зайди полюбуйся, — седые все, руки дрожат, как у стариков столетних.
— Зато первыми увидят и узнают!
— Что увидят-то?
— Да все.
— Что — все-то?
— Твое будущее, мое. И свое, разумеется. То есть, значит, не сложится маршрут в один прекрасный момент, и аут! Мы еще тут пить будем, веселиться, а они уже там во все чистенькое переоденутся. Представляете? Первые вагоны станут, к примеру, валиться, а мы здесь даже не почувствуем…
Егор сделал усилие и в несколько приемов поднялся на ноги. Рукой ухватился не то за шторку, не то за чей-то пиджак. Осмысливая услышанное, скрипнул зубами. Да уж… Не почувствуем, это точно. Первые вагоны мы никогда не чувствуем. Потому что они первые и от нас далеко…
Карусель вновь подхватила, с плеском заработали незримые весла. Лодка в два весла меня бы спасла… Откуда это? Чьи-то стихи? Песня?… Егора закружило в обратную сторону. Вспомнилось то, чему вовсе не положено было всплывать из глубин памяти. Деревенские огороды, пасека, соседские дети, и собственный содранный ноготь на ноге. Больно, но не очень. Труднее терпеть жжение крапивы. Но как было весело догонять и убегать! Верно, что детские игры — не взрослые…
И снова туманом на окне нарисовалась Ванда. Все женщины, которых он принимал за нее мгновенно слились в мигающую светодиодами, поставленную неведомыми террористами мину. Осторожно отодвигая ее в сторону, Егор вглядывался в сумрак и снова видел то, что пытался забыть.
Похоронная процессия, бредущая по вагонному коридорчику. Скрипач Дима, наигрывающий что-то из своего вечно печального репертуара. Люди колонной движутся из тамбура в тамбур. Впрочем, это было потом, а до этого она все-таки явилась к нему в купе. Его маленькая Лиля Брик. Поздно ночью, когда натешилась и насытилась. А может, когда поняла, что этими вещами в принципе невозможно насытиться. И пришла к нему, единственному нелюбимому, который почему-то любил. Так, проплакав, и заснула в его объятиях. А когда стало совсем холодно, он понял, что обнимает труп. И даже припомнил, что насчет яда она пару раз мутно упомянула. Он не поверил, а зря. Могли бы попытаться что-нибудь предпринять. Того же Деминтаса разыскали, промывание сделали. Хотя что могут Деминтасы? Врач сам толковал о справедливости смерти. Пришла с косой на костлявом плечике, значит, так нужно. Правда, кому нужно? Ванде, Егору, посторонним?…
Кажется, опять начиналось безобразное. Обмороки чередующиеся с какой-то необъяснимой возней. Кого-то хотелось споить, кого-то ударить, и, конечно, гнусные руки опять цепляли существо женского пола — совершенно неясно для каких таких героических целей, поскольку в состоянии «зеленых соплей» Егор становился абсолютно безобидным. То бишь не представлял ни малейшей угрозы для девственных душ, — недевственных, впрочем, тоже. Песню он при этом горланил вполне боевую. Про смех, который всегда имел успех и так далее. Пел, наверное, лет двадцать назад — еще будучи студентом. Только тогда они горланили хором, теперь он выступал в качестве солиста. Дважды упившийся до полной немоты Горлик порывался выкинуться из окна, и дважды Егор чудом вырывал его из лап смерти. Зато и сам подхватил бациллу суицида, умудрившись отобрать у зазевавшегося Марата тяжелый армейский автомат, с решительностью упихав солоноватый ствол в рот. Никто бы не спас его, но убийственный механизм бессильно клацнул, не пожелав уничтожения. Все патроны они расстреляли на крыше, о чем Егор совершенно забыл. Автомат у него отобрали, и снова потянулась череда незнакомых лиц. Трескуче полыхало под ногами, вдребезги разлетались стеклянные мониторы. Кто-то кричал и месил воздух кулаками. Егор отмахивался и мучительно долго убегал. В конце концов нежная рука самаритянки вовремя утянула его в сумрачное, заполненное одеялами и перинами тепло. И опять всплыла безликая незнакомка, жаркая и улыбчивая, с удовольствием повторяющая слово «маньяк». Это было у нее, по всей видимости, и похвалой, и ругательством, и всем прочим в зависимости от обстоятельств. На этот раз «маньяк» вынужден был разочаровать даму. Ему стало совсем плохо, и в один из моментов он обнаружил себя в туалетной комнатке припавшим головой к стальному беде. Его выворачивало наизнанку. А после, чтобы немного прийти в себя, Егор минут пятнадцать держал затылок под струей холодной воды. Жизнь представлялось черной и подлой, из-за каждого угла тянулись сине-зеленые раздвоенные языки чертенят, и тьма за окнами была самой египетской из всех египетских — без огней и призрачных ангелов. Впрочем один из небесных ангелов вскорости Егора навестил. Взяв за руку повел в родное купе, временами волоча, временами помогая подняться. И кто-то мохнатый постоянно путался под ногами — вероятно, черт, потому как все в мире сбалансировано, — у каждого ангела имеется свой антипод, свой маленький контрангел. Оба тянут человека за руки, каждый в свою сторону.
Только оказавшись в купе, Егор узнал Мальвину и Альбатроса. Пес, как большинство добропорядочных псов, в пьяном виде Егора совершенно не переваривал, показывая зубы, не позволяя себя гладить. Мальвина же действовала, как должна была действовать на ее месте всякая опытная женщина. Она уложила Егора в постель, прижимая ко лбу мокрый платок, стала утешать. Мягкий и полудетский ее голосок проливался струйкой живительной влаги. И, слушая ее, он окончательно расслабился, залившись слезами, признался, как он ее любит, как желает ей всяческого добра — ей и ее славному Альбатросу. Расплавленной горючей смолой жалость затопила по самую маковку. Жалко было всех вместе и каждого в отдельности. Мальвину он жалел в особенности. Тридцати— и сорокалетним есть, что вспомнить, — слава Богу, пожили. Повалятся мосты, и хрен с ними! Но ведь ее-то жизнь только начиналась! Другие в подобном возрасте шалили и мечтали. Детство, едрена шишка, это не блуждание по пыльным тамбурам! И было ужасно грустно от того, что преемственность не сбывалась, что у этой милой девочки в сущности не было будущего, не было даже того, что именовалось детством. То есть, она возможно, этого не сознавала, но он-то не слепой и мог сравнивать!
Весь этот сумбур он и попытался ей растолковать, называя самыми ласковыми именами, кляня мир и себя за то, что ничего они не смогли исправить. Отстраненно сознавал, что несет околесицу, разобрать которую крайне непросто. Впрочем, слова играли второстепенную роль, — кажется, Мальвина его понимала. Вникала в интонации, в переменчивую пьяную мимику. Умная и замечательная девочка-птица…
С поразительной отчетливостью — той самой, что навещает лишь в редких из снов, может быть, в наркотическом бреду, Егора посетило давнее видение. Он вспомнил, как лет пять или шесть назад — еще в той прежней жизни на каком-то из праздников он подхватил на руки трехлетнюю племянницу и медленно закружил под музыку. Кругом танцевали пары, и они тоже танцевали — взрослый мужчина и крохотное ясноглазое чудо, которое еще неважно разговаривало, но уже замечательно чувствовало воздушное течение нот. Он видел в полутьме ее восторженный, устремленный в никуда взор, ее крыльями разведенные руки и чувствовал, что завидует ей. В те минуты она была птицей и действительно летела, не ощущая его рук, повинуясь лишь дуновению музыки. Подобно могучему ветру, мелодия подхватывала ее, а через нее подавала команды рукам Егора, который кружился то быстрее, то медленнее, совершенно не боясь упасть, зная, что в секунды кружения он и сам чуточку теряет вес, на какую-то толику приподымаясь в воздух. Если годы, минувшие с тех пор приплюсовать к возрасту племянницы, получилась бы как раз девчушка вроде Мальвины.
— Девочка-птица, — прошептал он. — Ты моя девочка-птица…
С этими словами, продолжая удерживать ее за кисть, он и заснул, — повзрослевший ребенок подле умудренного подростка. Вероятно, было бы здорово увидеть ее во сне. Или вернуться в тот волшебный вечер, в танец маленькой племянницы, позволявшей брать себя на руки. Но пьяным редко снится подобное, и за Егором опять гнался тяжело пыхтящий неутомимый медведь — сначала бурый, а после почему-то белый, абсолютно заполярный. И сердце подстегивал самый настоящий ужас. Зловонное дыхание било в спину, ноги бессильно спотыкались. Когда же мгновения обреченности стали невыносимыми, он проснулся, чтобы разглядеть все ту же египетскую тьму и ощутить, как разламывается от боли голова. Пальцы по-прежнему сжимали кисть Мальвины, девочка дремала, неудобно приткнувшись затылком к стене. Несколько минут он глядел на юную пассажирку. Вид ее чарующим образом успокаивал, неведомым анальгетиком растворялся в отравленной крови. Несмотря на боль под темечком Егор вновь задремал.
* * *
— Коляныча потеряли, — шмыгнув носом, сообщил Мацис. — А все из-за этого хренова заморыша!
Старичка грубовато подтолкнули в спину. Павел Матвеевич присмотрелся к незнакомцу. Глаза старика напоминали пару серых осенних лужиц, кожа застывшим парафином обливало желтоватое нездоровое лицо.
— Кто такой? — полковник нахмурился. Нехотя снял ногу со стула.
— Говорит, станционный смотритель. Что-то вроде тутошнего диспетчера.
— А почему сам не скажет?
— Какой смысл? — уныло пробормотал старик. — Вы же ничему не верите. Для вас все теперь пуриты.
— Почему же все?
— Видел я, как вы Радека с помощником шлепнули…
— Там еще пара сморчков в подвале ошивалась, — поспешил с объяснениями Мацис. — К ним Во-Ганг сунулся, а они его ящиком по голове. Что с ними было делать? Ясное дело, шлепнули.
— Коляныча тоже они?
— Ну, не совсем… — Мацис неуверенно поправил на плече автомат. — Коляныча зверюга какая-то утянула. Там это… В подвале, значит, вода, а он близко к ней подошел. Она из воды и выскочила.
— Акула, что ли?
— Да нет, с ногами. Выбежала, тяпнула поперек туловища и назад. Во-Ганг только раз пальнуть и успел. Здоровая, говорит, тварь. С хвостом.
— А этот тогда причем?
— Так молчит же! Его по-доброму спрашивают, кто, мол, и что, а он, паскудник, — ни слова! Знать, мол, ничего не знаю, никого, мол, в подвале нетути.
— Так… Значит, зверюга с ногами и хвостом? Это что-то новенькое! — Павел Матвеевич озадаченно взглянул на старичка. Усохшее существо с воспаленным носом и куцей бороденкой. Ничего примечательного. И конечно же не пурит. Может, и впрямь станционный смотритель. Здесь ведь тоже полагался какой-то штат.
— Ну?… Что скажешь?
Старик безмолвно пожал плечами.
— Там в подвале еще это… — вспомнил Мацис, — стекло кругом битое, тара пустая. Похоже, винный склад был.
— А среди пуритов пьяные попадались?
— Теперь уже не узнаешь. Кто будет мертвых обнюхивать?
— Были пьяные, куда ж им деваться, — подал голос старик. Неуверенным движением придвинул к себе стул, устало присел. — Хотел бы вас поблагодарить за освобождение, да не могу. Помощников своих не прощаю.
— Во дает! — Мацис изумленно вытаращился на пленника.
— Пусть говорит, — полковник разрешающе качнул головой.
— И скажу, — проворчал диспетчер. — Вы меня без помощников оставили, а что я без них? Тут, как минимум, троих надобно. Втроем еще можно справиться. Плюс восстанавливать многое придется. Первый-то литерный на подходе, а кто его встречать будет?
— Ох, и горазд ты врать, дедуля! — Павел Матвеевич хмыкнул. — Я ведь в путевой блокировке тоже кое-что смыслю. И как паровозики по рельсам шкандыбают, приблизительно представляю. Вы тут на крайний случай сидели. А крайний случай пришел, вы и натрескались в зюзю.
— Еще чего!..
— Нишкни! — Мацис тряхнул смотрителя за ворот, поднял глаза на полковника. — Я вот чего не понимаю, — почему их пуриты не шлепнули? Тут отставшие в бараке ютились, так их вместе с операторами перещелкали, а этих не тронули.
— А потому нас не перещелкали, — сварливо забубнил старик, — что место искали под штольню. Где, значит, проход рыть. Я обещал подсказать.
— Обещал, значит?
— А что делать, когда перед носом стволом крутят?
— Мы тоже умеем крутить! — Мацис присел на топчан, автомат выложил на колени, ненароком направив в сторону бородатого диспетчера.
Павел Матвеевич недовольно покосился на разведчика.
— У подвала охрану выставили?
— Там Во-Ганг в засаде. Я ему пулемет дал. Вот он и ждет.
— Ждет, когда тварь вылезет?
— Ага… Парень он терпеливый, обязательно высидит. — Мацис ширкнул носом. — Это у него как бы месть. За Злотницкого.
— Ну и зря, — подал голос старик. — ОНО теперь долго может не показываться. Неделю, а то и две. Вы ж его напугали. Тем паче, и человечка вашего утащил, голодать не будет.
— Ну, паскудник! — Мацис вскочил было с места, но полковник успокоил разведчика движением руки.
— Не горячись, малыш. Давай сперва узнаем, о ком нам тут толкуют. Рассказывай, дед! О ком речь ведешь?
— Так черт их разберет. Либо крокодил, либо аллигатор.
— Чего ты мелешь!
— Ничего я не мелю, — старик обиделся. — Или крокодилов не знаете? Такая гадина не только человека, — буйвола под воду уволочь может. Потому и вино в подвале уцелело. Мы-то туда почти не совались, понимали чем рискуем. Это пуриты дурные пронюхали про склад — и ринулись толпой. Что им какой-то крокодил, когда там несколько сот бутылок. Вот и сломали дверь.
— Как же он там живет? Крокодил твой чертов?
— Откуда ж мне знать! Как-то, значит, живет.
— Ага! Кажется, понимаю, — Мацис возбужденно завозился. — Подвал-то сквозной! В смысле, значит, наружу выходит — прямо в океан. Вот он там и плавает, наверное. А голодно становится, — в подвал прется.
— Крокодилы в океанах не живут, — угрюмо пробормотал смотритель станции. — У них жабер нет.
— Жабер? — Павел Матвеевич усмехнулся.
— Ну жабров, какая разница? Я вам не филолог, чтобы все знать. Только эти твари воздухом дышат, понятно? И среди акул не плавают.
— Есть еще морские крокодилы.
— Они тоже посреди океана не плавают. Только близ рек и побережий.
— Чего же он тогда не выныривает? — Мацис посмотрел на старика возмущенно. — Во-Ганг его ждет там, понимаешь, а ты говоришь — недельку!
— Погоди! — полковник ощутил смутное беспокойство. В памяти зашебуршилось давно слышанное — о заповедной штольне, о способности крокодилов задерживать дыхание, о прочей чепухе. — Давай-ка подробнее и с самого начала.
Павел Матвеевич стянул с себя вязанную шапочку, бросил на стол. Возбужденно взъерошил волосы. Он и сам еще не понимал причины своего волнения, но что-то маячило на горизонте — что-то, может быть, очень важное, и он чувствовал, что спешить не следует, дабы важное это не спугнуть, как того же крокодила.
— Так что у нас там с подвалом, дед? — он взглянул в серенькие глаза станционного смотрителя.
— Да ничего. Все в образцово-показательном!
— Ты, дед, на нас не злись, сам видел, какая каша тут бурлила. Когда было разбираться, кто свой, кто чужой.
— Могли бы и разобраться! По-человечески!
— Вот я и пытаюсь. А ты помоги.
— Так я же не отказываюсь. Только все равно не поверите.
— Во что не поверим? В штольню пуритов? Так это действительно бред. А вот подвал… С подвалом — сложнее. Откуда там взяться аллигаторам?
— Вот и я у спрашиваю, откуда? — старичок хитро прищурился. — Либо сами догадаетесь, либо и толковать больше не о чем. Вы же меня чокнутым объявите и к стенке следом за Радеком и Митькой поставите.
— Не поставим, слово даю! Мы ведь уже поняли, кто есть кто.
— Поняли они, как же!..
— Так откуда аллигаторы, дед?
— Я уже сказал, с суши. Они на бережку обычно греются, под солнышком. А за добычей в воду ползут.
— Так… И где же твоя суша располагается? — Павел Матвеевич неожиданно ощутил, что начинает обильно потеть. Голова становилась мокрой, словно его сунули в парильное отделение.
— Это уж я не знаю, но только где-то, верно, есть. Может, даже совсем близко. Пуриты считали, что под водой.
— Во, дают! — фыркнул Мацис. — Какая ж там под водой суша? Там — дно!
— Вот и я им про это говорил: дно, мол, там. А они мне объяснили, что со спутников землю тридцать три раза успели просветить насквозь. Потому и рванули из космоса назад. Нет ведь там никого. Молчат станции. Потому как рассмотрели, где и что. Поезда, мол, поездами, а суша — сушей.
— Ничего не понимаю! — честно признался Мацис. Полковник задумчиво продолжал глядеть на «языка».
Застучали шаги, дверь распахнулась. Майор Рушников, отряхивая с капюшона воду, сумрачно доложил:
— Трупы убрали и, кажется, вовремя. Литерный на подходе. Просили передать поздравления. Все довольнехоньки!
— У них есть на это причины.
Майор подсел к Мацису, устало разбросал по спинке дивана руки.
— Сказали, что хотели бы остановиться минут на десять-пятнадцать. Что-то там у них с буксами. Обещали управиться побыстрее.
Полковник взглянул на смотрителя.
— Как тут у тебя с остановками? Держат еще опоры?
— Покуда держали. Один-то состав — еще не страшно.
— Вот и ладушки! — полковник вздохнул. — Тогда вернемся к нашим баранам…
— Каким еще баранам? — с подозрением спросил Рушников.
— То бишь, аллигаторам. У нас тут, майор, интереснейшая темочка проклюнулась! Можешь поучаствовать в беседе. Если, конечно, есть желание…
* * *
— Почему вы пьете? — Мальвина смотрела на него в упор. — Нет, правда, — почему?
Простой детский вопрос, ответить на который вряд ли представлялось возможным. Детские вопросы вообще ставят в тупик. Ибо от частокола взрослых условностей возвращают к главному. А потому особенно тяжело было глядеть девчушке в глаза. Так и видился он вчерашний — багроволицый, слюнявый, с косящими зрачками, блудливыми ручищами. Ей бы, по логике вещей, презирать его, а она сидит рядом, пробует разобраться в чужих бедах. Золотой ребенок! Или, может быть, одинокий? Зачем ей та же собачка? Давно известно, удел всех женщин-одиночек — заводить домашнюю живность. Кошечка вместо ребенка, собачка вместо друга. Домашнее животное, домашний приятель… Впрочем, сейчас и домов-то нет. Вагонная жизнь, вагонное одиночество…
— Не знаю, — Егор глотнул чай и обжегся. — Все пьют, и я не отстаю.
— А почему все пьют?
Он взял хлебную корочку, растерянно помял в пальцах. Пьяные рассуждения насчет пользы опьянения уже не казались здравыми и убеждающими.
— Ну… У каждого, наверное, свои Сцилла с Харибдой, а я… Я, наверное, просто размазня. Жаль себя — вот и пью. Глажу таким вот пакостным образом себя по головке. Утешаю.
— Горлик говорил, что вы… — Мальвина смутилась. — Будто вы пропили свой талант. Могли написать что-то очень великое, но не не написали.
— Если бы мог, давно написал. Только вот не пишется отчего-то. — Егор вздохнул. — А Горлик — славная душа, всех щадит и нахваливает. Вполне возможно, он и для потомков труды наши переписывает по этой самой причине. Слава-то после смерти — штука иллюзорная, мало кого греет, а он не ленится. Толстого почти всего успел перекатать, «Поединок» Куприна, моего «Бродягу».
— А зачем?
— Чтобы запечатать в титановый контейнер и сбросить в океан.
— Значит, он добрый и трудолюбивый?
— Точно! Добрый и трудолюбивый, — Егор покривил губы. — В отличие от нас разгильдяев. Потому как мы большей частью — лодыри и нытики. Не достает сил даже на самое малое. Потому и врем на всех углах, выдумываем для окружающих веские причины. Только причина, если разобраться, — одна-единственная… — Егор споткнулся. Мысль, еще мгновение назад казавшаяся столь ясной и отчетливой, вдруг расплылась в блеклую многолучевую кляксу. Все равно как тушь на черных брюках — не промокнуть и не отцарапать. Он тряхнул головой. Хмель еще бродил в крови, терзал нейроны, порождая сиюминутные видения.
— Собственно, я много, чего написал, — пробормотал он. — Гору всякой чуши. На проглот. Вроде сосисок. Сложить все тиражи кучей — пирамида похлеще египетской выйдет. Честное слово!
— Не понимаю, — Мальвина обезоруживающе улыбнулась, и Егор подумал, что только последний недоумок может вываливать на ребенка подобные проблемы. Хотя, и тут, если задуматься, начинались форменные дебри. Потому что так оно по жизни и выходит. Именно на детские спины взваливается весь хлам родительских разборок и взрослых неурядиц. Мы-то хлебаем да в носу ковыряем, а они, бедные, спрашивают. То есть, может, это даже не они спрашивают, а НЕКТО через них. Все те же вековечные вопросы к нашим душам. Бег по кругу без малейших надежд. Или, может, с одной крохотной, подсвечивающей китайским фонариком с неба. Поскольку все-таки спрашивают. А вот когда перестанут спрашивать, когда с пеленок младенческих будут угрюмо молчать, тогда и грянет начало конца. И не в потопе даже дело, не в поездах, — в тех, кто не устает удивляться и задавать вопросы, потому что в действительности — это вопросы Вселенной. Вопросы к созревшим поколениям безумцев.
В купе ввалился сияющий Горлик.
— Сидите, чижики? А между прочим — станция на подходе! Умные люди давно переоделись, самые храбрые на променад изготавливаются.
Жестом гуляющего купчины-миллионщика Горлик высыпал на стол горку каких-то хлебных кругляшей.
— На-те вот, погрызите. Сырные сухарики. Самое то после сабантуев. И детям для зубов полезно.
Едва сдержав спазм Егор отвернулся. На пищу трудно было даже смотреть. Нутро скручивало в узел, в висках начинали позванивать кузнечные молоточки. Очевидно, ковались подковки на счастье — что же еще?
— Про братца твоего, гражданин писатель, в каждом вагоне нынче рассказывают. Ночью-то его войско на пуритов, оказывается, ринулось. По обрушившимся сферам. Часть в лоб ударила, часть с тыла зашла. В общем взяли молодчиков в колечко! Треть волонтеров потеряли, однако супостатов с позиций выбили. Кстати, до последнего момента опасались взрыва. Знающие люди говорят, что всего-то пару опор и нужно было повалить! Слава Богу, обошлось. Так что часика через полтора прибываем. Главный штурман по радио выступал, обещал, к примеру, короткую остановку.
— Для чего остановку? — уныло вопросил Егор. — Зачем она нужна?
— Чудак-человек! — Горлик искренне удивился. — Интересно же! По земле твердой походим! Места боевой славы посмотрим. Ведь пуриты там свою штольню собирались сверлить. Вот и поглядим, что насверлить успели…
Снова стукнула дверь, вошел толстый и необъятный Путятин. Сходу крепко пожал Егору руку, уселся напротив, заставив Мальвину вжаться в самый угол. С появлением этого огромного человека в купе тотчас стало тесно.
— За инсайтов, — лапидарно пояснил Путятин. Горлик хмыкнул и покосился на Егора.
— Помнишь что-нибудь?
Егор чистосердечно помотал головой.
— Жаль, — Путятин вздохнул. — Правда, жаль. Надеялся услышать из первых уст. Мне, понимаешь, Маратик поведал. Пришел сегодня освобождать — и рассказал. Вы там половину машин успели раскокать.
— Кто — это мы?
— Ты, Жорик и еще какая-то компаха. Говорят, даже Дима скрипач помогал. Ты вроде как орал на английском песни про луддитов, а Дима тебе подыгрывал. Скрипку ему разбили, тебя за борт хотели вышвырнуть. Хорошо, Маратик подоспел вовремя, на мушку этих тараканов взял. Патронов, правда, говорит, все равно не было, но они ведь после своих игр чумные, во что угодно готовы верить. В общем не рискнули переть против автомата. А Маратик, понятно, ухайдакался. То вас останавливать пробовал, то их… — Путятин задумчиво почесал крупное ухо. Большой, басовитой, чем-то напоминающий льва и медведя одновременно. — Жаль, меня там не было. Тогда бы точно все успели расколотить. До последнего компьютера.
— Брось, Путя! Зачем?
— Как зачем? Разве не они довели нас до ручки?
— Если бы господин Лугальзагеси из Эммы сумел бы миром договориться с Урцинимгины из Лагаша, возможно, и уцелело бы древнее Шумерское царство, — с горечью процитировал Егор. — Но петухам было не до философий, и оба угодили под власть свирепых аккадцев.
— Ты это к чему?
— А к тому что еще в 1170 году океан отделил Фризские острова от суши. Тридцать процентов территории оказалось ниже уровня моря. Но голландцы выжили. Мы все бы могли выжить, прояви аналогичное упорство. Дело не в технике, Путя.
— Возможно, но она ускорила процесс гниения. Ты сам рассуди! Уже когда появилась паутина Интернета, стало яснее ясного: куковать нам недолго. Именно тогда наступила эра массовой шизофрении.
— Она и раньше тянулась, разве не так? Рэп-радио с дикторами-клоунами, наркотики, алкоголь.
— Правильно! Сумели победить и вытеснить! Сменили шило на мыло. Только мыло-то оказалось еще более скользким! — Путятин заволновался. — Зачем ходить по земле, если в виртуалиях можно летать? Зачем учиться и делать карьеру, когда на экране ты без того король и бог? Человек на победах вырастает, на преодолении, а какие у инсайтов преодоления? Самые что ни на есть пшиковые. Зато удовольствий — море разливанное! Ты сам вспомни, какой куш тебе предлагали за фэновские сценарии! Программисты-сюжетники рокфеллерами становились в считанные дни! Книги — на свалку, дела — по боку! Правители — рады-радешеньки. А как же! Впервые удалось осуществить формулу про хлеб и зрелища. Граждане стали превращаться в инсайтов.
— Ну вот, опять! — Егор устало закатил глаза. — Сколько раз можно повторять!.. Во-первых, слово «инсайт» извратили, — вовсе не то оно значило первоначально. А во-вторых, могильщиков человечества всегда хватало без Интернета. Взять то же телевидение. Вот тебе первая голимая виртуальность! Да и мы от нее, если честно, не так уж далеко отстояли. Что в сущности знаменуют наши книги? Все то же проживание чужих жизней, ощущение чужих чувств. Просто книга — это какой-никакой, а труд. Как театр, как живопись. А появился Интернет и смел последние препоны. Соучастие в ЧУЖОМ стало стопроцентным. Люди окончательно ощутили собственную ненужность самим себе.
— О том и речь!..
— Да не о том! Совсем не о том! Мы же опять не с того конца заходим, как ты не понимаешь! Какой теперь толк громить машины, когда поздно? Все поздно, даже каяться!
— Неправда! — Путятин тяжело качнул головой. — Долг истинного художника и поэта — всегда и везде отстаивать истину, учить людей добру и красоте.
— О, Господи! — Егор поморщился. — Долг поэта, долг художника… Дался вам этот мифический долг! Ничего я и никому не должен! Писал просто потому что надо было что-то делать, как-то и на что-то жить. И не хотел я никого и ничему учить. Потому как незачем! Понимаешь? Не-за-чем! Хочешь толковать о чем-нибудь, — толкуй о тайной свободе по Блоку, свободе, без которой мы умираем, толкуй о прессинге ноосферы, об избытке энергии, но только не о долге! Лучше великих все равно не скажешь, а кто их, великих, когда слушал? Как ни старайся, в лучшем случае только повторишь прописные истины. Вот тебе и весь долг!
Горлик указал на Егора пальцем.
— Тут он прав, Путя. Ой, как прав!
— Конечно, прав! Полистайте сюжеты восемнадцатого века и сравните с двадцать первым, — есть там принципиальная разница? Ежу ясно, что нет. Разве что в языке… А задумайтесь над подтекстом, — может, проблематика разная? Да ничего подобного! И тут вынуждены шлепать след в след!
— Все верно, все в точку!..
— И какой же вывод, если в точку? — Егор взглянул на Горлика, но тот лишь растерянно сморгнул. Насчет выводов он затруднялся.
— А вывод, сударики мои, такой, что миф о долге — всего лишь миф! И нужен наш труд прежде всего нам самим. Путе — Путятинское, а Горлику — Горликовское. Такая вот закавыка, господа дворяне и творяне! Потому как, если это нужно только нам, то и водить пером по бумаге вовсе необязательно. Диоген был честнее, бумаги с папирусами не марал. Сидел себе в дубовой утробе, скрипел извилинами и никому своих мыслишек не навязывал. Это нас, техногенных да нетерпеливых, прорвало. Ринулись черкаться да поучать, ячество свое выказывать. Книги стали тиражами оценивать, стихи — с трибун читать да по концертным залам. Не для себя стали творить, для окружающих, ферштейн? Так что нечего бить себя в грудь! Хотел правды, Путя, вот и получай! Стилет — он, сам знаешь, от какого слова произошел. Стило, стало быть, ручка, предмет, вполне пригодный для агрессии. Так что, братцы литераторы, именно мы с вами были носителями первых виртуалий! Пожали, что посеяли!
— В таком случае… — Путятин грузно поднялся. — В таком случае, говорить нам более не о чем. Возможно, это только похмелье… Хорошо, если только похмелье.
— Это не похмелье, Путя. Это откровение.
— Тогда счастливо оставаться.
— Да постой же! Куда ты пошел?
Не произнося ни звука, Путятин покинул купе, аккуратно прикрыл за собой дверь — подчеркнуто аккуратно, даже замочком не щелкнул. Пожалуй, хлопнул бы от души, — было бы легче. Значит, оскорбился всерьез.
— Обиделся, — Горлик смущенно кашлянул в кулачок. — Чего ты на него набросился? Он тебя навестить пришел, посочувствовать.
— Он себе посочувствовать пришел, — буркнул Егор. — Выдумал очередных врагов, вот и рыщет в поисках союзников.
— Может, и рыщет. Что в том плохого? Сам ты разве не такие же речи толкаешь, когда выпьешь? В смысле, значит, про долг, совесть и сверхзадачи?
— Когда выпью, может, и толкаю. Зато в трезвом виде помалкиваю.
— Ничего себе — помалкиваешь! Взял и надавал оплеух человеку. Спрашивается, за что?
— А нам всегда есть за что оплеухи давать. То есть — и давать, и получать. Овечек нет, все малость озверевши.
— И она тоже? — Горлик указал на Мальвину.
— Вот она — нет. Она не успела.
— Значит, ты уже неправ!
— Ладно тебе… — Егор отмахнулся. — Попрошу вечером прощения, и помиримся. Путя — отходчивый, поймет.
— Станция впереди, — сообщила Мальвина. Она смотрела в окно и в споре не участвовала. — Ход замедляем.
— Ну что? Пойдем погуляем? — Горлик оживился.
— Пойдем, — Егор, охая, встал, поглядел на себя в зеркало. Лицо измятое, местами откровенно изжеванное. Возле рта и глаз — паучьи морщинки. Ну и рожа! Накинь серенькую шаль, нацепи очки, — и получится самая настоящая баба Яга! Егор в сердцах сплюнул.
— Чего ты там опять? Изображением недоволен? Возьми тряпочку и протри.
— Такое никакой тряпочкой не сотрешь. — Пробормотал Егор. Отвернувшись от зеркала, стал неуверенно причесываться.
* * *
— Теперь уже и не проверить, что верно, а что нет. Да в сущности не все ли равно? Пусть будет библейская версия, не возражаю. Хотя с аналогичным успехом могу принять гипотезу об оживших планетах.
— Это, значит, когда они пытаются смывать с себя шелуху и грязь?
— Точно… Вообще-то все пересекается. И результаты конечные сходятся. Судный день, воздаяние за минувшее — вполне конкретная история болезни. Человек заболевает, его лихорадит, тошнит, поднимается температура, по телу выступает пот. То же с нашей Землей. Усиливается парниковый эффект, климат теплеет, ледники тают. — В такт словам Егор отмахивал рукой. — Фагоциты, разумеется, свирепеют, вирус напротив — все более сдает позиции. В нашем случае вирус — это МЫ, приболевший организм — планета. При этом никаких аспиринов и антибиотиков! Болезнь медленно, но верно одолевается естественным путем!
— Ох, и желчный ты сегодня, Егор! Может, зонт тебе дать?
— Обойдусь. А что желчен, так имею право. Сегодня мы с Землей одни и те же ощущения переживаем. Она выздоравливает, мы погибаем. Точка пересечения где-то посередине.
— Альбатрос, иди под зонт! — позвала Мальвина, и пес послушно шмыгнул к ее ногам.
— Следы от пуль, глядите! — Горлик скакнул к зданию и колупнул пальцем выщербленную металлом воронку. Росчерк пулеметной очереди действительно вычертил на кирпичной кладке неровную синусоиду.
— Как думаешь, глубоко они сидят?
— Вряд ли.
— Тогда, наверное, сумею одну выковырнуть, — подбородком придерживая зонт, Горлик зашарил по карманам.
— Зачем тебе пуля?
— Как зачем? На память.
— Ну вот! Совсем ударился в детство! Ты на Мальвину посмотри, даже она улыбается!
— Мальвина, к примеру, девочка, ей не понять… — Горлик уже пыхтел возле стены, перочинным ножиком выскребая кирпичную крошку. Лохматый Альбатрос, склонив голову набок, заинтересованно наблюдал за усилиями взрослого человека.
— Эй, браток! — позвал Егор проходящего мимо солдатика. — Патрон не подаришь?
— Патрон? — боец удивленно остановился.
— Ну да. Видишь, человек мучится. Ученый эксперт, между прочим. Проводит табулярный анализ оружейного калибра. Пуля ему, видишь ли, позарез нужна. Для дифференцированного подхода к метафизической протоплазме. Так сказать, методом интерполяции.
Солдатик усмехнулся.
— За придурка держите, мистер?
— Пардон! И впрямь грешен, — Егор виновато улыбнулся. — Жаль, понимаете, друга стало. Пальцы только зря изрежет и ничего не достанет.
— Это уж как пить дать, — перебросив автомат на грудь, боец выщелкнул магазин, высвобожденный патрон лихо подкинул в воздух. Егор махнул пятерней, поймал.
— Не застрелитесь из него нечаянно, — усмешливо предупредил солдат. — А то сдетонирует и подпортит протоплазму. Из дифференцированного станете интегрированным.
— Учтем-с, — Егор покачал на ладони блесткий патрон. — Тогда еще вопросик, мсье эрудит! Вы часом не знаете, где тут обосновался господин полковник? Павлом Матвеевичем звать.
— ПМ, что ли?
— Ага.
— Зачем он вам?
— Да он нам, как бы это сказать, родственником приходится.
— Брат это его, — Горлик забрал у Егора патрон, любовно покрутил перед глазами. — Причем — родной.
— Ну да! Тогда другое дело. Если брат, могу проводить.
— Уж сделайте такое одолжение! Будем крайне признательны…
* * *
— Аллигаторы? Что за чушь?
— Вот тебе и чушь. Смотритель даже кусок кожи продемонстрировал. Шагрень довольно характерная. Они тут их на наживку, понимаешь, пытались ловить. Одного небольшого, говорят, поймали. — Павел Матвеевич поднял голову, глядя на брата, с горечью констатировал, что из младшего тот успел превратиться в старшего. Жуть, если вдуматься! А всего-то и не виделись — годика полтора. Может, действительно поэты с писателями старятся прежде времени? Или до сих пор он просто не пытался всерьез оценивать возраст людей? В самом деле, что нам возраст посторонних! Впервые о старости начинают размышлять, хороня друзей и родителей. Либо вот так внезапно — с бухты-барахты. Вроде молоды, молоды, и вдруг — раз! — какой-нибудь неприметный толчок — седой завиток на подушке, излишне откровенное зеркало — и видишь, что от молодости мало что осталось. Круги на воде, ускользающее эхо.
— Я этим байкам тоже раньше не верил. Мифическая штольня, какой-то подводный мир. Думал, брехня. Пуритов за шизиков держал — не больше и не меньше.
Егор кивнул.
— Понимаю. Было мнение и сплыло.
— Да уж… От подвала просто так не отмахнешься. И крокодил моего человека сожрал. Лукич, это, значит, здешний смотритель, утверждает, что эхолот туда затаскивали, пробовали сигналами зондировать. Стрелки шкалят, сигнал не возвращается. Само собой, и схемы станционные изучали.
— И что?
— Ничего. Обычный подвал, три пролета, нижний этаж оборудован под складское помещение, пара коротеньких аппендиксов, вентиляционный колодец. Короче, ничего особенного. А теперь там, стало быть, вода, и создается ощущение, что дно просто-напросто куда-то провалилось. Эхолот-то ничего не показывает, да и откуда бы взялись эти аллигаторы?
— Выходит, пуриты сюда не просто так сунулись?
— Выходит, что так.
— Странно… — Егор наморщил лоб. — Я, конечно, не знаю, что там балакают об инсайтах господа ученые, но в интуитивное прозрение, честно говоря, верю. Во всяком случае это единственное объяснение поведения пуритов.
— Увидела во сне Касандра — подвал и двадцать крокодилов… — пробормотал Горлик. — Кстати, Павел Матвеевич! Дрезденовский терминал они ведь, к примеру, тоже штурмовали. Может, и там наблюдалась какая-нибудь аномальная впадина?
— Кто ж нам теперь скажет? — полковник пожал плечами. — Там с ними переговоров не вели. Покромсали из пушек да побросали в волны. Может, что и впрямь было.
— А по-моему, мура все это! — брякнул Мацис. — Какая, к бесу, дыра? Там же океан! Вода, значит, с этими… С акулами. Ну, и дно, понятно.
Егор переглянулся с братом. У обоих в глазах мелькнуло одно и то же. Робкая и безумная искорка. Надежда на что-то, чего в принципе нет и быть не могло.
— А если проверить? — тихо проговорил полковник.
— Каким, интересно, образом?
— Насколько я понял, у нашего смотрителя имеется заветный планчик. Больно хитрый дядечка. Наверняка припрятал что-нибудь про запас.
— А где он сейчас?
— В подвале сидит. Во Ганг там с пулеметом дежурит, а этот рядом — в качестве консультанта… — Полковник потер ладонью шероховатую поверхность стола. Словно погладил живое существо. Так оно в общем и было. В поездах преобладал пластик, а тут красовалось настоящее дерево! Кожа прямо-таки сама тянулась к нему — прижаться, потереться.
— Я тут между делом обошел станцию, по комнаткам с подсобками прошвырнулся и вот что, понимаешь, обнаружил. В диспетчерской акваланги лежат, а в дизельной — вполне исправный компрессор. Спрашивается, на хрена козе баян? То бишь — нашему станционному смотрителю акваланги с компрессором? Куда это он нырять собрался?
— То есть? — Егор нахмурился. — Ты полагаешь, инвариантность сознания дала трещину?
— Брось! — полковник поморщился. — Какая, к черту, инвариантность! Просто надо еще разок все тщательно проверить. Тем более, что пуриты не сегодня появились, а слухи да сплетни, признаться, надоели хуже горькой редьки. Пора выяснить все от и до! Либо, значит, есть феномен, либо нет. И поставить на этом точку!
— Точка сама собой выйдет, — протянул Горлик. — Возможно, очень даже скоро. Только вы, братцы, не о том, к примеру, говорите.
— Что ты имеешь в виду?
— А то, что поезд минут через десять отправляется. За нами другие литерные шпарят. Так что на все ваши изыскания временем мы попросту не располагаем.
На минуту они замолчали. Горлик сказал правду. Поезда в самом деле долго на одном месте не застаивались. В их же случае длительных остановок не предвиделось вовсе.
— Кому-то надо остаться, так? — Егор хмуро взглянул на брата.
— Можно, конечно, и не оставаться, — отозвался тот. — Только жалко… Я-то в любом случае не могу. За мной волонтеров чуть ли не полторы роты, а в Киевском эшелоне по слухам опять буза. Уже просили о помощи. Плюс Ленинградский состав телетайп выслал. У них там тоже пуриты… В общем пока не могу.
— Тогда останусь я, — Егор положил ногу на ногу, легкомысленно качнул носком.
— И я! — радостно согласилась Мальвина.
— Эй! Вы чего это затеяли? — Горлик растерялся. — Поезд же уйдет!
— Уйдет, значит, уйдет.
— Егор, ты шутишь?
— Ничуть.
— Елки зеленые! Что вы здесь делать собираетесь? Летучих мышей кормить? Поезда-то они не трогают, а станции, говорят, стаями атакуют. Глаза выклевывают, заживо съедают.
— Что-то пока не видел я здесь летучих мышей.
— Потому что день. А наступит ночь — и прилетят.
— Сказки, Горлик! Всего-навсего сказки.
— Тем не менее, в сказку о штольне вы, похоже, поверили!
— Поверили, — Егор простецки кивнул. — Почти. Во всяком случае терять нам нечего. Внесем хоть какое-то разнообразие в скудное бытие.
— Послушай, если ты из-за Ванды…
— Все, Горлик, хватит! — Егор поднялся, внимательно взглянул на Мальвину. — Ты-то зачем хочешь остаться?
— Я с вами, — жалобно протянула она. — И Альбатросу будет, где погулять.
— Ну-с, а ты, господин писатель?
— Ребятки! Я так сразу не могу, — Горлик растерянно заморгал глазками. — Если бы, к примеру, заранее приготовиться. Вещички там, рукописи подсобрать… Опять же друзей надо предупредить.
— Сам видишь, как все получилось, — Егор пожал плечами. — У меня, если честно, там никого и ничего. Ни рукописей, ни друзей, ни вещичек. Разве что — ты, Жорик да Путя. Так и того успел обидеть…
Пронзительный гудок заставил Горлика подскочить.
— Скоро отправится, — пробормотал он.
Полковник тоже поднялся.
— Без меня, один хрен, не тронутся. Это они предупреждают.
Натянув на голову шапочку, Павел Матвеевич протянул Егору руку.
— Ладно, бывай, Егорша! Со связью тут, кажется, порядок. Если что, сообщай все в подробностях. И удачи!
— Ты бы мне это… Оставил, что ли, какую-нибудь пукалку.
— Это пожалуйста, — полковник сунул руку за пазуху и протянул пистолет с глушителем. — Правда, всего половина обоймы, но тебе ведь не от мышей летучих отстреливаться.
— Сумасшедшие! Ей Богу, сумасшедшие… — Горлик продолжал растерянно топтаться.
— Ну что? — полковник усмешливо хлопнул его по плечу. — Решайся, брат пиит! А то действительно сейчас уедем.
— Я бы остался, но… Не умею я так вот сразу, — Горлик умоляюще глядел на Егора.
— Не боись, Горлик, встретимся еще! Привет Жорику с Деминтасом передавай! И Маратику, само собой! Путятину скажи, чтоб не дулся.
— Передам, конечно…
Снова басовито засифонил гудок.
— Надо бы двигать, а, Павел Матвеевич? — Мацис стоял уже возле двери.
— Идем, идем, — полковник пристально взглянул на брата. Неожиданно припомнилась давняя картинка: тот же Егор в детской кроватке, только-только научившийся стоять. Держась ручонками за стену, покачиваясь, неуверенно выпрямляется. Ручки и ножки толстенькие, в складочках, на щекастом лице — счастливая улыбка. Впервые на своих двоих — разве не счастье? И улыбка такая, что и самому не удержаться — ответно растянешь рот до ушей. Может, оттого и не водится ничего лучше младенческих улыбок, что нет у них еще зубов. Не глянцевыми и красивыми зубками улыбаются дети, — душой. Оттого столь хорошо блестят у них глазенки. Они и есть первоисточник улыбки, не губы…
Стиснуло сердце, захотелось шагнуть к брату, крепко стиснуть в объятиях. Сразу двоих — нынешнего, постаревшего, и того далекого, стоящего на кроватке, лучащегося беспричинной радостью. Полковник сдержался.
— Ты вот что, братик. На старикана здешнего не слишком полагайся. Корявый он, понимаешь? С подтекстом, говоря по-вашему.
— Мы так не говорим, но все равно спасибо. Буду приглядывать.
— Тогда бывай. Даст Бог, еще увидимся, — Павел Матвеевич пожал родную ладонь, скупо кивнул и вышел. Уже под дождем, с облегчением подставил лицо небесным прохладным струям.
А даст ли Бог свидиться? Должен ли ТОТ, что живет за тучами и облаками, вообще что-нибудь двум отбегавшим свое взрослым людям?… Хлещущая вода заставила зажмуриться, мотнув головой, полковник полез за платком.
* * *
Альбатрос скакал на месте, то приближаясь к туше, то снова отпрыгивая. Прижав к груди сжатые кулачки, Мальвина с ужасом смотрела на подрагивающие лапы крокодила. Гигантское животное было мертво, но судорога еще крючила ископаемые мышцы. Даже смотреть на убитого крокодила казалось страшным. Заметив, что Лукич достал широкий охотничий нож, Егор развернул Мальвину за плечи, мягко подтолкнул в спину.
— Поднимись пока наружу. Да не стой там под дождем, зайди в сторожку.
— Вы станете его потрошить?
Помешкав, он кивнул. Мальвина подхватила песика на руки, по ступеням отправилась наверх. Егор взялся за цевье прислоненного к стене АПС — подводного автомата, стреляющего микрогарпунами, и вновь отложил. Крокодил без того был мертв, добивать его не имело смысла. Смотритель между тем совершенно спокойно примостился сухоньким задом на чешуйчато-темной туше, примерившись, взялся за дело. Немного понаблюдав за брызжущей кровью (подумать только! — такой же красной), Егор отвернулся. Даже вслушиваться в чмокающие и хрусткие звуки было противно.
— Ну вот!.. — послышался обрадованный голос старика. — Еще один трофей. Сейчас сполосну и рассмотрим как следует.
Егор продолжал глядеть на темную, местами покрытую бархатом лишайника стену, а Лукич продолжал за спиной азартно возиться над тушей.
— В прошлый раз пояс был с ножнами. Это тот, значит, который пуриты забрали, а теперь, кажись, что-то поинтереснее…
Егор скользнул взглядом по автомату.
— АПС тоже пуриты оставили?
— Они, кто же еще. Славная, кстати, штучка! Двадцать шесть патрончиков, калибр, конечно, небольшой, однако любую акулу насквозь прошибет. И этих горынычей, понятно, берет. Хоть в рыло стреляй, хоть в пузо… Ага! Да это же уздечка! Глянь-ка! Ну да, она самая!
Егор обернулся. Смотритель был прав. То, что он вертел в руках, и впрямь походило на простенькую уздечку. Впрочем, не совсем простенькую. По кайме кожаных измятых полосок тянулась золотистая кайма. Крохотные заклепки с какими-то листиками и лепестками, нечто напоминающее скифские украшения. Егор взял мокрую уздечку, внимательно осмотрел.
— А где же лошадь? — глуповато спросил он.
— Известно где, — смотритель хмыкнул. — Хотя вопрос, между прочим, по существу! Одно дело — ножны, совсем другое — уздечка. Лошади-то без суши не живут, верно? И на подлодку стадо кобылок вряд ли кто возьмет.
— Что же из этого следует?
Лукич снова склонился над разрезанной тушей, погрузил в глянцевые внутренности руки, ищуще зашарил.
— А черт его знает, — пробурчал он. — Начнешь делать выводы, точно спятишь. То есть, по всему выходит, что там и впрямь сухо.
— Где это — там?
— Там — это там! — смотритель ткнул пальцем вниз. — Откуда, значит, вылез этот плезиозавр.
— А может, он сжевал лошадь лет десять назад?
— Может, и так, — старик хитро прищурился. — Только все, милок, от того зависит, в чем мы, собственно, хотим себя убедить. Я ведь те ножны своими глазами видел, мне себя обманывать не к чему. Вот и получается: там ножны, тут — уздечка, да и сам крокодилище на карася не слишком похож. Не многовато ли странностей?
— Пожалуй, что многовато.
— Тьфу! Весь перепачкался! — смотритель, поднявшись, пнул в крокодилий бок, шагнув к воде, принялся полоскать маслянисто багровые руки. Уверенными движениями смыл кровь, колупнул под ногтями.
— Кроме уздечки ничего. Жалко… В прошлый раз проще было. Помощники подсобляли, да и света хватало. А тут одна-единственная переноска.
— Уздечку все-таки нашли.
— Нашли… — подтвердил смотритель. Взглянув на Егора, проговорил: — А вывод какой? В смысле — что делать-то дальше будем?
— Как что делать? Ты ведь без того все решил, разве не так? — Егор ответил Лукичу столь же откровенным взглядом.
— Ну это как сказать.
— А что тут говорить, все понятно. В дежурке три акваланга, маски с ластами. Этажом ниже вполне исправный компрессор. Неужто нырять собирались?
Смотритель вновь занялся руками, тщательно протирая каждый палец, сосредоточенно изучая каемку обломанных ногтей. То ли обдумывал, что ответить, то ли не хотел говорить вовсе. Переступив крокодилью тушу, Егор шагнул ближе, присел рядом на корточки.
— Хорошо… Предположим нырнем мы, дальше что? Куда плыть-то, ты знаешь? Вправо, влево или вниз?
— Вниз, конечно! Какой вопрос. Суша-то там!
— А если нет там никакой суши?
— Значит, вернемся.
— Это в такой-то темнотище? Или, может, у тебя фонари имеются?
— Фонари были. Только раскокали их господа пуриты. Брали с собой на посты, понимаешь. Остался один, но слабенький. Только дело не в фонарях, мы ж не дурики малолетние, — смотритель встряхнул руками, достав носовой платок, стал утираться. — На тросах капроновых пойдем. По ним и обратно вернемся, если что.
— А вернемся ли?
Смотритель уставился на Егора долгим взглядом.
— Может статься, и не вернемся, — медленно проговорил он. Мы же не знаем, что там есть. А вдруг и впрямь город подводный? Дело-то известное, на всех мест никогда не хватает.
— Значит, бросить всех здесь?
— Ты о чем это, голуба? Никто никого не бросает! — бородка Лукича сварливо дрогнула. — Все давно сами по себе, и я тебе, мил друг, не спаситель человечества!
— Оттого, значит, помалкивал при брате?
— А чего болтать попусту! — смотритель сердито засопел. — Нечего дудеть и барабанить прежде времени. Будем ТАМ, тогда все и решим. Коли хорошо и не тесно, можно и знак подать. Жалко, что ли? Только это тоже с умом надо делать.
— В каком смысле?
— В прямом. Ты сам сообрази, прознает вдруг народец про спасение, и что начнется? Молчишь? А я тебе скажу! То и начнется, что кинутся все разом к проходу, пойдут состав за составом. Долго, думаешь, выдержит станционный узелок?
Егор, не отвечая, хмуро растер лоб.
— То-то и оно, что недолго. Раскачается станция и под воду уйдет… — Смотритель некоторое время молчал, потом вдруг неожиданно добавил: — А девчонку ты зря на поезд не спровадил, нечего ей было здесь делать.
— Причем тут я? Она сама не захотела ехать.
— Мало ли чего не хотела. Пусть бы себе ехала. Куда ты ее денешь сейчас?
Они встретились глазами, и в рысьих зрачках смотрителя Егор углядел всполохи чего-то недоброго. Бывает так иногда. Видишь человека, вроде бы знаешь, а вот мелькнет иной раз такое в глазах — и понимаешь: чужой.
— Ничего. С нами поплывет, — Егор старался говорить спокойно. — Акваланга-то три!
— Нам запасной нужен, это во-первых. А во-вторых, думаешь, она своего песика здесь бросит?
Егор опустил голову.
— Так-то, чудила! Прежде чем делать, всегда думать надобно… — Лукич поднялся. — Ладно, пошли чаевничать. Заодно покумекаем насчет погружений.
— А это как же? — Егор кивнул на крокодилий труп. — Здесь оставим?
— Куда же его девать? Да и не вынести нам такую тушу. В нем полтонны, наверное, будет!.. — старик хмыкнул. — Да ты не бойся, найдутся могильщики. Либо свои же собратья утащат, либо мыши съедят. Надо только дверь оставить открытой — и всех делов.
* * *
Койка под спиной не дрожала, и было безумно тихо. Ни грохота колес на стыках, ни скрипучего покачивания. Мало сказать — непривычно, ощущения казались фантастическими. Ему и присниться успело что-то странное. Что именно, он не запомнил, но сердце по сию пору взволнованно билось, и капелька пота щекочуще скользила от виска к уху.
Открыв глаза, Егор некоторое время смотрел в серый срез потолка. Не яшма, не змеевик, — обычный бетон, но и его хватало для разгульного воображения. Среди разводов и трещинок легко и просто рисовались батальные и космические сцены, всплывали удивительно одухотворенные лица. Триста спартанцев под градом стрел, корабль среди скал чужой планеты, мальчик, задумавшийся над письмом… Мозг, еще не пробудившийся окончательно, работал с завидным прилежанием — трудился не ради чего-то конкретного, просто изображал то, что ему нравилось.
Вздрогнув, Егор прислушался. Слабое покачивание все же присутствовало. Правда, иной природы. Там потряхивало несущиеся вагоны, здесь медлительно раскачивались высотные опоры. Волны и ветер задавали неспешный ритм, амплитуда была совсем небольшой, однако, если лежать без движений, некий глубинный маятник под диафрагмой все-таки реагировал, откликался в ответ на порывы стихий.
Неторопливо одевшись, Егор вышел в коридорчик, сунулся в дежурную комнату, где, питаемый от ветряка, гудел простенький диспетчерский компьютер. На карте-табло слабо мерцали ниточки ползущих составов. Карта показывала Европейскую зону, красная звездочка в центре знаменовала собой станционный узел, на котором они сейчас находились. Поискав глазами, Егор нашел гусеницу литерного, уносящего Горлика, Диму скрипача и брата. Скверно, что не успел попрощаться с доктором. Все же что-то с ними в последние дни произошло. На какую-то малость они приоткрылись друг другу. Да и с братом, похоже, могло все снова склеиться.
Егор неожиданно подумал, что в числе близких ему имен впервые не помянул Ванду. Действительно странно! Стоило сойти с поезда, и рана тотчас стала затягиваться. Совсем как прорубь, тронутая свежим морозцем. Может, оттого и встреча с Павлом получилась вполне теплой, без прежней натянутости?…
Егор криво улыбнулся. А что у него, собственно, было с Вандой? Да и было ли?… То есть, да, конечно, было! Пять-шесть месяцев из прошлой жизни, счастливые полгода. Им было хорошо, настолько хорошо, что они проморгали начало глобальных катаклизмов. Очнулись только когда грянули первые затяжные ливни и люди бросились с равнин на возвышенности. Паника подхватила их, закружила в неласковом смерче, просто и без усилий оторвала друг от дружки. Может, в этом и крылась вся закавыка? Оказавшись на чужбине, люди подсознательно тянутся к своему прошлому, превращая вещи минувшего в талисманы, людей из улетевших дней — в лучших друзей. Она тоже была для него подобным осколком — кусочком времени, в котором еще светило солнце и зеленели убегающие к горизонту леса? И дети — как много тогда было детей! — играющих, плачущих, дерущихся. В поездах они куда-то пропали. То есть, может, и не пропали, но, зажив серенькой вагонной жизнью, стали тихими и незаметными. Впрочем, обо всем этом он еще успеет подумать. Чтобы прошлое стало по-настоящему прошлым, от него следует отойти на приличную дистанцию. А, отойдя, по-новому прислушаться и приглядеться.
Покинув диспетчерскую, Егор вышел в коридор, рассеянно дернул себя за ухо. Заглядывая в комнаты, двинулся по станции. Тишина, казавшаяся до этого момента прекрасной, начинала настораживать. Он был здесь один, и это откровенно нервировало. И потом — куда подевалась Мальвина? Успела проснуться и вышла с песиком погулять?
— Эй! — позвал он. — Есть тут кто-нибудь?
Голос одиноко скользнул по пустым коридорам, не породив ни малейшего отклика. Тревожное чувство кисельными щупальцами огладило сердце. Черт!.. Не то это место, чтобы так просто выходить наружу. Во-первых, летучие мыши, во-вторых, аллигаторы, а в-третьих… В третьих, после замкнутого пространства выходить на открытое — тоже небезопасно. Для глаз, для психики. Горожане, попадавшие в края заснеженных гор, помнится, даже слепли в первые дни. Отказывали глазные дилататоры и сфинктеры, хрусталик и радужка сочились беспрерывной слезой. Так и тут. Мало ли что бывает!
Натянув плащ и проверяюще цапнув в кармане рукоять Павлова подарка, Егор быстро сбежал вниз, вышел под дождь. Моросило в привычном ритме. Во всяком случае бывало и хуже. Повертев головой, он двинул в обход здания. Свернув за угол, на секунду задержался. Отсюда открывался вид на двойку разбегающихся вдаль мостов. Видимость была всего-то метров сто и, облокотившись о перила, Егор разглядел плещущие далеко внизу свинцовые волны. Его величество Океан сумрачно играл глянцевыми мускулами. Чудовище, умудрившееся в пару лет скушать планету, словно добрую котлетку.
Егор прошел чуть дальше, миновал подвальчик с убитым аллигатором. Здесь на небольшой площадке поблескивала россыпь автоматных гильз, в беспорядке лежали мешки с песком. Бывшая баррикада пуритов. Здесь и пахло, казалось, чем-то дымным и кислым, хотя пахнуть, конечно, не могло. Все ароматы прибивал дождь. Единственный и главный запах знаменовал собой запах близкого океана…
На мгновение ему показалось, что он слышит голоса. Егор хотел крикнуть, но почему-то не стал этого делать — должно быть, повиновался внутренней подсказке. Миновав разбросанные мешки, пересек железнодорожный путь с трансформаторными насквозь проржавевшими коробками, по канатному переходу перебежал на смежное направление. Отсюда, кажется, и атаковали волонтеры брата. Огромный мост фантастической эстакадой плавно спускался в воду, чем-то напоминая корабельные стапели. Справа обломками гигантской зуба из океана торчали остатки взорванной опоры, а чуть дальше угадывалось какое-то шевеление. Дождь не позволял рассмотреть подробности, но без того было ясно, что происходит нечто скверное. На ходу выхватывая пистолет, Егор бросился бежать. Оскальзываясь на мокрых шпалах, пару раз приложился коленями к бетону. Сердце выпрыгнуло из груди, воробьем затрепыхалось у самого горла. Он наконец-то разглядел смотрителя.
Стоя на четвереньках у самого края моста, Лукич что-то шипел сквозь зубы и время от времени бил рукой куда-то вниз. Слуха Егора коснулся детский полувсхлип.
— Эй! Ты… Ты что делаешь! — Егор задыхался. Ноги цепляли мокрые бока шпал, он едва не падал. Бородатое лицо смотрителя глянуло испуганно, и уже по бегающим старческим глазкам стало ясно, что предчувствия Егора не обманули.
— Чего ты, Егорша!.. Упала она. Подскользнулась и упала. Сама…
— Упала? — багровая пелена заволакла взор, из черно-белого мир стремительно перекрашивался в бурые тона. Бывают такие мгновения, когда в самом деле посещает прозрение. Есть, верно, в мире настоящие инсайты, если даже глаза простых смертных способны приоткрыться. Егор не нуждался в объяснениях. Все и без того было понятно. Палец притопил спуск, глушитель превратил выстрел в невинный хлопок.
— За что? — Лукич медленно прижал руку к груди и отворил рот. Он словно хотел что-то еще сказать и не мог. Глаза его мертвели и выцветали, теряя последний старческий блеск. Из уголка губ выполз багровый червячок, пробным вагончиком пустил вниз по подбородку масляную капельку. Так и не отняв рук от груди, смотритель упал лицом вперед, ударившись лбом о рельсину, и именно этот удар, глухой и отчетливый, яснее ясного убедил в том, что старик мертв. Суетливо перешагнув через тело, Егор сунулся головой меж ограждающих прутьев и испуганно содрогнулся.
Мальвина висела, побелевшими пальцами вцепившись в стальную балку. На костяшках кожа была сорвана, — видимо, смотритель бил по рукам. Качнувшись вперед, Егор ухватил девочку за кисти, сцепив зубы, потянул вверх. Что-то треснуло в спине, от напряжения на миг помутилось в голове. Подумалось, что руки не выдержат, и Мальвину, которую не сумел утопить старик, утопит он. Эта паническая мысль, наверное, и заставила удержать девочку на весу. Немного помогла сама Мальвина, ногами дотянувшись до клепанного железа, встав на край балки. Тяжело дыша и крепко обнявшись, они так и застыли на мосту — по разные стороны перил. Когда наконец вернулась возможность говорить, Мальвина подняла заплаканное лицо и горько сообщила:
— Альбатрос упал. В воду…
— Ничего, успокойся. Все теперь позади, — шепнул Егор, хотя ничего позади не было. Славный песик, конечно, уже переваривался в акульих желудках, и еще одной горькой складочки воспоминаний было не избежать.
— Пошли, — он помог девочке перебраться через перила. Руки у него дрожали. Мальвина продолжала тихонько всхлипывать, и Егор неловко погладил ее по мокрой голове. Возле лежащего у рельсов старика, они не задержались.
* * *
Крушение произошло ночью.
Мальвина, по счастью, не проснулась, а Егор, схватив пистолет, выскочил наружу. Даже не видя картины случившегося, он уже знал, что стряслось. Зло отмахнулся от впившейся коготками в грудь летучей мыши, обогнул пост и, оскальзываясь на шпалах, бросился бежать по главному пути.
Первопричины его мало интересовали. Возможно, получилось то, о чем рассказывал Ван Клебен, а может, и что похуже. Но так или иначе ЭТО произошло.
Вряд ли он мог что-нибудь рассмотреть, но по грохоту и лязгу рвущегося металла, по тому, как дрожит под ногами рельсовый путь, становилось ясно, что это самое настоящее крушение. Где-то не очень далеко гнулись опоры, огромная махина моста заваливалась на сторону, и с пушечным гулом сталкивались летящие на скорости вагоны, в толчее добивая друг дружку, сминая в кровавую гармонь сотни купе и коридорных пролетов. Железная искромсанная каша уходила на дно океана, и вспомнились слова Марата о дюжине составов и сорока тысячах человеческих жизней.
Егор не видел крови, не слышал да и не мог слышать криков умирающих, но одно понимание того, что всего в трех-четырех километрах от поста на стыке сходящихся в станционный узел мостов погибают люди, заставило сердце болезненно сжиматься. Плечо теребили зубки вгрызающейся в ткань перепончатокрылой твари, но Егор ее не замечал. Воображение рисовало то, чего не видели глаза, и кипучий адреналин шампанным хмелем бил в виски, заставлял разгоняться в сумасшедшем ритме незримых барабанщиков.
Наверное, около часа ему понадобилось, чтобы добраться до места катастрофы. Егор и сам не знал, на что надеется, зачем ему нужно было отправляться в столь долгий и вовсе небезопасный путь. Кроме того, на станции оставалась Мальвина, а ее нельзя было бросать. И все же ноги сами переступали по шпалам, некий магнит тянул и тянул его вперед.
Увы, все оказалось напрасным. Никого он не спас, и глас, приманивший его к разрушенному мосту, оказался еще одной обманчивой иллюзией. Перекрученной спиралью железобетонная колея косо уходила в волны. Чуть впереди в мареве дождливых струй угадывался силуэт склонившей опоры. И ничего больше. Ни крови, которую, если и была таковая, давно смыл дождь, ни искалеченных тел. Возможно, на том конце он мог бы увидеть уцелевшие вагоны, но это было слишком далеко. Простояв какое-то время над местом гибели пассажиров, Егор поплелся назад.
* * *
— Мы спустимся внутрь земли?
— Почему ты так решила?
— Я книгу читала. «Плутония». Там люди спускаются во впадину и оказываются на внутренней поверхности планеты. Сначала кругом льды, а потом становится теплее и теплее. А в конце концов они узнают, что все древние животные уцелели, представляете? Мамонты, плезиозавры, гигантские муравьи… Когда началось похолодание, они успели укрыться под землей. Все равно как в большой пещере.
— Ловко!
— Значит, такое действительно возможно?
— Вряд ли, хотя… — Егор растелил на столе гидрокостюм, ножницами вырезал обведенные мелом участки. — Видишь ли, есть такая наука — фрактальная физика. Мне один знакомый врач рассказывал. Так вот физики уверяют, что основа всего на свете — не масса, а электрический заряд. Дескать, гравитация мало что объясняет, а заряд как раз все раскладывает по своим полочкам. Заряд нашей планеты тоже вроде как не соответствует своей предположительной массе. В общем они уверены, что Земля и впрямь пустотела.
— Как шар?
— Примерно. То есть, оболочка — километров сто-двести, а дальше либо атмосфера, либо что-то еще.
— Значит, шахты и норы — это опасно?
— Почему опасно?
— Так ведь сдуется! — Мальвина испуганно повела плечиком. — Шарик тоже, если проткнуть иголкой, может сдуться. Или лопнуть.
— Ну… Будем надеяться, что планета — не шар. В том смысле, значит, что не резиновый шар.
— Что же там внутри? Еще один человеческий мир?
— Спроси что-нибудь полегче. То есть инсайты в этот мир верят, а я нет.
— А во что вы верите?
— Наверное, уже ни во что.
Мальвина чуть подумала.
— Инсайты — это те, что играют в электронные игры?
— Да нет. На самом деле инсайты — это вроде пророков. Могут внутренне прозревать и видеть то, чего не видят другие. Кое-кто из них утверждает, что там под водой давно уже вызрела новая цивилизация.
— Как это — вызрела?
— Ты меня об этом спрашиваешь?
— Но как же наш мир? Где тогда он?
— Наш? Должно быть, сжимается. — Егор хмыкнул. — Видишь ли, обычно перед вспышкой сверхновой, звезда должна основательно сжаться. Вот мы и сжимаемся. А может, просто проваливаемся. В царство Тартара, к примеру.
— Разве мы не наверху!
— Милая ты моя! Кто бы знал твердо и определенно, где верх, а где низ. В людских отношениях, в геополитике… — Егор открыл тюбик с клеем, с осторожностью принялся за дело. Вырезанные в гидрорезине пазухи замазал коричневой пахучей патокой, с силой свел кромки. Клей оказался могучим — высыхал в течение нескольких секунд, а склеивал так, что можно было не проверять. Уже через четверть часа Мальвина вновь примерила обновку.
— По-моему, лучше, — оценил Егор.
— Лучше-то лучше, но как же в нем жарко! — пожаловалась она.
— Не беспокойся, под водой жарко не будет.
— А если совсем без костюмов — замерзнем?
— Ну… Во-первых, без них нас наверняка сожрут. Акулы — они ведь, как волки, — на расстоянии запахи чуют. Голый человек пахнет, в резине — нет. А во-вторых, может, действительно замерзнем. То есть, на поверхности температура вроде подходящая, но глубина это всегда глубина. Тут все, понимаешь, непредсказуемо.
— А если на нас нападут?
— Пусть попробуют! Мы же вооружены. Ты, главное, смотри на меня и слушайся. Что скажу, то и делай.
— Как же вы скажете? Под водой-то?
Он хмыкнул.
— Ваша правда, барышня. Сказать не сумею. Зато постараюсь изобразить. Пальцами, например. — Егор заставил Мальвину повернуться к нему спиной. — Мда… Портной из меня неважный. Костюмчик-то форму утерял! Вон и горб какой-то образовался.
— Вы только не расстраивайтесь.
— Я не расстраиваюсь. Наоборот. — Он улыбнулся. — Теперь на тебя смотреть — одно удовольствие.
— Это еще почему?
— Да потому что была ты девочкой Мальвиной, а стала вдруг черной лягушкой.
— И вовсе неправда!
— Правда, правда!..
В переклеенном урезанном до нельзя гидрокостюме Мальвина и впрямь смотрелась потешно. Как ни перекраивали резиновую ткань, как ни хитрили, от воздушных полостей избавиться не удалось. Оно и понятно. Попробуйте-ка перешить взрослую одежонку, чтобы пришлась впору тщедушному подростку! Егор утешал себя тем, что плавать в перекроенном костюме им не век, всего-то, может, и понадобится на один-единственный разочек.
— А если тебе на бережочке посидеть, а? Я нырну, разведаю что там да как и вернусь.
— Нет! — она решительно замотала головой. — Я уже один раз сидела!
— Когда это?
— Еще когда маленькой была. В саду дождь пошел. С градом. А до домика бежать было далеко. Я взяла и присела под крыжовниковый куст. У нас кусты были большие, раскидистые. Под ними всегда сухо. И вот залезла я, гляжу, а рядом мышь!
— Мышь?
— Ага! — Мальвина кивнула. — Большая такая, мокрая. Стоит на задних лапках, смотрит на меня и дрожит. Видно, что меня боится, а под дождь выбегать все равно не хочет. Глазки — такие черные, как бусинки, и никакой в них злости. Смешно, правда? Кругом вода журчит, а мы все равно как на маленьком острове. Так и просидели вместе. А потом я решила, что обязательно заведу себе песика. И завела.
Глядя на девочку, Егор подумал, что ей действительно будет страшно остаться одной. Тем более, что затхлый подвал — не куст крыжовника, да и песика больше нет. Так и проплачет до тех самых пор, пока он не вернется.
— Мда… — протянул Егор. — Трудно тебе придется в таком одеянии. Даже не уверен, сумеешь ли ты нырнуть.
— Как же быть?
— Не знаю. Наверное, придется повесить на тебя еще парочку другую грузов. Иначе просто не утонешь.
— Все равно я с вами!
— А если скушают? Могут ведь, чего там скромничать!
— Все равно!
— Ну, смотри, отважная. Мое дело — предупредить… — Егор снова покрутил перед собой девочку, неловко огладил пупырчатую резину. — Ладно, на воде окончательно все подрехтуем.
— Скажите, а смотритель… Почему он не хотел меня брать? Потому что я девочка?
Егор взглянул Мальвине в глаза, мысленно чертыхнулся. Вот напасть-то! Каково это — спрашивать о человеке, пытавшемся тебя убить! Это ведь тоже понять нужно! Кто-то — и вдруг хочет тебя убить. За что? Почему?…
— Нет, — он покачал головой. — Не потому что ты девочка, а потому что он мерзавец. Есть, знаешь ли, такая категория людей. Не то, чтобы их очень много, но и без них как-то не обходится.
— Он что-то для меня пожалел?
— Не знаю и знать не хочу. Давай, не будем о нем вспоминать, хорошо?
— Хорошо, — она кивнула.
— Вот и славно! — Егор шлепнул ее по ягодицам. — Одевай маску, будем тренироваться!
— Будем! — Мальвина просияла, словно ей предложили поиграть в пятнашки. Егору стало удивительно грустно. Он окончательно понял, что нельзя оставлять ее тут. Литерный ушел, Альбатрос погиб. А подлецов, подобных смотрителю, на Земле, даже нынешней, по сию пору хватает. Кто знает, как примут ее на другом поезде. То есть, приняли бы, потому как теперь после крушения — и поездов никаких не ожидается. На станции тоже долго не продержаться. Из опыта прежних катастроф Егор знал, что, находясь в натяжении меж двух разбегающихся железнодорожных ниточек, станционная точка относительно устойчива и надежна. Стоит одному из рукавов оборваться, и вся статика многочисленных опор тотчас перекашивается. Вереница последующих мостов, раскачивающихся и живущих своей незаметной жизнью, тянет станцию за собой, миллиметр за миллиметром наклоняя опоры, неукротимо приближая к роковому краю. Вполне возможно, ЭТО случится месяца через три-четыре, но может произойти значительно раньше. Например, через неделю, а то и завтра. Хрупнет одна из несущих, лопнет очередной трос, и набрякшая от льющейся с небес воды бетонная громада станции черепахой поползет вниз. Сначала медленно, потом быстрее и быстрее…
Чтобы не видеть картин, услужливо представленных ехидной фантазией, Егор рывком взгромоздил на стол брезентовый мешок, с грохотом высыпал пестрое содержимое.
— Будем тренироваться, — повторил он. — По полной программе. Забьем от компрессора акваланги, отправимся гулять по станции. По пути научимся общению.
— На пальцах, да? — Мальвина продолжала улыбаться.
— Не только, — он протянул ей оснащенную шипами резиновую дубинку. — А этой волшебной палочкой ты должна научиться отбиваться от докучливых рыбок.
— А вы?
— Я, понятно, тоже…
* * *
Ни видеосвязи, ни радиостанций здесь не водилось, зато обнаружился релятор — старенький, но вполне исправный. Этакий угловатый «ундервуд» среди современных обтекаемых форм. Скоренько сочинив письмо брату, Егор с третьей или четвертой попытки скормил его заурчавшему агрегату. Заморгали глазки модемного блока, весточка отправилась в путь.
Вернувшись к Мальвине, Егор в очередной раз перетряхнул экипировку: забитые до отказа акваланги, гидрокостюмы, грузовые пояса, шипастые противоакульи дубинки, автомат АПС с початой обоймой, часы со стрелкой глубиномера. Семь раз отмерь, один раз отрежь — в подобных делах годилась именно такая формула, и потому тщательнейшим образом осматривали все детали экипировки. Пистолет, снабженный глушителем, он упаковал в полиэтиленовый пакет, решив спрятать за пазуху. Автомату уделил больше времени, хотя разбирать его не рискнул. Работает, и ладно! Только выщелкнул тяжеленный магазин, опасливо пересчитал удлиненные жутковатого вида патроны. И впрямь минигарпуны! Успокоенно вставил магазин на место. Как бы то ни было, но аллигатора эта штучка уложила проще простого, стало быть, уложит и акулу.
Последние приготовления проходили в знакомом подвале. Трупа аллигатора уже не обнаружили, — смотритель оказался прав, что, впрочем, отнюдь не радовало. Если нашлось кому утянуть в воду пятисоткилограммовую тушу, значит, вполне возможны неприятные встречи «внизу». Мысленно Егор похвалил себя за то, что не поленился провести тренировки на «суше». Акваланг Мальвина сумела натянуть на спину вполне самостоятельно, дыхательного автомата и манометров больше не боялась. Другое дело — спускаться под воду, тут все равно следовало переступить через определенный психологический барьер, но он надеялся, что девчушка справится и с этим. Фонарь, что остался в наследство от смотрителя, для серьезных погружений действительно не годился. В воде он светил всего-то метра на три-четыре. Но довольствоваться приходилось тем, что имелось в наличии.
Как было оговорено ранее, соорудили простенькую капроновую связку. Избыточную длину Егор смотал компактной бухтой, сунул себе за пояс. Пришлось немного поэкспериментировать с грузами. Самому Егору хватило четырех килограммовых пластин, а вот на маленькую Мальвину в ее мешковатом одеянии пришлось навесить аж добрых полпуда. Коротко договорились об основных сигналах, хотя все ситуации предусмотреть было, конечно, невозможно. Не вызывало сомнений, что если начнутся сюрпризы, придется экспериментировать на ходу. Лишний раз Егор проверил показания приборов дыхательных аппаратов, удобнее развернул циферблат глубиномера. Как там ни крути, а старикашка оказался на редкость запасливым!
— Ну? — он взглянул на Мальвину. — С Богом?
Она кивнула.
— Я — впереди, ты на дистанции два-три метра.
— Я помню.
— Гляди в оба. Если что заметишь, два энергичных рывка.
— Буду глядеть…
— Тогда все, — он сунул в рот загубник, но, вспомнив о чем-то, выплюнул губчатую резину, шагнул к Мальвине, неловко поцеловал в щеку. — Удачи нам, подружка!
— Удачи! — губы ее чуть дрогнули. Разумеется, она боялась, хотя старалась казаться отважной.
— Все! Плывем, — Егор рывком натянул на лицо маску, зубами прикусил резиновые шишечки. Сделав первый пробный вдох, удовлетворенно зажмурился. Вроде порядок! Клапаны дыхательного автомата чуть слышно перещелкивали. Подняв перед собой АПС, Егор включил над головой фонарь и шагнул в черную подвальную воду. Шлепая ластами, Мальвина тронулась следом.
* * *
Первые метры проходили особенно тревожно. Глаза привыкали к темноте, тело — к новым невесомым ощущениям. Фонарь, по-шахтерски прикрепленный к головному капюшону, светил несколько вбок, но поправлять его Егор не рискнул. Отвалится совсем — разбирайся потом. Пусть уж лучше так… Плыли без спешки, медленно шевеля ластами. Ствол АПС напоминал Егору корабельный форштевень, а сам он себе казался миниатюрной подлодкой. Каменная кладка стен уже не угадывалась под плотным слоем ракушек и водорослей. Превратившийся в сумрачную пещеру подвал спускался под крутым углом. Продуваясь, Егор не забывал оборачиваться, пальцами показывая на нос. Но Мальвина без того все послушно исполняла. Продувалась, бедная девочка, даже вдвое чаще, чем следовало.
Справа почудилось шевеление, и Егор настороженно повернул голову. Ничего страшного. Огромных размеров замшелый окунь с плавниками в добрую человеческую ладонь. Конечно, крупный, конечно, грозный, однако не до такой степени, чтобы напугать ныряльщиков. И почти тотчас почувствовались торопливые рывки. Вероятно, Мальвина тоже разглядела окуня. Егор собрался было успокоить ее, но, как выяснилось, девочка указывала совсем в ином направление. Напарница оказалась более глазастой, чем он. Серой обесцвеченной махиной слева среди россыпи кирпичей лежал крокодил. Заметить его было непросто. Он почти сливался с кладкой, а кроме того был совершенно неподвижен.
Может, тот самый, из уворованных мертвецов?… Егор вздрогнул, рассмотрев глазки чудовища. Тот несомненно наблюдал за ними. Какое там — мертвый! Просто сытый. Или не привык, чтобы двуногие так просто вторгались в его родные владения.
Едва шевеля ластами, они миновали крокодила. Держа автомат наготове, Егор подсказал Мальвине, чтобы она почаще оглядывалась.
Между тем стены подвала все более раздавались в стороны, приобретая непривычные очертания. Ступени исчезли, теперь они погружались почти вертикально. Кое-где еще торчала ржавая арматура, в одном месте Егор чуть было не наткнулся на огромную рельсину, диагональю перечерчивающую проход. Стены разошлись в стороны, подвал кончился. Убедившись, что фонарь практически не помогает, Егор без особого сожаления погасил лампу. Глубиномер показывал чуть более тридцати метров. Если бы не удивительная прозрачность воды, они бы ничего уже не смогли разглядеть.
И снова приближение «неприятеля» первой угадала Мальвина. На этот раз в роли хищниц оказались красавицы акулы. Мако или белые, Егор не сумел бы сказать точно, но впечатление они производили жутковатое. Изящность грациозных, напоминающих колеблющиеся водоросли тел непонятным образом сочеталась с уродливостью приоткрытых челюстей. Видно было, что они заметили пловцов, однако сходу нападать не спешили. Крутили традиционные виражи, присматриваясь и прицениваясь. Огромные, метров по пять и шесть в длину, они не оставляли пловцам никаких надежд. То есть не оставили бы, не располагай последние подводным вооружением. Головы хищниц чуть подергивались, и из того, что помнил Егор по статьям о морских обжорах, следовало, что признак этот отнюдь не самый дружелюбный. Словно бородавка на щеке, у ближайшей акулы лепилась сбоку рыба прилипала. Со странной периодичностью акулы приоткрывали и закрывали пасти — точно пережевывали что-то или преодолевали рвотный спазм, что, впрочем, не мешало им постепенно приближаться к людям. На одном из кругов вместо того, чтобы повернуть в сторону, одна из акул торпедой пошла на них. Из смутной тени быстро превратилась в отчетливый ужас. Треугольные зубы, трепещущий хвостик обрадованной прилипалы и мутные, ничего не выражающие камушки глаз.
Трос у пояса дернулся. Мальвина в панике повернула назад. Дубинку она держала, как ружье, и навряд ли сумела бы верно ею воспользоваться. К фехтованию собственной дубинкой Егор тоже прибегать не стал. К черту эксперименты! Очень уж крупный шел на них экземпляр!
Наверное, он даже не целился. У страха глаза велики, и морда акулы заслонила весь видимый мир. Выстрелом болезненно ударило по ушам, автомат дернулся в руках. Протянув ниточку пузырей, гарпун вонзился в пасть хищницы, прошил до самого хвоста, вырвав добрый клок плоти. Огромную рыбину скрутило дугой, извернувшись, она бешено взмесила воду хвостом. Задев Егора плавником, метнулась ввысь, заодно прошлась боком по убегающему вверх тросу — все равно как полоснула десятком лезвий. Темный шлейф тянулся за ней, как инверсионная полоса от самолета. Напарницы, утеряв интерес к людям, последовали за раненной подругой. Как охотничьи псы по свежему следу. Здесь, на глубине, дела с дружбой, как видно, обстояли неважно.
И почти тотчас Егор разглядел еще несколько неясных силуэтов — на этот раз чуть поменьше. Отвлекаться на порванный трос было некогда. Две рыбины явно поворачивали к ним. То ли учуяли запах крови, то ли просто проявляли здоровое любопытство. Вероятно, Мальвина тоже видела их, потому что забилась на поводке, как угодившая в силки птица. Егор и сам готов был броситься наутек, но бессмысленность подобного поведения была для него очевидна. «В драках никогда не падай на землю, забьют и запинают, — вещал его давний институтский друг. — А начинаешь бить сам, останавливайся, только победив.» Он был прав. Назвался груздем, полезай в кузов. Коли уж они нырнули в эту бездну, следовало идти до конца… Поймав девочку за руку, Егор больно сжал тонкие пальцы, притянув к себе, укоризненно покачал головой. Кажется, она поняла. По крайней мере пришла в себя. Юркнув ему за спину, вцепилась в грузовой пояс. Он не возражал. Пусть держится. С маневрами будет посложнее, зато всегда ясно, где напарница, не убрела ли восвояси. Просто побудет какое-то время «рюкзачком».
Этот выстрел он сделал в спешке и потому промазал. Однако акулу акустический удар напугал. Развернувшись, она скользнула в чернильную мглу и пропала. Вторая рыбина тоже вместо атаки предпочла загадочный кульбит и вильнула в сторону. Не спуская с нее глаз, Егор медленно работал ластами. Они продолжали погружаться. Должно быть минуты три или четыре хищница скользила вокруг них, потом стала отставать. Это было странно, но Егор где-то читал, что акулы и впрямь чаще атакуют на поверхности. В своей среде эти безжалостные людоедки более спокойны. Если их не провоцировать, вполне можно обойтись без кровавых баталий.
Егор скосил глаза на глубиномер, и ему стало не по себе. Тридцать восемь метров? Что за чертовщина! Или они вообще никуда не погружались? Времени прошло — вагон с тележкой!.. Он завертел головой. Вероятно, глаза окончательно попривыкли. Видимость возросла метров до пятнадцати. Даже удивительно! Егор пронаблюдал за стайкой пузырей с бульканьем вырывающихся из дыхательных автоматов и глухо прорычал. По всему выходило, что они и впрямь некоторое время вновь подымались наверх. Должно быть, потеряли ориентацию, пока глазели на акул. В такой темнотище, да еще когда постоянно есть риск угодить на зубок, немудрено заблудиться!
Стараясь собраться с мыслями, он вновь осмотрелся. Все-таки присутствовало в окружающем нечто странное, над чем он еще не задумывался. Пузыри убегали вверх — стало быть, в сторону подвала. Акулы же отчего-то остались внизу. И еще… Ему казалось, что стало заметно светлее. То есть, не то чтобы светлее, но видимость существенно возросла. Вдвое, а то и втрое. И дело заключалось не в возросшей прозрачности воды, не в адаптации зрения, что-то здесь было ИНОЕ…
Егор присмотрелся к веренице убегающих пузырей, и его пробрало дрожью. Пузыри уходили вверх, но складывалось такое впечатление, что верх и низ поменялись местами. Только сейчас он разглядел, что, удаляясь, пузыри уменьшаются в размерах. Но ведь должно быть наоборот! Падает давление, пузыри из крохотных превращаются в огромные шароподобные, дробятся и вновь начинают расти… С другой стороны глубиномер показывает уменьшение глубины. Но как же так? Или прибор бессовестно врет?
Сердце суматошно билось, думать взвешенно и спокойно не удавалось. На мгновение мелькнула давняя, увиденная с крыши вагона картинка. Мелькнула и пропала. Даже сейчас она не воспринималась сколь-нибудь серьезно. Мотнув головой, он указал Мальвине в сторону пузырей. Она поняла это как команду к возобновлению движения. Отцепившись от его пояса, заработала ластами. Девочка-рыбка, которой не объяснишь, что пузыри должны тянуться совсем в другую сторону. Кружило голову, беспричинный хмель подначивал выплюнуть остатки сомнений и следовать за Мальвиной. Он так и сделал. Светящаяся стрелка на миниатюрном табло продолжала бессовестно вводить в заблуждение, уверяя, что дистанция до поверхности все более сокращается. На деле ощущалось обратное. Все более сказывалось кислородное отравление, а оно, если верить книгам, проявляется на глубинах свыше пятидесяти метров. Не слишком складно начинали работать дыхательные автоматы, сгустившийся воздух заполнял легкие подобно жидкому пластилину. С трудом он припомнил, что акваланги этого типа рассчитаны на глубины до семидесяти-восьмидесяти метров. Здесь, кажется, получалось чуть побольше, но насколько больше, — этого он не знал.
Багровая муть заволокла зрение, ноги работали в машинном ритме, как у робота. И словно со стороны отмечалось, что стало совсем уже светло, точно приближались не к сумрачному дну, а к работающим прожекторам. Развернулась Мальвина, и сквозь затуманенное стекло маски он разглядел ее напуганные, готовые плакать глаза. Условным знаком, она дважды приложила ладонь к горлу. Значит, те же проблемы с дыханием. Егор взял ее за руку, слабо пожал, глянув на глубиномер, с внутренним смешком констатировал: восемь метров! Совсем ничего. Один маленький рывок, и будем там. Но где ТАМ? У прозрачной стеклянной преграды, за которой раскинется чужая жизнь, возле илистого дна? Вариантов предлагалось не столь уж много.
Преодолевая сопротивление крохотной руки, рванул вперед. Зачем мучиться и гадать, когда через несколько секунд все само собой разрешится.
Дыхательные автоматы окончательно отказали. Воздух не шел в легкие. Рука Мальвины жалобно задергалась. Терпи, девочка, терпи!.. Егор чуточку поднажал. Яркое и голубое ударило по глазам, плеснула вода, выпуская из своих объятий. Можно было и не глядеть на циферблат глубиномера. Разумеется, он показывал безукоризненный ноль. Егор выплюнул загубник, вялым движением помог освободиться от шланга Мальвине. Полуослепшие, дрожа и прижимаясь друг к дружке, они покачивались на волнах. Не было ни дождя, ни ветра. И не порхали в воздухе злобные летучие мыши. Солнце заливало сиянием водную равнину, и пара снежного оперения чаек с криками носилась над бирюзой широкой реки.
* * *
— Господи! — он безостановочно крутил головой, дыхательный автомат болтался возле подбородка. — Ты видишь это? Мне не грезится?
Мальвина тоже смотрела во все глаза. Точнее — насколько это позволяло ее запотевшее стекло. Егор помог ей освободиться от маски, расстегнул грузовые пояса. Свинец тут же пошел на дно. И черт с ним! Больше он им не понадобится.
— Видишь это?
— Вижу.
— Понимаешь, то же самое было тогда… Когда мы стояли на крыше вагона. Вспыхнуло сияние, и я вдруг увидел землю. Ту, что под океаном. Только я решил, что мне почудилось. И Деминтас, наверное, не поверил. Как можно было в такое поверить? Но теперь… Теперь получается, что все правда?
Она часто и радостно закивала. Под солнцем глаза ее стали вдвое ярче. Пожалуй, он впервые видел ее такой — при дневном, а не мертвом электрическом свете.
— Что это? — дубинка ее дернулась в сторону. Егор развернулся в воде, болтнув ластами, высунувшись почти по пояс. Налево далекий берег, разлапистые пальмы, направо пара мачт и белые с изображением неизвестного зверя паруса.
— Корабль? — он замахал рукой. — Точно, корабль! Эй, плывите сюда!.. Мы здесь!
Мальвина тоже закрутила противоакульей дубинкой.
Не сразу, но их заметили. Корабль на деле оказался странной конструкцией. Ладья с резной фигуркой на носу и круглыми бронзовыми щитами на бортах, медленно разворачивалась в их сторону.
— Боже! Кто это? — Егор невольно приспустил на груди молнию, пальцами нащупал упакованный в полиэтилен пистолет.
Люди, стоящие на борту, целили в них из луков. Лохматые шкуры на смуглых от загара телах, кожаные пояса, блестящие браслеты, обручи на головах. Почти все бородаты.
— Послушай, куда мы попали?
— Наверное, в древние времена, — простодушно предположила Мальвина.
Сорвав с себя капюшон, она тряхнула головой, и золотистые волосы рассыпались по воде. Егор растерянно заметил, что луки бородачей опустились. Кто-то гортанно и несколько раз выкрикнул команду на незнакомом языке. Трое или четверо воинов упали на колени. Необъяснимая паника охватила команду странного судна.
— Эй! — снова крикнул Егор. — Вытащите нас, что ли!
Но им без того уже помогали. На веревках спустили некое подобие скамьи. Егор помог усесться на деревянную доску Мальвине, кое-как взгромоздился сам.
Уже через несколько секунд они стояли на палубе. Хлопало над головами полотнище паруса, и мускулистые люди все до единого глядели вниз, руками и коленями попирая выскобленные ветрами и волнами доски.
— Вот тебе на! Похоже, нас приняли за инопланетян, а? — Егор растерянно смотрел на Мальвину. Сейчас она снова напоминала черного лоснящегося лягушонка — в ластах, с шипастой палицей в руке, золотоволосая. Для этих людей они и впрямь могли показаться божественными созданиями.
— Скорее — за богов.
— А это хорошо или плохо? Ты не думаешь, что эти парни могут пустить нам кровушку на каком-нибудь алтаре?
— По-моему, они добрые, — неуверенно произнесла Мальвина. Голосок ее чуть дрожал.
— Будем на это надеяться… — Егор тронул бородача, что стоял чуть ближе. Мужчина вздрогнул, но головы не поднял. Егор устало вздохнул.
Все сбылось, и с этим приходилось считаться. Мир Тартара располагался внизу, и вчерашнему интеллекту преподносилась непривычная картина вселенной. Слой воды и слой кишащих хищниками глубин, а после ржавые, разваливающиеся конструкции мостов, последние из снующих по железнодорожным сферам составов. Две планеты в одной — погибающая и возрождающаяся, этакий мир наизнанку. Призадуматься, и выйдет, пожалуй, еще путанее, чем у апологетов фрактальных теорий. А может, и не существует никакой пустоты? Никто ведь не проверял! А есть слоеный пирог поколений, компот, в котором прошлое соседствует с будущим, а альтернативное — с невозможным. Вселенные, словно масло, были намазаны одна на другую. И не было в действительности ни гравитации, ни электрического заряда. Вообще ничего не было. Только одна голая, одинокая надежда…
Егор поглядел на улыбающуюся Мальвину, неловко приобнял юную спутницу за плечи.
— Что ж, подружка, будем привыкать. Видно, некоторое время придется пожить в роли местных богов. Как думаешь, справимся?
— Мы постараемся, — обещающе произнесла она, и так славно, так по-детски это прозвучало, что Егор, не удержавшись, рассмеялся. Несколько секунд она глядела на него, а потом тоже прыснула. Головы бородатых воинов одна за другой стали робко приподыматься. Несложно было разглядеть, как из карих, черных и серых глаз страх мало-помалу вытесняет удивление. Было очевидно, что веселые боги здесь в новинку…


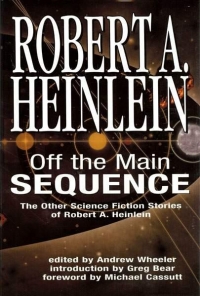
Комментарии к книге «Поезд Ноя», Андрей Олегович Щупов
Всего 0 комментариев