Евгений Велтистов НОКТЮРН ПУСТОТЫ Телерепортаж Джона Бари, спецкора
Фантастический роман
Я, ДЖОН БАРИ
Глава первая
Чтобы знал я, что все невозвратно, чтоб сорвал с пустоты одеянье, дай, любовь моя, дай мне перчатку, где лунные пятна, ту, что ты потеряла в бурьяне!
Гарсиа Лорка Ноктюрн пустоты Из книги «Поэт в Пью Порке»Дождь, дождь, бесконечный дождь.
Он встречает меня в любом городе, куда бы я ни направился; он особенно ненавистен по ночам.
Раньше, в детстве, в такие вот ночи я просыпался словно от внезапного толчка и с замиранием сердца слушал стук капель в оконное стекло, считал, сколько лет мне осталось жить. И, не окончив счета, снова проваливался в глубину ночи. А утром никак не мог вспомнить ночную арифметику: светило за окном солнце, и меня ждали очень важные дела.
Как давно не вспоминал я про солнце…
Дождь, дождь. Дождь — моя бессонница.
Я зажег на минуту свет, чтобы удостовериться, что нахожусь в том самом номере парижской гостиницы, где на стенах висят старые копии древних картин. Веласкес, Рембрандт, Гойя быстро успокоили меня. Захотелось вдруг увидеть Эль Греко, но в этой гостинице, как я предполагал, хозяйка считала Эль Греко слишком современным — бунтарем и сумасшедшим.
Что ж, пусть будет ночь без Эль Греко, решающая, быть может, последняя ночь моей жизни. Где-то в чреве этого музейного особняка, скорее всего — за той стеной, спят мои преследователи. Ни Гойя, ни дождь, ни моя бессонница не потревожат отдыха двух сильных, уверенных в своей безнаказанности людей. Но они сразу проснутся, выскочат из-под одеяла, едва их микроэлектроника возвестит, что я начал одеваться.
Проклятый дождь — когда же он кончится!..
Газеты, печатающие сводки погоды на первых полосах, забавляют время от времени читателей сообщениями о всевозможных дождях: с золотыми рыбками, кладами старинных монет, полиэтиленовыми мешками, принесенными откуда-то ураганным ветром. Когда человек ежедневно ходит в водоотталкивающем плаще под струями опасного для здоровья дождя, его не очень-то волнует разная чепуха про золотую рыбку. Эти двое за стеной, которым дано задание превратить меня во что угодно, — они в примитивных своих снах, наверное, никогда не видят снег.
Снег я видел на севере Канады. Никогда не приходилось мне окидывать взором такое громадное белое пространство: летишь час, два, три, а под вертолетом сплошное сверкание — лед да снег.
Мы с мистером Юриком, хозяином вертолета, только жмурились от удовольствия и старались не смотреть друг на друга. Казалось, на всей планете нет ничего другого, кроме снега. И сами себе мы представлялись инопланетянами, исследующими неизвестное.
Слева белое полотно прорезал мощный рубец. Он тянулся за нами на сотни миль и был виден все время впереди. Словно напрямик через льды, подчиняясь какой-то тайной цели, разворачивая брюхом скалы, прополз огромный гигантский червь. Но это называлось прозаически — «разлом». В древности здесь столкнулись две плиты земной коры.
Юрик кивнул налево, крикнул, стараясь перекрыть шум мотора: «Можешь себе представить, что земля по ту сторону разлома на миллиард лет старше, чем эта?»
Я посмотрел на него, как на сумасшедшего. И потом мы оба хохотали… Ну, как представить себе такую сумму лет? Груду долларов еще можно мысленно увидеть, тем более что у моего спутника имелось несколько десятков миллионов… А тысяча миллионов лет? Что они для человека, который живет в миллионы и миллионы раз меньше?!.
Интересно, сколько заплатили этим типам, храпящим в двух шагах, за меня, за мои сорок пять лет?..
Они следовали за мной в разные города, куда я прилетал. Я узнавал их мгновенно: глаз репортера, насколько я убедился, острее и наметаннее, чем у иного опытного полицейского. Я сразу распознавал их профессию.
Убийцы, как известно, предпочитают строгую специализацию. Есть каратели, «дикие гуси» — они же «зеленые береты», террористы, «гориллы», бесшумные привидения и многие другие. Эти двое были специалисты по катастрофам. Но все они, конечно, обычные, классические, описанные в детективной литературе гангстеры.
Я знал, как это делается. Я даже узнал в одном из преследователей Джо-американца, или, как его любили называть газеты, Джо-смертника, гонявшего когда-то с дикими скоростями пробные машины, бывшего чемпиона мира по ралли, а теперь — обыкновенного автоубийцу, мастера удара сбоку или сзади.
Что ж, они остроумно придумали — организовать самому известному телерепортеру по катастрофам персональную катастрофу. Эффектно, логично, правдоподобно. В потоке глупых слов, посвященных этому незначительному происшествию, промелькнет, быть может, одна правдивая фраза компетентных людей: «Он сказал лишнее…» — и только!
Нет, я пока что не собираюсь присутствовать на собственных похоронах.
Впервые я обнаружил «хвост» в Нью-Йорке. Черный автомобиль настойчиво преследовал меня. Когда мне это наскучило, я остановил машину и выскочил узнать, что они от меня хотят. Один поспешно скрылся в ближайшем подъезде. Второй остался за рулем и принялся с наглым видом рассматривать меня. Он не реагировал даже на оскорбительные слова, позволил записать номер машины. Затем сорвался с места, скрылся. Через час я узнал от знакомых в полиции, что номер фальшивый.
Я ругал себя за то, что растерялся, проявил несдержанность, не схватился по привычке за телекамеру. Однако было от чего растеряться: впервые в жизни не я был наблюдателем, а кто-то другой фиксировал мои действия.
Следующим был Джо.
Он нагнал меня в Мюнхене.
Две машины преследовали меня на безлюдной мирной улице. Зеленая обогнала и преградила дорогу. Вторая пристроилась сбоку. На мгновение я увидел за рулем Джо-смертника в надвинутой на лоб шляпе, очень сосредоточенного. Успел лишь подумать: «Неужели Джо будет портить такой дорогой «Мерседес»?»
Последовал двойной удар. Сначала блестящий черный «Мерседес» ударил мне в борт, потом добавил по капоту.
Моя машина вылетела на обочину, и в тот же миг я понял, что должен на полном ходу влететь в тоннель подземного гаража, врезаться в железную дверь.
«Неужели так примитивно — в дверь?!»
Меня спасло то, что я вовремя увидел Джо, угадал его план.
Мне удалось резко крутануть руль, бросить машину влево, промчаться по тротуару, обогнать зеленый автомобиль, выскочить на оживленную магистраль. Здесь меня оставили в покое.
Шел дождь, мокрый асфальт сливался в сплошную ленту. Я долго гонял на больших скоростях по улицам, потом по шоссейным развязкам вокруг города, чтобы прийти в себя, обрести привычное душевное равновесие. Джо-смертник… Кто бы мог подумать, что он станет зарабатывать на жизнь подлыми ударами сзади!
Я дважды снимал Джо на гонках, когда он попадал в серьезные переделки. Первый раз после аварии его собирали буквально по частям, особенно лицо, все кости которого оказались раздробленными. Хирурги придумали для Джо специальные магнитные челюсти, и он демонстрировал перед моей камерой, как быстро расправляется с бифштексом. Второй раз Джо еле успели вытащить из горящей машины.
Долго с экранов не сходила телевизионная реклама протяженностью в десять секунд: человек в гоночном шлеме устало вытирает пот со лба, после чего одним глотком выпивает пиво, швыряет на мостовую пустую банку — и все видят сияющее, изборожденное сотнями шрамов, с победно задранным носом лицо знаменитого Джо. Да, это был он… Реклама побила рекорд долголетия. Джо поглотил на телеэкранах не один миллион банок. Потом о нем забыли. И вот я снова вижу воскресшего смертника.
«Чистое убийство» на этот раз не удалось Джо. Не тот удар после пива… Как оправдается он перед своим начальством?
С виду он совсем не страшен. Мрачный карлик с лицом вечного старика. Он и улыбнулся-то, по-моему, всего один раз — в рекламном ролике. На такие трюки, как рекламные улыбки, телевидение имеет своих специалистов.
Эти двое, что встретили меня в Париже, посерьезнее Джо. Я сразу же, увидев быстрый взгляд острых глаз, молчаливую неторопливость и уверенность своих преследователей, понял, что третий акт спектакля, по замыслу его авторов, должен стать заключительным. Я не возражал сыграть давно продуманную роль.
Остановился в любимой монмартрской гостинице «Мари», в номере со «своими» картинами. Мне было приятно представить недоумение на тупых лицах специалистов по катастрофам, разглядывавших полотна Рембрандта или Рубенса. Но пусть и они хоть раз в жизни увидят мир подлинных чувств.
Пообедал в маленьком ресторанчике на Монмартре, где все еще исполняется лихая, бесшабашная музыка прошлого, которую сегодня воспринимаешь с грустной мыслью о всем минувшем. Пусть эти двое, сидящие в углу, с завистью смотрят на мой бокал бургундского урожая 1964 года, самого старого и дорогого бургундского, пусть почувствуют, что человеческая жизнь, как и бургундское 1964 года, больше не повторятся, что они сами, в конце концов, смертны.
Заказал портье билет на завтрашний рейс «Париж — Токио», велел разбудить в пять утра. Пусть эти двое недоспят!
Я как бы давал моим партнерам по игре возможность выбора кульминации в пространстве и времени. А сам чувствовал, что это должно быть в Токио, будет завтра, а точнее, послезавтра, потому что солнце движется навстречу самолету, и очень быстро, незаметно для сознания промелькнут еще одни сутки жизни. Токио был когда-то площадкой моего коронного репортажа — «Токио, день Т.». Там, на узких японских улицах, среди небоскребов и хижин, ждет меня господин Карамото, подполковник, а теперь, возможно, и полковник секретной службы, которой я доставил в свое время неприятности. Гангстеры рассчитали точно: дальше Токио мне деваться некуда.
Я встал с постели, зажег свет. Хватит дрыхнуть этим лентяям! Вызвал такси, стал собирать чемоданы.
Решающий акт начался.
В аэропорту, во всеобщей суматохе, гангстеры не попадались мне на глаза, и я о них почти забыл, но в самолете увидел их в креслах за своей спиной и на мгновение даже обрадовался: летят — значит, авиационной катастрофы не будет.
Интересно, как они ухитрились протащить через таможенный контроль и электронную аппаратуру свои металлические игрушки? Или у гангстеров теперь в ходу пластмассовые пистолеты? Но какие в них пули? Не пластмассовые же!
Мое оружие — телекамера. Я могу позволить себе маленький фарс.
Беру камеру, кладу на плечо верный приклад, нацеливаю объектив. Мои сопровождающие моментально отгораживаются газетами, поглядывают на меня без выражения каких бы то ни было чувств. Все же я успел сделать несколько кадров и тут же убедился в полной безликости этих людей, для которых я просто господин Икс или Игрек по секретной инструкции. Скучно так, господа гангстеры!
Куда приятнее другие лица. Они разные, они человеческие, выражают усталость, раздражение, самодовольство, покой, любопытство — гамму разнообразнейших чувств, присущих людям. Я шел по проходу между креслами, снимая лица пассажиров, пока не услышал предупреждение стюардессы:
— Прошу извинить. Некоторые недовольны, что вы их фотографируете…
Я протянул ей репортерскую карточку.
— Простите, я не могла поверить: это вы?..
Я сел на место.
— Господа, — зазвучало по громкосвязи, — среди нас находится Джон Бари, специальный корреспондент тележурнала «Катастрофа». Это объявление, мы надеемся, удовлетворит тех пассажиров, кто протестовал против съемки. Мы рады приветствовать Джона Бари.
Раздались аплодисменты. Я встал, поклонился, сказал свою коронную фразу:
— Заверяю вас, что катастрофы не будет.
Смех, болтовня, дорожные знакомства скоротали время до Москвы, где самолет делал посадку.
Час стоянки был у меня строго рассчитан.
Я выпил бокал воды, рассказал несколько забавных историй в кругу новых знакомых. А сам с каким-то неожиданным напряжением вглядывался в лица людей неизвестного мне мира.
Буфетчица. Бармен. Стайка стюардесс за чашкой чая. Пилоты, спокойно идущие на взлетную полосу с чемоданчиками в руке.
Обычные люди. Спокойные, деловые лица… Почему же я так нервничал, так переживал, что мне придется быть среди них?
Взял чашку кофе, поставил на стол. Вместе с сахаром бросил зажатую между пальцев таблетку. Размешал. Посмеялся со всеми. Выпил кофе.
Я знал, что будет дальше. Ждал десять секунд. Потом, напрягая все силы, встал, увидел вскочивших с места убийц, хотел что-то крикнуть и потерял сознание.
«…Неужели это снег?»
Отключилась тишина. Я видел вокруг себя белое пространство, слышал звуки.
«Нет, не снег», — сказал я себе.
И понял: это белый потолок, белые стены, белые халаты. Вспомнил все и пошевелился.
— Вам нельзя! — сказал женский голос.
Я оглядел собравшихся возле кровати людей, очень обрадовался, не обнаружив ни одного знакомого лица.
— Это не инфаркт, — сказал я по-русски. — Это симуляция.
— Не надо говорить.
Смысл слов строгого голоса я уловил, так как заранее выучил несколько десятков русских фраз.
— Я буду говорить! — возразил я, обращаясь к своим новым союзникам. — Пожалуйста, вызовите полицию.
Кто-то склонился надо мной:
— Как вы себя чувствуете, господин Бари?
— Хорошо, — я постарался улыбнуться. — Поймите, я выпил одну таблетку. Другие — в моем кармане… Я прошу полицию.
— У нас милиция.
— Хорошо, милицию.
Я откинулся на подушку и внезапно уснул.
Проснувшись, заметил двух мужчин в белых халатах и сестру. Все шло по сценарию. Сестра осведомилась о самочувствии и ушла. Мужчины из милиции представились, спросили, чем могут быть полезны.
— Джон Бариэт, — назвался я настоящим именем. — Поверьте, я говорю только правду…
— Вам нельзя волноваться, — сказал по-английски один из них.
— Чепуха! — Я сел в постели. — Когда я снимал свои выпуски «Телекатастрофы», я был совершенно спокоен, но я лгал себе и другим. Вы это понимаете?
Они молчали.
Я вскочил, подбежал к окну и увидел белый покров.
— Снег! — сказал я тупо и вдруг возликовал: — Неужели снег?
— Это снег, — подтвердил старший милиционер.
— Снег! — закричал я, понимая наконец, что значат для меня, для всего мира чистые белые дорожки, пышные шапки на деревьях, сосульки, свисающие с крыши. — Снег! Это замечательно!..
Сестра, вбежавшая в палату, пыталась оторвать меня от подоконника, но я не сдавался.
— Вы не знаете, как это важно — снег! — настаивал я. — Его можно встретить только на вершинах гор!.. Это Москва?
— Москва.
Слово привело меня в чувство. Я оглядел присутствующих.
— Господа, я надеюсь, вы видели выпуски моей «Телекатастрофы»?
По лицам я понял, что не видели.
— И не слышали моего имени?
Собеседники молчали.
Мне стало холодно. Я сел на белоснежную кровать.
— Я, Джон Бари, специальный корреспондент всемирных теленовостей «Катастрофа», хочу сделать важное заявление. В вашем лице, — я окинул официальным взглядом милиционеров и сестру, — надеюсь встретить понимание, порядочность и… человечность.
На меня смотрели три пары внимательных, заинтересованных глаз.
Я начал рассказывать.
Глава вторая
— С этой минуты, господа, я говорю только правду, — повторил я и оглядел спокойные лица. — Вы не смеетесь? Вы правы. Правда никогда не смешна, хотя самое лучшее качество в человеке, которое отличает его от примата, — это чувство юмора.
«Впрочем, самое опасное животное, — добавил я про себя, — человек. Это правда. Доказательства? Я сам, моя жизнь…»
— Я, Джон Гастон Мария Жолио Бариэт, родился во Франции в семье художника Г.-Б. Бариэта, сегодня всеми забытого. Моя мать-американка успела дать мне, кроме жизни, только имя — Мария, одно из моих имен, — и оставила меня с отцом. Отец мой Гастон из всех ценностей на свете предпочитал работы великого германца Альбрехта Дюрера. Возможно, поэтому он поселился и прожил всю жизнь в Нюрнберге…
Он не был, конечно, современным Дюрером, хотя прилежно и вдохновенно резал и печатал гравюры фантастического содержания. Но и будь Г.-Б. Бариэт очень талантливым, со своим устаревшим отношением к роли художника, к искусству, смыслу жизни, он не нужен был бы людям. В наш век массового искусства, когда человек привык видеть в чужих домах, гостиницах, парках одни и те же картинки, кубы из пластика, нагромождения железа и камней, случайно попавшая на глаза индивидуальная работа вызывает лишь раздражение. Авторские оттиски с гравюр Г.-Б. Бариэта охотно раскупались любителями, но он, как ни старался, не мог обеспечить своей фантазией даже по одному экземпляру все гостиницы мира. Я, во всяком случае, нигде не видел его работ, кроме как у нескольких близких друзей… Отец понимал всю бессмысленность, несовременность своей позиции, но он был слишком упрям и ничего поделать с собой не мог.
В отличие от отца, я выбрал массовую по своим конечным результатам профессию — телевизионного журналиста.
Стоял душный июльский полдень, когда я, Джон Бариэт, сын умирающего художника, выпускник специального телефакультета, лежа нагишом на старой тахте в пронизанной золотистой пылью мансарде, вообразил себя Джоном Бари — королем вселенской хроники — и поверил в выдумку, поверил в силу телевидения, в свою силу. Я увидел словно наяву фиолетовые тени Памира, голубизну Антарктиды, кукурузное золото Аризоны, огненный шлейф над Камчаткой. Я не знал еще, что собираюсь сотворить с этим пестрым миром, в голове стоял сплошной туман, но глазок воображаемой телекамеры — мой глаз — выхватывал из общей картины ужасающие подробности: вот зашаталась гора… треснули вечные льды… цветущая земля мгновенно превратилась в мрачную пустыню.
Вдруг я отметил про себя, что я одет и направляюсь к телефону. «Спокойно! — сказал я себе. — Ты молодчина, что выбрал самую рабочую профессию в телевидении — оператора… Ты станешь Джоном Бари, если очень деловым тоном выложишь свою идею Томасу Баку».
Внизу надрывно кашлял отец. Он лежал в своей комнате и разглядывал две гравюры мастера Дюрера — единственное, что делало его уверенным в своей правоте и даже счастливым.
Одна из них — авторская копия 1513 года — знаменитая «Рыцарь, смерть и дьявол». Как и многие мальчишки столетия тому назад, со страхом разглядывал я в детстве смерть в белом саване, с короной на голове, обвитой змеями, и рядом отвратительное колченогое рогатое чудовище. Всадник в латах и с тяжелым мечом вызывал невольное восхищение. Натянув поводья, привстав на стременах, держит свой путь через мрачный лес. Он не оглядывается на дьявола, царапающего сзади доспехи, не обращает никакого внимания на скачущую рядом смерть. Смерть протягивает ему песочные часы, на каменистой тропе, под копытами коня, белеет череп. Рыцарь и без напоминания знает, что жизнь быстротечна, но он должен совершить свой подвиг. Ни дьявол, ни смерть не остановят его.
Таким вот рыцарем с волевым, сосредоточенным лицом остался в моей памяти отец. Твердость духа, уверенность в цели, любовь к жизни отмечали особой печатью его лицо, когда он резал на деревянных досках гравюры, держал в руках стопку чистых листов бумаги, дарил друзьям лучшие работы. Он отчетливо осознавал, что мир постоянно разрушается и обновляется, что идет извечная борьба светлого и темного начал. Как и Дюрер, мучительно искал он формулу прекрасного, закон совершенства человечества. Он так и ушел со своими убеждениями из этого мира, не дрогнув духом, не оглянувшись ни разу назад…
Том ждал в старом подвальчике «Под липами», облюбованном нами еще в школьные годы. Несколько лет я не видел удачливого коммерсанта, бросившего учебу ради дела, но Том все такой же — с вечной улыбкой под длинным красным носом. Упругим боксерским шагом он шел ко мне, словно уже зная цель нашей встречи.
— Том, — сказал я, пожимая горячую сухую ладонь, — ты выглядишь так, как хотел: самостоятельный человек, а не шпаргальщик и задавала.
Том просиял еще больше, отреагировал немедленно:
— А ты, Джон, как всегда, хочешь подсказать мне ответ?
Спокойные серые зрачки буравили мои глаза.
— Мне захотелось, Томи, обратить твое внимание на некоторые факты, которые еще не встречались в твоей биографии.
— В моей биографии давно не было тебя, Джонни!
Том обнял меня за плечи, усадил рядом, сделал заказ. Он непринужденно ухаживал за мной, предлагая самые лучшие блюда и напитки. Да, за эти годы он стал деловым человеком! Я знал, что Том основал свою компанию, торгующую телевизионными программами, снятыми по заказу фирм в разных странах.
Выть может, именно поэтому моя идея могла заинтересовать Бака. Впрочем, я уже сомневался во всем, так как со стороны было слишком очевидно, кто из нас кто. Достаточно взглянуть на синий элегантный костюм Тома и мои мятые джинсы.
И все же я азартно изложил приятелю суть затеи.
Мир постепенно сходит с ума (с этим Том незамедлительно согласился). Разного рода политиканы все больше походят на персонажей шаблонного детектива — с перестрелками, взрывами, похищениями, невероятным клубком причин и следствий, в котором трудно разобраться обычному человеку. Наука в глазах этого человека утратила прежнее доверие: ученые не в состоянии предугадать все последствия своих открытий. Земной шар все чаще сотрясают стихийные бедствия, мы являемся свидетелями постепенного уничтожения природы. Мир держится на зыбких весах ядерного баланса.
Представь себе состояние простого смертного, убеждал я Тома, человека, который с утра прыгает из лифта в машину, вертолет или электричку, потом снова в лифт, проводит весь день в деловой суматохе, возвращается домой тем же сложным путем, чувствует себя наконец-то в привычной обстановке, отдувается, садится в кресло и включает телевизор. Что он видит? Непрерывную жвачку выступлений скучных людей в очках, надоевшие ковбойские ленты, бездарные концертные номера, от которых зрителя бросает в сон. Изо дня в день наш телеэкран воспитывает безразличие к человеческой трагедии, порокам, насилию: из миллиона зрителей вряд ли хоть один сочувствует горю ближних.
— Что ты предлагаешь? — быстро спросил Бак.
— Организовать всемирную службу теленовостей «Катастрофа».
— Цель?
— Вызывать в людях чувство сострадания.
Я принялся объяснять, как можно оперативно, объемно, в цвете фиксировать портативной телекамерой землетрясения, засуху, извержения, цунами, ливни — все то, от чего зависит жизнь тысяч, а иногда и миллионов людей в разных уголках земного шара. Расходы, разумеется, тут немалые, но в основном они организационного порядка. Несколько толковых, бесстрастных хроникеров могут обеспечить материалами все телестудии мира.
— Москва не купит, — кисло заметил Том.
— При чем тут Москва? — удивился я.
— Ты прав: ни при чем! — Бак рассмеялся, махнул рукой. — У них не бывает катастроф, так они устроены, — жестко добавил он. — Америка купит. Да! Американцы все войны видели только по телевизору.
Бак подался вперед, сосредоточился. В уголках рта обозначились две резкие морщины.
— Я должен подумать! — резко сказал он.
Но я видел, что он уже давно считает. Сначала — расходы. Потом — самое главное: сколько может стоить минута рекламы в таком тележурнале? Воображение Бака, как мне казалось, с удивительной скоростью пожирало пространство и время, начиненные разнообразными катастрофами. Например: гигантская панорама разрушений в супергороде вдруг прерывается на самом захватывающем — кадрах рухнувшего небоскреба… Далее зритель мчится с очаровательной блондинкой вдоль берега моря на «Мерседесе» марки завтрашнего дня… так вот… сколько уплатит концерн автомобилей за минуту такой прогулки, если в ней будет участвовать четвертая часть телезрителей земного шара?..»
— «Телекатастрофа»! — громко сказал Том, и серые глаза его на миг вспыхнули синим светом. — Это замечательно придумано! Подожди меня, Джон.
Он бросился к телефонной кабине, и я догадался, что минута оценена деловым умом Бака тысяч в триста, а то и в полмиллиона долларов. Чисто интуитивно я рассчитывал на его хватку и не ошибся. Сейчас Том даст необходимые поручения своей конторе, проверит все на компьютерах.
Я ошибся. Бак потом признался мне, что его голова работает лучше любого компьютера. Он сразу прикинул баланс и понял, что для осуществления грандиозной затеи его миллионов будет маловато, потребуется дополнительный капитал. Бак звонил домой, советовался, как быть. Он вернулся с видом победителя.
— Джон, — торжественность была в его голосе, — моя жена приглашает тебя сегодня на прием в честь короля репортеров «Телекатастрофы»!
— Какая жена? — промямлил я, с ужасом осознавая, что безумная идея в этот момент начинает обретать плоть, превращается в миллиарды лихорадящих человечество кадров. — В честь какого короля?
— В честь тебя… — Бак растирал ладони. — А жена… Разве я тебе не говорил?.. Мы уже два года…
В тот вечер мне запомнились энергичные движения рук моего приятеля. Он словно согревался от внезапного холода или добывал древним способом огонь. А может, совершал и то и другое. Будущее манило его ярким пламенем и одновременно пугало холодом пустоты.
И еще — Лота. Невысокого роста, в белом платье с пунцовой розой, белокурая, тонкая, как девочка. Лота Бак оказалась не менее практичной, чем ее юный супруг. И как они только успели найти друг друга за те немногие годы, пока я возился со своей телекамерой!
Прежде всего она проверила на прочность мою идею:
— Вызывать чувство сострадания — не каждый решится в наши дни на такой романтический поступок. Вы молодчина, Джон!
— Ну что вы, фрау Бак, это лишь…
— Лота, Джон…
— Это, Лота, лишь общие слова… Психологическая основа нашего предприятия гораздо сложнее и тоньше. Вы, надеюсь, понимаете, что дело вовсе не в романтике… Давайте посмотрим на будущую «Телекатастрофу» глазами зрителя…
Я начал с того, на чем остановился в разговоре с Томасом: человек приходит с работы и включает телевизор. Он похож на загнанную черепаху — еле переводит дыхание под прочным панцирем потолка своей квартиры. Его никакими силами нельзя заставить бежать дальше, как лошадь. Но нельзя дать и сразу уснуть — иначе черепаха умрет от ничегонеделания.
Человеку, придавленному и разбитому большим городом, нужно помочь выйти из состояния стресса. Ему необходимы, как глоток лекарства, маленькие переживания, вызванные большими неприятностями. И будет просто замечательно, если мне удастся все эти переживания перевести в возбужденно-радостное состояние!
Лота не отрывала ни на миг взгляда, будто оценивала спокойными темными глазами мое будущее.
— Кадрами катастроф, — возбужденно пророчествовал я, — мы заставим людей очнуться от сна с открытыми глазами, сжаться в кресле от внезапного страха, потом осмотреться вокруг, увидеть себя в домашнем уюте, вздохнуть радостно и спокойно: жив, здоров, могу идти спать… ну их к черту — все мировые катастрофы!
— Браво! — крикнула Лота. — Браво, Джон. Ты — молодец!
— Это тонизирует! — подытожил ее супруг. — Рождает энергию. Побуждает к делам, любви, жизни!
— Выпьем за жизнь! — Лота подняла бокал. — За ее нового короля, короля «Телекатастрофы»!
— За будущего! — вклинился в тост пылающим носом Томас.
— За настоящего! — Лота оглядела торжествующим взглядом своих родственников, молчаливо, с немецкой пунктуальностью подсчитывающих, сколько они могут выделить на необычное эфирное предприятие, и неожиданно подмигнула мне.
Я заговорщически просигналил в ответ, понимая, кто настоящий хозяин «Телекатастрофы».
И увидел себя со стороны. Запомнил этот момент…
Все зрители «Телекатастрофы» теперь прекрасно знают, что любой выпуск сенсационных новостей кончается одинаково. Спецкор Джон Бари, ведущий репортаж из любой точки планеты, оборачивается в кадре лицом к зрителям, подмигивает им: «Сегодня больше катастроф не будет».
Это значит: то, что вы увидели только что, произошло в Гватемале… или в Сахаре… или на Филиппинах. Это трагично. Нечеловечески трудно для осмысления. И страшно.
Но это далеко от вас. Вы-то, вы-то… живы?
Живите!
Глава третья
За двадцать с лишним лет, пока я работал специальным корреспондентом «Телекатастрофы», многое произошло в моей жизни.
Я имел все, что предсказала в тот вечер фрау Бак: самый высокий среди журналистов гонорар, семью, свору приятелей, верного друга. И все постепенно терял. Все, кроме единственного: самого себя. Не ухмыляйтесь, это немало значит в наше время. Ведь я — Джон Бари!
Этажи жилищ моих Баков неудержимо росли вверх. Сначала им показалось тесновато в кирпичном доме рядом со мной (родились сын и дочь). Потом — душновато в современной вилле в долине Рейна… Позже — неуютно в комфортабельно оборудованном рыцарском замке… И наконец… я забыл все разнообразные причины неожиданных переездов Баков.
Наверное, они и сейчас обитают в великолепном поднебесье…
Я тоже сменил немало квартир после смерти отца, но предпочитал углубляться не вверх, а вниз: этаж-полтора над землей, залы для спокойного созерцания жизни под нагретым, замусоренным, истоптанным асфальтом — лучшая, по-моему, конструкция для жителя нашего времени. Особенно если он хочет сохранить редкого друга.
Мой друг — слон У-у.
Стоит только его позвать — «У-у», как из оранжереи раздается радостный отзыв, похожий на звук детской дудки, и из банановых зарослей вырывается мой друг. Он бежит со всех ног, как настоящий слон, прижав уши и подобрав хобот. Словно в атаку. Я даже немножко его побаиваюсь — малютку слона, слона-карлика, выведенного для домашних прихотей богачей.
У-у когда-то стоил мне дороже, чем гонорар за минуту рекламы сегодняшних «Телекатастроф». В моих глазах он ничего не стоит, он бесценен, как бывает бесценен друг.
Он подбежал к креслу, резво топоча по плитам, и замер. Подошел неслышно, приветливо, продул мои волосы теплым воздухом и тотчас стал искать в карманах сладкое.
Он едва доходил до моих коленей. А хоботок был похож на микропылесос. Но, черт побери, это был слон, настоящий африканский слон с большими, как лопухи, ушами, прекрасным обонянием, реактивной сообразительностью — словом, мой У-у.
— Я уезжаю, — сказал я другу. — Принеси, пожалуйста, орешки.
У-у принес тарелку с солеными орешками и в вознаграждение взял со стола жвачку, задумчиво отправил в рот целую коробку, не позаботившись снять обертки, меланхолично стал жевать.
— Я уезжаю, — повторил я. — Не скучай, дружище.
Он подогнул одну ногу, другую, лег со вздохом на бок, и я пощекотал друга сначала за ухом, а потом по животу, как принято веселить собаку или ребенка. Слоненок задребезжал своим хоботом-пылесосом.
Я оставил его на попечение трех служителей в опустевшем доме.
В Канаде, куда я летел, на Крайнем Севере, должно было произойти крупнейшее за последнее столетие пробуждение потухшего вулкана. Проще говоря, извержение, о котором знал один я.
В Монреале выдалось несколько свободных часов, и я пошел на хоккей, чтобы обдумать будущий репортаж. В толпе орущих людей, где выделяются лишь сосредоточенные глаза и открытые рты, я чувствовал себя, как всегда, независимым и одиноким. Публика, жаждущая развлечений, — вот мой главный зритель, потребитель продукции «Телекатастрофы». Она, конечно, не поймет моего «голубого репортажа» из Канады: зачем, мол, Бари берется за камеру, если не предвидится ни одной жертвы? А ведь художник иногда должен делать какие-то вещи именно для себя, иначе он превратится в механический придаток бизнеса.
Мой снежный репортаж чуть не сорвался из-за «голубой лихорадки», как фальшиво называли газеты строительство нового нефтепровода Аляска — Штаты.
Северный поселок, где я приземлился, переживал джеклондоновские времена. Каких только бродяг здесь не встретишь: строителей, бизнесменов, проповедников, шоферов, косматых молодых людей — тысячи и тысячи безработных, искателей приключений, разного рода дельцов и бездельников бросились в Канаду и на Аляску, едва услышав о суперпроводе. Гостиницы и частные дома переполнены, кафе и бары забиты, койка в сарае стоит пятьдесят долларов на ночь, и то ее еще надо найти. В этой пестрой, случаем сбитой толпе царили дикие нравы, и хотя кольты и охотничьи ножи в эру джинсов носит не каждый, первобытный закон правоты сильного был превыше всего. Местные власти, полиция, судебные чиновники исполняли еще некоторые служебные формальности, но не скрывали от прессы, что ждут не дождутся, когда схлынет эпидемия желто-денежной лихорадки и придется всерьез заботиться о нравственности тех, кто выживет и останется в опустевшем поселке.
Припоминаю, что много лет назад здесь был построен первый суперпровод. Построен очень поспешно, с техническими дефектами, так как Америка жаждала дешевой нефти. Самые большие убытки понесла канадская природа: по всей трассе тундра, леса, озера превратились в мертвую зону, покрытую нефтяной пленкой. И вот люди снова спешат, кладут рядом вторую супертрубу, чтобы она заглатывала нефть со дна морского и выплевывала из Компьютеров многозначные цифры прибыли. Дурачье!
Об опасности, вновь грозившей природе, напоминали листовки, которые негромко, но настойчиво предлагали прохожим молодые люди городского вида. Я пробежал листовку и, усмехнувшись, сунул в карман. Что этот листок бумаги для бородатых плечистых парней в стальных касках и комбинезонах, рассеянных по всей тундре и тайге? Им не бумагу подавай — машины и трубы! По шестнадцать — восемнадцать часов, без выходных вкалывают одичавшие парни. Месяц за месяцем. Чтобы однажды выйти из тайги с «дипломатом», набитым сотенными купюрами, подмигнуть красотке на рекламном щите, приглашающей всех желающих в город игр и развлечений Лас-Вегас, гарантирующей бесплатную дорогу и бесплатное проживание в самых шикарных отелях.
Многие возвращались (бесплатный билет на самолет в оба конца) с курортным загаром, щеголевато одетые, смущенно держа в руке опустошенный чемоданчик. И начинали все заново, пока не закончен этот чертов суперпровод. Как я установил из разговоров в самолете, полугодового заработка хватало максимум на две недели развлечений.
В транспортной конторе мне вежливо сообщили, что арендованный моей компанией вертолет разбился в тайге и мне не могут выделить никакой машины, поскольку все они на трассе, а мой путь — тысяча пятьсот миль в сторону. Мне предложили оплатить примерные убытки, и я понял, что время здесь ценится особенно дорого, а самый дефицитный товар — полярный транспорт.
В другое время я бы пожал плечами и улетел домой, но сейчас был взбешен. Мне наплевать, что ни один человек на улице не узнал меня: эти одичавшие, отупевшие от подсчета в уме стодолларовых бумажек люди когда-нибудь вернутся в цивилизованный мир и снова сядут к телевизору, станут моими рабами… Но я забрался в эту глушь, чтобы сделать репортаж для души, и на тебе — нет вертолета… Может быть, чиновники транспортной конторы полагают, что вулканы извергаются по заказу и можно отсрочить начало? Я проклинал своего агента, который, зная о желтой канадской лихорадке, не догадался заказать второй вертолет… Я грозил устроить здесь настоящую катастрофу и показать ее всему белому свету.
— Господин Бари, — молодой служащий тронул меня за плечо, выразительно посмотрел на часы, — время у вас еще есть…
Простой жест отрезвил меня.
— Что вы предлагаете?
— Может быть… я подумал… Может, вас выручит мистер Юрик?
— Кто этот Юрик?
Служащий пожал плечами:
— Какой-то чудак… Но у него свой вертолет.
Юрик разыскал меня в баре гостиницы и забросал вопросами: откуда мне известно, что потухший тысячелетия назад вулкан вот-вот пробудится от спячки? Оказалось, этот чудак коллекционирует странные предметы: древние плиты земной коры. Я слышал, но не знал, что есть на самом деле люди, для которых зафиксировать на пленку проснувшийся вулкан, рождение нового острова или обвалившийся старый дом в Сан-Франциско, возле которого проходит разлом коры, — события чрезвычайной важности, за которыми охотятся годами. Я привык работать, а не охотиться. Но сразу почувствовал в Юрике родственную душу и перешел с ним на «ты».
Решили вылететь на рассвете.
Ночью Юрик мучил меня своими открытиями из области сумасшедшей географии. Я слушал снисходительно, представляя его простое лицо со сросшимися бровями и изредка поддакивая в ответ. Что мне от того, что когда-то Африка была на Южном полюсе, а Северная Америка в тропиках; что Италия вклинилась в Европу, а Индия — в Азию, вздыбив горы, как носы автомашин в лобовой аварии? Что мне от того, что под Японией древние плиты земной коры круто, почти вертикально уходят вглубь, вызывая землетрясения, — я давно уже заснял свой коронный репортаж о Токио… Юрик прав, провозглашая древнюю истину: не боги Олимпа совершали чудеса на Земле, сама беспокойная Земля непрерывно перестраивает себя. До Юрика это открыл Леонардо да Винчи, оценивший найденные в горах окаменелые морские раковины. Юрик цитирует, как мне кажется, голосом самого Леонардо: «Над равнинами Италии, там, где сейчас летают только птицы, в отдаленном прошлом на обширных отмелях плавали рыбы…»
Но что-то в словах Юрика заставило меня задуматься. Странный смысл его наблюдений дошел до меня не сразу. Плиты, хоть и с малой скоростью, движутся, сталкиваются, создают напряжение. Земля, как и люди, испытывает стресс. Многие катастрофы, которые я снимал, являлись лишь частичной разрядкой, сбросом напряжения, выходом из стресса всего земного шара. Следовательно, на нашей планете есть какие-то «предохранители», которые не позволяют бедствиям перерасти в мировую катастрофу?..
Земля стара и опытна. А если стресс в шестнадцать лет? Сработают ли природные предохранители, выдержит ли организм?
Я уже думал об Эдди.
И вспоминал сына все те часы, пока мы летели с мистером Юриком над ледяным панцирем к нашему вулкану.
Я так давно не видел снежной пустыни, что оцепенел в кресле рядом с Юриком. Сначала он рассказывал мне об огромном разломе, вдоль которого мы летели, а потом умолк, тоже углубился в себя.
Моя жена Мария не оказалась партнершей в моих делах, как это обстояло у Лоты с Томасом. Впрочем, сравнение тут чисто субъективное. Баки — фирма, ее двухголовая монолитная администрация. Я — лицо творческое, в чьи затеи никто из фирмы не вмешивается, спецкор катастрофы, король-одиночка. Мария — корреспондент журнала «Супермода», распространяемого в сорока четырех странах. Она по-своему королева — королева моды. Достаточно сказать, что в сорока четырех странах женщины последовательно меняют наряды «Мария» с номером очередного года.
Когда я в Токио, она в Рио-де-Жанейро, когда я уезжаю из дома по срочному заданию, она вдруг возвращается. Транспорт у нас одинаковый — самый дорогой и самый удобный, но очень редко пересекаются во времени и пространстве маршруты. Мне приятно бывает думать, стоя со своей камерой в гондоле воздушно-реактивного шара над пылающим городом, что где-то в темноте южной ночи плывет снежно-белый лайнер и все пассажиры провожают взглядом Марию в платье «северо-восточного циклона», которое она сконструировала только что в своей голове.
Эдди не мог одновременно путешествовать на лайнере и плыть над городским пожаром. Он был дома, рос, учился, встречал нас с раскрытыми объятиями, а сам, наверное, думал: кто же я?
Самолюбия Эдди было не занимать. Первое его самостоятельное слово было не «папа» и «мама», а «я». Позже он добавил «сам». Так и осталось до сих пор: «Я сам…» Он с удовольствием слушал мои рассказы, щеголял по дому, очень похожий на девочку, в платьях матери, но в упорном взгляде темных глаз, складках под губами, вздернутом подбородке постоянно чувствовался настойчивый поиск мысли: а я, кто же на этом свете я?
Иногда меня даже пугала его одержимость. Я вглядывался в сына и видел нечто чужое — как бы маленького Томаса Бака, стремительно идущего к своей цели, только одинокого, без деловой улыбки.
У Эдди не было друзей. Они его сразу же покидали, едва улавливали в любой игре чувство скрытого превосходства.
Все это пришло мне на ум не сразу, а когда произошел у Эдди внезапный душевный слом. Я снимал на Филиппинах наводнение и как раз в моторной лодке посреди затопленной деревни принял по рации телеграмму от жены: «Эдди сбежал из дома». Я помчался в Мюнхен.
Несколько дней мы провели с Марией в хлопотах. Как же так: он стрелял из игрушечных пистолетов… играл в футбол и хоккей… увлекался поэзией… рисовал иногда целыми неделями — совсем как дед… освоил мотоцикл настолько, что катил почти на одном колесе, — словом, был как любой мальчишка! И почему он вдруг перестал быть им?
Оказалось, Эдди несколько месяцев назад бросил школу, бродил одиноко по дому, валялся бесцельно в постели, а потом вывел из гаража свой мотоцикл и примкнул к группе мототрюкачей, гастролировавших в городе.
— Зачем ты это сделал? — допрашивал я с матерью Эдди, нагнав группу в одном из маленьких провинциальных городов.
— Я хочу сделать номер «Эдди возьмется»!..
На нас смотрели полные мрачной решимости глаза.
— За что ты возьмешься, Эдди? — спросила трагически мать.
И тогда сын бросился к ней и разрыдался. Захлебываясь, он рассказал Марии, что два года назад увидел в кино, как прыгает на мотоцикле «звезда» рискованных трюков. Кто-то сказал Эдди, что за такие трюки платят кучу денег. С тех пор он только и прыгал на двух колесах — через заборы, канавы, бочки. Когда преодолел с помощью подкидной доски четыре поставленных в ряд автобуса, то решил, что выбор сделан, и примкнул к мототрюкачам.
— Но зачем? — растерянно спросила Мария. — Разве мы мало зарабатываем?
— Я сам…
— Прыжками через автобусы сейчас никого не удивишь… Ты… — Я махнул рукой.
— Если понадобится прыгнуть через собор Святого Павла, то Эдди возьмется! Я — Эдди!..
Я рассмеялся:
— Именно «ты — сам»?
— Да. Я — сам!
Голос сына дрожал от волнения. В своем воображении он уже создал фирму из одного профессионала.
Мария молча смотрела на нас, как на ненормальных. Наконец она устало спросила Эдди:
— Ты станешь из-за какой-то ерунды рисковать жизнью?
Он уже успокоился, пожал плечами.
— Это тоже профессия…
Уговоры ничего не дали. Эдди объяснил, что ждет совершеннолетия, чтобы заняться самостоятельными трюками.
Некоторое время мы с Марией получали отчеты частного детектива, из которых явствовало, что Эдди прилежный ученик циркачей. Потом он вернулся ненадолго домой… Потом нашел во Франции какого-то знаменитого тренера.
Дом опустел. У-у, которого я покупал для сына, стал моим другом.
Почему такой резкий перелом? Такой выбор? Чего недоставало мальчишке?
На мгновение представил, что лечу над белым пространством снегов не с Юриком, а с Эдди, собираюсь рассказать ему о вулкане, показать извержение… Нет, эта минута навсегда потеряна. Эдди если и поднимется ввысь, то не для созерцания — для какого-нибудь головоломного прыжка вниз. Я живу в своем одиночестве, Эдди — в своем. И все это называется вроде бы обычным словом — самоутверждение.
Страшная разобщенность наблюдается между людьми. Мне кажется, она началась совсем недавно, в эпоху, когда внешний комфорт и рациональные идеи стали вытеснять в людях эмоции. Я имею в виду не только электронную кухню, телевизоры, личный транспорт, но и нейтронную бомбу, выход в космос, завоевание океана: человек внезапно осознал не только свои гигантские возможности, но и понял, что его Земля, как и его дом, — обозримый с вышины объект, с ограниченными ресурсами и очень уязвимый. Наука невероятно расширила границы свершения добра и зла, и многие явления, ранее непонятные обычному смертному, стали для него очевидными, как мораль в сказке. Люди замкнулись в скорлупе своего уюта, в эгоцентризме своей стандартной личности.
Помню, прочитал книгу о двух первых представителях человечества, ступивших на Луну: Армстронге и Олдрине. Меня поразило не само описание события 21 июля 1969 года, за которым затаив дыхание следил весь мир, а признание американских астронавтов, что они долгое время до полета служили вместе, но так и не сдружились. Зачем же, спрашивается, надо было вместе лететь на Луну? Позже Армстронг превратился в затворника, хотя пресса старательно называла его простым гражданином США…
Быть может, мы все на этой земле такие же затворники, а считаем себя обычными гражданами?..
— Смотри! — Юрик указывал на горизонт. — Началось!
Вдали выползало черное грибовидное облако.
Неужели опоздали?
Я схватился за свою камеру, Юрик, включив автопилот, — за свою. Краем глаза я заметил, что снимаем по-разному. Юрика заботил только вулкан. Я же сделал прежде всего панораму снежной долины, показал медленно смещавшееся в сторону облако, схватил начало пеплопада.
Облако изнутри освещалось молниями, гремело громом — вулкан работал на всю мощь. Сверху, словно нудный осенний дождь, сыпал и сыпал пепел, покрывал серым цветом долину, лес, бурные ручьи.
Вертолет резко взмыл вверх: мы подлетели к вулкану. Конечно, съемка передает гораздо масштабнее всю грандиозность этого события, чем обычные слова. Но вулкан работал!
Над рваным конусом плясали огненные столбы. Стоял непрерывный гул. Из жерла вылетали бомбы на высоту до километра. Казалось, вулкан целился именно в нас, в хрупкую машину. Но он просто разряжался, пулял из пепельной темноты камнями в сверкавшее вдалеке солнце. Совсем как мальчишка, который запускает камешки в поднебесье.
В самом деле, подумалось мне, а почему бы и человеку не поступать так, как вулкану? Когда накипит на душе, нет сил больше молчать, — открыть крышку и выпустить лишний пар!.. Вулканы, как утверждает мистер Юрик, не менее индивидуальны, чем люди. Вулканы просто мудрее.
Долго кружили мы возле проснувшейся горы. Когда показался огненный фонтан, поднялись еще выше, надели кислородные маски.
— Давай, давай! — орал, высунувшись из кабины, Юрик. — Жми, парень! Салютуй!..
Слово «парень» не очень-то подходило к этому пробудившемуся великану природы, но вулкан нам обоим казался очень симпатичным.
Фонтан уже ослабел, огонь захлестнул кратер, и сверху по стенам и из боковых трещин хлынули в долину потоки лавы. Лед мгновенно испарялся; озера шипели и заполнялись жидкой магмой; деревья, камни, земля — все горело на ее пути. Можно представить, какая разыгралась бы паника, если бы суперпровод проходил рядом с вулканом. Но здесь природа противоборствовала сама с собой. Я снимал «голубой репортаж», ощущая себя жалким человеком наедине с гигантом вулканом.
Позже, когда огненный транспортер замедлил ход и встал, озаряя багровым светом долину, мы рискнули подлететь к жерлу.
Внизу воцарилась такая тишина, что от нее звенело в ушах.
Кратер смотрел на нас снизу пристальным огненным оком. Оно опаляло жаром. Вертолет медленно снижался. Наверное, у Юрика, как и у меня, появилось то же инстинктивное желание дикаря, которого неудержимо притягивает огонь. Пришли на ум слова Фауста, стоившие ему жизни: «Мгновенье! О, как прекрасно ты, повремени!»
Незабываемое зрелище!.. Повремени! Вот уже видно, как озеро лавы колышется и вздыхает. Время от времени газы прорывают малиновую пену, и озеро пыхтит и плюется.
Куски лавы цвета киновари разбрызгались по темным склонам конуса. Нестерпимо жарко…
Снова вверх. Снова под нами огненный глаз.
Позже многие из видевших репортаж признавались мне, что их посетила странная мысль: будто они заглянули в окно своего детства, в свое прошлое… Их так влекло огненное озеро, что они отпрянули от экрана.
Вечером мы разбили палатку на соседней сопке, чтоб любоваться агонией великана. Он освещал долину розовым светом, настолько ярким, что можно было не только фотографировать, но и читать книгу.
— Спасибо! — Юрик, израсходовавший весь запас пленок, долго тряс мою руку. — Это незабываемо, Бари!
Он лежал в спальном мешке, не смыкая глаз.
— Что бы ты хотел сейчас, Бари?
— Уснуть.
В этом адском розовом сиянии никак не спалось. «Вот и все, — устало думал я. — Исполнена еще одна цель. Цель на пути в бесконечность…»
— Я хотел бы отблагодарить тебя, Бари, — снова заговорил Юрик. — Не знаю как… Где ты встречаешь Новый год?
— Нигде.
— Замечательно! — Юрик сел, согнув пополам мешок. — Едем к Файдому Гешту.
— К Гешту? — Я расхохотался. — Он что, пригласил тебя?
— Конечно. У меня два приглашения на новогодний бал.
— Гешт, который экономит на мыле для рабочих, приглашает тебя на рождество? — Я отвернулся от шутника.
Юрик проворно вылез из мешка и, приплясывая перед моим носом, потрясал розовыми билетами.
— Да, Гешт! Да, Гешт! Эх, Бари, — он сел на землю, — ты хоть и король, но плохо знаешь причуды власти. Именно Гешт дает обед на тысячу персон!
Глава четвертая
Кто знал, что восьмидесятилетний миллиардер, экономящий на мыле, спичках и воде, Файдом Гешт, считающий по старинке не только доллары, но и центы, способен закатить такой прием!
В Лос-Анджелесе моросил мелкий противный дождь. Вилла Гешта, обычно безлюдная, сверкала над океаном, как хрустальная люстра. В гостеприимно распахнутые ворота въезжают дорогие машины, и сразу гости окунаются в мягкие звуки оркестра, замаскированного в мокрой зелени.
На просторной даже для такого потока гостей мраморной лестнице нарядные дамы выглядят большими движущимися клумбами.
«Что задумал старый лис? — гадал я, поднимаясь с Юриком по лестнице. — Неужели старческая сентиментальность? Отходная? Надежда на благодарность людской памяти?.. Нет! Гешт еще не выжил из ума! Каждый сэкономленный цент в его империи дает миллионы… Зачем же такая безумная трата?..»
Я не сразу различил Файдома Гешта среди слуг. Вместе с ними он при входе раздавал гостям маски.
— Я ждал вас, мистер Бари, — раздался тонкий и неестественный, как из треснутой флейты, голос. — Что ваш вулкан?
Сильно поредевшая, обтрепанная жизнью метла, вставленная во фрак, — это и был сам хозяин. Ничто в нем не напоминало известного по фотографиям Файдома Гешта, первого в мире нефтяного магната, владельца электроники, газет, элеваторов и прочего-прочего. После нашей последней встречи время изменило черты его лица. Остались прежними глаза. Ни у кого не видел я такого ироничного, всепроникающего взгляда. И сейчас он поразил меня: что же это Файди задумал?..
— Вулкан работает! — Я нарочно встал так, чтобы миллиардер видел мою рабочую робу, в которой я являюсь к президентам и к последним на планете королям. — Прошу прощения, сэр, я у вас случайно, что называется, проездом.
— Я послал вам приглашение в контору и с огорчением услышал, что вас нет, вы на съемке, — отчаянно засвистел носом Гешт. — Я не знал, что делать: может быть, пригласить через господа бога? Но когда увидел вас вместе с мистером Юриком, то сразу понял, что вулкан сработал на славу. Поздравляю, мистер Бари. — Он протянул руку, мгновенно подсчитав мой будущий гонорар. — Поздравляю, мистер Юрик. Какую вам маску?
Я усмехнулся:
— Предпочитаю маску Бари. — И кивнул Файди, будто официанту. Он осклабился вслед.
Юрик плелся за мной с маской простодушного ковбоя в руке, чувствуя себя виноватым. Но я хорошо знал Файди: если он чего-то захочет, то отыщет и под землей. Когда мы с Юриком прибыли в Лос-Анджелес, ему тут же сообщили об этом.
— Не собираешься продавать вулкан Файди? — шутливо заметил я Юрику.
— Оставляю себе, — мрачно сказал он. — А ты?
— Пошел он к черту!
Юрик вспыхнул:
— Ты не сердишься? Правда, Джон? — И напялил дурацкую маску. — Пошли веселиться!
Вилла Гешта вместила тысячу разнообразных гостей со всех концов света. Всюду в залах стояли елки, мерцали среди иллюминации свечи, столы ломились от изысканных яств, и каждого гостя, открывающего для себя новый уют, ждал отделившийся от стены молчаливый официант в черном. Постепенно маски заполнили все этажи. Музыка, смех, быстрый разговор, звон бокалов съедали время. Вспыхнул фейерверк среди туч за окном, и мы с Юриком чокнулись: «С Новым годом!»
— Какая дурная погода! — заметила вслух моя соседка-испанка, взглянув в окно. — Дождь и дождь…
— Будет еще хуже, — подумал я вслух.
— Простите, что вы имеете в виду?
Ее пожилой кавалер опустил свое дряблое ухо чуть ли не в мою тарелку.
— Климат ухудшается! — крикнул я громко в подставленное ухо. — А Земля движется в тартарары!
— Ах, как интересно, — сказала дама.
— Куда? Куда? — выпытывало ухо.
— В преисподнюю, если угодно. В катастрофу!..
— Молодой человек, как вы смеете… — возмутилось ухо и встало торчком. — Правительство выступило по этому поводу с заявлением…
— Что мне ваше правительство! — Я слегка тронул вилкой наглое ухо. — У меня собственное мнение!
Мой собеседник отскочил. Дама взвизгнула. Я в сопровождении Юрика направился к двери.
— Брось, Бари, — бормотал Юрик за моей спиной. — С этим не шутят… Будут приставать, дай лучше оплеуху… Так проще…
Юрик прав, в таких домах о погоде принято говорить в ином тонет пересказывая первые полосы газет. Я, разумеется, сболтнул лишнее и рискую попасть в картотеку ненадежных гостей. Кто знает, может, я уже зарегистрирован там. Никто вслух не признавался в этом, но люди чувствовали, что разговоры о погоде стали опасными. Впрочем, стихийные бедствия — моя специальность.
Мы прошли быстрым шагом несколько комнат и в каждой из них встретили Гешта в черном фраке. Мы недоуменно переглянулись и расхохотались. Отлично сработано, Файди! В каждом зале робот. Каждого гостя обслуживает сам хозяин. Почти что хозяин…
— Послушайте, Гешт, — подошел я к очередному роботу, — кто эта дама за тем столом?
Я указал на женщину в зеленом платье, похожем на веселый искрящийся водопад. Такое рождественское платье, платье-елку, могла изобрести только Мария.
— Я не всех гостей знаю, сэр, — голосом хозяина ответил робот. — Дама в маске.
— А меня знаешь?
— Конечно, мистер Бари. Вы недавно говорили с хозяином.
— Спасибо, мистер робот, — сказал я.
— Премного благодарен, сэр.
Значит, все роботы и сам Гешт связаны с компьютером, они накапливают информацию. Зачем это нужно миллиардеру? Наверное, затевается крупная финансовая афера: здесь журналисты, бизнесмены, военные, ученые… И очень много болтунов… Что за странные старики управляют с помощью своих миллиардов нашим миром! Какое добро и зло готовят они людям, в какой пропорции смешивают то и другое в новогоднем коктейле? Ведь такие, как Файд, — а их не один десяток финансовых тузов, — считают себя столпами общества и нередко на практике доказывают эту шаблонную истину.
К черту Файди! Меня очень занимала женщина, похожая на Марию. Сердце неестественно часто стучало: неужели — она?
В компании было четверо. Мужчины наперебой рассказывали что-то веселое, смеялись. Чуть позже четверо взялись за руки и побежали змейкой на танцевальную веранду. Впереди, высоко поднимая ноги, бежало рождественское зеленое платье. Сомнений не было: это она!
Я потерял Марию с партнером в ритмично движущейся толпе.
— Знакомая? — Юрик не отставал ни на шаг.
Я кивнул.
Вот на такой же танцплощадке более двадцати лет назад встретил я девушку с удивленными глазами, взял за руку. На Марию оглядывались, и я страшно злился, понимая, что не имею исключительного права на такую красоту. Позже я догадался, что женщины разглядывали ее платье. Стояла прозрачная пестрая осень, и платье Марии называлось «Мари-рябина».
Весь вечер мы ходили рука об руку, как Адам и Ева. Мир не существовал для нас — только мы сами. Мария оказалась корреспондентом журнала «Мода». В полночь мы целовались. У открытого окна, на фоне багряных листьев Мари-рябина выглядела естественной частью осени.
А через несколько дней два спецкора решили завоевать мир вместе. Каждый своими методами, но плечом к плечу, как положено молодой семье… Семья получилась слишком современная… Работа раскидала нас с Марией в разные стороны, а теперь взяла в свой круговорот и Эдди… Никто в этом, разумеется, не виноват!
— Мария! — сказал я негромко, когда платье-елочка оказалось рядом со мной.
Она недоуменно взглянула мимо меня и почти отвернулась. Как вдруг резко крутанула каблуками, взмахнула зеленым подолом, сорвала маску.
— Джон, ты-ы? — и, приложив палец к губам, увлекла в танец.
Больше всего на свете люблю этот удивленный взгляд.
— Боже, как ты меня напугал… Здравствуй.
— Здравствуй. Почему?
— Ассоциация… Там, где ты… Неужели здесь предполагается катастрофа?
— Если захочешь — пожалуйста.
— А что я скажу друзьям?
— Скажи, что я твой муж!
Мы рассмеялись. Мария на мгновение прижалась ко мне, поцеловала.
— С Новым годом, Джон!
— С Новым годом, Мария!
— Не знаешь, Эдди дома?
— Не знаю. Скорее всего — нет…
Двое из компании Марии оказались мне хорошо знакомы — Лота и Томас Баки. Я не удивился совпадению: Баков можно встретить в любом доме любой страны. Третий… третий — какой-то ученый с рыжими усами (имени его я даже не узнал) — сразу же ушел на задний план.
Мы с Юриком рассказывали про наш вулкан, и я удивлялся изменчивости и приспосабливаемости человеческой натуры: совсем недавно я чувствовал себя свободным человеком, почти богом, сыном таинственной беспокойной Земли, и вот теперь, перебивая Юрика, пытаюсь доказать, что я совсем другой человек, неповторимый Джон Бари, тот самый репортер-работяга, который может позволить себе появиться в мятых штанах среди праздничных туалетов. Неужели я навеки привязан к изобретенной мною «Телекатастрофе»?
— Странный год, — сказала задумчиво Мария. — Что он принесет?
Все принялись складывать, умножать и делить цифры, путаясь в арифметике и болтая всякие глупости.
Радио объявило, что бал продолжается. Можно прокатиться на русских санях с американских горок в зале аттракционов. Можно слетать в космос — в настоящий космос на космобусе, нанятом мистером Гештом. К сожалению, вместимость космобуса — десять человек, поэтому хозяин заранее извиняется перед теми, кто вынужден будет ждать очереди на его личном аэродроме… Для любителей острых ощущений предлагался особый аттракцион, о котором будет объявлено позже.
Грянула музыка. Зазвенели бокалы. Часть гостей двинулась к выходу, решив раскошелить Гешта нетрадиционным способом.
— Джонни, — пристал ко мне Томас Бак, — давай им покажем вулкан! Гешт позеленеет от зависти!..
— Нет! — Я покачал головой, не понимая, как это взбрело на ум Томасу конкурировать с Файди. Смешно: неравные силы…
— Ну что тебе стоит послать за пленкой, — шептал с напряженной улыбкой Бак. — Давай!
— Нет… Не буду.
— Это право Джона — показывать или не показывать, — вмешалась всепонимающая Лота. — Том, на место!
— Хорошо! — Томас шутливо поднял руки. — Я капитулирую. К черту вулкан, к черту космос. Мы будем просто веселиться… Мы, кажется, на Земле, мистер Юрик?
— На Земле, — спокойно подтвердил Юрик. И уточнил: — На вилле Гешта.
У Гешта все шло по расписанию. Космобус, сделав обычный самолетный взлет с бетонной дорожки, превратился в крылатую ракету и понес вертикально в космическое пространство, усыпанное крупными звездами, десять пассажиров. Вереница гостей в бальных платьях и смокингах карабкалась по лестнице на отвесные американские горки и с визгом мчалась вниз на обычных санках, почему-то названных русскими; одни сани перевернулись, и трое джентльменов съехали вниз на спине, отделавшись легкими ссадинами, — об этом сообщила утром местная пресса.
Радио, прервав музыку, пригласило всех желающих участвовать в опасном для жизни шоу.
— Пошли? — предложила Мария.
Бак усмехнулся:
— Зачем? Вся жизнь — каждодневное шоу…
— Я хочу, — упрямо сказала Мария и протянула мне руку.
Совсем как дети, подпрыгивая и кривляясь, выскочили мы под дождь. И под мелкими каплями, сгибаясь под влажными ветвями, вбежали на освещенную площадку, на которой сидели люди. Смеясь и проклиная вечный дождь, не понимая, что здесь будет, мы уселись на мокрый асфальт рядом с застывшими гостями. Моя спина уперлась в спину Марии.
Светили прожекторы. Слева над головами нависал деревянный помост, кончавшийся трамплином. Справа, повинуясь жестам молчаливых слуг, садились рядами гости. Вплотную — до самых стропил, на которых были уложены маты.
Гремела музыка. Мы прилежно мокли и отшучивались от дождя.
— Смотри! — Юрик толкнул меня локтем.
На крыше виллы Гешта вспыхнули огромные неоновые буквы:
ЭДДИ ВОЗЬМЕТСЯ!
Что за бред? Какой Эдди?
И вдруг радио объявило:
«Господа, мы просим извинения и за дождь, и за неудобство…»
— Нам удобно! — крикнул Томас и с лисьей улыбкой заглянул соседям в лицо. Зрители смеялись.
«Вы приглашены на опасный трюк, но не вы рискуете жизнью, — энергично продолжал диктор. — Потому что Эдди Джонни перепрыгнет вас всех».
Под моей лопаткой что-то быстро застучало.
— Мне страшно, — услышал я голос Марии.
— Не бойся! — взвизгнул Бак. — Если он и свалится, то только на последние ряды…
Я сделал выразительный знак Баку, и он тотчас насторожился, стал потихоньку соображать, кто этот Эдди и почему он — Джонни.
Я замер, сжался в заведенную пружину, принимая решение.
«Итак, внимание, господа! Король мотоцикла Эдди Джонни над вами! Смотрите вверх!..»
Ударил в уши усиленный динамиками грохот. И одновременно прозвучал страстный призыв:
— Эдди, остановись! Эдди!
Мария вскочила, и Томас был готов к этому. Он успел дотянуться до ее лодыжек. Я подхватил Марию на руки, зажал ладонью кричащий рот. Но я не мог справиться с рвущимся отчаянием:
— Сволочь ты, сволочь, сволочь, Гешт! — кричала, извиваясь, Мария. — Остановите его! Слышите?..
Люди молча отодвигались от нас, как от безумных.
Треск усилился — мотор работал почти на пределе. Втроем мы едва удерживали Марию.
Не знаю, как пролетел над нами Эдди. Кричало радио. Вопили зрители. Мария, искусав нас крепкими мелкими зубами, вырвалась и убежала.
Я нашел ее на месте приземления Эдди. Едва увидев меня, сын блеснул черными глазами из-под сросшихся бровей.
— Мы возвращаемся домой, отец. — Он склонился над лежащей на матрасе матерью.
— Ну и характер! — Томас Бак учащенно дышал за моей спиной. — Может, примем его в фирму, Джон?
— Только попробуй! — Я в упор взглянул на Тома, и он попятился от меня. — Неужели ты ничего не понял?
— Понял, — пролепетал Бак. — Вы едете домой…
— Организуй, пожалуйста, самолет!
— У меня сейчас нет! Но я найду. — Бак круто повернулся, исчез в электрической ночи.
— Подождите здесь! — приказал я сыну и направился в кабинет Гешта.
Я знал, на каком этаже и в каком крыле виллы размещают кабинеты. Не спрашивая роботов, вошел к хозяину.
Меня поразило странное хихиканье.
Файди Гешт, владыка мира, сидел перед огромным телеэкраном и смеялся. Какой-то пьяный человек, качаясь среди столов, никак не мог выбраться из примитивной клети.
— Мне нужен самолет, Файди! — сказал я отрывисто. — До Мюнхена.
Гешт повернулся ко мне.
— Для тебя, Бари, всегда готов персональный самолет! Счет пришлю потом.
— Пожалуйста.
— Но ты посмотри, Бари, как он смешон — этакая свинья!..
Я думал, что Гешт смотрит по телевизору старинный детектив или комедию. Но Файди насмехался над одним из гостей, который поверил в искреннее гостеприимство и теперь никак не мог найти среди бесконечных столов дорогу домой.
— Ах ты, дохлая крыса! — взорвался я.
Файди смотрел на меня вопросительно, не понимая, к кому обращено возмущение. Редкие его волосы стояли дыбом.
— Мелкая ты душа, Файди, — уточнил я и вплотную приблизился к хозяину вечера. — Ты обещал мне самолет?
— Номер семьдесят девять ноль пятнадцать! Он ждет вас на взлетной полосе, Бари! — Гешт подтвердил тяжелым волевым взглядом, что это истинная правда, отвернулся, уставился в экран. — Вы дитя, Бари, вы ничего не понимаете в удовольствиях. Смотрите, пока не улетел самолет. Это же Тедди. Тедди Питман — мой бывший компаньон… теперь пьяный сапожник…
Пьяный полз под столами в поисках выхода из лабиринта.
Меня преследовал смех сумасшедшего старика.
Глава пятая
Неделю мы прожили счастливо.
Эдди по утрам пил молоко и возился со своим мотоциклом. Мария выходила к столу в домашнем халате. Я ничего не делал, шутил со своими и забыл, что имею какое-либо отношение к событиям в этом мире. Мы вели себя будто вообще ничего не случилось.
Иногда я вспоминал визгливый смех Файди и сжимал скулы.
Скотина, ловко он устроил нашу встречу. Наверное, так же гнусно хихикал над истерикой Марии. А я-то думал, что в неожиданных затратах Гешта скрыт глубокий смысл. Впрочем, не исключено, что он извлекал дополнительные проценты из вложенного капитала. Когда у тебя много миллиардов, а жизнь подходит к роковой черте, поневоле рехнешься…
На улице шел дождь, иногда падал и тут же таял мокрый снег, а камин так заманчиво потрескивал сосновыми поленьями, что не хотелось покидать дом… Я заметил по горящим ушам сына, что ему хочется поделиться переживаниями, которые он ощущал во время прыжка, но не подавал повода для неприятного разговора. Мария тоже сдерживала себя, кроила и шила сыну сверхмодную футболку. У-у подбегал, топоча, по очереди к каждому и выпрашивал сладости.
— Отец, покажи твой коронный репортаж, — сказал Эдди.
— Коронный? Какой же из них?.. Ах да, «Токио, день Т.». Это было пять лет назад.
Я достал кассету, зарядил видеомагнитофон.
— Ты не видел его?
Эдди кивнул. Он редко смотрел телевизор. Теперь, объединенные телеэкраном, мы представляли образцовую бюргерскую семью.
Кадры с необычайной документальностью воскресили недавнее прошлое. Токио горел: на пленке — клубы дыма, пляска огня, ныряющие в пламя пожарные, носилки с жертвами.
Когда прибываешь на место катастрофы, то самая большая трудность — достать транспорт. В Токио мне повезло: я получил один из трех вертолетов телекомпании Эн-Эйч-Кей, специально оборудованных для прямых репортажей. Я был первым западным корреспондентом, прибывшим на место катастрофы, и дирекцию самой могущественной телесети заинтересовал именно взгляд Джона Бари на драматические события. Переговоры провели по радио; я попросил, чтобы звуковой комментарий к кадрам давали из студии местные репортеры.
На аэродроме представители телекомпании, среди которых были, конечно, и люди службы безопасности, предоставили мне вертолет с пилотом. Два других вертолета были уже в воздухе, вели репортаж.
— Будете сразу снимать, господин Бари-сан, или сначала заедете в отель и отдохнете с дороги? — Директор телепрограмм прижимал к носу платок.
— Отдохнем после работы, — ответил я как можно вежливее, понимая, что церемониал важен в этой стране даже во время землетрясения.
— Карамото — ваш пилот и проводник.
По крепкому рукопожатию и пытливому взгляду Карамото, одетого, как и все японцы, в традиционный темный костюм и белую сорочку с галстуком, я решил, что он майор или подполковник той самой службы. Позже выяснилось, что подполковник.
Сверху Токио представлял город миллионов пылающих хижин. Деревянные домики вспыхивали, как факелы, и сгорали со сказочной быстротой, поджигая все вокруг. Между огней носились какие-то тени. Я бы сказал, что на моих глазах горел гигантский сарай.
Я навел камеру, прицелился. Сигнал ушел в студию, вспыхнул во всей красочной гамме на миллионах телеэкранов страны. Дубль картинки передавался через спутник в Европу для моей фирмы.
— Ну и столица! — удивился Эдди. — Это просто деревня!.. Неужели жители не знали?
Я остановил изображение и начертил на листе бумаги Т-образное сочленение древних плит под островами Японии. Основанием этой буквы «Т» является плита, уходящая почти вертикально в глубь Земли.
Конечно, они знали, что рано или поздно так случится. Достаточно сказать, что изобретательные японцы сбрасывали в подводный желоб брикеты мусора, собираемого по всей стране, которые аккуратно опускались в чрево Земли, никогда не всплывая в других частях света. Постепенное захоронение вертикальной плиты время от времени давало о себе знать землетрясениями, а полное уничтожение ее предвещало катастрофу. Событие было рассчитано с амплитудой точности плюс-минус год и названо «Днем Т.». Несколько лет назад столицу Японии официально перенесли в другое, более безопасное место. Посреди моря встали на гигантских сваях платформы, соединенные автострадами. На платформах прочно обосновались высотные здания, похожие на странные деревья, раскинувшие во все стороны стальные ветви; в них переехали почти все официальные службы, многие конторы, а также жители нового Токио. Новая столица Японии прославлялась всеми средствами массовой информации.
— А как же люди? — растерянно спросил Эдди. — В твоем разрушенном Токио?.. Почему они не уехали?
Почему?
На этот вопрос не ответил бы и японский император. Я много раз бывал в Токио до катастрофы, разговаривал с бизнесменами, журналистами, лавочниками, прохожими на улицах и приходил в отчаяние от их вежливой обреченности: «Да, мы знаем, господин…», «Плохо будет…», «Но бог милует…», «Я родился в Токио, живу с этим страхом десятки лет и — ничего…».
«Люди есть люди», — произнес напыщенным тоном император перед глазком моей камеры, и это была единственная фраза, которую я сумел потом вставить в репортаж. Сам он, разумеется, перенес свой дворец на платформу посреди моря.
Деревянный пестрый Токио, который я так любил, город миллионов вежливых бедняков, замаскированный рекламами, обставленный небоскребами, залитый асфальтом и подпоясанный многоэтажными скоростными автострадами, сгорал на моих глазах. Остались покосившиеся небоскребы, черные пожарища, марево над городом.
Позже катастрофу чересчур подробно описывали и показывали, и я не буду многого повторять. Я имел тогда самый оперативный материал.
«Я спал в номере ноль пять девять четыре на пятом этаже гостиницы «Нью-Токио». К счастью для меня — на пятом этаже. — Это дает интервью в моем репортаже знаменитый путешественник и писатель Роберт Андерсон. Голос его спокоен, волнение выдают некоторые лишние слова. — Знаете, когда это началось, я сразу проснулся. Да, да, я проснулся. И включил свет. Представляете? Света не было. Темно. Я нащупал ногами тапочки и, догадавшись, что происходит, схватил с вешалки костюм и — по лестнице во двор. Понимаете меня?…На темной улице, озаряемой яркими вспышками, толпились какие-то химеры, произнесенные шепотом слова застревали в ушах. Земля под ногами так странно вела себя, сотрясалась и громко вздыхала, что все были как притихшие дети. Потерявшихся окликали шепотом…»
На этом я оборвал интервью. Далее Андерсон рассказал, что он вспомнил про оставшиеся в номере дневниковые записи и ботинки. Вернувшись, обнаружил, что стены, которая отделяла его постель от ночной улицы, больше не существует. Кровать стояла на самом пороге пустоты… Он ощупью взял со стола бесценные записи, нашел, с трудом открыв дверцу шкафа, ботинки и двинулся к лестнице, ожидая нового удара. По дороге распахнул дверь соседнего номера, где ночевали его знакомые, но увидел лишь груды обрушившихся плит. Он никогда больше не встречал этих людей.
Во дворе мигали фонари полицейских машин. Сами полицейские, орудуя большими гладиаторскими щитами, оттесняли толпу растерявшихся, рвущихся в номера людей подальше от гостиницы. Вот-вот она должна была рухнуть.
Андерсон отошел от здания и вскоре увидел на дороге машину с короной — светящейся табличкой «такси». Размахивая вещами, путешественник бросился навстречу. Шофер такси, взявшийся неизвестно откуда, за солидную плату согласился отвезти ночного пассажира в аэропорт.
Таким и предстал предо мной знаменитый Андерсон в аэропорту — с блокнотами и ботинками в руках.
— Почему же ты не поместил всю историю? — спросил, обернувшись ко мне, Эдди. — Самое главное — судьба несчастного Андерсона.
Дурачок! Андерсон сумел добыть билет на предпоследний рейс в Европу. Главное — судьба погибших… Сейчас об этом скажет сам Андерсон очень скупыми фразами, которые вошли в мой репортаж:
— Перед сном я слышал по радио сообщения, что США испытывают новую бомбу на атолле в Тихом океане. Если догадаться, где это происходит, если провести от атолла линию древнего континентального шельфа и подсчитать время прохождения подземной волны, то все параметры совпадают: через шесть с половиной минут в Токио началось землетрясение. Сначала слабое, обычное, потом пошли сильные толчки.
…Карамото, ловко пилотируя вертолет над городом, избегая дыма и скопления углекислого газа, придерживался той же позиции:
— Совершенно ясно, мистер Бари, что ядерный взрыв имеет прямое отношение к трагедии всей Японии…
Я хмыкал в ответ, выхватывая камерой самые разные объекты. Коротко давал пояснения комментаторам в студии, чтобы они развернули мои фразы в драматический репортаж. По мере необходимости уточнял у пилота объекты и место действия.
Вот покосившийся небоскреб. Солнечные лучи, внезапно вырвавшиеся из-за мрачной тучи, осветили действующий еще персонаж.
Он выглядит неправдоподобно уныло. Многоэтажная кривая клеть без стекол и людей. С крыши нелепо свисают провода. Вокруг небоскреба простираются серо-оранжевые и зеленовато-серые развалины.
У человека, который лежит у дверей бывшего небоскреба, серо-зеленая одежда и красные носки.
Моя камера берет самый ближний план — ползущего по земле испуганного мальчишку. Да, эта панорама большой стоимости. Надо быть очень хорошим хозяином, чтобы все пунктуально подсчитать. В том числе цену каждого погибшего…
Я никогда не акцентировал внимание зрителя на жертвах, но реальная картина разрушений была не менее впечатляющая, чем полотна знаменитого художника пятнадцатого века Иеронима Босха, которого и сегодня называют «профессором кошмаров». Если бы люди по-прежнему верили в ад и рай, они бы убедились, что ад существует в привычной повседневности, является чуть ли не конечным результатом земной жизни. «Природа скорее мачеха, чем мать», — печально изрек современник Босха Эразм Роттердамский.
Помните знаменитый «Корабль дураков» Босха? Без руля и ветрил плывет утлый челн по морям житейской суеты. Его пассажиры — бездельники, гуляки, сварливые жены, шуты — давно уже забыли, куда держат путь. Их странствие длится бесконечно: мачта проросла пышной кроной, и в ней свила себе гнездо сама смерть. Что движет кораблем — человеческая глупость или грех? Пожалуй, и то и другое. Мир, созданный для человека, прекрасен, говорит нам художник, но в нем царствует зло, и поэтому земная жизнь — это вымощенная благими намерениями дорога в ад. Для Босха все кончается «Страшным судом».
Я нисколько бы не удивился, если бы старый японский император, взглянув на эту картину, произнес свою напыщенную фразу о том, что люди есть люди. Но разве ради такого примитивного вывода мучились и переживали, боролись и творили великие прошлого? Они предостерегали человечество от беды, от его собственной глупости… И верили в наступление золотого века…
Прошли века. Но где же он?..
— Перестань, выключи! — громко говорит Мария. Она растерянно смотрит на меня. — Неужели ты там был?
— Был.
— Это страшно.
— Такова моя профессия, — усмехаюсь я. — Дальше было хуже.
И продолжаю демонстрировать запись.
— Ему капут, — сказал пилот, глядя сверху на стальные конструкции небоскреба. Кажется, он знал, что я не просто из всемирной «Телекатастрофы», а из Мюнхена, потому и сказал так: «Капут».
— Карамото-сан, пожалуйста, чуть-чуть левее.
Он развернул влево, и я схватил новую панораму, сфокусировав камеру на гиганте с вывеской могущественной фирмы на крыше:
МИЦЕНАМИ
«Миценами» — это электронная техника, прежде всего военная.
«Миценами» — это солидные подряды для солидных фирм.
«Миценами» — все остальное, что можно купить в любом супермагазине.
— «Миценами» стоит, как стена! — крикнул мне Карамото-сан. — Вы любите поэзию, господин Бари?
Разговор о поэзии в данных условиях представился мне неподходящим. Я дал понять об этом спутнику неопределенным движением спины.
— Помните, у Гейне, — настаивал странный пилот. — «На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна…» Какое величие!.. Вы согласны?
Я снимал крупные буквы фирмы, когда стена рухнула. Не ощущалось гула подземного толчка. Стоэтажный гигант внезапно завибрировал стальными конструкциями, будто игрушечный. И осел, превратился в голый скелет.
— Не снимайте! — раздался сухой приказ за спиной.
— Почему? — Я не обернулся.
— Это подорвет авторитет нашей экономики… Поверните камеру, Бари.
— Поговорим лучше о поэзии, Карамото-сан…
В ту же секунду я свалился на пол от сильного удара. Казалось, не только шея — сам я треснул пополам. И, очнувшись возле сиденья вертолета, увидел над собой спокойное лицо Карамото.
Подполковник секретной службы не предполагал, что европеец имеет представление о секретах каратэ. В следующую минуту он лежал рядом со мной и по-японски вежливо улыбался. Когда улыбка исчезла и Карамото шевельнулся, я связал его ремнями. Потом влил в подполковника всю свою флягу «энзе». Карамото вздохнул и, изящно изогнувшись в шлее ремней, засвистел носом.
В наушниках кричали из студии: «Бари-сан, куда вы исчезли?.. Что случилось?.. Изображение некачественное… Отвечайте!»
Я успокоил репортеров, сказав, что случилась небольшая заминка и можно продолжать передачу. Хорошо, что Карамото, прежде чем нанести мне удар, включил автопилот. Иначе бы наша схватка окончилась вничью — на земле.
Теперь я, поднимаясь и опускаясь на вертолете, показывал все, что хотел.
Спящего Карамото оставил в аэропорту на попечение коллег. Объяснил его состояние нервным шоком и попросил купить за мой счет бутылку сакэ для поправки здоровья. Сослуживцы, погружая дремлющего Карамото в машину, вежливо удивлялись его олимпийскому спокойствию.
Карамото до сих пор не забыл меня: иногда шлет поздравления по случаю традиционных праздников. Его сначала понизили в чине, потом снова стали продвигать по служебной лестнице.
Старый Токио воспрял из руин, стал вновь отстраиваться. Японии пришлось пережить тяжелый период экономического спада, чтоб справиться с нанесенным ущербом. Акции «Миценами», после того как я показал гибель главной конторы, упали.
— А где схватка в репортаже? — спросил удивленно Эдди.
— Только склейки…
— А правда, что американцы взорвали бомбу, чтобы ослабить Японию? — Эдди сформулировал точно свой вопрос.
Я особенно не задумывался над истинной причиной землетрясения.
— В печати промелькнули небольшие информации. Скорее, это были предположения. Я привел только факты, какими располагал.
— Ты никогда не знаешь самого интересного! — поддержала сына Мария.
— У меня не многосерийный фильм, а документальный боевик.
— А что ты еще умеешь, отец?
Я стал перечислять Эдди, что обязан уметь репортер: водить машину, самолет, планер, космолет, подлодку; бегать, плавать, прыгать с парашютом; молчать, говорить, быть спокойным; знать приемы самбо, каратэ, бокса, вежливого обращения; охотиться, поварить, официантить, обращаться с бродягой и миллиардером; быть в курсе не только биржевых сводок, но и новинок искусства… Да мало ли чего, кроме терпения делать непосредственную работу! А главное, сказал я сыну, всегда быть самим собой…
— Ты хвастаешь, Бари! — поддела меня Мария. — Ни в одной части света не встречала такого мужчину.
— А здесь? В этом доме?
Эдди хмыкнул.
— Скажи, если человек, — начал он, неуклюже двигая плечами, — владеет всего-навсего одной специальностью… Но — замечательной!.. Кто он такой?..
— Профессионал. Очень узкий, несовременный профессионал… Астрофизик… Или художник-гравер…
— Или… «Эдди возьмется»? — вставила смело Мария.
— Кто, кто? — Я смотрел на нее оторопело. — Какой еще Эдди?
— Я!
Сын встал с кресла, и мы увидели, какой он огромный, широкоплечий, модный в новой футболке. И все же какой беспомощный в своей мрачной решимости завоевать мир в одиночку…
— Сядь, — устало сказала мать, и он сел. — Побудь пока с нами…
— Пап! — Эдди переменил тему разговора. — А как ты узнал о землетрясении в Токио? Почему прилетел вовремя?
Я шутливо махнул рукой.
— Маленький профессиональный секрет, Эдди. Все остальное я тебе расскажу.
— Понятно. — Эдди подмигнул мне. — Секрет есть секрет.
Но и сейчас я не мог рассказать ему об Аллене, своем лучшем друге, который живет на космической орбите. Как не мог рассказать честнейшему Юрику, почему я узнал про вулкан. Это в интересах самых близких мне людей — Марии, Эдди… И самого Аллена.
Был очень тихий день, спокойный вечер. Мы больше не возвращались к замыслам Эдди сделать самостоятельно миллион. Вопрос для нас с женой бессмысленный: для кого миллион, когда он уже есть в семье? Но Эдди упрямо решил зарабатывать на жизнь самостоятельно. И конечно, прославиться. Мы глядели на жизнь с разных сторон: Эдди чувствовал себя взрослым, а я и Мария по-прежнему считали его ребенком. И хотя в тот вечер мы много болтали и смеялись, было ясно, что Эдди уходит, удаляется от нас…
Утром раздался звонок агента. Он сообщил, что в одном из провинциальных городков Италии произошел взрыв. Связь работала плохо.
— Что там случилось? — кричал я в трубку, оглядываясь на Марию.
— Обычная история… Убитых мало, раненых полно… На ваше усмотрение, шеф… Жаль только детей…
— Детей? — Я увидел в зеркале бледное лицо сына, стоявшего за моей спиной. — Еду! — крикнул в трубку.
Эдди одобрительно кивнул.
…Когда я вернулся, Марии и Эдди дома не было. На столе лежали две записки.
Глава шестая
Зачем я туда поехал? Не знаю. Может быть, под впечатлением разговора с сыном, его испуганного лица, когда мы услышали о раненых детях.
История оказалась заурядной. Какая-то иностранная фирма открыла заводик под фальшивой вывеской. Какая — никто не знает. После взрыва цистерны с ядовитым газом сюда нагрянули полиция и санитарные машины. Документов в конторе никаких не оказалось. Хозяин завода как в воду канул. Перепуганные служащие не могли даже назвать его фамилию, только имя: синьор Луиджи. Сейчас синьора Луиджи искала полиция.
Я увидел несколько каменных сараев с допотопной аппаратурой. За деревянным забором — пустой поселок, дома с выбитыми стеклами и свежими на фасадах табличками: «Осторожно! Опасная зона». Пострадавших от взрыва жителей увезли в больницы, остальных эвакуировали.
Между домами мелькнули две фигуры и при нашем появлении исчезли.
— Эй! Не видите надписей? — крикнул один из сопровождавших меня полицейских и сердито добавил: — Из-за какой-то забытой в доме тряпки рискуют здоровьем.
— Найти бы этого фирмача и набить ему морду! — сказал другой. — Как вы смотрите на такую меру, мистер Бари?
— Положительно.
Я моментально завоевал их симпатию. Мы шли в особых костюмах по выжженной земле, а люди были беззащитны перед ядовитым взрывом. Многие получили ожоги, повредили легкие, зрение.
Полицейские провели меня в ближайшую больницу; больше на месте происшествия снимать было нечего.
Увидев журналиста, лежащие на койках люди начали проклинать проходимца Луиджи, просили отыскать его поскорее и привести к ним — уж они-то знают, что ему сказать. Рассказывали они охотно, перебивая друг друга, но смолкали, когда кто-то из товарищей заходился кашлем или вскрикивал от внезапной боли.
Вдруг я заметил странное существо. Белая гипсовая маска уставилась на меня. В маске было две прорези: щель для рта и отверстие для глаза. Темный зрачок с любопытством прицелился в меня.
— Ты кто? — спросил я в полной тишине.
— Джино, — раздался хриплый шепот из-под гипса.
— Сколько тебе лет?
— Семь.
— Как твои дела, дружище?
— Я играю.
И Джино показал мне прозрачную коробку с рыжим муравьем, который карабкался по гладкой стенке.
Тишина прервалась хором голосов:
— Это наш Джино… Мужественный Джино… Вы видите, как он пострадал?.. Но ведь жив, а отец с матерью сгорели сразу. Остался сиротой, бедняга!..
— Тихо! — сказал я. — Он сам расскажет. — И поднял камеру.
— Я сирота, — прошипела гипсовая маска. — Мне семь лет. Я мальчик. Зовут Джино…
Этот обжигающий шепот услышал мир.
Джино играл во дворе дома со своим муравьем, запрятанным в коробку, когда рядом что-то сверкнуло, и он упал на песок. Муравей, зажатый в руке, остался цел и невредим. Джино очнулся в гипсе и бинтах. Он повторял чужие слова, но не понимал до конца их смысла.
— Вы, случайно, не синьор Луиджи? — спросил меня Джино.
— Нет, — я покачал головой. — Если бы я был Луиджи, я бежал бы от тебя со всех ног.
— Я знаю: вы добрый. — Джино отвернулся от меня и стал разглядывать своего золотого муравья в солнечных лучах.
Несколько дней пытался я найти какие-нибудь следы Луиджи.
— Никаких документов он не оставил, — пояснил полицейский комиссар. — Какие машины привозили на завод ядовитое сырье, куда, через какие порты, в какие страны шла дальше продукция — ничего пока не известно. Мы установили только, что ядовитые отходы они спускали прямо в реку…
Я знал, что в этой стране даже при наличии документов установить истину было чрезвычайно трудно.
— В палате депутатов все в недоумении. — Комиссар доверительно нагнулся ко мне. — Между нами, господин Бари, сегодня в палату поступил запрос: неужели это взрыв химического вещества, а не естественная катастрофа, раз сюда прибыл сам господин Бари? — Комиссар дружелюбно рассмеялся.
— У вас, комиссар, все любят поговорить… Но между нами, если вы не найдете подлеца по имени Луиджи, кто возьмет на себя заботу поставить на ноги Джино: вы, я или этот шутник-депутат?
Комиссар помрачнел.
— У меня шестеро…
— Значит, вы отпадаете?
— Предварительные сведения, господин Бари, таковы, — сухо сказал комиссар. — Человек, похожий на Луиджи, в тот же день уехал в Швейцарию.
— Благодарю вас за информацию.
Я решил натравить на полицию, палату депутатов, вообще на всю государственную бюрократию газетчиков. Передал в вечерние выпуски римских газет снимки Джино и информацию о лжехозяине завода, послал такие же материалы в швейцарские редакции и ряд других европейских газет.
— Скажите, Бари, почему вы занялись этой житейской прозой? — спросил меня старый знакомый, один из римских редакторов.
— Не люблю подлецов, Титто!.. У тебя есть дети?.. Ты видел это? — Я подвинул ему снимок Джино.
— Понимаю, Бари, — пробормотал Титто. — Мы отыщем эту скотину. — И крикнул в громкосвязь: — На первую полосу снимок Бари. Заголовок — крупно: «Джино ищет Луиджи!» Подзаголовок: «Разыскивается подставной директор фирмы, превращающей Италию в помойную яму Европы…» Пойдет так, Бари?
— У тебя — пойдет…
Несколько дней ждал я, пока отыщут «скотину Луиджи». Полиция ряда стран, разозленная прессой, работала четко, но безрезультатно. Я колебался, давать ли репортаж в эфир без точного адреса виновных в катастрофе. Позвонил врачу и узнал, что состояние Джино ухудшилось. Решил — дать.
В те минуты, когда в эфир многих стран пошла «Телекатастрофа». Экстренный выпуск из Италии», я навестил Джино.
Он лежал безучастный к разговорам на своей койке. Муравей неподвижно застыл в коробке.
— Привет!
Он не отозвался.
И тогда я сел рядом с Джино и приложил к гипсовой маске травяную коробочку, выписанную мной из Токио.
— Это кто? — спросила хрипло маска. — Оно, кажется, шевелится?..
— Это цикада, — пояснил я. — Ну, как ты сам?
— А что такое цикада?
Случай с муравьем навел меня на мысль о японской коробочке. Я видел на японских улицах детей, которые с блаженной улыбкой сидели часами на тротуаре, поднеся к уху сплетенную из травы коробочку, и слушали чью-то таинственную жизнь, чью-то песнь взаперти.
Цикада? Живых цикад я не видел, но рассказал Джино все, что происходит на улицах Токио. И он успокоился, уснул, сжимая в крохотном кулачке трещавшую цикаду.
Коробочки с цикадами я посылал ему ежемесячно.
Джино пришел в себя, подлечился, с него наконец-то решили снять маску.
Никогда «Телекатастрофа» не получала столько писем, они лавиной обрушились на фирму Бака после итальянского репортажа. Зрители возмущались, направляли небольшие сбережения пострадавшим. Большинство писем было о Джино: как он там — этот несчастный мальчик? Несколько корреспондентов изъявили желание усыновить Джино. Эти письма я послал полицейскому комиссару.
— Твоя слава достигла апогея. — Томас Бак потирал ладони. — Никогда не предполагал, что мелкий случай заденет людей. Почему это так? Ведь после репортажа из Токио пришли просьбы издать пластинку японских шлягеров.
— Люди гораздо ближе к земле, чем мы думаем, — сказал я Тому. — О чем человеку рассказать в связи с далеким землетрясением? Что опоздал из-за срочных дел на рейс в Токио и благодарит судьбу, а точнее — свой счастливый жребий? Таких из миллионов может быть один…
— Может, ты открыл новое направление в репортаже? — задумчиво произнес Бак. — Не поймали еще Луиджи?
— Пока нет.
— Будешь давать?
— Все ждут продолжения. Судьба Джино не забыта…
— О'кей. Славный мальчишка, — пробормотал Том.
Через неделю в бельгийском городке арестовали Луиджи. Как и предполагалось, он был подставной фигурой, заурядной личностью, не стоившей даже нескольких строк в газетной хронике. Но на следствии выяснилось, что заводик принадлежал могущественному международному концерну «Петролеум» с главной конторой в Нью-Йорке. Репортеры обратились к президенту концерна. «Петролеум» все отрицал.
Неожиданно римские газеты провели рейд по химическим заводам и обнаружили еще три подпольных фабрики «Петролеума». Предположение моего знакомого редактора Титто об отравлении родной земли зарубежными монополиями выросло в хлесткие шапки всех итальянских газет. Назревал скандал.
Я готовился ехать на судебный процесс, укладывал чемодан, когда в мой кабинет ворвался Бак.
— Срочное задание, Джон! Экстренный выпуск «Катастрофы»!
Я смотрел на него с недоумением: Томас никогда не давал мне заданий.
— Что случилось, Бак?
— Колоссальная засуха в Индии. Миллионы голодающих… У нас заказы от крупнейших телекомпаний. — Нос Томаса пылал.
— Засуха родилась не сегодня, — пожал я плечами. — Пошли кого-нибудь другого. Я лечу на процесс.
— Джон, — Томас заглянул мне в глаза, — ты не будешь снимать этот процесс — Две складки прорезали его лоб. Я не замечал до сих пор, что он постарел.
— Я буду снимать то, что считаю нужным, — спокойно ответил я.
— Подумаешь, какой-то паршивый мальчишка! Сдался он тебе! — Бак размашисто шагал по кабинету. — А тут солидный заказ.
Он явно фальшивил, избегая моего взгляда.
— Томас, в чем дело?
— Дело в том, Джонни, что ты никогда не интересовался финансовым положением фирмы…
Он пробормотал несколько фраз о размахе дел, усложнившейся конъюнктуре, конкуренции на телерынке и своих компаньонах. Но я уловил основное — то, чего не знал: «Петролеум» частично владел и «Телекатастрофой».
— Какой у них пай?
— Половина.
— Я обыкновенный репортер, Том. За экономику отвечаешь ты.
Захлопнул чемодан, взялся за ручку.
Бак преградил дорогу. Нос его пылал так ярко, что мог осветить темный коридор.
— Предупреждаю, Бари, ты нарушаешь контракт!
— Контракт? — Я расхохотался, сдвинул на затылок шляпу. Дело зашло далеко, раз Томас решил объявить мне войну. — Напомни, Бак, что там сказано?
— Что в исключительных случаях администрация дает поручения…
— Двадцать лет этот пункт был мертвой строкой. — Я направился к двери. — Самолет, Том, извини.
— Я тебя предупредил, — быстро проговорил Бак.
Я обернулся, поставил чемодан, подошел к Баку.
— Я Джон Бари, ты меня знаешь, Бак… Так вот насчет «паршивого мальчишки». Помнишь моего деда? Он тоже был паршивым мальчишкой.
Бак побледнел. Он слишком хорошо знал моего деда.
— Ну, это ты перехватил, — пробормотал он. — Какое отношение имеет Джино к судьбе твоего деда?
— Самое прямое. Они оба не виноваты, что потеряли детство.
Бак знал, что я прав. Он понял: наши пути навсегда разошлись.
Глава седьмая
Мой дед Жолио, черноглазый, очень живой человек, любил сажать меня и Томи на колени и рассказывать веселые истории. Рассказывал он смешно, так, что мы покатывались со смеху, но ночью оба обмирали от наползавшего в темноте страха.
Дед пережил фашистскую оккупацию, когда ему было семь лет.
Представьте себе Париж сорокового года, облаву на улице, мальчика перед черными, круто вздыбленными фуражками, гордого оттого, что он независимо держится перед гестаповцами: рядом с ним — молодые, ни на минуту не унывающие отец и мать.
Я с трудом представлял прадеда и прабабку молодыми. Но они остались такими навечно. Они много шутили в товарном эшелоне, который вез их вместе с другими людьми на восток. Куда мы едем? Конечно, в страну Счастливого детства! За что нас везут? За то, что мы и наши спутники не такие, как те, которые остались жить с немцами. Мы — подозреваемые… Мы — подозреваемые в плохом отношении к плохим людям, мы — особенные…
На каждый вопрос Жолио получал исчерпывающий ответ от отца с матерью. Зачем полосатая одежда? Сейчас война, и тот, кто не носит военную форму, кто не убивает невиновных, одевается в полосатое. Куда девались чемоданы?.. А зачем лишние вещи людям, которые собрались в Счастливую страну? Номера — для строгого учета; овчарки — для охраны и порядка; кормят мало, чтоб сохранить фигуру и боевой дух. На голодный желудок легче спать. Не думай про разные мелочи жизни, спи, мой мальчик!..
Они переезжали из одного лагеря в другой, меняли номера, знакомых, нары и были счастливы, что сохранились все вместе, что дымовая труба, чадившая в каждом барачном городе, не унесла в небо никого из них. Что ж, они легки на подъем, они приближаются к своей Счастливой стране, и жестокое время войны не стерло улыбок с их молчаливых строгих лиц.
Из Германии их привезли в Чехословакию, в старинный город-крепость Терезин. На вокзале выдали добротную чужую одежду. Объяснили, что отныне они будут жить семьями в настоящих домах. И когда их вывели колонной на улицы, под весенние, остро пахнувшие листвой тополя, Жолио схватил мать за руку и тихо вскрикнул… Он увидел на городской площади качели, а на качелях настоящих детей — девочек с бантами, с косичками и аккуратно одетых мальчиков. Они взмывали вверх, в самое небо.
Весна сорок второго, Жолио стукнуло девять. Он приехал, как и обещали отец с матерью, в город Счастливого детства.
По утрам он вскакивал с постели и бросался к окну: город был на месте. Вот окна, похожие на бойницы, черепичные крыши, шпиль ратуши. За ратушей веселая площадь для детей; в доме напротив, в окне справа, сейчас появятся старушка и молодая женщина — ее дочь; они приветливо кивнут Жолио… Вот их комната, настоящая комната с кроватями и аккуратной мебелью. Жолио достает из письменного стола бумагу и краски, которые кто-то нарочно оставил для него, начинает рисовать.
После завтрака он стучит в дверь соседней комнаты, оттуда выходит девочка по имени Ева. Здесь тоже живут трое: Карел Бергман из Праги, его жена Анна и дочь Ева. Ева и Жолио, взявшись за руки, бегут на городскую площадь. Туда спешат все девчонки и мальчишки. Грудных детей тоже вывозят в колясках, но их мало — всего пять колясок. Таково строгое правило в городе Счастливого детства.
Жолио и Ева садятся на качели и раскачиваются. Сначала это веселит, потом надоедает, но слезать нельзя. Они катаются час, два, три…
— Веселее, не слышу смеха! — кричит человек в черном мундире, постукивая стеком по блестящей коже сапога. — Айн, цвай, драй!..
На счет «три» дети смеются.
— Нох айн маль! — значит: еще раз!
— Не могу, — говорит сквозь слезы Жолио, — щеки болят.
— А ты приклей на губы улыбку, — советует Ева, — закрой глаза и думай о своем.
Мы карусель привяжем меж звезд хрустальных: это тюльпаны, скажем, из стран дальних.[1]— Слышал, Джон, божественные строки? — шепчет мне дед, приложив палец к губам. — Мы ведь с тобой тюльпаны, цветы, растения на этой великой земле. Понял?
— Понял, — киваю я, хотя ничего не понял.
— Так завещал нам великий испанский поэт, расстрелянный фашистами. Никогда мы этого не забудем. — Сухой палец деда целится в самое небо, где сверкает солнце. — Гарсиа Лорка звали его. Запомни!
Пятнистые наши лошадки на пантер похожи. Как апельсины сладки — луна в желтой коже!Дед тихо смеется… Что там апельсины! О них не вспоминали никогда. Думали, как и советовала Ева, о самых приятных вещах — чаще всего об обеде. Например, думал Жолио, хорошо было бы, чтобы в тарелке оказалась каша. У Бергманов каша с мясом. Никто из семьи Жолио не говорит, что помнит довоенные запахи. Это так же неприлично, как думать вслух, что у бывшего ювелира Бергмана где-то сохранились старые золотые запасы и он получал посылки от родственников. Соседи лишь вежливо здоровались. Дружили их дети. Но Ева не догадывалась, что Жолио знает, что она ест на обед.
— Смех! Веселье! Радость! — командует человек в черном.
И они опять репетируют смех.
Ох, как засмеется Жолио, когда придет международная комиссия Красного Креста, чтоб убедиться своими глазами, что концлагеря приносят людям радость. Он будет хохотать от всей души. Будут смеяться все дети, даже грудные высунут нос из колясок, чтобы убедить членов высокой комиссии.
Но сегодня колясок уже четыре, через несколько дней будет три, а комиссия все не едет.
Зато когда приедет, то увидит не только аттракционы на площади, но и настоящий детский театр. Два человека, жившие в Терезине, придумали пьесу о Брундибаре и собрали труппу маленьких артистов.
Жолио был определен в главные художники, рисовал декорации.
Он мог часами рассказывать лежащим на постели отцу и матери о коварном человеке во всем черном — Брундибаре. Но прежде — о детях. Они живут в городе Счастья и ждут наступления праздников.
Будние дни меняют кожу, как змеи, но праздники не поспевают, не умеют.
Когда же будет хоть один праздник? Такой, какой был в далеком счастливом детстве:
Синяя пасха. Белый сочельник.Брундибар прибывает в город Счастья, чтоб напугать, подчинить себе детей, и, хитро улыбаясь, обещает им праздник.
Праздники ведь, признаться, очень стары, любят в шелка одеваться и в муары.
Брундибар изобретателен в достижении своей цели: прикидывается то трубочистом, то мороженщиком, то обыкновенным черным котом. Предлагает детям сладости и мороженое. Но они ничего не могут купить, потому что у них нет денег (а мама так хочет есть). «Как же так? — удивляется Брундибар. — Кто работает, тот имеет деньги!»
В этом месте пьесы обычно хлопают черными кожаными перчатками хозяева Терезина — эсэсовцы. Ведь они написали на арке города-крепости главное свое правило:
«Arbeit macht frei» — «Работа делает свободным».
Маленькие зрители хорошо знали ответ на вопрос Брундибара: работай — и выйдешь на волю через кирпичную трубу! Они вежливо молчали.
А дети, которые были на сцене, вообще не боятся Брундибара и быстро разгадывают все его хитрости. Они берутся за руки, окружают Брундибара плотным кольцом и поют:
Брундибар, Брундибар, сумасшедший, как пожар.
В этом месте пьесы дети в зале бешено аплодируют. Они знают, что Брундибар — это Гитлер. С рыжими усами и рыжей бородой, сдавшийся перед детьми, готовый играть им веселые песни, — все равно Брундибар сумасшедший фюрер!
Это очень серьезная тайна.
Никто из присутствующих в зале не должен произнести даже во сне имя Гитлера!
Почти все маленькие актеры и зрители унесли эту тайну с собой.
И два человека, которые поставили пьесу. Они тоже погибли.
Завидуешь, Марко Поло?
На лошадках дети умчатся в земли, которых не знают на свете. Синяя пасха. Белый сочельник.Про Марко Поло давал мне пояснения дед. Разумеется, великий итальянский путешественник, когда был маленьким, не заплывал так далеко — за самую границу мира, как дети Терезина. Гарсиа Лорка, испанский поэт, написавший стихи о празднике карусели, не мог знать о детях Терезина: он был расстрелян на рассвете в августе 1936 года фашистами, пришедшими к власти в Испании.
Место его захоронения неизвестно.
Но люди, в том числе мой дед и я, помнят его стихи!
Как зелена трава! Неба. Вода. Как еще рожь молода!Так хотелось Гарсиа Лорке петь, и смеяться, и сочинять стихи, так не хотелось думать о смерти, когда они его — сына зажиточного земледельца, никогда не принимавшего участия в политической деятельности, лучшего поэта Испании, — вывели на солнечные камни, на казнь. Он был старый человек — тридцати восьми лет — по понятиям, разумеется, моего деда, узнавшего облик смерти гораздо раньше… Но поэт шутил перед казнью и выглядел совсем молодым. «Жизнист» — таким неуклюжим, шутливым, но точным словом называл он себя, свое мироощущение, поэтическое кредо.
Он не знал, что его стихи зазвучат, как вечная зелень травы, что к ним допишут позже поэтически беспомощной, но мужественной рукой о злодее Брундибаре свои строки те, кто умчится, как и он, в неведомые земли:
Синяя пасха. Белый сочельник.Мать Жолио тихо смеялась — теперь она состояла из смеха и голода. Отец лежал с закрытыми глазами и улыбался, разделяя победу сына и его друзей над человеком во всем черном — Брундибаром.
…Я и сейчас слышу голос деда Жолио, который браво распевает песню своего детства:
Брундибар, Брундибар, сумасшедший, как пожар.
— Мы его победили. Понимаешь? — слышу я вечно живого деда. — Единственным оружием — смехом!
Он усмехается и продолжает рассказ.
На его рисунках (я до сих пор храню некоторые рисунки деда) сначала исчезла старушка в доме напротив.
Потом ее дочь.
Потом мать Жолио.
Наконец — отец.
Их уносили ночью.
Остались пустые кровати. И мальчик. Один в комнате.
Незадолго до смерти родителей Жолио из квартиры внезапно выехали Бергманы. Они были оживлены, говорили о каком-то новом поселении, где живется еще лучше, но глаза взрослых были печальны. Мальчик проводил Еву до вокзала и видел, как отъезжающих построили в колонну и загнали под дулами автоматов в товарняк.
— …Я встретил как-то Карела Бергмана на трансатлантическом теплоходе, — рассказал мне дед Жолио, когда я подрос — Он располнел, обрюзг, но я его сразу узнал. Бергман никак не хотел признавать мальчика из Терезина, но потом, когда я упомянул о Еве, что-то в нем сработало, и он бросился ко мне с объятиями, как к старому приятелю, познакомил с молодой женой и маленькой дочерью. Мы напились в ту ночь до чертиков… Не знаю, что на меня нашло, но я вдруг поднял голову, увидел худющего ювелира из Праги, резко спросил: «Бергман, а где твоя жена Анна, твоя дочь Ева?» Он отвернулся и молчал. «Бергман, это правда, что на них не хватило твоего золота, что они остались в печи крематория?..» Он молчал. Потом закрыл глаза ладонью, тихо произнес: «Это правда. Золота хватило только на меня…» — Я ушел…
Война до самой смерти преследовала деда. Иногда он вскакивал посреди ночи и кричал: «Бомба!»
Бомба спасла его. Когда девятилетнего Жолио увели из пустой квартиры на вокзал и погрузили с другими детьми в эшелон, он понял, что это последнее путешествие, потому что им объявили о «бане». А «баня» — значит, газовая камера… Бомба, попавшая в вагон, оставила Жолио в живых.
— Я очень люблю эту бомбу, — шутил дед.
И я полюбил ту самую бомбу, потому что если бы ее не было, дед навсегда ушел бы в «баню», а это значит, что ни отца, ни меня не существовало бы.
Когда он скончался, мне было тринадцать лет. В завещании дед просил похоронить его прах в Терезине. Мы с отцом исполнили его волю.
Помню, что в Терезине многое поразило меня.
Прежде всего — толстые крепостные стены и ров средневекового города. Если вообразить при этом автоматчиков и овчарок, то лучшей тюрьмы не придумаешь. Концлагерь без колючей проволоки.
Меня удивило, что город жив, город населен людьми. Вот площадь перед ратушей, где маленький Жолио и его товарищи качались на качелях. По брусчатке мостовой катят не похоронные дроги, а автобусы и автомобили, под старыми тополями на скамейках сидят не молодые старички и старушки, а влюбленные. Неужели они забыли, что здесь часами висел в воздухе горький детский смех?
Где же тот дом, в котором жили Жолио и его родители, пустая комната, откуда увели его на вокзал? Я заглянул в окно первого попавшегося дома и в ужасе отпрянул: за розовыми занавесками двигались тени. Честное слово, двигались!.. Живые тени! А мне-то казалось, что здесь со всех сторон — из каждого угла, из полутьмы подъездов — смотрят худые, сморщенные, совсем будто птичьи человеческие лица с удивленно-детскими глазами.
Я ошибся. Долго бродил по узким улицам под моросящим дождем, пока не убедился, что люди просто живут в этих домах, что жизнь продолжается. Я испытывал чувство острого стыда за людей, которые заняли квартиры, не догадались устроить здесь город-музей.
Утром состоялось захоронение праха деда Жолио. Отец опустил в землю урну, ее прикрыли плитой с именем покойного и датами рождения и смерти.
Рядом с могилой деда простиралось огромное, во всю долину, кладбище. Ряды одинаковых плит. На некоторых стояли имя и дата смерти. На большинстве — номер. Когда освободили Терезин, здесь нашли забытый фашистами прах жертв: аккуратные коробки с пеплом. На каждой проставлен номер, пол покойного и одна дата. Больше ничего. Фашисты наводили в мире свой порядок.
Я долго думал, в чем заключается смысл фашистского порядка на земле: номер, пол, дата…
Дед лежал спокойно рядом с отцом и матерью. Никто не знал только, какие у них номера.
Глава восьмая
«А ведь я все тебе рассказал, Бак, когда вернулся… — вспоминал я, снимая судебный процесс над Луиджи и его компаньонами. — Я тебя заранее предупреждал, а ты не послушался, не запомнил».
Процесс был скучный, с предсказанным результатом, но я работал охотно — ради Джино.
Испуганный, заикающийся Луиджи охотно давал показания, вызывающие зевоту даже у судьи. Рядом с ним на скамье подсудимых сидел собранный молодой человек с седеющими висками — один из директоров «Петролеума».
Я снимал свидетелей. Простым людям Италии было что сказать: многие и теперь были в бинтах и с повязками.
Но когда привезли Джино, я взял средний, а позже общий план. Я видел Джино вчера и знал, что нельзя показывать его крупно без маски, иначе испортишь будущее.
На скамью свидетелей сел старичок с румяным сморщенным лицом и в очках с одним темным стеклом. Джино на все вопросы отвечал кратко, разумно, и я записал все его ответы. Позже наложил хриплый голос на старые кадры с гипсовой маской и включил их в судебный репортаж.
— Джино, дружище, — говорил я с ним накануне этого дня в больнице, — ты-то хоть понимаешь, как будешь жить дальше?
— Я понимаю, я сирота. — Маленький, краснолицый, полуслепой карлик смотрел на меня живым глазом.
— А как именно?
— Мистер Бари, у меня несколько приглашений. Пока не знаю, у кого я буду жить.
Я сел на койку, обнял Джино за плечи.
— Ну а как цикада?
Он мгновенно расцвел и превратился в прежнего симпатичного Джино.
— Цикада? Она поет. Знаете, мистер Бари, какая она маленькая… А поет!
В конце судебного процесса, после выпуска «Телекатастрофы», его усыновил телеграммой коммерсант из Канады.
Телеграмма была дана из Мексики. Я навел справки об опекуне и узнал, что он одинокий состоятельный человек.
Через несколько дней объявилась нанятая будущим отцом няня.
Я проводил ее и Джино в аэропорт.
— Я всегда буду помнить вас, мистер Бари. — Джино бросился мне на шею.
Вот и все. Репортаж окончен, господа! Подсудимым воздали по заслугам.
Джино никогда не узнает, что король «Телекатастрофы» исчез с горизонта.
Исчез из-за раненого мальчика.
Из-за «паршивого мальчишки».
Из-за него.
Но зачем ему знать?
Рано утром зазвонил телефон, и трубка голосом Бака спросила:
— Это Бари?
— Да, он.
— Говорит Бак.
Я задержал дыхание, не хотел с ним контактировать и оказался прав.
— Бари, вы слышите меня? Вы уволены, Бари, за несоблюдение контракта.
Я бросил трубку на рычаг.
Все! Хватит с меня, Бак! Кончено с катастрофами!
А в ушах звенело баковское выражение: «Жизнь хорошая штука, только очень дорогая…»
МАРИЯ
Глава девятая
Отныне я обыкновенный репортер службы «Всемирных новостей», один из ее корреспондентов в Соединенных Штатах Америки. Мой хлеб насущный — хроника происшествий: убийства, ограбления, пожары, взрывы, стихийные бедствия, экологические конфликты и так далее — словом, все то, что входит в компетенцию судебного репортера. Политика, коммерция, высший свет — удел более удачливых моих коллег. Впрочем, я был доволен, так как сильно обжегся на политике в «чистой» журналистике.
Три кита американской телесети, английская Би-Би-Си, западногерманские и ряд других телекорпораций отказались от моих услуг под предлогом «отсутствия должностных вакансий». Конечно, порвав с «Телекатастрофой», я мог спокойно сидеть дома или путешествовать по миру, но для репортера странной кажется роль собственной экономки или туриста-фотографа. Я еще не выжил окончательно из ума, чтобы бесцельно бродить по городскому скверу или мчаться сломя голову из одной страны в другую, фотографируя банальности.
Служба «Всемирных новостей», узнав о моих затруднениях и планах, сама прислала вежливое приглашение.
Я вылетел в Лондон, где находилась администрация фирмы, оставив в доме служанку и повара для ухода за слоненком, поддержания порядка, а также на случаи внезапного приезда Марии или Эдди.
Меня принял сам сэр Дональд Крис — генеральный директор. В Лондоне стояла дикая жара, трава и листва в великолепных парках пожелтели, словно осенью. Газеты сообщали о массовых солнечных ударах у прохожих, и разговор, естественно, начался с погоды.
— Что творится, мистер Бари! — Сэр Крис указал на освещенное, будто прожекторами на съемке, окно.
Хотя в кабинете исправно работал кондиционер, потомственный лорд сидел передо мной в рубашке и вообще походил больше на грузчика, чем на сэра Криса, подписавшего мне приглашение. Он мне сразу понравился — со своим седым ежиком, широкими скулами и не утерявшими форму бицепсами: как видно, в роду лордов оказался случайно какой-то докер или боксер.
— Для Африки такая жара самая приятная погода, — ответил я.
— Но мы-то, черт возьми, находимся на Флит-стрит! — вскричал Крис, подбегая к окну, и внезапно захохотал, обернулся ко мне. — Простите, забыл, с кем имею дело. Сравнений вам не занимать… Я польщен, Бари, что вы приняли наше приглашение. Называйте меня Крис.
— Хорошо. Я слушаю вас, Крис.
Директор грузно опустился в кресло, наморщил лоб, вспоминая что-то очень важное или неприятное.
— Вот вчера, — он задумчиво почесал нос, — поступил сюжет местного значения — из Лондона… Какие-то мальчишки крадут воду… Наполняют цистерны, замораживают в кубы и продают. Разумеется, их поймали… Но как я дам этот сюжет?
Он в упор смотрел на меня, я молчал.
— Дело, конечно, не в цистернах! — Крис припечатал широкой ладонью свой вывод. — А в том, что старшему из похитителей воды семнадцать, а младшему — семь. Совсем как вашему Джино, Бари.
— Я их не видел, Крис, — спокойно заметил я.
— Если мы дадим сюжет, их оправдают. — Крис махнул рукой. — Но скажите мне, Бари, — он понизил голос, наклонился над столом, — что все это значит? Почему в мире не хватает воды для всех?
Я никак не прореагировал на доверительный тон, понимая, что Крис экзаменует меня, словно мальчишку.
Молчание затянулось.
— Если вы мне поручите, Крис, ответить на этот вопрос, то я пришлю пленки из США.
Я встал.
Он уловил вызывающие нотки, тоже встал.
— Ну, что вы, Бари… Мы никогда не даем поручений… Вы сами знаете, Бари, как это делается…
— Да, благодарю, сэр, я знаю.
Этот мотив мне знаком. Я внимательно прочитал контракт с фирмой «Всемирных новостей» и не обнаружил в нем пункта, на котором поймал меня Бак. Интересно, чем Крис прижмет когда-нибудь меня?
— Вы любите Англию, Бари? — Генеральный директор протянул руку. — Мой вам совет: не спешите на службу, побудьте два-три дня в Лондоне. Тем более что служба идет! — Он проводил меня до двери. — Заходите, Бари, или звоните. Всегда к вашим услугам. Даже в такую жару…
Я вышел на улицу. Действительно, было жарко, хотя не так трагично, как считал сэр Крис. Для чиновников Сити в традиционных котелках, темных костюмах и галстуках тридцать с лишним градусов чувствительны. Но уж если ты работаешь в банке или конторе, изволь соблюдать те же правила, что и десятилетия назад. Верность традициям — главная черта Британии.
Я любил Флит-стрит, маленькую, одну из самых известных лондонских улиц. Старинные особняки с неповторимыми решетками, дверьми и лестницами самоотверженно выдерживали натиск времени, с чувством собственного достоинства держались перед повисшими над ними небоскребами. Казалось, и сейчас здесь идет противоборство прошлого и настоящего — литературного и газетного миров. Вот маленькая гостиница «Старый чеширский сыр», где встречались драматург Голдсмит и литературный критик Сэмюэл Джонсон. Не сохранилась, но, вероятно, здесь стояла «Таверна дьявола», вытесненная в прошлое современным банком. Таверну частенько посещал прославленный автор «Гулливера», едкий сатирик Джонатан Свифт. Однако это только призраки прошлого, воспоминания о славной старине, навеянные прежним Лондоном.
Нет больше таких редких индивидуальностей, как Свифт, газетный бизнес захлестнул Флит-стрит. В небоскребах за старинным маскарадным фасадом стучат на машинках, бегают по коридорам, диктуют в микрофон корреспонденции сотни современных свифтов; телетайпы, радио, телевидение несут море информации; в редакторских кабинетах непрерывно рождаются сенсации, которые через несколько часов, обретя на печатных машинах бумажную плоть, растекаются в десятках миллионов экземпляров. Сотни газет и журналов находятся в руках нескольких монополий, и адская машина сенсаций работает непрерывно, днем и ночью, для миллионов англичан.
Похитители воды, разрекламированные в вечерних выпусках, сегодня утром забыты всеми: произошли новые события.
В Лондоне бастовали пожарные, требуя повышения зарплаты, и ночью сгорело несколько домов. Пожары тушили воинские части. Утренние выпуски газет заполнены фотографиями доблестных спасателей. И все же солдаты — не профессиональные пожарные. В некоторых районах была отключена вода. Угроза новых пожаров нависла над городом.
Я не пошел в редакции, заглянул в «Старый чеширский сыр» и в прохладном подвале увидел за потемневшим дубовым столом сегодняшнюю знаменитость — продюсера Адамса, человека искусства, снимавшего телевизионные шоу с участием известных певцов. Он выпрыгнул из-за стола, как маленькая бочка, засеменил короткими ножками навстречу.
— Бари, ты?! Я сначала решил, что у меня галлюцинация от жары!
Он был в курсе моих дел.
— Этот негодяй Бак посмел вмешаться в твое творчество! Телевизионный мир возмущен… Мы направили Баку протест от имени всех продюсеров Би-Би-Си.
Я пожал плечами:
— Теперь я у других хозяев.
— Хозяев? — Адамс скептически рассмеялся. — Что-то на тебя не похоже, Бари!.. Я двадцать лет в Би-Би-Си и ни разу не видел ни одного хозяина. Снимаю, что взбредет в голову.
Я с печальной улыбкой смотрел на Адамса. Что мог я сказать ему? Что в наши дни телевидение стало самым доходным бизнесом? Он и так это знает, хотя Би-Би-Си традиционно не пользуется рекламой, а существует за счет налогоплательщиков. Те монополии, которые щедро оплачивают телерекламу своих товаров, сами диктуют, в какие программы включить их рекламу, а следовательно, вольно или невольно определяют содержание программ. Конечно, Адамс, как и вся Би-Би-Си, мог гордиться своей независимостью от коммерции, «особой позицией» — в отличие от других мировых телесетей. Механизм руководства был здесь тоньше: члены правления — крупные фигуры от бизнеса и политики — не спускали директив журналистам, не вмешивались в их дела. Но зато сами журналисты знали, какой материал от них требуется. Когда-то Адамс получил символический знак продюсера телекомпании — похожую на телебашню авторучку с кожаным ремешком-хлыстом. Этим хлыстом продюсер мог подгонять свою группу, если она не проявляла достаточного рвения, — всех тех, кто еще не стал «независимым», не растолкал локтями других.
Конечно, у журналистов масса неписаных преимуществ. Любого столпа общества, такого, как Файдом Гешт или директор «Петролеума», можно публично критиковать, даже обличать, если он того заслуживает, но когда затрагиваешь финансовые интересы гештов, когда посягаешь на пущенные в оборот центы, которые должны обернуться миллионами, вскрываешь грязную подкладку экономических махинаций, пощады не жди. Кто бы ты ни был — Адамс или Бари. Я испытал это на своей шкуре.
В музыкальных шоу Адамса красивые, осыпанные бриллиантами «звезды» не только поют, но и водят собственные самолеты, управляют собственными яхтами, непринужденно сходят по мраморной лестнице собственной виллы, ныряют с трамплина в собственный бассейн, и при этом, не закрывая рта, заполняют эфир модными мелодиями. Ни один продюсер на свете не может добиться, чтобы Грета Фиш пела в купальнике, а Энтон Чивер — верхом на слоне, но у Адамса, неуклюжего, толстого, курносого Адамса, со «звездами» не бывает осечек.
— Счастливчик ты, Адамс, — сказал я ему. — Настоящий свободный художник!
Он моментально, оттолкнувшись от этой фразы, размотал ход моих мыслей, расхохотался сам над собой, хлопнул меня по колену:
— Не считай меня дураком, Бари. Я знаю, ты очень самостоятельный… Но если я могу тебе…
— О'кей, Адамс…
— Извини. — Адамс чуть смутился. — Но ведь все мы в один прекрасный день можем оказаться на улице…
— О'кей, Адамс… Отчего у вас такая жара?
— По-моему, — весело отозвался Адаме, — солнце испытывает на прочность остатки наших дурацких традиций…
Он подвез меня до Пиккадилли и возле площади влип в маленькое дорожное происшествие, нарушив правила. При этом ему пришлось занять у меня некоторую сумму.
Я оставил Адамса в машине, пошел дальше пешком.
Центр Лондона с годами не меняется. Те же массивные дома, красные двухэтажные автобусы, черные, допотопные на вид такси, словно движущиеся на колесах котелки, автомобильные пробки на перекрестках. Британия замкнулась в скорлупе консерватизма, в своих традициях — королевских церемониях, футболе, семейных пикниках, рождественском пудинге, но в глазах приезжих она заметно обветшала и постарела. Медленно разрушался камень Вестминстерского аббатства. Люди чувствовали себя одинокими на улицах, в автомобилях, домах. Спад воды в Темзе воспринимался драматически: а что будет завтра — не всемирный ли потоп? Мне лично Британия напоминала благополучный с виду, но очень зыбкий мирок Робинзона Крузо. Миллионов робинзонов на большом обитаемом острове…
Перед зданием парламента толпились не только туристы, но и лондонцы, желавшие попасть на галерку для публики. Палаты обсуждали вопрос о новом истребителе для вооруженных сил Англии, и каждая домохозяйка знала, что это значит: через неделю-другую во всех лавках подскочат цены на продукты. Телевидение ядовито комментировало работу парламента.
Вдоль тротуара ходили нелепо одетые люди с плакатами на груди. Каждый из них что-то молчаливо требовал. Полицейские не обращали на них внимания.
— Отец, ты?
Я обернулся, не сразу узнал Эдди со щитом.
— Что ты здесь делаешь, Эдди?
— Понимаешь, — он расправил плечи, демонстрируя свой плакат с призывом обеспечить работой «чемпиона мира по прыжкам через автобусы», — из-за каких-то пожарных срываются мои выступления. Они отказываются дежурить на стадионе.
— Ты полагаешь, что тебе поможет английское правительство?
— Не знаю, что делать… — Эдди уныло чесал затылок. — Такой трюк я освоил — тринадцать двухэтажных автобусов… Мировое достижение! Через пять дней меня должны снимать для первой программы Би-Би-Си… И все впустую: нет пожарных!
— Телевидение имеет собственных пожарных.
— Правда? — Эдди встрепенулся, стал снимать свой плакат. — Ты поможешь, отец?
— Так ты все это всерьез?.. — Я пристально смотрел на сына.
Чертова дюжина английских автобусов. Летящий над ними мотоциклист. Тысячи вопящих на стадионе робинзонов. Миллионы робинзонов перед экранами телевизоров. Стоят ли миллионы зрителей такого риска? Стоит ли вообще промелькнувший на экране сенсационный кадр хотя бы одной человеческой жизни, которая может внезапно оборваться?
Наверное, мои мысли красноречиво отпечатались на лице.
— Ты не волнуйся, папа. — Сын взял меня под руку. — Все точно рассчитано. Я прыгаю каждый день на тренировках. Это очень бодрит…
Я позвонил из гостиницы знакомому директору телепрограмм и все уладил с пожарными. Попросил Адамса для верности проследить… Эдди радовался, уплетая за обе щеки обед, был очень возбужден.
— Не беспокойся, отец. Я уже взрослый, — твердил он. — У меня имя — Эдди Джон Бари.
— За что Эдди возьмется дальше? — шутливо спросил я.
— О, совсем забыл! — Он вытащил из кармана бумагу. — У меня контракт с Голливудом… Посмотри, какая сумма…
Сумма гонорара была приличная.
— Что будешь делать?
— Для начала прыжок из летящего самолета.
Так я и знал. Не надо было спрашивать: защемило сердце.
— Может, полетим вместе?
— Я сам! — Эдди вспыхнул и рассмеялся над своей мальчишеской самоуверенностью. — Пусть раскошелится телевидение, и я прибуду в Голливуд королем.
— Будь осторожнее там, — предупредил я. — По моим сведениям, Голливуд окончательно захватила мафия.
— Гангстеры такие же дельцы и такие же зрителя, как все остальные, — махнул рукой Эдди. — Они лишь лучше других знают, какие боевики нужны публике.
— Они никогда не забывают, кому платят, сколько и за что, — сказал я серьезно. — Не задерживайся там долго.
— Хорошо, отец. Мне приятно будет думать, что ты рядом. Я рад, отец, что ты расстался с Баком. Он порядочная свинья!
— Он не мог поступить иначе, я — тоже…
— Значит, на свете нет друзей? — заметил Эдди цинично.
— Тот, кто громче других кричит, что он твой друг, по-моему, просто пытается всех обмануть.
— Бак всегда был фальшив… А ты молодец! — Эдди улыбнулся, показав полный рот белых зубов. Он улыбался так, когда вспоминал что-то хорошее. — Я видел твои репортажи и понял, что именно ты спас Джино. Где он сейчас?
— В Канаде.
Да, Джино я выручил из беды. А вот этого самоуверенного мальчишку — не могу. Не могу придумать, как отвести грядущий удар… Странная штука — жизнь… Мир настолько тесен, что на улице чужого города запросто встречаешь сына. Но когда до него остается один шаг, крохотное пространство обращается в бесконечность…
Эдди уже мысленно летит над красными крышами чертовой дюжины…
Пожаловаться на него мне некому: Марии нет рядом.
Глава десятая
День репортера в Нью-Йорке напоминает раскручивающуюся пружину часов. С утра — просмотр прессы, теленовостей, лент телекса. Для сведения, чтоб не повторить чего-то уж известного публике. Как всегда, ничего подходящего для «Всемирных новостей»… Звонок шефу бюро полиции по связям с прессой; он вскоре передаст дела сменщику. Мои неизменные две-три минуты для информации: убийства, грабежи, перестрелка групп, арест преступника — вся ночная жизнь города плывет мимо моего сознания, не вызывая никаких эмоций.
Выпуски местных теленовостей и так перенасыщены всякого рода происшествиями, разжигающими время от времени дремлющее воображение обывателя.
В окнах моего номера на тридцать шестом этаже гостиницы «Нью-Эс Плаза» — куча небоскребов. Знаменитых, вроде Эмпайра, «Пан Ам», башен-близнецов Торгового центра и безвестных каменных истуканов. Двухэтажный номер в «Плазе» — с гостиной внизу и спальней наверху — стоит двести девяносто долларов в сутки. Это дороговато для простого репортера, но весьма престижно для «Всемирных новостей». Хотя особых удобств там нет, администрация гарантирует, что тебя не ограбят в лифте. Для солидной публики — немаловажный довод. Один из Рокфеллеров, записывая мой адрес, присвистнул: мол, он себе такого позволить не может. Я пояснил миллиардеру, что, как иностранец, плачу в основном за вид на небоскребы, в том числе и его — рокфеллеровские. Он понимающе улыбнулся: только семейная церковь Рокфеллеров куда богаче и шикарнее «Плазы». И пускают туда бесплатно. Я же, тратя бешеные деньги на шикарные отели, не куплю ни одного небоскреба.
Наблюдая из окна жизнь небоскребов, я понял, что кто-то хитроумно придумал эти каменные мешки для такого разноликого города, как Нью-Йорк. Будто гигантские пылесосы, втягивают они по утрам в себя многомиллионую толпу американцев — негров, евреев, итальянцев, пуэрториканцев, немцев, славян, ирландцев, англичан, французов, китайцев, греков, — всех, чьи предки однажды вообразили себя новыми людьми — американцами, перемалывают этих разных людей, а вечером вытряхивают наружу опустошенные муляжи.
Вечером Нью-Йорк похож на сверхнапряженный электромеханический тренажер. Город возбужден, улицы перегружены. Сплошное мелькание колес, электричества, человеческих фигур. Океанский прибой ритмично ударяет в каменные стены.
Энергия городской жизни достигает предела. Кажется, вот-вот еще чуть-чуть, и вся эта скала Манхэттена нервно завибрирует и отделится от океанского дна, поднимется над Америкой и над всем миром, устремится вверх, в космос, в бездны Вселенной со всеми своими небоскребами.
Как-то я решил сделать репортаж о вечернем городе. Позвонил в управление полиции и по его рекомендации приехал в обычный полицейский участок — кажется, под номером четырнадцать. Дежурный лейтенант Кеннеди флегматично протянул из-за стойки листок с полагающимся в таких случаях текстом: «Я, такой-то, по своей воле принимаю участие в патрулировании города и в случае нанесения мне материального или морального ущерба не предъявлю полиции никаких претензий».
Росчерк пера — и я в полицейском патруле, на заднем сиденье ярко-желтой машины, за широкими спинами двух рядовых. Справа — Френк, подтянутый, с пышными для его лет усами; слева, за рулем — Фил, на вид более простоватый, с перебитым, как у боксера, носом. Обоим под тридцать; один пошел служить прямо после школы, второй работал раньше слесарем. Как они относятся к своей работе? Считают, что она приносит пользу. Их жены? Сначала переживали, а сейчас привыкли, перед сменой напутствуют, как это принято: «Береги себя» — или: «Будь осторожней». Обе ждут, когда мужья сдадут экзамены на сержантов — все же заметная прибавка к жалованью…
Нас прервали. Попискивающее радио городского штаба сообщило Френку, что на Шестидесятой улице замечены пятеро с ножами. Фил включил мигалку и, не меняя своей несколько небрежной позы, более искусно залавировал в потоке машин. Френк снял с крючка дубинку, автоматически нащупал и поправил под кожаной курткой рукоять кольта.
Машина вылетела на перекресток, и несколько подростков при нашем появлении бросились бежать по улице, потом метнулись во дворы. Я успел снять из окна мелькающие тени, машина чинно проехала по опустевшей улице. Френк повесил дубинку на место, выдохнул сквозь усы:
— Нагляделись фильмов. Я, например, не разрешаю своему парню смотреть боевики по телевизору.
— Почему? — лениво откликнулся Фил. — Надо воспитывать настоящих мужчин. — Он усмехнулся, что-то вспомнив. — Я разрешаю… Но сначала смотрю сам.
Фил недавно попал в переделку. Заметил в уличном потоке автомобиль с нью-йоркскими наклейками и номером другого штата. Прижал его к тротуару, попросил у водителя права. Тот выхватил пистолет. К счастью, Фил владел кольтом более сноровисто.
Вот так, уважаемый Сэмюэл Кольт. Ваш револьвер, изобретенный в 1835 году, до сих пор служит верную службу как блюстителям правопорядка, так и преступникам. Нью-Йоркский университет, мимо которого мы сейчас проезжали, гордится двумя своими выпускниками: Морзе, который, как известно, изобрел телеграф, и вами, чьим именем назван револьвер. Окрашенная в черный цвет телега на резиновых шинах, в которую впрягались лучшие рысаки — так называемый полицейский патруль, — была вам, несомненно, хорошо известна. После вашей смерти лошадей сменил паровой двигатель, потом бензиновый. Но телега осталась телегой, и в управлении полиции, возле экспоната последней полицейской конной повозки, есть специальный зал с венками и табличками имен тех, кто был убит на всех последующих повозках. Секрет жизни и смерти, видимо, заключается в том, кто первый выхватит усовершенствованный револьвер вашей системы и нажмет спусковой курок. Фил пристукнул незадачливого похитителя автомобилей и был оправдан судом; не будь он так скор на руку, его табличка висела бы рядом с другими, а персональное оружие передали бы более молодому кандидату в сержанты. Извините, господин Кольт, такова история вашего изобретения, о котором вы, разумеется, не задумывались, когда делали вертящийся барабан для патронов…
Далее нашу патрульную телегу мотало из стороны в сторону в соответствии с рождающейся на глазах статистикой преступности. Обнаружено, как сообщило радио, мертвое тело во дворе. Из-за уличной пробки мы опаздываем на несколько минут, и расследованием занимается другой патруль.
Унесена дневная выручка из магазина радиотоваров. Фил и Френк составляют протокол. Продавец и два покупателя описывают внешность преступника, который дал фальшивую банкноту, а взамен, под прицелом все того же кольта, потребовал настоящие…
Вор прошел в квартиру с черного хода. Перепуганный, похожий на взъерошенного воробья старичок ведет полицейских осматривать взломанный замок. Я снимаю убогую холостяцкую обстановку. Что унесли? Сбережения — несколько десятков долларов и старинный хрусталь. Мелочь, но на нее требуется протокол. Пока Френк писал, Фил был вызван соседями и выяснил, что их тоже посетили неизвестные.
Я взглянул на часы: прошло полтора часа обычного рабочего дня моих спутников. Для меня достаточно. Попрощался с Филом и Френком, пожелал им успехов, уехал домой, где меня дожидался представитель телекомпании Эн-Би-Си. Ему я передал пленку с разрешения своей конторы.
Мой рабочий день закончился, а у Фила и Френка только начался — им еще четыре часа гонять по улицам Манхэттена, который разрезает наискосок бывшая охотничья индейская тропа. Вот она — Большая Дорога, Бродвей, описанная во всех справочниках и романах об этом хаотичном городе, — большая светлая дорога в темной ночи, фосфоресцирующая особым, усиленными светом, трассирующая фарами напряженного потока машин среди моря электричества. На каждом углу ее — особая жизнь, особый народ и народец; секрет Манхэттена в том-то и состоит, что надо точно знать, где и с кем, на каком отрезке Бродвея ты можешь неожиданно повстречаться.
Здесь все странно переплетено: улицы туристов, театралов, завсегдатаев дорогих магазинов соседствуют с улицами «золотой» молодежи, искателей приключений, опустившихся людей. Разве не естественно, что человек, которому сегодня на вечер необходим всего один доллар, обалдело глядит на витрину или рекламу, сулящую тысячи и миллионы, и он усиленно соображает, как ему достать свой доллар, соразмеряет и прикидывает в уме все возможные последствия своего поступка.
Фил и Френк работают, наводя относительный порядок в этом хаосе, а я сижу в одном из бродвейских театров на премьере знаменитой «Линии танца». Спектакль — весьма искусный слепок с перенаселенного города: на сцене перед залом на восемьсот человек проходит обычный бизнес человеческих чувств. Чуть-чуть пахнет нафталином в этом старом театре, но актеры быстро движутся в танце, остры на язык, современны в резкой пластике; музыка не усыпляет; задники сцены — вращающиеся черно-белые зеркала — то создают интимную обстановку, то отражают цветные фонтаны огней большого города.
Эти театры на Бродвее и вокруг него — особый мир; от него, собственно, и пошло знаменитое сравнение Нью-Йорка с Большим яблоком. Во всяком небоскребе или большом отеле есть такой уголок, где сидит окантованная мраморной стойкой молодая, единственная в своем роде негритянка или пуэрториканка, а за ее спиной висит картина с изображением спелого аппетитного яблока, иногда столь искусно написанного, что и впрямь хочется вгрызться зубами в ароматный плод, Негритянка или пуэрториканка, которая работает на фоне этой традиционной картины, наверное, и не подозревает, что она, давая клиентам справку, наливая кофе и виски или просто следя за порядком, олицетворяет самый интересный в Америке город, его артистическую душу.
Когда-то, на заре большого Нью-Йорка, когда каменная скала Манхэттена ощетинилась первыми небоскребами и для их обывателей потребовалась индустрия развлечений, в бродвейские театры хлынула толпа провинциальных музыкантов, актеров и авторов. Но все вакантные места были уже заняты более сообразительными людьми, и пробиться в их ряды — на театральные подмостки — означало для счастливчиков получить Большое яблоко.
Это мне объяснили очень реалистично ребята из полиции — те же самые Фил и Френк.
И сто лет назад Нью-Йорк казался очень тесным городом, в котором, в частности на бродвейской сцене, и яблоку негде было упасть. И сто, и двести лет назад, как слышали об этом Фил и Френк, полиция не сидела здесь сложа руки. Сегодня же, когда в городе проживает негров больше, чем в некоторых африканских городах, полиция называет Нью-Йорк Большим гнилым яблоком. Разумеется, без ссылок на острословов.
Я ушел с представления слегка ошеломленный. Мастерство артистов и авторов требовало осмысления. Когда после мелодраматической концовки вся труппа — а их было несколько десятков самых разных героев и характеров — выскочила на сцену в одинаковых золотых комбинезонах и, кривляясь и подпрыгивая под заключительные аккорды музыки, совершила по сцене несколько кругов почета, зрители энергичными хлопками отметили тонкую иронию артистов по отношению к ним, к самим себе, ко всему миру и тотчас забыли об этом, занялись новыми заботами в большом городе.
Ночной Нью-Йорк сияет, как именинный пирог, подсвеченными небоскребами. Некоторые из них пусты и безжизненны, как памятники прошлого в лучах прожекторов; некоторые выделяются венцом последних этажей — там работают рестораны, идет своя жизнь.
Ночной Нью-Йорк заполнен рыданиями сирен «скорой помощи», полицейских патрулей (Фил и Френк все еще на линии) и взрывами веселья бездельничающей публики. Телевидение дает свежее сенсационное сообщение. В аэропорту имени Джона Кеннеди двое в масках вошли неожиданно в ангар авиакомпании «Люфтганза». Девять служащих в этот момент завтракали в кафетерии склада; сторож не мог дать сигнал тревоги, так как сопровождал неизвестных под угрозой оружия. Вслед за двумя в кафетерии возникли еще три человека с автоматами наперевес. Двое под присмотром троих быстро и надежно привязали девятерых к стульям и попросили сторожа открыть сейф. Там покоились тридцать мешков с обесцененными, собранными в разных странах Старого Света и присланными обратно — в Новый — долларами. На сумму в пять миллионов.
Грабители не торопились. В течение часа они переносили мешки в автофургон. Когда машина выехала из ворот «Люфтганзы», одному из служащих удалось освободиться от пут. Но неизвестные были далеко. Через полчаса полиция обнаружила у Бруклинского моста брошенный фургон.
А я-то гонялся за мелкими воришками!
И все же главный игрок в бесконечных городских лабиринтах — это одиночество. Одиноких оно гонит на улицу, пьяницу тянет в кабак, людей обеспеченных собирает в поднебесье и подземелье, преступников выводит на их жертвы. Кто, как ни одиночество миллионов, виновато в том, что огромный, вытянутый ввысь и вширь город разделен, как улей, на строго ограниченные соты? Что благополучие соседствует с отчаянием, подлинная культура — с невежеством, жизнь — со смертью? Что люди тянутся друг к другу, стремятся разрушить границы, соединиться друг с другом или погибнуть в столкновении? И что значит в этом море одиночества челнок Фила и Френка, которые заканчивают дежурство, пытаясь установить порядок, а возможно, просто мешают естественному в городе порядку, противостоят привычному течению одиночества?
…По-моему, лучше всего смотреть на Нью-Йорк с высоты в субботу на рассвете. Часов в пять или шесть, когда все еще спят и солнце золотит стекло, камень, металл небоскребов. Сразу понятно, что призрачный город в окне — сплошная декорация, и взгляд опускается в поисках жизни вниз, к подножию громадин, к асфальту улиц и тротуаров.
Они еще пустынны. Залиты утренней тенью. Неужели никого нет внизу — ни на одной из видимых сверху улиц?
Нет, что-то вон движется. Я облегченно вздыхаю.
В объективе моей камеры, низко надвинув на лоб шляпу, пересекает улицу человек.
Идет к своему автомобилю.
Глава одиннадцатая
Снова звоню в полицию, и снова дежурный шеф перебирает сводки.
— Вот, кажется, что-то есть, Бари, — устало говорит полицейский. — Свежая радиограмма.
Я подтягиваюсь: некоторые нотки в монотонном голосе предсказывают скорую работу.
— Несколько сот автотуристов попало в ловушку… Ночью прорвало плотину… Вся долина затоплена…
Мое воображение рисует внезапный вал воды, катящиеся среди пены автомобили, смытые палатки с людьми… Всплыл крупный заголовок:
«Исчезнувший автогород».
— Где это, шеф? — Я записываю адрес — Благодарю, я ваш должник.
Теперь начинается гонка, испытание на прочность: в долине надо быть первым.
Лифт.
Такси.
Аэропорт.
Вертолет.
Два часа в воздухе.
Как трудно вырваться из каменных объятий города! Зачем люди выбирают для своих домов самые лучшие земли — чтоб залить их асфальтом? Вторгаются в леса — чтоб превратить в мертвые, пустые, без зверей и птиц парки? Переделывают реки — чтобы устроить бетонированные, без лугов и пляжей канавы?.. А потом тоскуют по зеленой траве, глотку свежего воздуха, чистой воды и, поддавшись соблазну рекламы: «Поставь свой мирок на колеса и посмотри Америку!», мчатся сломя голову на поиски дикой природы. И там, в какой-нибудь долине, прокладывают колею, ставят бензоколонки, проводят электричество для электропечей, засоряют речные берега. Неужели человек живет, работает, производит массу полезных вещей, чтобы просто бросить на лужайке пустую банку из-под пива?
В долине, куда я прилетел, природа взяла реванш. Ночью во время дождя прошел оползень. Плотина, державшая водохранилище, рухнула вниз с массой свободной воды. Сейчас река заполнилась до самых берегов, спокойно несла под нами мутные желтые воды. А несколько часов назад здесь был городок автодач. Некоторые туристы, наверное, даже не успели проснуться.
Мы летели вниз по течению, встречая на пути патрульные вертолеты. Полицейские на мои энергичные жесты знаками отвечали: ничего не найдено. И вдруг внимание привлекла какая-то смятая жестянка на отмели — перевернутый автофургон.
Приземлились одновременно с патрульной службой. Вскрыли помятую дверь. Внутри все искорежено, как после аварии, пусто; видимо, люди ночевали в палатке. По номеру машины можно будет узнать их имена.
На обратном пути связываюсь с квартирой сенатора Уилли, прошу его дать интервью.
— Бари, ты знаешь, у меня все расписано на месяц вперед, — ворчит Уилли.
Ничего другого я не ожидал: американец без расписания деловых встреч не американец. От клерка до сенатора. Хорошо, что я лично знаю сенатора.
— Через месяц, мистер Уилли, эти люди никому не будут нужны. Они уже не люди… Но сегодня их еще разыскивают родственники.
— Раз надо, я сокращу наполовину свидание.
Вертолет приземлился на крыше дома сенатора.
В кабинете я показал хозяину пленку. Мощный, косматый, с резко очерченным профилем Уилли чем-то напоминал сидящего в кресле Линкольна. Во время просмотра он не издал ни звука.
— Кто в этом виноват, сенатор?
— Проще всего было бы обвинить строителей плотины или самого господа бога. — Уилли медленно поднял косматую голову.
Он вдруг вскочил, взревел, уставившись сердитым взглядом в глазок камеры:
— А виноваты мы все! Все — американцы! В том числе и погибшие!..
Как удачно избрал я сенатора, которого беспокоит, как и миллионы американцев, уничтожение природы! Недаром поговаривали, что он может выставить себя кандидатом в президенты.
Уилли проревел всего несколько фраз — об истоптанной траве, скальпированных горах, чудовищных раковых опухолях в глубине земли, отравленных морях. Эти фразы падали, как глыбы, как фолианты обвинений человеку: остановите бег машин, оглянитесь вокруг, поймите наконец, что леса, реки, травы, птицы — неизмеримо большее богатство, чем миллиарды зеленых бумажек в сейфе!
Уилли так же внезапно успокоился, сказал в заключение:
— Приведу один факт: чтобы вызвать рак легких у всего населения планеты, достаточно фунта плутония. Мы ежегодно имеем дело с сотнями тонн.
Позже, когда я смонтировал пленку, вставил фотографии погибших, установленных по номеру перевернутой машины, перегнал репортаж в Лондон и смотрел его в эфире, начались звонки.
Звонила секретарша, спасавшая от загрязнения лесное озеро.
Группа пенсионеров, борющихся за сохранение безымянного ручья и холмов.
Рыболовы, выручавшие из кислотных вод сантиметровых рыбок.
Они опоздали в мой репортаж, но я записал их адреса. Когда люди объединяются ради спасения любой живой мелочи, они способны взяться и за нечто большее.
Я был рад, что порвал с прежней жизнью, с «Телекатастрофой». Теперь я не по ту сторону экрана — не пугаю людей всемирными бедствиями, я среди них, вместе с их радостями и горем.
Прозвучал еще один звонок:
— Мистер Бари? Вы способны разговаривать по телефону с черным человеком?
— Я вас слушаю…
— Я только что видел ваш репортаж, — мелодично и мягко прозвучал голос в трубке. — И подумал: почему бы вам не рассказать, как умерщвляют мой негритянский народ? Многие из живущих уже мертвы…
Я затаил дыхание: сумасшедший или террорист? Что он хочет?
— Вы кто? — спросил напрямик.
— Джеймс Голдрин, писатель.
Я смутился, вспомнив его фотографии: печальное вытянутое лицо, длинные пальцы рук.
— Вы где, мистер Голдрин?
— Я остановился в том же отеле, что и вы.
— Заходите, мистер Голдрин.
— Не поздно?
Голдрин оказался на голову выше ростом и гораздо старше меня. Сел в уголке перед выключенным телевизором, обхватил руками поднятое вверх колено.
— Извините, я, как и вы, только что приехал в Америку, точнее, вернулся, — просто сказал он. — И услышал ваш телемонолог. Захотелось поговорить с живым человеком.
Он — американец по происхождению, незаконный ребенок в доме, как он сам называет себя, — уехал в зените славы в Европу, вернулся на родину после двадцатипятилетнего пребывания за границей. Зачем? Не мог больше наблюдать издалека, как его народ убивают различными способами — стреляют, сжигают, вешают, умерщвляют духовно. Решил видеть все своими глазами. Вернулся к корням, к истокам.
— Вы задумались, мистер Бари, почему мы — писатели и журналисты — чаще всего рассказываем о мертвом или почти мертвом человеке, а не о живом? — Выпуклые глаза Джеймса смотрят на меня печально, голос у него ровный, глухой, как набат.
— Не у всякого хватит мужества ответить на такой вопрос…
— В людях осталось мало мужества, — просто заключил Голдрин.
В этот момент я представил гигантское, полное трагизма полотно. «Гернику» Пикассо. Я видел ее в Мадриде.
На профессиональном языке это называется «стоп-кадр». Весь мир исчез. Осталась «Герника».
В холодных зловещих вспышках света мечутся объятые ужасом люди и звери. Мир разъят на части всеобщим убийством. Изломы тел и предметов, искаженные болью лица, конвульсивные движения фигур — все здесь взывает, предупреждает о грозящей катастрофе, убийстве женщин, детей, стариков. Картина написана в 1937 году, когда фашистские бомбардировщики начисто разрушили древнюю столицу басков — мирный городок на севере Испании. И сегодня все в этой картине корежится болью, исходит криком. И глубоко ранит бесстрастно горящая в хаосе бело-голубой ночи обнаженная электрическая лампочка.
Я напомнил Голдрину одну историю: когда во время второй мировой войны в парижскую мастерскую Пикассо вошел фашист и, увидев репродукцию знаменитой «Герники», спросил: «Это ваша работа?», художник ответил: «Нет, ваша!»
— Я не ошибся в предчувствии, мистер Бари! — Писатель встал с кресла. — Вы — честный человек!.. Пришел вас предупредить…
— Что-то случилось?
— Пока нет. Но вы, наверное, заметили, что среди преступников очень много негров?
— Мне это известно.
— Здесь, в центре Нью-Йорка, большое негритянское гетто. — Длинный палец Голдрина уперся в стекло. — Среди жителей гетто не найдешь ни одной семьи, где нет убитых расистами. И нет семьи, где в результате кто-то не стал преступником. В молодости я сам был подвержен приступам кровожадности из-за всепроникающего страха…
— Зачем вы говорите мне это, мистер Голдрин?
— Вы только начинаете работать в Америке, но от ваших репортажей многое зависит. Будьте снисходительны к ним… Их предали анафеме с самого рождения. Вы говорили о фашизме. Я лично не вижу большой разницы между фашистами и расистами. Последние даже изощреннее. Остерегайтесь их…
— Постараюсь запомнить ваши слова… Зачем вы вернулись?
— Во мне живет надежда на нашу молодежь. Извините за болтовню… — Он неслышно направился к двери, у выхода задержался. — И еще одна боль — Америка… Если ей суждено погибнуть в большом пожаре, я буду вместе с ней…
Я пожал руку Джеймсу.
Всегда считал американцев людьми чересчур самонадеянными, уверенными в своей гениальности и чемпионстве. Но эта встреча поколебала мое мнение. Слишком остро прорвалась в писателе боль…
День репортера кончается поздно. А пружина внутренних часов не раскрутилась еще до конца, будоражит сознание, мешает уснуть в окружении большого города, где каждую минуту что-то случается.
Ночью принесли телеграмму от Эдди из Голливуда: он начал работать. Я облегченно вздохнул. И вспомнил Марию: где она сейчас?
Глава двенадцатая
Могучая Америка забуксовала от непогоды.
Сначала эта меткая фраза одного из газетчиков вызвала остроты. От погоды зависит любой из нас, но — Америка?..
Летом города задыхались от жары, засуха обрушилась на поля в большинстве штатов. Сохли посевы, трескалась земля, исчезали маленькие речушки и озера. Биржа первая почувствовала приближающуюся лихорадку голода в Африке, Индии, Пакистане. Цены на сельхозпродукты подскочили.
Осенью выпал обильный снег. В Нью-Йорке сугробы достигали метровой толщины. На дорогах — пробки, аварии. Бывали случаи, что пассажиры застревали в пути, замерзали в автомобилях. Гигантские сосульки, срывавшиеся с крыш небоскребов, пробивали насквозь машины на стоянках.
Я заметил, что люди приучались зорче смотреть вокруг, думать о завтрашнем дне. Не хватало электроэнергии, тепла, услуг. Бастовали мусорщики, газовщики, почтальоны, служащие аэропортов. Снегопады уступили место дождям и резким ветрам. От холода, одиночества, перебоев в обслуживании чаще всего страдали старики.
В стране царило уныние. Требовалась разрядка. Даже «Всемирные новости», уловив всеобщее настроение, попросили у меня что-нибудь оригинальное.
Подвернулся сюжет с молодоженами из Чикаго, которые решили совершить свадебное путешествие на воздушном шаре.
В назначенное время я прилетел в Чикаго, поднялся на крышу Большого Джона.
Большой Джон — стоэтажный небоскреб — был построен как прообраз дома-города, дома будущего. Здесь жили люди, которые, как правило, не выходили на улицу. В небоскребе были размещены конторы, службы быта, спортивные площадки, кинотеатр, маленькие сады — словом, все, что имеется в любом городе. Большой Джон бросил вызов большому Чикаго, стал как бы самостоятельным городом, огражденным от суеты, забот и тревог внешнего мира; здесь сложился свой уклад, традиции, распорядок жизни. Достаточно сказать, что в небоскребе ни разу не случилось ограбления. О нем даже на некоторое время забыли — мало ли небоскребов в мире!
Вокруг Большого Джона высились десятки новых блестящих небоскребов, подтверждавших оригинальность мышления чикагской школы архитекторов. Однако среди современных форм и конструкций старый Джон оставался весьма своеобразной, ни на что не похожей фигурой. Облицованный черным алюминием, перепоясанный сверху донизу грубыми стальными балками, он прочно встал на берегу озера Мичиган, противостоя всем ветрам и непогодам этого сурового края. Страховая компания «Джон Хэнкок билдинг», построившая небоскреб, пренебрегла дискуссиями о внешней уродливости века техноструктуры, дала имя новорожденному. И сегодня каждый мальчишка знает, где стоит Большой Джон, может провести напрямую именно в это место Мичиган-авеню. А чикагские полицейские, одетые, в отличие от нью-йоркских, в меховые шапки и черную кожу, кажутся мне сродни Большому Джону. Во всяком случае, я, выйдя из подъезда, чуть было не свалился от резкого дыхания Мичигана, а суровый полицейский на тротуаре, как и Большой Джон, остались недвижимыми.
Таким мне и запомнился мой небоскреб — черным в толпе белых, работягой среди пижонов, домом с самыми заурядными общественными подъездами и — необычной начинкой внутри.
Итак, Мичиган-авеню, Большой Джон, репортаж о новобрачных.
Прилетев делать репортаж, я поселился на сороковом этаже Большого Джона и с интересом изучал его нравы и жителей. В номере висели удачные репродукции с картин Тёрнера, из которых мне особенно нравилось мчащееся сквозь туман по чугунным рельсам паровое чудовище; в окнах неслись стремительные облака; лифт, дверца которого была прямо в номере, привозил в основные центры высотного города; обслуживание было на высоте. Мне казалось, я нашел райский уголок для одиночества.
Молодожены, отправлявшиеся в необычное путешествие, не были жителями Большого Джона. Он — один из молодых директоров фирмы электронной техники, она — дочь газетного магната (я снял о них все, что требуется, заранее), выбрали стартовую площадку с умыслом: они как бы прощались со старым миром.
Событие приобретало символический характер и было совершено, к удовольствию репортеров, в ключе задуманного жанра.
На ветру под дождем мокло и колыхалось на десятках натянутых канатов огромное ярко-оранжевое тело воздушного шара. Шар, словно древнее чудовище, — этажей, наверное, в десять или больше. Резкие порывы, налетавшие с Мичигана, уносили прочь отдельные фразы оркестра, встречавшего приглашенных на церемонию проводов. В ресторане гости выпили шампанское за здоровье новобрачных, за начало новой жизни, поднялись на крышу. Супруги в костюмах из черной кожи, освещаемые светом прожекторов и вспышками блицев направились, держась за руки, к шару.
Молодожены поднялись по лестнице к гондоле, помахали рукой на прощанье. Крыша Большого Джона, как и предполагалось, взревела криками «ура». Новобрачная вошла вслед за мужем в гондолу. Дверца захлопнулась.
«О'кей, они готовы! Подъем! Освободите канаты!» — разнес над головами громкоговоритель.
Какой-то полный человек бросился к канатам и стал рубить их серебряным топором. Зрелище было неожиданное, допотопное, специально рассчитанное на съемку. Канаты рвались со звуком лопнувшей в тишине скрипичной струны. Несколько сот провожающих замерли в молчании. Человек вздымал топорик над головой так поспешно, словно за ним гнались.
Шар распрямился, набух, повис наискось над нашими головами, подтянув под себя закрытую гондолу, все еще держась за якорь земли, за крышу Большого Джона одной лишь нитью. Ветер с Мичигана лениво играл шаром…
«Давай! — вскрикнуло радио. — Руби!»
Человек отсек последний канат и поднял вверх лицо. Он смотрел, как большая, надежная материальная масса, называемая прежде воздушным шаром и превращенная сейчас в управляемый электроникой снаряд, стремительно уносится ввысь… Вот уже шар превратился в детский шарик, мелькнул в просвете туч. И исчез.
Я снимал отца невесты и, кажется, уловил камерой недоуменное выражение его лица: «Зачем?»
«Зачем я все это сделал? Рубил дурацкие веревки? Где они в эту минуту?»
Он стоял так, пока его не увели. Вертолеты с прессой взлетели сопровождать молодоженов, но вскоре вернулись, потеряв уходящий вверх шар. С крыши Большого Джона сыпался на Чикаго фейерверк — в честь улетевших, в честь молодых. Старый мудрый Чикаго дремал под нами, мерцая бесчисленными огнями зданий, цепочками магистралей, движущимся пунктиром машин, воздушных и водных лайнеров.
Я спустился в номер. Отправил с посыльным репортаж в телестудию, чтоб перегнали его в контору. Принялся разглядывать в окно освещенные последними лучами солнца облака. Зачем эти двое стартовали в неизвестный им мир? Неужели человек должен всякий раз опробовать все сам? Может, в том и состоит смысл жизни? Я чувствовал симпатию к двум решительным молодым людям…
В пять утра меня разбудил телефонный звонок. Я зажег свет, отметив по привычке, что за окном по-прежнему льет, как из трубы.
— Мистер Бари? Это говорит Нэш, редактор газеты «Джон таймс».
— Есть такая? — Я окончательно проснулся.
— Мы на последнем этаже небоскреба. Извините, что разбудил… Очень важное сообщение. — Голос был предельно спокоен. По выговору я догадался, что говорю с ирландцем.
— Что-то с шаром?
— С шаром все в порядке. Летит в сторону океана… Мне необходимо вас срочно видеть.
— Заходите, мистер Нэш!.. Номер сорок двадцать.
— Я знаю.
Через пять минут гость просигналил. Я нажал кнопку на пульте. Дверь открылась, вошел здоровенный детина с розовым лицом, усыпанным веснушками. Редактор оставлял впечатление двухметрового ребенка, которого одели во взрослый клетчатый костюм.
— Я просматривал сигнальный номер газеты, и вдруг зазвонил телефон, — начал с порога Нэш. — Неизвестный от имени террористической группы «Адская кнопка» предупредил, что Большой Джон в любую минуту может быть взорван портативной атомной бомбой.
— Если это даже розыгрыш, вы получили хорошую сенсацию в номер, — ответил я спокойно. — При чем здесь я?
— Извините за странную новость, но я так понял, что террористы избрали вас ответственным за нашу судьбу. «Джон за Джона», как выразился этот человек.
— Что за чертовщина! — пробормотал я.
Нэш вынул из кармана магнитофон:
— Я записал. Послушайте.
Пленка повторила то же самое хриплым голосом. Террористы предложили уплатить выкуп в пять миллионов долларов. «Не пытайтесь искать бомбу, — предупредил аноним, — она в одном из тысяч чемоданов, а кнопка — у нас…»
Срок ультиматума истекал через трое суток. Прозвучала моя фамилия: гангстеры намеревались сообщать свои решения через меня. «Джон отвечает за Джона. О'кей…» — прохрипел какой-то человек, и последовали звонки отбоя.
— Как вы считаете, он всерьез? — спросил Нэш.
Я пожал плечами.
— У вас часто практикуются такие шутки?
— Первый раз слышу.
С легким треском сработала пневмопочта, на подставку возле письменного стола упал серый конверт. В нем оказалась отпечатанная типографским способом листовка аналогичного содержания.
Нэш стал звонить на почту. Заспанный дежурный подтвердил его подозрения: несколько сот одинаковых конвертов, адресованных всем жильцам, только что раздали по Большому Джону почтовые автоматы.
— Сейчас начнется паника! — Нэш выругался.
— Вы сообщили в полицию?
— Перед тем, как спуститься к вам. Шеф полиции и администратор в дороге.
Мы поднялись на сотый этаж, в редакцию «Джон таймс». Шеф и администратор были там в окружении группы полицейских. Я узнал обоих: администратор, провожавший вчера молодоженов, как видно, даже не успел снять парадный фрак, а начальника чикагской полиции, отдавшего своей работе почти полсотни лет, журналисты называли «стариной» или «стариной Боби», потому что он неизменно величал каждого, даже малолетнего преступника по-дедовски — «стариной».
— Ну, старина Бари, вы, как всегда, герой дня. — Он шутливо грозил мне пальцем, разглядывая листовку с крупной фразой «Джон отвечает за Джона».
— Не знаю, за что такая честь, шеф. — Я прицелился в него камерой. — Кто эти адские ребятишки?
— Когда мы к вам летели, то проверили, — проворчал старина Боби. — Такая группа существует. Устроили несколько эффектных взрывов. Без всякой цели, чтоб заявить о себе. Теперь цель обозначена ясно.
— Вы полагаете, это не просто шантаж? — мрачно спросил администратор.
— Сама идея стоит миллиона, — мягко улыбнулся Боби, — но, конечно, не пяти… Я ничего не исключаю, старина.
Администратор нахмурился, грозно посмотрел на Нэша, как будто именно он затеял всю эту историю.
— Надо действовать! — Администратор заходил по комнате.
— Нельзя ли чашечку кофе? — попросил шеф и, сняв пальто и шляпу, устроился за длинным редакционным столом. — Макс, — сказал он одному из своих, — узнайте в нескольких квартирах, получили ли они листовку. Нэш, найдется план Большого Джона?
— Напитки! — предложил Нэш, открывая в шкафу маленький бар.
— Предпочитаю с утра не заглушать здоровую интуицию! — буркнул Боби. Он попросил администратора до прибытия полиции усилить охрану здания, никого без особых причин не впускать и не выпускать.
— Там телевизионщики, — сообщил через минуту администратор.
— Пресса найдет дорогу сама! — Старина Боби опустил седую голову, задумался.
В приемной раздался шум, кого-то волокли в соседнюю комнату.
— Макс, в чем дело? — устало спросил шеф.
Помощник Боби возник в дверях и, вращая выпуклыми глазами, показывал на большой тяжелый чемодан.
— Не забудьте извиниться, старина, — Боби махнул рукой. — Чудаки, теперь начнут охотиться за каждым чемоданом.
Ему что-то прошептали на ухо.
— Конверты получили все, — объявил Боби. — Придется сказать им пару слов.
Нэш поставил на стол микрофон. Администратор торжественно уселся рядом с шефом. Комнату пересекал на цыпочках приезжий, который минуту назад ничего не знал. Макс в знак извинения нес за ним чемодан.
Нэш объявил в микрофон об экстренном радиовыпуске «Джон таймс» и передал слово шефу полиции.
— Чикагцы и гости Чикаго, — сказал расслабленным голосом шеф. — Это я, старина Боби, шеф детективной полиции. Вы меня отлично знаете. — Боби хмыкнул, представляя лица своих слушателей: чикагские гангстеры не менее знамениты, чем чикагские миллионеры, и он, ловец гангстеров, разумеется, тоже. — Я сижу в «Джон тайме», на самой верхотуре вашего старины Джона и пью утренний кофе. — Он постучал ложечкой о блюдце. — Хочу вам сказать следующее: то, что вы получили утром, сущий бред. Инсинуация сумасшедших. Забудьте о ней, выкиньте из головы, идите спокойно на работу, в школу, на кухню — кому куда надо. Мои слова фиксирует на пленку Джон Бари из «Всемирных новостей». — Боби неожиданно хмыкнул. — Он и не собирается выручать вас из дурацкой истории, отвечать за Большого Джона… Верно, старина? У него своя работа, и он надеется на ваше чувство юмора… Тихо!
Старина Боби укоризненно смотрел на ворвавшихся телевизионщиков. Они принялись молча за работу.
— Пресса, как всегда, опаздывает, — съязвил Боби, — а потом долго шумит.
Все рассмеялись.
— Так вот. — Боби хлопнул огромной, как блин, ладонью по столу. — Я все сказал. Если у вас возникнут вопросы, на них ответит администрация…
Он встал, вышел из-за стола, подмигнул мне:
— В конце концов, Большой Джон — не весь Чикаго…
Эту фразу слышал только я.
Старина Боби ответил на вопросы журналистов и ушел в соседнюю комнату посовещаться со своими. Нэш лихорадочно диктовал в углу кабинета стенографистке, готовя экстренный выпуск. Администратор, сцепив за спиной руки, выглядел мрачным вороном. Он прикидывал свое ближайшее будущее, понимая, что через полчаса об этой истории узнает Америка, а чуть позже — весь мир.
Я перекинул через плечо камеру, вызвал лифт.
Вскоре в номер постучали. Появился Боби.
— Извините, старина Джон. Зашел промочить горло.
Я разлил виски. Боби сел. Он выглядел рядом с моими джинсами королем моды. Любой преступник Америки знал, что у шефа Чикаго лучшие в стране, единственные в мире костюмы. Шеф детективов — высший чин в полиции, который носит форму. Дальше следует комиссар, назначаемый мэром. Комиссаров никто из смертных в лицо не знал — они менялись слишком часто, а Боби прослужил в полиции почти всю жизнь. Его имя не сходило со страниц газет, все считали, что он и есть самый главный. Впрочем, так оно и было.
Старина Боби не носил ни форму, ни кольт. Свои костюмы он заказывал шикарной фирме «Блюминдэйл» в единственном экземпляре. Сейчас на Боби был строгий синий костюм в мелкую полоску.
— За начало дела. — Боби поднял стакан, пригубил и тотчас отодвинул.
— Это серьезно?
Пожалуй, да. — Старина Боби мягко улыбался. — Мистер Бари, выкиньте из репортажа мою последнюю фразу.
— Считайте, что выкинул. Я не собираюсь посылать репортаж.
— Так, старина, та-ак… — Он смотрел на меня выцветшими голубыми глазами, в которых не мелькнуло ни искры интереса, но я-то знал, насколько обманчиво это впечатление. — Значит, тоже предчувствовали?
— Я прикинул, что на Чикаго им потребуется минимум три-четыре бомбы, — сказал я.
Боби спокойно улыбнулся:
— Это что, старина, информация или интуиция?
— Простая арифметика. Бомба стоит дороже, чем пять миллионов дани Большого Джона. А три-четыре — гораздо меньше, чем рента со всего Чикаго. Пока это просто шантаж, как вы изволили заметить, мистер Боби.
— Не просто, не просто… — замурлыкал старина Боби и зажмурил от удовольствия глаза. — Она в чемодане, или большом портфеле, или в багажнике машины. — Он внезапно проснулся, уставился на меня ясными синими глазами. — Бари, с вами можно иметь дело! Так ведь?.. Смотрите! Информация только для вас…
Он вытащил из кармана листок, расправил, положил передо мной. Шариковой ручкой была нарисована самодельная атомная бомба. Размеры соответствовали указанной упаковке: она умещалась в большом чемодане.
— Ее изобрел один студент-физик, готовя дипломную работу, — быстро проговорил Боби. — Сейчас он солидный ученый. Но не исключено, что идея пришла в голову нескольким студентам…
— Шеф, вы надеетесь поймать этих сумасшедших?
— А зачем я здесь? — Он негромко рассмеялся. — Они не такие уж сумасшедшие, хотя, конечно, сдвиг в сознании есть…
Я рассматривал чертеж. Как все гениальное, очень просто. Но по сути чудовищно. Где они только взяли плутоний?
— О плутонии мы подумали. — Шеф работал на одной волне с собеседником. — Впрочем, в наши дни можно украсть президента — никто сразу не заметит… Не то, не то, Бари… Мы далеки от истины…
Он подошел к окну. Потом долго разглядывал висящую на стене репродукцию Уильяма Тёрнера «Дождь, пар и скорость».
— Какая сила — паровоз у этого англичанина! Он поражает и сейчас, словно только что изобретен! И все из-за фантастических тонов, красноватого тумана, из которого вылетает на мост! — Шеф обернулся ко мне.
— Редко встретишь в наши дни человека, который помнит Тёрнера, — польстил я шефу, понимая, что он ищет логическое решение задачи. Он сразу распознал фальшь.
— Вы хотите, чтоб я напомнил вам об этом чудаке? — спросил с улыбкой Боби. — Что его акварели считали мазней, а он писал чудеса природы? Что он подписывал картины стихами, был знаком с Фарадеем, спорил с Гёте по поводу природы цветов, что русский ботаник Тимирязев назвал его художником стихий?
Я поднял шутливо руки вверх:
— Сдаюсь, Боби. Я вижу, вы поклонник Тёрнера.
— Криминалист должен интересоваться всем. Когда-нибудь пригодится…
Мы вспоминали «Пожар парламента», «Похороны на море», «Вечер потопа» и другие вещи странного англичанина. Борьба стихий. Свет и тени. Свет сквозь дождь. Солнце через мрак. Тёрнер постоянно стремился поймать неповторимый момент, передать в движении убегающее время, непрерывно меняющийся мир. Десятки, сотни паровозов остались на полотнах разных художников, но только на одном, тёрнеровском, допотопная машина побеждает пространство — время, врывается в наши дни.
— Тогда все было проще, — подумал вслух Боби. — Вскрывали на ходу почтовый вагон, уносили мешок с деньгами. Кого и что искать — ясно как божий день.
— Да. Но вам-то придется вскрывать не один багажный вагон…
Боби невесело рассмеялся.
— Не в моих правилах привлекать всю полицию Америки. Да и ее не хватит. Она, — шеф выразительно обрисовал в воздухе таинственную самоделку, — может быть в шкафу, канализационной трубе, праздничном торте, под вашей кроватью, наконец, Бари… Понимаете? — Он снова углубился в акварель Тёрнера.
Я заметил, что когда он деловито размышляет вслух, то перестает говорить собеседнику обычное «старина». Выходит на связь напрямик, без предохранительной паузы.
На подставку из пневмопочты свалился еще один серый конверт. Шеф сделал невероятный скачок и вручил конверт адресату.
— Вам, мистер Бари.
На листе были четыре машинописные фразы:
«Передайте старику, что он болтун. В двадцать один восемнадцать будет выключен свет во всем небоскребе. Это предупреждение. В пять утра истекут сутки».
Боби напялил на нос очки, несколько раз перечитал послание.
— Интересно знать, — усмехнулся я, — у кого будет гореть хоть одна лампочка…
— Надо предупредить лифтеров и обслугу, — решил Боби и оборвал себя: — Действительно, что-то я разболтался… Разрешите конвертик? — Он взял, спрятал в карман конверт, осмотрел мою комнату. — Извините, Бари, но мне придется просить об одном одолжении: подключиться к вашему телефону. На это, конечно, потребуется разрешение высокого начальства…
— Зачем же начальства? — Я пожал плечами. — Пока мы были наверху, ваши ребята наверняка все сделали.
Старина Боби покачал головой: ах, шутники…
— Я спрашиваю, Бари, не для проформы, для дела. Они могут позвонить, — серьезно сказал он. — Я выключил прослушивание, когда шел к вам.
— Валяйте.
Он достал из кармана маленький пульт, нажал рычажок, сказал невидимым ушам:
— Мистер Бари разрешил. Слышали, Джек? Не спите! И передайте заодно, Джек, охране, чтоб не пускала больше репортеров. Пусть придумают что угодно, хоть карантин свинки… С нас хватит одного Бари! — Он протянул мне руку. — Спасибо за все… Какое, кстати, здесь самое людное место?
— Как и во всякой гостинице — ресторан.
— Ах да, ресторан «Джони» на девяносто пятом этаже. Вы не могли бы со мной сегодня пообедать?
— С удовольствием. Хотя…
Старина Боби приложил палец к губам, молча показал на машинописное послание, на часы, давая понять, что детали не должны знать даже его сотрудники.
Глава тринадцатая
В тот день ничего примечательного не случилось. В основном меня мучили звонки. Днем вызывал по телефону сенатор Уилли, спрашивал, чем может помочь. Большой Джон не интересовал его, как всякий другой дом, засоряющий землю. Я поблагодарил сенатора за личную заботу, не забывая, что его тоже подслушивают.
Звонили в основном журналисты, интересовались, что нового. Я отвечал, что съел второй завтрак, что Большой Джон стоит на месте, и обещал сообщить, если что-либо произойдет (о втором конверте террористов, разумеется, в разговоре не упоминал). Дважды выходила на связь лондонская контора «Всемирных новостей»; я отвечал редакторам уклончиво и неопределенно.
Пришел телекс за подписью Томаса Бака с предложением полмиллиона долларов за исключительные права на мою съемку в небоскребе. В отсутствии коммерческой интуиции Бака не упрекнешь; я бросил телеграмму в корзину.
Наконец прорвался сам сэр Крис из Лондона.
— Как там у вас погода, Бари? — кричал он из своего кабинета на Флит-стрит.
— Льет как из ведра.
— И у нас мало приятного: туман и сырость. Вы в Большом Джоне, Бари?
— Да.
— Где ваш репортаж?
— О шаре? Я давно послал…
— Да нет, Бари. Шар — вчерашний день. Он исчез в зоне шторма… Я имею в виду террористов…
Я объяснил генеральному директору, что пока ничего особенного нет, я накапливаю материал и надеюсь сделать специальный выпуск, так как видеозапись будет только у меня. Последнее сообщение явно обрадовало сэра Криса. Однако он досадно крякнул: едва я упомянул вскользь о предложении Бака.
— Надеюсь, вы послали его к чертям? — проворчал он. — Придется и нам подумать о дополнительном гонораре… Желаю солнечной погоды, Бари! — Крис, видимо, предполагал, что в солнечный день террористов снимать приятнее.
Две фигуры в черных кожаных костюмах стояли у меня перед глазами. Нэш подтвердил, что связь с шаром прервалась. В район, откуда поступил последний сигнал, вылетели два истребителя и обнаружили сильную бурю с молниями над штормовыми волнами. Газетный магнат сам находился возле радиопередатчика… Зачем они выбрали для свадебного путешествия именно шар, а не самолет или корабль? Об этом, возможно, никто уже не узнает… Впрочем, мир привык к печальным финалам таких путешествий. Были даже чудаки, которые пытались совершить кругосветное путешествие на шаре. Они исчезли…
В небоскребе меня узнавал каждый встречный. Люди подмигивали, улыбались, шутили, но в глубине устремленных на меня глаз чувствовалась тревога. Я их понимал. Некоторые провели здесь многие годы, почти не выходили на улицу, забыли о шуме, гари, толчее большого города. Они наблюдали его странную тесную жизнь в бинокли и подзорные трубы со своей величественной высоты. У них все было совсем другое: свежий воздух, великолепные восходы и закаты, самолеты и тучи в широких окнах, конторы и развлечения в нескольких минутах езды на лифте. Сейчас далекая земля представлялась опасной: оттуда проникли чужие и грозились разрушить одним нажатием кнопки все привычное. Жители Большого Джона знали о прежних взрывах «Адской кнопки»: дневные выпуски газет были наводнены фотографиями разрушений.
Я отвечал всем обычной фразой: «Сегодня катастрофы не будет», — и это была чистая правда: сегодня — нет!
На спортивной площадке сорокового этажа мальчишки запускали модели самолетов. Я сел на скамью рядом со старой американкой. Она, как и я, наблюдала запуск стандартных игрушек. В руках у мальчишек — пульт управления. Нажата кнопка — взревели маленькие моторы. Вторая — разбег машин по площадке, подъем вверх. И вот начинается веселая чехарда в воздухе больших серебристых стрекоз.
— Мистер Бари, вы не считаете, что в мире стало слишком много игрушек? — спросила меня не очень любезно соседка.
— Что вы имеете в виду, мэм?
— Да хотя бы эти самолеты…
— У вас, наверное, здесь внук?
— Правнук… Я имею в виду, что он слишком бездумно управляет самолетом, не зная его назначения.
Стрекозы выделывали над нашими головами фигуры высшего пилотажа.
— Но они берут пример со взрослых, которые то и дело включают и выключают автоматы.
— Поймите меня правильно, мистер Бари, — дама повернулась ко мне, белозубо улыбнулась, — я не против разумной игры… Но нельзя ли объяснить тем людям, — она подчеркнула два последних слова, — что они играют со страшной игрушкой.
Неожиданно она встала, решительно пересекла ковровую дорожку, села на скамью напротив.
Я и не заметил, как на нашу скамейку взгромоздился негр. Сел, как садятся нарочито негры в присутствии белых: на спинку скамьи, спиной к нам. Штаны и ботинки — белые, носки — красные, рубашка — черная с закатанными рукавами.
Моя собеседница напоминала взъерошенную ворону.
Я спросил:
— Сэр, вы не могли бы сидеть, как все другие? — И прибавил: — Вы прервали разговор.
Негр мгновенно очутился в нормальной позе.
— Только ради вас, мистер Бари!
Кого-то он мне напомнил.
— Извините, что помешал.
Он ушел, небрежно махнув рукой.
На тыльной стороне руки я заметил наколку — букву «Н».
— Ниггер! Хам!
Дама стрельнула злым шепотом в спину цветного — обычным американским способом. Спина чуть дрогнула, но негр не остановился — ушел танцующим шагом.
— Терпеть не могу ниггеров! — Моя собеседница снова пересела ко мне.
Однако не это было самое важное. «Н»! «Э-н»… «Э-н-н»!
Одна лишь буква…
И сразу всплыла в памяти давняя история: «Н» — «Нет!» — «Нонни»…
Интересно устроена журналистская память. Как огромное, хаотически перемешанное досье фактов. Что-то видел, что-то слышал, что-то читал. И моментально забываешь лишнее: жизнь идет вперед, событий слишком много. Однако нужная информация возникает в острых ситуациях, когда напряженно работают мозг, чувства, вся сложная человеческая система.
Я вспомнил про букву алфавита и… закона.
Это была типичная для Америки история. В небольшом курортно-пляжном городке штата Флорида разгоняли демонстрацию негров. Действовали привычными методами. И вдруг полицейский застрелил мальчишку по имени Нонни.
Нонни, вернувшись из школы, играл с приятелем в бейсбол. Он постепенно выигрывал, как может выигрывать каждый чемпион класса. Но мать соперника чересчур волновалась: ее сын задерживался на обед. Она дважды заходила на бейсбольную площадку, разделявшую дома соседей, а потом позвонила в полицейский участок с жалобой на черномазого, который разрушает авторитет родителей у ее белого сына.
К площадке подкатила патрульная машина. Полицейский знал, кого надо наказать. Он выстрелил в негритенка. Точно между глаз. И уехал.
Черная Америка взорвалась. Сначала в том курортном городке, позже, когда суд оправдал полицейского убийцу, по всей стране. Негры вышли на улицы, и это показалось белым страшно. Демонстрантов приводили в чувство, сбивая с ног из брандспойтов, усмиряли газовыми гранатами, одиночек пристреливали. Звенели стекла, пылали машины, дома смотрели пустыми глазницами. Губернаторы вызывали на помощь национальную гвардию. Негритянские кварталы лежали в руинах. Газеты день ото дня умножали цифры — число убитых, раненых, арестованных. Я прекрасно помню все это.
Целое лето пылал гнев инакомыслящих. «Нет!» — писали они на стенах особняков. «Нет!» — на дорогих кадиллаках. «Нет!» — на статуе Свободы. И белые боялись прикасаться ко всему, где была начертана первая буква имени убитого парнишки. Они вызывали полицейских, а те привычно, если был хоть малейший повод, стреляли.
Так случается время от времени в Америке.
Неужели татуировка на руке у цветного имеет отношение к этой истории? Нет, чистое совпадение. Давно отбушевало то «жаркое лето», и весь мир наверняка забыл беднягу Нонни. Только журналистская память способна выхватывать из прошлого конкретные детали.
— Какой нахал!.. Никогда не садитесь в лифт, если там негр! — горячо продолжала моя соседка, о которой я на время забыл.
— Почему?
— Как почему? Это опасно!
— За что вы их так ненавидите? — спросил я.
— А за что они ненавидят нас?! — Дама возмущенно взмахнула руками. И сменила гнев на стандартную улыбку: — Впрочем, вы европеец, мистер Бари…
— Пожалуй, вас я не пойму…
Я почувствовал какую-то усталость, точнее, бремя неожиданной ответственности за эту агрессивно настроенную прабабушку, ее беззаботного правнука, за серенький денек, в котором порхали игрушечные самолеты. Мы расстались с собеседницей дружески, но чувство усталости долго не проходило.
Да еще этот шар с двумя безумцами!..
— Нет сведений? — спрашивал я время от времени по телефону Нэша.
— «Океан молчит» — это наш последний заголовок, — отвечал невозмутимый Нэш. — Кстати, мистер Бари, о вас специальная полоса. Как вы смотрите на шапку: «Жители Джона надеются на Джона»? А?
— Не валяйте дурака, Нэш! — сказал я.
— Но люди действительно верят в вас больше, чем в полицию…
— Заткнитесь, Нэш! — оборвал я, представляя вытянутые физиономии полицейских и хихикающего Боби.
Ирландца не так-то легко было укротить.
— Моя газета выражает мнение читателей…
Я бросил трубку. Этот редактор — великовозрастный младенец! И зачем я ввязался в историю? Что я — господь бог, чтобы спасти целый небоскреб? В конце концов, я просто приезжий, корреспондент лондонской конторы, у меня в Нью-Йорке куча разных дел!..
Принялся лихорадочно собирать чемодан, не обращая внимания на трезвонящий аппарат. Наконец схватил прыгавшую трубку, рявкнул:
— Бари у аппарата! Побыстрее, я уезжаю!
— Отец, это я! — голос Эдди вернул меня в действительность. — Ты уезжаешь? Значит, это шутка?
Я сел в кресло, вытер рукой лоб.
— Да нет, Эдди. Все правда. Я на месте, в небоскребе. Просто мне надоели дурацкие розыгрыши…
— А я в Голливуде, рядом с тобой! — В голосе Эдди слышалось ликование. — Пока тренируюсь. Я стартую, как только окончится ваша история с террористами.
И он был уверен, что эта история кончится благополучно! Один желает хорошей погоды, другой предлагает полмиллиона, третий стартует на следующий день! Они все сошли с ума, начиная с ненормальных террористов!.. А кто будет их ловить? Я, что ли?
И поймал себя на том, что сам поддался всеобщему психозу, брякнул в трубку Эдди:
— Ты не торопись. Когда все кончится, я приеду на твое выступление.
— Правда? (Я видел, как он смеется.) Ради тебя я выдам королевский трюк! Хорошо бы, и мать посмотрела… Не знаешь, где она?
Я вздохнул:
— Как всегда, путешествует. Что ей передать, если позвонит?
— Чтоб не волновалась… Эдди взялся за дело!
Я не волнуюсь, хотя виски ломит от боли. Захотелось, очень захотелось увидеть Марию. Может, разыскать ее? Рассказать о звонке сына? Нет, нельзя! Чего доброго, примчится. А ей здесь не надо быть. Мы делаем свое мужское дело.
Восемь с лишним вечера, шеф ждет.
Ресторан «Джони» представлял чашу, заполненную ярусами красных столиков, утыканную черными семечками. Словно арбуз семечками, ресторан был переполнен жителями Большого Джона. Метр привел меня к нужному столу. Боби кивнул и скучным взглядом скользнул по рядам. Он был в вечернем сером костюме со слегка приподнятыми плечиками пиджака.
— Боби, вы уже взлетаете? — пошутил я.
Он равнодушно взглянул на мою рабочую робу.
— Куда там, даже не отлучишься домой. — Боби, как обычно, ворчал. — Будем обедать, Бари? Я проголодался, старина.
Подали на стол. Соседи с любопытством поглядывали на нас. Разговора, судя по удаленности стола, они не должны слышать.
— Что нового, шеф?
— Так, ничего, мелочи быта… Работаем… — Боби осклабился. — Пока сущая ерунда… По предварительным данным, они находятся снаружи и внутри!.. — пропел он в паузе гремящего оркестра.
Я кивнул.
Предчувствие не обмануло меня.
Так я и знал! Сейчас они видят меня и шефа, а мы их — нет.
— Между прочим, — продолжал Боби, аппетитно обгладывая косточку, — полмиллиона за такой репортаж — слишком мизерная цена… Вы извините, Бари, но это мое мнение.
— А какое вам, собственно, дело до моего гонорара?
— Никакого, он ваш! — Боби бросил кость в тарелку. — Я бы дал вам дна… а то и три миллиона… Если бы имел…
— Займите у террористов! — съязвил я.
— Если бы они предъявили более конкретные условия… Ну, например, освободить кого-то из заключения… Какую-нибудь тройку, семерку или десятку якобы незаконно осужденных цветных или убийц, я бы точно знал, у кого просить взаймы.
— И хорошо, что они не дают повода, — сказал я. — У всех в зубах навязли эти «тройки» жертв полиции.
— В какой-то степени вы правы. — Шеф посмотрел на меня в упор, жесткий взгляд его скользнул по лицу и сразу рассеялся. — Есть и жертвы случая. Это неизбежно. В конце концов, пятерка или тройка — это лишь символ определенного конфликта.
— А если они хотят освободить всех? — шутливо предположил я вслух.
Боби застыл в кресле, глаза его целились в мою переносицу.
— Скажите на милость, Бари, почему полиции не приходят на ум простые обобщения? — Он подумал и ответил: — Потому, что каждый начинает с рядового, карабкается по служебной лестнице и не видит ничего выше очередной ступени… И все же вы фантазер, Джон.
— Почему?
— На всех не хватит денег.
Я рассмеялся: вот это чисто американский ответ — с финансовым обоснованием.
— Значит, они снаружи и внутри… — повторил я, оглядываясь. — Забавно… Да, в мире слишком много игрушек!
— Каких игрушек? — насторожился шеф.
Я рассказал Боби о своем разговоре с прабабушкой, и он чуть не вскочил с места.
— Черт побери, она, как всякая американка, глядит в корень: раз «Адская кнопка», где-то есть сама кнопка! — Он шептал мне на ухо: — Вы поняли, Бари, ход мыслей этой старухи? Для взрыва годится любая кнопка, даже от игрушечного самолета. Она может быть нажата в любой точке города… Остается узнать, где спрятана игрушка, которая взорвет Большой Джон?
— Где-нибудь рядом…
— Поверьте мне, Бари, мы обшариваем небоскреб этаж за этажом. Макс даже обследует камеры хранения, но это дело бесполезное. — Боби, переждав самое шумное место оркестровой пьесы, продолжил: — Я чувствую, Бари, что возьму эту шайку… Но у них может оказаться запасной игрок со своей кнопкой…
— Что же делать, Боби?
— Время есть. Я пока размышляю вслух… Кстати, не знаете, что это за тип?
Я проследил взгляд Боби и увидел Файдома Гешта — одного за столиком. В черном фраке и манишке он выглядел важной нахохлившейся птицей. Его обслуживали два официанта.
Я назвал Гешта.
— Ах да, мультимиллионер. — Боби тихонько качал головой. — Он не значится в списке жильцов. Как он сюда проник?
Боби дал знак официанту, тот возник у стола. Через минуту он принес минеральную воду, шепнул несколько слов шефу.
Боби поморщился, ответил что-то резкое. Человек ушел.
— Не в моей власти. — Боби шутливо развел руками. — Мистер Гешт прилетел специально из Лос-Анджелеса пообедать в Большом Джоне, его ангажировал к столу сам губернатор.
— Понятно, — кивнул я, — слетается воронье.
Я вспомнил рождественский бал Файди на тысячу гостей, мою неожиданную встречу с женой, полет Эдди и истерику Марии. Файди извлекал удовольствие из человеческих трагедий — больших и малых. Он был или садистом, или сумасшедшим — неважно кем, но умело продлевал себе жизнь. Я вспомнил подробность, которой до сих пор не придавал значения (мало ли что бывает в жизни!): лет двадцать назад единственная дочь Гешта выбросилась из окна… Рабочие нефтепромыслов проклинали скрягу Файди, когда он лишал их мыла, воды и бумажных полотенец, миллионы безработных славили всуе имя его, что-то кричала летящая на мостовую молодая женщина, а он, оказывается, не только приумножал капитал — внутренне расцветал от чужих отрицательных эмоций и благополучно дожил до восьмидесяти лет. Прекрасно себя чувствует, обедает с аппетитом в самом опасном месте Америки, поглядывая на всех свысока, поворачивая, как гриф, хищную голову в стоячем воротничке.
Файди отыскал меня взглядом и кивнул.
— Скотина, — сказал я.
Он, словно услышав меня, расцвел, помахал в ответ.
Старина Боби расхохотался:
— Вы делаете ему большую честь. Учтите, в ваших устах каждое слово имеет рекламную силу!
Я внутренне обругал себя за несдержанность и рассмеялся вслед за Боби: все-таки мы работали на одной волне.
Стрелка миновала отметку «девять». Будет ли обещанное затемнение? Боби расслабился в кресле, уныло рассматривал зал. Я слушал оркестр. Он играл блюз. Оркестр работал профессионально, в определенном жанровом ключе. Какие-то темнокожие юноши исполняли коронные вещи прошлого, менялись инструментами, импровизировали, срывая аплодисменты. Они жили на сцене духом предков, великолепными мелодиями Америки, завоевавшими когда-то весь свет, но уже изрядно забытыми. Оркестр воскрешал в памяти собравшихся со всех этажей Большого Джона их беззаботную молодость, даже детство, и зал временами затихал, уплывая в счастливую даль юности.
— Срок истек, — сказал шеф полиции.
Я успел заметить цифры на часах: 9.18.00.
Тотчас погас свет.
— Пожалуйста, — ответил я Боби не без злорадства. — Надолго это?
— Не знаю.
— Ну, какой же вы шеф, раз ничего не знаете? — Продолжал злорадствовать я. — Вы хоть предупредили администрацию?
— Не кричите, пожалуйста, — ворчливо отозвался шеф. — Конечно, все в порядке, где надо, работают движки… Извините за неточность, у меня на несколько секунд убегают часы…
Зал вел себя спокойно. Обычно свет иногда меркнул, когда на площадке в сполохах цветных прожекторов затевались танцы. Сейчас было везде темно. Лишь вспыхивали кое-где сигареты, да на оркестровой площадке светилось несколько зеленых огоньков. Оркестр исполнял красивую мелодию.
— Смотрите, шеф, — толкнул я в темноте Боби, — там горят светильники.
— Знаю, — в голосе Боби звучало чувство превосходства осведомленного человека. — На пюпитрах — лампочки, у них там батареи…
Когда вспыхнул свет, шеф полиции взглянул на часы и вдруг спросил хрипло:
— Что это значит?
Напротив него сидел пожилой негр. Я узнал моего знакомого — нью-йоркского писателя.
— Скажите, сэр, — обратился вежливо Голдрин к шефу полиции, — вы не сразу стреляете в негра? Извините, я не знаю вашего отношения к этой проблеме… Здравствуйте, мистер Бари!
— Я вообще никогда не стрелял в преступников, тем более в цветных, — проворчал Боби и вопросительно посмотрел на меня.
— Спасибо, — сказал Голдрин. — Спасибо, что вы сказали правду: негр для белого всегда преступник.
Я представил старине Боби известного писателя, вернувшегося в Америку, и спросил:
— Как вы оказались здесь, Джеймс?
— Я назвался вашим приятелем, и меня сразу пропустили, — ответил Голдрин.
Я вопросительно смотрел на Боби; он отвернулся, напевая бравую мелодию.
— Так просто? — Я подмигнул писателю.
— Так просто, — мигнул он в ответ и сразу стал серьезным. — Извините, Бари, я приехал… я приехал выручать несмышленых детей Америки…
— Вы что — проповедник, сэр? — не выдержал Боби.
— Я писатель, мистер Боби, а если вам угодно, и миссионер. — Глухой голос Джеймса рождался где-то в утробе, но с каждым вздохом широкой груди обретал знакомый набатный призыв. — Да, если угодно, я — черный миссионер среди белых безбожников, убивающих без разбора всех негров.
— Я не убил еще ни одного, хотя имел массу возможностей, — отозвался старина Боби.
— Не убили, так убьете!
Боби вскинул на него удивленный взгляд.
— Иногда хочется, — неожиданно признался он и вздохнул, что-то припоминая: — Я, разумеется, шучу.
— Но я не шучу! — взвился Голдрин. — Я уверен, что среди этих мальчишек из «Адской кнопки» есть представители моего народа!
— Тихо вы! — прошептал Боби, заслоняя Джеймса широченной спиной от зала. — Если хотите вести деловой разговор, то ведите! Почему вы думаете, что именно мальчишки и именно негры?
— Потому, что негры обречены в этой стране, — спокойно ответил Голдрин. — А что мальчишки — достаточно прочитать их ультиматум…
— Вы это имеете в виду, Голдрин? — Палец шефа полиции на миг уперся в раковину оркестра и опустился. — Неужели все они обречены?
— И этот… И этот… И этот… — Джеймс указал на оркестр, на черных официантов, на столик где-то в поднебесье с негритянской семьей. — Этих, — он устремил горячий взгляд в партер, где шумно веселились его состоятельные соотечественники, — этих — нет, потому что они забыли о корнях… И еще, — он устремил на шефа очень серьезные глаза, — учтите, мистер Боби, я вас ненавижу.
— О'кей. — Старина Боби и глазом не моргнул. — За что?
— Вы сказали о людях «это», и я вынужден был за вами повторять. Но слова сами по себе ничего не значат… Я вижу на вашей голове фуражку с кокардой…
— Вы правы, она у меня есть. Совсем новенькая, хотя ей почти полвека. — Шеф усмехнулся воспоминаниям юности. — Что вы хотите, мистер Голдрин?
— Разобраться в обстановке. И помешать вам стрелять…
— О'кей, старина, разбирайтесь, — согласился Боби.
На намек он не прореагировал.
— Вы не возражаете, мистер Бари? — спросил Голдрин.
— Отчего же? У каждого своя миссия…
Голдрин обхватил руками колено, сжался, превратился в черный камень. Он не шевелился, внимательно изучал зал.
Я заметил, что Джеймс дольше обычного смотрел на одинокого Гешта. Старик тотчас поднял горбатый нос, поприветствовал его взмахом руки. Голдрин не ответил, хотя в энциклопедии оба были в одном томе, на одну букву.
Мне нравился этот откровенный, запальчивый, наполненный бездонной печалью человек. Он имел четкую цель: мог, подобно отставному политику, жить на берегу Лазурного моря, но предпочел вернуться в ад ради других…
Я вспомнил этих других, сидящих в такой же позе отчаяния и безысходности, как Голдрин.
Других можно встретить буквально в нескольких шагах от Большого Джона — в квартале Кабини Грин, куда не желает завернуть ни один таксист. Нескончаемые трущобы, в которых крыс больше, чем людей. Когда из загородных вилл чиновники и бизнесмены колонной направляются на работу в центр города, на соседних улицах сидят на ступеньках праздные негры, которым нечего делать и некуда идти. Многие из них опустились на дно жизни. Дети и подростки, которые пока живут своей жизнью, видят, какое будущее их ожидает. За внешним равнодушием копится напряжение, которое чаще всего находит выход в преступлении.
Чисто внешне, особенно для приезжих, все обстоит благополучно. Я, например, отлично знаю, что негры работают в полиции, гостиницах, заводских цехах, Белом доме. Учатся в школах и университетах вместе с белыми. Ездят в автомобилях. Почему же они упорно называют себя «афро»? Только ли потому, что их увольняют первыми?
На экранах телевизоров и кинотеатров движутся одинаковые черные модели. Даже не движутся, а скользят какой-то особой таинственной походкой. В черной куртке, схваченной в талии, облегающих брюках, остроносых ботинках на высоком каблуке, широкополой шляпе. Так сказать, современный городской ковбой. Это и есть «ниггер» — наркоман, хулиган, сутенер, преступник. Так представляют белые американцы его место в жизни.
Белый и черный миры разделяет невидимая грань. Они ненавидят друг друга. Ненависть белых — ненависть обеспеченных, дрожащих за свою собственность. Когда же чаша терпения цветных переполняется, миры могут столкнуться в безумном взрыве.
— К вам гость, старина, — объявил мне Боби, приняв информацию от своего официанта. — Прямо из Лондона.
— То есть как? — На этот раз взвился в кресле я. — Скажите, шеф, если бы я попытался проникнуть с улицы в Большой Джон, меня бы пустили?
— К мистеру Бари — да! — Шеф кивнул. — Любого человека без оружия.
— Вы ловко пользуетесь рекламой, старина, даже если она исходит от преступников.
— Профессия… — Он пожал плечами.
Глава четырнадцатая
Почему я ожидал увидеть сэра Криса, который непременно спросил о погоде, но это был сияющий курносый Адамс.
— Привет, Джон! — Он крепко пожал руку, развалился в кресле, не обращая внимания на других присутствующих, — типичный свободный художник из всемогущественной Би-Би-Си. — Решил навестить тебя лично.
— Что, опять штраф? Не хватает полсотни фунтов? — Я вспомнил наше расставание на шумном лондонском перекрестке.
— Здесь берут дешевле! — Нос Адамеа наморщился от смеха. — Мне надо выйти на одного человека. В Лондоне говорят, что он слушает только тебя…
— Кто он?
— Местный Шерлок Холмс — Адамс заглянул в записную книжку. — Фамилия Боби. — Продюсер расцвел от удовольствия. — Какое совпадение! У нас полицейских тоже зовут бобби!
— А зачем он тебе, Адамс? — Я подмигнул невозмутимому Боби.
— Понимаешь, в этой клетке застряла одна птичка. А у меня съемка на Гавайских островах. Как раз послезавтра. — Он понизил голос до ровного шепота, каким сообщают собеседнику крупную сумму выигрыша. — Третти Табор… Уловил?..
Я присвистнул. Дорогую птичку ловит продюсер в объективе! Третти — вот уже пять лет золотая певица Америки и мира.
— Я за ней охотился два года, — сообщил Адамс. Подвижный его нос выдавал переживания. — А тут какой-то идиотский вестерн с террористами…
— Что ты хочешь?
Я оборвал его слишком резко, чересчур чувствительно для англичанина. Адамс так и замер с раскрытым ртом. Я вспомнил нашу встречу с Эдди в Лондоне после того, как вышел из машины продюсера, и пожалел о горячности.
— Адамс, я очень ценю твой приезд. Чем могу быть полезен?
Он продолжал как ни в чем не бывало:
— Так вот, этот Боби не разрешает…
— Она здесь? — как можно мягче спросил я.
— Разумеется!
— Давай птичку сюда! — Старина Боби первый раз подал голос и ухмыльнулся, видя округлившиеся глаза знаменитого продюсера. — Давай пошевеливайся, парень!
— Третти Табор, — официальным тоном уточнил Адамс.
Он ушел медленным шагом, красно-оранжевый, как апельсин, переполненный чувством собственного достоинства.
— Надеюсь, Бари, — проворчал шеф, — у вас не все такие друзья?
— Только в Лондоне. Вы там бывали?
— С неудовольствием.
По рокоту голосов, покатившихся на нас, словно морская волна, я догадался, что идет Третти. На нее нельзя смотреть не прищурив ресниц, даже на экране телевизора. Третти состоит из двух огромных глаз.
— Привет, старина Боби! Так это вы мой страж? — Мягкий, ранящий душу, затыкающий глухотой уши, звучал ее голос за моей спиной. Я сдерживал себя, чтоб не оглянуться раньше времени. — Так это вы моя палочка-выручалочка, Бари! Я смотрю все ваши репортажи!
Я поднялся. Задохнулся от внезапно наступившей южной ночи. Черный кусок шелка, спеленавший половину стройной, гибкой фигуры, золотые пластины на золотых нитях поверх шелка — все это не в счет, это не сама Третти. Третти — два черных, искрящихся светом камня на невыразительном лице, два обжигающих солнца, если солнце можно представить черным.
— Здравствуйте, Джеймс!
Голдрин встал, наклонился, поцеловал руку. Не сказал ничего.
Третти села напротив меня. Адамс стоял за креслом, опустив руки на спинку.
— Так что, Бари? Что будем делать? — Она нагнулась ко мне.
— Видите ли, мисс Табор… — начал я. И чуть было не сболтнул, что надеюсь поймать террористов. Но Боби, оценив ситуацию, вовремя перехватил инициативу:
— Придется петь!
Он видел, как по лестнице, перескакивая через ступени, бежит легким спортивным шагом сам Эдинтон, главный оркестрант ресторана «Джони», композитор, импровизатор блюзов, пианист, трубач и дирижер, — самый молодой, как вещала афиша, и самый талантливый знаток музыкального детства Америки.
— Мисс Табор? — Эдинтон вырос рядом с Адамсом, явно его не замечая около кресла Третти. — Третти, мой оркестр будет на седьмом небе, если нам выпадет честь аккомпанировать вам…
Я с изумлением обнаружил, что знаменитый композитор — тот самый негр, который прервал мой разговор со старой американкой. Когда видишь человека в красных носках и с таинственной наколкой на руке, в голову лезут дикие предположения, вроде истории с застреленным парнишкой Нонни. Я не сомневался, что не ошибся, что буква «Н» скрывается под фраком Эдинтона, но скорее всего это автограф одной из романтических ошибок молодости, когда афиши и пластинки Эдинтона не заполнили еще мир.
— Третти, ваше слово…
Лицо Эдинтона было влажным, а розовая ладонь — горячей. Третти медленно встала, протянула узкую ладонь.
Они спустились под аплодисменты к оркестру.
Тишина.
Третти замерла на самом краю сцены.
Меня с первых же звуков пронзили внутренняя боль ее голоса, произнесенные шепотом слова:
Чтобы знал я, что все невозвратно, чтоб сорвал с пустоты одеянье, дай, любовь моя, дай мне перчатку, где лунные пятна, ту, что ты потеряла в бурьяне!
Неужели снова Гарсиа Лорка? Меня поразило совпадение. Третти… Мой дед Жолио, мечтавший о синей пасхе, белом сочельнике… Его подруга детства Ева… Наконец, я… Какие могут быть тут параллели?
Чтобы знал я, что все пролетело, сохрани мне твой мир пустотелый!
Небо слез и классической грусти.
Чтобы знал я, что все пролетело!
Третти пела, а я думал о Марии. «Где ты? Почему молчишь?»
— Что за черт! — проворчал слишком громко старина Боби, массируя сильной своей фигурой кресло. — Зачем ей это нужно?
— Это романс на стихи Лорки, — пояснил Адамс, не сводя глаз со сцены. — Композитор…
— Барри! (По громкому шепоту Боби я догадался, что он вскипел.) Этот тип, — Боби возмущенно кивнул в сторону Адамса, — вероятно, принимает меня за начальника полиции Нью-Йорка?
Я вертел головой, не понимая, из-за чего затевается скандал.
— Принимаю вас за того, кто вы есть! — резко ответил Адамс. — Это «Ноктюрн пустоты» Лорки. Коронный номер Третти…
— Тихо! — Я замахал на них руками. Слишком притягивал грустный, чуть вульгарный голос Третти, звучавший чертовски к месту в этом сумасбродном вечере, обволакивающий весь зал, весь небоскреб.
Оркестр импровизировал.
Чтобы знал я, что все миновало, чтобы всюду зияли провалы, протяни твои руки из лавра!
Чтобы знал я, что все миновало.
И тут я чуть не расхохотался, взглянув на приятелей. Боби сидел, как изваяние правосудия, сложив руки на широченной груди: казалось, он прикидывает, сколько лет лишения свободы дать этому нахалу англичанину. Адамс замер за спинкой кресла Третти, кивая в музыкальных паузах головой. Он, вероятно, подсчитывал будущий гонорар.
Голдрин очень внимательно, не реагируя ни на что, смотрел на сцену.
Теперь-то я вспомнил, что это «Ноктюрн пустоты» Гарсиа Лорки. Стихи, которые с таким настроением исполняла Третти, были посвящены страданиям поэта в Нью-Йорке. «Я в этом городе раздавлен небесами…» Поэт не принял Нью-Йорк! Черт бы взял весь этот Нью-Йорк!.. О чем я и собирался сообщить шефу Чикаго Боби.
Но, посмотрев на него, поостерегся.
Я не знал тогда, что единственный сын Боби много лет назад по неизвестной причине, как говорят из-за любви, — рванул в себя заряд охотничьего ружья именно в Нью-Йорке.
Третти заканчивала песню:
Чтобы знал я, что нет возврата, недотрога моя и утрата, не дари мне на память пустыни — все и так пустотою разъято! Горе мне, и тебе, и ветрам! Ибо нет и не будет возврата.[2]Третти ушла со сцены, стала медленно подниматься по лестнице. Треск аплодисментов сопровождал каждый ее шаг. Чувствовалось, что она устала.
— Извините, мистер Боби. — Адамс театрально раскланялся из-за кресла. — Я не знал, что вы — это вы. Спасибо, Джон!
— Уходи, парень, — взбрыкнул старина Боби. — Немедленно уходи вместе с ней, пока я не передумал!
Адамс от неожиданности развел руки в стороны, расставил пошире ноги, вся его плотная фигура двинулась на Боби.
— Я сразу вас не признал, чикагский Боби. — И это была сущая правда англичанина. — Я готов вызвать вас на дуэль. В фехтовальный зал королевского дворца!
— Даже в детстве не увлекался шпагой, — отреагировал немедленно Боби. — Как насчет пистолетов?
Адамс неожиданно расхохотался.
— Бросьте, старина. Я никогда не держал в руках молоток, не то что пистолет.
— Так я и знал, — поморщился Боби.
Рядом с Адамсом стояла Третти.
Старина Боби поднялся с юношеской проворностью, поцеловал руку «звезде», махнул официанту: «Проводи».
Адамс задержался.
— Сэр, простите, если что не так. — Он наклонил голову в сторону шефа полиции. — Я, право, не знал. Всегда к вашим услугам…
— А-а! — Старик грузно шлепнул по столу ладонью.
— Джон, в присутствии этих джентльменов могу сообщить, что Би-Би-Си откупила у твоей конторы права на репортаж и хочет предложить тебе миллион долларов.
— Благодарю, Адамс.
Я понял, что продюсер щедро отплатил мне за услугу.
— Три, — вяло произнес Боби.
— Что? — Адамс моргал рыжими ресницами.
— Три… — повторил шеф.
— Послушайте, Боби… — запротестовал я.
Но Адамс деловито вмешался:
— Три? Это мне нравится!
— Лучше три… Так и передайте. — Боби подал знак официанту: проводить!
— Я передам! — Адамс медленно разворачивался к выходу, будто тяжелая бочка, выбрасываемая волной прибоя. — Мне это нравится, джентльмены… Три! Прощайте!
В пять утра, когда истекли сутки, поступил третий конверт:
«Сегодня взрыв — предупреждение. Торопитесь!»
Я позвонил Боби.
— Время не указано? — спросил он, зевая.
— Нет.
— А сколько сейчас?
— Пять. Пошли вторые сутки.
— Спите, Джон, сегодня суббота. А мы пока поработаем… Приглашаю вас на завтрак. И вашего нью-йоркского писаку, если он ничего не имеет против присутствия белых.
Но какой там сон!
Я почему-то вспомнил Раскольникова и старуху ростовщицу. Как они стоят затаив дыхание по обе стороны двери, прислушиваются к малейшему шороху, а под пальто у Раскольникова спрятан топор.
Страшно!
Верно говорит шеф полиции, превосходно знавший Достоевского: с тех пор изменились только орудия убийства, а психология преступника и жертвы осталась той же.
Глава пятнадцатая
— Так почему вы невзлюбили полицейских? — спросил старина Боби Джеймса.
Мы завтракали вчетвером в огромном красном чреве «Джони». Четвертым был Нэш.
— Пустынно, — заметил я вслух, увидев ярусы без людей.
Заняты были лишь несколько столиков.
— А я очень люблю бывать здесь именно по утрам, — сказал Нэш. — Легко пишется.
После вопроса Боби я ожидал взрыва Голдрина. Но он ответил просто:
— Когда мне было шесть лет, меня зверски избили на улице два полицейских.
— За что? — Боби маленькими глотками пил из фарфоровой чашки кофе.
— Не помню. — Джеймс взглянул на него совсем беззащитными детскими глазами. — Я думаю, потому, что был черным ребенком.
— Значит, эти люди были белые…
— Они были не люди, сэр, они были полицейские, — уточнил Голдрин. — Я и сейчас ясно вижу их лица. Совсем как ваше, сэр… Вы все защищаете интересы своего класса…
— Я привык к ненависти, — согласился Боби.
И тут грохнуло. Не очень громко, но прилично: зазвенела посуда, качнулась над головой люстра. Где-то прозвучал сдавленный крик. Боби первым сориентировался в обстановке, бросился со всех ног по служебному коридору. Я бежал за Боби с камерой наперевес, снимая его широкую спину и мелькавшие подметки, пока не очутился на кухне.
Здесь были уже люди Боби. Они провели шефа к взорвавшейся электроплите. В углу стонал, закрыв обожженное лицо руками, повар, случайно оказавшийся у плиты. Голдрин направился к нему.
— Крепись, сын мой, — сказал он громко. — Они по глупости обычно начинают со своих.
Негр отнял на мгновение ладони, уронил голову на грудь. Его унесли на носилках.
После моего утреннего звонка шеф полиции прикинул несколько точек, где может быть скопление народа в субботний день. Его люди дежурили в коридорах, ведущих к ресторану. И хотя в зал было допущено всего несколько человек, весть о взрыве на кухне немедленно разнеслась по небоскребу.
В своей редакции Нэш непрерывно получал по телефонам информацию.
Возникли общественные комитеты по спасению Большого Джона. По квартирам и номерам собирали требуемый террористами выкуп: с каждого жителя две тысячи долларов.
Утренняя служба в церковных помещениях привлекла небывалое количество народа.
Кафе и бары переполнены. Обсуждается один вопрос: взорвут небоскреб или не взорвут.
Лавина звонков из Большого Джона обрушилась в конторы составителей гороскопов и предсказателей будущего. Доходы разного рода астрологов за несколько часов резко возросли.
На всех этажах дети играли в террористов. Возникло несколько случайных поджогов.
Зарождалась паника — самая опасная болезнь при большом скоплении народа.
Штаб полиции Чикаго обосновался в редакции «Джон таймс». Боби и Нэш дружески поделили помещение: редакции оставили кабинет ее шефа, остальные комнаты заняли люди Боби со своими аппаратами, проводами, сигаретами, кофе, сэндвичами; совсем близко — над ними — была вертолетная площадка.
Они сосуществовали на творческих началах: в первый час Боби заглядывал к редактору и был очень вежлив, затем Нэш нырял в соседние комнаты, где полиция снабжала его за аренду помещения своей информацией. К полудню был готов экстренный выпуск «Джон таймс» с шапкой: «Полиция напала на след террориста, произведшего взрыв».
— Вы действительно знаете его? — подошел я к Боби с телекамерой.
— Знаю, — он подмигнул мне.
Я понял его, выключил камеру. Боби действительно что-то знал. Не стоило приставать в суматохе, надо было выждать удобный момент для продолжения репортажа.
Этот день прошел как весьма приличная телепрограмма.
Сэр Крис звонком из Лондона подтвердил намерение Би-Би-Си заплатить мне миллион. При этом он просил пленки. Я ответил, как и прежде, что накапливаю материал, что пришлю репортаж, когда сочту дело сделанным. «О'кей», — ответил деловито потомственный лорд и тотчас поинтересовался, какая у нас погода.
— Дрянь, — ответил я, взглянув в окно, и поежился, вспомнив двух новобрачных у гондолы шара.
Мимо моего этажа проплывала серая мокрая вата; окно было зашторено чем-то веселым, пестрым, как, вероятно, и у сэра Криса в его кабинете. Впрочем, ни Крис, ни весь остальной мир не вспоминали больше уютную электронную гондолу, покоившуюся в самой что ни на есть глубокой тишине Атлантики…
В двенадцать началось совещание в конторе администрации. Присутствовали мэр города и личный представитель губернатора. Кроме меня, в комнату, обставленную по европейскому образцу восемнадцатого века, были допущены два репортера из «Чикаго трибюн», одной из старейших газет. Мне нравилось здесь все — резные кресла, бронза, хрусталь, фарфор; захотелось даже спокойно устроиться на твердом сиденье, опереться о музейную спинку, вытянуть и положить на столик одного из Людовиков ноги. Но я должен работать для своей фирмы, точнее, для Би-Би-Си.
Администратор — тот самый черный грач — от имени хозяев Большого Джона разъяснил, что жизнь небоскреба протекает в соответствии с установленным порядком, что на всех ста этажах не должно быть места ни панике, ни суете, а тем более распространению каких-либо домыслов (одним глазом администратор взглянул на ребят из «Чикаго трибюн») и что он лично имеет свидетельство пострадавшего повара о том, что плита взорвалась по причине технической неисправности.
— Так, так, — произнес в тишине Боби. — Значит, ничего не случилось?
— Случился обычный акт хулиганства, если вы имеете в виду угрозу террористов. Вот и все, господа! — Администратор попытался на минуту стать этаким своим парнем, но, по-моему, роль ему не очень-то удалась. И он сам догадался, взмахнул фалдами своего рабочего фрака, продолжил с пафосом: — Большой Джон есть Большой Джон. Это марка нашей компании. И именно в силу исторической репутации Джон может привлечь внимание любых нарушителей общественного порядка! Надеюсь, — он нагнулся к главе города, — вы не возражаете против такой формулировки, господин мэр? Разве не случаются время от времени в Чикаго разные мелкие неприятности?
Господина мэра я взял крупным планом, и он сразу это уловил, внутренне насторожился. Не было в нем ничего привлекательного: оплывшее маслянистое лицо, утопленные, как патроны в патроннике, глаза. Вот, пожалуй, глаза… Они стреляют всякий раз на любой вызов, но по-разному…
— В Чикаго все бывает, — просто сказал мэр и подмигнул в глазок моей камеры. — Верно, Джон? Ты ведь не первый раз в Чикаго… Да? А теперь еще и отвечаешь за судьбу этого Джона… — Он обвел руками помещение, обернулся к газетчикам и неожиданно рассмеялся. — Да, да, друзья, в Чикаго… в Чикаго… вы знаете… все может ведь случиться…
Администратор визгливо поддакнул. Газетчики никак не прореагировали на грубую хитрость. Представитель губернатора вообще не проронил ни слова — сидел как истукан. Боби сопел носом, как преодолевающий пространство паровоз на картине Тёрнера. Я взглянул на него с удивлением: неужели опытный шеф полиции накаляется? И Боби, опередив движение моей камеры, успокоился, вытянул и положил на столик одного из Людовиков ноги в наимоднейших ботинках. Я снял его суперботинки.
Все поняли, что хозяин положения здесь Боби, и приумолкли. И он молчал. Даже задремал и уже начал чуть похрапывать. Что ж, бывает так, что человек в самые напряженные минуты проваливается в короткий внезапный сон…
— Скажите, дружище, — спросил шеф полиции, не поднимая век, — сколько стоил тогда Большой Джон?
— Разрешите разузнать, — нервно каркнул администратор, — когда — тогда?
— Ну при постройке… — Шеф приоткрыл один глаз.
— Девятьсот сорок миллионов долларов!
— Тех самых долларов? — уточнил Боби. — Еще до девальвации?
— Девятьсот сорок миллионов полноценных долларов, — педантично уточнил администратор.
— И вы жалеете пяти? — Шеф открыл второй глаз. — Пяти нынешних?.. При всей-то вашей прибыли?
Администратор понял наконец, что попал в обычную сеть для ловли дураков.
— А вы хотите, чтоб мы поддались шантажу? — Он говорил это Боби, а обращался ко мне, к моей камере. — Чтоб мы сдались черномазым?.. Кинули им в зубы всю эту мелочь?
Он и в самом деле рассердился, сжал кулаки, встал перед спокойно развалившимся Боби, словно желая вызвать его на бой.
Назревал конфликт. Очень интересный для телерепортажа. Под белой сорочкой, скрытой черным фраком, билось сердце тайного расиста.
— Кто это вам сказал, что пять миллионов — мелочь? — Боби осторожно снял ноги со столика. — Про черномазых? У вас есть данные? Вы их что, видели? А?
— Конечно, не видел… Извините… Просто сорвалось с языка.
— Ну, что вы, друзья… — попытался вмешаться мэр, но Боби отмахнулся от него.
Он достал из кармана носовой платок и вытер стол Людовика.
— Я спрашиваю! — Боби вошел в свою роль. — Кто сказал?
— Компания.
— Точнее!
— Правление…
— Что же они болтали о взрыве?
— Что это обычная история в Чикаго… — администратор развел руками. — Что они надеются на полицию…
— Конечно, мы все надеемся на старину Боби, на его колоссальный опыт. Как обычно, шеф наденет наручники и на этих хулиганов. — Мэр лениво поднялся с кресла, обратился к губернаторскому советнику: — Не желаете аперитив?
Тот промолчал.
— Хулиганов? — переспросил шеф. — Так вот… Примите к сведению анекдотец, а может быть, и просто забавный случай… — Боби начал рассказ, и мэр плюхнулся опять в кресло, а администратор склонился в немом почтении. — Некоторое время назад… одна дама… как мне стало известно… звонила астрологу. Мол, что станет со мной в самое ближайшее время?
Все понимающе улыбнулись.
— Эта дама, к вашему сведению, с шестьдесят первого этажа, номер квартиры… ну, это неважно, — продолжал Боби.
— И что сказал астролог? — заинтересовался мэр. — Что все будет в порядке?
— Не так-то просто… Он сказал, конечно, что звезды зодиака в ее пользу… — Все заулыбались. — Именно сегодня, в этот вечер, не надо ни о чем беспокоиться… Я цитирую астролога, — уточнил Боби. — Все, с кем вы встретитесь, будут полны особого внимания именно к вам, мадам. Особенно, прибавил по телефону этот тип, люди противоположного пола.
Боби остался доволен реакцией присутствующих.
— Ха-ха! — кричал довольный администратор. — С шестьдесят первого? Это такая тощая блондинка? Припоминаю! Ей лет эдак тридцать! С хвостиком!
— Семьдесят девять, — спокойно ответил шеф полиции, и администратор поперхнулся.
— А вам сколько? — спросил Боби администратора.
— Мне — сорок четыре.
Мне даже стыдно стало снимать этого вытянувшего по засаленным швам руки парня — такого административного… И мэра, стрелявшего в нас холостыми патронами, но все же хранившего про запас свое мэрство, знавшего, очень точно знавшего, что взрыв будет, но не сейчас, не сегодня…
— Так вот! — Боби встал с кресла. — Сколько лет в среднем вашим компаньонам?
— Нашим? — нервно спросил администратор.
— Вашим! Правлению вашей компании, которая уклоняется от уплаты пяти миллионов долларов.
— А вы считаете, что надо заплатить? — растерялся администратор. — Разрешите, я уточню про возраст. — Он ринулся к телефону.
— Не надо!
Боби остановил его движением пальца и направился к двери.
— Передайте этим людям, что мне семьдесят… как вы выразились, с хвостиком… Пора подумать о пенсии. Я улетаю… Пусть ваше правление прибудет сюда завтра и попытается остановить взрыв.
В полной тишине Боби (я снимал его спину) направился к двери. Как вдруг остановился, резко повернулся, приказал:
— Включите радио!
Мэр — именно мэр — первый дотянулся до радиоприемника. Передавался очередной выпуск «Джон таймс»:
«…И мы, дети Америки, обездоленные дети, отвергнутые Америкой, мы обращаемся именно к вам: не допустите взрыва. Глупости этой не простят ни ваши дети, ни внуки, ни те, кто еще не родился от них!..»
Я сразу узнал голос: говорит Голдрин.
Говорит своим спокойным грудным голосом, очень далеким по настроению и мыслям от всех нас.
Почему-то мы побежали. Вот так — снялись вдруг с места и побежали. По бесконечным коридорам. Потом почему-то остановились в поисках лифта и никак не могли его обнаружить. Не помню, снимал ли я этот безумный бег.
Все мы ехали навстречу Голдрину.
А в ушах застряла жесткая фраза Боби, обращенная неизвестно к кому:
— Эй вы, заткните его!
Но и в лифте звучал Голдрин:
«Я обращаюсь к вам, несчастные дети…»
— Заткните! — ревел Боби.
— Да заткните вы его! — вдруг пробудился личный представитель губернатора, и Боби удивленно взглянул на этого господина, словно припоминая, кто он такой.
Глава шестнадцатая
В «Джон таймс» произошла приличная потасовка. Пол был покрыт рваными бумажками. Мебель раскидана. Нэш и Голдрин сидели, как манекены, в креслах, оплетенные электрическим шнуром. Возле них застыли ребята Боби.
Такое превращение редакции в полицейский участок застало всех врасплох. Я даже снимать начал с замедленной реакцией.
— Я протестую! — громко сказал Нэш, когда мы возникли в дверях. Мне показалось через глазок телекамеры, что каждая веснушка на его лице светится.
Голдрин был похож на черное изваяние.
Газетчики фотографировали.
— Что это значит? — хриплым шепотом спросил шеф и вдруг заорал во всю силу своих легких: — Болваны!.. Я сказал «заткнуть», но не более!.. Гари, ты всегда был идиотом и служакой!..
Гари, потирая распухший подбородок, мрачно посмотрел на полицейских, и те развязали пленников.
Нэш поднялся, раскинул в стороны руки, присел.
— Не забудьте упомянуть о свободе слова в нашей стране, — сказал он с усмешкой газетчикам. — И вы, Бари! Если, конечно, включите в репортаж эти кадры…
— Включу, — пообещал я.
— Как вы могли поднимать панику в нашем доме? — накинулся на него администратор. — Я велю немедленно вас выселить!
Нэш невозмутимо возвышался перед ним. Розовые мальчишеские щеки его пылали.
— Моя редакция арендует это помещение, и срок контракта не истек… Посему, — он указал на дверь, — попрошу вас вон…
Администратор попятился.
— Зачем молоть всякую чепуху! — вмешался энергично мэр, покосившись на Голдрина. — Кого надо спасать именно сегодня?
— Это началось не сегодня, — уточнил писатель.
— Когда же?
— Это началось в семнадцатом веке, когда первых рабов-негров привезли в Вирджинию…
На него смотрели как на сумасшедшего.
— Кого же мы спасаем, господин проповедник? — повысил голос мэр. — Жителей Чикаго или бандитов?
— Мы спасаем Америку, — прогудел из кресла Голдрин.
Мэр и представитель губернатора иронически переглянулись.
— Об Америке позаботятся и без вас, — холодно сказал представитель губернатора.
— Благодарю! — Голдрин поднялся. — Если вы, господин, имеете в виду цветных, то о нас заботятся ежедневно. — Он направился к двери. На минуту задержался, оглянулся, увидел искаженные ненавистью лица. — Что ж вы не кричите «грязный ниггер», господин мэр? Я к этому привык.
Мэр побагровел. Из его легких вырвался хрип, и мне явственно послышался в нем привычный удар в спину: «Ниггер».
— Вы доказали мне, — сказал со спокойной улыбкой Голдрин, — что плантаторская психология пережила века.
— Прошу внимания! — Боби держал в руках какую-то записку. — Информирую всех, что после состоявшейся передачи одна из жительниц выбросилась из окна. Боюсь, мистер Голдрин и мистер Нэш, что вам придется отвечать перед законом.
Голдрин пожал плечами, вышел.
— Надо еще доказать… — Нэш тоже пожал плечами и попросил не мешать ему работать.
Ребята из «Чикаго трибюн» незаметно исчезли. Материалов у них было на целую полосу.
Мы перешли в комнату, занятую временно Боби.
Представители власти явно нервничали, тихо переругиваясь в углу. Боби беседовал со своими ребятами, давал различные поручения. Наконец мэр подошел к шефу полиции, положил руку на его плечо.
— Что будем делать, Боби?
Шеф поднял усталое лицо.
— Выход единственный. Эвакуировать людей… Не снимайте, пожалуйста, Джон.
Я опустил камеру.
— Как так? — Администратор с трудом осознавал важность лаконичного сообщения.
— Пусть взрывают пустую коробку, — спокойно ответил шеф.
— А мы успеем? — спросил мэр.
— Должны успеть.
Через два часа на совещании у мэра Чикаго (я туда не ездил) было решено эвакуировать жителей Большого Джона. Администрация сделала заявление по внутреннему радио и объявила план вывозки людей с личными вещами вертолетами и автобусами. Телевидение подхватило новость: прямой репортаж велся из вертолета, кружившего над небоскребом.
Миссия моя заканчивалась. Я должен был снять эвакуацию, пустой дом перед взрывом и уйти одним из последних. Вот и все. Звонок Нэша ошеломил меня:
— Они не хотят уезжать, Бари… Мне не с кем больше посоветоваться… Извините, ради бога… Что делать, Бари?
— Кто не хочет?
— Очень многие семьи… Мои сотрудники едва успевают отвечать по телефону.
— Массовый психоз?
— Хуже. — Нэш кашлянул. — Они сознательно. Привыкли. Не хотят и не могут уходить из этого дома.
— Не хотят и не могут, — повторил я тупо. — Понятно, Нэш. — И процитировал чью-то фразу: — «Жизнь пуста, если она не имеет цели».
— Не шутите, пожалуйста, Бари. Что же делать?
— Вы пропагандист, Нэш, а я — всего-навсего репортер. Убеждайте.
— Они не послушаются, слова бесполезны. — Нэш тяжело вздохнул.
— Тогда записывайте номера квартир и передайте их Боби. У него энергичные ребята, вы знаете.
— В самом деле, полиция стара, как и государство. — Обрадованный Нэш процитировал Маркса. — Как мне не пришло в голову, что это прямая обязанность полиции?!
Через час-полтора я мог приступить к съемкам. Прилег на постель, забылся в коротком сне. Но отдохнуть мне не дали: кто-то звонил. Чертыхаясь, открыл я дверь, увидел разодетого Боби.
— Вы собрались на свадьбу? — спросил я.
— Я к вам, дружище. Не возражаете? — Он сел. — Все суетятся, а вы дремлете.
— Суматошный день…
— Правильно делаете. — Боби зевнул, прикрыв ладонью рот. — Хочу немного поболтать, дружище. И еще пригласить вас на обед.
— С удовольствием. После съемок.
— Хотя платить придется скорее всего вам, — шеф хитровато поглядывал на меня из-под косматых бровей. — С вас причитается, старина…
— То есть?..
— Вероятно, в ближайшие часы ваш гонорар удвоится.
— У вас есть новости? — Я потянулся за камерой.
Боби остановил меня жестом.
— Я удивлен вашей прозорливостью, мистер Бари. Они действительно угрожают Чикаго. Впрочем, это не новость. Наверное, уже передают.
Он включил телевизор. Диктор читал экстренное сообщение, поступившее на телевидение, радио, в редакции газет.
«Адская кнопка» поставила ультиматум Чикаго. Большой Джон, говорилось в ультиматуме террористов, будет взорван в назначенный срок. Это серьезное предупреждение городу. Если через сутки не будут удовлетворены требования группы, то несколько бомб уничтожат Чикаго.
— Сумма выкупа? — спросил я Боби.
— Копейки, — махнул он рукой. — По полторы тысячи с носа.
— Десять миллиардов, — прикинул я. — Это с лихвой окупает их расходы. И дает очко в игре остальным!
— Вы настоящий политик, Джон. В отличие от всех болтунов — мэра, губернатора и прочих… — Боби улыбнулся. — Я редко кому говорю комплименты.
Условия игры были обычные: заправленный, готовый к взлету самолет; требуемая сумма в купюрах и золотых слитках на борту; полная безопасность проезда на аэродром и полета.
— Придется дать им почетный эскорт, — усмехнулся Боби. — Ничего не попишешь, буду сам сопровождать и следить, чтобы какой-нибудь идиот не выстрелил по этим чернокожим. Иначе всем нам крышка.
— Они действительно цветные?
— Да, Бари. И это самый большой секрет. Социальный динамит опаснее всего… Узнай раньше времени мэр или кто-то другой, и в Чикаго начнется новая гражданская война. Вы, надеюсь, понимаете…
Я выразительно посмотрел на телефон, и Боби, перехватив мой взгляд, сделал официальное заявление, что отныне ни одно слово не вылетит за стены моего номера, не попадет ни в одно любопытствующее ухо.
— А Голдрин? — спросил я. — Администратор?
— Этот просто негодяй с рождения… Что касается вашего писателя, то он догадывается, но его никто не принимает всерьез… Я же, — Боби невесело рассмеялся, — знаю всех двенадцать в лицо.
— И вы…
Боби помрачнел.
— Кнопка… Я говорил уже… Ее можно нажать даже в самолете. — Боби по-стариковски покряхтел, положил большую ладонь на мое плечо, — Джон, если бы ты родился в Америке, — глаза его стали строгими, — ты давно был бы президентом США… Забудьте об этом, пожалуйста, старина.
Я почувствовал серьезность момента. Понимающе улыбнулся, махнул рукой.
— Уже забыл… За что такая честь?
Шеф расслабился в кресле, с минуту молчал.
— Я проверил вашу сумасшедшую версию. К сожалению, вы оказались правы.
Он протянул мне бумажку. На ней была напечатана одна строка:
ОСВОБОДИТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ ЗАЛОЖНИКОВ!
Я несколько раз перечитал строку, мучительно соображая, почему именно двадцать пять миллионов. И вдруг вспомнил свою шутливую фразу: «А если они хотят освободить всех?» Двадцать пять миллионов — да ведь это все негритянское население Америки! От кого их освободить? Напрашивался примитивно-дикий ответ: от белых. Но как? С помощью шантажа и взрывов?
Кажется, последнюю фразу я произнес вслух:
— Черт их знает, — пробурчал Боби.
Мы тупо смотрели друг на друга, понимая, что влипли в идиотскую ситуацию. Освободить двадцать пять миллионов? А они спросили у этих миллионов, нужно ли их освобождать?
— Могут взорвать! — сказал я.
— Могут! — согласился шеф.
— Что ж, — я выключил болтливый телевизор, — пусть Америка раскошелится, а журналисты заработают свое. При чем здесь удвоение моего гонорара?
Боби встал, застегнул пиджак.
— Я обещаю вам, Джон, — в голосе его прозвучали торжественные нотки, — что вы один снимете арест банды…
Я молчал.
Боби подошел ко мне вплотную, положил огромные ручищи на спинку стула.
— Я чувствую, Джон, что вы… именно вы способны помочь мне обнаружить кнопку.
Я спокойно взглянул в глаза.
— Кнопку — нет. Исключено, Боби…
— Значит, сами эти штуки?
— Не знаю, — сказал я.
Боби подвел меня к окну, отодвинул пеструю штору.
— Взгляните сюда, Джон. Видите эту штуковину?
Внизу напротив нашего небоскреба высилась, как небольшой рыцарский замок, старая водонапорная башня — единственное здание, уцелевшее после знаменитого пожара 1871 года.
— Рекламная знаменитость, — узнал я. — Водокачка.
— Я ее помню с детства, — продолжал задумчиво шеф. — Она казалась мне замечательней любого небоскреба. Здесь работала моя мать, и я знаю каждый уголок внутри. Когда я воевал во Вьетнаме, бессмысленно сбрасывал бомбы на джунгли, мечтал только о том, чтобы выжить, вернуться, потрогать ладонью старый камень водокачки…
Я смотрел на него с удивлением.
— Да, Джон, это было, — подтвердил он кивком. — Когда-нибудь расскажу подробнее… Я был ранен, вернулся, поступил в полицию. Не представляете, Бари, какой я был тогда. Пропорционально сложен, крепкой кости, в меру мяса — я сразу стал рядовым с популярной фамилией… И вот — все бессмысленно…
— Почему? — спросил я.
— Я не хочу, чтоб ее разрушили, — просто сказал Боби. — Чикаго без этой старушки не Чикаго.
Он отвернулся к окну.
— Я подумаю о вашей просьбе, — тихо проговорил я.
И Боби сразу понял меня, на цыпочках удалился в угол, затих, словно испарился.
Я думал про своего единственного друга Аллена.
В школе его звали Вилли. Вилли Копфманн. Но он-то любил, чтобы его называли Алленом. Кажется, так звали его деда по материнской линии, который в детстве, как и мой дед Жолио, столкнулся лицом к лицу со смертью в лагерях третьего рейха. Мы с Алленом дружили по-настоящему: делились секретами и никогда не выдавали друг друга.
Тихий, застенчивый Аллен оправдывал свою фамилию: он был настоящим головою-человеком. Прежде всего — человеком! Вилли Копфманн стал знаменитым физиком и остался прежним Алленом. Он приезжал к нам с Марией в гости, когда мы были молодые, не разъехались еще в разные концы света, разделял наши хлопоты, играл с Эдди и непрерывно шутил. Кажется, не было более коммуникабельного человека. Но я-то знал, что Аллен всегда одинок, замкнут. Временами мне казалось, что он влюблен в Марию.
Когда он уехал в Америку, где ему были предложены любые условия для работы, Вилли Копфманн исчез из всех справочников, появился физик Аллен. Через несколько лет исчез и профессор Аллен.
Всего несколько человек в мире знали, что Аллен существует, что он продолжает свои исследования. Из этих нескольких один я был уверен, что мой друг осуществил мечту своей жизни — обрел одиночество.
Он жил над Землей, облетая ее каждые полтора часа. На новейшей американской космической станции «Феникс», которая была самой комфортабельной станцией для труда и отдыха. Техническая часть была отработана великолепно: в жилом отсеке станции путем вращения сфер создана нормальная тяжесть (я даже подозревал, что там среди современной мебели, стояли в кадках карликовые пальмы, которые Аллена всегда успокаивали), а в спутниковых отсеках царила обычная невесомость, где Аллен мог заниматься своими давними увлечениями — выращивать редкой красоты и большой стоимости кристаллы, варить незнакомые для Земли сплавы металлов, искать победителей непобежденных на планете болезней, исследуя под микроскопом на молекулярном уровне свою кровь.
И все же Аллен скучал. Получив через одного из его коллег секретную записку с указанием радиоволны, я тотчас вышел на связь со станцией «Феникс». Нередко у Аллена или у меня являлась острая потребность в общении, и я болтал с ним о разных земных и космических мелочах, не вдаваясь, разумеется, в подробности того дела, которое осуществляла самая секретная космическая лаборатория США.
У меня всегда была с собой карманная рация для вызова Аллена. При включении она неизменно давала сигнал, когда Аллен пролетал в космосе над тем местом земного шара, где я находился. Сигнал прозвучал совсем недавно, и ждать облета «Фениксом» Земли было нецелесообразно.
— Боби, — негромко позвал я, и он тотчас материализовался из угла. — Кажется, я постараюсь помочь вам. За результаты не ручаюсь… Вы ничего не слышали и ничего не знаете…
В ответ на эту шаблонную фразу шеф полиции так энергично стал трясти головой, что я понял: не выдаст.
— Мне нужен мощный передатчик.
— Он к вашим услугам! — сразу же отозвался Боби. — Можно распорядиться?
— При одном условии: о моих действиях никто не должен знать… Это очень серьезно, Боби!
— Я сам буду вас сопровождать.
Через четверть часа мы были на городской радиостанции. Я заказал нужную волну и остался один в студии. Боби дежурил по ту сторону толстой двери.
— Вы отчаянный парень, — сказал он перед этим. — Будьте осторожны. Они, — он подчеркнул это слово, — записывают все радиопереговоры.
— Знаю. Пока они поймут, что к чему, мы спасем город.
Довольно долго вызывал я Аллена. «Феникс» был вне зоны слышимости. Наконец раздался знакомый глуховатый голос:
— Шестой слушает.
— Вилли, это я, — сказал я, дрогнув от радости, словно друг вошел сейчас в комнату. — Привет!
— Привет, Жолио! — Он называл меня в целях конспирации именем деда. — Как поживаешь?
— Как на горячей сковороде…
Я торопливо объяснил Аллену ситуацию, спросил:
— Скажи, ты сможешь засечь плутоний? Их три или четыре штуки, очень компактных. Где бомбы, никто не знает…
— Когда намечен первый взрыв? — спросил Аллен.
Я взглянул на часы: 19.10.
— Через тридцать три часа пятьдесят минут.
В наушниках потрескивал космос. Аллен молчал. Я знал, что друг оценивает обстановку, считает, пока его станция с огромной скоростью мчит вокруг шарика.
— У меня здесь есть один аппарат, — сказал после затянувшейся паузы Аллен. — Вскоре я буду над Чикаго, сделаю снимки… Надо будет с ними основательно поработать. Словом, Жолио, я тебя вызову через десять — двенадцать часов. Ты откуда говоришь? Слышимость такая, словно ты в соседнем отсеке.
Я пояснил, как вышел на связь.
— Хорошо… Ты получишь снимки, но поступай по обстановке. Для связи достаточно твоей рации…
— Все понял, Вилли!
— Как там Мария и Эдди?
— Мария, как обычно, путешествует. Эдди на съемках в Голливуде.
— Поклон им от меня.
— И тебе от них!
— Береги себя, Жолио.
— И ты, Вилли!
— Ну, я-то далеко от вашей суеты. Привет тебе!
— Привет!
Выхожу из студии. Боби вопросительно смотрит на меня. Я молча киваю. Боби подмигивает в ответ.
В номере ждали телеграммы из «Всемирных новостей». Сэр Крис вежливо напомнил о необходимости срочного получения материала. Я понимал, что фирма нервничает: в Чикаго ринулись журналисты со всего света, а ее специальный корреспондент за два дня не прислал ни метра записи. Я ответил коротким посланием: пока не имею самого важного эпизода репортажа. Подпись. И точка…
Что они подумают? Возможно, решат, что я сошел с ума и хочу взорваться вместе с Большим Джоном… Во всяком случае, Боби может оказаться прав: фирма предположит, что я затеял какую-то авантюру, и задумается о гонораре…
Неожиданно сработала космическая рация, меня вызывал Аллен:
— Жолио, есть вопрос!
— Что случилось, Вилли?
— Над Чикаго летает какая-то установка. Насколько я понимаю, она занята поиском, наверное — того же самого… Надо ли мне вмешиваться?..
— Подожди, Вилли, я уточню…
Связался по телефону с Боби.
— Могу поговорить? Срочное дело.
— Да, Джон. — Он чуть поколебался.
Я повторил вопрос Аллена.
— Эти военные, — угрюмо признался шеф. — Честно, я на них не надеюсь… Загляну к вам, старина?..
— Чуть позже.
Аллен с минуту оценивал мою информацию.
— Понятно, другое ведомство, — сказал он наконец. — И все же, Жолио, не мешает получить их данные. Для сравнения… Понимаешь меня?
— Понимаю, — сказал я, пока ничего не понимая.
— Если удастся, передай сведения в банк информации. Все объекты, которые будут замечены с их высоты… Вот мой кодовый номер. — Аллен продиктовал числа. — Я вызову, как договорились…
Боби, появившись у меня, разложил на столе план Чикаго.
— Извините, Бари, я сам недавно узнал об этой затее. Они работают очень медленно. — Он показал узкую заштрихованную полоску, перечеркивающую город.
Большая летающая платформа-автомат бороздила воздушное пространство над городом — полоса за полосой. На ее борту, вероятно, был установлен ускоритель, который прощупывал внутренности Чикаго пучками отраженных лучей.
Я не физик, но отчетливо понимал, что искать уран и плутоний можно с помощью физического прибора. Иначе зачем летает над крышами такая штуковина! А раз летает, значит, где-то у компьютеров и экранов сидят и работают специалисты.
Шеф полиции согласился с моей версией и объяснил, почему он не надеется на успех этой операции.
Платформа, по сведениям Боби, сравнительно тихоходна, а широта облучаемой полосы узка: двести — триста метров. Простой расчет показывает, что исследовать все пространство в оставшиеся часы она не успеет.
— Мне нужны данные! — сказал я Боби.
Он словно не слышал. Тихонько насвистывал, рассматривая план Чикаго.
— Мне нужны данные, чтоб отсечь известные и бесспорные объекты с ядерной энергией.
— Но так-то просто добыть их, — буркнул Боби.
— Это в ваших интересах. — Я пожал плечами.
— Поднимемся на крышу, — предложил шеф.
Наверху моросил дождь.
— Подождем, — сказал Боби. — Она где-то рядом… Идет по второму заходу.
Мы подошли к краю площадки. Подняли воротники. Под дождем намокла одежда.
Шум моторов заставил меня поднять камеру, хотя снимать в сумерках было почти бесполезно.
Из серых клубящихся туч внезапно показалась, стремительно надвинулась и проплыла почти над нашими головами здоровенная металлическая рама. Четыре вертолетных винта, вздымая воздушные вихри, оглушая треском, несли ее над крышами. Я успел разглядеть какое-то массивное сооружение, и все — платформа уплыла во мрак.
— Осторожнее, — предупредил Боби, покосившись на мою камеру, — не дразните гусей.
— Какие тут секреты, — огрызнулся я, — когда ее видит каждый прохожий!
И тут раздался голос, он прозвучал совсем рядом:
— Отец, ваша коробка по-прежнему пуста, как консервная банка…
По глухому, вибрирующему звуку я догадался, что включилась карманная рация шефа.
— Конечно, Сэм, они не дураки, — громко сказал Боби. — Следите за движущимися объектами. Понял меня?
— Понял, шеф.
Я сделал вид, что ничего не слышал.
— Это мой сын, — сказал Боби. — Точнее, приемный сын… Он физик… Со светлой головой и… темной кожей.
Я взглянул на него с удивлением: шеф неизменно раскрывался для меня с самой неожиданной стороны.
— Я никому не рассказывал, Бари, про тот давний случай. — Боби усмехнулся воспоминаниям. По лицу его текли струи дождя. — Однажды, когда у меня в семье случилось несчастье и я переживал трудные дни, в парке ко мне подошел мальчишка и потребовал десять долларов. Плата, как говорится, обычная за прогулку в одиночестве, и я решил было обойтись профессионально с вымогателем… Но в глазах этого негритенка, в его голосе, позе, во всем сквозило такое отчаяние, что я протянул деньги…
Шеф полиции пришел в парк на второй день и на третий. Сумма выкупа все возрастала. Мальчишка, вооруженный старым кольтом, однако, не замечал, как он постепенно втягивается в разговор с человеком, который не только его не боится, но и как будто сам ищет встречи. Когда в очередной раз Сэм не явился, Боби разыскал его и выручил из беды.
— Я сделал тогда удивительный вывод, Джон, — продолжал Боби. — С самым отчаявшимся человеком, даже с бездомной дикой кошкой надо поговорить по-человечески. И они остановятся, прислушаются, поймут… Вы можете смеяться над стариком, но это — истинная правда.
Я не смеялся. Я видел перед собой человека убежденного и сильного, человека, который умел находить правильный выход из трагических ситуаций. Молча пожал Боби руку.
— Буду рад познакомиться с Сэмом, когда он освободится, — сказал я ему.
— Спасибо. Сейчас он с ребятами чересчур занят. Вы видели, они бредут на ощупь, а противник значительно хитрее их.
— Здесь нужна другая точка зрения, — заметил я. — Вся картина целиком.
Боби пристально посмотрел на меня.
— Вы правы. Я постараюсь достать сведения… Только прошу вас: на тех же условиях. Я не могу подвести Сэма…
Промокшие до нитки, спустились мы переодеться.
Буквально через полчаса пневмопочта доставила пакет от Боби. В нем был листок с колонками цифр.
Я набрал на приставке к телевизору номер банка информации, потом кодовый номер Аллена, заложил в печатное устройство листок. Информация с летающей платформы ушла в космос. Бумагу я сжег.
Поднялся на девяносто пятый этаж в ресторан. За столиком Боби спиной ко мне сидела женщина. Она выглядела достойной парой элегантному шефу полиции. Я ускорил шаг, догадываясь, что такое необычное платье может носить одна в мире женщина.
Боби что-то сказал. Его спутница обернулась, медленно встала, обвила мою шею горячими руками:
— Мария… — Я задохнулся от неожиданности. — Как ты здесь?
— Я с тобой, милый…
Боби нагнулся над столом, прикуривая сигарету.
Глава семнадцатая
Мы проговорили всю ночь. Мария рассказывала о странствиях, я — о своих злоключениях. В наш сбивчивый разговор то и дело вклинивалось прошлое, от которого теплее становился мир.
— А помнишь, как мы с тобой познакомились, как танцевали и сразу решили пожениться? — Мария тихонько рассмеялась, погладила меня по голове, словно маленького.
— Ты была пестрая осень. Как давно все это было…
— Я до сих пор люблю то платье. — Она вздохнула, улыбнулась воспоминаниям. — А за тобой ходил все время твой Вилли. Я ужасно злилась…
— Да, тебе привет от Аллена…
— Как он? Не заскучал?.. Не могу представить, как можно жить в таком одиночестве, жить без моря, леса, путешествий, ресторанов…
— Ему сейчас не до ресторанов…
Я рассказал Марии свой последний разговор с другом. В углу на тумбочке едва слышно попискивал пустотой космоса включенный радиоящик. От жены я не скрыл, что жду важных сведений.
Она обняла меня, уткнулась головой в грудь.
— Знаешь, — шепнула она, — я всегда боялась твоих репортажей. Они страшные, будто их делал сверхчеловек… А ты — настоящий…
— Значит, репортер тоже человек. Сейчас быть человеком не модно, — отшутился я. — Признаюсь тебе, что когда-то я относился к твоей работе, как к увлечению обычными тряпками, а потом понял, что ты творишь прекрасное! Прости, что не сказал тебе это раньше…
— А я знаю каждый твой шаг. По газетам. Я все поняла после того мальчика… Как его звали?
— Джино.
— С ним все в порядке?
— В порядке.
— Но почему ты, ты и ты?
— Что «ты»?
— Почему именно ты отвечаешь за всех?
— За кого?
— Тогда за мальчика, теперь — за этот нелепый небоскреб?
— Случайно получилось. Теперь — за город. Мари, я должен помочь людям…
— Так всю жизнь… И куда только смотрит полиция?
— Полиция смотрит на нас с тобой. Чтобы мы сегодня отдохнули…
— Твой Боби не такой, как другие… Почему он сказал, что у нас отличный парень? Откуда он знает про нашего Эдди?
Я рассказал, что Эдди на днях звонил мне. Ну… и Боби… словом, он присутствовал при разговоре. Но не упомянул о том, что именно Эдди, его радостный звонок побудил меня остаться в Большом Джоне.
Мария несколько раз заставляла повторить нашу беседу, пока я не успокоил ее:
— У тебя действительно самостоятельный, заботливый сын.
— И у тебя. — Она вздохнула. — Я очень беспокоюсь за него.
— Не беспокойся, сейчас он спит.
— Все равно я боюсь. — Она упрямо тряхнула головой.
И я беспокоился, но вслух не признался, молча улыбнулся Марии.
У нас замечательный сын, не такой, как другие. Оглянись вокруг, Мария, продолжал я про себя, сколько на ослепленных рекламой улицах слоняется темных личностей. Они еще мальчики и девочки — эти юные наркоманы, бродяги, хипари, потенциальные преступники. Их пустые глаза выражают разрушение личности, крах детской мечты о силе и всемогуществе. Я не идеализирую сына, наоборот — виню себя в том, что он избалован и эгоистичен, но его самоутверждение в жизни — порыв здоровой юности. Если бы только не дурацкий миллион, за которым он гоняется на колесе фортуны… Повезет ли ему?
За стенами и окнами нашего номера царила величайшая суматоха. Я представлял, как идет эвакуация людей из небоскребов, как заседают час за часом многочисленные советы и комиссии, как прибывают на аэродром полицейские, солдаты и люди секретной службы, как тысячи машин устремляются в ночь из проклятого Чикаго, едва ползут по переполненным улицам, сталкиваются друг с другом, застревают в километровых пробках. Страх темными дождевыми тучами завис над Чикаго. В такую ночь чувствуют себя нормально только личности, творящие разбой и насилие.
Разумеется, об этом сообщалось по телевизору. Но нам было уютно без дребезжащего экрана, телефонных звонков, криков и выстрелов. Я никогда не чувствовал с такой остротой прежде, что у меня есть друг, верный друг — моя Мария.
— А как они будут жить без нас? — сказала, глядя в потолок, Мария.
— Кто они?
— Наши дети.
— У нас один Эдди.
— Да. И ты его очень избаловал.
«Избаловал… Я уже об этом думал. Надо было завести кучу детей. Меньше бы бродяжничали…»
— Даже купил персонального слона.
— Да, купил.
— Ты его не продавай. Эдди не последний наш сын. И потом — у него тоже появятся дети. Как они будут без нас?
— Без нас?
— До чего вы, мужчины, тупы. — Мария вздохнула. — Ничего не понимаете сразу… Я что хочу сказать: если эти бандиты угрожают нам, взрослым, что же они сделают с нашими детьми, когда те вырастут?
Я молчал.
— Ты думал об этом, Джон?
— Да. Наши дети будут смелее и сильнее. — Я рассмеялся.
— Если присмотреться к тебе, то тебе вовсе не до смеха.
— Остался один шаг. Очень важный. Ты понимаешь?
— Понимаю.
— Возможно, наши внуки и не вспомнят эту историю. Но она научит людей многому. Спи спокойно, Мария.
— Спасибо. — Она поцеловала меня, успокоилась.
Боби надежно охранял наш покой. Он понимал: будущее миллионов перепуганных людей во многом зависело от тишины и покоя одной комнаты в Большом Джоне. Я слушал дождь.
— Дождь, — сказала Мария, проснувшись.
— Да, дождь и ветер. Это Чикаго, — подтвердил я.
— Противный город.
— Скоро мы улетим отсюда.
— Хотела бы знать, какая погода будет там, куда мы прилетим?
— Хорошая. Знаешь, — предложил я Марии, — когда это кончится, давай бросим все и вернемся домой.
— А Эдди? — Она строго взглянула в мои глаза.
— И Эдди, конечно.
— Он не захочет.
— Давай попробуем! — предложил я. — А?
— Что именно?
— Бросим модные тряпки, самолеты, поезда, корабли, камеры, пленки, телевизоры, мотоциклы… И заживем, как все люди.
Она смеялась счастливым серебристым смехом.
— И ты решишься на это? Ты, Джон Бари…
— Решусь. К черту все телекатастрофы, к черту всемирные новости и моды… Я, Джон Бари, даю слово человека!.. Ты согласна?
— Давай, Джонни, попробуем…
Глаза ее сияли. Никогда я не видел Марию такой красивой.
— Счастлива? — догадался я.
Она откинулась на спину. Волосы рассыпались по подушке.
— И откуда ты все знаешь?
Под утро мы задремали, но почти тотчас я вскочил. Взял потрескивающую рацию, перенес в гостиную. Осторожно прикрыл двери. Сначала просто сидел на диване в ожидании вызова. Но Аллеи молчал. И я начал тихонько надиктовывать сценарий репортажа. Финал приближался, не стоило терять времени зря. Я, Джон Бари, должен был выйти в эфир первым.
В девять проснулась Мария. Мы позавтракали в номере. Прошли уже все сроки. Я сидел как истукан перед приемником, к телефону не подходил. Мария отвечала всем, что я на съемках, и записывала имена. Боби в списке не значился.
«Ну что ж ты, Аллен! — твердил я про себя. — Неужели подведешь единственный раз в жизни? Ты, друг…»
Я представлял, какая на него свалилась адская работа, и нервничал: получится ли?
Его голос раздался около двух часов дня.
— Жолио, извини, пожалуйста, за задержку. — Аллен говорил очень устало. — Пришлось немного повозиться… Ты хорошо слышишь меня?
— Я слушаю тебя, Вилли! — кричал я во весь голос.
— Теперь можешь не волноваться. Дело сделано. (Я чувствовал, что Аллен улыбается, и сразу успокоился.) Запиши номера машин. Эти штуки в багажниках. Они в разных концах города. Одна, как я догадываюсь, в вашем доме.
— Понял тебя!
Я записал номера четырех машин.
— Слушай дальше, — чуть возбужденно продолжал Аллен. — Вызови банк информации. Там нужные снимки. Районы города, где стоят машины. Точнее, стояли. Возможно, машин уже нет. Поэтому я расшифровал номера. Извини, Жолио, на это ушло несколько лишних часов. Но игра стоила космических свеч! Надеюсь, Чикаго раскошелится хотя бы на одну свечку…
— Ты молодчина, Вилли! — вопил я. — В честь тебя будет фейерверк!
Мария стояла рядом.
— Скажи, что я его целую.
— Мария целует тебя! — крикнул я.
— Что? Какая Мария? — Аллен растерялся.
— Она рядом, она прилетела…
— Ах, Мария, — рассмеялся мой друг. — Чмокни ее, пожалуйста, за меня!
— С удовольствием! — Я тотчас исполнил поручение, и Аллен слышал все. — Извини, пожалуйста, Вилли!
— Счастливчики! — сказал он грустно. — Ну, пока… Снимки уничтожь, информацию в банке сотри. Привет, ребята…
Мы с Марией стояли обнявшись. Неожиданно она всхлипнула.
— Ты что?
— Мне не верится… — Она покачала головой.
— Что не верится?
— Что такое может случиться…
— Может! Обязательно может! — крикнул я. — Ты знаешь, он ведь гений! Дуреха, ты многое потеряла, выйдя замуж за меня!.. Сейчас сама все увидишь…
Я набрал номер банка информации, номер кода, заказал снимки. Буквально через минуту печатная приставка к телевизору зажужжала и оттиснула четыре больших листа. Я схватил их. Они были похожи на рентгеновские фотографии. Только не внутренностей человека, а внутренностей города — домов, улиц, больших предметов. На крошечных контурах четырех автомашин стояли кресты. Их отметил Аллен.
И еще была представлена общая карта города с четырьмя крестиками. На всякий случай. Мой друг Аллен, как я и надеялся, сработал за службу безопасности Америки.
Боби явился почти мгновенно. Осторожно взял снимки. Долго их разглядывал. А когда я протянул листок с номерами машин, мне показалось, что на какое-то мгновение глаза шефа полиции увлажнились.
— Спасибо, Бари. — Он двумя руками крепко сжал мою ладонь. — Я этого не забуду!
— Снимки верните.
— Обязательно.
Он направился к выходу, но я окликнул его.
— Боби, может, мне присоединиться?
Он обернулся, хлопнул себя по лбу.
— Извините старого дурака, Бари… Конечно! Пойдемте… Вы разрешите? — спросил он Марию.
Я взял камеру, кивнул растерявшейся жене.
— Подожди немного. Ладно?
Мы поднялись на сотый этаж.
Шеф одним движением руки освободил комнату от присутствующих.
Он вызывал людей поодиночке. Советовался. Отдавал распоряжения. Командовал в рацию. Словом, работал.
Чисто внешне это была обычная полицейская операция, но я тщательно фиксировал каждое слово, каждый жест, выражение лиц, имея в виду важность цели. Уточнение районов, где зафиксированы машины. Готовность оперативных групп, укомплектовка их специалистами. Проверка местонахождения объектов. Обеспечение безопасности захвата.
Через несколько минут начали поступать короткие доклады. Боби слушал их с закрытыми глазами. Я понимаю, что он ждет главного: есть ли машины с названными номерами?
Докладывал дежуривший по городу сержант:
— «Шевроле» КЛ 17–91 белого цвета находится на указанном месте, шеф!
Боби вытер пот со лба.
— Спасибо, сержант. Не своди с него глаз. Молодец, что позвонил мне лично.
Боби обернулся, показал молча большой палец, бормотнул: «Он сорвал очко», — что значило: быть ему лейтенантом! И снова углубился в переговоры.
Информация Аллена оказалась безупречной. Все четыре машины стояли там, где их выудил из космоса Аллен: в самом центре Чикаго, именуемом Луп. (Луп — «петля». Здесь, в единственном районе, деловом, застроенном гигантскими небоскребами центре, сохранилась старая дребезжащая петля надземки, которую чикагцы называют «чертовой грохоталкой».)
Итак, «Шевроле», два «Форда» и «Ситроен» затерялись среди тысяч машин. Летающая платформа в первую очередь прочесала район Лупа, и можно было предположить, что машины с адским грузом в багажниках легко ускользнули от проверки, а теперь встали на заранее предназначенные места — возле самых крупных небоскребов. Кто мог знать, что именно эти машины представляют смертельную угрозу! В гараже Большого Джона был припаркован среди других оставшихся машин «Форд» с бомбой.
Боби вызвал помощников:
— Операцию назначаю на пятнадцать тридцать. Всем выехать одновременно. Груз доставить в помещение полиции. Здесь останется дежурить Гари.
Начальники групп исчезли.
Боби подошел ко мне. Лицо его было задумчивое, а глаза — лукавые. Кажется, он позволил себе чуть расслабиться.
— Что бы ты хотел сейчас, Бари?
— Я? Ничего… Побыстрее кончить съемку…
— А я бы хотел, чтобы ты стал самым, самым знаменитым…
Я рассмеялся:
— У меня есть имя!
— Я обещал удвоить гонорар… Все это, конечно, не то… Я очень хочу, сынок, чтоб ты был счастлив.
Я никогда еще не видел полицейских, произносящих такие речи, буркнул в ответ:
— На службе не полагается быть счастливым…
В половине четвертого мы, группа в восемь человек во главе с шефом, спустились в гараж, вышли из лифта с видом туристов. Тотчас из ниш возникли фигуры, бросились к машинам с пассажирами. Наша группа проследовала к серому «Форду» 447878.
Номер был указан Алленом.
— Сигнализация! — негромко сказал шеф.
Быстрые руки ощупали жестяную оболочку машины, словно футляр с драгоценностями.
— Багажник!
Осторожно вскрыт багажник.
Я успеваю протиснуть объектив между согнутыми спинами, чтобы запечатлеть объемистый саквояж. Щелкают замки. Внутри саквояжа — большая металлическая труба.
— Тихо! — шипит Боби. — Проверить радиацию!
Счетчик отчетливо щелкает, но Боби глядит на стрелку презрительно.
— Ти-хо!
Теперь, когда все затаили дыхание, слышен легкий перестук. Внутри трубы словно работает маленький домашний будильник.
— Всем отойти! — командует шеф. — Кроме Вейса и Бари.
Я снимаю крупно руки специалиста, отвинчивающего на трубе, как на термосе, обычную крышку и отделяющего часовой механизм.
— Кончено, шеф! — Вейс прячет механизм с проводами в сумку.
— Пошли!
Боби закрывает саквояж и сам несет тяжелый груз к лифту. Помощники стараются ему помочь, предостеречь от опасности… Но Боби есть Боби — отмахивается от всех медвежьей лапой: «Заткнись!.. Подожди!.. Рыба на крючке!.. Снимай, Бари! Все».
В разных районах Чикаго на оцепленных переодетыми полицейскими улицах происходит то же самое.
Глава восемнадцатая
Прощальный обед в «Джони».
Хотя эвакуация жителей заканчивается ровно в полночь, мы не одни в просторном зале. Десяток столиков неподалеку от оркестра заняты. Официанты на местах. Кухня работает. Оркестр создает привычную ресторанную обстановку.
Перед обедом я успел подготовить пленки для отправки в Лондон. Сжег снимки Аллена, стер в банке информации память о сделанном. Остался лишь финальный эпизод. Видимо, он назревал, так как шеф попросил меня захватить камеру. Я не стал ни о чем спрашивать.
— Хочу поднять тост за нашу неподражаемую Марию, за всех вас, господа, — провозгласил шеф, поднимая бокал и оглядывая нас — Марию, Нэша, Голдрина. — Честно говоря, я привык к вам, особенно к Бари. Я трезвый реалист и иногда считал Бари фантазером, так вот — однажды я почувствовал себя рядовым перед бывалым сержантом.
Я подмигнул Марии: мол, не придавай значения комплиментам этого старого лиса.
— Жаль будет расставаться, — заключил Боби. — Ваше здоровье!
Каждый понял тост по-своему. Кроме нас с шефом, никто в зале не знал, что взрыва не будет.
Ели молча. Чувство одиночества навевали печальные звуки оркестра. Я поглядывал на Марию и видел по глазам, что она понимает меня без слов: скоро мы будем вместе.
— Что они играют? — спросил шеф официанта.
— Кажется, «Ночь нежна».
— Это негритянский блюз, — пояснил Голдрин. — «Как ночь нежна… Но здесь темно…»
— Будет светлее… Бари, — шеф нагнулся ко мне, — сделайте вид, что снимаете наш стол, а потом — валяйте дальше…
Я поднялся, отошел, нацелился в лицо Марии. Она улыбалась мне.
— Еще шампанского! — громко попросил Боби, и в ту же секунду свет погас.
Что-то случилось на сцене. Оборвалась мелодия. Взревел какой-то инструмент. Послышались звуки падения, возня, крики и ругательства.
Зажглись люстры.
На сцене — финал полицейского детектива: победители и побежденные. Инструменты, ноты, пюпитры разбросаны по полу. В считанные секунды люди Боби, сидевшие неподалеку, надели на музыкантов наручники.
— Зачем это? — прозвучал в тишине глухой голос. Голдрин поднялся с места. Глаза его пылали.
Боби, не обращая на него внимания, подал знак, и полицейские повели оркестрантов прямо по проходу мимо нашего стола. Каждого арестованного сопровождали двое.
Первым вели композитора и дирижера.
— Рэм Эдинтон, — назвал его имя шеф.
Тот бросил в нашу сторону презрительный взгляд и громко сказал:
— Нет!
— Да, это вы, Эдинтон!
— Нет! — дерзко ответил Эдинтон, словно не был похож на свое изображение на афишах.
— Саймс… — медленно произнес шеф очередное имя.
А тот отвечал так же странно:
— Нет!
— Остерн…
— Нет!
— Далем…
— Нет!
Я мучительно соображал: что это — упрямое отрицание преступников или яростное «Нет!», которое писали в дни жаркого лета взбунтовавшиеся цветные на имуществе белых? Впрочем, не все ли равно, раз террористы схвачены и Большой Джон целехонек! Черт их разберет — эти дурацкие отношения в этой большой дурацкой стране!
Да, Боби знал всех в лицо. Всех двенадцать. Десять из них были цветные, двое белые! Но и они бросили презрительное «Нет!». Через несколько часов с помощью моей камеры их будет знать мир.
Лицо Боби было жестким, я бы сказал — даже страшноватым.
За период короткого знакомства мне казалось иногда, что чикагский шеф как бы сошел с ранних картин Нормана Рокуэлла, живописавшего почти три четверти века быт Америки. Не раз рисовал он добродушных, сильных, подтянутых полицейских рядом с любознательными и восхищенными мальчишками… Нет, Боби был совсем другим при исполнении служебных обязанностей. В одной из последних работ Рокуэлла четыре охранника ведут черную первоклассницу к школьным дверям мимо разъяренной толпы расистов (такой случай действительно был в Алабаме). Толпа на холсте не присутствует, не видны лица охранников, но их напряженные позы, шаг десантников, руки, готовые в любую минуту выхватить оружие, точно рисуют образ полицейского в самый напряженный момент. На стене — кровавое пятно от брошенного помидора.
Точно такое лицо сейчас у Боби. Неприятное выражение. Как будто он чует близкую кровь и сдерживает себя изо всех сил, чтобы предостеречь насилие.
Процессию замыкает Гари.
— Поднимите всех наверх и отправьте! — велел ему шеф.
— Теперь им отобьют легкие, печень… все… Так, шеф? — сказал Голдрин.
Шеф повернулся к нему.
— Теперь их, скорее всего, присудят к электрическому стулу…
Лицо Голдрина посерело. В эту минуту он искренне ненавидел Боби.
— В нашей стране, шеф, самый высокий процент смертных приговоров — это вам хорошо известно. Причем за счет негров. Вы увеличили этот позорный счет! Я всегда предполагал, что у вас стальное, стандартное сердце полицейского.
— Я свою работу, Голдрин, закончил, — пробурчал Боби. — Вы можете поступать, как вам угодно.
— Я иду спасать их от вашей Америки.
Голдрин с достоинством удалился, кивнув головой Марии. Она была бледна. Я предложил ей бокал вина, чтобы снять напряжение.
Объяснять сложную ситуацию отношений не было времени.
Последний кадр. Я сел напротив шефа полиции, поднял камеру.
— И все же, Боби, почему именно они? Как вы узнали, если не секрет?
— От вас, Бари, у меня нет секретов. И не будет! — Глаза Боби смеялись: наступила его звездная минута — минута настоящего отдыха… — Я проверил профессии всех, кто находится в Большом Джоне, и обнаружил крупного, несмотря на молодость, физика-ядерщика. Не менее знаменитого под другим именем в мире искусств!.. Да, да, Бари, это он самый — Эдинтон! Так что джаз-оркестр «Джони» под управлением Рэма Эдинтона и террористическая группа «Адская кнопка» — одна и та же компания. Дальше вы знаете сами.
Я поблагодарил шефа полиции, попросил его выделить человека, который отправил бы пленки на телестудию. Репортаж «Большой Джон, Чикаго» был завершен.
— Не беспокойтесь, Бари, — добродушно пообещал шеф. — Я продержусь не меньше часа в полной изоляции от гангстеров пера. Вы выйдете в эфир первым…
В номере я запаковал и вручил полицейскому пленки, дал телеграмму сэру Крису во «Всемирные новости». Через час, а то и раньше они могут начинать трансляцию репортажа через Би-Би-Си на весь мир.
Когда поднялся в ресторан, то заметил какую-то растерянность за столом.
Мария бросилась навстречу.
— Джон… Эдди… — Рыдания мешали ей говорить.
— Что? — резко спросил я.
— Неприятные известия, Бари, — услышал я голос Боби. — Эдди в больнице. Он, видимо, получил травму на тренировке. Сейчас все выясним… Не волнуйтесь.
После этих слов мне стало страшно.
— Немедленно летим в Голливуд. — Я взял под локоть Марию. — Успокойся… Спускайся вниз. Я на минуту — за вещами.
— Я провожу вас, — предложил Марии Нэш.
— Машину для мистера Бари! — сказал шеф официанту.
— Такси ожидает у входа, — почти тут же доложил официант и протянул Нэшу бумажку с номером.
Они ушли с Марией.
Я заскочил к себе — конечно, не за вещами, а позвонить в Голливуд. Схватил трубку. Боби из-за моей спины надавил пальцем рычаг.
— Не надо, Джон. Вот адрес больницы… Чувствует он себя неважно…
Я застыл, боясь обернуться.
— Он жив?
— Жив.
Здесь у меня случился провал в памяти. Впервые в жизни — абсолютная дыра в голове. Дальше помню каждый миг так отчетливо, будто видел тысячу раз пленку.
Мы идем быстрым шагом через пустой вестибюль. На плече камера, в руке — плащ Марии.
Я ускоряю шаг. Оглядываюсь на Боби: не отстает?
Вертящаяся дверь.
Пустое пространство, наполненное ветром.
У тротуара небольшая толпа вокруг такси.
Я бегу к толпе.
Люди оглядываются, расступаются.
Машина странно скособочена. Багажник словно вскрыт консервным ножом. Осколки стекла на асфальте.
— Мария! — кричу я и рву изо всех сил дверцу.
Кто-то ломом поддевает заклинившийся замок.
Мария лежит на заднем сиденье. Глаза ее открыты. В них застыли удивление и горечь. Лоб чистый и холодный. Кругом кровь.
Я снимаю.
Снимаю убитую жену.
Снимаю убитых шофера и Нэша. Руки мои в крови.
Боже мой, за что?..
Мария не должна быть здесь! И Нэш тоже… Здесь должен быть я! За что же их?
Как я не догадался? «Машина для мистера Бари…» Такси у дверей. Бомба — в багажнике.
Я беру Марию на руки, несу в Большой Джон.
ЭДДИ
Глава девятнадцатая
Гроб с Марией летел в Европу.
Я летел в Лос-Анджелес, к Эдди.
Телеграммы, поступавшие на самолет во время рейса, свидетельствовали, что Эдди борется за жизнь.
В больнице сначала я не узнал сына — увидел как бы восковую копию лица, бинты и гипс. У него были десятки переломов, сотрясение мозга; врачи опасались за позвоночник.
— Доктор, — сказал я врачу, оставшись с ним наедине, — я не пожалею никаких денег…
Он посмотрел на меня так, что я запнулся, забыл конец фразы. Наверное, о деньгах в этих стенах говорят все.
— Господин Бари, — спокойно ответил врач, — я надеюсь, что молодой организм победит… Но вы должны быть готовы к последствиям аварии.
Я готов. Готов, если потребуется, носить Эдди на руках.
Сын — это все, что у меня осталось.
— Он замечательный, настоящий герой, — накинулся на меня в коридоре худющий юноша.
— Кто вы? — спросил я.
— Я — его лучший друг… Простите, Гастон Эрве, — представился юноша.
Гастон был пилотом того самолета, из которого Эдди прыгал в копну сена. Наверное, в молодости закономерно становиться друзьями за несколько дней. Эрве описал все, что произошло со дня их знакомства. Тренировки проходили благополучно: Эдди открывал люк и прыгал из низко летящего самолета. Француз Гастон восхищался его мужеством.
— Понимаете, я виноват! — Гастон чуть не плакал, стуча кулаком в худую грудь. — Он почему-то замешкался, я кричу: «Прыгай!..» Он опоздал на какую-то долю секунды!
— Ты не виноват, — сказал я ему. — Не надо было затевать вообще это дело.
— А пара миллионов? — пробормотал Гастон. — Они на дороге не валяются…
Я ничего не ответил.
Он смутился, вспомнив, что жив и здоров, растерялся, не соображая, сколько же стоит подлинная человеческая жизнь.
Эдди так и не пришел в сознание, пока я находился в больнице.
Похоронили Марию на нашем мюнхенском кладбище, рядом с отцом. Народу было немного, в основном родственники.
Прилетел из Чикаго в черном котелке Боби. Я был ему благодарен за этот знак внимания.
— А где похоронили Нэша? — спросил я.
— В Дублине. Так решили отец и мать. Нэш был холостяком.
— Боби, отправьте, пожалуйста, телеграмму родителям от моего имени.
— Хорошо, Джон.
«Нэш, бедняга, ты так и не успел понять, что случилось. Не успел передать в номер свой последний репортаж. Это сделал за тебя я… Я, который должен быть рядом с Марией… Прости, Нэш…»
Боби выразительно кашлянул, вырывая меня из круга мыслей.
— Что, старина?
— Если вы разрешите, Бари, я найду их… — Голос его был строг.
Я хотел ответить, что справлюсь сам, но у меня перехватило дыхание, забилось сердце. Я увидел искореженную машину со вскрытым консервным ножом багажником.
— Я их найду независимо от хода следствия, — продолжал негромко Боби. — Вы понимаете меня? Вы мне доверяете, Джон?
— Спасибо. — Я целиком доверял Боби. — Буду ждать…
Стояли последние дни осени. Ветер гнал по асфальту хрустящие листья. Казалось, что навстречу бежит стая безумных мышей.
Участок привели в порядок. Поставили гранитную плиту с одним словом: «Мария». Вокруг посадили десяток рябин с тяжелыми красными гроздьями. Ты не видишь этого, Мария… Я не умею, как ты, изобретать прекрасное, но постепенно учусь у тебя. И буду учиться до конца своих дней.
Эдди был еще в больнице. Ввалившиеся черные глаза — на исхудалом лице остались одни глаза, — казалось, спрашивали: почему она, а не ты?
— Расскажи подробно, как это случилось, — всякий раз задавал он один и тот же вопрос.
Я повторял, стараясь быть точным, отпечатывая слова, как следы на снегу, ступая осторожно след в след.
Он обычно молчал, лежа с закрытыми глазами; я чувствовал, что Эдди не пропускает ни слова, прокручивая про себя всю картину — кадр за кадром. Единственный, о ком я не упоминал, был Аллен. Эдди словно не замечал логического провала.
— Повтори, — иногда перебивал он, — что делал этот тип…
Я повторял про какого-нибудь типа… И до конца не мог понять, какие подробности интересуют Эдди — технические или психологические.
— А ты? Ты-то как? — спросил я однажды. — Гастон мне говорил, но ведь он был за штурвалом…
Эдди поморщился:
— Просто трюк не удался…
Он опять замкнулся в себе.
Я стал рассказывать о доме, но пустой дом не интересовал сына.
Тогда я упомянул, что стал недавно владельцем «Телекатастрофы». Эдди оживился! Как это так? Томас Бак, видимо, потерял не только интерес к телебизнесу, но и лучшие свои кадры; к тому же он занялся военной коммерцией. Через своего адвоката он уступил мне права на зачахшую фирму за несколько миллионов. Не знаю, что побудило меня согласиться на сделку. Быть может, желание напомнить Баку, что я всегда был истинным хозяином «Телекатастрофы», производителем ее материальных и моральных ценностей.
— Ты снова будешь снимать? — Эдди даже попытался приподняться на подушке.
— Во всей фирме будет один репортер. Остальные — технический персонал.
— Этот репортер, конечно, ты.
— Конечно, я.
— И будешь снова летать в самые опасные места?
— Да.
— Будешь брать иногда меня с собой?
— С удовольствием.
И снова я уловил его немой вопрос: «Почему здесь ты, а не она?..»
Он вернулся домой в коляске. Врачи сказали, что Эдди не встанет больше на ноги, и он это знал.
Он вел себя, как мальчишка, окунувшийся в детство. Катил на резиновых шинах из комнаты в комнату и все спрашивал:
— А за этой дверью что?
— Спальная.
— Помнишь, я прогонял тебя с постели, а ты очень сердился.
— Но не очень, Эдди…
— Сердился, я знаю. — Он хрипло рассмеялся. — А здесь мы, кажется, играли в футбол?
— Да. Ты забил мне два гола.
— Три.
— Верно, три…
— Конечно, три… Неужели это У-у? — Эдди только что обратил внимание на маленького друга, который послушно топал за коляской. — Поди сюда, дружище! На, угощайся!
Он вынул из кармана горсть таблеток, протянул слоненку.
Тот взял осторожно с ладони хоботком и, принюхавшись, положил незаметно на стол.
Но Эдди уже забыл об У-у.
— Спусти меня, — попросил он. — Что-то прохладно.
Я обхватил коляску и отнес на первый этаж, к камину. Как легка была эта коляска вместе с сыном! Электромотор за спиной Эдди довез его до горевшего камина.
Я не узнавал его, вообще не мог понять, что этот человек с длинными волосами, пучковатой растительностью на подбородке, сломленный пополам собственным упрямством, усаженный навсегда в коляску, — этот поглощающий огромными блестящими глазами огонь очень странный юноша и есть мой сын. Но вдруг что-то неожиданно сработало внутри него, я услышал знакомый Голос, увидел не инвалида, а маленького Эдди.
— Расскажи, пожалуйста, какая была она…
Какая?
Я вспомнил письма Марии, которые нашел недавно в ее столе, приводя в порядок дом. Пачку неотправленных писем. Они были написаны двадцать с лишним лет назад, когда мы были рядом. Написаны мне. И не отправлены до сих пор.
«Милый, — писала Мария, — я счастлива, как никогда. Мы отправляемся в свадебное путешествие, и я хочу рассказать все, что думаю о нашей будущей жизни, потому что боюсь сказать вслух то, о чем мечтаю…»
Я принес письма Марии, стал читать их Эдди.
«Впервые в жизни рядом со мной человек, который не отстает от меня ни на шаг. Днем и ночью. Я в Риме, и он в Риме, я в море, и он в море, я на Олимпе, и он на Олимпе… Это, конечно, ты. Прости, я немного смущена новизной положения. Мне надо просто привыкнуть к тебе».
Мы бродили по свету, как студенты в каникулы: куда глядят глаза, на чем придется. С нашими скромными средствами это было естественно. Мы осматривали мир перед тем, как его завоевать.
От Мюнхена до Рима добрались на попутных машинах. В горах любовались восходом. Всю ночь ходили по Риму. И вырвались в море — к берегам древней Эллады.
Мягкая зеленая долина похожа на заброшенный сад. Мраморные колонны торчат из зелени, лежат, как поверженные колоссы, на траве. Холмы внезапно обрываются. Долину стережет голая мрачная гора, упирающаяся в небеса. Гора далеко от нас. Мы на дне зеленой чаши, накрытые сверху ярко-синей прозрачной крышей.
— Это и есть Олимп? — спрашивает сияющая Мария, косясь на гору. — Где же боги?
— Дыши глубже, — говорю я. — Они только что были здесь, пили амброзию. Чувствуешь?
Воздух такой ароматный, что его можно пить пригоршнями.
Я пью живительный нектар из ладоней Марии, она — из моих. Мария пристально оглядывает снежные вершины, словно на одной из них вот-вот может появиться сам Зевс. Хоть раз в жизни его надо увидеть! Если к вершинам небес, напомнил я Марии, прикрепить золотой канат и все боги возьмутся за него, они не пересилят Зевса, не опустят его на землю. А Зевс, если захочет, поднимет их всех вместе с землей вверх и привяжет к скалам Олимпа. Опасайтесь, боги: Зевс вспыльчив, а гнев его страшен!
— Мне кажется, он сегодня в очень хорошем настроении, — говорит Мария.
— Просто он занят делом, — поясняю я. — На золотых весах взвешивает судьбы людей и определяет одним счастье, другим несчастье.
— Нам, пожалуйста, счастье, господин Зевс, — обращается Мария к вершинам Олимпа. — Давай останемся здесь навсегда. Может, мы и в самом деле станем бессмертными.
Но даже такая заманчивая перспектива казалась нам чересчур практичной. Что-то было в ней от обмана, наживы, тщеславия — всех тех мелких желаний, которые в конце концов овладевают людьми. У нас была общая цель с человечеством: познать безграничный, меняющийся мир.
Как мы смеялись над стариком Гештом, который, угощая нас ужином в одном из греческих ресторанчиков, старательно подсчитывал, какое вино дешевле. Он и тогда казался нам стариком — еще при первой встрече. А вино все было дешевое, и вокруг звучала музыка, люди так естественно, искренне и непринужденно, забыв обо всем, погружались в песню, что мы непрерывно хохотали над нашим горбоносым покровителем. Мы не подозревали тогда, что это один из денежных королей, экономивший на каждой мелочи. В конце концов, он не мог не заметить наших издевательств и сказал, уперев длинный палец в звездное небо:
— Молодые люди, сейчас вы, возможно, этого не поймете, но каждый сэкономленный у Гешта цент кормит тысячи рабочих. Я хотел бы знать: что вы желаете от жизни, что можете предложить полезного в противовес мне?..
Мы с Марией кратко изложили свои планы.
— Я могу предоставить вам любую роль в Голливуде, — сказал Гешт Марии, слишком пристально разглядывая ее.
— Я не собираюсь быть актрисой. — Мария вспыхнула.
— Любую роль, — продолжал Гешт, — пока я не продал акции двух кинокомпаний…
— Считайте, что продали и уже вложили в более выгодное дело, — вмешался я не совсем вежливо.
— А вашу фирму я куплю, — Гешт повернулся ко мне, — когда она станет известной.
Мария засмеялась:
— Нельзя купить то, чего нет, Гешт.
— Даже если очень хочется, Гешт, — добавил я.
И мы хором закончили:
— Экономьте, Гешт!
Гешт махнул официанту и заказал самое дорогое вино и десерт.
— Отныне вы мои должники! — объявил он сердито. — Я транжирю деньги, не понимая, зачем мне это…
Он и в самом деле записал нас в должники: каждый раз при встрече напоминал о невольном расходе. Наверное, надеется получить солидные проценты за эти двадцать с лишним лет. Как мы смеялись над ним в тот вечер!
«Милый мой, меня страшит твоя «Телекатастрофа», — писала в одном из писем Мария. — Ты хочешь состязаться с самим Зевсом, делать репортажи о его громах и молниях. Но он же страшен в своем гневе, ты сам говорил. Вспомни Прометея. Я столько раз перечитывала Эсхила. Вот строки последнего монолога Прометея:
Земля закачалась, Гром грохочет, в глубинах ее глухим Отголоском рыча. Сверкают огнем Волны молний. Вихри взметают пыль К небу. Ветер на ветер идет стеной, И сшибаются, встретившись, и кружат, И друг другу навстречу, наперерез Вновь несутся. И с морем слился эфир. Это явно Зевса рука меня Буйной силой силится запугать.Через три строки трагедия кончается авторской ремаркой: «Удар молнии. Прометей проваливается под землю».
Зачем тебе это, Джон? Ведь именно к нам Зевс в то утро был так добр… Тебе не страшно за меня?..»
Последнюю фразу я проглотил. Оглянулся с тревогой на Эдди. Он полусидел-полулежал в каталке с закрытыми глазами.
Внезапная мысль поразила меня: неужели именно тогда все началось? Отъезды Марии, мои броски из одного конца света в другой, одиночество Эдди… Неужели все случившееся — вызов террористов жителям небоскреба, приезд Марии, взрыв машины, — было запрограммировано со дня рождения «Телекатастрофы»? Неужели Мария все это предчувствовала?
Еще одна строка удивительна в письме: «У нас будет ребенок, Джон. Сын».
О сыне мы говорили иногда целыми ночами. Рисовали его будущее. Распределяли роли. Я никак не мог представить его лицо. Видел лишь фигурку в клетчатом пальто — и все. Наверное, потому, что сам носил в детстве серое клетчатое пальто.
— Слушай, — сказал Эдди, когда я закончил письмо, — ты не мог бы показать свой последний репортаж?
— Не могу. У меня нет пленки, — соврал я.
— Жаль. Спокойной ночи, отец! — Он покатил к себе.
Ночью меня разбудил крик.
С Эдди случился приступ.
Медсестра, встретившая меня на пороге, с испугом указала на разбитый телевизор. Я сразу понял: Эдди отыскал репортаж и смотрел его.
— Рожи! — кричал Эдди, извиваясь в кресле. — Черные рожи! Они убили мать!
— Успокойте его! — сказал я сестре.
Мы провели ночь возле Эдди. Он то и дело вскрикивал, начинал тяжко дышать, пытался вскочить. Без матери я никак не мог успокоить его: не знал нужных слов, прикосновений, всего, что требуется заболевшему мужчине.
Наконец я задремал. И тотчас пробудился.
Вот он: я увидел своего врага и покровителя — Зевса!
Он сидел на золотом троне, головой упираясь в потолок, плечами занимая всю стену. В вытянутой левой руке держит богиню Победы, правой оперся о жезл с золотым орлом. Золотой плащ прикрывает бедра и ноги, обнажает мощную грудь великана. Буйные кудри, перехваченные золотым оливковым венком, обрамляют полное величия, красоты и покоя лицо.
Человек-бог пристально смотрит на меня.
Я вскакиваю с места, и статуя Фидия, одно из семи чудес света, превращается в дремлющую сиделку.
Глава двадцатая
К счастью, Эдди не интересовался ни прессой, ни телевидением.
Американские и мюнхенские газеты буквально помешались на деле «чикагской дюжины», как окрестили арестованных террористов. Гибель Марии и Нэша описывалась во всех подробностях как месть террористов за сорванное дело. Меня осаждали звонки из редакций и телестудий, но я отказывался давать какие-либо комментарии.
Человека, нажавшего кнопку и взорвавшего машину, найти не удалось.
Позже дюжину окрестили «чертовой», имея в виду тринадцатого, недостающего преступника, и «черной дюжиной». Вспоминались преступления, совершенные цветными. Им приписывались все на свете грехи. Никто уже не вспоминал, кроме, разумеется, следователей, что среди террористов «Адской кнопки» двое белых. Мир окрасился в контрастные черно-белые тона. Неприметный для глаз, разъедающий сознание обывателя расистский угар навис над Америкой.
Как обычно, на шумной истории, на чужом горе зарабатывались большие деньги. Несколько фирм выбросили в продажу дорогие черные платья «Мария» — последнюю модель жены, которую она нашла в далеких горных поселках Испании. В магазинах вывесили портреты Марии, дамы одевались в крестьянский траур из натурального шелка. Мой адвокат подал в суд на торговые фирмы, однако продажа модных платьев не прекратилась, так как моделью владела редакция «Супермода»; портреты сняли.
Сенатор Уилли, баллотировавшийся в президенты, выступил в столице Алабамы Монтгомери с пространной речью. Исходной точкой он избрал дело всем известной дюжины и, называя меня своим личным другом, советовал всем последовать моему примеру: бежать из перенаселенных городов на природу — в заснеженные пустыни, к подножию просыпающихся вулканов, к кукурузным и хлопковым плантациям. Алабамские магнаты черной металлургии и текстиля аплодировали оратору. Смысл призыва был чересчур прозрачен: цветным, мигрировавшим в последнее время в города, надлежало вернуться на свои природные рубежи — в шахты, рудники, на плантации — туда, где было их место.
Грозный, косматый Уилли, как всегда, гремел, бросая в микрофон тяжелые фразы-глыбы, но теперь он напоминал мне не Линкольна, а разъяренного быка. Я знал механику составления предвыборных речей, но не предполагал, что борец за сохранение природы так быстро сменит свое амплуа. Впрочем, в следующей речи он мог пламенно говорить о негритянских гетто и исчезнувшей форели. Где-то в доме валялась телеграмма с выражением соболезнования от сенатора; я ее в свое время не дочитал: в ней было слишком много длинных фраз.
Что-то беспокоило меня во всей этой словесной кутерьме по поводу «черной дюжины», но что — я не мог понять. Иногда задумывался: кто они — те, кто хотел сыграть на моем убийстве? В памяти всплывала дурацкая фраза: «Джон отвечает за Джона». Большой Джон остался целехонек, я — тоже. Нет, все слишком театрально, запутано, а на самом деле, наверное, просто.
Позвонил Боби.
Он сказал:
— Не обращайте внимания на писак, Джон, вы их знаете. Слушайте новость. В Лос-Анджелесе арестован один тип. Есть подозрение, что он причастен к взрыву машины. Расследование ведет мой старый приятель. Он простак на вид, но действует, как лисица, ползущая к курице. Словом, разговор не телефонный. Положитесь на меня, старина.
Боби я доверял полностью. И этому «простаку», который подкрадывался к убийце, как лисица к курице.
Я вылетел в Чикаго.
И все же с аэродрома поехал не в полицейскую управу, а в тюрьму. Губернатор по телефону разрешил мне свидание с Рэмом Эдинтоном. Я должен был увидеть этого человека, заглянуть в его глаза.
Он не был похож на прежнего элегантного музыканта. Передо мной стоял обычный преступник в полосатой одежде с одутловатым серым лицом. Прежними оставались лишь горящие умные глаза.
Мы молча смотрели друг на друга.
— Я знаю, зачем вы пришли, — прервал молчание Эдинтон. — Можете поверить мне: мы не взрывали машину.
Я и сам понимал, что не он убил Марию. Вспомнил подробности того дня. Сел на табурет, застыл в оцепенении.
— Поймите, Бари, мы не террористы. У нас совсем другие цели, — до моего сознания с трудом дошли слова Эдинтона.
Я медленно поднял голову. Кровь бросилась в лицо: этот черный бандит мнит себя революционером? Теперь-то я понимал ненависть белых американцев!
— Вы убийца! — крикнул я. — Понимаете, убийца! «Освободить двадцать пять миллионов заложников…» Какой ценой? Ценой миллионов других жизней?!
Лицо негра окаменело: перед ним был стандартный белый.
— Вы либо сумасшедший, либо болеете неизвестной человечеству болезнью! — бросил я ему в лицо.
Негр молчал. Казалось, он размышляет, стоит ли отвечать белому.
— Да, я убийца, — неожиданно спокойно сказал он. — Я убийца потому, что они убивают первыми.
Он с треском разорвал рукав куртки, и я увидел знакомую татуировку — букву «Н».
— Все, что осталось от моего младшего брата… Они выстрелили ему в лицо!
— Нонни? — спросил я тихо.
— Вы помните? — Голос его дрогнул, глаза увлажнились, и мне до боли вдруг стало жаль этого человека.
Так я и знал. Полицейский утверждал, что мальчишка состроил ему гримасу и ударил битой. Нонни смертельно испугался, увидев полицейского; это была гримаса ужаса. А гримасы достаточно, чтобы нажать курок.
Когда запылали негритянские кварталы, Эдинтон остался один: в огне пожара погибли его мать и отец. Он дал клятву отомстить. Он смутно помнит события тех бешеных месяцев. Огонь, взрывы, выстрелы, пепелища, трупы — все перемешалось в памяти. Он уцелел.
Но вот страсти поутихли, горячее лето сменилось теплой осенью, экономический спад прошел. Цветных стали принимать на работу. Эдинтон понял, что только одним словом «нет» ничего не добьешься. Что может сделать восемнадцатилетний ободранный «ниггер»?
Он окончил физфак Принстонского университета, возглавил лабораторию в ядерном институте, объединил вокруг себя талантливых единомышленников.
Эдинтон рассказывал о себе спокойно, но потом не выдержал, перешел на крик:
— Они стреляли без предупреждения! Подлюги, грязные убийцы! Слишком быстро шел — убит!.. Слишком медленно ехал — убит… Говорил с другом на улице — в спину… Играл с товарищем — в упор, в лицо… О Нонни, Нонни!.. — Он бросился на койку, тут же вскочил, подошел вплотную ко мне. Глаза его горели. — Мы вас предупредили, всех честно предупредили… Мы не убивали вашей жены, Бари. Но взорвали бы с корнями этот расистский город. И вас, Бари, тоже…
Он стоял передо мной со сжатыми кулаками.
— Зачем вы втравили меня в эту историю? — крикнул я ему.
Он расслабился, опустил руки.
— Что вы имеете в виду?
— «Джон отвечает за Джона». И прочую чепуху!
— Извините нас, Бари. Это мальчишеская выходка, дань традиции. Простите, я не предвидел, что кто-то воспользуется нашей промашкой — захочет вам отомстить.
И я тоже хорош — попался на крючок традиционной рекламы, почувствовал себя героем, спасителем, разыгрывал разные действа, вместо того чтобы бежать из этой сумасшедшей страны.
Я повернулся к двери.
— Скажите, Бари, — услышал я сзади, — что бы вы сделали, если бы были негром?
— Взорвал бы все к чертовой бабушке!
Эдинтон усмехнулся.
Боби встретил меня в своем кабинете в рабочей форме, с кольтом за поясом. Он усмехнулся, перехватив мой взгляд.
— Не каждый день имеешь дело с такими интеллигентами, как наши оркестранты.
Я рассказал Боби о встрече с Эдинтоном.
— Знаю, — усмехнулся он. — Да, в Чикаго разные типы. В том числе недавно был Крафт, и где-то остались его хозяева.
Его звали Крафт — человека, взорвавшего такси.
Харви Крафт, тридцати трех лет, из семьи со средним достатком, поступивший в Калифорнийский университет, но так его и не окончивший. В университете отличался пристрастием к огнестрельному оружию и жестокостью по отношению к новичкам.
Бросив университет, бездельничал, много пил, влез в долги. Занимался буксировкой для полиции автомашин, оставленных в неположенном месте владельцами. Женился на миловидной медсестре, с которой был знаком раньше, когда недолгое время работал водителем «скорой помощи». Хорошо зарекомендовал себя в питейных заведениях: здоровый парень — ростом почти два метра, весом около ста килограммов — выпивал сколько захочет. Охотно беседовал с посетителями, намекал о связях с мафией, предлагал разные мелкие услуги. Приятели считали его болтовню плодом хмельной фантазии, полиция смотрела на него как на одного из городских подонков.
Вот он — типичный подонок в темных очках и полосатой майке. Фото сделано в питейном заведении «Айвенго», любимом пристанище Крафта. Я знаю этот район Лос-Анджелеса. «Дно» отверженных, где можно переспать на любой лавке, прикрывшись газетой, где человек чувствует себя королем, если у него есть возможность заглянуть в «Айвенго». Это всего в двух-трех кварталах от лос-анджелесского Бродвея, недалеко от Бульвара закатов с потускневшими рекламами Голливуда, в десятке миль от теплого океана, золотых пляжей, дорогих отелей и вилл таких богачей, как Файдом Гешт. Впрочем, милями и кварталами здесь оцениваются расстояния, а сами районы гигантских особняков и трущоб бедноты далеки друг от друга, как галактики.
В тот день Крафт сидел по обыкновению на своем месте в «Айвенго». Пил он клюквенный сок, что несколько удивило бармена. Чуть позже его позвали к телефону. Разговор был короткий. Бармен видел, как Крафт сел в такси и исчез на неделю.
Он приехал домой, взял саквояж и направился на аэродром. По дороге заехал в магазин, купил модель самолета и радиоустройство для управления ею.
— Помните разговор со старой американкой? — прервал я Боби. — Она недаром опасалась игрушек.
— Я тотчас же дал поручение регистрировать всех покупателей передатчиков, — ответил полицейский. — Крафта запомнили. Впрочем, он и сам не отрицает. Говорит, что купил подарок для сына своей чикагской знакомой Лили.
— Вы нашли ее?
— Конечно.
Лили Оуэн, тридцатилетняя разведенная женщина, знакомая с Крафтом по бару «Айвенго», в последние годы прожигала жизнь в Чикаго. Средства к существованию у нее были: отец ворочал миллионами в электротехнической промышленности. Подарок до ее сына не дошел. Крафт уверял, что забыл игрушку в такси. Передатчик, однако, он взял с собой.
В гостинице «Импириал», неподалеку от Большого Джона, Крафт провел более суток, не выходя из номера. Затем вызвал по телефону приятельницу, и они уехали в загородный мотель. Крафт сыпал деньгами и не скрывал, что заработал сто тысяч за одну минуту. Через несколько дней он вернулся домой, на свое место в «Айвенго».
Я вскочил: сто тысяч! Так не по-человечески жестоко и примитивно оценены три жизни! Подавил в себе желание мчаться в Лос-Анджелес, ворваться в тюремную камеру, уничтожить, задушить, убрать с лица земли подонка. Впрочем, что это даст? Прошлого не вернешь…
— Что говорит ваш приятель «лисица»?
— А-а, Махоланд. — Боби усмехнулся. — Для преступного мира он крепче и ядовитее ста акров чеснока… Так вот, он утверждает, что такую дубину, как Крафт, давненько не встречал на большой дороге…
Махоланд пришел к выводу, что Крафт даже не слышал о взрыве машины. Через третье лицо — то ли Мини, то ли Мики — он получил простое задание, сулившее немалый заработок. Когда его подозвали к телефону в «Айвенго», услышал в трубке: «Открывайте счет в банке!» Вылетел в Чикаго и сутки дежурил в ожидании звонка. Наконец, незнакомый голос произнес в трубке: «Это кредитор. Вы готовы? Через несколько минут позвоню еще раз. Тогда включите».
Звонок — Харви Крафт, не задумываясь ни о чем, нажал кнопку.
Портье принес ему ключ от сейфа. Крафт достал оттуда чемоданчик, убедился, что он полон крупных купюр, переложил в свой саквояж и решил «обмыть» вместе с приятельницей. Дальнейшие события он помнит смутно, поэтому отрывочную информацию, полученную от Лили о том, что Крафт ей наговорил, опытный полицейский сыщик сумел развить в стройную теорию.
Крафт не отрицал фактов, но не соглашался с выводами. Он понимал, что найти других участников полиции вряд ли удастся. Самоуверенный и спокойный, он смутился один лишь раз — когда услыхал имя своей подружки.
«Это была шутка, шеф, — прохрипел он в ответ на обвинение. — Неужели вы доверяете болтливым бабам?»
Такой кретин, по мнению видавших виды полицейских, мог взорвать и Большой Джон, и весь Чикаго. Все зависело от суммы платежа.
Человека, который положил бомбу в багажник, обнаружить было невозможно. Боби и его лос-анджелесский коллега сходились на мысли, что для этого требовалось перетряхнуть всю местную мафию. А на такое решится не каждое управление полиции.
— Махоланд знает одного преуспевающего дельца, на совести которого по крайней мере восемь убийств, однако он спокойно разгуливает на свободе, — заметил Боби.
— Могу помочь вашему товарищу. — Я протянул собеседнику кассету. — Вот послушайте.
Это было звуковое письмо мистера Юрика. Он сообщал, что срочно вылетает на Камчатку наблюдать пробудившийся вулкан, поэтому не может передать мне лично важную запись, посылает ее почтой. Запись сделана в доме Гешта, где Юрик находился в день взрыва. Далее следует истерический крик, звучавший в моих ушах вот уже несколько дней: «Не он, не он!.. Болваны! Тупицы! Скоты!..» И — глухой звук упавшего тела.
Юрик ужинал у Файдома Гешта, когда диктор телевидения объявил о покушении на известного репортера. Гешт вскочил, уставился в экран. При упоминании Марии лицо его исказила гримаса. А дальше он успел выкрикнуть те самые слова:
— Не он, не он!.. Болваны! Тупицы! Скоты!..
Его уложили в постель. Он бормотал бессмыслицу.
— Ценный свидетель, — сказал Боби.
— Вы опоздали. Он умер. В тот же вечер…
Юрик, проанализировав бормотание старика, пришел к выводу, что тот замешан во всей истории и умер от огорчения.
— Он вас ненавидел, старина? — спросил Боби.
Я пожал плечами.
— По-моему, он ненавидел всех. И получал особое удовольствие от близости чужой беды.
Я вспомнил, как Файди появился в Большом Джоне, как аппетитно обедал в ресторане. Не хотел ли он лично убедиться, что я там, на месте происшествия? О внезапном приезде Марии он, конечно, ничего не знал.
— Сумасшедший старик, — пробормотал шеф.
— Обыкновенный миллиардер, — подтвердил я.
— Если не возражаете, я направлю копию записи Махоланду, — предложил Боби. — Для него это интересная ниточка.
— Гешт мертв, — напомнил я.
— Ничего, Махоланд сумеет допросить и мертвого.
Мы поужинали с Боби в торговой бирже, принадлежавшей семейству Кеннеди — тому самому, которое когда-то готовило для страны президентов и теряло их одного за другим. Большой Джон высился неподалеку, в ветреной ночи, освещаемой карусельной пляской реклам, но для меня он был призраком прошлого.
— Куда держите путь, Джон?
— Домой, а оттуда в Африку. Там несколько стран умирает от засухи. Говорят, земля похожа на лунную пустыню.
— Я видел такую землю, — медленно сказал Боби. Он нагнулся, заглянул мне в глаза. — Не удивляйтесь, Бари, я сам жег ее…
Я наблюдал за ним. Он продолжал:
— Помните, я говорил, что воевал во Вьетнаме? Кое-кто и сейчас считает меня чуть ли не героем, а я, Бари, занимался тем, что жег все живое…
Он хрипло рассмеялся.
— Взлетаешь на рассвете… Настроение боевое. Машина мощная, почти неуязвимая, ты — сверхчеловек. Тебе принадлежат земля и небо, только небо — целиком твое, а земля пока чужая — глухие зеленые заросли… Но вот нажимаешь на кнопку, и вниз летит лихое изобретение человечества — бомба сверхкрупного калибра с кличкой «косилка маргариток». Раз — и в джунглях большая дыра, «косилка» скосила все вокруг — деревья, хижины, людей, выжгла все и оставила абсолютно пустое место. Посадочная площадка готова… И вслед за тобой летит армада вертолетов с десантом карателей… Каково, Бари, а?
До сих пор я не видел у шефа чикагской полиции такого выражения лица. Черты его заострились, глаза светились по-молодому жестоко, кожа отливала металлом, — чем-то напоминал он хищный профиль армейского вертолета. Прошло некоторое время, прежде чем Боби стал самим собой.
— И сейчас не могу забыть, — сказал он. — Иногда, особенно по ночам, мне кажется, что я сжег собственное детство.
Дал совет на прощанье:
— Будь осторожен, Бари, на выжженной земле. Она мстит человеку…
В Мюнхенском аэропорту меня ждал сюрприз: какие-то молодые люди встретили у трапа, подвели к длинной черной машине. «ЭДДИ» — бросились в глаза крупные буквы на лакированном борту. За рулем сидел Эдди. Я не успел сообразить, что произошло, как мы помчались по магистрали.
Скорость была огромной. Город стремительно летел навстречу, расступаясь массивными домами, и скачками перемещался за спину. Впереди машины мчались на мотоциклах приятели сына в черных куртках. Все это напоминало знакомый кинематографический сюжет.
Я заметил, что шоферское сиденье аккуратно вырезано и Эдди вместе с креслом-каталкой вставлен в эту дыру, прочно опутан ремнями.
— Тебе не больно? — спросил я сына.
— Я на своем месте. — Он улыбнулся — совсем как в детстве. — Ты удивлен? Я взялся за дело!
Мотоциклисты и машина неслись на красный свет.
Завизжали тормоза.
Мы проскочили под самым носом сворачивающих в сторону, отчаянно тормозящих автомобилей, с прилипшими к ветровым стеклам бледными лицами водителей, рассекли на две извивающиеся части бурный поток машин.
Я на мгновение похолодел.
Эдди смеялся.
Глава двадцать первая
Если верить газетам, Западная Европа, как осоловевшая бюргерша, купается в молоке. Излишки молока спускает в реки.
Европа соблюдает диету: по утрам пьет томатный или фруктовый сок и сбрасывает в море, на свалку, помидоры, лимоны, апельсины, яблоки, картофель.
Европа, если верить статистике, питается сытно и рационально. В холодильниках скопились порошковые озера яиц и молока, небоскребы масла, горы мяса. Все это — «на черный день», о котором никто толком не знал.
Европа живет обычной жизнью, не желая делиться достатком с теми, кто ежедневно недоедал, — не только на дальних континентах, но и в своих странах. Попробуй раздай бесплатно излишки продуктов — и тогда рухнет основа основ этого мира. Банки перестанут считать доходы, генералы лишатся военных ассигнований, строители холодильников и молочных заводов останутся без заказов, доходы фермеров упадут — словом, наступит, настоящий хаос. Главное условие в этой экономической игре — не допускать снижения цен. Почему капуста должна дешеветь, если год от года дорожают сырье, энергия, машины, холодильники? «Именно поэтому уничтожение продуктов питания будет наблюдаться и впредь». Эта абсурдная логика принадлежит не мне, а совещанию европейских министров.
А наша распрекрасная Америка?
В ее закромах — звезднополосатых и кленово-красных — хранится треть зерна планеты. Этого хлеба хватило бы на голодающих.
Но сытая Америка объявила свой хлеб важнейшим стратегическим оружием.
«Мы в положении генерала, который наблюдает за ходом боя и может вводить свежие резервы», — заявил один высокопоставленный чиновник.
Хотел бы я знать, что скажут эти стратеги, когда увидят глаза умирающих от голода сахельских детей! Как объяснят они, против кого направлено их новейшее оружие, издревле называемое хлебом? Какую битву они выигрывают? Впрочем, ничего они не скажут. Они не умирают — живут!
Вот уже больше недели я пробираюсь по новой пустыне планеты — Сахелю, району, расположенному южнее пустыни Сахара. Шесть африканских стран объединились в Федерацию, чтобы совместно преодолеть общую беду и начать новую жизнь. Начало выглядело весьма мрачным: и в прежние годы эти засушливые страны не были избалованы дождями, а сейчас на выжженных солнцем огромных пространствах умирали миллионы людей. Умирали от голода, жажды, болезней.
Солнце здесь особенное: плавит песок, испаряет до дна озера и реки, покрывает твердой коркой болота, обугливает деревья. По совету коллег, работающих в пустыне, я облачился в защитный костюм, какой носят работники атомных станций и полигонов, — иначе кожа через несколько дней покрывается ожогами и язвами. Передвигаемся мы на грузовом вертолете, который везет джип и экспедицию из трех человек.
А люди бредут через пустыню пешком под обезумевшим солнцем. Они потеряли свой скот, для которого нет корма, покинули родные места, двинулись в путь в поисках воды и пищи.
Снижаемся, заметив облачко пыли. На машине догоняем кочевников.
Несколько десятков африканцев, в основном старики и старухи, медленно идут по раскаленному песку, не обращая на джип никакого внимания. У них остались два тощих верблюда. Сидящий за рулем Нгоро, сотрудник министерства информации, что-то кричит идущему впереди высокому старику в цветастых тряпках. Тот не отвечает.
— Туареги, — говорит Нгоро, — очень гордый народ.
Я беру крупный план. Лицо старика похоже на кусок горы. Водопады времени прорубили на нем глубокие складки. Солнце высушило, побелило бороду. Глаза устремлены за горизонт.
— Их было пятьсот, а осталось, видите, сколько… — Нгоро повернулся ко мне. — Вы, мистер Бари, снимаете, возможно, последних туарегов. Племя погибает, детей уже почти нет…
— Что они едят?
— Толченую кору и листья… Кожу палаток…
Я протянул вождю флягу с водой. Проворная женская рука схватила ее, спрятала под одеждой. Старик прошел мимо, не останавливаясь.
Нгоро что-то объяснял кочевникам, указывая на восток.
— Там лагерь для беженцев, — сказал он. — Три дня пути. Там есть колодец.
Внезапно небо стало тускнеть, из бледно-голубого превратилось в грязно-серое. Ударил в глаза, захрустел на зубах песок. Приближался пустынный смерч. Джип развернулся, направился к видневшемуся вдалеке вертолету. Туареги медленно скрылись в тучах пыли.
Фары с трудом пробивали летящий песок. Видимость приближалась к нулевой. Машина остановилась.
Не знаю, сколько прошло времени, пока стало снова светлеть. Начали откапывать колеса. Песок был всюду — покрыл сиденья, наполнил карманы, сыпался из складок одежды.
Летчик включил мотор, мы сориентировались по звуку, подъехали к вертолету.
С высоты было видно, как голое плато захлестнули волны песчаного прилива. Одна безжизненность сменилась другой.
— Почему вы не перебрасываете людей на вертолетах? — спросил я Нгоро, помня, что он чиновник нового министерства.
— У нас слишком мало машин. Не хватает для подвозки медикаментов и продовольствия. Впрочем, — Нгоро смутился, махнул рукой, — лекарств тоже очень мало.
— Но ведь здесь, — я указал вниз, протыкая пальцем пески, — здесь все есть! Стоит только продать, и у вас будут продовольствие, техника, больницы.
Нгоро покачал курчавой головой.
— Вы видели вождя туарегов? — твердо сказал он. — Он дойдет сам… Кто выживет — победит!.. А нефть нужна нашим народам. Мы сами будем строить! — Мой маленький спутник дерзко смотрел мне в глаза.
Чем-то напомнил он мне сына. Я сам! — такой же упрямый и простодушный. Я улыбнулся.
— Скоро здесь будут сады и поселки! — Африканец радостно улыбнулся в ответ. — Приезжайте и увидите!
В тот момент я почти поверил мечтам Нгоро. Но уж слишком безнадежно безжизненной была его земля. От лунной поверхности ее отличало лишь отсутствие кратеров. Чем дольше я наблюдал землю Сахеля, тем более подробно вспоминал рассказ Боби о безжизненной земле Вьетнама. Только здесь жизнь, всяческое ее проявление уничтожало слепое к людскому горю светило; там же — люди.
«Косилка маргариток» была чистой, почти аристократической работой для американцев. Заметь это, Джон, — жестко чеканил Боби. — Ну, что мы, в конце концов, сжигали? Отдельный лес. Каучуковую плантацию. Банановую или манговую рощу. Фруктовый сад. И — только! В радиусе до километра полностью и на площади в восемьсот гектаров — весьма заметно… Но за нами — ты не военный человек, Джон? — за нами летела саранча…»
Я человек не военный, но прекрасно представляю крылатую двуногую саранчу. Все оставшееся живое зеленое пространство подвергалось обработке сверху ядохимикатами, закупленными Пентагоном в Европе. Концентрация ядов, которыми травят обычно вредителей полей, была увеличена в двадцать пять раз. Погибли леса, рисовые заросли, птицы, рыбы, женщины, старики, дети.
«Ты не думай, что я хочу объявить что-то сенсационное! — слышу я голос моего чикагского приятеля. — Мы воевали с флорой, понимаешь — с флорой. А все остальное меня не касается».
— Что же тогда, по-твоему, флора? — спросил я.
— Ну, это природа в целом, — уточнил Боби.
— Больше не имею вопросов.
А он рассказывал, как внизу орудовали «пожиратели джунглей». Это военно-инженерные войска с тракторами, оснащенными стальными ножами. «Римские плуги» срезали всю растительность вдоль военных дорог, а назывались они «римскими» потому, что были произведены в американском городе Риме штата Джорджия.
«Если бы я знал, кто их изобрел, то после войны попытался бы побрить бульдозером эту римскую фирму… И не только я. У всех нас было такое настроение».
Я понимал Боби прекрасно.
«Пожиратели джунглей» трудились внизу, а наверху готовились операции с другими кодовыми названиями. «Поп-ай» — это самолеты в новой для себя роли воздушных сеялок: самолеты резвятся в облаках, сеют и сеют кристаллы. «Поп-ай»! — сгустились над городом тучи, хлынул дождь, разогнал демонстрантов быстрее, чем слезоточивые газы… «Поп-ай»! — и ливнем снесено в реку несколько деревень вместе с жителями… «Поп-ай»! — и полились кислотные дожди…
А вслед за первыми опытами — грандиозная затея в долине Красной реки: водопады воды с небес, искусственное наводнение…
Исковерканная земля — выжженная напалмом, протравленная ядами, изрешеченная воронками, заболоченная ливнями — долгие годы приходит в себя. Смерть слишком часто парила над этой страной, слишком много оставила ран и шрамов. Впервые во Вьетнаме велась война на тотальное уничтожение природы и человека.
— Оружие Зевса — так называлась в секретных бумагах климатическая война. Запомни эти слова, Джон, — сказал мне Боби, проклявший свою боевую юность.
Я представил статую Фидия: бога-гиганта, распоряжавшегося судьбами людей. Когда-то мы с Марией пытались встретиться с Зевсом у подножия Олимпа. Как давно это было…
— Эсхил осудил Зевса, — заметил я, — считая его неограниченную власть беззаконной.
— Эсхил не представлял наше время, — пробурчал шеф. — Зевс — мальчишка перед Пентагоном, а его молнии — спички в сравнении с ракетами. Это так, историческое сравнение, старина…
Ночью из сахальской пустыни я вызвал Аллена, поболтал с ним, рассказал, чем занимаюсь.
— Не нравится мне это, Жолио, — заметил Аллен. — Береги себя.
— Я здесь гость — приехал и уехал. Детей жалко, Вилли.
— Детей всегда жалко. Вот что, Жолио, измерь-ка рентгеновское излучение солнца. А я взгляну со своей высоты. Есть кое-какие подозрения…
— Хорошо.
В соседней палатке спал, свернувшись калачиком, Нгоро. Ему снились сады и луга.
Вечером мы заехали в первую попавшуюся на пути деревушку. Нгоро обошел хижины. Младенцы до двух лет умерли. Более половины детей болели корью. Врач был три недели назад. Крестьяне доедали семена, которые власти раздавали для посева.
Нгоро дал радиограмму в центр: «Положение стабилизируется». Когда я его спросил, что это значит, он серьезно ответил: «Мне надоело давать бесполезные депеши: «срочно требуется». В центре поймут правильно: положение стабилизируется, потому что все, кому угрожает смерть, скоро умрут».
Аллен, услышав от меня эту историю, решительно произнес:
— На следующем витке я займусь анализом атмосферы над Сахелем… Как там Мария?
Я опешил от вопроса. Значит, он не слышал, даже не подозревает?
— Ничего, — сказал я тихо.
— Привет ей!
— И тебе…
До рассвета ворочался на солдатской койке в душной ночи, думал об Эдди. То, что он пробудился к жизни, замечательно, но опять выбрал странное увлечение. Гигантский гоночный автомобиль, куда вкатывалась коляска, автомобиль в окружении черных мотоциклистов, не соблюдавших правил движения, наводил страх и тоску на всю округу. Соседи, знавшие Эдди, понимали, что парень мечется от внутренней боли, но кто из водителей хотел, чтобы его малолитражку насквозь пробил заостренный, как зуб, бампер «бешеного Эдди».
Длинноволосые мотоюнцы избрали Эдди своим кумиром. Его имя украшало куртки, шлемы, номерные знаки. Эдди научил их такому трюку: на полном ходу с машины сбрасывается подкидная доска, и мотогонщики, оттолкнувшись от трамплина, перелетают через встречные машины, орут, воют, улюлюкают: «Эдди!.. Эдди!.. Э-ди-ди-и!»
Полиция штрафовала и разгоняла компанию. Парни ненадолго затихали — усовершенствовали в нашем гараже автомобиль или придумывали новые трюки. Меня предупредили в управлении, что при первом же дорожном происшествии будет начато официальное дело.
Я провел с сыном серьезный разговор.
— Аварии не будет, — сказал Эдди. — Каждый, кто допустит промашку, отчисляется. Такой уговор.
— Он может быть отчислен навсегда.
— Может.
— Но зачем вам это?
— Понимаешь, отец, не могу примириться с тем, что я инвалид. Я живой человек, привык к скоростной жизни… Впрочем, ты не сумеешь влезть в мою шкуру.
— Скидывай — влезу.
— Поздно. Моя чересчур дырявая.
— Но ведь какого-нибудь интеллигента может хватить удар, когда вы летите над ним… Он подумает, что уже на том свете…
Эдди рассмеялся:
— Уверяю тебя, наша эквилибристика пугает меньше, чем повышение цен, угрозы политиканов и твое телевидение.
— Не заходи далеко, Эдди, — предупредил я.
— Я сказал: аварии не будет, — упрямо повторил сын, и глаза его стали грустными. — Как выяснилось, отец, жизнь дорогая штука. Иногда стоит больше миллиона.
Я положил ладонь на его горячий лоб.
— Кто как оценит, Эдди. Иногда дают всего сто тысяч.
И рассказал о человеке по имени Крафт, получившем сто тысяч за одну минуту.
Эдди как-то странно взглянул на меня.
— Просто исполнитель, — уточнил я. — Я найду истинного убийцу.
— Отец, — он вспыхнул, — Эдди, как всегда, возьмется! Убийца будет наказан!.. Поверь мне!.. У меня разболелась спина…
Он быстро укатил к себе, позвал У-у. Слоненок не заставил себя долго ждать.
Я заметил, что, оставшись один, Эдди с удовольствием окунается в детство: играет, рисует, читает сказки. Он перенес к себе фотографии и письма Марии, подшивки ее журналов, безделушки. Это был знакомый живой мир, защитная среда, безболезненное продолжение жизни…
Утром я попросил Нгоро доставить меня в ближайшую деревню, чтобы отснять детей.
Вот они — вздутые от голода животики, приплюснутые носы, беззащитный взгляд серьезных темных глаз. Они еще не научились смотреть так, как глаза вождя туарегов — в самую суть жизни, в близкое и далекое будущее. Глаза детей бесхитростны: в них трагедия засухи, парящая над деревней, жажда глотка воды и куска лепешки.
Теперь остается смонтировать эти кадры с осоловевшей от изобилия Европой.
— Сколько здесь больных детей? — спросил я Нгоро.
— Около пятидесяти.
— А взрослых?
— Примерно столько же.
— Вы сможете их разместить в больнице?
— А что?
— Узнайте, пожалуйста.
Через несколько минут чиновник сообщил, что госпиталь в столице дал согласие принять всех больных. Я указал на вертолет:
— Грузите.
Нигериец покачал головой.
Я рассердился:
— Это моя машина, черт побери! Грузите! Сначала — детей.
К вечеру вертолет сделал три рейса и захватил нас и джип с собой.
— Теперь будет здесь сад? — спросил я Нгоро.
— Теперь будет! — Нгоро сиял.
Я надел на него свою широкополую шляпу.
— Дарю на память. Без шляпы на улицу не выходи. А то обижусь.
— Подарок друга — не потеряю! — засмеялся нигериец.
У меня уже были печальные сведения от Аллена. В верхних слоях атмосферы над Сахелем он обнаружил на снимках несколько больших дыр в озоновом слое. Это значит, что жесткое ультрафиолетовое излучение Солнца сжигало постепенно все живое. Через два-три месяца искусственные дыры затянутся, но последствия могли быть роковыми. Знакомый французский журналист, связавшись со своими соотечественниками из научной экспедиции, подтвердил, что радиация в пустыне повышенная. Я обещал ему взамен сенсацию — разумеется, без ссылки на источники. Мы встретились в столице Федерации в тот же вечер.
Через несколько дней сообщение Франс Пресс из Сахеля напечатали-крупные газеты мира. Сахельское правительство попросило Францию провести исследования из космоса. Спутники подтвердили неприятную новость. Федерация Сахель обратилась с чрезвычайным запросом в ООН. Вопрос был принят к обсуждению, но это не значило, что космический пират сознается без всяких улик.
В моем репортаже была готова концовка.
— Факты еще не доказательство, — твердил мне сверху Аллен. — Надо установить систему.
— Ты слышал такое странное название: Оружие Зевса? — спросил я его.
— Слышал, но не помню — где. Жди моего вызова.
Аллен смотрел сверху на Землю мудрыми глазами ученого.
Глава двадцать вторая
— Здесь собран цвет общества, который вы развлекаете, Бари. Каждый моряк с высшим образованием, у большинства офицеров — по два. Вы видели этих людей? Молодцы? Молодцы!.. Так же, как и наш «Персей» — гордость подводного флота…
Я кивал, слушая первого помощника командира. Согласен: «Персей» — новейшая подводная лодка номер один. Стальная сигара длиной в три футбольных поля. Обошел с кормы до носа, сам промерил шагами. Высота пятиэтажного здания, есть лифты с номерами палуб. Сорок ракет. Залп их может уничтожить трижды любую страну земного шара. И единожды — целый континент… Такая вот штуковина. «Персей» — это значит: со скоростью ветра в глубинах океана.
А первый помощник продолжал:
— Заметили, господин Бари, все ребята знают вас? Им приятно, что вы на борту «Персея». Мы ведь тоже любим посидеть у телевизора… Конечно, не живые передачи… Нам кассеты присылают. Скажу свое мнение — разрешите?..
Я опять кивнул.
— Здорово вы ее разделали — Европу! Обожралась яичницей с беконом! А тут голодные дети!
— У вас есть дети, мистер…
— Да. Трое.
— Вы согласны отдавать часть заработка чужим, ну, скажем, африканским детям?
— А сколько? — спросил он.
— Совсем немного… Сколько скажет командир.
Старпом поморгал ресницами, обдумывая неожиданное предложение.
— Согласен. Между нами, господин Бари, согласен для ваших африканских детей… Только не для бостонских негров!..
— Почему же? Все голодные одинаково хотят есть. Из Бостона или Сахеля — какая разница?
Старпом встал, приблизился ко мне. Уши его пылали.
— Я сам из Бостона, сэр, и уверяю вас, что там все цветные — бездельники со дня рождения!.. Вы ведь были на «Форрестоле»?
— Был.
— Безобразный случай! — Старпом сжал кулаки. — Позор для всего флота, сэр. А зачинщики — негры!
— Так это же «Форрестол», — шутливо заметил я. — Помните, кем он был?
Старпом задумался.
— Министр обороны, который от страха сошел с ума.
Моряк распознал наконец вкус шутки, улыбнулся:
— Похоже, там многие чокнулись…
«Персей» идет с грузом боевых ракет в центр урагана «Камилла». Ураган родился где-то в Атлантике и, развивая скорость, слегка задел Кубу. В теплом и мелком Мексиканском заливе «Камилла» набралась новых сил, всосав в себя уйму пара и энергии. Со скоростью суперпоезда двигался ураган на Флориду, и это означало большую трагедию не только для южных штатов страны. В период летних отпусков на курортах полуострова и островах отдыхало более миллиона человек; для скорой эвакуации не хватало дорог и транспорта. Люди с ужасом слушали телеинтервью с молодой женщиной, которая отдыхала на надувном матрасе в своем номере на третьем этаже, когда в стены гостиницы ударила гигантская волна, и каким-то непонятным образом выплыла на нем в разбитое окно. А спустя минуту, когда она оглянулась, дома уже не существовало.
«Персей» шел полным ходом наперерез «Камилле».
Поначалу предполагалось, что в центр шторма вылетит тяжелый бомбардировщик с авианосца «Форрестол». Я прибыл с разрешения морского министра на старый авианосец в самый неподходящий момент: морские пехотинцы разнимали драку между черными и белыми матросами. Зрелищу мог позавидовать любой режиссер голливудского боевика: десятки ослепленных ненавистью людей копошились на палубе. Морской пехоте доставалось от одной и другой стороны, но пехотинцев оказалось значительно больше, опыта в горячих делах им не занимать. Наиболее «чокнутых», как выразился старпом, бросали охладиться за борт. В основном негров.
Когда был наведен относительный порядок, переполнены лазареты и карцеры, а военный патруль прочесывал подозрительные углы, выяснилось, что задание срывается: кто-то бросил гаечный ключ в систему управления авианосца, и электроника вышла из строя. Меня спешно перебросили вертолетом на подводную лодку «Персей». Летчики отчаянно ругали начальство. Из отрывочного разговора я понял, что конфликт на «Форрестоле» назревал давно: часть команды, в основном негры из машинного отделения, была недовольна действиями белых офицеров. Я даже уловил словечко «ку-клукс-клан». Что ж, эти вонючие «драконы» действуют и в армии. Обида негров оказалась сильнее угрозы «Камиллы», гнет привел к взрыву.
В салон быстрым легким шагом вошел седоватый человек в черном свитере и темных очках. Старпом вскочил и испарился. Я догадался, что это адмирал Грос — командир лодки.
— Скажите, Бари, как вам удается предвидеть даже тайфуны? «Камилла» еще не получила своего порядкового номера, а вы прислали запрос.
— Репортер должен угадать. — Я пожал плечами с таким видом, как будто ежедневно прогнозировал бури. Не мог же я сказать адмиралу, что рождение тайфуна наблюдал из космоса Аллен.
— В министерстве ответили вам уклончиво. — Он улыбнулся. — Я напомнил министру ваш знаменитый репортаж о торнадо. Помните — «теща улетела»? Министр расхохотался, сказал: «Только ради Бари мы повернем ураган в другую сторону…»
Почему-то вся Америка смеялась над нелепым толстяком, который никак не мог отыскать тещу. Я снимал однажды в Техасе последствия самого свирепого за последние десятилетия урагана торнадо. Огромная зловещая воронка опускает из глубины небес на землю свой хобот, и начинается сущий ад. На многие километры уносит машины, дома взрываются, как хлопушки, деревянная щепа пронзает стальные листы, а куры оказываются ощипанными. И вот среди хаоса разрушений мне попался возбужденный здоровяк с остановившимся взглядом. Он приставал ко всем с вопросом: где его теща? В последний раз он видел ее во дворе дома. Теща бежала с подушкой в руках. Вдруг какая-то сила подняла ее в воздух и унесла в поднебесье… Куда бы я ни приезжал, толстяк был уже там и произносил одну и ту же фразу: «Теща улетела…» Зрители всякий раз хватались за бока.
— Значит, теща выручила меня, — усмехнулся я.
Адмирал подмигнул в ответ.
— Министр сожалеет об инциденте на «Форрестоле».
— Передайте ему, пожалуйста, что я прилетел снимать не драку, а боевые действия флота.
— Благодарю, Бари.
Мы уселись в мягкие кресла. Казалось, мы в обычной зашторенной комнате, а не на движущемся корабле. Лишь порой среди легкого шипения кондиционеров и переговоров дежурных можно было слышать глухие звуки кашалотов, словно удар молотом по дереву, и щелчки дельфиньих стай.
— Да, в наш век человек способен сорваться в любую минуту, — продолжал командир. — Люди разочарованы во всем — семейной жизни, карьере, политике…
— Даже в погоде, — поддержал я.
— Разумеется. Слишком много больных людей… Вспышка на Солнце приводит к тому, что человек взводит курок… Я очень сочувствую вашему горю, Бари, считаю, что это дело рук сумасшедшего…
— Ему хорошо заплатили. — Я одним правдивым ходом разрушил стройную адмиральскую теорию.
— Ах вот как… — Грос потер лоб. — Извините, Бари, за солдатскую прямоту: вы кому-то мешаете?
Я смотрел в лицо адмиралу. Оно внушало доверие.
— Не знаю точно. Наверное… У меня одно прескверное качество: я говорю то, что вижу.
— Жаль, что вы не служите на флоте. — Адмирал усмехнулся. — И вы, наверное, замечаете, что вокруг все меньше и меньше преданных людей?
— Да, это так.
— Хотите совет старого вояки, Бари?
— Давайте, Грос!
— Бари, когда вы останетесь в одиночестве, хорошенько подумайте, прежде чем принять решение.
— Меня голыми руками не возьмешь, — пробурчал я, чувствуя важность по-солдатски прямого совета.
— Видите ли, Бари, самая главная часть моей жизни и работы, — пояснил адмирал, — это выработка решения. Если оно окажется неверным и я нажму не на ту кнопку, полмира отправится в преисподнюю. А через короткий промежуток времени — еще полмира. Странно устроен человек: может все уничтожить, прикрываясь лозунгом жизни.
— В одной из пьес звучат такие слова, — припомнил я. — «Все мы живем в охваченном пламенем доме, только без пожарной команды, которую можно было бы вызвать».
Грос невесело рассмеялся.
— Не цитируйте это, пожалуйста, министру. А то он скажет, что автор не знал о существовании атомного флота США. Да еще припомнит, как новейшая подлодка по личной просьбе мистера Бари, за счет налогоплательщиков США, была брошена спасать мирное население Флориды…
Адмирал сам, видимо, метил в министры и проверял на репортере прочность трафаретных фраз.
— Браво! — сказал я. — Вы прирожденный газетчик. Кстати, адмирал, куда направится «Камилла», когда вы ударите по ней?
Он махнул сухой рукой.
— Куда? Дело не наше — ученых. Мы выполняем приказ! Лишь бы не на Америку!
Матрос щелкнул на пороге каблуками, доставил командиру пакет. Адмирал вскрыл, прочитал сообщение.
— Пожалуйста, операция начинается, — объявил он мне. — Вы где обычно отдыхаете, мистер Бари? В Майами, Ницце?
— Обычно на работе, — сказал я.
Грос поднялся:
— Тогда прошу в мою рубку. — Он указал на дверь. — Мы постараемся создать вам все условия…
Поднялись на лифте в рубку Гроса. Там его ожидали два офицера — старший помощник, знакомый мне, и еще один, незнакомый. Грос протянул им листок сообщения из штаба. Офицеры подошли к сейфу, открыли его, начали сличать поступившее сообщение с дубликатом, хранившимся в стальном ящике, шифр которого знали только они.
— Все точно, адмирал! — сказал старпом.
Грос приблизился к главному пульту, включил микрофоны.
— Боевая тревога, ракетная готовность! — объявил он негромко.
В центральном отсеке люди в синих, свободного покроя костюмах, похожие на парашютистов, прильнули к приборам; отовсюду — из ярко-зеленых кубриков, увешанных картинами, кабин с кофейными автоматами и машинами для поджаривания кукурузы — бежали матросы на свои рабочие места. Операторы колдовали с электроникой.
— Где мы находимся? — спросил Грос помощников.
— В центре «Камиллы», — доложил старпом.
— Это интересно, — сказал громко адмирал. — Я еще никогда не был на кухне, где готовится погода. А вы, мистер Бари?
— Не приходилось, — ответил я.
Помощники командира переглянулись.
— Может, поднимемся наверх, Бари? — Адмирал прекрасно знал, что сейчас его слышит каждый член команды.
— С удовольствием!
— Отмените приказ, — велел Грос старпому. — Прикажите всплыть!
Тот посмотрел на командира, как на ненормального. Однако дал команду на всплытие.
Пол под ногами чуть качнулся.
Я оценил щедрый жест Гроса. Снимал его во всех ракурсах на мокрой палубе, куда мы вышли в плотных плащах. Но дело не в этом: на его месте я поступил бы точно так же — как капризный взрослый ребенок, очутившийся в центре стихии, которую необходимо обуздать. Противника надо знать в лицо — старое воинское правило. Как ни шумела, ни шутила, ни злословила сейчас над нами обоими команда, нервы которой были вздернуты, я знал точно: Грос будет министром.
Более странного зрелища я в жизни не видел. Тишина, духота, какой-то необычный внутренний гнет. Кусок моря похож на идеально заправленную матросскую постель. Палубу облепили мириады насекомых, обессиленных в противоборстве с ветром; Грос — истинное привидение; наверное, я тоже с головы до ног усеян мошкарой. По небу стремительно летят серебристые облака. Нет, не облака — отрывочные воспоминания чего-то уже виденного. Если даже на земле и существует вход в потусторонний мир, описанный древними, то наверняка он здесь — в тишайшем центре урагана, называемом «глазом бури», в святая святых яростной «Камиллы».
Даже не верится, что «Камилла» существует, сметает все на своем пути!
Загадочное морское привидение махнуло зеленой клешней. По знаку старпома мы с адмиралом вернулись в рубку. Грос мгновенно стал властным командиром подлодки, надев китель и адмиральскую фуражку.
Лодка стремительно опускалась вниз, и чей-то голос монотонно отсчитывал глубину. Сто футов — исходная позиция.
— Готовность ай-эс-кью! — приказал Грос в микрофон, что означало боевую готовность. Он повернулся ко мне. — Теперь пройдет всего тринадцать минут.
— Сколько ракет вы пошлете? — Я фиксировал камерой каждый жест, каждое слово командира.
— Две.
— Надеюсь, не с боевыми зарядами?
— Даже если бы я сейчас сошел с ума, у меня есть два помощника, которые контролируют операцию… — Он представил двух старших офицеров.
Помощники, стоя спиной к будущим зрителям, весьма выразительно возились с сейфом. Из сейфа они извлекли ключ старинной формы. Командир вставил ключ в крышку железного ящика, висевшего на стене, и открыл его.
Все это напомнило мне сцену из книг Стивенсона.
Ящик был пуст. В нем зияли отверстия электрической розетки.
— Ракетная часть, запуск разрешаю! — командует Грос.
Мигают на пульте зеленые лампы, сигналя командиру о напряженной работе команды. Эхом доносятся исполнительные команды: «Старший группы, проверить первую ракету!.. Проверить вторую!..» На телеэкране видно, как, обнажая горловину шахты, открывается огромный люк… Итак, чтобы уничтожить половину человечества, достаточно для начала трех сумасшедших.
Остаются считанные секунды до пуска. Грос достает из личного сейфа кольт сорок пятого калибра. Точнее — красную, из тяжелой пластмассы, с крупной насечкой для уверенного захвата, рукоять кольта. Красную — значит боевую; черная — тренировочная — остается в сейфе. Вместо дула — шнур с вилкой для включения в сеть.
Экипаж затаил дыхание: командир воткнул вилку в розетку. Мигание ламп подтверждало: электрическая цепь подлодки, наподобие гирлянды рождественских лампочек, почти замкнута, готова включить двигатели ракет.
Грос подмигнул в глазок камеры, нажал пуск. Курок щелкнул отчетливо.
Раз! — и чуть дрогнул пол, ушла из шахты ракета.
Два! — и вторая ракета набирает над морем высоту.
Два мощных заряда взрываются в центре тайфуна, сея тонны йодистого серебра. Над «Камиллой» сгустились тучи, водопады обрушились в напряженно-пустынный «глаз бури», который мы недавно наблюдали. Казалось, ураган осел, снизил скорость. Через три часа разведочные самолеты доложили, что «Камилла» стремительно набирает прежнюю силу, заметно увеличивая свой бег; однако движется в противоположную сторону — к Центральной Америке и Вест-Индии.
— Как говорит мистер Бари, снимавший этот репортаж, — заявил в заключение командир Грос, — Америка может спать спокойно. «Камилла» не состоялась, катастрофы не будет. Ни у кого из вас не улетит больше теща!..
Глава двадцать третья
Я не завершил репортаж о Камилле», выдал его в эфир без надлежащей концовки, единственный раз в жизни пренебрег правилами «честной игры» журналиста и сразу же поплатился своей репутацией.
Надо было лететь в Панаму, Никарагуа, другие страны, на которые обрушился ураган. А я летел в Чикаго, где начинался судебный процесс над террористами «чертовой дюжины».
Америка благословила военно-морской флот, избавивший страну от лишних переживаний, и тотчас забыла о них.
Центральная Америка проклинала «Камиллу», «Персея», адмирала Гроса и всех на свете янки. Ее можно было понять: за что такие испытания для народов малых стран! Фигурировала история с пятьюдесятью постояльцами одного старого, крепкого, как Бастилия, островного отеля: в честь игры необузданной стихии они решили дать вечеринку на большой веранде над морем — к началу празднества всех жителей отеля, среди которых было немало американцев, уже не существовало.
Газеты ехидно комментировали репортаж с подводной лодки, изображая меня чуть ли не ставленником Пентагона: вот, мол, представил такого симпатичного интеллектуала Гроса, обещал, что катастрофы не будет, а в действительности страдают невиновные. Некоторые задавались более серьезным вопросом: стоит ли вообще укрощать ураган, если его поведение непредсказуемо?
Один Аллен не ругает меня.
Он ворчит со своих высот:
— И так было ясно, что он пойдет в сторону Центральной Америки. Панама отказала в военно-морской базе… Значит, Панама пострадала крупно. Никарагуа национализировало имущество компании — так же и с Никарагуа… Остальные — для острастки! Понял, Жолио? Я почти нащупал систему!.. Ты делай свои выводы… Как там насчет Марии?
— Я лечу в Чикаго на судебный процесс…
— Я все знаю, — хрипит в динамике голос Аллена.
Он знает о гибели Марии.
— Какая информация об этом типе из «Айвенго», Джон?
— Вилли, Вилли! — позвал я друга, напомнив ему, что он нарушает конспирацию переговоров.
— Извини, Жолио. Слушаю!
— По предварительным данным, согласен на обвинение в неумышленном убийстве, если приговор не превысит пятнадцати лет.
— Подонок! — Аллен выругался. — Плюнь на него, ищи зачинщиков. Как Эдди?
— Он тоже собирается в Чикаго.
— Держись молодцом!.. Привет Эдди и… Марии!
— Привет тебе.
Я опоздал на час. Всего час назад у здания старого чикагского суда решилась судьба «чертовой дюжины». Когда я подъехал к массивному дому, лишь кучка зевак обсуждала недавнее происшествие, да полицейские измеряли расстояние между поверженным тюремным фургоном и стоявшей неподвижно длинной черной машиной с видневшимися издали буквами наискосок: «ЭДДИ».
Я сразу понял: все, что я вижу, натворил Эдди.
Подбежал к полицейскому.
— Я — Джон Бари!.. Что здесь произошло? Где водитель этой машины?
Он медленно обернулся, оглядел меня с головы до ног.
— А-а, Бари. — Взял под локоть. — Поехали.
Мы очутились в госпитале. Человек в белом халате объяснил ситуацию. Эдди в реанимации, состояние — неопределенное. Я видел его несколько минут — белое лицо среди бинтов, простыни, беззвучно работающие приборы. В голову залезла идиотская мысль: «Он сделал свое дело, он отдыхает». А чем могу помочь ему я — отец? Без матери — ничем! Если бы даже я оказался в тот момент на площади перед судом, и то — ничем!
В безвоздушном коридоре госпиталя возник человек в полицейской форме, сел рядом со мной. Он сидел час или два — не знаю, сколько времени, пока я не пошевелился, не узнал окончательно Боби.
— Что случилось, Боби? — спросил я и не услышал собственного голоса.
— Они сами виноваты — твой сын и Гастон Эрве. Ты не обижайся, Бари, на моих ребят. Дело сделано так профессионально, что никто не успел выстрелить в шину.
Приятель Эдди лежал в соседней палате. Он пострадал меньше и давал показания.
Эдди заранее перегнал в Чикаго свою машину, прилетел сам. В Большом Джоне они встретились с Гастоном, разработали подробный сценарий. Эдди твердил, что «чертова дюжина» — эти проклятые чернолицые, чернорукие убийцы его матери — должны быть наказаны.
Телевидение вновь развернуло ажиотаж вокруг предстоящего процесса. Комментаторы твердили, что в обвинительном заключении отсутствует пункт об умышленном убийстве пассажиров такси, тем самым будоража злобное воображение обывателя. Писатель Джеймс Голдрин в интервью чикагскому отделению Эн-Би-Си доказывал, что его молодые соотечественники — жертвы существующих порядков, испорченных нравов страны и всего капиталистического строя, они вообще ни в чем не виновны. Телевизионщики как бы нарочито били по воспаленному сознанию двух юношей, приближая трагическую развязку.
Мальчишки рассвирепели: «Ну, мы сами сделаем то, что требуется!..»
Позже, оценивая всю свою работу, я неожиданно для себя вдруг взял и скомкал всю свою прожитую жизнь, просто выбросил ее в мусорный ящик. Я, который считал себя независимым репортером, чем отличался я от телевизионных гангстеров, терроризирующих зрителя, держащих его в постоянном нервном напряжении? Все эти ежедневные происшествия — убийства, ограбления, насилия, кошмары — подаются телевизионными компаниями как единственно правдивая история общества, как сущая суть человеческой жизни, ее фаталистический итог: «Убей! Заткни ему глотку! Вырви язык и глаза! Кишки намотай на кресло! Заморозь, разморозь и пожарь на огне! Истолки в порошок и развей по ветру!.. Ну, что смотришь, бестолочь? Не хватает решимости — убить, разлюбить, позабыть, растолочь в порошок и пустить по ветру?!» Разве не в этом смысл всей правдивой, оперативной, нескончаемой, как карусель, жесточайшей по форме и духу телепродукции Америки, без которой не могут жить ни минуты миллионы американцев?
Атмосфера была достаточно накалена, когда телевидение передало специальное интервью с главарем террористов. Эдинтон спокойно объяснил зрителям цель своей организации: освободить 25 миллионов заложников.
Репортер сначала не понял, о ком идет речь.
— Мы все заложники в вашей стране, — пояснил Эдинтон. — Вы лишили нас работы, семьи, нравственных идеалов. Кто мы для вас? Грязные ниггеры… Когда мы боремся за свои права, нас пристреливают, как собак.
— Вы убеждены, что все цветные согласны с вами?
— Убежден. Эта цифра может возрасти вдвое — ведь цветных пятьдесят миллионов в стране. У нас отобрали все, даже право на мечту. Вспомните знаменитые слова Мартина Лютера Кинга: «У меня есть мечта…» Его убили. Мой младший брат Нонни мечтал стать бейсболистом. Его пристрелили. Такая же участь ждет меня.
— Эдинтон, вы человек искусства. Неужели вы действительно хотели взорвать небоскреб?
— Да.
— Зачем же выбрали такой дурацкий способ — угрозу безопасности целого города?
— Для меня этот дом — символ расизма. И не только Чикаго. Все города Америки начинены бомбами гнева. Стоит только нажать кнопку…
— И вы взорвали бы Большой Джон?
— Не только Большой Джон, но и всю Америку.
— За что?
— За все. Это рано или поздно случится. Мы указали лишь путь. По нему пойдут другие. Они будут мудрее и удачливее нас!..
— Вы, по-моему, слишком сгущаете краски. Нельзя ли сейчас договориться? Ведь если…
— Поздно! — оборвал журналиста Эдинтон. — Мы много лет говорим как будто на одном языке, но друг друга не понимаем.
Репортер покачал головой.
— Мы для вас глухонемые. Инопланетяне. Враги…
Он задохнулся. Сделал паузу. Потом произнес слова, которые подхватили газеты, ставшие ключевыми в его дальнейшей судьбе:
— Я ненавижу, глубоко презираю всех вас. Я всегда чувствовал себя заложником в стране, где я родился и жил.
Слово «Нет!» возродилось вновь: на этот раз оно было начертано на самых крупных объектах — на небоскребах, складах, торговых центрах, аэродромах. Их обходили и объезжали стороной. Возле надписей-символов дежурила полиция.
Обыватель взбесился. Отчаянно, до самого дна, до глубины «души». В разговорах и спорах самым популярным стало имя Эдинтона и его банды, которая изобрела новое, коварное, непонятное противной стороне оружие массового уничтожения. Точно, оперативно определялись позиции: «мы» — «они». По установленному Эдинтоном принципу: двадцать пять миллионов заложников на двести миллионов хозяев. Паниковали так называемые хозяева.
В душе я защищал Эдинтона. Защищал от нападок самого себя. Если бы я потерял брата, как бы повел себя? Взрывать или не взрывать? Конечно, как всякий цивилизованный человек, решил бы не взрывать! У меня не было братьев. У меня от всей семьи остался сын. Я — против крайностей, я — за себя, за наше с сыном будущее.
Неужели этот чудак верит в освобождение миллионов соотечественников?
Телекомментарии о предстоящем суде сопровождались кадрами моего репортажа о Большом Джоне, ранившими Эдди портретами матери, сенсационными фотографиями репортеров. Можно лишь представить, как был взбешен Эдди, как поддержал его горячий приятель-француз.
«Заткнем им глотки! Сделаем — мертвыми! Запустим каяться в преисподнюю!..»
По тысячам телеканалов Америки, других стран идет круглосуточно этот вопль!
Не на кровожадность, не на инстинкт современного дикаря работал я всю сознательную жизнь! А получилось так, что шел в общем русле… Получилось, что, прежде чем потерять весь остальной мир, я потерял своих близких.
«Берегись, черномазые!» — кричал Эдди, выезжая из-за угла.
В чем была моя главная в жизни ошибка? Почему я, стараясь уберечь от этого мира сына и жену, подвел их под роковую черту? Чем я лучше тех, которые орали и орут на весь мир «Убей его!»?
Эдди припарковал машину на узкой улочке метрах в пятистах или шестистах от здания суда. Он вкатил в своей коляске на место шофера, привязался ремнями и терпеливо ждал час или полтора.
Гастон Эрве, дежуривший на углу, подал условный знак. Машина мягко вырулила на середину улицы и сорвалась с места, она сразу давала скорость двести километров в час. Неизвестно, как оказался в ней рядом с Эдди его приятель Эрве.
«Смерть им!» — кричал, как рассказывают, Эдди.
Все остальное решилось в секунды.
Скорость гоночной машины была огромной. Никто не ожидал, что она появится вдруг на площади суда, где в оцеплении полиции разгружался тюремный фургон. Люди, которые были на площади, — обычные прохожие и полицейский кордон — вдруг ощутили стремительное приближение самой смерти, оглянулись, бросились врассыпную. Прямо на них неслась черная машина, на которой восседало нечто очень знакомое — с бледным лицом и длинными волосами, напоминающее оттиски старых гравюр, неотвратимо страшное, что заставило охрану броситься из-под наезжающих колес.
На площади перед лестницей суда остался одинокий тюремный фургон. Из него как раз выходили, жмурясь после темноты замкнутого пространства, заключенные. Был полдень. Солнце залило площадь, оно слепило, раздражало, воодушевляло.
Первым вышел Рэм Эдинтон — дирижер дюжины, молодой знаток старого детства Америки. Он вышел на ослепительно белое пространство, вскинул голову и увидел близко черную машину с кроваво-красными буквами «ЭДДИ».
Позже неоконченные блюзы Эдинтона издадут отдельной пластинкой. Ее моментально раскупят, снова оттиражируют и присудят специальную премию автору; но ни Эдинтону, ни Эдди не будет эта сенсация щекотать нервы.
Эдди узнал Эдинтона: сколько раз он видел в документальных кадрах это выразительное темное лицо. Казалось, оно чуть просветлело… Но главарь террористов, убийца, композитор взрывов не попятился, не упал, не шарахнулся в сторону. Наоборот! Он сделал шаг навстречу Эдди. Казалось, он впервые услышал всеобщий клич, который с детства звучал вокруг, — «Убей его!». До сих пор он понимал его по-своему: мучился, переживал, искал пути отмщения, пока не пришел к мысли, что надо отомстить всему миру. Теперь он понял все, когда увидел в нескольких метрах от себя стальной бампер и белое, в обрамлении летящих волос лицо почти своего сверстника; понял и сделал наконец-то выбор в этой жизненной неопределенности — сделал шаг вперед, навстречу Эдди.
Стальной бампер искорежил фургон, опрокинулся, замер у самого края тротуара. На мостовой остались лежать трое: Рэм Эдинтон, Пол Остерн — трубач его оркестра и Эрнст Джонсон — ударник. Двое — черных, один — белый. Белый вышел из фургона третьим.
Эдди, Эдди, что ты наделал?!
Через секунду, когда все пришли в себя, началась кутерьма: полиция, «скорая помощь», репортеры, уличная толпа.
Я заявил Боби, что размозжу голову любому, кто посмеет появиться в госпитале.
Никто не появился.
Пресса неистовствовала. Портреты Эдди, описание его юношеских увлечений, вновь реставрированная история с Большим Джоном печатались на первых полосах. Несколько метров пленки кинолюбителя, запечатлевшего происшествие у здания суда, обошлись телевидению в крупную сумму. Никто ни словом не упомянул, что Эдинтон и его группа не причастны к взрыву такси. Сын мстил за гибель матери. Само собой разумеется, что «чертова дюжина» была наказана по заслугам.
Меня пригласили к видеофону. На экране был косматый кандидат в президенты страны Уилли.
— Привет, Бари! — прогремел сенатор из динамика. — Как там наш молодчина Эдди? Надеюсь, вы не падаете духом?
Я объяснил, что состояние сына тяжелое.
— Ваш Эдди — кумир молодой Америки, национальный герой! — заявил Уилли. — Передайте ему, Бари, когда он придет в себя.
— Он убийца невиновных людей, сенатор, — ответил я.
Я повторил фразу из газетного интервью Голдрина. Для него теперь все предельно ясно: Эдди — убийца, Эдинтон — национальный герой.
Уилли нахмурил брови.
— Ну, ну, бросьте вы. — Он оскалился в улыбке. — Отцы вечно недооценивают… Заявляю как официальное лицо: Эдди Бари — герой!
Он вдруг стал расстегивать рубашку.
— Смотрите, Бари! — На нем была майка с мчащимся автомобилем, длинноволосым водителем и зигзагообразными буквами «ЭДДИ». — Я советую носить ее каждому своему избирателю. Что скажете?
— Она стоит долларов двадцать?
— Тридцать пять.
— Тридцать пять… — тупо повторил я. — А жизнь — штука дорогая.
— Хотите, пришлю личного врача? Дюжину врачей? — Уилли воспринял мои слова по-своему.
— Спасибо, сенатор, здесь неплохие специалисты. Рад был видеть…
— И еще один вопрос, Бари… Чисто дружеское размышление вслух…
Вид у Уилли был самый добродушный, пастырский.
— Слушаю вас внимательно, сенатор!
— Я знаю, у вас есть предсмертная запись моего старого приятеля Гешта…
— Да, есть. — Я насторожился.
— Надеюсь, вы поняли ее правильно?
— Совершенно верно! — как можно более тактично ответил я приятелю Гешта. — Файди был очень огорчен покушением на мою персону.
— Не совсем то… Не обижайтесь, Бари, за маленькое признание. — Он лукаво погрозил пальцем с экрана. — Дело в том, что Файди был безумно влюблен в вашу жену…
— Вы утверждаете, что он был единственным человеком в этом безумном мире? — спросил я.
— То есть как? — Уилли отпрянул от экрана.
— Любил и ненавидел… Есть ли смысл говорить об этом, сэр? — пожал я плечами. — Моя жена мертва.
— Да, конечно, конечно, — пробормотал Уилли.
— То есть я не совсем точно выразился, — я оглянулся. — Между нами, она жива, Уилли… Где-то здесь, рядом… в следующий раз побеседуете с ней…
Сенатор Уилли застыл в немом кадре, и я выключил его.
Много дней Эдди жил в мире сна; системы дыхания, кровообращения, многие умные дорогие машины работали за вышедшие из строя системы организма. Врачи не скрывали удивления, что он вообще жив. Сила неизрасходованной до конца жизни боролась за Эдди — сила Марии, его деда Жолио, сила их предков, на которую я возлагал такие надежды, проводя день ото дня в госпитале.
Мне пришлось встретиться со многими больными, выслушать их рассказы о недугах и ценах на лечение, расспросы об Эдди. Эти люди честно, по-человечески переживали трагедию Эдди. Они готовы были сделать для него все — принести стакан воды, отдать кровь, поболтать, ободрить, вырвать из этих стен — все, хотя понимали бесполезность своих забот. Они не называли его героем, тем более всей Америки, но гордились — так мне казалось, — что он среди них, рядом, вон за той дверью, куда вход пока не разрешен. Они даже сказали мне под величайшим секретом, что я могу быть доволен судьбой, так как, по их общему мнению, Эдди не будет осужден по состоянию здоровья. Остается главное — вытаскивать его всеми силами из болезни.
Как-то вечером Эдди открыл глаза, узнал меня.
— Отец, не ругай меня, — сказал он беспомощно, совсем по-детски и снова вернулся в мир сновидений.
Врачи заявили, что если Эдди и придет в относительную стабильность, то останется недвижимым из-за позвоночника. Никто из специалистов не берется за подобные операции. Один лишь московский хирург Петров известен уникальными результатами с безнадежными больными. Я поинтересовался, нельзя ли пригласить господина Петрова к Эдди, и услышал в ответ, что в случае согласия московского хирурга сына придется везти в его клинику, но сейчас об этом нечего и думать.
Ночами чувство беспокойства охватывало меня. Я остался один рядом с Эдди, весь остальной мир был враждебен и слеп, как глухая ночь, порывы резкого ветра, непрерывный дождь за окном. Кто-то из непроницаемой тьмы пристально следит за нами; мы хорошо видны ему, освещенные ровным огнем ночника…
Я не боялся его. Сил у меня хватит, чтобы бороться за жизнь Эдди, за всех детей, которые, попав в беду, просят о помощи: «Отец, не ругай меня!..»
Боби и его коллега Махоланд расшифровали предсмертную запись миллиардера. Гешт знал о готовящемся покушении на меня. Но не он отдавал распоряжение, кто-то другой. Мафия выдала «лисице» из лос-анджелесской полиции имя человека, звонившего в «Айвенго» Крафту. Специалист по рекламе Мини Марли, известный также в уголовном мире как перекупщик наркотиков. Это он сказал Крафту условную фразу, которую услышал бармен по параллельному телефону: «Открывайте счет в банке…» После чего Крафт вылетел в Чикаго. Сейчас Марли исчез, его ищут.
— Не слишком ли я мелкая персона для такой сложной операции? — спросил я чикагского шефа.
Он покачал головой.
— Пока можно строить только догадки… Кстати, Бари, вы знакомы с сенатором Уилли?
— Знаком. Он недавно звонил мне. А что?
— Очень любопытная деталь. О ней сообщил нам Юрик. — По топу Боби чувствовалось, что это важная новость. — В тот злополучный для Гешта день у него гостил сенатор.
— И что здесь особенного? Они старые приятели. — Я говорил как можно спокойнее, хотя уже видел близкую опасность.
— Сенатор Уилли проводит предвыборную кампанию на средства Гешта. Это, разумеется, не криминал, — Боби подмигнул мне, словно напоминая, что держит мою сторону, — но если поразмыслить, многое встает на свои места!
Теперь я не сомневался: Уилли тоже знал! «Это не он… не он!» — кричал сумасшедший, пытавшийся продлить свою жизнь на чужих страданиях.
«Надеюсь, вы поняли Файдома Гешта правильно», — дружески советовал сенатор. Да, правильно! В этом спятившем мире его совет звучал недвусмысленным предупреждением. Как не разглядел я вовремя истинное лицо сенатора? Я — Джон Бари…
— Верно, — спросил я Боби, — что Крафт утверждает, будто приказ получен им от «чертовой дюжины»?
— Верно. Даже он нашел элементарный выход. Эдинтона нет, концы в воду.
Разрозненные события моей семейной трагедии складывались в стройный сюжет. Встреча с Марией на новогоднем балу у Гешта, где Эдди прыгает через автобусы, — это как бы репетиция нашего будущего, начало тщательно разработанного сценария… Мое пребывание в Большом Джоне случайно совпадает с акцией террористов, но кто-то из двоих — Гешт либо Уилли — довольно ловко воспользовался мальчишеской выдумкой группы: «Джон отвечает за Джона…»
Крафт логически завершил давно задуманное: по всей стране воспрянули духом расисты, прокатилась волна ненависти к цветным.
Вся эта шайка за мной наблюдала, исследовала, изучала меня, как изучают редкое животное. Как окапи, открытое в каменных джунглях сегодняшнего бессердечного мира. На что способен этот жираф в полосочку? Что он может, управляя остатками эмоций людей, воздействуя страхом на подсознание, сделать полезного для большого бизнеса?.. Исследовали спокойно, холодно, зло, моделируя разные ситуации. Даже моя гибель была вычислена до доллара и цента.
В этой шайке хамелеонов-политиканов, бизнесменов, уголовников один Гешт поступал так, как хотел, используя реальную власть: ненавидел меня и мечтал о Марии. Но и он оказался уголовником… Неужели любя надо непременно убивать?
Огромный незримый механизм преступлений был пущен в ход. Один — выживший из ума, но совершенно здоровый старик — получал противоестественные эмоции; второй — мой «личный друг», используя падение престижа правительства, неспособного унять зарвавшихся негров, полез в президенты. Им обоим была выгодна моя гибель как месть грязных ниггеров.
Хорошо организованный расизм — главное оружие большого бизнеса.
Не ты ли, мой друг сенатор, организовал всю ситуацию?
И мне, и цветным, и заодно правительству?
Впрочем, я очень далеко зашел в своих рассуждениях…
— Скажите, Боби, нет ли у вас на примете лечебницы, удаленной от посторонних глаз? — спросил я шефа.
И рассказал о своем разговоре с сенатором.
— Не случайно все это, — признался я Боби. — Лучше держать сына подальше от всякой политики.
— Согласен, — кивнул шеф. — Постараюсь найти для мальчика безопасное место.
Глава двадцать четвертая
Оставался один человек, которому можно было высказать все. Я вызвал Аллена. Он слушал, не прерывая, иногда цедил сквозь зубы: «Негодяи… Нечеловеки…» Потом сказал:
— Ты прав на все сто, Жолио! Но ситуация сложнее, чем ты предполагаешь. Слушай сюда! — Это на нашем школьном жаргоне означало: будь предельно внимателен, крути мозгами, соображай!
— Слушаю, Вилли!
— Ты вольно или невольно оказался в эпицентре самой тайной и разрушительной войны!.. Точнее — ты и я. Мы оба. Соображаешь?
— Туговато, Вилли, — промямлил я. — Может, от недосыпания?..
Он тихо засмеялся и сказал словечко, от которого жарко дохнуло давно забытым чувством великого мальчишечьего единства:
— Не дрейфь!
Я свистнул в ответ — совсем как в классе с задней парты, когда был готов отдать жизнь за доверие товарища.
— Слушай сюда, Жолио!.. Я сравнил твои репортажи со своими данными и вывел систему. Понял? Сейчас кое-что напомню.
— Давай.
— Твои давние репортажи об этом славном муравьишке Джино. В конце концов ты нашел виновного — концерн «Петролеум». Он не одинок. У меня сотни снимков отравленных вод морей и океанов, пустошей на месте бывших лесов, исчезнувших рек. Что это, Жолио?
— Уничтожение природы.
— Вспомни Токио, — продолжал Аллен. — США произвели подземный взрыв, вызвали искусственное землетрясение. Спрашивается, зачем?
— Ослабление экономического конкурента. — Я сформулировал наконец то, о чем не сказал в своем коронном репортаже.
— Твои последние на земле туареги. — Голос Аллена звенел от волнения. — Кто мог проделать дыры в небе, сжечь защитный слой озона? Только две державы — или Америка, или Советский Союз.
— Все знают, что именно США добиваются нефти Сахеля, — пробормотал я, сознавая, что факты складываются в страшную для мира картину.
— Мне больно за мою страну, — сказал печально Аллен.
Да, Америку всегда отличала погоня за изобилием за счет остального мира. Шесть процентов населения земного шара привыкли потреблять треть мировых ресурсов. Ради благополучия этих людей, да и то не всех, а лишь обеспеченных, расходовались энергия и ресурсы многих стран и народов, пускались в ход подкуп, шантаж, экономическое давление, государственные перевороты, развязывались в «горячих точках» планеты войны.
Аллен продолжал перечислять методы новой климатической войны, которые он предвидел из своего далекого космоса.
Искусственное цунами смывает города и поселки в странах, которые необходимо держать в страхе… Тысячекратно усиленные молнии уничтожают важные стратегические объекты…
Тропические ливни, вызванные в любой точке земного шара, затопляют целые районы…
Акустические волны на поверхности моря повергают к ужас и отчаяние экипажи кораблей противника…
Десятки стихийных бедствий, как называли прежде непредвиденные явления природы, сознательно запрограммированные военными, политиками, купленными ими учеными, могли быть пущены в ход с такой же легкостью, с какой повернул ураган «Камилла» от Америки на слабые страны.
— Как ты назвал это оружие? — спросил Аллен.
— Оружие Зевса.
— Название годится! (Я чувствовал, что друг улыбается.) Ты всегда был фантазер, Джон.
— Это не мое название, Вилли. Это название авторов операции. Как видишь, они литературно подкованы. Что будем делать?
Он кашлянул, словно выступал у доски, и я весь напрягся: снова находился в классе, вслушивался, как и все ребята, в каждое умное слово Вилли, когда он отвечал на уроке домашнее задание.
— Надо объяснять людям. Прямо и честно. Слышишь меня, Джонни? — Он искал меня взглядом сквозь толщу пространства — времени и видел такого же мальчишку, как и он сам.
— Да, слышу, Вилли! — крикнул я с облегчением, как, бывало, в детстве.
— Честно и прямо, — педантично продолжал он, — предупредить людей о том, что так называемое оружие Зевса является началом вселенского конца. Слышишь? — позвал он. Я кивнул, и он уловил мой знак. — Что любое — ракетное, ядерное, самое сверхсовременное оружие, — продолжал он суховатым тоном, — выглядит рядом с ним каменным топором… Уже сейчас оно постепенно уничтожает планету!..
Я снова вернулся в наш класс, поднял руку:
— Ты уверен, что сумеешь все объяснить и доказать?
— Да, Бари, да! — Тон разговора стал слишком серьезным, раз Аллен пренебрег конспирацией.
— Ты забыл… — начал было я.
— Нет, не забыл! — оборвал Аллен. — Они все прекрасно слышат!.. Электронное ухо Пентагона работает круглосуточно. Предлагаю тебе, — закричал он, — заказать мой код банка. — Он тяжело дышал. — Пока они ищут, ты получишь все данные… Учти, времени мало…
— Аллен, будь другом! — произнес я пароль нашей юности. — Обожди, отдохни несколько минут…
— Давай! — Он понял, что я уже действую.
Первым делом набрал код Аллена в банке информации, и через несколько секунд на телеэкране засветились таблицы и фотографии, на стол посыпались листы фотокопий. Значит, я опередил службу безопасности минут на десять — пятнадцать. Пока они разберутся в моих отношениях с Алленом, отыщут в электронной памяти наши прежние разговоры, сообразят, что к чему, и отнесут свои сводки начальству, я успею сделать все оставшиеся в своей жизни дела.
Я уже звонил по телефону. Сначала — Боби: о лечебнице для Эдди.
— Извините, срочное дело. Как моя просьба? Удалось найти?
Боби сразу понял меня, перешел на телеграфно-условный язык.
— Нашел. Когда начать операцию?
— Я позвоню еще. Спасибо.
Главный редактор новостей Фи-Би-Си Квингер, знавший меня немало лет, встретил предложение с интересом. Я обещал сенсационное сообщение, синхронный репортаж из студии и космоса, но требовал вечернее время, когда у экранов собирается самая представительная аудитория. Я знал, что каждая минута вечерних выпусков спланирована до секунды, что Квингер лихорадочно просматривает листы программ, соображая, чем бы пожертвовать для Бари.
— Такого репортажа у тебя больше не будет! — сказал я.
И Квингер сдался.
— Хорошо. В восемнадцать ноль одну. Программу ведет Райт.
— О'кей! Сейчас согласую с партнером. — И закричал в передатчик Аллену: — Ты можешь в восемнадцать ноль одну по нью-йоркскому времени?
— Я выхожу на связь в восемнадцать ноль семь! — крикнул в ответ друг.
— Как-нибудь продержусь шесть минут без тебя. Готовься! Сценарий согласуем позже.
С главным редактором договорился, что он срочно закажет мои пленки из архива, распорядится подобрать кое-какие материалы, выделит монтажную. До репортажа оставалось около шести часов. Ничего. Успею. И не в такой запарке бывал…
Зашел к Эдди. Положил ладонь на холодный лоб, сказал, что ненадолго уезжаю. Он отвечал, как обычно, взмахом длинных ресниц — сил на слова не хватало. Ресницы сомкнулись: да, он понял.
Предупредил врача о переводе Эдди в другую клинику. Тот ответил: «Возможно, через неделю. Я изучу ваше предложение». Тон его был официальный, взгляд ничего не выражал. Чудак, неужели он думает, что мне не хватает средств на его услуги? Я чрезвычайно благодарен всем докторам этого госпиталя за Эдди, но сейчас не до объяснений.
Теперь — в Нью-Йорк.
Пачка документов Аллена — в кофре вместе с камерой. Кофр привычно-дружески жмет плечо. Такси мчит на аэродром.
Я в очереди на самолет Чикаго — Нью-Йорк.
Два часа полета.
Снова такси. Оно везет меня к Рокфеллер-центру, где среди других вывесок висят знакомые буквы: «Фи-Би-Си».
Лифт задержался: какой-то толстяк никак не может вылезти из-за груды чемоданов. Два негра в белых перчатках чопорно берут чемоданы за ручки и кладут на тележку, а он все лезет вперед и пыхтит, не замечая, что я его снимаю, — прекрасное начало моего последнего репортажа.
Итак, о чем будет он? Пока монтажница выбирает лучшие кадры, я сижу и думаю об этой странной затее, называемой оружием Зевса, и никак не могу понять, кому все это понадобилось. Те, кто убиты, — убиты, раненые — стонут по ночам, живые — пока живут. Но неужели надо сделать так, чтоб на Земле не осталось никого: ни одноглазого забавного старичка Джино, который обязательно должен дожить до старости и рассказать детям историю своей жизни; ни Эдди, которого необходимо вылечить и вновь посадить в автомобиль, чтоб показать, как красив и интересен мир; ни одного из туарегов, который вспомнит, как они работали в цветущем саду на месте бывшей пустыни; ни, наконец, самого автора климатической войны, который в школьном классе, где учится его внук, вдруг признается, как он в молодости был причастен к страшному оружию, но потом сам, своими руками разобрал его на составные винтики — пусть, мол, живут другие!..
Меня вызвал Аллен.
— Что, дружище? — спросил я. — Ты готовишься? Осталось полтора часа.
— Ты взял мои материалы? — Голос друга был строг; я понял: что-то случилось.
— Взял.
— Положение осложнилось, Бари, — сказал Аллен, и в его голосе я уловил непривычные нотки пессимизма. — Космическое управление предложило мне законсервировать станцию, опуститься вниз.
— Что это значит? — спросил я, не представляя своего друга в земных условиях.
— Это значит, что за мной посылают космолет, я должен консервировать станцию, а на все остальное наплевать, — жестко пояснил Аллен.
— Вилли… — сказал я растерянно и замолчал.
Молчал я долго, понимая, что все сорвалось.
Молчал и Аллен.
— Эй, Жолио! — вдруг раздался сквозь космический треск передатчика его живой голос. — Ты где сейчас?
— Где? — Я оглянулся, ощупал глазами тесное пространство помещения. И крикнул с вызовом другу: — Я здесь, Вилленок. На Земле, в Рокфеллер-центре! В Фи-Би-Си. Монтажная номер одиннадцать ноль два! Монтирую пленки для выступления в программе новостей в восемнадцать ноль одну! Как мы и договорились!
— Ну, чего шумишь! — проворчал мой космический друг. — Я тоже готов послать кого угодно к чертям собачьим! Не собираюсь пылесосить станцию. Давай работать над программой! Что ты думаешь там показать?
Мы монтировали с Алленом кадры, пока он не ушел из зоны слышимости.
Вот и все… Надо сосредоточиться… побыть одному. Осталось немного до объявленного срока… Я сел в кресло, чтобы взвесить про себя очень важные для людей слова.
Дверь отворилась, вошел седовласый человек лет семидесяти, одетый в строгий вечерний костюм, человек, каждый жест которого свидетельствовал, что он знаменит.
— Привет, Райт! — сказал я ведущему вечерней программы «Сегодня вечером».
— Джон, что ты выдумал? — спросил Райт. — Неужели ты веришь во всю эту галиматью?
— Верю, Джимми, потому что имею факты, — ответил я, и он посмотрел на меня тяжелым, свинцовым взглядом, махнул рукой, повернулся:
— Ладно, там поговорим!
Через несколько десятков минут начнется программа «Сегодня вечером», там и поговорим. Как обычно — в программе Райта.
Джимми Райт известен всей Америке: каждый вечер в течение часа она изучает его манеру держаться перед камерой и не может придраться к сорочке, галстуку, костюму, словам, жестам, остротам, даже возрасту, — все в нем самое-самое американское. Райт стремительно входил в небольшую студию, уставленную редакторскими столами, когда включены все камеры, и начинал говорить с самого порога. Точнее, с этой секунды, ровно в восемнадцать ноль-ноль, включались камеры студии вечерних новостей. Почти никто в редакции не видел до тех пор Райта, не знал, как он провел утро и день, какой фразой начнет обращение к миллионам телезрителей; помощники Райта не ведали о нем почти ничего, а сто процентов зрителей Фи-Би-Си считали его другом своего дома. От восемнадцати до девятнадцати ежедневно, кроме воскресенья.
Я уже вышел из монтажной, собираясь провести в коридоре пять последних минут перед эфиром, когда меня срочно позвали к видеофону.
Сенатор Уилли смотрел с экрана, и я ничуть не удивился этому вызову.
— Добрый вечер, дружище! — прогудел он, тыча толстой сигарой мне в лицо. — С нетерпением жду передачу… С удовольствием смотрю ваши репортажи… Но только, Бари… — он погрозил сигарой, — прошу без лишних обобщений.
— Вы хотите, сенатор, прокомментировать мое выступление? — резко спросил я. — Или выступление моего друга с космической станции «Феникс»?
Сенатор ухмыльнулся.
— Имейте в виду, Бари, передача из космоса не состоится. Или вы оба послушаетесь доброго совета, или — проиграете!
— Вот что, Уилли! — Я приблизился почти вплотную к экрану, забыв, что имею дело с телевизионным призраком. — Я здесь, в двух шагах от студии… Что ты можешь сделать со мной, дорогой ты мой друг?
И повернулся спиной, направился в студию.
— Остановись, Бари! — хрипел сзади динамик. — Подумай серьезно… Это последнее предупреждение!
Я резко обернулся.
— Я подумал, сенатор. Хочу спросить…
— Да?
— Уилли! Зачем ты убил мою жену Марию? Отвечай!
Экран погас. Уилли отключился.
На одном из контрольных мониторов был уже виден Аллен: он сидел в кресле под пальмой в своей космической дали. Изображение чуть размытое, прыгающее, но к началу трансляции с «Феникса» картинка будет нормальной.
— Ты слышал, Аллен? — спросил я в передатчик.
Он вскинул голову, понимая, что я его вижу, пристально вглядывался в глазок своей камеры.
— Слышал, Джонни, все слышал. — Он говорил спокойно. — Я получил такое же зловещее предупреждение от Пентагона. Они одна шайка, свиные рыла, пострашнее чем у Босха…
— Что будем делать? — спросил я.
— Начинать! — Аллен озорно улыбнулся. — Наша возьмет!
— Ты молодчина, Аллеи! Встретимся в студии!
Глава двадцать пятая
Райт начал, как всегда, суховато, в сдержанной манере перечислять главные события дня. Он обычно не давал оценок, предпочитая, чтобы несложной умственной деятельностью занимались сами зрители, но его точно рассчитанные жесты, прищур глаз, чуть меняющаяся интонация голоса убеждали, что вечерние новости Фи-Би-Си — самые оперативные, самые объективные, самые что ни на есть американские. Группа Райта энергично трудилась здесь же в студии, позади камеры. Звенели телефоны, стучали машинки, бежала лента телетайпа. Самые важные новости тот или иной редактор передавал Райту, и он с ходу оценивал их и включал в обзор.
Я не вслушивался в перечень событий — на контрольных экранах мелькали кадры хроники, заставки, бегущие буквы, и над всем этим парил Джимми Райт, то надвигаясь на зрителя своими резкими чертами лица, то отскакивая в тесную рамочку в углу кадра. Я следил краем глаза за одним экраном, на котором неподвижно застыл Аллен; космический канал связи был закуплен телекомпанией, и через некоторое время мой друг появится на миллионах земных экранов.
Кончилась минута новостей. Камера повернулась в мою сторону. За полукруглым столом меня отделяло от Джимми буквально три шага, однако он встал, подошел ко мне, протянул руку:
— Я хочу представить старого приятеля Бари. Привет, Джон! — Мы обменялись рукопожатием. — Бари не надо особо рекомендовать, так как «Телекатастрофу» смотрят все. — Он сел рядом, устроился поудобнее в кресле, будто один из миллионов телезрителей, спросил просто, по-домашнему: — Чем, Джон, вы нас сегодня припугнете?
— Мировой катастрофой, — ответил я сдержанно.
— Что ж, — Райт едва заметно, чисто по-райтовски улыбнулся, вяло махнул рукой, — валяйте, Бари!
Я почувствовал, как за стенами небольшой студии оживились, хмыкнули, стали звать жен к экранам миллионы американцев. Это мне сейчас и надо.
Пошли телекадры обычной уличной толчеи, которую я снял сегодня: толстяка в лифте, ползущего через горку чемоданов; растерянного человека, искавшего повсюду улетевшую тещу; кадры трагических последствий «Камиллы», снятые уже не мною: разрушенные города со вспоротыми плитами тротуаров, вырванными с фундаментами домами, сплющенными машинами — в Доминиканской Республике, затопленные поля — в Панаме, поиски погибших и пропавших без вести — на островах Гваделупа и Мартиника… Всем этим людям, пояснил я, уготовано одно общее будущее: те, кто сейчас беспечно ходит по улице, завтра могут стать новыми жертвами. Соединенные Штаты Америки, именно США, изобрели самое грозное оружие — климатическую войну — и применяют его на практике. Простейший пример — «Камилла», та самая, которая в течение часа была направлена в другую от Америки сторону…
— Вы сами, Бари, наблюдали этот эксперимент и познакомили нас с энергичным адмиралом Гросом, — вмешался Райт. — Вы изменили точку зрения?
— Нет, я по-прежнему отношусь с симпатией к Гросу. Но он — профессиональный моряк, в данном случае — исполнитель. — Я включил кадры, где адмирал, отвечая на мой вопрос, сказал, что «Камилла» пойдет куда угодно, лишь бы не на Америку, и добавил, махнув рукой: это, мол, знают одни высоколобые — то есть ученые. — Грос оказался прав, — сказал я. — Высоколобые из Пентагона точно рассчитали, куда пойдет ураган после запуска ракет. Трагедия малых стран была запрограммирована заранее…
Райт приподнял густые брови:
— Вы имеете доказательства, Бари?
— Да. — Я предвидел этот вопрос, включил карту. Там было обозначено, как ураган после взрыва в эпицентре, развернувшись, словно танцор на одном месте, ринулся на страны Карибского моря.
— Все доказательства и расчеты даст Аллен Копфманн, — твердо обещал я. — Вот он — передо мной, у телекамеры, установленной на борту космической станции «Феникс». — Я помахал другу. — Привет, Аллен!
Он отозвался немедленно, и на экранах всех телевизоров мелькнуло крупным планом лицо командира «Феникса».
— Привет, Джон! Я готов!
— Вы знаете такое знаменитое в науке имя — Аллен? — успел задать вопрос зрителям Райт, и в ту же секунду точно по сценарию в эфир пошла полуминутная реклама.
Терпеть не могу этих дурацких штучек американского телевидения, которое в самый напряженный момент подсовывает зрителям лучшие в мире товары. Но что сделаешь — не я открыл Америку, не я изобрел телевидение… Для участников передачи — полминуты отдыха. Режиссер закурил, его помощники нацедили из автомата по стаканчику кофе, кто-то просто лег на пол — расслабился.
Джимми Райт несколько секунд ходил возле стола, потом остановился передо мной, спросил серьезно:
— Джон, ты и твой друг в своем уме?
— Мы-то, Джимми, в своем…
Он нервно дернул плечом.
— Значит, вся эта петрушка скоро кончится?
— То есть?..
— Телевидение, Америка и прочее… — Он сел в свое кресло, уставился на хронометр. — Устал я, Джонни… Спасибо, что подсказал выход…
— Пожалуйста, Джимми, — ответил я, вспомнив, что Райту уже за семьдесят.
Конечно, поверить во всю эту бессмыслицу для нормального человека так же непривычно, как поверить в реальность кошмарного сна или в содержательность полотен «отца» так называемого сюрреализма Сальвадора Дали. Кое-где еще мелькают эти сумасшедшие полотна, пылящиеся в отдаленных уголках музеев… Отвратительные формы тел и предметов, искореженное пространство, нагромождение абсурда и ужаса… Одна циничная фраза, оставшаяся от Дали в книгах по искусствоведению: «Единственное, что мне нравится, — это кретинизировать людей», — пожалуй, могла бы стать и философским кредо авторов нового оружия. Но даже Джимми было бы сложно объяснить в нескольких словах эту внезапную ассоциацию.
Мы с Райтом одновременно заметили, как погас контрольный экран Аллена.
— Что случилось, Джимми? — спросил я ведущего, понимая, что только он один способен сейчас разобраться в капризах техники.
— Проверьте связь с «Фениксом»! — бросил Райт помощнику и мгновенно переключился на камеру. — Джон Бари продолжает сенсационное разоблачение тайной операции Пентагона. Через две минуты включится наш космический корреспондент Аллен… Связь нарушена, но наша фирма закупила канал…
Слепой экран на стене, выразительные жесты помрежа свидетельствовали, что Аллен отключен. Передача продолжалась — я показывал репортажи, комментировал их.
Кадры искусственного землетрясения. Искусственной засухи. Искусственного наводнения. Только сейчас, произнося все это, я понял противоестественное сочетание слов: любое для человека бедствие к искусству отношения не имеет!
И спросил Джимми:
— Где «Феникс»? Где Аллен?
— Техника, как всегда, подводит! — ответил с усмешкой Райт. И прикрикнул прямо в камеру на своих. — Эй вы, ребята! Поднажмите там на космотехнику!
Да, Райт не терялся в сложных ситуациях: теперь все зрители ждут, когда починят космотехнику.
Кадры репортажей еще шли, я продолжал рассказ, косясь на пустой экран. Но ведь не могло так продолжаться бесконечно!
Джимми подали записку. Он прочитал ее, включил пульт управления со своего места.
— Только что поступило экстренное сообщение из космического центра, — сухо сказал Райт. — Читаю телефонограмму. — Он бросил быстрый, внимательный взгляд на меня. — «Космическая станция «Феникс» в восемнадцать часов двадцать минут прекратила свое существование… По предварительным данным, наш замечательный ученый, лауреат Нобелевской премии Вилли Аллен Копфманн покончил с собой, взорвав «Феникс».
— Аллен! — закричал я. — Что ты наделал?!
Кадры последних туарегов накладывались на информационное сообщение Райта:
— «Врачи центра, проанализировав информацию со станции, пришли к заключению, что Вилли Аллен Копфманн в последние дни был в нервном состоянии, очень возбужден, впадал временами в инфантилизм…»
— Неправда! — кричал я. — Он здоров! Вы его взорвали!.. Аллен, где ты? Аллен, слушай сюда! — И я свистнул, глядя в красноватый глазок нацеленной на меня камеры, свистнул совсем как в детстве — два пальца под согнутый кольцом язык, вызывая из небытия друга.
Экран «Феникса» был слеп, Аллен не отозвался!
Кто-то тряс меня за плечо. Я поднял голову. Джимми Райт, очень серьезный, с углубившимися морщинами, склонился надо мной.
— Джон, ты в состоянии закончить передачу?
На экране прыгала музыкальная реклама, возбуждая огромное количество будущих покупателей пластинок.
— Да, Джимми, да! — сказал я вслух, пробуя, как работают голосовые связки. — Подайте мне, пожалуйста, кофр! Будьте добры, магнитофон. — И достал кассету.
Бумаги Аллена пусть остаются в сумке; если я заикнусь об их существовании, заинтересованные лица взорвут саму студию вместе со знаменитым Райтом. Да и прокомментировать их мог бы только сам Аллен.
— Мой друг Аллен, как вы слышали, прекратил существование. Он просто мертв, — сказал я, едва кончилась реклама. — Но вы услышите его. У меня сохранилась запись последнего разговора.
Я включил магнитофон.
«Слушай сюда, Жолио!» — раздался мальчишески радостный голос, и вся Америка внезапно очутилась в нашем классе, услышала меня и Вилли, вспомнила про искусственные катастрофы, узнала, как их называют.
— Оружие Зевса! — повторил я вслед за Алленом. — Оно изобретено безумцами, которые постепенно разрушают всю планету.
— Оружие Зевса? — эхом отозвался Райт. — Я начинаю верить, Джон, в ваше предвидение. Это, — Райт сдвинул густые брови, — серьезное обвинение правительству. Но… не понимаю, — он дернул плечом, — зачем ваш друг покончил с собой перед столь важным заявлением?
— За несколько минут до эфира, — спокойно пояснил я, — мне позвонил один человек и предупредил, что передача не состоится, если мы коснемся сути дела! Такое же предупреждение получил Аллен.
— Кто этот человек? — Райт привстал в кресле.
— Я его спросил, — продолжил я, не обращая внимания на нетерпение Джимми. — Я спросил его: «Уилли, зачем ты убил мою жену Марию?..»
— Уилли? — Райт медленно поднялся с места. — Сенатор Уилли?
— Да! — Я тоже встал. — Сенатор Уилли. Он не ответил мне.
— Соедините нас с Уилли! — приказал Райт помощникам, понимая, что наступает развязка самой драматической программы вечерних новостей.
— У меня несколько вопросов к сенатору, — заявил я, глядя в бездонный глаз телекамеры.
— Пожалуйста! — разрешил Джимми.
— Уилли, — сказал я, — зачем ты затеял всю эту нечеловеческую подлость?
— Кабинет сенатора не отвечает, — доложил из глубины студии редактор.
— Уилли, зачем ты убиваешь негров, туарегов, пуэрториканцев, сальвадорцев, панамцев, зачем?
— Квартира не отвечает! — донеслось издали.
— Уилли, зачем ты взорвал самую дорогую космическую станцию? Зачем убил моего друга Аллена? — Я оглянулся на огромные студийные часы: оставались секунды до окончания передачи. — Он по-прежнему не отвечает? — спросил я Райта.
— Теперь ему придется ответить! — резко сказал Джимми.
— Уилли, слышишь меня? — поставил я точку в разговоре. — Тебе придется ответить на самый главный вопрос: зачем ты существуешь?
Говорят, что в холодных голубых глазах Райта застыли слезы.
Критики отмечали, что с Райтом такого не случалось после последнего убийства президента.
Глава двадцать шестая
Из студии мы с Райтом пробрались запасным выходом на улицу, где припаркована его малолитражка. Никто из почитателей Джимми не мог предположить, что получающий миллионы в год комментатор водит, как и любой смертный, красно-желтую, самую что ни на есть дешевую блоху. Но блоха замечательно прыгала в потоке автомашин. Как-то незаметно очутилась она в аэропорту имени Дж. Кеннеди, пробралась тайно за ворота, вслед за служебной машиной проскакала по бетонной дорожке, где выстроились в очереди, глухо рыча турбинами, ползущие к взлетной полосе крылатые машины.
Возле одной из них Райт затормозил. Открылась дверца в фюзеляже, вниз скатилась металлическая лестница.
Я полез вверх, в теплое пространство кабины, ежась от проливного дождя.
— Будь здоров, Джонни! — крикнул снизу Райт, намекая, что сейчас моя жизнь котируется на мировом рынке новостей не выше вздоха любого полудохлого президента. Я в ответ помахал свободной ногой.
Пилот чикагского самолета втянул меня в кабину, усадил на диван, поставил рядом кофр.
— Здорово вы их поддели, мистер Бари! — восхищенно произнес он. — Что, кончится, наконец, проклятый дождь? Или это затеяли русские?
— Это не русские, — сказал я устало, — это твои соотечественники. Предлагают тебе выбор между наводнением или горячей, как Сахара, пустыней. — Я внимательно всматривался в молодое, еще не опаленное жизненными катастрофами лицо пилота.
Он несколько секунд вдумывался в мои слова. Шевельнул юношескими усиками, с достоинством негромко ответил:
— Благодарю за информацию, я сделаю выбор, поскольку частенько бываю наверху. — Пилот усмехнулся, подмигнул мне. — Чем могу быть полезен?
— Я сам справлюсь! — пробормотал я, смыкая веки.
Самолет взлетел. Летчик протянул бокал кока-колы.
— Пожалуйста! — Он помог мне растянуться на диване. — Отдохните, мистер Бари!..
В аэропорту Чикаго я спустился по той же лестнице, пока самолет тихонько подруливал к зданию. Принял меня в свою машину Боби.
Давно я не видел такого дорогого, ладно сшитого и модного костюма. Ощутил себя чуть ли не нищим в джинсовой робе и устало вздохнул: а-а, ладно, все равно, в чем пробираться по лабиринту жизни.
— Дождь, — сказал Боби, меланхолично крутя руль.
— Да, дождь, — согласился я.
Он помолчал.
— Ты сделал большое дело, сынок, — доверительно сообщил Боби. — Разворотил такой муравейник…
— Да.
Боби развернул ко мне свое огромное с пористыми ноздрями лицо, чуть задержал на переносице тяжелый взгляд, снова уставился на мокрый асфальт:
— Бари, я однажды в тебя уже поверил…
— Да?..
— И верю до сих пор.
— Да?..
— Что ты намереваешься делать?
— Устроить сына с твоей помощью, — сказал я, стараясь как можно более точно представить свое будущее и не видя его никак. — А дальше… дальше… что ты скажешь?..
— Смывайся, сынок. — Боби обнял меня за плечо. — Пока не поздно.
— А именно?
— Пока у меня не начались большие неприятности, — закончил Боби и, помедлив, добавил: — Скажу тебе только одно: Уилли — член «Большой Тройки»…
Я присвистнул в ответ: все, теперь мне крышка, капут!
«Большая Тройка» — тайный совет, в который входят двести пятьдесят финансовых тузов, политиканов, ученых, военных США, Западной Европы и Японии. Они собираются на «клубную неделю» раз в год, решают самые важные проблемы будущего: кто будет президентом, что делать с противником, где разразится в ближайшее время война. Все это держится в строгом секрете, но журналисты на то и журналисты, чтобы унюхивать самое тайное. Если уж член «Тройки» взялся за обыкновенного репортера, значит, тот произвел большой переполох. Да, Бари, несдобровать тебе, не скрыться ни в одном из глухих углов. Недооценил ты Уилли — защитника природы и личного друга… Можно — иногда даже удачливо — разоблачать обычную мафию, Пентагон, ЦРУ, президента, но с такой всемирной мафией, как «Большая Тройка», не шутят.
— Я смываюсь, — признался я Боби. — Надеюсь, ты не пострадаешь из-за меня?
— Мне пора в отставку. Дай знать, где ты. — Боби вздохнул. — Если, конечно, сумеешь.
Я оценил щедрость его души. Боби заранее вычислил все варианты игры, предусмотрев в том числе мое внезапное исчезновение и заботу об Эдди.
На полицейской «скорой помощи» перевезли мы Эдди в частную лечебницу. Там я подписал чек на полмиллиона долларов — близкое будущее сына.
Он смотрел на меня так, словно прощался.
— Отец, что ты задумал?
— Задумал?.. — Я внезапно проснулся, фотографируя про себя эту новую больничную реальность. — Задумал… вырвать тебя отсюда и — поставить на ноги!..
Эдди оскалился, сдерживая внутреннюю боль.
Потом сквозь оскал проступило нечто человеческое — поднимающийся по жилам смех.
— Ха-а! — Эдди хохотал от души. — Поднять! Ха-а-а!.. Поставить на ноги!.. А-а?.. — Он долго захлебывался смехом. Наконец смолк, устало и беспомощно взглянул мне в глаза. — Ты всерьез, отец? Говорят, ты обвинил в чем-то всю Америку?
— Не в чем-то, а очень конкретно — в подлости. — Я кивнул в сторону шефа. — Вот он свидетель. Верно, Боби?
Боби повернулся к постели.
— Отдохни пока, сынок… Иначе всем нам несдобровать.
Он все понял, мой дерзкий сын. Обнажил в улыбке молочно-белые зубы, подмигнул Боби.
— Я буду стараться, шеф.
Эдди едва заметно кивнул, устало вытянулся в постели.
— А ты, отец?
Я хотел сказать, что отправляюсь на самый край света, и махнул рукой:
— Спи-ка, дружище!
В этот момент услышал я голос Марии: «Он будет хорошим сыном, он спит всегда спокойно».
И повторил:
— Спокойно спи!
Эдди уснул.
Я улетел в Нью-Йорк.
И тут, на самой оживленной улице Нью-Йорка, где меня начали нагло преследовать, я понял, что пути обратно нет. Меня гоняли, как обычную, заурядную, уготовленную на убой жертву: с улицы на улицу, из города в город, словно в банальном кинобоевике. «Не волнуйся, Джон, — сказал я сам себе. — Они убили твою жену, друга, искалечили сына и сейчас пытаются завершить операцию. Все, как положено, в этом дождливом дурацком мире… Объяви им войну, Бари, выживи сам и вызволи сына. Только тогда ты будешь нужен…»
И я объявил войну этому проклятому миру.
После того как Джо-смертник промахнулся и мою машину вынесло на ровный асфальт, я успел закончить домашние дела. Побывал на кладбище, простился с отцом и Марией. Погладил последний раз теплые уши У-у, подарил слоненка детскому дому. Надо видеть восторг ребят: они никогда не думали, что существует такое же озорное, почти фантастическое существо, как они сами…
В Париже я с трудом разыскал могилу матери, простился с женщиной, которую не видел никогда.
Прощай, прежняя жизнь, прощай — навсегда.
Позади осталась пустота, из которой надо вытянуть сына.
Чтобы знал я, что все миновало, чтобы всюду зияли провалы, протяни твои руки из лавра!
Чтобы знал я, что все миновало.
Кажется, так пела певица в тот вечер — накануне последней моей встречи с Марией…
Глава двадцать седьмая
Я открыл глаза, увидел белый потолок, вспомнил про снег. И один в палате. Неужели в Москве? Да, в Москве. Вспомнил, что мне обещана встреча с профессором Петровым.
Я скажу ему: это мой сын… Эдди… он с меня ростом, но… совсем еще ребенок…
Если слова не помогут, выну чековую книжку: «Любые расходы… Здесь несколько миллионов…»
И слышу в ответ суховатый голос: «Мы лечим бесплатно всех детей. От рождения и до… Понятно, надеюсь, вам, Бари?»
Я оглядел пустую комнату. Я неожиданно оказался в новом для себя мире.
В мире, где жизнь человека бесценна.
1978 — 1979 гг.
Примечания
1
Ф е д е р и к о Г а р с и а Л о р к а. Карусель. Перевод Инны Тыняновой.
(обратно)2
Перевод А. Гелескула.
(обратно)

![Атака из Атлантиды [сборник]](https://www.4italka.su/images/articles/433851/primary-medium.jpg)
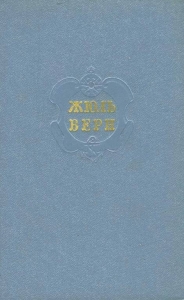
Комментарии к книге «Ноктюрн Пустоты», Евгений Серафимович Велтистов
Всего 0 комментариев