Сергей Герасимов
Самая опасная профессия
Пациент рассказывал, лежа на кушетке. Кушетка была холодной, покрытой белой простыней, а простыня наводила на мысль о больнице. Хотя это была не больница, а всего лишь частный кабинет дорогого психиатра. Или модного психотерапевта, если больным так больше нравится. Или экстрасенса, если вы уж совсем отчаялись.
Пациент начал рассказывать, и психиатр включил магнитофон. Он всегда фиксировал беседы, не столько для того, чтобы прослушивать их потом самому, сколько для того, чтобы иметь материал для лекций.
Сегодняшний посетитель жаловался на то, что он больше не может писать стихи. Во всем его облике, в словах, в жестах, в манере держаться сквозила легкая ненормальность, и психиатр это сразу отметил. Это еще не болезнь, но хождение по канату над пустотой болезни. Итак, он не мог писать стихи. Ну и что?
– Это для вас так важно? – спросил врач.
– Конечно. Это самая важная вещь в моей жизни.
– Вас когда-нибудь печатали?
– Тысячу раз. А вообще я поэт-песенник. У меня несколько хитов. Последний вот этот.
И он напел куплет, который уже несколько месяцев звучал на каждой улице, на каждом базаре и почти в каждом подземном переходе метро.
– Да, это очень популярная песня, – согласился врач, – Неужели ваши стихи?
Рассказывайте, рассказывайте.
– Сегодня мне исполнилось тридцать шесть лет, – продолжил посетитель, – а свои последние строчки я написал за два дня до того, как мне исполнилось тридцать пять. Вот уже год и два дня я не могу писать. У меня вообще исчезла способность подбирать рифму.
– Этого не может быть, – сказал врач, – дайте мне, например, рифму на слово «простой».
– Золотой. Но это не моя рифма, а Пушкина. «орешки не простые, все скорлупки золотые». Своей у меня нет. Я не могу найти рифму даже со словарем.
– Неужели?
– Да.
– Это серьезно, – сказал врач. – Возможен или истероидный характер, или поражение нервной системы. Но не хочу вас пугать. Обычно все проходит без следа. Я помню, было даже такое, когда врач начинал забывать названия лекарств, а у одного танцора наступал паралич ног, как только он собирался танцевать. Вам нужно отдохнуть, сменить занятие. Я выпишу рецепт. Если это не поможет, придется заняться более серьезным лечением. Все ведь зависит от причины. Если это органическое поражение, например, микроинсульт, то…
– Да знаю я причину, – сказал поэт.
– Знаете?
– Знаю. В этом вся и проблема. Но если я вам расскажу, вы примете меня за сумасшедшего.
– Ничего страшного. Вы пришли в правильное место, – туманно возразил врач.
– Ага. Но мне уже все равно. Поэты ведь особые люди. Они все в чем-то сумасшедшие. Я например, всегда слышал голоса…
– Так, – заинтересовался врач. – Это связано c вашими голосами?
– Еще как связано. Но это не такие голоса, которые звучат в ушах всяких психов. Иногда на меня что-то находит, и я хватаю карандаш, обязательно карандаш, простой и остро заточенный, и начинаю писать. Поэтому я всегда ношу мой карандаш с собой. Я записываю стихотворение от начала до конца. Мне диктует его голос. Иногда голос прерывается и мне приходится додумывать строчки самому. Иногда голос просто не приходит. Тогда мне приходится ждать его недели или даже месяцы. Но я знаю, как правильно настроиться, чтобы он пришел, я все же не любитель. Я профессионал. Один раз я начал писать прямо в кресле стоматолога – и моему зубу пришлось подождать. Потому что голос ждать не может.
– Простите, я вас перебью, – сказал врач, – вы пьете?
– Вопрос понял, спасибо. Как все. И курю. И даже пробовал кое-что поинтереснее. Поэт должен все познать на себе. Но я осторожен, я храню свой мозг так, как оперный тенор хранит свое горло. Это инструмент для зарабатывания денег. Ответ принят?
– А теперь ваш инструмент не работает?
– За два дня до моего тридцать пятого дня рождения я заканчивал текст песни, той самой, которая стала хитом, той самой, которая принесла мне кучу денег и даже славу. Мне не удавался припев. Я работал уже много часов и достиг сверхизмученного состояния, когда не видишь уже ничего и ничего не можешь.
Остались одни нервы и одно упрямство. Я должен был это закончить и все тут. Но голоса не было. Иногда я слышал какие-то обрывки, но это была чепуха на постном масле. Я злился все больше и больше. И вот в какой-то момент я перешел черту. Это была очень четкая черта, как будто я перешел горный перевал и подъем сменился спуском. Я ощутил, что моя жизнь мне надоела, что мне больше не хочется жить. Если бы у меня был пистолет, а особенно такой, который убивает без боли, я бы просто взял его и застрелился. Многие ведь поэты стреляются.
Маяковский, например. Другим просто не хватает мужества. Или пистолета.
И вот в тот момент, когда я это почувствовал, голос внутри меня проснулся.
Но он не продиктовал мне следующую строчку, нет. Он просто предложил обмен: строчку на жизнь.
– То есть, – уточнил врач, – он диктует вам стихотворение и вы умираете?
– Да, вроде этого. Он пообещал убить меня, но не сразу, а в мой день рождения. А день рождения был через два дня. Зато он пообещал, что строчки будут отличными, а песня будет иметь успех. А вы бы согласились?
– Ни за что, – сказал врач.
– Это потому что вы не поэт. Для поэта, если он только не полный халтурщик, творчество значит больше чем жизнь. Это такая профессия, опасная.
Есенин перерезал себе вены, потому что не имел чернил. Он написал стихотворение кровью и преспокойненько с удовольствием умер, вылезя в окно и повесившись с наружной стороны здания у всех на виду. Он умер еще до того, как из него вытекла вся кровь. Может быть, он тоже слышал голос и голос пообещал ему то же, что и мне. Как вы думаете?
– Может быть, – осторожно сказал врач и что-то отметил в блокноте.
– Итак, я принял условие. Я закончил песню и в тот же день получил деньги за нее. Я писал под заказ. И деньги мне были очень нужны. Наступило утро дня рождения. У меня не было никакой меланхолии, никакого желания умирать. Я был здоров как бык и полон сил. Я решил побороться за свою жизнь. Я не вполне верил обещаниям голоса. Одно дело слова, которые он диктовал мне, а другое дело – реальные физические события, люди или камни, которые нужно переместить, чтобы убить меня. Понимаете? Голоса имеют власть над словами, немного – над настроением, но не над реальностью. Поэтому я не собирался сдаваться. Мне нужно было продержаться всего около шестнадцати часов, пока закончится этот день.
Просто выжить.
На завтрак у меня был жареный сазан, а празднование планировалось после обеда. Я уже поел рыбу и мыл руки, как услышал голос. Голос сказал, что нечто уже пришло. Чувствуете, какое замогильное слово «нечто»? «Ну и черт с тобой!», – ответил я и продолжал мыть руки.
– Голос мужской или женский? – спросил врач.
– Конечно нет. Голос был без всякого звукового оформления, чистая идея. Вы что, никогда не писали стихов?
– Продолжайте.
Через пару минут вошла моя домработница и сказала, что меня ждет какой-то ребенок. По ее словам выходило, что это был мальчик лет десяти, в дешевом пальто. Я пошел и аккуратненько выглянул через стекло двери, но не своей двери, а из боковой комнаты. Я не хотел, чтобы этот мальчик, или кто он там есть, меня увидел. Он меня и не увидел. Я смотрел на его профиль и обдумывал ситуацию.
Конечно, я не собирался его впускать, совершенно не собирался. Но как только я принял это решение, как мальчик повернул голову ко мне, спокойно посмотрел мне в глаза и в моей голове прозвучал голос: «Я ведь все равно за тобой приду. Даже если не сейчас, то в следующий день рождения.»
Мне стало так страшно, что я будто примерз к своим тапочкам. Мальчик посидел еще минутку, встал и вышел, ни слова ни говоря. Слава богу, что я согласился с голосом, что умру в свой день рождения, но я ведь не уточнял в который день рождения. Поэтому, если я буду аккуратен всего один день в году, то у меня есть шанс прожить очень долго.
Поразмыслив об этом, я успокоился. В этот день я даже вышел из дому в магазин. Но как только я вошел в магазин, я увидел того же мальчика. Теперь он был маленьким нищим, он стоял в вестибюле и перед ним лежала старая драная кроличья шапка с монетками. Я прошел мимо него, не глядя. К сожалению, из магазина был всего один выход и он же вход. Я купил то, что собирался, а именно комплект гитарных струн, и теперь должен был снова пройти мимо маленького убийцы. Я собрался с духом, подождал, пока соберется побольше людей, втиснулся между ними и собрался проскочить.
Но тут я не рассчитал. В дверях произошла какая-то заминка и меня оттеснили прямо к убийце. Я почувствовал, как его мягкая детская ладошка оказалась в моей руке. Он взял меня за руку и я удивился нежности его пальцев – кажется, я все время ожидал чего-то грубого и зверского. Но не могли же у него расти когти, в конце концов. Так мы и вышли на улицу, держась за руки.
– Лучше сейчас, чем потом, – сказал он. – Потом будет больнее.
– Нет, – ответил я.
– Хочешь, я убью вместо тебя кого-то еще? – предложил он.
– А это возможно? – сразу обрадовался я.
– Ну конечно.
– Кого?
– Мне все равно. Его, например.
Он указал мне на мужчину, стоявшего на ступеньках у подъезда. Мужчина выглядел сильным.
– А у тебя получится? – спросил я.
– Придется постараться.
Его мягкая ручка влезла в мой карман и взяла струну.
– Это подойдет, – сказал он, – я его задушу.
И он спокойно пошел к этому человеку в коричневом пальто. Я смотрел, как завороженный. Что произойдет сейчас? Прямо на глазах всей этой толпы людей мальчик будет душить взрослого мужчину гитарной струной? Как это возможно?
Но мужчина вошел в подъезд. Убийца вошел вслед за ним. Боже мой. Сейчас за этой дверью убивают человека, которого я приговорил. И тут мне подумалось нечто совсем дикое. Не то чтобы я хотел спасти невиновного; мне показалось, что я неправильно распорядился своим шансом. У меня ведь было несколько врагов, были и такие, чья смерть меня бы очень обрадовала. Я человек творчества, у таких всегда есть враги. А я неправильно выбрал жертву.
И я бросился к двери. Я увидел то, что и ожидал увидеть. Маленький убийца сидел сверху лежащего человека и изо всех сил затягивал струну. Но жертва еще была жива и здорово брыкалась. Я посильнее ударил нападавшего в затылок, он выпустил струну, откатился к ступенькам и быстро вскочил на ноги. Мужчина в пальто поднялся, его лицо было желтым и в крови, и он хватал воздух как рыба. Но в общем-то я успел. Он был жив и здоров.
– Держи его! – заорал я, и мы вдвоем бросились преследовать это маленькое чудовище.
Ребенок взбежал на второй этаж, выбил стекло и выпрыгнул оттуда на тротуар.
Я заметил, что на осколках осталась кровь; кровавая цепочка потянулась по улице – он сильно порезался, когда выбивал стекло. Это значит, что он смертен. Тем лучше.
Улица была довольно людной, но толпы не было. Далеко он все равно бы не убежал. Он нырнул в подъезд соседнего дома, но мы были уже просто в двух шагах от него. Я рванул дверь, но он пропал. За дверью лежало старое пальто с клочьями ваты, шапка и немного рассыпанной мелочи. Носовой платок, пропитавшийся кровью; много крови. Уйма плевков на полу. Множество окурков. Но это все. Он исчез.
– Спасибо вам, – сказал спасенный.
– Не за что, – лицемерно ответил я.
– Я ваш должник.
– Нет, что вы. Идите к врачу.
Я вышел из подъезда и быстро пошел не оборачиваясь. Знал бы он, что произошло на самом деле.
Я не собирался возвращаться домой. Я испугался. Дома меня наверняка кто-то ждет. Почему-то я был в этом уверен. Я паниковал. Это было как волна и я не понимал, куда это волна меня несет. Я убегал, я бежал куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Я оказался на вокзале и купил билет на ближайший поезд. Поезд шел, кажется, в Вятку. Я понятия не имел, где эта Вятка, но надеялся, что она далеко.
Я едва успел на поезд. Я смотрел в окно, чтобы увидеть, не садится ли за мной кто-нибудь подозрительный. Но людей было очень мало. Никто не сел. Я заказал чай и начал успокаиваться. Я уже ехал около часа или полутора, когда в мое купе вошли.
Первым втиснулся громадный мужик в тулупе и с бородой, причем в бороде висели крупные крошки белого хлеба. Он него несло старым потом и дорогой колбасой. Вслед за ним вошли еще двое таких же, но чуть поменьше размерами. Все они были толсты, грязны и имели татарские лица.
– Я вернулся, – сказал первый.
Вслед за этими людьми втиснулась еще и большая белая свинья, с вот такой здоровенной головой. Свинья как ни странно, была чистой. Она положила голову мне на колени и продолжала что-то жевать. Ее уши были щетинистыми изнутри и розовыми. Шея у нее была теплой, как грелка.
– Она кусается? – глупо спросил я.
– Очень, – серьезно ответил мужик. – Может откусить руку. Я же предупреждал, что лучше сразу, что дальше будет больнее.
– А если убить кого-то другого? – робко предложил я.
– Уже пробовали, второй раз не пройдет.
Один из них стал распаковывать свой чемодан. Я старался не смотреть на то, что там внутри.
– А если я?..
– Что ты?
– А если я сам убью кого-то другого? Вам даже не придется стараться.
– Пойдет, – согласился самый большой из них, – нам вообще все равно. Иди в соседнее купе, налево, там сидит женщина и читает книгу. Или что-то пишет.
Возьми с верхней полки чемодан. Это твой чемодан, там даже есть твои документы.
Ты везешь две пары гантелей, поэтому чемодан тяжелый. Когда будешь его вытаскивать, урони. Он упадет прямо ей на голову и сразу же убьет. Напротив сидит старуха, она подтвердит, что это был несчастный случай… Не вставай так быстро. Щас я ее подержу.
Он зажал свинье пасть и, пока та мотала головой, пытаясь освободиться, я кое-как вышел. Дверь соседнего купе была открыта. Женщина писала за столиком.
Старуха сидела напротив и пялилась в окно, где проплывал красивейший пейзаж из вечерних сосен, дальней реки и темнеющего неба с первой звездой. Большой черный чемодан лежал на верхней полке. Я остановился у дверей.
Я смотрел на строчки, которые писала та женщина. Она была молода, может быть, какая-нибудь старшекурсница, полновата, с тяжелыми длинными волосами – она была из тех, что в детстве стараются быть хорошими, в школе учатся на отлично, а начав жизнь, вдруг перестают понимать, что с этой жизнью делать. Я все угадал сразу – уже по легкой напряженности ее позы, по тому, как она держала карандаш, по наклону ладони левой руки – которая, казалось, не знала, прикрывать ей листок или нет. Я все понял, взглянув на мельчайший неразборчивый почерк, которым писала она, угадал по форме строк, по тому, как она вычеркивала слова.
Все это было знакомо мне как я не знаю что. Как собственный пупок. Она тоже была поэтом.
Она подняла глаза и посмотрела на меня. Она ожидала моего прихода, но не собиралась сопротивляться; она всего лишь хотела закончить последнее стихотворение, еще минуту или две минуты, попросили ее глаза; она смотрела на меня, на своего убийцу, без всякой ненависти или страха, ее мозг был занят другим – вслушиванием в размеренные строки, которые диктует этот проклятый голос. В ее взгляде было такое плотное, не побоюсь слова, плотное понимание происходящего, что этот взгляд протянулся между нами как веревочный мостик. До сих пор я был уверен в своей уникальности; я был уверен, что только я слышу голос, истинный голос; что выбор – строка или жизнь – был предложен только мне одному. Но, оказывается, – тут мне открылось – это случается с любым поэтом, поэтому поэты и дохнут как мухи, поэтому смертность среди поэтов выше, чем среди каскадеров или спортсменов-экстремалов.
Я бросился бежать по коридору. Поезд как раз проходил поворот, меня занесло с разгону и я ударился о дверь, потрясающе разбив губу. Краем сознания я ощущал, что преследования нет. Раз они не идут сзади, значит, ждут впереди.
Но я все равно дернул стоп-кран. К счастью, две молоденькие проводницы о чем-то там болтали. Когда я дернул кран, поезд резко затормозил и они свалились на пол, показав толстые коленки. Не помню, что я вопил, но из разбитого моего носа стекала кровь на рубашку и вообще я наверное выглядел страшноватенько. Потому что они очень быстро открыли мне дверь – не говоря уж о том, чтобы попытаться задержать. И я выпрыгнул в холодный вечерний лес и покатился по склону, раздирая себе все, что можно разодрать. Все, что близко к поверхности тела. А когда я превратился в сплошной стонущий синяк, лежащий в скрюченной позе в кустах, поезд тронулся – сразу же, через несколько секунд.
Теперь я был среди глухого леса, надвигалась темнота. Никаких признаков цивилизации, кроме, конечно, насыпи с железной дорогой и столбов вдоль нее.
Самое место, чтоб меня тут пришлепнуть. Конечно, если пройти километров пять по шпалам, это как максимум, то выйдешь на станцию, а от станции всегда идет дорога к человеческому жилью. Только нужно ли мне идти куда-то?
Я вскарабкался на насыпь. Вдалеке шел человек. Темнело и я не мог хорошо разглядеть его. Но это был человек с собакой. Он шел в мою сторону. Он будет здесь минут через десять. Если я брошусь бежать, то собачка догонит меня минуты через три. Если спрятаться в лесу… Навряд ли это поможет, потому что до двенадцати ночи оставалось еще больше пяти часов. Столько мне не продержаться.
К счастью, у меня всегда с собой мой простой карандаш и блокнот с лучшими стихами. Лучшими – это значит теми, которые пока никто не напечатал и вряд ли напечатает в ближайшее время. Лучшее никому не нужно, сейчас в моде посредственное. Я сломал карандаш; стал мощно рвать из блокнота страницы со стихами и сжигать. Зажигалка у меня тоже всегда с собой. Я должен успеть все сжечь, пока они подойдут.
– Зачем? – спросил врач.
– Я понял, что поэт – самая опасная профессия на земле. Рано или поздно каждому предлагают выбор: строка или жизнь. Поэтому половина великих поэтов не доживает до сорока лет. Какая другая профессия может похвастаться такой статистикой? Аполинер умер в 28 лет от гриппа, Блок в 40 Катулл в 30, Сирано в 36, Гоголь в 43, но он не совсем поэт, Калидаса в 40, Китс в 26, Лермонтов в 27, Пушкин в 38. Но был ведь и Рембо!
– А что Рембо? – не понял врач.
– Рембо выжил, но с девятнадцати лет перестал писать. Он выкрутился! Он сделал обратный обмен – обменял свою поэзию на свою жизнь. Бросил поэзию в пасть этому демону – и остался жив. И я сделал то же самое – я сжег свои стихи.
– Но ведь рукописи не горят? – предположил врач.
– Разумеется. Но это был единственный экземпляр. 88 стихотворений. Я их все помнил наизусть, как помню и сейчас. Я никогда не запишу их и не напечатаю.
Поэтому я буду жить и жить и всех переживу. Это были отличные стихи. Хотите прочту?
И, не дожидаясь ответа, он прочел.
– Ну как?
– Мне понравилось, – сказал врач. – Особенно понравилась строчка про двух слепых скульпторов, которые лепят лица друг друга. Но честно говоря, я в стихах не разбираюсь. И что было дальше?
– А дальше я успел сжечь все, пока человек с собакой приблизились. Они меня не тронули. Я все думаю, а что, если бы в тот день дул сильный ветер и он бы помешал мне быстро сжечь листки?
– И вы вернулись домой?
– Да. И теперь я не могу написать ничего. И мне кажется, что я прогадал.
Жизнь моя сейчас довольно дряная штучка, точно такая же дряная, как у всех других. Договор вступил в силу: я разучился находить рифму. После того, как я разучился находить рифму, в жизни нет никакого смысла. Поэтому я пришел к вам.
Я хочу и писать и жить, и то и другое – одно без другого для меня не имеет смысла. Помогите мне.
– Для начала я все же выпишу вам рецепт, – сказал доктор и выписал.
Они поговорили еще пятнадцать минут и прием закончился.
– Может быть, это все-таки была галлюцинация, – сказал поэт напоследок, – потому что моя домработница не помнит никакого жаренного сазана на завтрак. А она не может ошибиться. Знаете, мне хочется написать последнее стихотворение на тетрадном листке, положить его на стол и умереть. Ведь сегодня мой день рождения – значит, это можно проверить сегодня. Как вы думаете?
Поэт должен был прийти на прием в следующий четверг, но не пришел. Врач позвонил ему домой и узнал, что поэт умер во сне, объевшись салата оливье во время празднования своего дня рождения. Глупейшая смерть в расцвете лет.
– А записка? – испугался врач, – он должен был оставить записку со стихотворением! тетрадный листок на столе!
– Был листок.
– И что в нем?
– Всего одна строка: «Я не решился. Писать не буду».
– Вы уверены?
– Абсолютно. Он не написал ничего за последний год. И все его старые стихотворения уничтожены.
– Извините, – сказал доктор и положил трубку.
Просто совпадение. Или самовнушение. Он ведь был уверен, что умрет именно в свой день рождения – он был настолько уверен, что слышал и видел галлюцинации – а воображение творческого человека – великая сила. Особенно если этот человек не совсем здоров психически. Но почему он должен был умереть, если условия договора не нарушены?
Последний вопрос заинтриговал психиатра больше всего. В каком бы внутреннем бреду ни жил этот человек, он все равно должен быть уверен, что будет жить, потому что подписал договор – подписал уничтожением того блокнота.
Преследование должно было прекратиться. И самовнушение не позволило бы ему умереть в свой день рождения. Чтобы разрешить эту загадку, доктор еще раз прослушал магнитофонную кассету. И тогда он понял.
Я и моя жизнь – мы пара слепых скульпторов, Мы лепим лица друг друга, Мы протягиваем тонкие пальцы…Договор все-таки был нарушен: на кассете осталось стихотворение. Одно из восьмидесяти восьми сохранилось. Голос поэта читал его заунывно, но очень отчетливо.


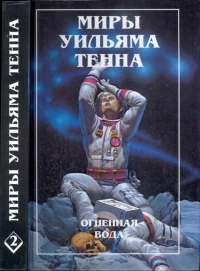
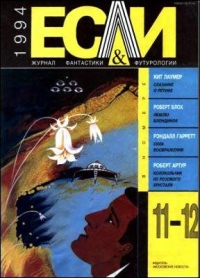


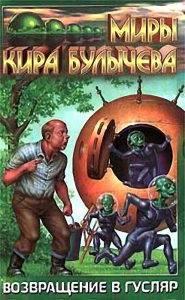
Комментарии к книге «Самая опасная профессия», Сергей Герасимов
Всего 0 комментариев