Святослав Логинов Мед жизни
Если силы зла озлились, а силы добра раздобрели – жди новый роман.
Святослав ЛогиновФэнтези
Книжник
За древней книгой он сидит,
Её внимательно читая.
А. С. ПушкинВладельца постоялого двора можно было понять: если и вправду к полудню разыграется трёхдневная метель, то было бы глупо лишаться единственного богатого постояльца. Новые путники за это время вряд ли прибудут, а этот, ежели останется на днёвку, уже никуда не денется. Потому и не жалел трактирщик красноречия, обещая господину путешественнику настоящую горскую кухню («Вепрятина с грибами, милорд! Последние в этом году свежие грибы и первый вепрь, затравленный по пороше! Такое попробовать – сегодня или никогда!») и вино урожая двадцать восьмого года («Бочку уже выкапывают!»).
Самое удивительное, что всё обещанное было чистой правдой, разве что бочку покуда не тревожили, понимая, что, если состоятельный путник уедет, пить дорогое вино будет некому. Местные гуляки, конечно, соберутся на праздник и грибного вепря слопают, но винцо им сойдёт и поплоше. Ещё более удивительным казалось, что хозяин ни разу не попытался напугать путешественника трудностями пути, слухами о разбойниках и перспективой замёрзнуть, ежели пурга застигнет посреди дороги. Само по себе предполагалось, что путники успеют к обеду достигнуть каких-то Берложек, а уж там наверняка застрянут на все три дня.
– Вы лучше у меня!.. – внушал хлебосольный трактирщик. – Нечего благородному человеку в Берложках делать: ни еды приличной, ни обхождения. Только и есть радости, что тепло. А до Крепостиц вам допрежь метели никак не уложиться. Так и будете маяться в одном переходе.
– С чего ты решил, – медленно спросил Асартан, – что я собрался в Крепостицы?
– Так этой дорогой никуда больше не попасть! Летом, само собой, можно пробираться через перевал в Поречье, хотя добрые люди там и среди лета не ходят, одни контрабандисты и прочий сброд, кому пореченские заставы стороной обойти надо. А зимой вовсе пути нет, только до Крепостиц. Конечно, моё дело – сторона, я могу поверить, что вы в Берложки погостить собрались или в Поречье среди зимы пройти вздумали, но только в деревне всякая собака знает, что вы идёте в Крепостицы к Книжнику.
– Врать не стану, – легко согласился Асартан, – мы действительно идём к Книжнику. И надеюсь, успеем добраться прежде вашей хвалёной метели.
«Прежде чем Книжник успеет заслониться метелью…» – добавил он про себя.
– Не успеете… – вздохнул трактирщик. – В Берложках застрянете.
«Ещё полчаса болтовни – и точно застрянем», – подумал Асартан.
По счастью, дверь распахнулась, показался Колпин.
– Лошади готовы! – хрипло объявил он.
Колпин исполнял должности телохранителя и слуги, хотя рожа у него была самая бандитская. И если бы только рожа! Всего год назад Колпин считался самым опасным грабителем южных графств. Но потом его путь пересёкся с дорогой Асартана, и разбойник пошёл в услужение. Конечно, можно было бы попросту отправить его на виселицу, но Асартан не любил уничтожать людей, если из них можно сделать что-то путное. А слуга из Колпина получился расторопный и не задающий лишних вопросов.
Асартан легко вскочил на лошадь.
– Будь удачлив, кабатчик! На обратном пути мы непременно отведаем свинины с грибами!
Трактирщик огорчённо бормотал, что вчера, мол, выпал снег и грибы, что кипят в котле, последние в этом году, а вепрятина, напротив, – первая, но Асартан не слушал причитаний торгаша. Отдохнувшие кони легко вынесли путников на заснеженную дорогу, по которой не было протроплено ещё ни единого следа. Добрая примета, значит, никто не предупредит Книжника, что к нему едут незваные гости.
Снег на дороге лежал в полкопыта, ничуть не замедляя галопа. Колпин, не отставая, держался за спиной и сопел от усердия. Всё складывалось удачно.
Погода начала портиться незадолго до полудня. Солнце затянуло дымкой, снежная пудра, возникая из недвижимого воздуха, закружила перед лицами. И лишь затем с близкого хребта потянуло ледяным дуновением.
Асартан запахнул на горле подбитый ветром плащ и принялся понукать коня. Колпин тоже пришпорил скакуна, едва не вырвавшись вперёд. Слуга был укутан в валяную шерстяную бурку, и уже первые предвестники грядущего бурана просквозили его, напомнив, что от стужи с вершин тёплая одежда не защитит. Асартан покуда чувствовал себя уютно, плащик, подбитый тёплым южным ветром, противостоял ледяному дыханию гор. Но когда стихия ударит…
Нужно было торопиться, и путники подгоняли коней, привставая на стременах перед каждым поворотом, выглядывая обещанные Берложки. Обещание сбылось, когда на его исполнение уже не оставалось времени. Берложки оказались малым хуторком: три или четыре приземистых дома и десяток придворных построек на отшибе. Сквозь низкие, в одно бревно, окошки сочился свет, надвигающаяся метель сгустила в домах раннюю тьму.
Всадники спрыгнули с лошадей, и, словно дождавшись этого мига, ветер, осторожно закручивающий смерчики вдоль обочин, ударил с ураганной силой, разом смяв тёплую подкладку зачарованного плаща и насквозь просвистев плотную одежду слуги. Окружающее немедля скрылось из глаз, завешенное стеной несущегося снега. Ураган вздымал снег с земли, сметал с горных склонов, обрушивал из туч, явившихся над перевалом. Ежели такое и впрямь продлится три дня, то, когда станет погода, придётся Берложкам выкапываться из-под снега словно медведю, не вовремя потревоженному охотниками.
По счастью, из дома в последних отблесках убитого полудня успели заметить путников. В метельной темени обозначился светлый прямоугольник, всклокоченная фигура в нагольном тулупе подскочила к лошадям, ухватив за узду, потащила за собой, словно прямо в дом хотел завести хуторянин озябших лошадей.
Так и оказалось. Кони, а следом и оглушённые бурей всадники, ступили в дом. Хуторянин навалился на широкую, воротам впору, дверь. Колпин кинулся на помощь, удвоенными усилиями дверь была захлопнута, буран остался снаружи.
Обширное помещение освещалось и слегка согревалось пламенем очага. У дальней стены стояли три коровы, метался в загончике поросёнок и гуртилось с полдюжины овец. Здесь же лежала пара лохматых собак, не иначе крестьяне собрали под крышу всю живность, которая без этой заботы непременно погибла бы во время снеговерти. Туда же, к навозной стене, хуторянин отвёл и лошадей, привязав их бок о бок со своими коровами. Лишь затем повернулся к гостям:
– Вовремя успели. Что ж вас не предупредили в Селищах, что с полудня трёхдневная метель начинается?
– Нас предупреждали, – ответил Асартан, растирая обожжённые морозом щёки, – только обещали, что к вам-то мы в любом случае доскачем.
– Вот и доскакали, – согласился мужик. – В самую пору к обеду, – он кивнул на очаг, где, распространяя запах грибов и варёной требухи, булькал котёл. Две немолодых женщины хлопотали возле огня, толстые ломти мяса жарились на решётке, жирный чад плавал под потолком. Здоровенная вепрячья голова, неразделанная и плохо опалённая, валялась неподалёку, недвусмысленно подсказывая, чем именно будут потчевать гостей. Если уж решила судьба угостить тебя грибным вепрем, то скачи – не скачи, а от вепрятины с грибами не ускачешь.
– Грибы-то какие? – спросил Асартан. – Вроде по эту пору грибов уж не бывает.
– У нас – бывают, – странно ответил владелец Берложек. – Проходите в белую избу.
В белой избе, куда вели три крутых ступени, было гораздо теснее и почти так же чадно, как и в чёрной. Вместо открытого очага в доме топилась печь, а на столе трепетала огоньком толстая сальная свеча. Народу в избе скучилось человек восемь. Кто сидел на лавках, а младшие так и вовсе ползали по полу. На столе исходила паром миска, полная отварного гороха, здесь, как и всюду по окрестным селениям, начало зимы отмечали пиршеством, которое будет длиться, покуда на улице бесится трёхдневная метель. А что ещё делать, если буран запер по домам селян и ремесленников, бедных и зажиточных? Только подсчитать припасы и высыпать в котёл последнее лукошко прихваченных морозом осенних опят. Да ещё, если уверен в приходе метельной поры, заранее выкопать заветную бочку урожая двадцать восьмого года.
Вина в Берложках не водилось, но было пиво, изрядный жбан которого стоял рядом со свечой, радуя приехавших пышной шапкой медленно оседающей пены. Из уважения к гостям хозяйка достала глиняные миски и пузатые кумки, чтобы каждый мог есть и пить из собственной посудины. Из чёрной избы внесли котёл и скоблёные доски с мясом. Горох щедро полили жирным варевом и, пожертвовав обычаем, разложили готовое блюдо по мискам.
– Прошу к столу, – пригласил хозяин.
Асартан и Колпин уселись на гостевых местах, поближе к свече и пиву, достали ножи. Оба знали, что мясо каждый будет резать себе сам. Впрочем, касается это только взрослых мужчин, дети и женщины ждут мужского угощения, а нет, так обходятся грибами и требухой. Хотя, судя по башке, что лежала возле очага, сегодня все получат мяса, сколько в утробу вместится.
Хотя гости уже расположились за столом, ни хозяин, ни его домочадцы, ни работники рассаживаться не спешили.
– Прошу к столу, – повторил хозяин. – Вепрь ждёт.
Гора шуб, наваленных на печи, зашевелилась, показалась белая всклокоченная голова, затем с приступки сполз высокий и худой, совершенно седой старик. Одет он был в одно исподнее и в полутьме казался измождённым привидением. Старик сунул ноги в растоптанные валенки, прошаркал к столу и уселся рядом с гостями. Лишь затем зашевелились все остальные, рассаживаясь согласно неписаному, но всем ведомому распорядку.
Старик взялся за ложку и, лишь обнаружив, что вместо общей посудины перед каждым поставлена особая миска, понял, что в доме гости. Приложив ладонь к груди, старец приподнялся на лавке, обозначив поклон.
– В Крепостицы пробираетесь, к Книжнику, – то ли спросил, то ли просто сообщил он.
Асартан криво улыбнулся. Что можно сказать, если каждая собака в округе знает о цели твоего путешествия?
Некоторое время ели молча, затем, когда жбан опустел и был вновь долит доверху, беседа возобновилась:
– Небось Галик, трактирщик селищенский, уговаривал у него остаться, – старец перевёл выцветший взгляд на Колпина. Тот продолжал уписывать свинину, отрезая от окорока, водружённого на середину стола, один ломоть за другим.
– Было и такое, – ответил Асартан враз на оба вопроса.
– Правильно, что не послушали его, – старик отёр с жидких усов пивную пену. – Снега у нас нешуточные. Трёхдневная метель дорогу завалит – коням по грудь. Зря намучились бы. А ждать, покуда её другие проложат, – тоже невелика сласть. В Селищах про нас говорят: «Туда три утра тропу тропить». Оно и верно, меньше чем в три дня не уложишься, а то и всю неделю клади. А отсюда, даже по бестропью, за день к Крепостицам протопчетесь.
– Большая там крепость? – спросил Асартан, прислушиваясь к вою бури за стеной. Теперь, когда метель разошлась в полную силу, можно было не сомневаться: не просто непогода бушует над горами. Снежную круговерть спустили с цепи магические силы. Рука Книжника, кому же ещё… Одним бы глазом глянуть, чем он занимается сейчас, полагающий себя в безопасности, ограждённый от мира трёхдневной метелью.
– Нет там никакой крепости, – ответил за старика его чернобородый сын. – Прежде была, так её камнепадом побило. Две башни полуразрушенных остались, вот их Книжнику и отдали для волшебных дел. Ещё хутор есть, вроде нашего, Морух с семьёй живёт. Хутор и называется Крепостицами. А солдат там давно нет, кому они нужны, если с Поречьем сто лет войны не было.
– А с чего вы уверены, – осторожно спросил Асартан, – что метель продлится ровно три дня? Может, она к утру затихнет или, напротив, на неделю разгуляется.
Хозяин снисходительно рассмеялся.
– Так она потому и называется трёхдневной, что послепослезавтра к утру затихнет. Минутка в минутку. Это всякий знает.
– На равнине о таком не слыхивали, – улыбнувшись, произнёс Асартан и, словно невзначай, добавил: – Нет ли тут какого чародейства?
– Как же без чародейства в таком-то деле? – с готовностью подхватил хозяин. – Сама по себе трёхдневная метель не сладится.
– Книжник? – подсказал Асартан.
– Можно сказать, что Книжник, – рассудительно покивал крестьянин, – хотя если по правде, то не он один. Все, кто в ведовстве маракует, к этому делу руку приложили. Марух помогал и мой дед тоже два дня кряду ворожил. Ишь как притомился, к столу не добудиться.
– Притомился… – эхом откликнулся старец, облизал ложку и потянулся за новой миской каши. Жареная кабанятина не поддавалась обеззубевшим дёснам, и дед довольствовался печёнкой и кусочками лёгкого, покрошенными в котёл.
– Зачем? – с искренним недоумением спросил Асартан.
– А как же без этого? Прежде, деды рассказывали, осень как попало начиналась. То морозы среди августа по огородам пройдут, то метель охотников в горах прихватит, то ещё какая беда. А нынче вместо беды – праздник. До октября – тёплая осень, потом день на охоту, а там и метель. Когда о непогоде заранее знаешь, так и буран в радость. Сейчас, поди, в каждом доме свинину едят, разве что очень охотникам не потрафило. Но тут уж сам виноват, не колдун. Так что Книжником вся округа очень даже довольна…
Крестьянин говорил что-то ещё, но Асартан не слушал. Он молча пил пиво и лихорадочно пытался составить новый план. Подобраться к сопернику втихаря не удалось, это ясно как дважды два. Раз слабоумный дед ходит у Книжника в подручных, то можно считать, что и сам чародей сидит с ними за столом и слушает разговоры. И хотя уши у старика глухие, но Книжник всё слышит преотлично. Асартану порой тоже приходилось пользоваться такими приёмчиками.
Ладно, не удалось напасть – начнём переговоры.
– А что, – проговорил Асартан, – Книжник так просто зовётся или у него и впрямь книга имеется?
– Имеется, и не одна, – ответил хуторянин.
– Просто книги и у меня есть, – Асартан покривил губы, досадуя на мужицкую глупость. – Я о волшебной книге говорю, в какой тайная магия запечатлена. Если он настоящий книжник, то у него колдовская книга должна быть.
– Так и я о том же! – Мужик наклонился к пришлому магу и принялся втолковывать, словно малому ребёнку: – Колдовские у него книги, самые что ни на есть волшебные. Я их сам видал, только читать не получалось. Вообще-то я грамотный, а тут и открыть книги не сумел. Можно, говорю, посмотреть? – а он смеётся: посмотри, посмотри!.. Книгу дал, а мне её не открыть, будто там страниц и в заводе нету! Так-то вот!
Асартан покачал головой, демонстрируя сомнение. Ему не нравилось, что с ним играют в поддавки, за лёгкостью, с которой мужик сообщал тайные сведения, чудилась ловушка, волчья яма, вырытая посреди тропы. Провокация казалась слишком дешёвой, и Асартан рассудил, что не стоит притворяться, будто поддался на такую наивную уловку. Притворство может только усилить недоверие.
– Фокусы это, – проворчал он не столько для собеседника, сколько для невидимого слушателя, что скрывался за бесцветным взглядом старика. – Жонглёрство. Ни один чародей, если у него настоящая книга есть, из рук такое сокровище не выпустит. Ведь это значит – свою мощь другому отдать. Потому и книг на свете так мало. Волшебную книгу написать – своей силой поделиться. В прежние времена, говорят, были маги, которые писали книги, но теперь они все повывелись. Теперь чаще по-другому бывает: раздобудет какой-нибудь чудодей древнюю книгу, выучит наизусть, а саму книгу изничтожит, чтобы никто, кроме него, старых заклинаний не ведал. Потому и книг в мире почти не осталось. Ты уж, наверное, догадался, что я тоже волшебник, но я тебе честно скажу, что ни единой волшебной книги я на своём веку не видал. А ты говоришь, будто в руках её держал! Голову тебе Книжник дурил, посмеяться ему захотелось, вот и всё.
– Может, это у вас на равнине так, – набычился хуторянин, – а у нас тут Книжник живёт. Он эти книги пишет и раздаёт всякому, кто книгу раскрыть сумеет. Одну даже пореченскому знахарю подарил, хотя мы с пореченскими не дружимся. Войны у нас сто лет не было, а дружбы – так всю тысячу. Но Книжник и пореченским книги не пожалел. А уж у своих книги, почитай, у каждого есть. Да хоть бы деда нашего взять…
– Язык прикусил бы… – неожиданно ясно произнёс старик, только что клевавший носом над пивной кружкой. – Выпорю!
– А что я такого сказал? – вскинулся хуторянин. – Подумаешь, тайна! Всё равно все знают, что у тебя книга есть. И у него, ежели он впрямь колдованию обучен, тоже будет. Книжник как раз в эту пору работу заканчивает. Думаешь, почему эти двое сквозь метель тащились? Книжник сочинять кончит и только начнёт думать, кому бы книгу подарить, а эти уже тут как тут. Вот им и достанется.
– Интересно, – промолвил Асартан, – в этом краю что-нибудь тайно можно сделать, или о всяком хотении всякая собака заранее знает?
– Втайне только муж от жены гуляет, – подтвердил хуторянин, – так и о том соседи судачат. А старики наши волхвов из себя корчат, о тайнах шушукаются… Ладно, дед, хватит выкобениваться, покажи гостю книгу. Небось не отнимет её у тебя и не изничтожит, как тут рассказывал. У Книжника для него уже приготовлена книжица, ещё и потолще твоей. Видишь же, человек добрый. Злой бы давно хутор вверх дном поставил, а книгу сыскал бы. И не тебе, старому, ему противостоять.
Старик недовольно пожевал беззубым, провалившимся ртом, потом молча кивнул. Мальчуган, сидевший на полу позади лавок, радостно подхватился и кинулся на печь. Через полминуты он явился оттуда со свёртком. Хуторянин рукавом протёр стол, заляпанный пивом и жирной подливкой, водрузил свёрток на стол и осторожно развернул льняное полотно.
Асартан увидел книгу. Это и впрямь была новая книга, телячья кожа переплёта казалась совсем свежей, а руны на корешке, выполненные простыми чернилами, не выцвели и не затёрлись. Одна строчка причудливой рунной вязи: «Книга мага».
– Во! – с гордостью произнёс хуторянин. – Ну-ка, пусть вот он попробует её открыть…
Колпин поднял на Асартана взгляд и, встретив разрешающий кивок, придвинул книгу. Несколько секунд пальцы бывшего грабителя скользили по тонко выделанной коже, словно под рукой был не книжный переплёт, а бегучая ртуть. Лицо телохранителя оставалось бесстрастным. Колпин протянул руку за ножом, вероятно собираясь поддеть непокорную обложку стальным лезвием.
– Не надо, – спокойно скомандовал Асартан, и рука замерла на полпути. – Мне посмотреть можно?
Ох, как страшно было задавать этот невиннейший для непосвящённого вопрос! Можно ли посмотреть чужую книгу заклинаний? Ведь ясно же, что никакая это не книга, а ловушка, расставленная на жадных гостей. Скромный том, запечатанный простеньким заклинанием, но если открыть его… только мастер, сварганивший адскую машину, знает, чем он её начинил…
Хуторянин довольно ржал, наблюдая за попытками Колпина. Седоволосый знахарь сидел выпрямившись на лавке и ревниво надзирал за своим сокровищем. С тех пор как книга явилась на свет, старец не произнёс ни слова.
– Смотри, ежели сумеешь, – ответил за отца хуторянин.
Изготовившись к самому худшему, Асартан коснулся переплёта. Книга и впрямь была запечатана слабеньким заговором. Его даже не пришлось снимать, заклинание почувствовало силу в руках прикоснувшегося и уступило дорогу. Пока что в этом не было ничего опасного – обычная предосторожность, чтобы в книгу не лазали дураки. По рассказам, волшебная застёжка имелась на любой книге, толкующей о тайнах колдовства. Здесь застёжка была самая простенькая, она поддалась бы любому, хоть немного владеющему магией. Асартан, если бы захотел, мог бы запечатать книгу так, что не всякий признанный маг ухитрился бы справиться с застёжкой. Иное дело, что скрывается под простенькой печатью.
Не дракон же там!
Асартан осторожно раскрыл том. Ничего не случилось. Во всяком случае, не случилось ничего пугающего. Самое удивительное, что это действительно была книга заклинаний! Пергаментные страницы оказались густо покрыты строками, над каждым заклинанием красовались заголовок и картинка, выполненная теми же чернилами. «Чтобы червец капусту не гноил, – прочёл Асартан. – От стылой росы огурцы уберегать». Магия какая-то огородная… Асартан перелистнул несколько страниц: «Из буйной головы дурной хмель выгнать», «Для мира в доме от драчливого мужа», «Для мира в доме от собачливой жены»… Ясно, заклинания тут по разрядам собраны. «От гнева властительного», «Чтобы мытарь меру знал»… Где же настоящее высокое искусство? Трансформации, боевые заклинания, вызов инфернальных сущностей? «Сглаз снять», «От змеиного укушения»… – наивная деревенская волшба, и ни следа тех сил, что легенды связывают с чудесными книгами. Вернее, след был, но только след. Всё-таки это волшебная книга, а не просто сборник заговоров. Каждое слово, всякая буковка веско подкреплены искусством писавшего. Одно дело заговорить сено от огня, прочитав наговор по памяти, совсем иное – держа в руках раскрытую книгу. Во втором случае заговорённую скирду и нарочно не подожжёшь. Драгоценнейшая вещь для знахаря, коновала, бабки-шептуньи. А для него – не более чем любопытный артефакт, диковинка, которую лестно иметь в коллекции среди прочих диковин, но пользы от которой настоящему магу нет. Даже трёхдневную метель с такой книгой не вызовешь, можно лишь на подхвате у настоящего хозяина стараться.
«Чтобы в чужой деревне на ночлег пустили», – забавно, этот приёмчик, пожалуй, и запомнить стоит; Асартан ещё раз перечитал наивное заклинаньице, закрыл книгу и, задавив жгучее желание сунуть её в седельную сумку, придвинул владельцу.
– Хорошая книга, очень хорошая. Я и не думал, что такие на свете бывают.
– Книжник написал, – произнёс старец, упелёнывая том в чистое полотно.
Асартан перевёл дух. Вот и закончилось первое столкновение, осторожная разведка, когда делаешь вид, будто не замечаешь противника. Во всяком случае, кое-что узнать о Книжнике удалось. К сожалению, лишь то, что сам Книжник пожелал сообщить о себе. А что Книжник сумел вызнать об Асартане? – скорей всего тоже ничего существенного. Теперь остаётся сидеть и ждать три дня. Вряд ли Книжник сумеет продлить метель на больший срок, это значило бы ослаблять себя. А пока будем отдыхать…
– Отличная свинина, – проговорил Асартан, отсекая кусок грудинки. – Я много путешествовал, но в других краях такого пробовать не доводилось.
– И не доведётся! – гордо воскликнул хуторянин. – Как готовить грибного вепря – наш секрет.
Асартан не удержался и фыркнул, чуть не облившись пивом. Подумать только, книгу заклинаний, пусть простенькую, но настоящую волшебную книгу, он готов показывать первому встречному, зато тайну жареной вепрятины не откроет и под пытками!
– Тут главное, пока кабан жарится, вовремя поливать его грибным отваром. И, конечно, чеснока не жалеть. Угадал?
– Ну, – огорчился мужик, – конечно, для тебя никакой тайны не бывает… Против колдовства не устоишь.
– Никакого колдовства! – заверил Асартан. – Просто пока ты с нашими конями возился, я видел, чем твоя хозяйка занимается. Так что налей-ка, дружок, ещё пива, а то корчага пуста.
* * *
Трёхдневная метель, как и обещано, прекратилась на третий день. Незадолго до полудня глухое завывание стихло, хотя за слюдяными окнами ничуть не просветлело.
– Снегом засыпало, – пояснил хозяин. – Сейчас откапываться начнём.
Двери из чёрной избы предусмотрительно открывались внутрь. Будь иначе, наметённый сугроб завалил бы её так, что пришлось бы выбираться через крышу. Впрочем, лаз на чердаке недвусмысленно указывал, что порой именно этим путём люди выползали на свет.
Гора рыхлого, неулежалого снега ввалилась в чёрную избу, едва работники стронули створки ворот. Следом брызнул ослепительный солнечный луч и хлынул свежий воздух, холодный и непредставимо вкусный после спёртого зловония избы. И то подумать, каково трое суток безвылазно сидеть в закупоренном доме, где, кроме тебя, заперт десяток человек, объевшихся гороховой кашей.
Взялись за лопаты и в полчаса расчистили широкий проход, по которому можно было вывести лошадей. Хозяин уговаривал прежде пообедать и лишь потом отправляться в путь, но Асартан, которому было страшно хоть на минуту вернуться в провонявшую избу, отказался намертво и приказал вьючить лошадей. О том, чтобы ехать верхом, речи не шло, за три дня снегу и впрямь навалило по грудь лошадям, остаток пути предстояло прорываться сквозь сплошные заносы.
Колпин, не дожидаясь приказаний, первым врубился в снежную целину. В низинке возле самого хутора снег достигал ему чуть не до плеча, но когда выбрались на тропу, где вчерашний ветер гулял особенно сильно, не позволяя улечься рыхлому снегу, идти стало чуть легче. Асартан, с двумя конями в поводу, шёл следом, размышляя, что в заснеженной пустыне они как на ладони у всякого, кто заранее притаится на любой из окрестных высот, чтобы встретить ползущих сквозь заносы неожиданным ударом. Это ж надо так опростоволоситься! Более бездарного похода у него не было.
К Крепостицам вышли через четыре часа отчаянной борьбы. Обещанного хуторка Асартан не заметил, возможно, его занесло по самые крыши, а вот башенки, прилепившиеся к горному склону, видны были издалека. И уж, конечно, из башен тоже открывался широчайший обзор. Вероятно, Книжник мог не меньше двух часов любоваться медленно бредущими гостями. Не стоило и надеяться на внезапность.
Асартан придирчиво разглядывал башни. Тоже головоломка, в которой из двух засел противник? Следов нет нигде, одинаковые двери одинаково занесены снегом.
С ходу применять магию не хотелось, и, решив, что случай не любит долгих размышлений, Асартан направился к ближайшей из башенок.
«Надо было лопату в Берложках прихватить!..» – весело подумал он, отгребая снег подошвой. Потом несколько раз ударил в дверь рукояткой кинжала. Грохот разносился по башне. Ответом была тишина.
Асартан пожал плечами и двинулся ко второму укреплению. Здесь история повторилась. Никаких следов, запертая дверь, и на стук никто не отзывается. Асартан напрягся, пытаясь сквозь дверь разглядеть затаившегося Книжника. Дверь стояла глухая и непроницаемая, она явно была заговорена. Ай, как неосторожно! Если уж заговариваешь дверь, то не нужно запирать её на обычный засов… Только глупец думает, что чем больше запоров, тем надёжнее защита.
Изготовившись, Асартан принялся читать заклинание. Ничего подобного не было в простодушной книге, которую показывали ему в Берложках. То была магия изысканная, парадоксальная, хотя и не требующая особой силы. Силу уже вложил неосмотрительный Книжник, так что взломщику оставалось лишь поссорить запирающие заклятья со стальным замком.
В нужную минуту Асартан отскочил в сторону и прижался к стене. С громким треском дубовые створки разлетелись. Колпин, которого Асартан не счёл нужным предупредить, не успел отшатнуться, острая щепка рассекла ему щёку. Впрочем, бывший бандит привык не обращать внимания на такие мелочи. Вслед за хозяином он нырнул в открывшийся проём.
Двухэтажная башенка была пуста. В нижних, сохранившихся помещениях, видимо, жил Книжник. Четыре комнаты были обставлены с деревенской простотой, и ничто не указывало на занятия жильца. Лавки, широкие, на каких в деревнях принято не только сидеть, но и спать. Печь, явно сложенная в позднейшее время, когда здесь уже не было солдат. Пара сундуков, совершенно пустых, пахнущих персидской ромашкой. Печка была ещё тёплой, очевидно, её топили сегодня утром, незадолго до того, как окончился трёхдневный буран. Спуск в подвал был замурован, а возможно, и всё подземелье заложено камнем, чтобы укрепить треснувший фундамент.
Помещения второго этажа были пусты и отпугивали взгляд пятнами инея на голом камне. Здесь не было ничего интересного, лишь возле одного окна, задвинутого дощатым щитом, стояла на треноге подзорная труба и медный секстант.
Каким образом Книжник покинул дом, заперев его изнутри и не потревожив снежного одеяла, Асартана не слишком тревожило. Возможно, между башнями есть подземный ход, а быть может, жильца просто не было дома и печь топилась сама по себе. Дело в общем-то нехитрое.
Асартан поспешил вернуться к первой башне.
На этот раз Колпин заранее отошёл в сторонку, и дверь разлетелась, никому не повредив. Здесь тоже были четыре жилые комнаты и пустые помещения наверху. Подвал, правда, уцелел и был набит причудливым инструментарием алхимика. Ничего интересного для себя Асартан не обнаружил. Хозяина нигде не было, была лишь тёплая, недавно протопленная печь.
– Что скажешь? – спросил Асартан у помощника.
– Сбежал, – кратко ответил Колпин.
– Некуда ему здесь бежать, – усомнился Асартан. – Я же чувствую, он где-то рядом прячется…
Колпин пожал плечами и не ответил.
– Вот если бы ты, – не унимался Асартан, – вздумал себе тайник делать, где бы устроился?
– В подвале. Наверно, он только для виду замурован.
– Хорошо рассуждаешь. Думаю, Книжник заранее знал, что ты так рассуждать станешь. И замуровал подвал наглухо. Почти наглухо. Маленький чуланчик там оставлен, на тот случай, если противник сквозь камень глядеть может. И пока ты будешь в эту пустоту прорубаться, Книжник тебя в спину ударит. Потому что он у нас умный и в подвале его нет.
Колпин молчал.
– Чего ж ты не спрашиваешь, где он?
– Где он? – эхом откликнулся слуга.
– На втором этаже сидит.
– Я там всё осмотрел. И вы тоже смотрели.
– Смотреть ты смотрел, да не видел. Ну-ка, скажи, сколько бойниц у этой башни по второму этажу?
– Четыре, – немедленно откликнулся слуга. – У таких башен всегда по четыре бойницы.
– А изнутри ты окна сосчитал? Сколько их?
Колпин мучительно нахмурил лоб, пытаясь вспомнить.
– Там перегородки обрушены, так одни и те же амбразуры из разных камер видны. Так сразу не разобраться…
– Ну, не мучайся. Пять окон, пять. Я считал. И дымохода тёплого наверху не видать, он через потайную каморку проходит, чтобы не замёрзнуть часом. Так-то. Чего стал? Пошли, навестим Книжника, поспрашаем кой о чём. Раз он от нас прячется, значит, у него совесть нечиста.
Господин и слуга вновь поднялись на второй этаж полуразваленной башни. Казалось бы, здесь со времён давних войн с Поречьем ничего не менялось. Голые каменные стены, пол засыпан истлевшей соломой, перегородки между четырьмя камерами частично обвалились во время давнего землетрясения, и с тех пор никто не озаботился восстановить их.
На этот раз Колпин специально обошёл все окна, когда-то служившие бойницами, пересчитал их и в каждое заглянул, насколько позволяло узкое отверстие. Видно из окошек было плоховато, частые переплёты с пластинками потемневшей слюды плохо пропускали свет. Только эти рамы и свидетельствовали, что, устраиваясь на жильё, Книжник что-то ухичивал и здесь.
Бойниц оказалось пять, все они выглядели настоящими. Из каждого открывался свой вид на окрестности, и было совершенно невозможно понять, какое из окон фальшивое.
Покуда Колпин метался от одной бойницы к другой, Асартан стоял, посмеиваясь и пошучивая. Нужно было очень близко знать путешествующего мага, чтобы увидеть за ехидными комментариями, которые сопровождали мучения Колпина, лихорадочную подготовку к магическому поединку. Но вот Асартан вздел руку и громко и отчётливо произнёс заклинание, одно из тех, что маги создают сами и хранят в секрете ото всех. И если подобное колдовство совершается в присутствии соперника, то можно смело утверждать, поединок пойдёт на смерть, чтобы тайное знание не поползло по миру, становясь общим достоянием.
Полуразрушенные перегородки, помнившие ещё набеги пореченских ватаг, послушно передвинулись, и оказалось, что они не разделяют этаж на четыре камеры, где возле бойниц ещё сохранились остатки насыпей для стрелков, а отгораживают небольшую комнатушку ровно посреди помещения. Здесь было тепло, в чугунной печурке дотлевали угли. Комнатка освещалась причудливой масляной лампой. Когда от раскрывшихся стен пахнуло холодом, лампа вспыхнула особенно ярко, высветив помещение словно театральную сцену. Только на театре бывают комнаты, вывернутые на всеобщее обозрение, с распахнутыми настежь стенами.
Посреди сломанной комнаты за столом сидел человек. Он не поднялся навстречу Асартану и вообще не двинулся с места, но всякий, кто хоть раз видел встречу магов, мог поклясться, что поединок начался, хотя никто ещё не направил свою силу на другого.
– Здравствуй, Книжник, – почти ласково произнёс Асартан. – Ты не слишком приветливо встречаешь гостей.
– Если гость ломает входную дверь, он называется другим словом.
– Я стучался. Клянусь мирозданием, я очень громко стучал.
– Я был занят. Мне нужно закончить книгу, и я её закончил, покуда вы громили дальнюю башню.
– Похвально, Книжник, похвально… Именно за книгой мы и пришли.
– Вот она, – сидящий кивнул на толстый том.
– Ты ослабел, Книжник. Опрометчиво было тратить столько сил на инициацию книги, когда противник находится так близко. Я понимаю, ты надеялся отсидеться в потайной каморе. Она неплохо сделана, даже если бы мы подожгли башню, ты чувствовал бы себя спокойно. И всё же я сыскал тебя.
– Это было неожиданно, – согласился сидящий.
– Отдай мне книгу.
– Бери.
– Ты думаешь, я поддамся на такую дешёвую уловку? Открой книгу сам и передвинь её на дальний край стола. И не вздумай прочесть оттуда хоть слово. Я убью тебя, даже если ты попытаешься прочесть заклинание против клопов и тараканов.
– Вот книга. Бери.
Асартан осторожно приблизился к открытой книге, глянул на страницу: «Клопов и тараканов вывести, чтобы и в послебудущие времена их не было».
Маг рывком поднял книгу, поспешно перелистал. Такой том он уже видел два дня тому назад в засыпанных снегом Берложках.
– Ты что, посмеяться надо мной вздумал? Мне нужна настоящая книга. Пойми, ты всё равно уже мёртв, так пусть о тебе останется хотя бы память. Мне неважно, кто написал эту книгу, но если ты отдашь её добровольно, она будет носить твоё имя. Не хочешь?.. Думаешь, я не смогу с тобой справиться? Я вижу все твои уловки и знаю, как их обойти. – Асартан угрожающе поднял руку. – Не заставляй меня действовать! Я успею раньше, я уже готов к битве, а тебе надо собираться с силами. Ну?..
Потом Асартан не мог избавиться от впечатления, что противник собирался что-то сказать или сделать, кажется, даже начал какое-то движение, но именно в эту секунду у него за спиной возник Колпин. Простой, никак не зачарованный бандитский нож ударил сидящего под лопатку.
Полыхнуло пламя, оба – убийца и жертва, изогнулись, скрученные немыслимой судорогой, и упали рядом.
– Вот и всё… – резюмировал Асартан. – Ты проиграл, Книжник. Ты думал, магическое отражение спасёт тебя? Думал, я не осмелюсь тронуть того, кто так страшно защищён? Но ты забыл, что бывает живое оружие, которым можно пожертвовать. Обменять твою жизнь на жизнь слуги. Я доволен обменом. Жаль, что ты не попытался напасть. Магическое отражение не позволяет применять боевую магию, но ведь кое-что у тебя оставалось… Но ты предпочёл прятаться и закрываться подобно черепахе. А из черепах, друг мой, получается вкусный суп. Ну так где твоя настоящая книга?
Асартан оттащил в сторону трупы и принялся за поиски. Он вскрыл железную укладку, в которой оказались чистые листы пергамента, чернила из дубовых орешков и пучок заточенных перьев. Перевернул стол, простучал переборки, применив самые изощрённые заклятья, осмотрел магическим взором обе башни и близлежащую землю. Под конец искал уже не древнюю книгу, а хоть что-нибудь, хранящее следы чужой магии, любую наговорённую вещицу, с которой можно было бы начинать поиски. Сколько раз бывало так: крошечный отпечаток волшбы на придорожном камне, чтобы сиделось мягче, приводил его к хитроумному тайнику, в котором были припрятаны сокровища сгинувшего мага. Случалось, он приходил на место давно отгремевшего магического поединка и находил такое, что и не снилось растяпе-победителю. Но тут не было ничего. Запирающие заклятия с дверей он снял собственной рукой, потайную комнату разгадал и открыл, остывающее тело Книжника, как то всегда бывает после сброса отражения, не содержало в себе никакой силы. Трёхдневная метель отбушевала и сгинула. Мастер, прославленный на всю округу мелкими волшебствами, не оставил после себя даже самого мелкого волшебства. И только книга, лежащая на столе, подтверждала его умение.
Написать волшебную книгу – такое дано немногим. Всякий, сумевший книгу открыть, может сделать с неё список, но это будет не волшебная книга, а сборник пришёптываний и выкриков. Чтобы книга ожила, в неё нужно вложить часть собственной живой силы. А потом долгие недели восстанавливаться, беспомощный, словно линялая чомга. Потому и нет нигде волшебных книг, лишь легенды ходят о них среди магов.
Да ещё покойный Книжник вздумал облагодетельствовать деревенских колдунов, за что и поплатился. Не помогло ни хитроумное убежище, ни заранее наложенное защитное заклинание. Вот только и у Книжника достало разума не записывать истинные секреты. Обманула молва…
Асартан вышел из башни, вскочил на коня. Скоро вечер, а хотелось бы остановиться на ночёвку в Селищах. Вонючим радушием Берложек он сыт по горло. Да и не будет там гостиприимства, слабосильный старец, конечно, уже знает о гибели благодетеля и заранее дрожит за свою шкуру.
По старому следу Асартан легко добрался к хутору. Далее снег лежал нетронутым пушистым ковром. Когда-то ещё станет санный путь, а пока дороги тут нет. Как было сказано местными острословами: три утра тропу тропить.
Асартан повелительно вскинул руку. Струя слепящего драконьего пламени ударила из ладони, мгновенно смела и испарила снег, открыв до самого поворота чисто выжженную дорогу. Чародей оглянулся на заваленные снегом Берложки, желая узнать, видят ли обитатели чадной избы страшное явление мага. Расчищенные слюдяные окошки оставались тёмными, но Асартан ясно почувствовал: смотрят, прильнув к окнам, и молчат.
Мгновение Асартан боролся с желанием вернуться в Берложки, забрать у слабоумного знахаря книгу. Что ни говори, а диковина редкая. Правда, одна такая книга уже упакована в седельной сумке, но и второй дело найдётся. Её можно обменять у собратьев по ремеслу на что-то действительно полезное… А впрочем, пусть её… Отнимая книгу, пришлось бы убить дряхлого старика, а это было бы недостойное завершение битвы с Книжником. Пусть сидит у оконца, смотрит с ужасом на торжествующего врага и даже бессильное старческое проклятие не смеет послать вдогонку.
* * *
Из дома действительно глядели вслед удаляющемуся всаднику.
Старик ворожей, так и не накинувший ничего поверх исподнего белья, перевёл взгляд на гостей:
– Зачем ты отпускаешь его?
– В самом деле, – подхватил коренастый, похожий на гнома Марух, – этот негодяй разорил башни, убил переписчика…
– Он оставил нового переписчика, – ответил тот, к кому обращались старики. – Правда, этот разбойник, Колпин, неграмотный, но его можно обучить. А пока пусть приходит в чувство и чинит, что испортил его патрон.
– И всё-таки пришельца не нужно было отпускать живым.
– Почему? Ведь это один из лучших. Он не вернулся отнимать твою книгу, он не любит зря убивать и поэтому сегодня останется жив.
– Он разломал двери, – сердито сказал Марух. – Совсем новые, им бы ещё стоять и стоять!
– Это верно. Но жизнь гостя стоит больше пары сломанных дверей. К тому же в обмен на книгу он открыл свои тайны. Последние фокусы с огнём – сущая ерунда, а вот заклинания поиска, которые он применял, когда искал потайную комнату и несуществующий клад, очень любопытны. Такого я прежде не слыхивал.
– Ты запишешь их в свою главную книгу?
Книжник покачал головой.
– У меня нет книги. Я мог бы её написать, но мне страшно, что после моей смерти она попадёт в недобрые руки.
– Но если ты её не напишешь, все тайны умрут вместе с тобой.
– Боюсь, так и случится, – Книжник пристально поглядел на стариков. – Жаль, конечно, но вы сами видели, что получается, когда могучие силы оказываются в слабых руках. Я не напишу книгу из страха, другие из жадности, третьи ещё по какой-то причине. Нужно быть очень тщеславным и очень безответственным человеком, чтобы приняться за магическую книгу. А вы думаете, почему с каждым поколением магия всё больше хиреет? Потому, что никто не пишет книг.
Страж перевала
Шаги звенели по плитам пола. Они звучали так реально, что каждый знал – идёт Лонг. И всё же сторожевые драконы у входа в зал удушливо рявкнули: «Вассал Лонг идёт к Владыке Мира!» – и бериллиевые андроиды следующего зала продребезжали, вращая синим объективом телеглаза: «Вассал Лонг идёт к Владыке Мира!» – клич катился не затихая, пока от самого трона эхом не откликнулись мутные мороки: «Вассал Лонг входит к Владыке Мира!..»
Лонг вошёл и остановился. Владыка восседал на троне, сработанном из чёрного шершавого камня и бледной пустоты. В руках Владыка сжимал жезлы власти: огненный и золотой. Мороки и василиски рядами окружали трон. Лонг, не сгибаясь, прошёл на середину зала и лишь там резко наклонил голову, так что оконечность глухого забрала звонко клацнула о выпуклый нагрудник.
– Всемогущий! – произнёс Лонг. – Я пришёл на твой зов.
Ничто в лице Владыки не изменилось, даже губы не дрогнули, когда прозвучал его голос:
– Сегодня я позвал тебя не для беседы. Я задумал новый большой поход, мне нужна твоя служба.
– Чем может помочь живущий на краю Мира?
Впервые лицо Владыки оживилось, блеснули глаза. Он ответил:
– Я решил подняться на Перевал, взять то, что находится за ним, и присовокупить к моим владениям.
Лонг растерялся. Он не знал, что делать и как отвечать. Лишь тысячелетняя привычка позволила ему сохранить полную неподвижность. Потом пришли слова:
– Всемогущий! – сказал Лонг. – Перевал невозможно пройти. На границах твоя власть кончается, ты сам это знаешь.
– Ложь! – крикнул Владыка. Лицо его внезапно ожило.
Лонг в ответ поднял забрало и сказал обычным голосом, уже не беспокоясь об этикете:
– Это правда. Я интересен, в моём доме бывают гости со всех краёв, и я знаю, что жители границ не боятся тебя. На юге, где обитают кошмары и призрачные миражи, никто и в грош не ставит твою великую власть.
– Ты хочешь обратить мою ярость на юг, где она безвредно рассеется в мёртвом свете, не так ли, прямодушный рыцарь? – усмехнувшись, спросил Владыка. – Я усмирил непокорных духов страшными заклятиями, Отшельник склонился передо мной, на юге больше нет границы. Теперь очередь за севером. Там действительно дикая страна. Знаю, что заклинания потеряют силу, а колесницы остановятся, ибо по ту сторону гор мёртвые машины, чтобы двигаться, должны пожирать пищу и пить воду. Мечи из струящегося тумана не смогут даже оцарапать грубую плоть северных варваров. Для них нужны сталь и камень. Но ведь это очень простые вещи, Лонг, они есть в моём мире, так что найти оружие будет нетрудно.
– Да, в этом мире есть сталь! – Лонг обнажил меч. Меч был обоюдоострый, одна грань жемчужно переливалась туманом, по другой бежал причудливый рисунок булата. Лонг сорвал с руки блестящую перчатку и дважды провёл лезвием по пальцам. С ногтей закапала кровь. Во всём мире у одного Лонга была настоящая горячая кровь, и при виде красных капель безмолвные и неподвижные телохранители Владыки пришли в движение: одни отшатнулись, другие прянули навстречу.
– Я – страж Перевала, – раздельно произнёс Лонг, – клянусь этой кровью, что никто и никогда не проникнет из внешнего мира сюда и никто не выйдет отсюда во внешний мир. Никто и никогда!
– Клянусь кровью, которой у меня нет, – возгласил Владыка, – что через три дня я пройду Перевал, а если мой раб вздумает мешать мне, я уничтожу его!
– Я не раб, – сказал Лонг. – Даже этому миру я принадлежу лишь отчасти, а на Перевале слушаю только себя и свой долг.
– Да, – сказал Владыка, – ты мало похож на подданного, в тебе больше той силы, что живёт за горами, поэтому ты так горд. Но и твою силу можно сломить…
Огненный столб расплескался по залу, ударил в грудь Лонга. Это был не призрачный колдовской огонь, а настоящее плотное и дымное пламя. Тугие керосиновые струи хлестали откуда-то, взбухали изнутри багровым жаром, закручивались смерчем и исходили чёрными клубами копоти. Доспехи Лонга раскалились добела, хромовая насечка стекала крупными каплями. Подняв меч, Лонг шагнул вперёд. Он не видел противника, на знал, куда идти, и старался лишь не упасть, но колени подогнулись, покрытые чёрными пятнами плиты встали перед глазами. Лонг чувствовал, как кипит и испаряется его кровь.
«Конец, – подумал он. – Хорошо, что не видит Констанс…»
Огонь иссяк так же неожиданно, как и явился; сверху пал дождь. Капли воды с визгом ударялись о покоробившиеся от жара латы, ртутными шариками бегали по горячим плитам. Лонг открыл глаза. Над ним склонялось лицо Владыки. Сейчас оно было почти настоящим, в глазах светилась живая алчность, и в голосе слышалась совсем человеческая мольба:
– Я не хочу убивать тебя, Лонг. Ты мне нужен. Ты единственный был там, ты сам почти оттуда. Ты знаешь их недостатки и слабости, ты легко сможешь победить. Я хочу, чтобы ты вёл моё войско, а после победы я возвеличу тебя, Лонг. Ты будешь не хранителем Перевала, а моим наместником в новых землях…
Лонг поднялся, с трудом разламывая скрючившуюся скорлупу доспехов.
– Ты можешь убить меня, – сказал он, – но прежде узнай правду. Ты зовёшься Владыкой Мира, но подлинный мир – там, за Перевалом. Здесь лишь бледная его тень, ненужный бред. Порой здесь встречается настоящее, но лишь потому, что тот мир чрезмерно богат и не может вместить всё. Там действуют свои законы, над которыми нет владык. Ты всемогущ лишь здесь, я прошу тебя забыть о Перевале.
– Вот ты и заговорил по-другому, – удовлетворённо резюмировал Владыка, – теперь осталось лишь заставить тебя сказать иное. Для этого у меня припасен ещё один сюрприз. Значит, по-твоему, непобедимое войско обессилит на границе, а то и просто не сможет одолеть Перевал? Посмотрим!
Огненным жезлом Владыка очертил круг, в центре которого возникла согнутая фигура. Длинные, чуть не до колен руки с тонкими сильными пальцами. Плечи сутулятся так, что стоящий кажется горбатым. Спутанные светлые волосы падают на лоб, почти скрывая взгляд удивлённых глаз. И вечная виноватая улыбка, такая знакомая и неуместная здесь, возле трона Владыки. В круге стоял Труддум.
– Мастер! – приказал Владыка. – Расскажи про свою машину.
– Она называется инвертор, – сказал Труддум и замолчал.
– С её помощью можно пройти границу?
– Да, конечно. Инвертор разрушает реальность, превращает её в возможность или даже разлагает до абсурда.
– Значит, мои воины сохранят силу, а глупые законы, охраняющие загорные земли, рассыплются на случайности и начнут подчиняться мне?
– Разумеется, если построить достаточно мощный прибор. Но ведь не всё, что можно построить, следует включать…
– Об этом судить мне! – отрезал Владыка и взмахом жезла стёр круг.
Труддум исчез.
Ещё целую секунду Лонг стоял неподвижно, пытаясь осмыслить случившееся. В словах Труддума он не сомневался, мастер никогда и ни в чём не делал ошибок. Значит, границы больше нет, таинственные инверторы, придуманные Труддумом, одолеют горы, и прекрасный реальный мир перестанет существовать, умрёт в хаосе. Единственный, кто стоит на пути войск, это Лонг со своим наполовину реальным мечом. Ему одному придётся оборонять Перевал, одному – без Труддума. Труддум – предатель. Это тоже предстояло осмыслить.
Лонг повернулся и побрёл прочь. Почерневшие доспехи скрежетали при каждом движении, плиты пола гудели похоронным звоном.
– Лонг! – прогремело сзади. – Через три дня войско подойдёт к Перевалу, и либо ты возглавишь его, либо оно пройдёт по тебе!
Лонг не ответил.
– Вассал Лонг покинул тронный зал! – рявкнули сторожевые драконы.
* * *
Дорога петляла, сворачивала, порой вообще исчезала, но всё же медленно и нехотя поднималась в гору. Если обернуться назад, то тоже увидишь, что дорога поднимается в гору, но это обман.
Лонг обернулся. Вздёрнутый южный горизонт терялся в мареве, серая дымка смазывала очертания предметов и без того зыбких. Лишь дворец Владыки, видимый всегда и отовсюду, возвышался грозно и красиво.
Мир тянулся с севера на юг, от Перевала вниз, через земли всё меньшей вероятности, в край абсурда. На крайнем юге Мир переходил в пустыню, населённую призраками и миражами. За пустыней не было ничего. Даже нереальный Мир там истончался и переставал существовать. Правда, там жил Отшельник. Как и Лонг, он был хранителем границы, но не стражем, потому что там было нечего и не от кого охранять. Как и чем существовал Отшельник, Лонг не знал, хотя самого Отшельника видел не раз. Порой Отшельник объявлялся в замке Лонга, беседовал с хозяином на отвлечённые темы и так же непонятно исчезал. Лонг ни о чём не расспрашивал гостя, уважая в нём силу, равную своей. Поэтому Лонг не слишком поверил словам Владыки. Всемогущий Владыка тоже может ошибиться, приняв уклонение за победу. Юг всегда умел раствориться и ускользнуть.
Здесь было не так. Всё чаще подковы коня цокали по камню, высекая искры. Пейзаж становился отчётливей, хотя не был постоянен. В стороне от дороги с громовым гулом извергался вулкан, а неподалёку шумел большой город, и никто не обращал внимания на огонь и падающие камни. Завтра, возможно, на месте содрогающейся горы будет озеро, а улицы зарастут лесом.
Людей в этом краю не встречалось, хотя ежесекундно возникали образы, бледные и нежизненные. Здесь обитали уроды и ослепительные небывалые красавцы, подлецы, чья подлость самодовлеюща и безрезультатна, и сказочно благородные герои, успевавшие произнести несколько гордых фраз, прежде чем бесследно раствориться. Лишь воля Владыки могла внести подобие порядка в хаос, удержать ту или иную химеру, и тогда залы дворца украшались новым изумительным монстром.
То, что оказывалось более постоянным, жалось на север, ближе к границе Лонга. Здесь жили почти обычные люди, хотя и среди них встречались чудовищные мерзавцы и ходячие примеры для подражания, изуверы и образцы добродетели. Но их жизнь исчислялась не минутами, а годами, каждый имел свою физиономию, и все они казались более человечными и непростыми. Жителей плоскогорья Лонг объявил под своей защитой, вёл их в бой, когда с юга набегали орды косматых варваров, и в одиночку расправлялся с великанами и чудовищами, порой выбиравшимися на плоскогорье.
Дом был уже недалеко, горы нависали всё ощутимее, дорога курилась жёлтой пылью, от кустов вдоль тракта тянуло сладким ароматом. Мимо Лонга пронеслось стадо золоторогих антилоп; звери мчались, картинно запрокинув головы, роняя с губ дымящуюся пену. Вскоре появился тот, кто вспугнул их. Сверхъестественной величины клоп медленно полз вдоль дороги. Похожий на бревно хоботок конвульсивно дёргался, высасывая всё, что попадало навстречу: людей, животных, деревья. Позади оставалась мёртвая полоса.
Лонг истово ненавидел подобные создания, порождённые всплесками флюктуаций. К тому же клоп двигался на север и случайно мог добраться до предгорья. Лонг выдернул меч и поскакал наперерез опасному гаду. Сосущий хобот рванулся ему навстречу, Лонг уклонился от удара и, подскакав вплотную, вонзил волнистое лезвие в хитиновую броню. Клоп завалился на бок, щетинистые десятиметровые ноги вытянулись и заскребли друг о друга, словно пытаясь счистить налипшие комья грязи. Лонг отёр пот со лба. Лишь теперь он сообразил, какой опасности избежал. Ведь доспехи, делавшие его неуязвимым, остались у порога дворца, почерневшие и искорёженные. А в этих областях удар страшного жала был бы смертелен. Лонг почувствовал, как болит рассечённая мечом рука. Он забыл заживить порез в долине, и теперь рана будет заживать долго.
Рядом послышался звон бубенцов, голоса. Мимо проходил караван. Рыжебородый купец, отделившись от процессии, подъехал к Лонгу.
– О благородный и прекраснодушный незнакомец! – возгласил он. – Ты спас меня от этого ужасного вепря. Я намерен достойно наградить тебя. Моя дочь, красавица Гюльгары, станет твоей женой!..
Лонг повернул коня и выехал на дорогу. Горы были уже близко. По дороге навстречу Лонгу медленно брёл человек. Тощий узелок болтался на длинной дорожной палке.
– Здравствуйте, сеньор! – сказал путник.
– Оле? – удивился Лонг. – Что ты здесь делаешь?
– Отправился в путешествие, – ответил Оле. – Дома стало скучно и опасно. Мне не нравится, когда сразу и скучно и опасно, поэтому я ушёл…
Такое случалось с жителями плоскогорья. То один, то другой из них спускались в долину. Возвращались редко, изменившимися до неузнаваемости. Лонг спокойно относился к уходам и метаморфозам ушедших, но уход Оле произвёл тягостное впечатление. Оле жил у самого замка и был просто земледельцем, таким, что порой встречались и по ту сторону Перевала. Он появлялся в замке, помогая Труддуму в возне с хитроумными механизмами, а вечерами частенько зазывал Лонга и Труддума к себе – отведать горного меда. И вот теперь Труддум бежал к Владыке, и Оле тоже уходит, вернее, уже ушёл, ведь он-то не может безнаказанно спускаться в долину.
– …а скучно стало давно, с той минуты, как Констанс не поселилась у нас, – говорил Оле.
– Что? – вскрикнул Лонг. – Откуда ты знаешь о ней? Отвечай!
– Вот я и ушёл, – невозмутимо продолжал Оле. – Думаю пойти к Отшельнику. Далеко это, но почему бы и не дойти? Бродяга, говорят, дошёл.
– Глаза прекрасной Гюльгары подобны двум спелым сливам, – монотонно бубнил за спиной успевший потерять свой караван купец.
Лонг перевёл дух. Ну конечно, с той минуты, как Оле спустился вниз, он перестал быть собой. А может быть, это и вовсе не Оле, а просто эхо собственных мыслей Лонга. Ведь доспехи погибли, и значит, мысли Лонга так же обнажены перед Миром, как и его грудь.
Конь широкой рысью поскакал в гору. На пыльной дороге впереди чётко отпечатывались следы ушедшего Оле.
* * *
Замок Лонга, как и полагается замку, стоял на скале. Дорога спиралью поднималась к воротам, перекрытым поднятым мостом. Узкие бойницы башен светились тёплым электрическим светом. Обычно свет по вечерам зажигал Труддум, так что сегодня Лонг ожидал, что дом встретит его тёмной пустотой. Лучи из окон смутили его.
На последнем повороте Лонг остановил коня и оглянулся. Перед ним лежала его страна – край почти настоящий. Влажный, непризрачный туман скрадывал очертания деревьев, домов и многочисленных ветряных мельниц. Зачем нужны мельницы, Лонг не думал, их никто и никогда не строил, зато во время низовых нашествий горели они десятками. Жителям мельницы тоже не были нужны, в каждом крестьянском доме вращался выстроенный Труддумом мотор, согревал, освещал, молол хлеб. Только колдовские берлоги да мрачные разбойничьи логова освещались сальными плошками или светляками-великанами. Но вся человеческая мразь сидела по своим притонам затаившись, страшась не столько меча Лонга, сколько его имени.
Высоко в небе с негромким ровным гудением прошёл реактивный лайнер. Лонг проводил его взглядом. Кто летит в этом самолёте? Откуда и зачем? Ответа не будет, воздушный путешественник канул в долину. Каждый вечер над замком пролетал самолёт, и Лонг порой пытался представить, какие чувства испытывают эфемерные путешественники, глядя сквозь кварцевые стёкла на замок, мельницы и крытые соломой дома.
Самого Лонга многочисленные средневековые анахронизмы не раздражали, они были частью от века установившегося быта. Но сегодня он почувствовал неприязнь к ненужным мельницам, к смиренному обращению «сеньор», даже к доспехам, спасшим его от гибели. Ведь средневековая мишура не случайна. Там, где есть владыки, там будет процветать и мишура. Так что вассал Лонг зря гордился своей независимостью, он такой же подданный, как и остальные. Но только непокорный подданный.
Лонг поднялся на скалу, протрубил и остановился, ожидая, пока опустится мост. Внизу звенела по камням горная речка. Среди её бурунов бешено вращалось огромное, наподобие мельничного, деревянное колесо. Это было единственное рабочее колесо в стране да и во всём Мире. Замок Лонга стоял так высоко, что машины вечного движения работали здесь неуверенно. Тогда Труддум соорудил колесо, от которого двигались все его хитроумные забавы. Сегодня шум реки показался Лонгу иным. Лонг глянул в пропасть. Колеса не было. Только остатки валов да разбитые шестерни валялись там. Что же, этого следовало ожидать.
Мост опустился, Лонг въехал во двор, спешился. И лишь потом удивился: кто опустил мост? Лонг недоумённо оглянулся. Через двор к нему спешил Труддум.
– Ты здесь? – спросил Лонг.
– А где же мне быть? – Труддум усмехнулся. – Я не могу туда, – он указал рукой на горы, – и не хочу туда, – палец мастера ткнул вниз. – Я всегда здесь.
Лонг облегчённо вздохнул. Как он мог поверить лживому Владыке?
– Внизу я видел про тебя страшный морок, – сказал он.
– А я спокойно жил здесь и хорошо поработал.
– Я это вижу. Что ты сделал с колесом?
– Сломал. Оно больше не нужно, вместо него я поставил другую машину. Идём, покажу.
– Идём, – с готовностью отозвался Лонг.
Жилые помещения замка во втором этаже были вполне благоустроены, отсюда Лонг тщательно изгонял бессмысленную атрибутику Мира, но в нижних парадных залах этикет брал своё. У стен стояли никем не надевавшиеся, но уже трухлявые доспехи, с потолка свисали изъеденные ржой цепи, от которых в пляшущем свете факелов падали причудливые тени. По ночам здесь бродили привидения – жалкие подобия тех химер, что встречались в долине. А в подвалах замка, где верный вассал Владыки должен был бы хранить сокровища и содержать темницу, начиналась уже настоящая фантасмагория, но фантасмагория, возможная лишь на границе Мира. Здесь была вотчина Труддума. Невероятные машины работали здесь, движимые, кажется, лишь гением своего создателя.
– Вот! – с гордостью сказал Труддум, распахивая дверь в зал.
Некоторое время Лонг молча рассматривал творение друга. Машина была на полном ходу. Тяжёлый корпус из титановой стали мелко дрожал, пучки циркониевых трубок светились жаром, выл перегретый пар, пела турбина. Стержни под потолком, выточенные из метровых алмазов, были лишь наполовину опущены.
Перед Лонгом находился пугающий своей незавершённостью, сшитый на живую нитку, существующий лишь из-за несуразностей Мира, но всё же вполне настоящий ядерный реактор.
– Ты знаешь, – негромко сказал Лонг, – это опасная вещь.
– Ничуть, – возразил Труддум. – С ним не справится никакая флюктуация. Он может работать без присмотра хоть сотню лет.
– Не в том дело. В мире слишком много случайного зла, ведь по сути дела всякое зло – случайно. Но не дашь ли ты ему в руки реальную силу? Прежде я полагал, что вся мощь Владыки заключена в химерах, но сегодня увидел у него настоящий огонь. Это едва не стоило мне жизни. А что будет, если Владыка сумеет захватить это?
– Так можно сказать о любой машине. И любую из них обратить во зло. Не бойся, реактор останется в подвале, Владыка не узнает о нём. Хотя это далеко не самое опасное из того, что может быть создано. Недавно, например, я придумал действительно страшную машину, вот её я никогда не стану строить. Я изобрёл механизм, способный сломать границу и разрушить реальный мир.
– Эта машина… – холодея, начал Лонг.
– Она называется инвертор.
* * *
Они стояли на площадке сторожевой башни и смотрели в долину, озаряемую ночными всполохами. Зарницы вспыхивали и угасали, потом являлись в новых местах. Всё было как всегда, только там, где угадывался дворец Владыки, темноту прорезала отчётливая паутина света. Она ощутимо разрасталась, захватывая всё больше пространства. Безумная воля вносила подобие порядка в хаос, Всемогущий собирал силы, чтобы бросить их к Перевалу.
– Он не пройдёт, – нараспев говорил Труддум. – Даже если он действительно узнал об инверторе, у него всё равно ничего не получится. Я сконструирую более мощное устройство, чем у него, и обращу войско в бессильный призрак. Я построю орудия, которые раздавят дворец вместе с его мнимой и реальной силой.
– Ты хороший инженер, – сказал Лонг, и как всегда, когда звучало новое слово, Труддум понял и не переспросил, – но скажи: думал ли ты в последнее время об огне?
Труддум удивлённо вскинул голову.
– Думал только недавно. Дня три назад. Я вдруг понял, что толком ничего не знаю об огне, и стал размышлять, какой он бывает и как его можно получить.
– А через день Владыка едва не сжёг меня. Пойми, друг, не успеешь ты подумать о новом оружии, как оно уже появится у Всемогущего.
– Значит, наше дело проиграно, – пробормотал мастер.
– Значит, нам придётся сражаться, надеясь не на разрушительные аппараты, а только на самих себя.
Лонг спустился в свои покои, накинул на плечи плащ так, чтобы не было видно меча. Вышел в зал. По винтовой лестнице торопливо ковылял Труддум.
– Ты пойдёшь за Перевал? – спросил он.
– Как всегда, на три дня.
– Но ведь у нас как раз три дня осталось, а ещё столько дел…
– Я трачу эти дни на самое важное дело.
– Поцелуй от меня руку Констанс, – соглашаясь, произнёс Труддум.
* * *
Перевал был невидим и неощутим. Просто после очередного трудного шага по крутому и опасному склону вдруг оказывалось, что дальше подъёма нет и можно идти по ровному. Но как бы упорно ни шёл путник, он ничуть не отдалился бы от края обрыва. Граница съедала его шаги.
Лонг вышел на край, достал из-под плаща меч. Лезвие серебристо светилось, глаз не мог отличить туманную сторону от стальной. Лонг повернул меч плашмя и очертил вход. Перед ним открылся спуск – крутой, полный обрывов, оползней и трещин. Но этот путь, так похожий на только что пройденный, был по другую сторону Перевала.
Дом Торикса стоял высоко в горах. Это было надёжное, прочное жилище, выстроенное бог знает когда, много раз перестраивавшееся и хранящее следы всех эпох. Только в таком доме мог жить Торикс – всегдашний друг, человек, знающий, кто такой Лонг, и относящийся к этому невероятному факту так же спокойно, как и к собственной жизни среди камней.
Торикс, увидев Лонга, удивлённо и радостно ойкнул и тут же потащил в дом, крича:
– Констанс, взгляни, какое чудо потерянное объявилось!
Констанс вышла, остановилась в дверях. Мгновение Лонг был неподвижен, потом наклонился и поцеловал руку.
– Конечно, это велел тебе сделать славный Труддум! – засмеялась Констанс. – Заходи в дом, рыцарь, ты как всегда успел к завтраку.
Лонг смотрел на неё и не очень понимал, что ему говорят. Лишь потом он сообразил, что уже сидит за столом рядом с Ториксом, а тот увлечённо рассуждает, очевидно в связи с чем-то только что рассказанным:
– …всё-таки у вас, где, как ты говоришь, непрерывно что-то происходит, но ничего не меняется, жить несравненно проще. Главное, тебя никогда не подведут однажды проверенные истины.
Констанс сидела напротив, подперев щёку кулаком, слушала разговор с видом снисходительного интереса, как и положено женщине слушать заранее известную беседу между любимым мужем и старым хорошим знакомым, другом, почти братом. Она любит их обоих и рада удачному дню и хорошей беседе, хотя что они могут сказать нового в этом старом споре?
Тогда Лонг собрался с духом и рассказал всё, что можно было рассказать по эту сторону Перевала.
Больше всего Лонга поразило, как мгновенно изменился Торикс. Констанс испуганно приподнялась, в её глазах вспыхнула тревога, но всё же это оставалась прежняя Констанс, а вот Торикс… Здесь больше не было полнеющего увальня, любителя поболтать ни о чём, хлебосольного хозяина и строгого главы семьи, предусмотрительно послушного разумной хозяйке. Перед Лонгом встал воин и потомок воинов. Другу угрожала опасность, и он был готов отправиться навстречу ей, какой бы она ни оказалась.
– Я пойду с тобой, – сказал он, – и мы попробуем разобраться с твоим властелином.
– Нет, – сказал Лонг. – Ты принадлежишь этому миру и не должен из него исчезать. И потом, ты просто не пройдёшь границу.
– Ты меня проведёшь, – отрезал Торикс, – а что касается остального, то все мы рано или поздно исчезнем из этого мира, и лучше сделать это честно в бою с врагом.
– Возьми его, Лонг, – негромко попросила Констанс. – Он сильный, на него можно положиться, а я тогда буду спокойна за вас обоих.
– Но чем ты можешь помочь мне там?
– Как чем? – громко удивился Торикс. – Ты же сам говорил, что, явившись сюда, враг хочет заставить нас биться его оружием. А я встречу его по ту сторону гор, и пусть он бьётся моим. Посмотрим, устоит ли чародей в честной схватке. Для всех вас, Лонг, он Владыка, но мне-то он никто. И неужто ты полагаешь, что я не найду десяток-другой товарищей, которые не побоятся пойти куда угодно и разогнать любые толпы бесплотных теней? Так что ты скажешь о моём плане?
– Я не знаю, какими вы станете, когда перейдёте границу, не попадёте ли и вы под власть Всемогущего.
– Настоящий человек всюду останется собой! – убеждённо сказал Торикс, и Констанс в знак согласия молча наклонила голову.
– Сейчас я отправлюсь в город, – Торикс встал, – а к вечеру вернусь. Возможно, уже не один. Но в любом случае, завтра у нас будет отряд. Честно говоря, я давно хотел посмотреть дивную страну, откуда ты родом, но ты же знаешь, Лонг, какой я домосед, – я бы никогда не собрался. А так – совместим приятное с полезным!
Торикс рассмеялся и вышел. Лонг сидел, глядя в пол. Он не знал, надеяться ему или нет. Потом поднял глаза и встретился глазами с Констанс. Она ничего не сказала, не шевельнулась даже, но Лонг отчётливо понял, что она просит:
– Возьми и меня с собой.
– Нет, – молча ответил он, – если бы это было можно, я бы забрал тебя раньше.
– А ведь там живёт мастер Труддум и землепашец Оле, – она произнесла это как бы про себя, и некому было удивиться неуместности вдруг зазвучавших слов. – Они лучше многих реальных людей.
– Труддум против воли помогает Владыке, а Оле ушёл от меня, – сообщил Лонг и тут же, словно и не было только что полубезмолвного разговора, оживлённо спросил:
– Констанс, как ваши дети? Почему-то в этот раз ты ничего о них не рассказываешь.
– О!.. Дети выросли. Они стали совсем большими и воображают, что могут прожить без матери.
– Когда они поймут, что это не так, они станут действительно взрослыми, – сказал Лонг.
Констанс поднялась.
– Я покажу их письма.
* * *
Торикс вернулся к обеду. Тяжело вошёл в дом, огляделся потерянным взором и выдохнул одно слово:
– Война.
– Что? – переспросила Констанс.
– Война, – повторил Торикс. – Кто бы мог подумать? В наше время. Здесь. У нас. И главное – сейчас, когда тебе нужна помощь. Вот что, – Торикс выпрямился, лицо его затвердело, – я всё равно пойду с тобой. Пусть меня считают трусом и дезертиром. Здесь справятся и без меня, давно известно, что нападать на нас дело безнадёжное. А ты один, тебе нужна помощь. Одно плохо: я не смогу привести отряд. До чего же не вовремя всё случилось!
– Погоди, Тор, – сказал Лонг. – Не надо решать сгоряча. Боюсь, что связь между нашими мирами сложнее и крепче, чем мне казалось вначале. Ты говоришь – справятся без тебя. Нет, не справятся. Ты сила, Торикс, победа там, где сражаешься ты. Не надо уносить её отсюда туда, где она никому не нужна. А обо мне не беспокойся – у меня ещё есть два дня, за это время мы с Труддумом придумаем что-нибудь. В крайнем случае, ты всегда успеешь скрестить меч с Владыкой.
Торикс молчал, обхватив голову руками. Лонг подошёл к дверям.
– Мне пора уходить, – сказал он. – Но я обязательно вернусь. Ведь у меня ещё есть два дня.
* * *
Замок встретил Лонга небывалой суматохой. Какие-то вооружённые люди пробегали по коридорам, стояли у кремальер и бойниц, дозором бродили вдоль стен. Во дворе раздавался плачущий рёв вьючного зверья, скрипели телеги. Там что-то выгружали, собирали, мастерили. Несомненно, это затеи Труддума. Лонг усмехнулся. Всё-таки Труддум – плоть от плоти этого мира. Он обязан непрерывно и суматошно действовать, и он действует: собирает дружину, возводит укрепления. Хотя отлично понимает, что замок защищать некому. Когда настанет время, доблестные мужи разительно переменятся. Побегут храбрецы, бдительные уснут на часах, а самые верные – предадут.
Впрочем, возможно, всё будет не так. Дружина окажется воинственной и неустрашимой, стены – неприступными. Плоскогорье вскипит страшной битвой, полчища Владыки будут вырезаны – ему не жаль! – а потом снизу подойдут новые легионы и, прежде чем начнётся настоящий бой на гребне Перевала, Владыка устроит театральное судилище над непокорными. Может случиться всё, что угодно, ясно лишь одно – суета ни к чему.
Мастера Лонг отыскал на крепостном дворе. Труддум, азартно размахивая длинными руками, указывал помощникам, как следует крепить на огромнейшем и ни на что не похожем механизме нестерпимо блестящий серебряный щит. Лонг критически оглядел творение Труддума. Явно новая штука, таких здесь прежде не бывало. Значит, такие же будут у Владыки. Господи, как драться-то с этой кучей металла?
Труддум спрыгнул с горба стальной машины и побежал навстречу Лонгу. Вымазанное чёрными полосами лицо сияло.
– Знаю, о чём думаешь! – крикнул он на бегу. – Ты не прав, а я умница!
– Конечно, ты умница, но зачем это? – спросил Лонг.
– Чтобы собрать машину, мне нужен подмастерье. Лучше двое. А ты ушёл, и Оле тоже нет. Пришлось звать людей с плоскогорья, и, конечно же, набежал целый полк. Все хотят дела, и все его получили. Пусть тешатся, когда настанет пора, мы их отошлём. Нам не понадобится войско, нам ничто не понадобится, кроме новой машины.
– Я согласен, что в природе нет оружия вернее твоего танка, – сказал Лонг, – но что станет, когда Владыка бросит на нас сотни таких механизмов?
– Хоть тысячи! – Труддум приподнялся на носки и зашептал в ухо Лонгу: – Пусть хоть миллионы! Это не оружие. Это зеркало. Оно не умеет нападать, оно лишь отражает всё. Владыка пошлёт в бой чудовищ – такие же бестии выйдут ему навстречу. Он бросит огненные стрелы – пылающий дождь упадёт на его голову. Пускай он создаёт такое же зеркало – нам ничего не будет. Мы не станем нападать, мы будем самыми лояльными из непокорных подданных, даже слова осуждения не позволим мы себе. В этой войне плохо придётся тому, кто начнёт атаку, а воевать хочет Владыка. Нам от него ничего не нужно.
– Труддум, ты вправду умница! – сказал Лонг. – Кажется, это выход.
* * *
Лонг сделал последний шаг, коснулся рукояти меча, но тут же убрал руку. Ведь это по сути дела тоже игра, меч для перехода границы не нужен, а он больше не желает заниматься играми. Дело пошло всерьёз.
Границу Лонг раздвинул руками. Шёл вниз быстро, стараясь угадать, что его ждёт. Склон постепенно становился пологим, на нём густо росли деревья, мешавшие рассмотреть дом Торикса. Видна была лишь часть озера, по которому неспешно плыла белая лодка. Лонг ускорил шаги. Ему хотелось поскорее увидеть дом, встретить Констанс, тогда он сразу поймёт, всё ли в порядке.
Переступая границу, Лонг не мог сказать, куда попадёт. Ему случалось оказываться в диких краях, где первый пастух, сжимая каменный топор, берёг своё стадо. Иногда в долине, словно каменные деревья, поднимались шпили и башни средневекового города. Порой по склонам извивалась бетонная полоса дороги, по которой скользили блестящие металлические жуки. Но в какой бы эпохе ни оказывался Лонг, он всюду находил Торикса и Констанс, а значит – дружескую беседу, спокойствие и невозможное по ту сторону гор ощущение надёжности. Но на этот раз его не оставляло предчувствие, что бредовые планы Владыки лишь отголосок каких-то страшных событий, развернувшихся здесь. Или наоборот… Лонг понимал, что миры влияют друг на друга, но проследить все связи не умел.
Негромкий гул привлёк его внимание. Из-за ближайших вершин, басовито гудя, поднималась в зенит блестящая металлическая капля. Гравитационный челнок! Их ввели после запрещения сверхзвуковых полётов в атмосфере, когда орбиты вокруг Земли освободились от летающей военной заразы. Значит, на планете уже нет армий, нет границ. Здесь не может быть войны.
Лонг остановился и сел на камень. Ноги его неожиданно ослабли. Больше всего он боялся, что успех, которого они с Труддумом добьются в несбывшемся мире, обернётся здесь кровавой бойней. Счастье, что так не случилось. В мире Констанс – мир, и нет никого, кто мог бы его нарушить.
Дом стоял неподалёку от озера, такой же как всегда: толстые каменные стены с неудобными окнами-бойницами, черепичная крыша, причудливая антенна рядом с высокой трубой. Праздничными вечерами, когда в доме, словно сотни лет назад, разжигали очаг, над трубой поднималась голубоватая струйка смолистого дыма.
Лонг поднялся на веранду.
– Констанс! – крикнул он. – Торикс! С добрым утром!
Ответа не было. Дом встретил Лонга прохладной пустотой, полумраком, особенно приятным после ходьбы на беспощадном горном солнце. Лонг прошёлся по гостиной, выглянул в окно – лодки не было видно. Подумал, что неплохо бы, пока хозяев нет, сбегать искупаться, но представил ледяную воду горного озера и отправился в душ.
Лонг долго и со вкусом мылся, ежеминутно ожидая, что сейчас за стенкой послышится звучный голос Торикса: «Это кто тут у нас хозяйничает?..» – но в доме по-прежнему было тихо. Тишина начинала тревожить. Конечно, и Констанс и тем более Ториксу не раз приходилось надолго покидать дом, но в такие дни Лонг попросту не приходил, ведь он шёл к ним.
Лонг включил телевизор. По всем каналам в полном молчании транслировали одну и ту же заставку: «Ждите сообщений».
«Что случилось?» – испугался Лонг.
Он бросился к письменному столу, в ящике которого, как он знал, должен лежать запасной фон, но в это время хлопнула дверь, простучали шаги, и в гостиную вбежала Констанс.
– Лонг!.. – выдохнула она. – Как хорошо, что ты пришёл!
Лонг остановил улыбку, готовую раздвинуть губы. Перед ним стояла Констанс: как всегда невообразимо молодая и прекрасная, но радость в её глазах тонула в тревоге. Лонг понял: сюда тоже пришла беда.
– Что? – спросил он чуть слышно.
– Путч.
– Что?! – на этот раз громогласный вопрос звучал просто как междометие, выражающее одновременно удивление и недоверие к невозможному.
– Вот именно, – подтвердила Констанс. – Генерал Айшинг. Мы же его в школе изучали. Армейские путчи, сопротивление разоружению. Я думала, он умер давно. А они, их пятнадцать человек, захватили центральный склад бывшей военной техники. Там хранилось старое оружие, его использовали понемногу, иногда демонтировали, если требовалась только часть устройства. Сначала склады охраняли, потом решили, что это лишнее: кому нужен древний хлам? Говорят, уже было решено полностью ликвидировать склад, но не успели. Там есть и ракеты и ядерные устройства, и всё захватила кучка сумасшедших стариков. Ведь самому младшему из них за восемьдесят. Они разблокировали дверь и заперлись изнутри. И ты знаешь, – голос Констанс упал до шёпота, – они убили трёх человек, инженеров, которые работали на складе.
– Не понимаю, – сказал Лонг. – Такая бессмыслица может быть только в моём мире. Пятьдесят лет назад у путчей хоть цель была, а на что они сейчас надеются?
Старинная дверь ещё раз громко хлопнула, в комнату влетел Торикс.
– Ну? – воскликнула Констанс. – Тор, что они требуют?
– Ничего, – зло ответил Торикс. – Это самоубийцы. Как только они кончат монтаж пусковой установки, они начнут бомбардировку всех крупных городов Земли. Без разбора. На это у них уйдёт два дня. Но взорвать заряды они могут уже сейчас. На складе столько плутония, что взрыв заразит всю планету. И они это сделают, я же говорю, они самоубийцы. Склад штурмом не взять, они успеют пустить его на воздух, уговаривать их бесполезно – они невменяемы. Остаётся единственное – дать произвести залп и демонтировать заряды в воздухе, пока ракеты летят к цели. Возможно, есть и другие пути, но я буду заниматься этим.
Тут только Торикс заметил неподвижно стоящего в стороне Лонга.
– Ты? – воскликнул он. – Вот удача! Поехали скорее, я попробую включить тебя в отряд пилотов. Ты ведь в ядерных устройствах тоже разбираешься?
– Я не смогу, – виновато произнёс Лонг.
Торикс слушал Лонга молча, лишь порой морщил кожу на лбу. Потом сказал:
– Ты считаешь, что бешеные генералы рождены твоим Владыкой? Мне кажется – наоборот, в конце концов, первичны мы, а в твой мир уходит то, что невозможно в нашем.
– Не знаю. Но смотри: едва я оказался в безопасности, как твоему миру стало грозить уничтожение. Боюсь, что до тех пор, пока я буду отражать атаки Властелина, айшинги у вас не переведутся.
– Об этом не думай! – приказал Торикс. – Делай своё дело, а с местными владыками мы разберёмся сами.
– Что нам ещё остаётся…
– И не раскисай! – прикрикнул Торикс. – Мы работаем вместе. Только я над тем, что должно быть, а ты над тем, чего быть не должно. Случается, мы меняемся ролями. Ну и что? Главное – честно работать. Извини, я помчусь. Я ведь заскочил только с Констанс попрощаться. А тут ещё тебя застал. Не огорчайся, твоё положение не так безнадёжно. Оборону ты наладил, теперь переходи к наступлению. Желаю показать твоему всемогущему приятелю, где зимуют раки.
– Я обязательно это сделаю, – сказал Лонг.
* * *
Гудящий прожектор бросал ослепительный луч с вершины башни. Пятно света пробегало по кустам, задевало обгоревшие остовы ветряных мельниц и бесследно исчезало в долине. Лонг стоял, провожая взглядом бегущий луч. Туда, к южным границам плоскогорья, ушло сегодня ополчение. Собственно говоря, Лонг попросту отослал навстречу Владыке своих эфемерных союзников, которые могли только помешать ему. В замке Лонг остался вдвоём с Труддумом.
Все хитрые приспособления Труддум законсервировал или разобрал. Осталось лишь огромное зеркало. Пока оно было выключено, оно имело вид низкой повозки с большим серебряным щитом, установленным наподобие паруса. Но едва зеркало включали, как щит расплывался тончайшей прозрачной плёнкой, через которую не могло пройти никакое тело.
Зеркало подключили к реактору. Они остановились на этом источнике энергии, поскольку в борьбе с властелином флюктуаций нельзя полагаться ни на вечные двигатели, ни даже на мельничное колесо, столько лет исправно служившее им.
Лонг выключил прожектор и спустился вниз. Вообще-то прожектор можно было и не выключать, он питался от огромной клепсидры, вода которой, падая вниз, крутила турбинку, а потом поднималась обратно в верхний шар по системе изогнутых капилляров, но Лонг приучал себя беречь энергию. Скоро её будет немного.
В нижнем зале, положив локти на край пустого пиршественного стола, сидела согнутая человеческая фигура. В первое мгновение показалось, что это Труддум, и лишь потом Лонг узнал гостя. Его Лонг не опасался, хотя и не понимал, как тот прошёл сюда через включённую защиту. Впрочем, когда имеешь дело с Отшельником, многое становится непонятным.
Лонг сел напротив гостя, молча стал ждать. Отшельник поднял сухое тёмное лицо.
– Ты хорошо подготовился к войне.
– Я старался.
– Ты веришь, что зеркало удержит Владыку?
– Я надеюсь, а это тоже немало. Надёжней было бы поставить зеркало на самом Перевале, но там его нечем питать. Реактор здесь.
– Сильная машина, – согласился Отшельник и тут же без всякого перехода добавил: – Сегодня ко мне пришёл человек по имени Оле.
– Он уцелел? – радостно воскликнул Лонг.
– Конечно. Он просто шёл и шёл, пока не добрался до меня. И с ним ничего не случилось – кому нужен маленький Оле? Он просил передать, что сегодня же отправится обратно. Ведь он здешний и должен вернуться, как бы далеко ни зашёл. Он будет жить здесь, даже когда от твоего замка не останется следа и сами горы рассыплются пылью…
– Так не будет! – крикнул Лонг. – Я Страж! Я не дам Владыке стереть границу!
– Я тоже страж, – чуть слышно промолвил Отшельник, – хоть и не ведаю, что закрываю от безумия своим небытием. А ты знаешь, что по твою сторону границы добро, красота, правда. Ты видел их, ты был счастлив, в тебе бушует горячая кровь, и за это ты сегодня платишь. Или ты раскаиваешься в том, как жил?
– Нет, – сказал Лонг.
Отшельник поднялся. Старый плащ свисал с его плеч прямыми неживыми складками.
– Скоро утро. У нас с тобой много дел. Сегодня ещё ничего не случится, но это последний день.
* * *
Лонг быстро шёл вниз по тропке. Солнце ещё не показалось в просвете между вершин, вокруг стояла чуткая утренняя тишина. Лонг торопился к дому Торикса. «Это последний день», – звучали в ушах слова Отшельника. Теперь Лонг знал, что надо делать ему. Он уже не надеялся найти здесь помощь. Он просто хотел ещё раз повидать Констанс.
За крутым поворотом дороги стояли четверо. Заросшие лица, спутанные волосы, на коренастых фигурах боевая одежда из крепкой сыромятной кожи. В руках тугие луки, короткие железные мечи. Тяжёлая стрела с острым костяным наконечником ударила по доспехам Лонга и, отразившись, ушла вбок. Лонг вырвал из-под плаща меч. Четверо разом бросились на него. Через минуту один из нападавших лежал неподвижно, другой катился с обрыва, пятная валуны красным, а двое, побросав перерубленные мечи, бежали по тропе вниз.
Лонг поднял к глазам меч. Лезвие было чисто, только булатная часть потускнела от стёртой крови. Настоящей крови настоящего человека, которого он убил.
Лонг с трудом запихнул меч в ножны. До сих пор никто не нападал на него по эту сторону Перевала. Конечно, он заранее знал, что не попадёт к Ториксу в мирное время, но чтобы враги оказались здесь, у самого дома?
Надо было спешить. Над вершинами деревьев, над белыми скалами медленно поднимался столб дыма. Дым шёл оттуда, где жила Констанс. Лонг, задыхаясь, бежал туда.
Дом был окружён. Три десятка чужих воинов, прикрываясь деревьями, обстреливали его зажжёнными стрелами. Каменные стены гореть не могли, сопротивлялась пламени и засыпанная землёй крыша. Но уже пылала трава под окнами, занялась дверь. Из дома в нападавших тоже летели стрелы, несколько неподвижных тел лежало на открытой площадке.
С невнятным криком Лонг кинулся вперёд. Не было времени размышлять, какая льётся кровь, зло всегда реально, надо было выручать друга, спасать любимую. Лонг бил, его страшный меч поспевал всюду и рассекал всё.
Дверь дома распахнулась, оттуда с копьём в одной руке и мечом в другой выпрыгнул Торикс. Они пробились друг к другу, и Лонг сразу успокоился. Стоя спиной к спине, они отражали наседавших, и те вдруг заметили, что их осталось едва десяток, остальные корчатся на земле или вовсе лежат без движения, и кто-то закричал от страха, кто-то бросился прочь, поляна опустела, а Торикс, схватив чужой лук, метал вслед бегущим стрелы, чтобы не ушёл никто.
Потом Лонг и Торикс остановились, взглянули друг на друга и улыбнулись. Из дверей навстречу им вышла Констанс. Она была прекрасна и молода, только возле глаз лучились морщинки и в волосах сквозили седые нити. На боку висел наполовину пустой колчан.
Лонг поклонился и поцеловал руку.
– Кажется, я поспел вовремя, – сказал он.
– Они идут и идут, – глухо промолвил Торикс. – Никто не знает, сколько их и откуда они пришли. Вчера нас сбили с горных проходов, теперь приходится уходить в пещеры. Ты застал нас случайно. Если бы не эти, – Торикс кивнул на трупы, – мы бы ушли рано утром. Мы задержались, чтобы закопать то, что нельзя унести с собой.
– Тогда надо поспешить, – сказал Лонг.
– Сейчас пойдём, но мне нужно добежать к соседям, посмотреть, успели ли они, а ты пока следи, чтобы никто не подобрался незаметно. – Торикс поднял с земли копьё и скрылся за деревьями.
Лонг опустился на обрубок бревна.
«Вот так, – подумал он. – Я не нападаю на врага в призрачной стране, и, значит, здесь враги нападают на тех, кого я люблю. Я удобно скрыт волшебным зеркалом, поэтому здесь, всюду и во все времена Констанс угрожает гибель».
Холодная безнадёжность окутала Лонга. Выхода не было.
Констанс подошла к Лонгу, положила на землю охапку собранных стрел: своих, оснащённых железом, и чужих, из кости; присела на корточки, заглянула в опущенное лицо.
– Не тревожься, – сказала она. – Прежде бывало хуже. Конечно, кочевники прорвались в долину, но смотри, никто из семьи ещё не погиб.
– Это нашествие… – выдавил Лонг, – оно из-за меня. Орды Владыки идут на Перевал, а я уклонился от битвы. Поэтому у вас так плохо. Но больше отсиживаться я не могу. Констанс, я пришёл в последний раз.
Констанс выпрямилась, положила ладонь на опущенную голову Лонга, провела по волосам.
– Знаешь, – сказала она, – я всегда была хорошей женой Ториксу, я родила ему семерых сыновей, старшие уже могут сражаться, но всё-таки иногда я жалею, что когда-то ты не увёз меня к себе. Дружба с Ториксом оказалась для тебя важней.
– Важней всего для меня ты, – чуть слышно произнёс Лонг, – если бы я увёз тебя, ты бы исчезла из мира, тебя бы не стало, а я хочу, чтобы ты жила. Даже если я никогда больше тебя не встречу.
Лонг поднялся, и Констанс, смутившись вдруг, отошла и вновь принялась собирать разбросанное по траве оружие. Лонг молча помогал ей.
Торикс с копьём в левой руке показался на тропе. Правой он прижимал к груди маленького белого козлёнка.
– Там никого нет! – крикнул он издали. – Отбились и ушли. А малыш остался.
Козлёнок взмекивал порой и бил тонкими ножками, но широкая ладонь Торикса надёжно удерживала его. И Лонг подумал, что в этой грубоватой бережности ко всем, кто не враг, лучше всего виден настоящий Торикс.
– Ты идёшь с нами? – спросил Торикс.
– Нет, – сказал Лонг. – В моих горах тоже нашествие, враги хотят прорваться через Перевал к вам, поэтому я должен драться в своей стране.
– Жаль, – сказал Торикс. – Я рассчитывал на тебя.
– Жаль, – эхом откликнулся Лонг.
– Ничего! – Торикс выпрямился, голос его загремел. – Не унывай! Мы как прежде бьёмся спина к спине. Пока по ту сторону гор ты, я буду знать, что никто не сможет ударить меня сзади. Слышишь? Горы не толще рубахи, мы с тобой стоим спина к спине…
Констанс вынесла из дома два тяжёлых, перетянутых ремнями узла, сильным молодым движением перебросила их через плечо, приняла у Торикса замолкшего козлёнка. Торикс словно охапку дров взвалил на спину собранное и связанное оружие. Лишь своё копьё он оставил свободным.
Вот и всё. Можно уходить. Пускай даже враг подожжёт дом, каменные стены уцелеют, и когда-нибудь дом будет отстроен.
Лонг молча смотрел вслед уходящим. Уходил друг, и уходила любимая женщина. Рвалась единственная ниточка, связывавшая его с подлинным бытиём. И это казалось более невозможным, нежели текучие пустыни Отшельника. Лонг привык жить походами через Перевал, время от одного похода до другого было лишь ожиданием. Теперь ждать нечего. Сила и надёжность Торикса, возможно, будут доходить к нему через границу, ведь на деле она много тоньше рубахи, а вот Констанс он больше не увидит. Никогда.
Странное чувство испытывал он к этой непостижимой женщине: то юной, то умудрённой годами, но всегда и во все времена удивительно прекрасной. Даже безнадёжной его любовь назвать нельзя. Так можно в юности любить нереального, выдуманного человека. Но здесь всё оказывалось наоборот: во вселенной не было ничего реальней Констанс, а вот Лонг принадлежал бреду, бурлящему по ту сторону Перевала.
Когда Констанс с Ториксом скрылись за поворотом, Лонг сглотнул набухший в груди комок и тоже пошёл вверх, туда, где пролегала известная лишь ему граница.
* * *
Четвёртый день не наступил.
Давно пришло время утра, но солнце не взошло, и небо беззвёздно чернело. Зато внизу, где начиналось Предгорье, света было слишком достаточно. Там пылало и, рассыпая искры, рушилось; проплывали облака сияющего тумана, тысячесвечёвые прожектора взрезали клинками лучей столбы кипящего дыма. Там шёл бой. Впервые пригоряне сражались без Лонга.
Лонг стоял у стены замка и ждал, когда внизу затихнет пышный и кровавый фейерверк, устроенный расточительным Владыкой. Вообще-то конца сражения можно было и не ждать, но Лонг медлил. На нём серебрились новые, выкованные Труддумом доспехи, на перевязи покоился меч, словно Лонг собрался в бой. Так оно и было, только в этом бою ему не понадобятся ни меч, ни панцирь.
Лонг знал, что не устоит в единоборстве со всем нижним миром и прятаться за зеркалом тоже не имеет права. Перевал, прежде недоступный, теперь не сможет удержать ополоумевшего Владыку. Единственное, что можно сделать, это уничтожить Перевал вместе с границей, чтобы войскам просто было некуда идти. Но чем бы ни кончилось дело, завтра хранитель Перевала будет уже не нужен.
Лонг ждал, жадно вдыхая жгучий, пахнущий гарью воздух. Ему не было страшно, но сильнее страха сковывало простое, истовое желание жить. Пусть только здесь, не видя Констанс, пусть даже у самых ног Владыки, но всё-таки жить, знать, видеть. И он использовал подаренную ему отсрочку для того, чтобы дышать до боли холодным, дымным воздухом.
Раскаты сражения приближались. Владыка теснил непокорных, собираясь, вероятно, устроить завершающую бойню у стен замка. Вскоре появились отходящие. Именно отходящие, отступающие, но не бегущие. Женщины Предгорья шли, побросав вещи, скот, вели только детей и волокли раненых. Здоровых мужчин не было, они оставались там, где катилась, пережёвывая их, смертоносная лава наступающих.
Через несколько шагов беженцы натолкнулись на зеркало. Они не нападали, не били, не угрожали, поэтому зеркало просто не пустило их, оттолкнуло мягко, но решительно. Сразу поняв, что дальше дороги нет, обречённые остановились. Кто-то ещё пытался укрыться среди камней, часть лихорадочно принялась рыть траншеи, но большинство просто опустилось на землю, чтобы спокойно дождаться конца.
Воинство Владыки поднималось по склону. Не армия, не орда, а туча, сплошная волна тел и дурмана. Бронированные самопалы, фыркающие огнём гады, кривоногие уродцы, вооружённые отравленными кинжалами, нечисть, прозрачная до голубизны, а позади всего – тяжело шагающие электрические черепахи инверторов. Здесь они не могли работать по-настоящему и были просто балластом, но когда их включат у Перевала, тогда оружие людей станет бесполезным, а бессмысленная нежить агрессора обретёт убийственную силу.
Волна катилась судорожными рывками, словно огромное безмозглое существо, порой останавливаясь, а то и отдёргиваясь назад. Сначала казалось, это происходит лишь оттого, что слишком много наступающие давят и калечат друг друга, потом Лонг заметил обороняющихся.
Горстка чем попало вооружённых людей сдерживала потоп. Их вёл высокий и худой, чем-то похожий на самого Лонга воин. Месяц назад он принёс в замок известие о приходе жуков-людоедов, и Лонг называл его про себя Гонцом. Вот Гонец, что-то неслышно крича, сорвал с пояса круглую самодельную бомбу, швырнул её в разинутую пасть ползущей на чёрных шипах рыбы. Чудище вспухло взрывом, разбросав ядовитую слизь. И тут же сам воин упал на землю. Из рассечённого горла горячим фонтанчиком хлестнула кровь.
Лишь теперь Лонг понял, что значат ржавые пятна на повязках и одежде, увидел алые струйки, сочащиеся из-под ладоней, зажимающих раны, заметил трупы, плавающие в крови, которой прежде не было.
– Они живые! – закричал он. – Пропусти их! Зеркало убери!
Труддум, сжавшийся в комок в недрах своего аппарата, оторвал ладони от лица и вонзил растопыренные пальцы в клавиатуру. Опалесцирующая плёнка зеркала лопнула. К Лонгу прорвался бесконечный лязг, рёв и грохот сражения.
– Всем отходить назад! – заорал Лонг, бросаясь навстречу вздымающемуся живому валу.
Он запоздало кинулся на выручку людям, которые верили ему и которых он равнодушно, словно Владыка Мира, отправил на смерть. Краем глаза он успел заметить, что, как и прежде, отходят только женщины с детьми, воины остались с Лонгом. Это спасло его. Лонг был закован в непроницаемую броню, меч в его руках был способен разрубить что угодно, но один он попросту был бы погребён под телами убитых.
Огненная стена дрогнула и начала отходить. Лонг двинулся было вперёд, но заметил, что навстречу ему, шагая по колено в бегущих, движется невиданный великан в сияющих доспехах. В левой руке великан держал обоюдоострый меч. Одна сторона меча невесомо струилась туманом, на другой отпечатался рисунок булата.
Лонг понял: это смерть. Там нет противника, есть лишь зеркало. Труддум говорил, что возможно кривое зеркало, которое всё увеличивает. Лонг в нерешительности замер. Остановился и великан, но зато всё остальное воинство повернуло на Лонга. Снова он бил, а рука становилась всё тяжелее и меч медленней. И нельзя было идти ни назад, ни вперёд.
Когда Лонг пришёл в себя, он увидел, что стоит с мечом в руках возле разрубленной туши издыхающего дракона, рядом остались только свои, а от набирающей новые силы армии Владыки их отделяет едва заметная поверхность вернувшегося зеркала. Труддум успел выбрать мгновение и остановить битву.
– Туда! – Лонг мотнул головой в сторону Перевала. – Идите быстро, времени нет. Если вы настоящие – пройдёте.
Не задав ни единого вопроса, группа истерзанных людей двинулась к горам. Их оставалось немного, едва ли больше полусотни. Дойдут ли они? В какое время выйдут? И чем встретит их реальный мир, порой не менее жестокий, чем ойкумена Всемогущего? И всё же у них есть шанс.
– Великий разум, как бы я хотел попасть туда!.. – простонал за спиной Труддум.
– Иди, – сказал Лонг.
– Не могу. Я знаю, что ты задумал, и должен помочь тебе. Один ты не справишься, а я… хороший инженер.
Полки Владыки ринулись вперёд и беззвучно разбились о зеркало, оставив груды убившихся. Лонг представил, как вместе с этим первым натиском в мире Констанс начались непоправимые и опасные события: двинулись армии разных времён и народов, раскосые пришельцы обнаружили в ущельях забаррикадированную пещеру Торикса, а в самом далёком будущем, которого достигал Лонг, поднялись в воздух ракеты озверевшего от ненависти и бессилия бывшего генерала Айшинга. Ракеты, которыми может кончиться всё.
– Пора, – сказал Лонг.
Ответа не было. Лонг оглянулся и увидел, что Труддум, скорчившись, лежит на земле.
Лонг кинулся в нему, перевернул.
– Что с тобой?
– Так надо, – прошептал мастер. – Просто я вдруг придумал, как можно победить Лонга. Для этого я должен взять нож, помочь тебе снять доспехи, а потом ударить в спину. А когда ты умрёшь – отключить зеркало. Я это понял, взял нож и пошёл. Так приказал Всемогущий. Но я обманул его и прежде ударил себя. Прости, теперь тебе придётся одному… Я слишком много души отдал вечным двигателям и другим невозможным диковинам. Поэтому я и не смог уйти и, как ни старался, до последней минуты помогал Владыке. А ты иди, я хочу видеть, как это будет. Обо мне не беспокойся, у меня нет горячей крови, и боль мне только кажется.
– У тебя есть горячая душа, – сказал Лонг.
– Иди…
* * *
В подземелье замка ничего не изменилось. В сухом душном воздухе мощно гудели турбины, питавшие зеркало. От стального корпуса реактора волной шёл жар.
Лонг остановился. «Один ты не справишься», – вспомнил он слова Труддума. Как быть? Если просто поднять алмазные стержни, то ничего не добьёшься. Реакция станет неуправляемой, температура начнёт стремительно нарастать, и едва она превысит полторы тысячи градусов, циркониевые трубы расплавятся, горючее разлетится по помещению, и цепная реакция прекратится. Генералу Айшингу не приходится задумываться над такими проблемами. В его руках бомбы, специально созданные для убийства. А Лонгу предстоит найти нечто, способное хотя бы несколько секунд противостоять напору разогретого до миллионов градусов вещества. Труддум, конечно, знал, как взорвать реактор, недаром он говорил об этом как о простой инженерной задаче. Но сейчас помощи ждать неоткуда: Труддум лежит, глядя стекленеющими глазами в небо, и ждёт, справится ли Лонг.
Лонг поднял голову. Вырубленное в скале подземелье было перекрыто цельной плитой из густо-чёрного лабрадора, на которой как на фундаменте стоял весь остальной замок. Неохватная колонна поддерживала циклопическую плиту. Лонг критически оглядел её. Синие павлиньи блики мерцали в черноте камня. Пожалуй, тысячетонная плита может сработать за пресс. Надо только убрать колонну…
Одной рукой Лонг принялся быстро вертеть штурвал подъёмника. Стержни разом пошли вверх и канули во тьме коридора. В то же мгновение камеру залило ослепительным нечеловеческим светом. Страшный жар, в сравнении с которым ничтожными казались огнемёты Владыки, охватил Лонга. Но всё же он успел, прежде чем испарились последние капли живой крови, ударить мечом по колонне. Потолок резко пошёл вниз, хрустнули, сминаясь, доспехи.
Умирающий Труддум уже ничего не видел, но он почувствовал, как раскололась земля, и обрадовался, поняв, что Лонг успел.
Огненное море выплеснулось из-под земли, поднялся, разрастаясь убийственным грибом, смерч. Пламя, отражённое и стократно усиленное кривыми зеркалами Владыки, ринулось на горы. Но не было уже никого, кто мог бы наблюдать, как рушатся вершины, погребая узкую седловину Перевала, как горы проваливаются сами в себя, а за ними открывается мёртвое пространство пустыни.
* * *
Посреди отравленной радиоактивностью пустыни, наполовину уйдя в спекшийся песок, лежал Лонг. У него больше не было доспехов, не было и крови. Он целиком попал во власть нереального мира, и тот сотворил над ним одну из своих злых шуток: Лонг уцелел, оказавшись в самом сердце взрыва. Он не чувствовал тела, не воспринимал времени, но видел перед собой оплавленные камни мёртвой пустыни. Сколько хватало глаз, всюду громоздились камни. Всё-таки здесь был север, эта пустыня мало походила на тающую преисподнюю юга. Каменные россыпи полого уходили вверх к высокому горизонту, но Лонг знал, что это обман. Гор больше не было, сознание этого приносило ему горькое облегчение. Нет Перевала, нет границы, а значит, никогда потусторонний бред не ворвётся в живой мир.
Лонг не знал, долго ли он провёл так, вплавленный в камень, словно мошка в каплю янтаря. Привёл его в себя негромкий голос:
– Здравствуйте, сеньор!
– Ты вернулся, Оле? – сказал Лонг.
И хотя опалённое тело не сумело издать ни звука, но Оле услышал и понял.
– Да, сеньор, вернулся. Здесь стало неуютно. При вашей жизни было намного лучше. Здесь жило много людей. Теперь мне придётся жить одному.
– Значит, не я, а ты был стражем Перевала.
– Что вы, сеньор! Перевал был ваш. Вы были хранителем кусочка правды в мире лжи. Но теперь они разошлись, и у них нет общей границы.
– Это хорошо, – сказал Лонг.
Высоко в белесом небе, неслышно гудя моторами, полз реактивный лайнер. Вечер. Лонг видел, что он больше не нужен. Он всё сделал как надо, не уклонился, не ушёл от битвы, поэтому за разрушенным Перевалом люди сумеют устоять перед теми, кто идёт войной на правду. Констанс с Ториксом вернутся в свой вечный дом. И главное… Лонг обвёл взглядом окрестности: чёрное, рыжее, серое…
– Хорошо, что это произошло здесь, – сказал Лонг. – Значит, настоящий мир не превратится в такую пустыню. Со своими бедами Торикс справится сам, а злое безумие не сможет ударить его в спину.
Оле присел на корточки, развязал мешок, достал исцарапанную флягу.
– Хотите пить, сеньор? – спросил он. – Это последняя настоящая вода. Новой набрать негде.
Лонга окутала прохлада и свежесть. Вода текла тонкой струйкой. Лонг сделал глоток и закрыл глаза. Он знал, что наконец умирает. Даже если в горячке Мира и возникнет когда-нибудь закованная в доспехи фигура, которую станут называть Лонгом, это всё равно будет не он.
Вода кончилась. Лонг вздохнул и улыбнулся. Он вспоминал Констанс, которая будет всегда.
Квест
Костёр прогорал, и фигуры сидящих сдвигались плотнее, словно пальцы, медленно сжимающиеся в кулак. Люди молчали, и в темноте почти не было видно лиц, но никто не поднимался с места, хотя давно пора укладываться спать. Больше спокойных ночёвок ожидать не приходится, на том берегу речки, что чуть слышно лепечет в ночи, начинается Запретная земля, там ни единой минуты нельзя пробыть безопасно.
Квест оглядывал сомкнувшиеся фигуры, в который раз пытаясь поверить, что всё происходит именно с ним. Запретная земля, о которой рассказывают сказки, семеро странников, идущих к неведомой цели. Потом, если хотя бы одному удастся вернуться, их назовут героями. Это он-то герой? Он прожил здесь всю жизнь, даже не пытаясь ступить на тот берег. Да и внешность у него совсем не геройская: худые ручонки, тощая шея, на рёбрах можно выстукивать музыку, словно на старом ксилофоне, что по праздникам вытаскивался на середину деревенской площади. В других деревнях ксилофона не было, там танцевали под скрипку, мандолину и барабан. А у них сверх того был ещё и ксилофон, Квест даже пытался на нём играть, но так и не выучился толком. Вот если бы выучился, то, возможно, и попал бы сюда. Его тогда звали бы художник Квест, и он шёл бы исполнять желание для всех, кто играет на цитре, держит в руках кисть или рассказывает волшебные истории. Среди странников обязательно должен быть художник. Так повелось издавна, и не Квесту нарушать традицию. Вот художник, Лид Алвис, сидит позади всех и смотрит на огонь через плечо соседа. Лид Алвис настоящий артист, это сразу видно. Жаль, что Квест не спросил, каким именно искусством занимается попутчик. Может быть, он поёт песни, тогда можно было бы попросить Лида спеть, и вокруг не было бы так мрачно.
На той стороне у самого горизонта что-то беззвучно полыхнуло, озарив небо. Не зарница, конечно… разве зарница может рассыпать искры, словно праздничный фейерверк? В замке в день покровителя рода всегда устраивали салют, пускали дымные ракеты и жгли просмолённые колеса, из которых сыпали огненные клубки. На праздник сбегался народ с окрестных деревень и даже из пригородных сёл, которые к замку не имели ни малейшего отношения. Квест тоже любил смотреть пороховые забавы, ему нравился треск римских свечей, всполохи, селитряный запах дыма. Правда, этот салют слишком далеко, да и вряд ли он сулит доброе.
– Красиво… – произнёс Квест, стараясь успокоить сам себя.
– Не хотел бы я сейчас там быть, – словно соглашаясь, проговорил мечник Семир.
Конечно, Семир вовсе не был мечником. Мечники – простые люди, кнехты, а Семир происходил из рода древнего и богатого. Ему не приходилось служить наёмником, он сам водил в бой полки и целые армии. Но в руке Семира всегда был простой меч, такой же, как у его солдат, и потому полководца называли мечником. То не было прозвище или фамилия, Семир был слишком знатен, чтобы иметь фамилию. То была констатация.
Квест частенько слышал рассказы об удачливом воине, но не думал, что ему придётся запросто сидеть с мечником Семиром у одного костра. Хотя звание странника уравнивает всех. Только у одних есть фамилии или прозвища, а у других – нет. У Квеста тоже не было фамилии, его звали просто Квест.
Странники уходили в Запретную землю отрядами по семь человек, а возвращались… чаще не возвращались вовсе. Но порой, хотя никто не приходил из-за реки, люди всё-таки знали, что кто-то добрался к неведомому и сумел сказать желание. Каждый из дошедших мог загадать одно желание, и оно исполнялось, даже если герой погибал на обратном пути. Вот только желание должно быть не для всех, не обо всём и не навсегда. И самое главное, ничего нельзя загадывать для самого себя. Поэтому странники уходили в Запретные земли редко. Кому охота погибать не для себя, но и не для всех? К тому же не так часто находились настоящие маги, готовые вести отряд. А без мага в Запретных землях делать нечего – погибнешь в первый же день. Хотя простолюдины поговаривали, что высшие степени посвящения колдун может получить лишь после того, как пройдёт сквозь Запретные земли. А это значит, что семёрка странников набирается всякий раз, едва какой-нибудь волшебник станет достаточно могучим, чтобы пересечь с отрядом пограничную речушку.
Чернобородый Шемдаль был настоящим колдуном. О его делах рассказывали шёпотом и с оглядкой. Именно он уговорил мечника Семира идти в поход, а Семир не привык доверять кому попало. Эти двое прошлись вдоль границы, выбирая место, где лучше перейти на ту сторону, и однажды, когда они устраивались на ночёвку, к их костру подошёл Квест. Он поздоровался, как и положено вежливому человеку, и начал греть руки над огнём, потому что ночь выдалась холодной.
– Как тебя зовут? – спросил чернобородый, в котором Квест, конечно, не признал колдуна.
– Квест, – честно ответил Квест и добавил: – Прозвища я не заслужил.
– А ты не боишься, что попал к разбойникам? – усмехнулся закутанный в плащ воин.
– Не-е. Грабить у меня нечего, а убивать зачем? Я погреюсь и дальше пойду. У меня на речке в омутах донки стоят, проверить надо.
– И как тут рыба? Не страшно ловить?
– Так я ж на тот берег не хожу. А рыба хорошая: окуни, ерши. Я с этого берега ловлю, а чудики с другого. Им на нашу землю тоже хода нет.
– Ишь-ты, как он их ласково – чудики, – произнёс Семир, переглянувшись с колдуном, а тот почему-то сказал:
– Судьба.
Так начал собираться отряд.
Что собирался просить у неведомого Шемдаль, Квест и догадываться не пытался. Не его это ума дело. А Семир может просить, например, удачи в боях против горных кланов. Или чтобы королевские войска сумели наконец взять островной Тепель, где гнездятся морские бароны. Да мало ли что может просить воин… Однажды случилось небывалое: воин, прошедший Запретные земли, потребовал у неведомого, чтобы наступил мир, и целых двенадцать лет страна не воевала. Другие воины не любили вспоминать этот случай, однако женщины его не забыли и упорно давали родившимся мальчикам имя удивительного солдата. Квест тоже был назван в честь того странника, поэтому ему было нелегко обходиться без фамилии, однако прозвища он так и не заслужил. Просто по имени зовут лишь самых знатных и самых ничтожных. Такова жизнь.
Когда среди людей проходит слух, что маг, воин и простак собрались вместе, на границу начинают стекаться люди. Четверо других странников чаще всего находятся среди них. Двоих участников выбирает волшебник, двоих – воин. А простак не выбирает никого, он идёт сам по себе.
Прежде всего мечник Семир нашёл крестьянина. Где князь сумел познакомиться с мужиком, осталось тайной, но отряд, состоявший покуда из трёх человек, двинулся в одну из дальних деревень, а там Семир, не колеблясь, постучался в ничем не примечательный дом и сказал вышедшему хозяину:
– Тур, я пришёл за тобой. Мы пойдём в Запретные земли.
И Тур Вислоух не поперечил сеньору, а собрался и, оставив немалое хозяйство на взрослых сыновей, отправился на поиски верной смерти, ведомый слабой надеждой, что, может быть, удастся испросить у счастливого случая что-то полезное для всех лапотников.
О, если бы Квест был мужиком, он бы знал, чего пожелать! – Чтобы пчёлы роились хорошо. Это невеликая просьба, и, значит, желание будет исполняться долго. А можно, чтобы греча как следует родилась; это тоже на много лет. Он же понимает: если греча родится добрая, то будет и мёд, потому что гречишного поля без пчёл не бывает. Жаль, что Квест не мужик… он простак и не знает, чего ему потребовать у благосклонной судьбы.
Художник Лид Алвис пришёл к ним сам и стал пятым странником. Алвис был невысок, коренаст, и не было у него при себе никакого инструмента. Поэтому Квест и не знал, каким изящным ремеслом занимается попутчик. Но Алвис ему нравился – такой не подведёт. А когда Семир подобрал для художника оружие: короткий клинок и полный набор метательных ножей, то Квест окончательно убедился, что Лид Алвис был выбран не потому, что он художник, а потому, что может за себя постоять. Испытывая ножи, Лид пятью бросками срубил четыре ветки с растущего неподалёку тополя. Квест ничего подобного не умел. Да и оружия у него, почитай, не было – ножик на поясе и дорожная палка с железным оконечником. Простаку в дороге оружия не полагается. Иногда Квесту становилось смешно, что мудрейший Шемдаль тоже был вооружён дорожной палкой. Хотя даже глупый понимает разницу между дубинкой простака и посохом мага.
Все остальные странники вооружились на совесть. Тур Вислоух взял в дорогу ременный аркан и железную рогатину, с какой ходят на медведя. Юстин Баз – кровельщик из Мертеля – получил кривую саблю и пращу с набором свинцовых шариков, а уж Семир, казалось, имел при себе любое оружие, какое только изобрёл хитрый разум, хотя на первый взгляд ничего, кроме старого меча, у воина не было.
Юстин Баз был мастеровым и шёл загадывать желание для всех ремесленников. Глядя на тонкого гибкого парнишку, Квест лишь пожимал плечами. Будь его воля, он пригласил бы в поход оружейника или кузнеца. Кожемяки – тоже неслабые парни… Квест когда-то работал в кожевенной мастерской, соскабливал мездру с вымоченных шкур. Там он повидал, как работают кожевенники, и проникся к ним уважением. А что такое кровельщик? – одно звание, что мастеровой. И вообще, как он будет загадывать желание для всех? Давно сказано, что ножевщик игольщику не приятель. Вот разве что налоги всех давят одинаково. Должно быть, смягчения налогов будет просить.
Юстина тоже выбрал Семир. Когда пятёрка будущих странников добралась к столице, там уже знали, что готовится поход в Запретные земли, и отовсюду сбежались толпы народу. Большинство желало просто поглазеть, но были и такие, что просили взять их с собой. Шемдаль и Семир молчали, лишь покачивая головой в ответ на просьбы. А потом Семир вдруг кивнул, и молодой парень, в котором, кроме фамилии, ничего основательного не было, стал шестым участником экспедиции.
Дольше всего не могли найти купца, хотя уж этого добра в столице пруд пруди. И богатых, и победнее, и всяких. Каждый второй езживал в дальние страны, много кой-чего повидал и за себя постоять умеет. В поход идти купцы вызывались легче всех иных человеков. Знали, что, даже если загинешь в Запретном краю, товарищи семью не оставят, всем базаром помогут. А что торговцам просить у неведомого, Квест и знать не хотел. У купцов и без того мошна тугая, им от судьбы ничего не надо. Однако шли, просились и получали отказ.
Так странники и пошли в сторону границы вшестером. И уже на полпути, в маленьком городишке Стомберге, отыскали Орена Олаи. Шемдаль зашёл в полутёмную лавку, уселся на поспешно предложенную подушку и молча сидел полчаса. Хозяин лавки также молча сидел напротив и ждал. Потом волшебник, ни слова и не сказав, поднялся и вышел на улицу, а хозяин, кинув лавку, пошёл за ним следом. Так их стало семеро.
Если слишком молодой и хлипкий Юстин не вызывал у Квеста доверия, то уж купец и вовсе не понравился. Олаи был немолод, но худ и мал ростом. И главное – он был иноземец, велиец, приехавший по торговым делам и незаметно прижившийся на новом месте. Что из того, что он двадцать лет живёт в Стомберге – чужак чужаком останется. У него волос не по-людски вьётся, глаза круглые, что две монеты, и желание он небось скажет для своих велийских компаньонов.
Однако взгляд мага остановился на иноплеменнике, и никто не пытался оспорить выбор.
Конечно, были и недовольные. Те, кто не попал в отряд, и просто гадкие люди, которые сами и на день пути не подошли бы к пограничной речке, но умели ненавидеть тех, кто посмел рискнуть головой не для себя, не для всех и неясно ради чего. Зачем такие завиды на свете живут, не скажет ни мудрец, ни простак. Однако и среди этих никчемушников нашёлся один, вздумавший оставить по себе скверную память. Притаился подонок в кустах ракитника, а дождавшись путников, метнул оттуда летучий крюк, метя в горло чернобородому Шемдалю. Квест и понять не успел, что случилось. Кусты дрогнули, впился в уши тонкий свист, а Орен Олаи вдруг расплылся в невообразимом прыжке, и в руке у купца возник вынутый из полёта боевой крюк, сверкнувший любовно оттянутым, зазубренным жалом.
Второго крюка засидчику метнуть не дали, скрутили, прежде чем злодей руку на отмах повёл. Шемдаль неторопливо подошёл, без улыбки заглянул в глаза неудачливому убийце.
– Что скажешь?
– Я… – натужно выдавил схваченный, – испытать хотел. Ежели вы и впрямь странники, то ничего вам не будет, а если нет, то нечего и народ смущать…
– Врёшь, – так же спокойно произнёс колдун.
– А если и вру, что с того? – Преступник задёргался, не пытаясь освободиться, а просто от ненависти. – Домой меня отпустите, что ли? Сволочи! Вам лишь бы покрасоваться – посторонись, народ, мы в Запретную землю идём, счастья немереного просить, чтоб козлы доились и собаки мяукали! Да я бы вас своими руками…
– Давай, – согласился Шемдаль. – Крюк у тебя отняли, а руки покуда на месте.
– Ясно дело, – не слушая, хрипел засидчик, – с колдуном всякий дойдёт. Пройдёте как по скатёрке, а потом всю жизнь будете нос задирать – мы, мол, странники, нам за сто вёрст кланяться надо.
– А что, – спросил смешливый Юстин, наклоняясь к связанному. – Пойдёшь с нами восьмым? Тогда и тебе за сто вёрст кланяться будут.
Пленник дико скосил глаза.
– Ты чо, сдурел? Восьмой на тот берег и ступить не успеет. И ваще, ты хоть знаешь, что там с людьми делается? Лучше здесь сдохнуть, чем туда соваться.
Впервые на губах мага появилась улыбка.
– Умница, – проговорил он. – Понимает.
Шемдаль коснулся верёвки, потом выпрямился и приказал:
– Полежи, отдохни у дороги. Верёвку не мучай, её ни нож, ни камень, ни огонь не возьмут. А захочешь развязаться – доковыляешь до города, там на рынке расскажешь людям, что собирался сделать и почему. Расскажешь без утайки, верёвка развяжется. Ну а соврёшь хоть на полслова – значит, сам виноват. А уж мы, извини, пойдём. Недосуг нам с тобой валандаться.
Не дожидаясь ответа, маг пошёл прочь. Остальные странники двинулись за ним, лишь Орен Олаи, задержавшись на минуту, собрал разложенные в засидке крюки, одобрительно поцокал, примериваясь для броска, распустил ремень на котомке, аккуратно уложил крюки и тоже побежал догонять уходящих странников.
– Вы чо?! – кричал вслед связанный. – Развяжите! Меня ж за такие дела там на рынке и порешат! Сволочи, развяжите!
С тех пор Квест уже не думал о велийце плохо. Надо же, торгаш, да ещё иноземец, а такие вещи умеет! Летящий крюк схватить, это не муху в кулак поймать, такого небось и Семир не может.
Собравшись всемером, странники вернулись к родной деревне Квеста и три дня бродили вдоль речки, выбирая место и час начала похода. На третий день Шемдаль объявил, что на тот берег они пойдут завтра с утра. Теперь все сидели у костра, наслаждаясь последними спокойными часами и прислушиваясь, что деется на том берегу. Там было тихо, лишь однажды мерные переборы воды нарушились живым плеском. Все мгновенно насторожились, а Тур Вислоух спокойно произнёс:
– Квакша в воду прыгнула.
Квест не стал спорить, ведь это действительно была лягуха, хотя скорее всего не она в воду прыгнула, а её выдернул из воды вздумавший порыбачить чудик. Квест потому и прозвал соседей чудиками, что им не было разницы – рыба или лягушка, чудики тащили на берег всё и тут же ели сырьём. Случалось, если крючок донки выволакивал на берег одурелую лягушку, Квест швырял её на тот берег и смотрел, как из пустого, казалось, места вскидывается тонкая рука и на лету хватает подарок.
– Спать укладываемся, – приказал Семир, и все послушно зашевелились, готовясь к ночлегу. Поход ещё не начался, но о самовольстве пришла пора забыть.
* * *
Рассвет удался розовый и тихий. Ни ветриночки, ни единого облака на золотеющем небе. Странники поднялись, сполоснулись в речке, которую сейчас предстояло перейти, взяли заранее собранные вещи. Ждали, что Шемдаль скажет напутственное слово, но чудодей лишь кивнул молча и первым шагнул в воду.
До того берега было шагов двадцать, глубина нигде не достигала пояса, но всё же именно эта речушка отделяла страну от Запретных земель. Квест коснулся воды последним. Его не оставляло сомнение… конечно, колдун знает, что делает, но всё же стоит ли переходить реку вот так, направляясь прямо в лапы чудику.
Семир, идущий быстрее прочих, достиг уже середины реки, когда Квест решился.
– А чудик нас не тронет? – спросил он.
– Где? – Семир мгновенно замер.
– Да он по всему берегу лежит, а голова вон за тем камнем, – махнул рукой Квест.
Он не успел договорить, как в сторону камня просвистели выхваченный Лидом Алвисом нож, заточенный крюк, сорванный с пояса Ореном, и стальной диск, возникший в руке Семира. Юстин Баз крутанул пращу, но метнуть шарик не успел – сильный рывок опрокинул его в воду. Следом попадали остальные странники, один припозднившийся Квест остался на ногах. Неумолимая сила протащила путников по воде и камням, выволокла на берег к плоскому валуну, за которым скрывалась башка рыболова. Чудик к этому времени оказался уже мёртв, рывок был его последней судорогой.
Квест выбрался на берег, достал нож, принялся помогать товарищам. Тонкие как нитка ловчие руки не желали поддаваться стали, приходилось немало помучиться, чтобы они отпустили жертву.
– Это надо же, – проговорил Шемдаль, встряхивая мокрый плащ, – в первую же минуту на паутинника нарваться! Он бы сейчас всех семерых разом… И ведь ничем его на обнаружишь, покуда он тебя не схватит. Ни глаз, ни магия не поможет. Как тебе только повезло его заметить…
– Он лягушку ночью поймал, – признался Квест, – вот я и догадался, что он тут залёг. А вообще это знакомый чудик, он у меня часто рыбу прямо с крючка снимал.
– Лучше бы ты о своих подозрениях раньше сказал, прежде чем он нам ноги опутал, – проворчал Семир.
Квест потупился, потом виновато произнёс:
– Я же не знал. В следующий раз сразу скажу. Только мы же вдоль реки не станем ходить, а дальше у меня знакомых чудиков нет.
– Ладно, – засмеялся Юстин. – Пошли. Скоро солнце пригреет – высохнем.
До самого полудня отряд двигался без единой задержки. Квест даже удивляться начал – чего в этих запретных землях страшного? То же солнце, тот же ветер, те же камни, только трава иная – серая, словно дождей тут вовек не бывало. Хотя, как это не бывало? – за много лет Квест насмотрелся и на дождь, и на град, и на снег, падавшие на тот берег. Траву Шемдаль трогать не велел и вообще ничего не велел трогать – идти по камням, а на землю ступать, только если другой дороги нет.
К полудню сделали привал и снова направились на закат. Квест притомился и уже не глазел по сторонам, пытаясь высмотреть чудиков, а просто шёл след в след за Лидом, а сзади так же молча топал Тур Вислоух.
«Зря старика с собой взяли, – мельком подумал Квест, – не его ногам такие концы каждый день одолевать. У меня и то в ногах гудёж, хоть я и привычный по камням прыгать. Как бы он к завтрему не свалился. Может, котомку у него взять, всё полегче станет…»
Додумать мысль он не успел, впереди что-то сухо треснуло, полыхнуло огнём, за спинами предостерегающе вскрикнул Семир, а пустая каменная россыпь разом зашевелилась десятками неприметно-серых тварей. Первая из них метнулась в лицо Квесту, и лишь Вислоух, принявший её на вилы, не дал гадине вцепиться Квесту в глаза. Следующую тварь Квест сильным ударом насадил на палку. Существо зашипело, свернувшись в клубок, вгрызлось в железный наконечник, а Квест бестолково замолотил палкой, отбиваясь от врагов и стараясь сбросить с острия пробитую тварь. Он успел ушибить ещё двух или трёх, когда серые как по команде обратились в бегство и тут же исчезли, оставив по сторонам тропы десятка два убитых и умирающих братьев. Квест спихнул с наконечника размозжённое, но ещё шевелящееся тело, перевернул его, желая рассмотреть поближе.
– Пошли! – крикнул Семир. – Уходить надо, пока они не вернулись!
Отряд, сбившись плотнее, двинулся дальше. Теперь Квест не старался размышлять о всяких красивых поступках, а старательно пялил глаза, помня, что едва их не лишился минуту назад.
Они достигли середины каменистой пустоши, избегая низинок, но и на гривку не выходя. Ещё дважды прыгучие серые твари пытались напасть на них, но откатывались, не нанеся урона. Квест уже не опирался на палку, Шемдаль держал наготове свой огненный посох, а все остальные шагали, обнажив мечи и сабли. Последнее нападение серых оказалось особенно отчаянным, они пёрли, не считаясь с потерями. Отряд, огрызаясь, пробивался к краю россыпи. Квест как-то само собой оказался в середине, Шемдаль и Семир в задних рядах отбивали наскоки серых, а впереди, где противников оказалось не так много, двигались Лид Алвис и неутомимый велиец. Прямой меч художника и изогнутая сабля купца свистели в лад, разбрызгивая бурую кровь.
Потом что-то жутко затрещало, а серые твари вдруг сгинули, так же молниеносно, как появились. Квест развернулся лицом к новой опасности и увидел, что из-под земли, взломав каменную корку, тянутся две гигантских руки. Они сгребли не успевшего отскочить художника и сейчас мяли его в необъятных ладонях, как хозяйка разминает кусок теста, собираясь лепить шаньги. Орен Олаи, злобно визжа, рубанул по каменным пальцам, но лишь искры брызнули из-под сабли, чудовищные руки неспешно продолжали своё дело. Тур Вислоух с хаканьем метнул аркан, пытаясь удержать хоть один палец, но упал, сбитый не заметившим его усилий страшилищем.
В следующую секунду рядом с подземным монстром появился маг Шемдаль. Посох тупой стороной ударил по запястью одной из рук, вновь раздался рассыпчатый треск, руки замерли, разом обратившись в неживой камень, и следом начали разваливаться на грубые обломки. Полузасыпанное тело Лида Алвиса осталось лежать среди камней.
Художника мигом вырвали из каменной груды, уложили на землю. Шемдаль и Орен Олаи склонились над ним. На мгновение у Квеста мелькнула глупая надежда, что Алвиса удастся вылечить, будто и не переломаны у него все кости. Ведь Шемдаль могучий колдун, сейчас скажет нечто, и кости разом срастутся… Однако ничего не случилось, Лид Алвис лежал неживой, и даже струйка крови вдоль щеки иссякла.
– Что это было? – спросил кто-то.
– Не знаю! – резко ответил колдун. Он выпрямился, вздёрнул посох, как бы собираясь метнуть в неведомого противника молнию, затем со вздохом опустил руки и повторил: – Не знаю, да и никто, должно быть, не знает. Тут много всякого.
Алвиса похоронили здесь же, засыпав выжженную в земле яму обломками каменных рук. Квест подобрал меч Лида, и никто не сказал, что простаку не положено оружие. Реку он перешёл с одной палкой, а о дальнейшем предание молчало.
Остаток дня Квест мучительно думал. Получалось так, что теперь он должен просить у неведомого для всех художников, ведь Лид не дошёл, погиб в первый же день, и, значит, Квест должен подменить его. Вот только что загадывать? Что вообще может понадобиться этим артистам? Лид не сказал об этом, даже и полсловечком не намекнул, и Квест мучительно вздыхал и тёр лоб, пытаясь придумать хоть что-то дельное.
* * *
На ночлег путники остановились у самого края холмов. Дальше начинался лес, соваться в который на ночь глядя никто не решился. Выбрали место поровнее, Квест притащил воды из журчащего неподалёку ручейка. Шемдаль поворожил над котелком и сказал, что воду можно пить без боязни. Даже здесь родник оказался чист и не нёс угрозы.
Лагерь Шемдаль окружил сеткой заговоров. Свой пройдёт, а чужой – никогда, разве что силой проломится. Но и тогда – шуму наделает и всех разбудит.
Костра разжигать не стали. Огонь, конечно, бережёт от многих злых чар, но он же привлекает в ночи ненужное внимание. Вместо этого Шемдаль выбрал на лугу большой, наполовину ушедший в дёрн камень, добыл из заплечного мешка клубок шёлковых ниток, обвязал камень ниткою, и в ту же секунду гранитный валун раскалился до густого вишнёвого цвета. На камень поставили котелок, вскипятили воды, поели, захлёбывая домашний припас кипяточком, выставили дозорных и повалились спать, хотя на сердце у каждого было невесело. Худо начался поход. Ушли, конечно, далеко, а вот человека потеряли.
Квест долго не мог уснуть. Лежал в полусонном оцепенении, думал. Прежде в его жизни всё было понятно. Хозяева, у которых приходилось работать, говорили, что и как надо делать, и Квест делал, честно и не отлынивая. Когда оставался без работы, то ловил рыбу, ставил силки и порой побирался у богатых соседей, благо что злых людей на свете не так много. А теперь стал странником и идёт неведомо куда. Даже мыслезоркий Шемдаль не знает, куда они идут. Сказано – идти на закат и, когда придёшь, молча загадать желание. Как это молча? Откуда неведомое узнает, что загадал Квест, если сам Квест не понимает, что ему захотеть? И что там за неведомое, как его признать? Немногие вернувшиеся странники ничего толком не рассказывали. Говорили только, что ошибиться нелья, а как доберёшься, то сразу поймёшь, что пришёл, – мимо не прошагаешь. Сомнительно это было Квесту. В лесу, бывает, так закружишь, что деревню пропустишь, не услыхав петухов и собачьего лая. А тут – неведомое.
Потом с чего-то припомнилось, как деревенский трактирщик нанял бродячего живописца намалевать вывеску над питейным домом. Маляр трудился два дня, и вывеска удалась на славу. Пивные кружки были как настоящие, хотелось поскорей ухватить одну и сдуть пену. Довольный хозяин уплатил за работу вдвое против договорённого, и живописец, пряча деньги в тощий кошель, с удовольствием произнёс:
– Редко такое выпадает. Душой писать, и без того слаще, чем с девушкой целоваться, а коли за это ещё и платят по-человечески, то это полный восторг. А то ведь бывает и так: чем больше души вложил, тем меньше денег получишь.
Засыпая, Квест улыбнулся. Он теперь знает, чего испросить у неведомого: чтобы всякому художнику за вдохновенную работу давали человеческую плату. А который холодной кистью мажет – с ним уж как придётся.
Проспал Квест всего ничего. Ущербная луна едва успела приподняться над корявыми вершинами неживого леса. Квест проснулся, словно его толкнули в бок или позвали по имени. Мгновение он лежал, глядя на зубчатую стену лесной чащуры, стараясь сообразить, где он и как его сюда занесло. Потом разом всё вспомнил, заулыбался, ясно поняв, что поход закончен, они пришли к неведомому, просто покуда сами того не знают. Всего-то осталось полсотни шагов, и можно загадывать желание. Только идти надо тихо и по одному – неведомое боится шума. Как удачно, что он успел понять, какое хотение следует произнести, оказавшись там.
Квест приподнялся на локте, бросил быстрый взгляд окрест. Так и есть, Тур Вислоух, вызвавшийся караулить в первую стражу, видать, уже ушёл за мужицкой удачей. Вон его котомка, вон вилы лежат на земле, а самого нет. Теперь очередь Квеста.
Квест встал, потоптался немного, разминая затёкшие ноги, и уже направился было к тускло светящейся полосе Шемдалевых заклинаний, но прежде склонился к спящему кровельщику. Пусть он идёт следующим, а то останется парнишка последним, струхнёт небось.
Стоило коснуться пальцами плеча, как Юстин Баз поднял голову, зорким осмысленным взглядом обшаривая окрестность. В тонкой жилистой руке зажата сабля, которую он неведомо как успел схватить.
– Тихо ты! – прошептал Квест. – Не буди народ прежде времени. Сейчас я пойду, а ты следом.
– Куда?! – пальцы, привыкшие иметь дело с черепицей и жестью, сомкнулись у Квеста на запястье. – Где Тур?
– Пока мы спали, он уже… – договорить Квесту не дали.
– Беда! – выдохнул Баз. И хотя произнёс он это почти беззвучно, но такая сила была в голосе, что все странники разом вскочили, хватаясь за оружие.
– Вислоух пропал, – коротко бросил мастеровой, – и вот он чуть было следом не упёрся…
Шемдаль вскинул руки. С растопыренных пальцев сорвался десяток светляков, затем ещё десяток, и ещё… Огоньки улетали в ночь, кружили, выискивая пропавшего человека. Ответа не было. Тур Вислоух, пожилой крестьянин, вовек не веривший сказкам, исчез, уведённый тонким ночным шепотком.
Люди, забыв о собственной безопасности, звали ушедшего. Шемдаль засветил над головами солнечный шар, разогнавший ночь на сотню шагов. Тур не появлялся. Семир и Орен Олаи, перейдя полосу охранных заклинаний, попытались отыскать пропавшего по следам. На рыхлой песчанистой почве след был отлично виден. Пять спокойных уверенных шагов, а дальше – ничего. Словно человек рассеялся в воздухе вместе с арканом и кривым садовым ножом, висящим на ремне.
Поиски продолжались всю ночь и часть утра, пока всем не стало ясно, что больше здесь делать нечего. Продукты из мужицкого мешка распределили по своим торбам, Квест взвесил на руке брошенную рогатину, но брать не стал – тяжела. Рогатину Семир резким ударом вбил в трещину между камней. Так она и осталась стоять, словно крест над неизвестной могилой.
* * *
За день путники одолели немалое поприще. Сначала ломились сквозь чащу, где наконец-то появилось что-то живое. В воздухе зудела кусачая мошка, жирные пиявки падали с безлистных ветвей, тонкими струями перетекали змеи. Квест устал взмахивать палкой, отшвыривая с дороги шипящих аспидов.
Потом вышли к болоту. Это была скверная топь, не чета домашним трясинам, где знающий человек если и не пройдёт, то на брюхе проползти всегда сумеет. А тут ямы, полные густого ила, казалось, сливались одна с другой. В таком болоте и кикимора жить не станет, ей тоже уют требуется и тина на прялку.
Квест взирал на бурую топь, позабыв закрыть рот. Ясно, что дальше дороги нет, никто тут и десяти шагов не пройдёт. Можно и не пытаться.
Однако чернобородый маг видом болота ничуть не смутился. Поворожил немного, кинул в грязь что-то невидимое и спокойно ступил в самое, казалось, гиблое место. Поверхность болота прогнулась, словно зыбун, но не прорвалась, легко сдержав человеческий вес.
– Идём! – приказал колдун. – Только по сторонам поглядывайте. Вряд ли в этих ямах никого нет, а мне дорогу держать надо.
Слова Шемдаля подтвердились очень скоро. Путники не прошли и полсотни шагов, как на ровную полосу полезло нечто огромное, шевелящееся и столь густо покрытое грязью, что нельзя было разобрать, что же это за существо. Квест не мог даже понять – живой чудик или это опять что-то вроде каменных лап, убивших Алвиса. Полоса прогнулась под тяжестью монстра, липкая громада соскользнула в грязь и снова полезла, тупо и бессмысленно. Шемдаль, которому приходилось удерживать от падения в бездну не только людей, но и их противника, стонал сквозь сжатые зубы, Семир молча разил мечом, пытаясь согнать болотного чудика с человеческой дороги. Квест тоже несколько раз ткнул клинком и едва не упал, поскольку сталь почти не встретила преграды, ухнув в тело трясинника, словно в ком дурно сваренного киселя. Дорога качалась и ходила ходуном, угрожая выскользнуть из-под ног.
И в это время вперёд выскочил Орен Олаи. В руке купца едко дымился плотный бумажный свёрток.
– Берегись! – крикнул Олаи, швырнув свой снаряд в широкий разрез, на миг возникший после удара мечника.
Тупо бухнул удар, туша противника взбухла пламенем; дико было наблюдать эту картину: кружевную вязь из огня и липкой слизи, противоестественно взметнувшуюся над безучастной топью. Потом ощутившая удар бездна колыхнулась, нестойкую тропу свело судорогой. Люди попадали, цепляясь за изогнутую ленту, а разнесённый в клочки трясинец попросту растёкся вонючей жижей. Один Шемдаль устоял на ногах. Глаза его были закрыты, из закушенной губы сочилась кровь. Семир, сумевший вскочить первым, кинулся к магу:
– Помочь?
– Бегом! – прохрипел волшебник, наугад бросая перед собой ленту дороги.
В нескольких шагах позади вновь начал нарастать бугор разорванной твари. Баз и Олаи подхватили под руки Шемдаля, и путники кинулись прочь, не глядя куда бегут, лишь бы подальше от этого места.
Им повезло не пойти кругами, а пересечь болото едва ли не в самом узком месте. Противоположный берег был крут и каменист – самое подходящее обиталище для серых тварей и рукастых ловушек, однако путники обрадовались ему как родному. Знакомая беда – это полбеды.
Окончательно ослабевшего Шемдаля уложили на расстеленный плащ, дали глотнуть крепкого вина. Шемдаль закашлялся, однако цвет лицу вернулся и глаза обрели осмысленное выражение. Маг оглядел болото, уже не спокойное, а булькающее, густо-кипящее, словно каша в походном котелке.
– Эк мы его разворошили! – восхищённо произнёс Юстин Баз. – Никак успокоиться не может. А это часом не горбина нашего красавца показалась?
– Какой это красавец, – проговорил Шемдаль. – Это просто трясина такая. Жижа. Я на неё заклятие наложил, затвердеть заставил, а она в ответ взбурлила. Красавцы там тоже есть, только мы их стороной обошли, а на эту дрянь выползли. Не думал я, что она такая тяжёлая. Считай, всё болото на руках поднять… Теперь оно не скоро успокоится. Как назад пойдём – не знаю, хоть обходную тропу ищи.
– Сперва надо туда дойти, – напомнил Семир. – Кто знает, сколько ещё идти придётся.
Квеста тоже волновал этот вопрос. Сказано – идти на закат, а сколько идти? Припасов у них с собой – на две недели, а воды всего на день. Что, если больше не попадётся родника? А уж съедобного на этой стороне за два дня ничего не встретилось. А ну как к неведомому месяц дороги окажется? Околеют с голоду. Кабы знать, к чему готовиться, оно бы и ничего, а так тяжко… Хотя, ежели с другой стороны посмотреть, то, может, идти вовсе не две недели, а два дня. Вон они какие куски отмахали! Кто знает, вдруг, поднявшись на ближний увал, увидишь впереди цель – таинственное неведомое. И сразу придётся молча произносить желание. Вот только какое? Конечно, мужицкая просьба грузнее – мёда попросить или гречи… но и с художником так славно придумалось. Жалко, что Тур пропал, и Лида тоже жалко.
Олаи тем временем разогрел камень колдовской ниткой, а Шемдаль наворожил совсем тоненькую полоску охранных заклинаний – на большее сил не хватало. Поужинали всухомятку. Семир сказал, что теперь дежурить будут по двое, первую половину ночи – он с Юстином, вторую – Квест и Олаи. Никто не возражал, понимали, что магу надо набираться сил.
Засыпая, Квест размышлял, удачный сегодня выпал день или неудачный. Если считать, что Вислоух пропал вчера, то сегодняшний день не так и плох, а если сегодня, то – хуже некуда. Непонятно это было. Так Квест и уснул в недоумении.
Ночь прошла спокойно, а когда родной восток начал светлеть, Орен разбудил спящих. Собрались быстро, Шемдаль сказал, что сможет идти сам, и даже мешка своего никому не отдал.
Двинулись в путь. Конечно, за увалом ничего особого не оказалось – только заросли железных кустов, насквозь проржавевших, но всё равно колючих и рвущих одежду. С каждым шагом кусты смыкались гуще, тонкие ветки метили в глаза, растущие из-под земли шипы пробивали подошвы новых нестоптанных сапог. Потом среди непролазья обнаружилась тропа, неширокая, но показавшаяся удобней велийского тракта, однако Шемдаль не позволил идти по ней, и отряд продолжал ломиться сквозь ржавый частотал. Лишь к вечеру железное кладбище иссякло и путники вышли на чистое место, поросшее жухлой седой травой. Тут и остановились на ночлег.
Засыпая, Квест привычно раздумывал, хороший сегодня день или не очень. Никто за день не погиб, а это главное. Но прошли всего ничего – с гулькин нос, и воды отыскать не сумели – во флягах плещется на самом донышке. Если завтра день окажется столь же удачен, то о будущем можно и не загадывать. Под эти жизнерадостные мысли Квест и уснул, а проснулся от рёва, грохота и криков. На лагерь лезло что-то громадное и живое, горбом выпирающее на фоне звёздного неба. Квест метнулся в сторону, уходя с пути неведомца, и лишь потом заметил, что второпях забыл в лагере меч, ухватив лишь дорожную палку, которой весь предыдущий день обламывал хрупкие чугунные ветки.
Возвращаться было уже некуда, Квест саданул изрядно сточенным наконечником в тёмную громаду и с радостью почувствовал, что палка не отскочила и не провалилась в никуда, а глубоко вонзилась в плоть, как следует ранив врага. Чуть в стороне грохнул боевой клич Семира, которому вторили вопли Олаи. Голос Юстина звонко выкрикнул:
– Давай!
Полыхнуло пламя, едко запахло порохом.
Мельком Квест подумал, что и ему надо бы драться там, но раз уж довелось отскочить в эту сторону, будем бить незваного гостя отсюда. И Квест вновь всадил окованную палку в живой холм. Темнота перед глазами дёрнулась, но никак не попыталась защититься. Тогда Квест разбежался, с разгону взлетел на верхушку живого холма и принялся остервенело ударять палкой, словно долбил пешнёй лунку в зимнем озере. После пятого удара на сапоги Квесту хлынуло липкое, тело чужака вздыбилось, едва не сбросив отчаянного наездника, но Квест сумел удержаться, ухватившись за прочно засевший посох, а затем вновь принялся долбить темя противника и бил до тех пор, пока не понял, что терзает мертвеца.
Крики внизу смолкли, вспыхнул факел, голос Семира встревоженно спросил:
– Что с тобой? Ты ранен?.. – потом Юстин Баз негромко крикнул:
– Квест, ты где?
– Я тута, – ответил Квест.
Ноги его вдруг стали вялыми и непослушными, приходилось цепко держаться за палку, чтобы не упасть.
Юстин вздел факел повыше, увидав Квеста, попирающего ногами ночное чудовище, присвистнул:
– Эк тебя занесло, на самый купол. Как ты туда влез-то?
– Оно с той стороны голое, – ответил Квест, глядя вниз. Там, где стояли его товарищи, тело зверя топорщилось десятками конечностей, вздрагивающих, не желающих признавать своей смерти. Юстин коротким ударом обездвижил особо шуструю лапу, разбежавшись, одним махом взлетел на макушку зверю. Ухватился за вбитую в темя дубинку, покачал головой:
– Здорово ты его. А мы уж не чаяли остановить эту зверюгу.
Квест с шумом выдохнул воздух. Похвала мастерового, его крепкая рука вернули самообладание. Поднатужившись, Квест выдрал из раны палку и, не дожидаясь помощи, спрыгнул вниз. Лишь там он увидел, что Семир и Олаи склонились над неподвижным Шемдалем.
– Жив? – тревожно спросил Квест.
Ему не ответили. Семир с силой растирал грудь мага, купец разжигал курильницу, полную пряной смолы. Терпкий дымок коснулся лица волшебника, тот закашлял и открыл глаза.
– Живой! – радостно прошептал Квест.
– Ты ранен? – тревожно спрашивал Семир. – Где болит?
Шемдаль медленно покачал головой.
– Нет, не ранен. Только от этого меня оттащи подальше, а то в нём ещё теплится что-то…
Семир, не переспрашивая, подхватил чернобородого волшебника на руки, отнёс к самой границе освещённого пятачка. Квест принялся помогать купцу и мастеру собирать и перетаскивать разбросанные вещи. Cпустя пять минут лагерь передвинулся на полсотни шагов в сторону. Здесь таинственная хворь немного отпустила Шемдаля. Волшебник приподнялся на локте, кивнул во тьму и проговорил:
– Ведь этот ползун за мной явился. Вас он и не заметил. Он до магической силы охоч. Учуял защитные заклинания или горячий камень – и пополз. Его колдовством бить – только пуще раззадоривать. Он ничего другого и не ест, только чужой магией питается. Мне теперь от этой встречи дня три в чувство приходить, а то и четыре. А дотянись он до меня… – Шемдаль криво усмехнулся и не стал продолжать.
До самого утра никто не сомкнул глаз. Тревожно было от мысли, что защитные заклинания уничтожены без остатка и всякий недруг может подкрасться незамеченным. Когда кругом развиднелось, быстро собрались и двинулись в путь. Ползучий холм обошли стороной, лишь Юстин сделал пару шагов в сторону замершей громады и пробормотал:
– Да уж, это всем чудикам чудик.
– А кто же ещё? – удивился Квест. – У нас таких не водится, значит – чудик.
– Давайте по его следу пройдём, – неожиданно предложил маг. – Зверь хоть и волшебный, но настоящий. Есть он ничего не ест, а пить ему надо. Значит, вода неподалёку должна быть. И магические ловушки на своём пути он, надо полагать, погромил, никакая пакость из-под земли не высунется.
Ободрённые странники споро зашагали по отчётливо видимому следу, и действительно – к полудню вражья тропа вывела их к глубокому оврагу, по дну которого струился непересыхающий ручеёк. Ворожить над водой у Шемдаля не оставалось сил, а кроме того, другой воды всё равно не было, и путники, прочавкав по вязкой глине, принялись наполнять давно опустевшие баклажки.
Размытые водой стены оврага вздымались на три человеческих роста, Квест мельком подумал, что в половодье здесь, должно быть, бурлит такой поток, что не приведи господи. Да и сейчас тут неуютно: засядет кто на верхотуре и запросто перестреляет всех пришедших за водой. Хорошо, что стрелять в этих краях некому – чудики народ бестолковый. Однако Семиру это место тоже не больно понравилось, потому что он вдруг поднял голову, прислушался и велел:
– Ну-ка, быстро все наверх!
Выполнить приказа никто не успел, почва на крутых склонах взбучилась, зашевелилась. На мгновение Квесту почудилось, будто снова из-под земли потянулась засевшая там нежить, и лишь потом он понял, что где-то в голове оврага прорвало нанесённую половодьем запруду и теперь на путников несётся вал мутной воды, грязи и камней.
Липкая глина проскальзывала под ногой, а потом жадно вцеплялась в подошву, не позволяя бежать, но Квест всё равно рвался к краю обрыва, не думая, насколько это бесполезно, и даже не удивляясь, что ещё жив. И лишь когда упал животом на серую траву, показавшуюся такой родной, то сумел заметить, что воздух вокруг светится мертвенной голубизной, словно Шемдаль засветил разом миллиард светляков. А оглянувшись, увидел на дне фигурку мага, стоящую с поднятым посохом, и понял, что свет идёт от этой обречённой фигуры. Сель остановился в двух шагах от колдуна, вода выгибалась стеной, терпеливо ожидая, когда человек ослабнет и упадёт.
Сильная рука рванула Квеста от края обрыва.
– Шемдаль! – проорал голос Семира. – Справа пологий склон, отходи туда! А как поднимешься хоть немного, пропускай воду низом!
Волшебник сделал неуверенный шаг, следом второй и вдруг опустился на землю. Страшный голубой свет погас, и оползень, лишившись противника, вольно забурлил там, где только что стоял человек.
* * *
Волшебника искали до самого вечера. Спустились вниз до тех мест, где овраг превратился в пологую лощину, а грязевой поток иссяк, растеряв силы. Проверяли каждый намытый холмик, шарили в ямах и по руслу убитого ручья. Искали тело, а Квест молча надеялся, что Шемдаль всё-таки уцелел. Ведь он колдун, а колдуны живучие. Что ему какая-то взбесившаяся речушка… Если бы не ночной зверь, выпивший силу, то и вовсе ничего магу не сделалось бы…
Не нашли ни живого Шемдаля, ни мёртвого тела. В путаном завале снесённых лавиной кустов старательный Квест отыскал посох мага. Завал разобрали, но больше в нём ничего не было. А ведь всякому известно: живой волшебник посоха из рук не выпустит.
Четвёрка уцелевших странников собралась вокруг волшебного жезла. Сидели как на собственных похоронах. Все понимали, что без мага никуда они не дойдут. Ляжет на пути ещё одна бездонная трясина – и что тогда?
Когда стемнело, разожгли костёр. Теперь, когда их не охраняли причудливые заклинания, оставаться ночью в темноте было опаснее, нежели жечь огонь. Да и горячее надо есть хотя бы раз в день, а волшебная нитка пропала вместе со своим хозяином.
Сначала сидели молча, а потом, когда досыта напились кипятка, Квест спросил, ни к кому особенно не обращаясь, потому что этот вопрос был на устах у всех:
– И что мы теперь делать будем?
Помолчали, и наконец не Семир, а Юстин, самый молодой из всех, ответил:
– Дальше пойдём. Нам теперь возвращаться не с руки. Назад – точно не доберёмся, а вперёд… кто знает, может мы уже почти добрались. Обидно на полдороге дело бросать.
– Оттуда тоже придётся назад возвращаться, – вслух подумал Квест. – Никто нам обратной дороги не вымостит, даже если доберёмся к неведомому. Ведь для себя ничего просить нельзя.
– Я вот думаю, – ни с того ни с сего произнёс Юстин, – вот придём мы куда хотели, и что я там скажу такое, чтобы гибель товарищей окупить могло…
– Тебе для мастеровых просить нужно, – напомнил Квест. – Для всех разом. Налоги чтоб снизили или ещё чего.
– Налоги? – переспросил Баз. – Это хорошо. Только ведь на самом деле не это надо. Что такое налоги? – деньги и ничего больше. Вот ты, – кровельщик повернулся к купцу, – неужто за барышом в путь отправился?
Олаи усмехнулся непонятно, погладил волшебный посох, затем ответил:
– За барышом надо натоптанными тропами ходить. А к неведомому идут совсем за другими вещами.
«Опять промахнулся, – тревожно подумал Квест. – Небось и Лид хотел просить чего-то странного, что мне и не представить. И Вислоух сказал бы, что если за пчёлами как следует смотреть, тогда и будешь с мёдом. А неведомое ради таких мелочей тревожить не след. Вот только мне как быть? – Квест потёр лоб и остановился на простой мысли: – Буду просить, чтобы засухи не было. А то ведь если засуха, то старайся, не старайся, а ничего не вырастет. Это дело такое, от людей не зависит. Вот только узнать бы, это на много лет или как?»
– Завтра постараемся дойти к горам, – произнёс Семир, кивнув на зубчатую полосу, подрезавшую багровый закат.
Эти простые слова подвели итог странному разговору. Завтра ополовиненный отряд продолжит путь. Назад странники не повернут.
* * *
– Ты гляди, это же деревня!
Странники замерли на краю обрыва, глядя вниз, где отчётливо были видны домики под соломенными крышами и фигурки, издали вполне похожие на человеческие. Над крышами курились дымки, в стороне от деревни ползало по травянистому склону стадо. Сомнений не могло быть: в самом сердце Запретных земель, где, казалось, кроме нежити и нечисти, никого и встретить нельзя, стояла деревня и жили люди. Или, по меньшей мере, кто-то на людей похожий.
– Я бы поостерёгся туда спускаться, – тихо проговорил Семир.
Олаи вздохнул, а потом сказал:
– Воду можно найти только внизу. Спускаться всё равно надо.
Семир кивнул и первым двинулся вниз по тропе.
Вскоре серая трава сменилась зелёной, в воздухе загудели оводы и кровожадные слепни. Наконец среди кустов блеснула полоска ручья. Судя по тому, как истоптан берег, сюда аборигены пригоняли на водопой стадо, но стоило взглянуть на следы когтистых лап, отпечатавшиеся в непросохшей глине, и пропадала всякая охота знакомиться с хозяевами стада.
Путники поспешно набрали воды, потом Семир сказал:
– Обойдём долину поверху. Над обрывом должен быть проход. Больше всего мне не хотелось бы драться с людьми, умеющими жить здесь.
– Это не люди, – возразил Квест, – это чудики.
– С чего ты взял?
– А вон один на нас смотрит, – Квест указал на ближние кусты, где приметил сторожкую фигуру.
– Оружия не вынимать! – прошелестел Олаи. Потом он шагнул к кустам и громко произнёс: – Здравствуй, друг.
Увидев, что его заметили, чудик вышел на открытое место. Был он невысок и серокож. Одежды на нём не было, а вот копьё в руках имелось. Серокожий без улыбки смотрел на Олаи и ничего не отвечал на приветствия, которые купец произносил, пробуя один чужедальний язык за другим.
– Не понимает, – наконец сдался Олаи. – А жаль. Нападать он вроде не собирается, а это значит, что можно и договориться. Я бы хотел хоть одну ночь провести по-человечески.
– Ночуйте, – неожиданно сказал серокожий и, не торопясь, пошёл по тропе вниз. Из кустов появилось ещё с полдюжины охотников с копьями и, уже не глядя на незваных гостей, двинулись к деревне. Оставалось только идти за ними следом.
На площади между домов, больше похожих на шалаши или охотничьи балаганчики, четверо странников остановились и стали ждать решения своей судьбы. Раз чудики не убили незнакомцев и даже позволили войти в свою деревню, значит, возможно, здесь удастся получить помощь или, по крайней мере, узнать дорогу. Неизвестность мучила всех, куда легче идти, зная, что тебе предстоит и какую часть пути ты уже одолел.
Ещё четверо серокожих вышли из самого большого шалаша, молча остановились напротив путников. Дряблая морщинистая кожа изобличала в них стариков.
– Мы бы хотели переночевать здесь, – произнёс Олаи, уже понявший, что гость должен говорить первым.
– Ночуйте, – вновь последовал односложный ответ.
Странники понимали, что здесь командует купец, и потому Семир, подчиняясь знаку Олаи, опустился на землю и принялся развязывать мешок. Олаи шагнул ближе к старейшинам, что-то тихо спросил.
– Нет, – произнёс один из хозяев.
– Но хотя бы рассказать вы можете? – мягко настаивал торговец.
– Нет.
Квест тоже развязал мешок, достал чёрствую лепёшку и кусок окаменевшего сыра, протянул Семиру, чтобы тот разделил ужин на четверых. К разговору Орена с чудиками Квест больше не прислушивался. Ведь ясно, что помогать им серокожие не станут. Это они с виду люди, а так – чудики. Хорошо хоть, что безвредные. Хотя Шемдаль говорил, что безвредных чудиков не бывает.
Вернулся Олаи, кивнул на скудный провиант, сказал:
– Спрячь покуда. Нас обещали покормить.
Квест без возражений спрятал лепёшку и сыр. Это хорошо, если их покормят, а то запасов осталось всего ничего. Вот только можно ли тутошние харчи есть?
Через несколько минут им вынесли каменную миску с незнакомой рассыпчатой кашей и стопку блинов. Блины были синие, но пахло от них рапсовым маслом и горохом. Каждому досталось по два блина и по горстке каши. Хотелось бы ещё, но уж сколько дали. Серокожие телом мелки, вот и меряют по своей утробе.
– А с собой не дадут? – спросил Квест, облизывая пальцы.
– Не дают, – отозвался Олаи. – И продавать не хотят, и менять. Я хотел проводника нанять, так они ни в какую. Даже не рассказывают, что нас дальше ждёт. И в дома к себе не пускают. Вот тут на площади переночевать разрешили, но только одну ночь. Говорят, тут безопасно, даже золотая пыль не достанет… – Олаи усмехнулся. – Вот, теперь будем знать, что впереди какая-то золотая пыль притаилась. С паршивой овцы хоть шерсти клок.
– Ладно, – сказал Семир. – Пустили переночевать – и то дело. Сегодня спим без охраны, пусть хозяева видят, что мы им доверяем. – Семир помолчал и добавил: – Если б они хотели нас задавить, так уже давно задавили бы.
Ночь прошла без каких-либо приключений, а утром путешественники ушли, провожаемые внимательными взглядами молчаливых жителей. Впереди лежали горы, а за ними или в самих горах – то неведомое, ради которого половина отряда уже сложила головы. Горы поднимались крутыми уступами, и к полудню путники сумели одолеть первый. С высоты была прекрасна видна вся холмистая долина, по которой они пробирались два дня. Деревня серокожих также была как на ладони: над домами нависало тяжёлое жёлтое облако, беспокойно клубилось, вздувалось смерчами, опасно поблёскивало зарницами. Потом что-то полыхнуло с чуть слышным треском, огонь заставил зажмуриться даже привыкшие к полуденному солнцу глаза. Вспышки следовали одна за другой, но приземистые хибарки стояли, словно их прикрывал невидимый зонт.
– Я раньше всё думал, что это за рекой пыхает по ночам, будто салют пускают, – сказал Квест, – а это, оказывается, золотая пыль шумит.
– Если это и есть золотая пыль, – проговорил Юстин Баз, – то нам лучше поскорей уносить ноги.
Не сговариваясь, странники прибавили шаг. Часа через два они отыскали ущелье, рассекавшее хребет. Ущелье было завалено камнями, кое-где торчали железные кусты, мёртвые, давно проржавевшие, мелкая речка с трудом пробиралась меж валунов. Сперва ущелье не понравилось Квесту, но края расщелины были не слишком круты, в любую минуту можно было уйти из низины, и Квест ненадолго успокоился. Ненадолго, потому что через час их нагнала золотая пыль.
Мутная мгла встала позади, заклубилась, тихо потрескивая. Воздух пропитался злым едким запахом, словно в кожевенной мастерской, где в дубильных чанах кипит зелёная кислота. Потом жёлтая тьма встала стеной и покатила вверх по ущелью.
Путники уже не шли, а бежали изо всех сил, но летучее золото надвигалось, не замечая людских усилий. Ещё минута, и… вряд ли кому удастся выжить, оказавшись внутри.
Юркий Орен Олиа, бежавший впереди всех, резко остановился, скинул мешок, толкнул его ногой набегавшему Квесту:
– Возьми!
Квест, понимая, что сейчас не время спорить, схватил мешок свободной рукой и лишь затем крикнул:
– Ты же не сумеешь!
– Сумею!.. – зло пропел купец, вздымая двумя руками посох мага, который тащил всё это время. – Только вы мотайте от греха подальше, а то мало ли что…
Стена пыли и огня лезла вверх. Она казалась живой, разгневанной тем, что из деревни ей пришлось уйти ни с чем, и теперь она стремилась наверстать своё. Мельком Квест подумал, что не надо было идти по низине, но потом сообразил, что облако столь огромно, что ползёт не разбирая ни провалов, ни крутизны, и на обрыве, где можно лишь с трудом ползти, оно уже давно настигло бы беглецов.
Сзади жутко затрещало, мир осветился голубым светом, и бегущий Квест понял, что Олаи сумел-таки управиться с волшебным посохом и теперь одно колдовство пожирает другое. Внизу уже не трещало, а выло, земля сотрясалась в корчах, чуть в стороне по склону неслышно прошёл камнепад, а голубое волшебное пламя всё сияло, и вой сменился свистом, и всё завершилось такой вспышкой, что если бы Квест поглядывал за спину хотя бы вполглаза, то, несомненно, ослеп бы в ту же секунду. К счастью, назад никто не смотрел, люди обернулись, лишь когда обожжённый взор начал с трудом различать тусклый солнечный свет.
Внизу что-то горело, клубился дым, и следа не было опасного золотого облака.
– Ну даёт, купец! – восхищённо воскликнул Квест. – Да он колдует почище Шемдаля, покойника!
Его никто не поддержал. Семир и Юстин молча смотрели в черноту оплавленного ущелья.
– Он что? – непонимающе спросил Квест. – Он там что?.. У него же посох, волшебный…
– Вот именно, – тихо произнёс Семир. – Оживить посох умеют многие, а вот управлять им, чтобы он тебя не сжёг, это может только маг.
Семир наклонился, поднял котомку купца, выпавшую у Квеста из рук, и, ничего больше не говоря, двинулся в сторону перевала. Квест и Юстин пошли за ним следом, и больше до самого вечера они не говорили о случившемся, словно терять товарищей стало для них обыденным делом.
Они переночевали, сидя на каменном карнизе в десяти шагах от пропасти, в которой до утра ворочалось что-то безвидное. Квест хотел запустить в чудика камнем, но Семир не велел, и ночь они провели под аккомпанемент глухой возни и медленных вздохов, доносящихся снизу. Утром трое выживших странников преодолели перевал, и там тоже все было спокойно, если не считать летающих ящериц, кидавшихся на людей с верхушки утёса. Семир подшиб первого хищника в воздухе и добил мечом, а потом уже Юстин сбивал из пращи медленно летящих зверюг, а Квест с Семиром били тех, кто падал поблизости. Ящеры шипели и плевались липкой слюной, а Квест подумал, что глупые драконы, должно быть, тоже не живые, иначе зачем им сидеть тут на ледяных вершинах, где нечего есть и нечем заняться, разве что караулить странников, зачем-то бредущих к неведомому.
За день Семир, Юстин и Квест спустились так низко, что им стали попадаться кусты и можно было, наломав веток, разжечь костёр. Путники допоздна сидели вокруг огня, молчали. Квесту казалось, что все думают ту же противную мысль, что с самого утра мучила Квеста: а что, если они вообще никуда не дойдут, а так и сгинут на пути к неведомому? Ведь возвращаются из Запретных земель единицы, так почему именно им должно повезти больше других? Ещё два дня назад Квест полагал, что вот перевалят они через хребет, а там и пути конец. Однако перевал позади, незнакомого кругом – сколько угодно, а неведомого – не видать. И чтобы отогнать гадкую мысль, Квест спросил:
– А как же мы втроём будем загадывать желания за семерых?
– Не знаю, – ответил Юстин Баз. – Я вообще не знаю, чего у этого неведомого нужно требовать. Чтобы в городском собрании цеховой голос громче звучал? Это надо не чуда ждать, а как следует добиваться. Умом, силой, деньгами…
– Правильно, – произнёс Семир и добавил неожиданно: – Я тоже ничего не стану просить.
– Как это? – изумился Квест. – А морские бароны как же? Горцы, опять же, покою не дают.
– С врагами, – раздельно произнёс Семир, – человек должен справляться сам. И все свои дела исполнять должен сам. А то сначала неведомое Тепель для нас штурмовать будет, потом горные кланы придавит, а мы тем временем жиром покроемся и мхом порастём.
– Зачем же ты пошёл? – прошептал Квест.
– Затем и пошёл, чтобы душа не замшела.
– Не понимаю, – признался Квест. – Я вон столько всего придумал. Засухи чтобы не было… Это же от человека не зависит. А то ещё мор начнётся, думаете, сладко будет?
– Мор это всех касается, – поправил Юстин. – Такое нельзя загадывать.
– Тогда на скотину падёж, – не сдавался Квест. – Да мало ли что ещё можно придумать, чтобы не для всех, а в то же время всем лучше стало…
– Счастливый ты, – вздохнул Семир. – Тебе просто. Потому, должно, тебя и смерть не берёт. Когда Шемдаль меня в поход звать стал, я ему сказал, что думаю о таких просьбах, а он ответил, что тоже не знает, что просить. А всё-таки пошёл с нами и погиб, не отступив.
– А Вислоух? Этот бы с места не двинулся, если бы не знал зачем.
– Да, Вислоух-то знал… – протянул Юстин Баз, и, вскинувшись, предположил: – А вдруг он и не пропал вовсе, а на самом деле отыскал неведомое? А мы не знали, чего просить, и потому прошли мимо?
Квеста аж ожгло этими словами. Он-то уже начал мечтать, что неведомое ожидает их в долине, недаром эта сторона, если смотреть с высоты, не серая с жёлтым, а как бы слегка голубоватая. А теперь оказывается, что всё зря, обмануло предание, они прошли мимо цели, не заметив, и только хитрый Тур Вислоух сумел ухватить удачу за хвост.
– Нет, – возразил Семир. – Ещё никто из дошедших не возвращался раньше чем через три недели. Так что нам ещё идти и идти.
И опять никто не предложил сдаться и повернуть к дому.
* * *
Так они и шли ещё полтора дня, стараясь спрятаться и отсидеться, ежели была такая возможность, и хватаясь за оружие, когда другого выхода не оставалось. Шли, понимая, что теперь у них нет никакой магической защиты, а значит, живы они только благодаря счастливой случайности. Полтора дня счастливая случайность берегла их.
А потом путь им загородили давно знакомые железные кусты. Только на этот раз они были не ржавыми, а мрачно лоснились чернёным металлом и щедро разбрасывали кругом мелкие стальные семена. Квест, сунувшийся было вперёд, немедленно пострадал: крошечная металлическая стрелка просадила ему щёку. Семир смазал рану пахучей мазью и сказал, что Квест ещё легко отделался: попади такая штука в грудь, то и грудь пробила бы навылет.
Несколько часов они искали проход в смертоносной чащобе и к вечеру убедились, что прохода нет. Долина казалась с высоты голубой из-за сплошных зарослей. Лишь в одном месте, где горы позабыли несколько одиноких скал, полоса стреляющих кустов сужалась до полусотни шагов. Тут и решено было прорываться.
Прежде всего Семир, потратив несколько метательных дисков из своего арсенала, установил, что потревоженный куст выпускает в воздух целую тучу колючек, а потом не может убивать по меньшей мере минуту. Этого времени должно было хватить, чтобы преодолеть опасное место. Оставалось лишь придумать, как растревожить все кусты разом.
Семир и Юстин что-то обсуждали, Юстин горячился и размахивал руками, Семир говорил медленно и лишь иногда указывал кровельщику что-то ускользнувшее от его взгляда. Квест тоже рассматривал дорогу, прикидывая, куда бы он пошёл, если бы не эти кусты. Пожалуй, мимо этого склона, там, в глубине расщелины, что-то светлеет. Первый раз он видит здесь не серое, не блёклое и грязное, а совсем светлое, как снег. Может быть, это очередная ловушка или чудик, но очень не хочется в это верить. Боль в щеке отступила, лишь кровь настойчиво тукала в ране.
Спутники всё никак не могли договориться, и Квест снова начал думать. Трудное это занятие, но тому, кто думает всю жизнь, оно в привычку. Правда, раньше Квест думал о простых и понятных вещах, а с тех пор, как стал странником, ему приходится решать такие вопросы, что и мудрец не вдруг ответит.
Семир и Юстин Баз не знают, что загадать! Это что же выходит? Ему одному придётся желать за всех? Значит, надо просить что-то небывалое, что сразу окупит мученическую кончину Лида Алвиса, таинственную смерть Тура Вислоуха, гибель чернобородого Шемдаля и отчаянное самопожертвование Орена Олаи. И оправдает надежды всех, кто знает: семеро странников ушли в Запретные земли и, значит, надо ждать счастливых перемен.
– Смотри, – позвал Семир, – вон та расщелина, где белеет что-то. Мы сейчас уходим вперёд, а тебя оставляем с вещами. Когда я махну рукой, ты бежишь прямиком туда. Всё наше снаряжение будет у тебя, так что постарайся добежать. А мы с Юстином постараемся кустики попортить. Понял? Когда я махну рукой – вскакиваешь и бежишь вон туда. Только быстро. Задержишься или раньше выскочишь – пропадёшь.
– Я понял, – сказал Квест.
Семир и Юстин, пригнувшись, побежали в разные стороны, словно хотели обойти расщелину с боков. Хотя попытка эта с первой минуты была обречена на неуспех. Там, куда направился мастер, склон был столь крут, что даже железные кусты не могли там укорениться. Со стороны Семира дорога казалась пологой, но зато там сплошной непроходимой стеной чернели готовые к бою заросли. Семир подполз сколь мог близко, укрылся за угловатым неокатанным обломком, вслепую швырнул оттуда несколько обломков, не то просто для очистки совести, не то приучая руку к серьёзному делу. Юстин тем временем споро пополз по обрыву, цепляясь за невидимые снизу выступы и выбоинки в камне. Казалось, мастеровой просто прилип к гладкому камню и ползёт словно муха или улитка.
«Конечно, – вспомнил Квест, – ведь Юстин кровельщик. Он умеет». Но неужто Семир, когда выбирал мастера, знал, что в дороге понадобится верхолаз. Ведь он, глядишь, этак и на ту сторону перелезет. Лишь бы там, за выступом, не оказалось железных кустов, чтоб их там всех ржа съела, чтоб там ручей оказался или обрыв ещё круче, где только по верёвке сползёшь…»
Юстин Баз выполз на уступ. Он что-то делал там, вжавшись в камень, не поднимая головы, а потом вниз, в самую гущу лоснящихся металлических стволов, полетел дымящийся свёрток, за ним второй и третий. Ахнули взрывы, хрупкие ветки разметало во все стороны, шипы-семена взвились в небо сплошным облаком. Дальнейшее происходило как в недобром сне. Скала, только что незыблемо вздымавшаяся к хмурому небу, качнулась и медленно, как подрубленное дерево, завалилась набок. Беззащитной фигурки человека не было видно за дымом, пылью и чёрной тучей распарывающих воздух шипов.
– Юстин! – крикнул Квест.
Где-то по левую руку поднялся скрытый валуном Семир. Ещё три пакета полетели в расщелину, пробивая путь простаку Квесту. Семир взмахнул рукой, не то подавая сигнал Квесту, не то собираясь прыгать вниз, этого Квест понять не успел, потому что из-под лопнувшей земли полезли шестипалые руки, сгребли Семира, захлопотали, превращая живого человека в кусок истерзанной плоти.
Квест приподнялся на колени.
«Один! – мелькнула растерянная мысль. – Один остался. Даже если там в глубине светлеет неведомое – зачем оно, если дошёл я один? Что можно потребовать, о чём потом не придётся жалеть?»
Грохнул запоздалый взрыв, разнёсший в мелкий щебень залитые кровью подземные руки.
И в эту совершенно неподходящую минуту Квест разрешил мучившую его загадку.
«Как всё просто! – радостно подумал он. – Я пожелаю, чтобы следующий отряд дошёл к цели, все семь человек. Пусть даже никто не узнает, что это произошло из-за меня».
Потом он вскочил и неловко побежал к расщелине, которую указывал Семир. Обогнул выступ, мешавший видеть. Там, не скрытые больше рухнувшей скалой, громоздились железные кривулины. Их оставалось немного, но вполне достаточно для открыто бегущего человека. Кусты разом дёрнулись, выбрасывая в воздух шипы. Десятки игл пронзили тело, но ещё целое мгновение Квесту казалось, что он спешит к неведомому, которое ждёт его.
Мёд жизни
Хоть не пил он, а только хотел.
Л.КэрроллМёд жизни сладок и горек одновременно, в нём собраны ароматы всех цветов, морозный свет горных вершин и тьма морских провалов. Он холоден и горяч, в нём сошлись все противоположности…
Гоэн – седобородый рыцарь Опавшего Листа обвёл взглядом слушателей. Никто не шевелился, все молча и торжественно внимали с детства знакомым словам. Слова были как песня, как причащение перед битвой.
– Бархатные шмели собирают сладкий оброк с садов и гречишных полей Резума. Лесные пчёлы гудят в чащах непроходимого Думора. Хищные осы копят росистую свежесть ковылей Нагейи, острую и летучую, как они сами, – при этих словах Зеннах – Свистящий рыцарь молча сверкнул чёрным глазом и приподнял бровь, изогнутую, как сабля. – Ледяные шершни вьюгой облетают торосы безжизненного Норда в поисках снежного цветка. Мириады их истаивают в пути, но последний приносит каплю ледяного нектара. Так рождается мёд жизни. Медленно созревает он, и никто не осмеливается приблизиться, боясь нарушить великое чародейство…
– Фартор! – слово это, не сказанное никем, прозвучало резко и грубо, прервав рассказчика. Оно словно пригнуло к земле засохшие деревья, песок перестал сыпаться с выщербленных скал, а сидящие рыцари сдвинулись теснее, ища друг в друге поддержки. Тяжеловесный Хум – рыцарь Соли прижался доспехом из задубевшей кожи к сверкающему плечу Турона, и рыцарь Ледяного Меча не заметил прикосновения своего извечного противника. Зентар – юный рыцарь Первой Травы тревожно оглянулся, но спесивый Бург – рыцарь Стен сдержал насмешку и сделал вид, что ничего не заметил. Недвижим и безучастен остался лишь рыцарь Солнечного Луча. Этот витязь был окружён глубокой тайной: никто не ведал, откуда он пришёл, где живет, по праву ли носит свой девиз. Знали лишь его имя – Виктан. Рыцарь Солнечного Луча являлся и исчезал беспричинно, ни один человек не мог предугадать его поступков, не знал пределов его силы. Но то, что сегодня и он был здесь, внушало уверенность. И медлительный Гоэн продолжил рассказ, словно не принесло только что ветром имя врага.
– Мёд жизни содержит все качества, известные и неведомые. Свойства соединяются в нём, не гася друг друга. И произойти это может лишь в местности, лишённой качеств. Только отсюда мёд жизни не получает ни единой своей частицы. Это Блёклый Край, инертный и пустой. Он скучен, но всё же жизнь зависит от него, поскольку здесь стоит чаша, в которой зреет наш мёд. Раз в год, в день весеннего равноденствия, чаша переполняется и мёд проливается на землю. Суть жизни возвращается миру. Небо наливается синевой, леса наполняются живностью, люди – силой. Дружба укрепляется радостью, вражда – благородством. Жизнь оплодотворяет саму себя, и лишь Блёклый Край ничего не получает от праздника бытия. Здесь всегда пасмурно, но никогда не идёт дождь. Бесплодная равнина тянется на много недель пути, на ней не растёт трава и никто не живёт…
– Фар-р-ртор-р!.. – продребезжало среди камней.
– …и никто не живёт, – упрямо повторил сказитель, – ибо даже единый испачканный взгляд может извратить чудесные свойства чистого мёда. Рассказывают, что испробовавший мёда постигает смысл бытия и видит суть вещей. Тайное становится отрытым для него, а в простом он видит неведомые другим бездны. Но за все прошедшие века ни один мудрец не посягнул на общее сокровище.
– Ф-ф-фартор!.. – прошипело за спиной, словно плеснули водой на раскалённую жаровню.
– Единая капля, текущая на землю из каменной чаши, возвращает силу и здоровье немощному и может, как говорят, оживить мёртвого. И всё же созревший мёд свободно разливается по свету, поскольку ни один человек не осмелился продлить свои дни за счёт всеобщей жизни.
– Фар-тор!!! – набатом ударило отовсюду разом, так что нельзя было не обратить внимания на этот гром, остаться безучастным и сделать вид, будто ничего не происходит.
Гоэн вскочил, меч его, не кованый, а выращенный лесными харраками, прочертил над головами огненный круг.
– Ты можешь не трудиться, повторяя без конца своё имя! – крикнул Гоэн. – Я хорошо слышу. Я не знаю, кто ты и каков из себя, но клянусь, что кем бы ты ни был, через день тебя здесь не будет. Мне даже жаль тебя – ты затеял бессмысленное дело и сам знаешь это. Неужели ты надеешься победить все силы вселенной разом? – Гоэн опустил меч. – Молчишь? Ты правильно сделал, что умолк. У тебя ещё есть время до завтрашнего утра. Но берегись, если утром мы увидим, что путь к чаше закрыт.
Ответа не было. Старый воин оглядел сереющие окрестности, а затем на правах старшего распорядился:
– Рыцари леса разводят костёр, горожане готовят ужин. Остальные выделяют добровольцев – быть ночной стражей.
В словах Гоэна не было обиды или унижения. Все знали, что в Блёклом Краю не у всякого загорится огонь и уж тем более не просто накормить воинов там, где пища лишена вкуса. Поэтому гордый Бург распустил ремни на мешке и начал доставать провизию, а сам Гоэн и рыцарь Шш, бывший не человеком даже, а покрытым замшелой корой лесным духом, отправились за валежником.
– Кто согласен караулить ночью? – спросил Хум. – Я думаю – достаточно троих.
Тотчас поднял руку Зентар. Юный рыцарь Травы не представлял, как можно улечься спать накануне первой в своей жизни битвы. Вторым стал Бестолайн – рыцарь Бездны. Лучшего сторожа нельзя было и пожелать. Жизнь под землёй лишила Бестолайна глаз, но обострила слух, так что в самые тёмные ночи рыцарь Бездны чувствовал себя уверенней всего. Об этом воине легенд ходило, пожалуй, ещё больше, чем о Виктане, а знали о нём ещё меньше. Нельзя было даже с уверенностью сказать – человек скрывается под чернёным панцирем или одно из мрачных подземных существ, принявшее людские законы и получившее имя рыцаря. Но сегодня его тайна не тревожила – главное, что он был вместе со всеми. Третьим караульщиком вызвался Виктан.
В Блёклом Краю не бывает закатов, просто привычный сумрак сгустился сильнее и стала ночь. Огонь костра не рассеивал её, не помогал видеть. Те из рыцарей, кто мог и хотел есть, придвинулись к котлу. Двое рыцарей, опрометчиво давшие обет поститься до самой победы, отвернулись, чтобы не смущать себя видом яств, поскольку припасы Бурга были вкусны даже здесь. Шш задумчиво ковырял сучком в зубах. Людская пища была ему не по вкусу, и вообще он мог не есть месяцами. Недвижим остался и Бестолайн. Забрало его шлема, сплошного, без прорезей для глаз, никогда не поднималось и, кажется, было приварено к нащечникам. Зато Виктан вовсе снял шлем, так что все могли рассмотреть его, хотя и не принято было глазеть на рыцарей. Не было во внешности неведомого воина ничего сверхъестественного. Был он далеко не мальчишкой, но и старческая дряхлость ещё много лет обещала обходить его стороной. Твёрдый подбородок, прямой взгляд серых глаз, худое лицо, словно выточенное из плотного дерева, лишь возле глаз чуть заметно лучатся морщинки, видно, в юности Солнечный рыцарь любил смеяться. Проседь, осветлившая тёмные волосы, говорит не о возрасте, а о пережитых бедах. Ел он немного и молча, как и все остальные воины.
Вскоре лагерь замер в ожидании тусклого утра. Рыцари умели засыпать быстро и безбоязненно, полагаясь на бдительность часовых.
Виктан сидел у костра, напротив смутно вырисовывалась фигура Зентара. Бестолайн расположился в стороне, его видно не было.
Как всегда, в ночи рыцаря Солнечного Луча одолевали мучительные мысли. Днём, особенно при ясном небе, мир был прост и понятен. Было зло, которое следует побеждать, и добро, ждущее помощи. Ночью всё сливалось в темноте, словно истекая одно из другого, границы пропадали и пропадала уверенность. В темноте Виктана мучили видения – нелепые и невозможные: мелкий дождь, множество людей и бесконечные разговоры ни о чем. Ничего подобного не бывало в жизни благородного Виктана, но всё же он не мог бы утверждать, что это было не с ним. Молва приписывала рыцарю Солнечного Луча способность неожиданно исчезать и появляться, а порой он застывал и часами стоял как во сне, безвольно опустив руки. И не то беда, что другие не знали, куда временами пропадает Виктан, но этого не знал и сам рыцарь. Хотя он привык, что во всякую минуту может осознать себя в незнакомом месте, где от него потребуются его мощь, мужество и разум. Так что не это тревожило его. Пугало собственное беспамятство.
– Фартор, – беззвучно шептал он, – Фартор…
Неведомый владыка Блёклого Края, осмелившийся посягнуть на общее богатство, и тот серый мир, что мерещился Виктану после пробуждения, – что между ними общего? Неизвестно. Но ведь они могут и просто совпадать, и тогда…
«Кому служишь, рыцарь? – подумал Виктан. – Кто ты? Почему-то никто не спросил меня об этом. Кто ты, рыцарь Солнечного Луча? Откуда тьма в твоей памяти?»
Виктан бросил на угли сразу несколько тонких веток. Медленно поднялось ленивое пламя, в его языках безмолвно вспыхивал и сгорал носящийся в воздухе сор – не то клочья почерневшей паутины, не то просто пыль, причудливо увеличенная слабым светом.
«Откуда столько пыли? – подумал Виктан. – Здесь её не должно быть».
Неудержимая сонливость наваливалась на него, Виктан чувствовал, что ещё минута – и он уснёт, хотя поставлен на страже и товарищи доверились ему. Впервые с ним происходило такое – он всегда был безупречным караульщиком. Но, в конце концов, что может случиться в Блёклом Краю, где нет никаких качеств, а значит, и силы? К тому же рядом Бестолайн, привыкший к тьме, тишине и бессонным ночам. С ним можно быть спокойным, вот и Зентар, их третий напарник, уснул, повалившись на изумрудный плащ. Правда, Бестолайн слеп, но в мире нет никого, кто мог бы подойти так тихо, чтобы рыцарь Бездны не услышал. Значит, можно заснуть… на несколько минут, не больше.
Глаза закрывались сами собой.
«Кому служишь, рыцарь?» – засыпая, вспомнил Виктан и, пересиливая себя, протянул руку, кинул в костер ветки, сколько сумел захватить.
Закружились, исчезая в огне, чёрные хлопья. Внезапно вспыхнувшим сознанием Виктан увидел опасность, но уже не было сил подняться.
«Тревога!» – хотел крикнуть он, но лицо облепило паутиной, губы не размыкались, и лишь чуть слышный шёпот протиснулся сквозь них. Но и этого комариного звука оказалось достаточно для Бестолайна. Стальная булава взлетела и набатно ударила по кованому щиту.
Тревога!!!
Грохот вернул Виктану силы. Он наклонился и, не раздумывая, нырнул лицом в угли. Лицо опалила боль, но зато вернулась способность видеть и говорить. Виктан вскинул вверх руку с кольцом. В кольцо был вделан солнечный камень гелиофор. Камень засиял, разгоняя тьму. Света хватило ненадолго, по ночам камень светил с трудом, но этого достало, чтобы увидеть и понять, что происходит.
Воздух вокруг был переполнен чёрным пухом, тончайшие волокна опускались на людей, проползали в щели доспехов, утолщаясь, пульсировали, наливаясь красным. Разбуженные рыцари вскакивали, размахивали руками, пытаясь отодрать прильнувших кровопийц.
– Огнём! – закричал Виктан, подпаливая разом связку факелов. – Они боятся огня!
Через минуту нападение было отбито. Не успевшие улететь клочья паутины были сожжены, воздух очистился. Виктан оглядел соратников. Все остались живы, но бледные лица, погасшие глаза показывали, как много крови они потеряли. Неважными бойцами будут они утром.
Незаметно высветлилось небо. Никто из рыцарей не удивился, увидев, что впереди по-прежнему мерно колышется завеса. Фартор, закрывший подход к чаше, не собирался отступать. Странно было бы ожидать отступления после столь удачной вылазки. Но сейчас вокруг лагеря было пусто и тихо, так что, если бы не пелена вдалеке, трудно было бы сказать, где противник и есть ли он вообще. Пелена окружала чашу с мёдом, и уже сейчас, хотя мёд не созрел, по всей стране чувствовалось беспокойство. Рыцари шли, чтобы сорвать пелену, хотя и не знали, что это такое и какие опасности встретят их возле дрожащего полога. Одна опасность, впрочем, уже была известна.
Воины выстроились полукругом, в левой руке каждый держал незажжённый факел.
– Пора, – сказал Гоэн. – Мы разные и из разных краёв, но у нас одна родина – великий Тургор. Сегодня пришел час защищать его. Да поможет нам Светлая Богиня. Мы идём! – крикнул он и первым двинулся вперёд.
Затрещали факелы, цепь воинов пришла в движение. Преграда оставалась безмолвной.
Виктан шагал в общем строю. Справа от него держался Зеннах, слева – молчаливый Безымянный рыцарь. Вблизи завеса оказалась стеной густого тумана. Туман пригасил и без того тусклый свет, вокруг головы закружились чёрные нити. Виктан отмахнулся факелом, кровососы послушно обращались в пепел, но на смену им налетали новые. Отовсюду, пластаясь по камням, начали сбегаться полупрозрачные, почти неразличимые твари. Длинные конечности скребли клешнями по стальным поножам, безуспешно пытаясь добраться до живого. Несколько тварей Виктан рассёк мечом, потом, опасаясь испортить клинок о камни, принялся прокладывать себе путь, топча ползающую мерзость ногами. Он не видел достойного противника, но понимал, что происходит неладное: непроницаемый туман разъединил рыцарей, и каждый из них сражался теперь в одиночку.
– Тургор!.. – выкрикнул Виктан рыцарский клич.
В ответ донёсся режущий слух свист, и Виктан увидел Зеннаха. Свистящий рыцарь шёл, не замедляя шага, одной рукой держа факел, другой бешено вращая семихвостую плётку. Оторванные суставчатые ноги, раздробленные клешни, комья слизи разлетались во все стороны.
– Держись ближе! – крикнул Виктан. – Они разводят нас!
– Кто? – удивился степняк, продолжая описывать плетью круги. – Мне не с кем воевать, это джигитовка, а не бой!
– Не знаю кто, но они хотят, чтобы мы потеряли друг друга! Берегись!..
Из груды членистоногих вдруг вылетели длинные упругие жгуты. Они разворачивались в воздухе, готовые спеленать каждого, до кого сумеют дотянуться. Виктан встретил щупальца ударами меча, обрубки, извиваясь, падали на землю, лишь одно сумело захлестнуть ногу и дёрнуть. Виктан упал, тут же его со всех сторон облепила чёрная пряжа. Обрубив жгут, Виктан перекатился в сторону и сумел встать. Там, где только что был Зеннах, колыхался чёрный сугроб. Свистящий рыцарь не успел выхватить саблю, а плеть оказалась бессильна против живых верёвок. Факелы погасли, но всё же Виктан на ощупь отыскал скрученного Зеннаха и перерезал скользкие путы. Зеннах вскочил, не обращая внимания на присосавшийся к коже пух, засвистел, зовя на помощь. И хотя окружающий воздух убивал всякий звук, призыв был услышан. Слепой Бестолайн появился из тумана. Секира в его руках гудела, скашивая тянущиеся челюсти и летящие навстречу верёвки, факел, укреплённый на шлеме, разбрасывал искры.
Вновь вспыхнуло в руках пламя, и трое бойцов пошли, разбрасывая суетящихся тварей, пошли наугад, потому что уже давно потеряли направление и не знали, куда идут. Но, должно быть, удача не покинула их, потому что туман резко поредел и они оказались на открытом пространстве по ту сторону завесы.
Каменистый склон полого поднимался перед ними, и на каждом валуне, на всякой свободной пяди земли, согнувшись стояли уродливые фигуры. Лес копий вздымался над костяными шлемами, ни один наконечник не дрожал, ни единая фигура не двигалась, и ни звука не долетало от шеренги противника.
– Тю-ю!.. – протянул Зеннах. – Вот уж кого не ожидал увидеть! Стреги! Признаться, я не думал, что кому-то из них удалось уйти из Нагейи живым.
Виктан промолчал, хотя и он многое мог бы рассказать об этих существах, умеющих лишь убивать всех, до кого дотянутся их копья. У стрегов не было жён и детей. Стреги нигде не жили, хотя встречались повсюду. Кажется, их полчища просто возникали там, где в них нуждалась злая воля. Недаром говорится: где беда, там и стрег. Бестолайну приходилось сражаться с костоголовыми даже в нижних пещерах. И всё же это был знакомый враг, не пугающий героев.
Виктан поднял забрало и затрубил в рог, созывая товарищей. Зеннах вторил ему адским свистом. На призыв из тумана появилась ещё одна группа: братья-соперники Хум и Турон, Безымянный рыцарь и Алый рыцарь Лесс в плаще, побуревшем от крови. Последним появился прорвавшийся в одиночку Шш. Рыцарь Леса бежал, размахивая чудовищной дубиной, завывая по-звериному, словно не принимал он никогда смешных человеческих правил. Обрывки разорванных жгутов волочились за ним. Остальные воины остались в гибельной мгле либо не сумели прорваться и были отброшены к старому лагерю.
Оказавшись на открытом месте, Шш не остановился, не замедлил бега, а, вращая дубиной, ринулся в сторону стрегов. Стреги – неутомимые и бессмысленные древорубы – были особо ненавистны лесному духу. По рядам прошло движение, над головами взметнулись луки, и тысячи стрел прочертили воздух. Они впивались в дубовый панцирь, Шш во мгновение ока стал похож на невообразимо огромного ежа, но бега не остановил и с хрустом врезался в отшатнувшуюся толпу.
– Вперёд! – скомандовал Виктан товарищам и побежал следом за разбушевавшимся лесным витязем.
Их встретили стрелы и нацеленные копья, но небольшой отряд сумел врубиться во вражеские ряды. Стреги с визгом наскакивали со всех сторон, кольчужные рубахи и круглые щиты плохо защищали их, но всё же их было слишком много, а всякому известно, что когда стреги собираются в орду, у них исчезает страх смерти и последние остатки разума. К тому же отступать стрегам было некуда – за их спинами поднималась мрачная стена – высокая, гладкая, лишённая ворот и без единой бойницы.
Шш уже пробился к стене и, не обращая внимания на тычки ножей и копий, мощно обрушивал дубину на гудящую от ударов стену. Виктан вёл отряд ему на помощь. Очистить площадку от стрегов, затем Шш и Бестолайн пробьют стену, а за ней должна быть скала и чаша на скале… Там они встанут и если надо, то умрут, но никому не позволят приблизиться до тех пор, пока мёд не растечётся по земле.
– Тургор! – выкрикнул Виктан, но вдруг остановился. Его руки опустились, лицо застыло. Раскатистый треск заполнил вселенную, он не давал сопротивляться, однозначно и безжалостно ведя за собой. Впервые время превращений подошло так резко и некстати, Виктан даже не знал, исчезнет ли он, чтобы проявиться где-то в другом краю, или, что тоже случалось, останется здесь: безвольный, не способный ни к чему. Он пытался бороться, перед глазами ещё качались фигуры врагов, тело чувствовало резкий толчок не пробившей панцирь стрелы, но то новое, что пришло вслед за звоном, уже не отпускало. Исчез меч, растаяли доспехи, холодом обожгло босые ступни, и лишь затем он осознал себя в ванной, с тупым неудовольствием разглядывающим в зеркале собственное заспанное отражение.
«Виктор Андреевич, – всплыло в памяти имя. – Виктан!» – застонал он и на секунду вернулся обратно, к себе стоящему, услышал призывный клич: «Светлая богиня!» – и поднял было меч, но колоколом ударил стук в дверь, а голос жены: «Виктор, завтрак стынет!» – смял жизнь, оставив его один на один с буднями.
Виктор Андреевич выдавил на помазок сантиметровую колбаску крема и начал бриться.
– Тургор, – бормотал он машинально. – Тургор.
Но это больше не было название страны, а какой-то медицинский термин, имеющий отношение к бритью. Не было тургора у Виктора Андреевича, изжёванное жизнью лицо с набрякшими веками и мятой кожей глядело из зеркала, и бритьё не придавало ему свежести.
Окончив туалет, Виктор Андреевич вздохнул и, внутренне зажмурившись, шагнул на кухню завтракать. Еда не лезла в горло, но отказаться он не смел и послушно жевал разжаренные вчерашние макароны. Таисия уже успела позавтракать и собиралась на работу, курсируя между стенным шкафом, зеркалом и продуктовыми сумками. Каждый раз, когда жена появлялась на кухне, Виктор Андреевич начинал жевать особенно старательно.
Он сам не понимал, почему так ведёт себя, – бояться Таисии не было причин, жили Малявины мирно, считаясь у знакомых образцовой парой. Но, разумеется, Виктор Андреевич ни единым словом не выдавал сияющей жизни, которой жил в действительности, и тайна угнетала, заставляя чувствовать себя виноватым.
Как обычно, по утрам Виктору Андреевичу приходилось заново вспоминать свою биографию, ибо беспамятство, которое мог позволить себе рыцарь Виктан, не дозволялось Малявину Виктору Андреевичу. Виктор Андреевич вспомнил, какой сегодня день недели, вспомнил не машинально действующим телом, а сознанием, что пора идти на работу, и вспомнил, где он работает. Выяснил, какой нынче год и кто такая Таисия. Медленное пробуждение памяти всегда пугало его, казалось, что сейчас появится кто-то, начнет требовательно задавать вопросы, а потом заявит во всеуслышание: «Да он не знает даже, сколько ему лет!» – и тогда… дальше Виктор Андреевич не решался фантазировать, лишь повторял про себя, готовясь к ежедневному экзамену:
«Пятьдесят два года. Женат тридцать лет – скоро будет. Пора готовиться к юбилею, подарки искать. Дочь замужем. Сын в армии служит, сколько же ему лет?.. Девятнадцать…»
– Виктор, на работу опоздаешь, – напомнила Таисия, и Виктор Андреевич, поспешно отодвинув тарелку, пошёл одеваться.
Утренний экзамен был ещё не кончен, но впереди предстояла длинная поездка в автобусе, когда можно успеть всё. Обычно, по мере того как он вспоминал приметы и дела здешнего мира, роскошная правда Тургора уходила в забвение, скрывалась, словно её и не было. Свойство это помогало Виктору Андреевичу не выдать себя, не совершать странных поступков и не говорить неуместных слов. Но сейчас он никак не мог забыть о рыцаре Солнечного Луча, застывшем среди толпы безымянных убийц.
Виктора Андреевича втащило в автобус, вдавило рёбрами в поручень у окна, сжало со всех сторон безликой пассажирской массой.
«Мне пятьдесят два года, – теребил он в уме бессмысленные словосочетания. – Я еду на работу…»
Автобус тряхнул, низкий потолок угрожающе приблизился к лицу, цепи, стягивающие руки и туловище, натянулись, врезаясь в плоть, но Виктан устоял, и взмыленным стрегам не удалось бросить его на колени.
– Славная добыча, – услышал Виктан. – Здравствуй, рыцарь Солнечного Луча. Что-то ты не слишком весел. А ведь ты хотел встретиться со мной. Что ж, я к твоим услугам. Давай поговорим.
– Значит, ты Фартор… – сказал Виктан.
Сидящая фигура подалась вперёд, словно рассматривая пленника, и Виктан увидел, что у Фартора нет лица. Серая, нездорового вида кожа, покрытая морщинами – одна складка покрупнее кривится там, где должен быть рот, – и всё: ни носа, ни ушей, ни глаз. Почему-то Виктан подумал, что именно таким и должен быть хозяин Блёклого Края.
– Фартор, – сказал Виктан. – Ты должен отступить. Я знаю, в тебе нет ни жалости, ни сочувствия, ни какого-либо иного доброго чувства, но ведь страх-то в тебе должен быть… Ты сумел пленить меня – случайность и моя природа помогли тебе, но всех ты не победишь. Отступи.
Дёрнулась морщина рта, монотонно зазвучал бесцветный голос:
– Во мне нет страха, рыцарь. Страх – это слишком ярко. И ты не прав: я взял тебя не случайно, скоро ты убедишься в этом. К тому же ты не единственный пленник. Ваша атака отбита, а я не только не понёс потерь, но стал непобедим. Я могу уже не скрывать своих планов. К тому же без этого разговора моя победа будет неполной, я должен рассказать обо всём, рассказать именно тебе – поверженному противнику, чтобы насмеяться над тобой. Вчерашний старик говорил, что в Блёклом Краю никто не живёт, поскольку тут нет никаких качеств. Это не так. Я всегда жил здесь, и одно качество у меня было. Зависть! У каждого из вас есть что-то своё, то, что вы считаете самым лучшим; вам незачем завидовать друг другу, поэтому вся зависть мира досталась мне. А это – великая мощь. Я бродил вокруг чаши, не замеченный никем, завидуя каждому из вас, но не смея приблизиться к источнику, из которого вы так щедро черпали. Запах мёда сводил меня c ума, но я не имел ни сил, ни решимости – ничего, кроме зависти. Зависть не чувство, а мировоззрение. Говорят – она бесплодна, но именно из неё родился иссушающий пух. И когда чёрная вьюга закружила вокруг моей головы – я решился. А потом явились вы – гордые, самоуверенные и… беззащитные. Я вдоволь попил вчера вашей крови, вы напитали меня своей силой и уверенностью. Сразу явились неприступные стены и непобедимое войско. Против вас сражается то худшее, что есть в вас самих. А оно непобедимо. Видишь, я ничего не скрываю от тебя, потому что мне приятно видеть твоё отчаяние.
– Ты лжёшь, – сказал Виктан. – Ты не сумел отбросить нас от стен. Я слышу, что бой продолжается.
Фартор замер, словно прислушиваясь к доносящимся издалека глухим ударам, а потом, пренебрежительно отмахнувшись, произнёс:
– Не стоит обращать внимание на бессмысленный шум. Этот лесной пень, который вы привели с собой, и впрямь неукротим и почти неуязвим. Его можно лишь строгать, как полено, я так и поступлю, хотя подойти к нему с ножом трудно. Но один он ничего не сможет сделать. Никто из вас ничего не сможет сделать. Кого не взять силой – будет взят измором или хитростью. Я не сумел добыть крови подземного слепца, панцирь его прирос к коже, тогда я воспользовался умением, похищенным у рыцаря Грозы, так что ваш слепец вдобавок оглох и сейчас безобидно крошит камни вдалеке от битвы. К каждому рыцарю я подобрал ключик, для этого у меня было много времени. Теперь ты понял, что проиграл? Молчишь? Ты правильно сделал, что замолк…
Виктан вздрогнул и поднял голову. Перед ним сидел Гоэн. Вернее, сидящий был похож на Гоэна словно брат-близнец, лишь пустой взгляд выдавал подделку.
– Прекрати, – сказал Виктан, – меня не обманешь.
– Теперь, разумеется, не обману. А если бы я сразу показался тебе в таком виде, то сумел бы посеять в твоей душе смятение. Но мне захотелось говорить с тобой от своего имени, и я могу наконец позволить себе это. А хочешь, – Фартор усмехнулся, и страшно было видеть на знакомом лице рыцаря Опавшего Листа чужую и мёртвую усмешку, – хочешь, я покажу тебе Виктана? Такого, каков он на самом деле? Хотя тебе это не интересно, ты, пожалуй, и не узнаешь себя. Тебя волнует иное: зачем я начал борьбу и что собираюсь делать дальше. Что же, я отвечу и на эти вопросы. Я хочу забрать себе мёд. Весь до последней капли. Пусть он зреет, а потом я не дам ему пролиться. Я буду есть мёд, макать в него свой хлеб, а вы будете завидовать мне, как я когда-то завидовал вам.
– Об этом я догадывался и без тебя, – ответил Виктан. – Что ещё может изобрести бессильная зависть? Тебе лишь кажется, что ты стал силён и сумел пленить меня… – Виктан напряг мышцы, пробуя на прочность опутывающие его цепи.
– Не трудись! – Фартор поднял руку. – Эти оковы нужны лишь моему самолюбию, их несложно порвать. Ты связан иначе, хотя и не догадываешься как. Дело в том, что мне известна твоя тайна. – Фартор поднялся и прокричал в лицо Виктану: – Ты побеждён, потому что проехал свою остановку!
Виктан рванулся, но двери автобуса уже захлопнулись, и Виктор Андреевич увидел, как мимо проплывает проходная завода, табло над входом показывает без семи минут восемь, и, значит, уже нет никакой возможности успеть на работу без опоздания. Виктор Андреевич в отчаянии привалился к дверям. Опустевший автобус, дребезжа, набирал ход.
Разумеется, в проходной Виктора Андреевича записали, а в отдел он опоздал на целых двенадцать минут. Ещё год назад на такую задержку никто не обратил бы внимания, кроме, может быть, Антонины Мадарась – злыдни и доносчицы, но теперь, когда управленцы ожидали сильного сокращения штатов, Виктора Андреевича встретило недоброжелательное молчание и изучающие взгляды. Виктор Андреевич промямлил что-то напоминающее одновременно приветствие и попытку оправдания, уселся за стол и придвинул папку с бумагами. Предстояло выяснить, что там внутри, вспомнить, какими неприятностями чреват грядущий день. Ничего срочного в папках не оказалось: какие-то заявки, отчет за прошлый квартал, докладные записки о перерасходе электроэнергии – весь тот бумажный хлам, что скапливается на столе, создавая видимость работы.
Виктор Андреевич обзвонил цеха, сообщил, что режим работы сегодня «два-тире-два». В ответ ему продиктовали расход электричества за прошлую смену. Цифры эти предстояло просуммировать и о результатах сообщить в Горэнерго. Ежедневная будничная деятельность, не требующая ни малейших усилий. Виктор Андреевич выписал цифры в колонку, вздохнув, поднял голову. Светочка Соловкова, сидящая за столом напротив, была погружена в расчёты, наманикюренные пальчики летали над клавишами калькулятора. Виктор Андреевич вздохнул ещё раз.
Лишённые тургора щёки Виктора Андреевича всегда были гладко выбриты, так что он и сам не мог бы сказать, была бы у него седина в бороде, вздумай он эту бороду отпустить. А вот бес в ребро впился прочно, и звали его Светочка Соловкова. Была она на два года младше собственной дочери Виктора Андреевича, у мужчин пользовалась успехом, так что никаких надежд у Виктора Андреевича не оставалось, тем более что Малявин даже в молодости был смел с женщинами лишь в мечтах. И всё же он ничего не мог с собой поделать – запоздалая влюблённость была неистребима. Во время заводских междусобойчиков Виктор Андреевич демонстративно ухаживал за Светочкой, изображая «доброго дедушку», которому, учитывая возраст, позволена безобидная фамильярность. А сам жестоко клял себя и за неудачно выбранную маску, и за нерешительность, и даже за возраст, который и в самом деле со счетов было не сбросить. О Таисии в эти минуты Виктор Андреевич не думал, Таисия ждала дома, а здесь была совсем другая жизнь, такая же непохожая на домашнюю, как и царственные равнины Тургора.
Виктор Андреевич машинально пересчитывал общее потребление электроэнергии, но мысли его были далеко. В середине дня ему уже не требовалось вспоминать обыденные вещи, уплывал в тень и Тургор, так что можно было помечтать о чём-нибудь несбыточном. Например, о рацпредложении, которое он сделает и которое радикально изменит… неважно, что оно изменит, но в результате увеличится объём продукции, снизится потребление материалов и энергоносителей, экология тоже не будет забыта… Суммарный экономический эффект составит, скажем, двести миллионов в год, и, значит, сумма вознаграждения… большая, посчитает потом. С Мадарась удар приключится, когда он пригласит весь отдел в ресторан. Её – тоже, пусть позлобствует, но главное, конечно, Светочку. Вечером он, как старый приятель, пойдёт провожать Свету, а возле дома само собой получится, что они вместе поднимутся к ней, и там… Сладкий озноб прошёл вдоль спины. «Светик, Светик, светлая моя…» – Виктор Андреевич зажмурился, прикрыл ладонью глаза. Так проще и правдоподобнее представлять то, что теперь будет соединять его со Светочкой, соединять прочно и всегда, даже если сама Светочка ничего об этом не узнает. Когда вокруг смыкается тьма, то обостряются остальные чувства, и самый тихий шёпот слышен ясно и разборчиво:
– …светлая, чистая, прекрасная. Когда она идёт, трава не приминается под её ногами и осенние листья не слышат шороха её шагов. Лицо её сияет, и при взгляде на неё невозможно сохранить в душе недобрые мысли. Едва она появляется – всё ложное исчезает и остаётся лишь истина. Значит, сейчас Светлая богиня на нашей стороне.
– Не надо меня утешать, – прервал рассказчика слабый голос. – Я слышал эти сказки ещё младенцем и теперь не верю в них.
– Это истина.
– Почему, в таком случае, богиня не явилась в ту минуту, когда в битве решалась судьба Тургора? Почему мы в плену, а Фартор торжествует?
– Потому что битва не кончена, а мёд созревает лишь в миг солнцестояния. В этом году солнцестояние совпадает с закатом, и до заката ещё далеко.
Виктан оторвал от лица руку, засветил на безымянном пальце гелиофор. Кольцо с камнем было невидимо для чужих глаз, стреги не смогли похитить его. Камень осветил вырубленную в скале келью и две человеческие фигуры: одну лежащую ничком, другую сидящую возле неё.
– Ты очнулся? – спросил Гоэн, повернувшись на свет.
– Да, – ответил Виктан.
Он подошёл, склонился над лежащим Зентаром. Юноша не пошевелился.
– Он умирает, – прошептал Гоэн. – Его не ранили, он умирает от несвободы. Видишь, – произнёс он громко, – у нас уже есть свет. Фартор прогадал, когда бросил нас в общую яму. Хотя, признаюсь, Виктан был не лучшим соседом, пока сидел, застыв как истукан.
– Это не единственная его ошибка, – сказал Виктан. – Прежде чем бросить меня сюда, он говорил со мной, и теперь я знаю, куда меня уносит время от времени. Оказывается, я живу тогда в другой стране – глупой и ничтожной, причём пользуюсь там самым презренным положением. Мне было обидно узнать такое. Но Фартор просчитался в главном – ему не удалось меня раздавить, ничтожество той жизни не сказалось на мне. Зато теперь я, кажется, могу предсказывать свои метаморфозы, и, если интуиция не подводит меня, в следующий раз я исчезну отсюда, а вернуться постараюсь где-нибудь неподалёку и тогда сделаю всё, что сумею сделать голыми руками…
– Виктан, – сдавленно перебил рыцарь Опавшего Листа, – может ли твой камень светить ярче?
– Это гелиофор – камень солнца, а наверху сейчас день, – ответил Виктан.
– В таком случае, ты выйдешь отсюда с оружием в руках! – воскликнул Гоэн. – Зентар! – повернулся он к товарищу. – Я знаю, ты носишь на груди мешочек с плодородной землёй твоего родного Резума. Дай её, нам надо вооружить рыцаря Солнечного Луча.
Зентар молча поднялся, достал из-под рубахи кожаный мешочек, протянул его старику. Гоэн высыпал горсть земли на пол, сделал пальцем лунку и опустил в неё крошечное зерно, неведомо откуда появившееся в его руках. Разровнял землю, полил из кувшина, стоящего в углу. Кивнул Виктану. Тот поднял руку с кольцом. Камеру залил солнечный свет.
– В недоступных буреломьях лесного Думора созрело это семя, – пропел Гоэн. – Дикие харраки вырастили его на погибель всякому, кто вздумает посягнуть на их необузданную волю, суровые нравы и непостижимые для чужаков обычаи. Фартор полагал, что лишил меня оружия, но отнял лишь сухой лист, стоящий не больше любого опавшего листа. Живой меч невозможно купить или отнять, его можно лишь получить в подарок.
Горсть земли на полу, рассыпаясь, зашевелилась, из центра её показался острый росток, он поднимался, удлиняясь на глазах, прямой и блестящий.
– Вот меч рыцаря Опавшего Листа, – произнёс Гоэн. – Бери, я отдаю его тебе.
Виктан протянул руку и сорвал меч с клинком, похожим на побег осоки.
– Пора, – сказал он, выпрямляясь.
Стена перед ним изменилась, вместо грубого камня некрасиво бугрилась испорченная давней протечкой штукатурка и висел наклеенный на фанеру график роста выпуска продукции за позапрошлую пятилетку с цифрами, перемалёванными на пятилетку прошлую.
– Давно пора, Виктор Андреевич, – услышал он чей-то голос.
Перед Виктором Андреевичем стоял Зозулевич – инженер из вент-группы. С Зозулевичем Виктор Андреевич частенько болтал на лестнице, где была оборудована курилка, в столовую они тоже обычно ходили вместе. Подчиняясь неписаным законам заводоуправления, Малявин с Зозулевичем звали друг друга по имени-отчеству, хотя и были на «ты».
– Иди один, – сказал Виктор Андреевич. – Я сегодня обедать не пойду – работы много, да и чувствую себя неважно.
– Какой обед? – изумился Зозулевич. – Обед кончился давно, а сейчас собрание начинается, собираются у конструкторов, тебя ждут.
– Спасибо, – сказал Виктор Андреевич, – а то я заработался и не слышал.
Виктор Андреевич и впрямь чувствовал себя не блестяще. В те дни, когда Тургор не отпускал его, Малявин бродил сонный, отвечал невпопад, часто вообще не слышал обращённых к нему слов. Чтобы скрыть это, Виктор Андреевич начинал жаловаться на головную боль и иные недомогания, просил у сослуживцев таблетки и очень быстро внушал самому себе, что заболел на самом деле. Порой даже получал в санчасти больничный лист. Но теперь вольготной жизни приходил конец: приближался переход на аренду, сокращение штатов и прочие связанные с этим неприятности. Сегодняшнее собрание было в их числе.
Обычно во время собраний Виктор Андреевич старался примоститься в уголке за кульманом, так, чтобы его не было видно. Но сегодня он умудрился опоздать на собрание, так что пришлось сесть на всеобщее обозрение, у дверей. И соседство оказалось неподходящим: рядом вертелся на стуле молоденький теплотехник Володя, направленный на завод по распределению и успевший восстановить против себя весь отдел откровенным бездельем и рассказами о том, как он будет жить, когда заведёт собственное дело. Фамилия у Володи была не по годам звучная: Рак-Миропольский – и это тоже не прибавляло к нему любви.
Собрание вёл Цветков – зам главного энергетика. В другое время это немедленно насторожило бы Виктора Андреевича. Главный энергетик – товарищ Паскалов – любил изображать из себя душку-начальника и потому все мероприятия, где принимались жёсткие решения, перепоручал заместителю. Но сегодня Виктор Андреевич был озабочен трудными делами Тургора и думать о двух опасностях разом не мог. Он сидел, привалившись к стене, напустив из чувства самосохранения страдальческое выражение на лицо, и не слушал выступлений. Встревожился, лишь когда в его сознание протиснулись слова:
– В течение этой недели мы должны решить, без кого отдел сможет нормально работать. С этими товарищами нам придётся расстаться. Остальные получат компенсацию в размере сорока процентов от оклада уволенных.
«Неужто действительно сокращение? – всполошился Виктор Андреевич и тут же привычно начал успокаивать себя: – Да не может быть, треть отдела уволить… отобьёмся… в крайнем случае, сократят Кузьминову – она бездетная».
И в самом деле, поднялся Зозулевич и напористо пошёл в атаку:
– Господа, что-то я не понимаю, как это – треть отдела сократить, у нас работы труба нетолчёная. Мы же не НОТ какой-нибудь и не техника безопасности, без наших служб завод станет…
– Это не тема для дискуссии, а приказ, – перебил оратора Цветков, – уволить десять человек. Мы должны решить, без кого сможем обойтись.
«Сейчас Мадарась вмешается», – тоскливо подумал Виктор Андреевич.
Но вместо известной склочницы неожиданно поднялась Светочка Соловкова.
– Правильно Сергей Семёнович говорит. У нас не треть, а половину отдела гнать надо. А зарплату их – тем, кто работает. Вот вам первая кандидатура, – Светочка обвела взглядом собравшихся, – Малявин!
– У меня дел невпроворот, на мне все цеха висят! – закричал Виктор Андреевич фразу, приготовленную для мерзавки Антонины. Потом до него дошло, кто выступает против него, он смутился, задохнулся от обиды и фразу закончил лишь по инерции: – Я и обедать сегодня не ходил…
– Знаю я вашу работу! Как Антонина Ивановна в отпуск уходит, так он мигом на бюллетень, так что все обязанности на мне – и ничего, справляюсь. А что обедать он не ходит, так бездельничать можно и без обеда. Вот сегодня, наглядный пример: считает товарищ Малявин потребление электроэнергии. Там надо всего четырнадцать чисел сложить. Он складывает на калькуляторе, а я рядом сижу, мне всё видно. Ежу понятно, что соврал: цеха данные до первого знака дают, а у него в окошке после запятой две цифры болтаются… Нет, досчитал, проверяет. И видно, как он по клавише не ту цифру мажет. На третий раз верный ответ получил, но с первыми не совпадающий, так он стал четвёртый раз пересчитывать. И опять соврал. Обедать он, может, и не ходил, но потребление так до сих пор и не сосчитано. Гнать такого работничка! Он только и умеет, что спать на рабочем месте да масляными глазами под блузку заглядывать.
– А нечего блузку распахивать! – вдруг вмешалась Антонина. – А то устроила декольте до самого пупа. Тут у ней ножки – там у ней ляжки!.. Не сотрудник, а западный секс!
– Это же прекрасно! – возопил Рак-Миропольский. Ему как молодому специалисту сокращение не грозило, и юный бездельник, чувствуя себя в безопасности, наслаждался происходящим.
– И вообще, – продолжала Мадарась, – что вы накинулись на человека? Дали бы до пенсии доработать.
– Вы, Антонина Ивановна, беспокойтесь, чтобы вам ваши полгода до пенсии досидеть позволили, – внушительно произнёс Цветков. – А Малявину ещё восемь лет трубить.
«Семь лет и одиннадцать месяцев», – пытался поправить Виктор Андреевич, но вместо этого окончательно стушевался и затих. Ясно же, что там уже всё решено и коллектив созван для проформы.
Он желал одного – чтобы скорее кончился этот дурацкий сон, хотелось проснуться, пусть даже в темнице Фартора, лишь бы подальше отсюда. И ещё мучило горькое чувство: «Светик, Светик, как ты могла решиться на подобный удар, пойти на предательство… И это после всего, что было у нас…»
Дальше Виктор Андреевич не слушал, не обратил даже внимания на пробежавшую мимо Кузьминову, лишь вздрогнул от грохота захлопнувшейся двери. Подумал вяло, что и ему надо бы уйти благородно, с достоинством, но остался сидеть.
Собрание набирало обороты, словно электромясорубка. Едва возникала заминка, Цветков подбрасывал новую фамилию. Ополовинили бюро охраны природы, прошлись по вентиляционной группе (Зозулевич, впрочем, уцелел), заглянули в группу конструкторов. Всего получилось семь жертв.
– А если захочет подать заявление товарищ Рак-Миропольский, – подвёл итоги Цветков, – то администрация возражать не станет.
– Да нет, я пока обожду… – зевнул молодой специалист. – Вот годика через два…
– Годика через два с тобой другой разговор будет! – рявкнул благостно молчавший Паскалов, и на том собрание закончилось.
Домой Виктор Андреевич вернулся смурной и, не переодевшись, уселся перед выключенным телевизором. Жить не хотелось. Болело в груди, чуть выше желудка, представлялись собственные похороны, печальные лица сослуживцев, плачущая Светочка, шепоток: «Замучили человека, в могилу свели…»
Понимая умом несерьёзность подобных фантазий, Виктор Андреевич гнал их, пытался вызвать в памяти образ Тургора, но тот отгородился глухой стеной и не пускал. Очевидно, Виктану удалось исчезнуть из темницы, и сейчас его не было нигде, и, значит, Тургор был закрыт для страдающего Виктора Андреевича.
В прихожей раздался звонок – Таисия обычно звонила в дверь, хотя у неё был свой ключ. Виктор Андреевич вернулся в кресло.
«И не поинтересуется, как дела», – обиженно подумал он и тут же ужаснулся мысли, что Таисия могла спросить его о работе и ему пришлось бы отвечать.
Из кухни потянуло борщом. Слева под рёбрами заболело сильнее.
«Подохну – никто и не заметит», – резюмировал Виктор Андреевич.
– Обедать иди, – позвала Таисия.
После тарелки борща в груди отпустило, жизнь уже не казалась столь ужасной. В конце концов, увольняют его ещё не завтра, а в худшем случае через месяц, и компенсация при увольнении по сокращению за два месяца выплачивается, и стаж не прерывается. За это время он что-нибудь придумает, устроится на другую работу – энергетики везде нужны, – сделает своё изобретение и внедрять его будет не здесь, а на новом месте, в каком-нибудь совместном предприятии. И запатентует на своё имя – так теперь можно. Приглашения пойдут от инофирм, зарубежные поездки, дома – компьютер и видеомагнитофон. А на бывшем его заводе всё останется по старинке, прогорят они со своей арендой и разорятся. Светочка Соловкова, безработная, придёт в слезах в его кабинет (а он уже будет президентом фирмы), и он ей скажет…
– Ты меня совсем не слушаешь! – голос Таисии вернул Виктора Андреевича на кухню.
– Слушаю, Тасечка, – сказал Виктор Андреевич.
– Я спрашиваю, на что мы жить будем? – повторила Таисия.
«Неужели кто-то успел ей сказать?» – с тоской подумал Виктор Андреевич и на всякий случай ответил уклончиво:
– Как-нибудь выкрутимся.
– Ты всё успокаиваешь, а выкручиваться приходится мне, – обиделась Таисия. – Ты хоть знаешь, сколько сейчас картошка стоит? Твоей зарплаты теперь только на папиросы хватит. Мясо на рынке уже сорок рублей и ещё будет дорожать.
«Не знает», – понял Виктор Андреевич и сказал:
– Так это на рынке.
– А ты купи в магазине. Три часа отстоишь, а ничего не получишь. Да и в магазинах будет дороже. Писали уже. Вот я и спрашиваю: на что жить будем?
«Ну что прицепилась?..» – тосковал Виктор Андреевич, решив от греха отмалчиваться.
– Алёше посылку надо бы собрать и перевод, а из каких денег? – долбила Таисия. – У Риты день рождения скоро, что дарить будем, ты подумал? В магазинах нет ничего. У нас тоже юбилей близится, пора подумать, кого звать. На ресторан денег нет, значит – дома. Но и дома приличный стол рублей в четыреста обойдётся, а то и больше… – лицо Таисии вдруг смягчилось, осталась лишь неистребимая морщинка поперёк лба, – Витёк, – сказала Таисия совсем тихо, – а ведь тридцать лет вместе живём. Вся жизнь…
Виктор Андреевич обнял за плечи прижавшуюся к нему Таисию. Он вообще любил свою жену, хотя привычка, кажется, преобладала в нём над всеми прочими чувствами. И пусть в далеко идущих мечтах Виктора Андреевича Таисия не появлялась, но в то же время как бы и присутствовала, потому что Виктор Андреевич всегда знал, что у него есть дом. А дом – это Таисия. Виктор Андреевич был ласков с женой и, даже думая о Светочке, Тасю любить не переставал.
– До чего же обидно, – сказала Таисия. – Жизнь прошла, а как – я и не заметила. Сначала, студентами, думали, вот будем зарабатывать, начнётся настоящая жизнь, потом ждали, что дети подрастут, что зарплату прибавят… Теперь и ждать нечего, а жизнь ещё не начиналась.
«Сейчас снова о деньгах заговорит», – догадливо подумал Виктор Андреевич.
– …нигде не были, ничего в жизни яркого не случалось…
«Как же не случалось, – мысленно возразил Виктор Андреевич, – у тебя, может, и не случалось, а у меня всё было. Меня Тургор ждёт, там люди гибнут, а она…»
Его уже начинал тяготить этот разговор, с небольшими вариациями происходивший каждый день. Виктор Андреевич мог предсказать его полностью, со всеми изгибами, он знал, как будет меняться настроение Таисии, как от лирических признаний она перейдёт к жалобам и упрёкам. До скандалов, впрочем, доходило крайне редко, чаще, вспомнив о делах, Таисия принималась за хозяйство, а его оставляла в покое. Надо было лишь отмолчаться, но не демонстративно, а как бы и отвечая, но ничего не говоря. Но сегодня лавировать было трудно – мешали неприятности на работе, которые никак не удавалось выбросить из головы, и всё более настойчиво звал к себе вновь проявившийся Тургор. Никогда ещё дела не обстояли так страшно, впервые угрозе подвергалась вся страна, и ближе к вечеру эта реальная опасность начинала тревожить Виктора Андреевича сильнее, чем причитания жены. Он видел, что Тургор открылся для него, но не мог сосредоточиться, чтобы уйти туда.
– …все годы не то чтобы съездить куда или купить что-нибудь, – бубнила Таисия, – а еле концы с концами сводим. Надоело копейки считать. Другие как-то устраиваются, тысячами ворочают, а мы с тобой…
– Я не кооператор и не вор, – привычно возразил Виктор Андреевич.
– В кооперативах теперь денег не зарабатывают, а только налоги платят. Нормальные люди деньги делают неофициально. Ты знаешь, сколько сейчас стоит изготовить качественный чертёж какому-нибудь дипломнику?
– Я откуда знаю?.. Рублей двадцать пять, – предположил Виктор Андреевич. – Смотря по насыщенности…
– А вдвое больше не хочешь? – торжествуя, спросила Таисия.
– Где её достать, эту халтуру, – законно возразил муж.
– Я достала, – Таисия протёрла стол и выложила перед ошарашенным Виктором Андреевичем толстую папку. – Вот, надо сделать восемь контрастных чертежей. В лист. Сделаем – как раз хватит на праздник.
«Опять всё на меня сваливается», – обречённо подумал Виктор Андреевич.
Таисия раскатала на столе рулон ватмана.
– Ты хотя бы начни, – сказала она, – расчерти форматы. Я потом тоже подойду, а сейчас – никак, у меня бельё вчера замочено, простирать надо, а то затухнет.
Таисия исчезла в ванной. Виктор Андреевич подошёл к столу, провёл пальцами по хирургической белизне ватмана.
«На работе полный день ишачишь, дома снова запрягают, – тяжело подумал он, – и главное, ведь это никому не нужно, и так с голоду не помрём… и вообще, не настоящее всё это, пустое, фальшивое».
Ждущий помощи Тургор с неудержимой силой звал к себе.
Виктор Андреевич прошёл в комнату, стащил с кровати покрывало, медленно, словно лунатик, начал раздеваться. Скрипнула дверь, в комнату, держа на весу мыльные руки, вошла Таисия.
– Виктор, – сказала она, – я же тебя просила…
– Я сделаю, – сказал Виктор Андреевич, чувствуя себя словно школьник, пойманный на мелком жульничестве, – ты же знаешь, я не могу вечером, я очень устал сегодня, я лучше с утра пораньше встану и сделаю всё.
– Да уж, знаю, – сказала Таисия, – опять всё на меня навалил. Ладно, что с тобой делать, спи себе…
Таисия развернулась и вышла, прикрыв ногой дверь. Виктор Андреевич обессиленно ткнулся в подушку. Обида жгла грудь.
«Обязательно было куснуть, что угодно сделать, лишь бы побольнее, жизнь вместе прожили, но в таком удовольствии отказать себе не может… Все они такие… Не могу больше… Серость эта душит. Уйду… В Тургоре остаться навсегда – там жизнь, а здесь… не хочу…»
На этом мысли оборвались, не стало замученного пошлостью, униженного всеми и от всех претерпевшего Виктора Андреевича Малявина, а взамен выпрямился под низким небом Блёклого Края неустрашимый боец Виктан, твёрдо сжимающий живой меч харраков и готовый, если придётся, отдать и собственную жизнь, и бесцельное существование своего двойника ради того, чтобы и впредь мёд жизни тёк по беспредельным просторам Тургора.
Он угадал и место, и время, материализовавшись прямо на крепостном дворе. За его спиной громоздился приземистый, вросший в землю дворец Фартора, по сторонам тянулись стены, облепленные готовыми к бою стрегами. В одном месте стена была покрыта трещинами и словно осела. Она бы давно рухнула, если бы не подпорки и неутомимая работа каменщиков, наращивающих полуразрушенное укрепление. А прямо перед ним, посреди крепостного двора поднимался невысокий скальный зубец, и на нём, видимая отовсюду, стояла чаша. Она была полна: мёд, густой и текучий, прозрачный, тёмный и светящийся изнутри, горкой поднимался над гладкими краями. До солнцестояния оставалось всего несколько минут, и Фартор в своём истинном безликом виде стоял у подножия скалы, готовый подняться наверх и осквернить мёд нечистым прикосновением.
– Светлая богиня! – прошептал Виктан и ринулся вперед.
В один прыжок он достиг подножия скалы, свободной рукой схватил тяжелую, приготовленную для Фартора лестницу и метнул её прочь. Лестница грохнулась о стену, сбив подпорки и разметав суетящихся стрегов. Стену больше ничего не удерживало, и она рухнула, подняв облако пыли. В проломе показался Шш. Он попытался двинуться на помощь Виктану, но ноги, подсечённые кривыми ножами стрегов, не держали его, лесной богатырь мог лишь ползти, отмахиваясь от наседающих противников. На равнине под стенами продолжалась битва, но Виктан мгновенно понял, что подмоги оттуда тоже не будет. Потерявшие командиров рыцари были отрезаны друг от друга и сражались в одиночку, окружённые толпами врагов. В одиночестве предстояло биться и Виктану, но в отличие от друзей ничто, кроме рубахи, не прикрывало его грудь, а ряды оправившихся от неожиданности стрегов смыкались вокруг него. Тускло блестели натёртые маслом звериные черепа, острия копий целили в лицо. Виктан поднялся на уступ, ближе к чаше, взялся за меч двумя руками, поднял его над головой, ожидая нападения.
– Ты?.. – проскрипел Фартор. – Ты все-таки вернулся? Я же показал тебе твоё место – вон отсюда, ничтожество!
– Ты напрасно кричишь, – ответил Виктан. – Больше тебе не удастся вышвырнуть меня из Тургора. Тебе лишь мерещится твоя сила, ты воображаешь, будто можешь справиться со мной. Твой удел – вечная зависть. Возможно, в иной стране, раз ты знаешь о её существовании, ты действительно господин и тебе удаётся делать то бытие блёклым и бессмысленным. Но здесь ты не пройдёшь!
За спиной Виктана раздался густой всепроникающий звон, поднялся столб радужного света. Мёд созрел. Ещё несколько минут чаша сможет удерживать его, а потом он разольётся, даря миру смысл жизни. И эти несколько минут Виктан должен один удерживать всю озверелую жадность вселенной.
– Прочь с дороги, или я выпущу твои кишки! – заревел Фартор.
Он выхватил у ближайшего стрега тяжёлый стальной трезубец и полез наверх, размахивая оружием и рыча бессмысленные проклятия. Виктан отвёл удар трезубца и вонзил остриё меча в дряблую плоть, туда, где у обычных людей находится лицо. Однако Фартор не упал, на коже не появилось раны, зато меч харраков, погрузившись в серое, болезненно вскрикнул, и по блистающему лезвию прошла дрожь.
– Меня не так просто убить!.. – прошипел Фартор, замахиваясь гарпуном.
Вновь Виктан отбил смертельный удар, но на этот раз уже не касался мечом Фартора, а, шагнув вперёд, обхватил тяжёлую и неподатливую, словно мешок с песком, фигуру и сбросил её на головы теснящихся стрегов. Фартор завизжал, как зажатая капканом крыса. Виктан выпрямился, и в этот момент пущенное вражеской рукой копьё ударило его в левый бок.
Виктан пошатнулся, но тут же вновь поднял меч, и полезшие на приступ стреги посыпались вниз. Переполненная чаша гудела тысячеструнным звоном.
– Пусти-и!.. – визжал Фартор, карабкаясь по скале.
Острия трезубца зазвенели о меч. Виктан вырвал из раны копьё и ударил Фартора. Копьё с шипением рассыпалось, но и Фартор оказался у подножия скалы. Он упал на четвереньки и, подняв к стоящему витязю круглую болванку головы, пролаял:
– Ты умрёшь! Копья стрегов отравлены, от их яда нет спасения. Даже если ты не пропустишь меня сейчас, без тебя твои друзья ничего не смогут сделать, и через год мёд всё равно будет моим… А ты умрёшь через минуту, смерть твоя будет страшной, и ради этого я согласен ждать ещё год!
Виктан молчал. Он понимал, что на этот раз Фартор говорит правду. Рана в боку болела невыносимо, левая рука повисла и не слушала его.
– Пусти! – потребовал Фартор. – Или возьми мёд сам, он вылечит тебя, а я буду твоим слугой.
«Единая капля, текущая на землю из каменной чаши, возвращает силу и здоровье и может, как говорят, оживить мёртвого…» Он останется жить и на следующий год позволит мёду разлиться беспрепятственно… если, конечно, на будущий год мёд появится, а не умрёт, опороченный бесчестной рукой рыцаря, не исполнившего обета.
– Нет, – сказал Виктан.
– Ты не просто умрёшь, – завывал Фартор. – Ты погибнешь только здесь, а там ещё долго будешь маяться на своей скучной кухне, со своей скучной женой и вечными неприятностями на противной и скучной для тебя работе. Ты не сможешь даже вспомнить толком об этой жизни и будешь зря мучиться, пытаясь вернуться. Пусти!
– Нет.
Виктан чувствовал, как яд подбирается к сердцу. У него перехватывало дыхание, слабели ноги. Перед глазами качались чёрные тени. Но сильнее всего, каждой клеткой умирающего тела Виктан ощущал бурление животворного мёда за своей спиной. И он повторил ещё раз, уже не Фартору, а самому себе:
– Нет.
– Ты умрёшь! – Фартор кинулся на скалу.
Не было сил парировать удар, Виктан лишь шагнул вперёд, подставив грудь под трезубец и отдав мечу последние остатки жизни. Меч харраков, погрузившись в серое, взорвался на тысячу осколков. Фартор покатился под ноги своим наёмникам. Он был невредим, но видел, что опоздал бесповоротно. Мёд, переполнивший чашу, тяжело хлынул на камни. Коснувшись твёрдой поверхности, он вскипал и мгновенно исчезал, чтобы в изменённом виде появиться на полях Резума, в степях Нагейи, среди обледенелых скал Норда и заросших мхом елей Думора, повсюду, где, напряжённая и страстная, бурлила жизнь вечного Тургора.
С появлением мёда в стране начиналась весна: свежая трава продиралась сквозь старые стебли, хороводом закружили бабочки, деревья наливались соком. Земля, проснувшись, передала полученную силу дальше – своим сыновьям. Пространство перед стенами взревело внезапно ожившей битвой. Искалеченный Шш поднялся из-под наваленной на него кучи убитых врагов. Из тумана выступил наконец прорвавшийся второй отряд, ведомый Бургом и черноволосым рыцарем Грозы, а в подземной темнице бессильно лежащий Зентар резко встал, одним ударом сбил с петель чугунную дверь и вышел на волю. Вслед за ним со светящимся мечом харраков в руке появился Гоэн. Среди стрегов началась паника, костоголовые побежали.
– Не отдам!.. – Фартор, перешагнув тело Виктана, полез по уступу, желая бессмысленно осквернить чашу, но в это время в стороне от битвы заблудившийся и беспомощно кружащий среди камней Бестолайн вдруг остановился, зорко прислушался и метнул на звук свою стальную булаву. Прогудев в воздухе, булава ударила Фартора, впечатав его в утёс. Беззвучно лопнул костяной шлем, сплющился золотой панцирь, и Фартор растёкся лужей слизи. Он и теперь был жив, пытался вернуть себе облик, но у него ничего не получалось, он лишь дёргал какими-то бесформенными обрубками, напоминающими членистоногую нежить туманной стены.
Мёд перестал течь.
Наступил вечер, и в темноте чаша, ещё не остывшая, мягко светилась, словно камень готов был расплавиться. Рыцари сошлись на её свет, собравшись вокруг тела Виктана. Они молчали, слова были не нужны, каждый знал, что здесь произошло.
Ночи в Блёклом Краю темны и беззвёздны. Но сегодня случилось небывалое: вечные тучи на западе разошлись, открыв пламенеющее зарево заката. Оно не гасло, уступая натиску тьмы, а разгоралось ярче, захватывая пядь за пядью, пока над стёртым горизонтом не показался краешек солнца, рассеявший мглу Блёклого Края. В ответ засиял гелиофор на мёртвой руке рыцаря. Два солнечных луча, соединившись, образовали в воздухе невесомый мост, на котором появилась светлая фигура. Она быстро и легко приближалась, искрящиеся одежды развевались как от сильного ветра, золотой венец блестел в струящихся волосах. Лицо женщины, неизмеримо прекрасное, сияло странным колдовским светом, не слепящим, но и не позволяющим взглянуть в упор.
Солнечный свет разливался повсюду, под этими лучами зловонно зашипела и испарилась шевелящаяся слизь – неуничтожимый Фартор вернулся в первобытное, бестелесное существование, чтобы вновь блуждать, сжигая себя завистью.
Рыцари молча расступились, небожительница, не коснувшись ногой камней, прошла мимо них и поднялась к чаше. Там на дне оставалось несколько последних капель мёда. Женщина наклонилась, провела по дну ладонью, собирая их. Чаша не погасла, мёд не почернел, как это случилось бы, дотронься до них нечистая рука смертного. Женщина опустилась к лежащему Виктану, свободной рукой подняла его голову. Вся горечь и сладость мира коснулась неживых губ. Виктан вздохнул и открыл глаза.
– Светлая богиня!.. – прошептал он, затем глаза его вновь сомкнулись, Виктан уснул, как спят герои, возвращённые к жизни чудом.
Облака на западе сошлись, исчезло солнце, померк гелиофор. Лишь остывающим светом тлела чаша да светилось лицо богини, безмолвно глядящей на спящего Виктана. Рыцари тихо, стараясь не звенеть оружием, отошли и направились к старому лагерю. Там отныне, сменяя друг друга, будут вечно стоять в заслоне воины Тургора, чтобы никто не вздумал повторить безумную попытку: забрать себе общее сокровище, ради себя одного лишить всю страну смысла жизни.
Возле чаши остались лишь Светлая богиня да спящий Виктан, ещё не знающий, что гибель обошла его стороной. Вдалеке засветился костер, приглушённо донеслись голоса. Возле чаши было тихо. Медленным движением Светлая богиня сняла венец. Лицо её померкло, лоб прочертила усталая вертикальная морщина. Виктан глубоко вздохнул во сне.
Спи, рыцарь. К утру твои раны затянутся, и новые неодолимые препятствия потребуют от тебя новых подвигов. А богиню ждут иные дела: на плите в баке кипятится бельё и расстелены на столе чертежи.
Мёд жизни – он сладок и горек.
Змейко
К настоящему времени россыпи эти полностью выработаны и промышленной ценности не представляют.
Горный справочникБабушка Ненила хорошо говорила сказки. Во внуках да правнуках у неё вся деревня была, так соберётся мальчишня целой артелью и пристанет как репей: расскажи да расскажи. А бабке что, для родной крови не жалко, она и примется рассказывать…
С прежних времён ведомо, что под нашей горой есть пустое место. И было некогда там подгорное царство. Горные люди жили, гномы. По всей округе об их мастерстве слава гремела. Железо варили, медь плавили, по золоту тоже старались. Но всего больше занимались цветными камушками. Ежели родиться где самоцветику, так гномы о том за полгода знают и ждут. Дешёвым металлом торговали, железный товар, медь, чушки свинцовые, лягушачью платину на базар возили, на хлеб да пиво меняли. А чтобы золото, серебро или, не приведи господь, камушки на продажу поставить, такого у них не водилось. Всё себе оставляли. Богатства собрали несметные, несказанные и неоглядные.
Только раз объявились над горой враги: огненный змей с братьями. Стену прожгли, гномов кого побили, кого прочь погнали и стали сами в горном городе жить.
Гномам то за обиду показалось. Вооружились они кто чем попадя и пошли супостата воевать. Год воюют, два воюют, народу положили уйму, а победы не видно. И остался у них от всего мира один захудалый гномёнок. Его прежде по малолетству на войну не брали, вот он и уцелел. А теперь никого родных не осталось, сам большой, сам маленький… Собрался последний гном, нашёл себе какой ни есть мечишко и пошёл за отчий дом сражаться. Приходит к горе и видит: и братья, и дядья все лежат побитые, никого в живых нет. А рядом змеи лежат, секирами порубленные, ни одна не дышит.
Стал гном врага на битву звать. И выползает ему навстречу захудалый змеёныш, весь из себя полтора вершка. Один остался на всё змеиное племя. Удивился гном:
– Как же я тебя убивать буду, такого малого? Уползай-ка ты отсюда подобру-поздорову.
– Нет, – отвечает змеёныш, – я тут родился и никуда отсюда не уйду. Здесь мой дом.
– А и что тебе в этом доме делать?
– В своём дому да дела не найти? Вишь, сколько тут богатств набрано-скоплено? Всё прибрать нужно, каждая золотиночка пригляда просит. Разложу всё как есть по местам, лягу посередь большой залы и буду радоваться на такую-то красоту.
– А ты подумал, – говорит худой гномёныш, – что богатства набраны-скоплены, да не тобой? Их мои прадеды и пращуры добывали, собирали и по местам раскладывали, а твои змеи всё пограбили да поотняли, а хозяев огнём пожгли и смертью поубивали. Только не бывать такой неправде ни на земле, ни под землёй, ни на светлых небесах. Уползай отсель, пока живой есть, а не то, так давай биться не на жизнь, а на смерть.
– А ответь ты мне, – говорит заморный змеёныш, – что ты делать станешь в столь огромном дому, коли подвезёт тебе меня поратить до смерти?
– В своём дому да дела не найти? Всё прибрать нужно, покладать покрасивее, кладовать понадёжнее. А как всё ухичу, сяду посередь большой залы и стану радоваться душой на такую красоту несказанную.
– Так ведь и я не на базар потащу, – говорит малый змейко. – Зачем тебе меня мечом рубить, для чего мне тебя ядом язвить, когда мы одного хотим, чтобы вся подгорная краса цела оставалась и душу радовала? Давай вместе в большом зале быть, вдвоём на каменья любоваться, дружно злато беречь. А что отцы наши, дядья и деды поубивали друг друга из-за той казны, так нашей вины в том нету. Коли и мы друг друга поубиваем, то тогда и краса ненужно погаснет, и казна обесценится.
Подумал гномёныш, да и согласился. С тех пор в пустом месте под горой два хозяина живут, в четыре глаза за порядком смотрят. Там у них под горой самое место богатющее: и яхонт, и лал, и хрупик, и тяжеловес, и аматист, который любовники носят, и жёлтый белир, и всякий иной подельный камень. Лежит, а в руки не даётся. Место богатющее, а не добычливо. Железной руды покопать или медной, это можно, хотя и тут добыча невелика. А золота или каменьев – не взять, хотя все приметинки как на ладони лежат. Есть в горе всякого богатства, да хозяева брать не велят. Так и зовут нашу гору Пустой, то ли оттого, что место под ней пустое, где подземный город стоял, то ли оттого, что всякий старатель отсюда пустым уходит…
– Дядя Матвей, поди, пустым не уйдёт, – поперечил бойкий правнучонок.
– Может, и не уйдёт, – бабушка Ненила на всё была согласная. – Матвеюшка мне тоже сродственником доводится. Глаз у него верный, да рука лёгкая. Бают, что он раз в городе напротив губернаторских палат самоцветную друзу сыскал. Дорогу там мозаичным камнем стелили. Свои таким грубым делом не промышляют, а иногородние в отхожий промысел нанимаются. Камень отёсывают да на дорогу укладывают. Тоже мозаикой кличут, хотя каменье там не цветное, а самый бросовый плитняк. Вот Матвейка-то мимо шёл, да и углядел нужный камень.
– А что, – грит, – работнички, почём этот булыжник продадите?
– Бери, когда нужда есть, – отвечают мужики. – Мы его тебе за так подарим.
– За так не могу. Нынче Даришь уехал в Париж, а заместо приехал его братец Купишь.
– Ну, когда ты гордый, – смеются мужики, – то гони целковый рупь.
А камень булыжный, ежели кто не знает, четыре копейки за пуд стоит.
Однако Матвейка и глазом не моргнул.
– Сколько прошено, столько, – грит, – и плачено. И не говорите потом, будто я цену сбивал или задаром чужой камень схватил.
Отсчитал Матвей за булыжник цельный рубль, из рук в руки. А потом взял кайлушку, тюкнул легохонько и открыл друзу самоцветных сапфиров. И цена ей была семьсот рублей. Мозаичники потом чуть не весь булыжный товар переколотили, искали вторую такую же диковину. Не нашли.
Было такое, не было – бог весть. Вернее, что не было. Это ж дураком надо быть, чтобы щебёночной киркой друзу рушить, да ещё на глазах у чужих людей. Однако ж сказка живёт, потому что Матвей, бабки Ненилы внучатый племяш, и впрямь мастером был редкостным, какие раз в тыщу лет рождаются, а потом тыщу лет помнятся.
Матвейка с малолетства был к камню приставлен, а вот не давалось ему рукомесло, да и только. Шлиф навести, душу камня показать – это мог, а чтобы вещицу какую сработать – такое не получалось.
– Что его зря резать да гранить, ежели он и без того хорош?
Зато старателем Матвейка был знатным, в цветнокаменном промысле равного не было. Не только россыпи и скарны, но и всякий занорыш ему как на ладони были. Носом, что ли, чуял каменное сырьё? Ежели где речушка мелкая да с перекатами протекает, так то Матвейке в особую радость. На таких речках старатели завсегда промышляют, золотишко в лотках моют, цветные камушки. А Матвей вечерами, в шурфе намаявшись, на речку развеяться ходил. И не бывало, чтобы пустым с прогулки возвращался. Солнце начнёт к земле западать, на ряби речной бликами заиграет… самая краса вечерняя в ту пору настаёт. Галечки на речных, многажды промытых, россыпях все до одного чудятся самоцветами. Всякая слюдинка бриллиантом сияет, любая шпатинка алмазной гранью посверкивает. Ну, и вода рябит… где в таком сиянии что рассмотреть? А Матвейка глядит с прищуром, да вдруг шагнёт в воду и поднимет со дна что-то невидимое прочим.
Ежели спросить, что нашёл, то плечами пожимает: «Так, обломочек занятный» – а находки из кармана не вытаскивает. Значит, и про сапфировую друзу люди врут, найти, может, и нашёл, но при стороннем глазе не хвастался.
На продажу, впрочем, с некоторых пор дорогие камни Матвей выносить перестал. Искряком торговал, баусом, мелкой перелифтью, ясписом, из которого пуговицы режут. А чтобы по-настоящему дорогой камень, о том только вспоминалось.
– Оскудела земля цветными камнями, – вздыхал Матвей перед заезжими купцами. – Прежде, бывало, тёмно-синий агустит прямо на земле валялся, жёлтый ягут, а по-городскому – топаз, за бесценок шёл. А ныне архиерейский камень аматист кое-где, может, и остался, а стоящего товара нет. Или хоть малахит взять. В прежние годы, бают, бирюзовый королёк тысячами пудов копали, а сегодня и плисовому рады.
Что за диво? У других старателей хоть изредка яхонты попадаются, а у самого удачливого и знаменитого только суровик и дымчатый смоляк.
И пошли промеж торговцев пересуды, будто есть у Матвейки заветная укладка, где лежат непродажные камешки, те, с которыми душа расстаться не может. И чем дальше, тем реже камни на торги идут, чаще в сундук попадают. Сплетне веры нет, а слушаешь. А о той Матвейкиной укладке вся ярмарка слыхала.
А Матвей и впрямь прикипел сердцем к находкам и расстаться с ними никак не мог. И укладка заветная у него прямо под полатями стояла, рядом с той, что на продажу. Камней там было, что в царёвой сокровищнице, и все сырые, как в земле лежали, ни к одному гранильщик не прикасался. А поверх всего хранился редкостный кунштик, игра натуры – не то золотые самородочки, вросшие в хрустальный камень, не то кусочек хрусталя с семью вросшими золотинками. Особого чуда в том нет – матёрое золото завсегда с кварцем срастается, так их из шахты вместе и поднимают. Но тут исхитрилась мать-земля и впрямь родила диковину: хрусталёк, ни дать ни взять, – малая змеюшка длиной чуть поболее вершка. И головка тупенькая видна, и хвостик, и даже глазки закрытые обозначены. А золотинки чешуйками выложены вдоль хребта. Золота в змейке – кот наплакал, да и хрусталь, когда он не строганец, а без грани – камень бросовый, дешевле червеца, но всё вместе – диво небывалое.
Змейку Матвей в речке поднял неподалёку от Пустой горы и даже помыслить не мог, чтобы отдать диковину в чужие руки. Вечерами вытаскивал игрушку на свет, ласкал в ладонях и только что не разговаривал.
В самую зиму на Спиридона-Солнцеворота прикатил к Матвееву дому купец. По всему видать, богатый – чрево толсто, харя красна, шуба волчья, шапка боброва. У коня под дугой колокольцы, хотя честным людям с колокольчиком ездить не указано, разрешён колокольчик только чиновнику, едущему по казённому делу. А вот ямщик у купца подкачал: такая каторжная морда, что не приведи случай ночью повстречаться. Впрочем, то не Матвею решать, с кем купцу ездить. Личина обманчива, иной глядит варнаком, а душа у него голубиная.
Гости вошли, поздоровались честь-честью, на образа покрестились. Двуствольное ружьё ямщик у печи поставил. Без ружья в зиму ездить опасно, волки живо посчитаются за снятые шубы.
– Камушками интересуемся, – без обиняков сказал купчина. – На торгах о твоих камнях слава идёт.
– Так на торгах бы и покупал, – резонно попенял Матвей. – Я людей не прячусь, а так вот на ночь глядя приезжать не след. Из старателей никто самоцветов дома не держит, зачем зря лихой глаз привлекать?
– Так ведь есть, поди, пуговичный товар, – настаивал гость.
– Пуговичный товар, может, и есть, только что ж за ним в такую даль переться? Ширлу или таусиный камень всюду задёшево купить можно.
– Раз уж приехали, покажи, будь ласков.
Матвей вздохнул, под полати залез, достал малый сундучок, а из него тряпицы с находками. Отдельно искряк, отдельно полосатый ногат, который городские ониксом зовут. Купец камушки перебирал, покряхтывал. И видно, что нравится, да торговая спесь хвалить некупленное не велит. Потом нашёл, к чему придраться:
– Что ж они у тебя не парные? Для серёжек парные нужны, да и для пуговиц не мешало бы.
– Парные из одного куска резать нужно, а тут галечки собраны. Это для печаток и висюлек. Вот ежиный камень, а по-иному – стрелы Амура. Так вот сердечко вырезать, чтобы стрелка его насквозь пронзала, и носить такой кулон на груди, ежели хочешь знак подать о сердечной склонности. Камень он непростой, им что хошь сказать можно.
– Так-то оно так, и камушек хорош, спору нет, только на сердечки из волосатика мода давным-давно прошла. А значит, и цена упала.
– Я насильно не всучиваю, не любо – не покупай.
Слово за слово Матвейка с купцом в азарт вошли. С человеком понимающим и торговаться приятно. Снова Матвей в торговый сундучок полез, достал настоящий товар: бечеты голубиной крови, бирюзовый баус и даже кристаллик венисы, что в девичьи перстеньки вставляют. И недорого, да сердцу мило.
Купец вроде и хвалил, а вроде как и хаял. С пониманием торговался. Лучшие камешки отложил на платок, те, что с изъяном, в сторону отодвинул.
– Мне бы настоящего самоцвета.
– Самоцвета, говоришь? Сегодня так всякий цветной камушек обзывают, а в старые годы самоцветом только бриллиант называли да ещё малиновый шерл самой чистой воды.
– Вот их бы я и хотел. А то, скажем, яхонта у тебя не водится? Или ещё – жёлтый берилл?
– Заберзат, что ли? Так это камень редкий, и цена ему огромадная. Прежде, бывало, попадались и заберзаты, и яхонты, и иакинфы, даже алмазы встречались, а теперь оскудела земля цветным каменьем, всё подчистую выбрано.
– А ты поищи, может, и сыщется в какой ухоронке… – сказал купец со значением.
Матвей поднял голову и увидел, что в лоб ему в два дула смотрит ружьё.
– Поищи хорошенько, – повторил купец-разбойник.
– Зря ты это делаешь, ваше степенство, – сказал Матвей. – Тебе ж после такого ни на одной ярмарке показаться нельзя будет. Хищнику в жизни счастья не бывает.
– Были бы деньги, а счастье купим, – приговаривал купчина, споро нацепляя Матвею наручные кандалы с модным замочком. – Ну так где у тебя настоящие камни хранятся?
– Нет у меня ничего. Что было на продажу, всё показал.
– А теперь непродажные покажь.
Чернобородый каторжник молча опустил ружьё, вытащил ножик, попытал остроту на пальце и сунул нож в печку остриём на дотлевающие угли.
– Погоди, Родька, – сказал купец, – может, ещё по-хорошему договоримся. – Ты думай, покамест ножик греется, – оборотился он к Матвею, а мы тем временем сами посмотрим, что у тебя где лежит. Думаешь, не знаю, где искать? Добрые люди денежки завсегда у бога за спиной хранят.
Купчина подошёл к красному углу, скинул иконы, но не нашёл за ними ничего, кроме пыльной паутины.
– В подполе надо искать, – изронил слово ямщик. – Это же камни, им от земли ни хрена не сделается. Я знаю, в подполе закопаны.
– Ни черта ты, Родька, не знаешь. Раз он самоцветы на продажу и за хорошую цену не ставит, значит, не жадность его придушила, а сами камушки. Мне знающие люди рассказывали, что случается такое с мастерами и старателями, когда не могут они камень из рук выпустить. Самоцветная болезнь называется. Горные гномы этой хворью страдали, и у людей она приключается. Туточки они, рядом лежат, чтобы всякую минуту достать можно было, полюбоваться.
Купчина оглядел комнату, подошёл к полатям, кряхтя, нагнулся и выволок на свет заветный сундучок.
– А вот и он! Ишь, какой тяжёлый…
Матвей сидел как неживой. Жизнь рушилась одноминутно, и неважно, зарежут его грабители прямо сейчас или, обобрав, отпустят словно стриженого барана нагуливать новую шерсть. Всё одно, отнятого не вернуть, нового не нажить, лучше сразу в петлю.
О ключе купец и озабочиваться не стал, сбил малый замочек голой рукой, видать, привычен к разбойному ремеслу, не впервой по чужим укладкам шарит. Без разбору высыпал самоцветы на стол, так что заискрились в сальном свете, словно в ясный солнечный день.
– Ты глянь, Родька, глянь, дурья башка, что тут для нас припасено! А говорил, земля яхонтами оскудела! – купец погрузил обе руки в камни, принялся перебирать их, выдёргивая то один, то другой, поднося к дрожащему свечному пламени, любуясь игрой неогранённых кристаллов. – Такое богатство за раз продавать нельзя, а то шум пойдёт, понемногу сбывать будем. Ишь ты, агустит какой, получше сапфира будет, сапфир перед ним бледненькой… а вот аквамаринчик, адмиральский камень, он победу в морских сражениях приносит. Что ж ты, шут гороховый, такое сокровище прячешь? Хочешь, чтобы флот наш враг потопил? А вот и заберзаты, и гиацинты… а изумруды-то какие, изумруды!.. и сколько!.. Я и ценить их боюсь, такие изумруды только в царскую корону.
Родька отставил ружьё, подошёл, тоже поворошил камни толстым пальцем.
– Это аматист, что ли?
– Не понимаешь ты ничего. Это дамский камень александрит. При солнце он изумрудом смотрится, а при свечах – аметистом. А вот «голова мавра» – двуцветный турмалин. Дорогущая вещь, её одной про все наши заботы хватило бы. А мужик и впрямь дурной. Продал бы хоть десяток этих вот камней, палаты бы поставил двурядные, забор трёхаршинный, собак цепных завёл, сторожа-татарина, так мы с тобой к его дому и за версту подойти побоялись бы.
– Всё одно влезли бы… – не согласился ямщик. – Я бы влез.
– Ты бы нож из огня вынул, что ему зря калиться.
– Пусть. Я его и калёным зарежу.
– А что ж ты, – повернулся главарь к Матвею, – нас о милости не просишь? Глядишь, мы бы и тебя живым оставили, и камушки вернули…
Матвей молчал.
– Гордый, – сообщил Родька, – не хочет нас жалобами потешить. А может – скрывает что. Надо бы его покрепче пощупать.
– Слышишь? – хохотнул купец. – Ножик-то в самую пору разогрелся, а приятеля моего хлебом не корми, дай живого человека примучить. Ну, так скажешь, есть у тебя ещё что?
Матвей молчал.
– Сомлел, видать. А ежели не сомлел, то рассуди сам: живым мы тебя всё равно не отпустим, нам такой свидетель ни к чему. И дом твой перед уходом подпалим. Если осталась где ухоронка, то камни в пожаре цвет потерять могут. Говорят, иные от сильного жара блекнут, а то и вовсе рассыпаются. Я же знаю, тебе камней жальче, чем себя самого, так что не таись.
Матвей молчал, только губы тряслись.
– Боится, – заключил ямщик. – Надо попытать.
– Да оставь ты его, – отмахнулся купец, потеряв к Матвею всякий интерес. – Это он отходить начинает с горя. Нет у него больше ничегошеньки, укладка-то не полна была, значит, в других местах не спрятано. Пущай сам помирает, ежели успеет. Тебе человека зарезать что муху прихлопнуть, а мне лишний грех на душу брать неохота. Давай собираться. Эх, самоцветы с пуговичным товаром помешались! Хотя пусть их, вали кулём, там разберём.
Купец начал горстями сгребать камни обратно в укладку, но вдруг остановился, выудив из кучи хрустального змейку.
– Родя, гляди, какая чудовина!
Ямщик, отошедший было к печи за ножом, вернулся, глянул через плечо.
– Это ж дешёвка, – пренебрежительно заметил он. – Простой хрусталь, без грани. Самородочки выковырять, так и вовсе выбросить можно. Видать, из пуговичного товара завалилась.
– Дураком ты, Родька, родился, дураком и помрёшь. Это ж игра натуры, цена ей не за материал, а за редкость. В столице, в горном музее, за такое пятьсот рублей отвалят, а то и всю тысячу. Вишь, змеюка какая, горой резана, рекой шлифована, человечья рука к ней не прикасалась, а всё как у настоящей: и чешуйки по спине, и пасть змеиная… У, гада ядовитая! – мясистый купеческий палец ткнул каменного змейку в словно нарочно приоткрытую пасть.
На мгновение рубиново блеснули зажмуренные глаза, кварцевые зубы сомкнулись на указующем персте, заставив купчину кричать. Отброшенный змейко со звоном ударился об пол, изогнулся упругой пружиной, готовый вновь напасть.
Купец кричал, тряся обожжённой кистью с почернелым пальцем. Чернота расплывалась по руке, стремясь к сердцу. Ошалелые глаза выпучились, лицо посерело, купчина повалился на пол и перестал дышать.
Второй разбойник, злобно хрипя, переводил схваченное ружьё с Матвея на змейку, а свободной рукой спешно сгребал самоцветы в сундучок. Это его и сгубило – несподручно стрелять, зажав ружьё под мышкой. Змейко безо всякого предупреждения метнулся в воздух и впился ямщику в самое горло, под спутанный клок бороды. Не хуже калёного ножа вонзился… Грабитель повалился, не успев крикнуть. Жаканы из двух стволов ушли в потолок.
Окровавленный змейко выполз на свет, завозился, обтираясь об одежду убитого, потом вполз на колени Матвею, заскрёб зубами по кандальному железу. Серые опилки посыпались вниз. Матвей ждал спокойно, словно и не с ним творилось этакое. Стряхнул разгрызенные наручники, бесстрашно подставил ладонь кристальному спасителю. Змейко свернулся прежним клубком и замер. Рубиновые глазки закрылись.
Змейку Матвей прибрал за пазуху, к самому сердцу. Не разбирая, ссыпал раскиданные камушки по двум сундучкам, задвинул обратно под полати. Мёртвые тела вынес, уложил в сани. Неживой купец смотрел выпученными буркалами, словно напугать хотел. Каторжник щерился окровавленным ртом, даже в смерти не желая смириться.
Матвей впряг коня, которого сам же, встречая дорогих гостей, поставил в пустующем дворе. Хоть и холодно, а всё под крышей, и сеном прошлогодним похрустеть можно. Косматый конёк храпел, чуя мертвецов, шарахался. Тварь невинная, а что делать, ежели и он в разбойном промысле замешан?
В те же сани Матвей кинул разряженное ружьё и сквозь вечернюю тьму погнал коня к заброшенным шахтам. Пустая гора хоть и называлась Пустой, но шурфов на ней набито немало. Не могли люди смириться, что гора есть, а копать в ней нечего. Выбирали по разным приметам местечко поудачливее и долбили шахту. Иная на двадцать саженей углублена, а ничего стоящего не нашли.
У одной из земных дыр Матвей остановил коня. Разжёг масляную горную лампу, посветил в тёмный провал, потом одно за другим свалил туда оба тела. Два хряских удара донеслись снизу, и всё стихло. Следом Матвей отправил разряженное ружьё. Стегнул буланку: беги, бедолага, авось сподобит счастливый случай дойти к людям, минуя волчьи зубы.
Смолк спорый топот и скрип лёгких санок по рыхлому, но ещё неглубокому снегу. Тишина наступила, так что слышно, как кровь в ушах стучит. А в шахте и того тише, беззвучно сочится со стен незамерзающая вода, омывает мёртвые тела. Охолоните, гости дорогие, поуспокойтесь… Полежите нетленными мощами. Время пройдёт, окремнеет плоть, обратится дорогим опаловым жиразолем, тогда и вы на дело сгодитесь. А покуда прикрыть надо неотпетую могилу от срама.
Жалея, что рано сбросил в шурф ружьё, Матвей вырубил приличную жердину, упёрся, собираясь скинуть вниз пару обломков, которыми земля кругом была богато усеяна. Поднатужившись, сдвинул угловатую, необвалянную каменюку и остановился, приглядываясь. Даже сейчас не мог не остановиться, увидав дельное каменье. Под бросовым обломком лежал кусок ценной породы – чёрного гематита. Вообще-то гематит – просто руда железная, его тысячами пудов ломают, но порой встречаются плотные места густо-чёрного цвета, из которого каменильщики режут всякие поделки – печатки, тёмные вдовьи бусы, броши, чётки и прочую мелочь под цвет траурного наряда. А если такой камень в пыль истереть, то обнаружится в нём густо-красный цвет, за что гематит кличут в народе кровавиком. Невелика ценность, пуговичный товар, но если заметит кто вольно лежащую глыбку, то могут и заброшенную шахту оживить, и тогда первым делом сыщутся купец со своим подельщиком.
До дому такую находку в охапке не донесёшь, лошадь с санями в вечернем сумраке сгинула, а возвращаться на худое место на другой день никакой охоты нет. Значит, и кровавику место в кровавой яме. Лишь бы находка не слишком велика оказалась… наружу-то немного торчит: ни дать ни взять шапка, бурлацкий шпилёк.
Матвей упёрся вагой, гематитовая шапка легко сдёрнулась с места, и под ней обнаружилось человеческое лицо, тоже резанное из морщинистого камня. Тяжёлые веки приподнялись, пронзительные глаза глянули на Матвея. Скриплый голос произнёс:
– Здравствуй, Матвей-старатель. С чем пожаловал?
Матвейка свою шапчонку стащил, отбил поклон.
– Прости, хозяин… Не знал я, что ты тут сидишь. Шапку с тебя скинул, дом мертвечиной осквернил…
– Какой это дом, это яма выгребная. Недругам твоим в ней самое место. А дом… пошли, покажу тебе мой дом.
Каменный старичок выбрался из расточины, сам ростом с аршин и поперёк аршин. Борода белая, что прядельный асбест. Полукафтанье мужицкое, а на ногах сапоги; по горам ходить лаптей не напасёшься. Вылез и пошёл вразвалку, не оборачиваясь, словно знал, что никуда Матвей не побежит. Да и куда бежать старателю от горного хозяина? Захочет, так сыщет, разве что в черносошные мужики податься. Но такая жизнь для старательской души что чистая вода для кабацкой глотки: люди пьют, а у него душа не принимает.
Пришли к тому месту, где голый кряж из земли выпирает. Тут старичок в гору вошёл, а Матвей за ним следом. А внизу гора и впрямь пустая, точь-в-точь как бабка Ненила сказывала. Речка Поднырка, что в гору уходит, здесь вольно течёт, ветерок гуляет, и только что деревья не цветут. Зато камение самое разное, и всё цветное: лунный селенит, мясная яшма, полосатый яспис, розовый орлец, из какого для царского дома вазы готовили.
Пришли в дом. У дома стен нет – зачем стены, когда под землёй сидишь? – а просто вроде горницы. Сверху свет льётся жемчужный, а откуда – не понять. Старичок на каменную лавку уселся, Матвею место рядом указал. Матвейка присел с краешку, и вдруг открылась его глазам вся гора сразу, как она изнутри есть. Все богатые залы, все кладовки-занорыши, все скарны и россыпи. Вовсе неведомые тайнички узрел Матвей, и недоступные глубины, и те места, по которым ему промышлять доводилось, откуда, бывало, приносил домой редкостный кристаллик. И от той небывалой земной красы захватило у Матвея дух, захотелось разом петь и плакать.
– Что скажешь, рудознатец? – спросил гном.
– Стыдно мне, батюшка, – признался Матвей. – Я-то себя собирателем земных богатств полагал, а выходит, жил вроде мыши в чужой кладовой. Та тоже по зёрнышку из амбара в норку таскает и оттого себя рачительной хозяйкой мнит.
– Ладно, ладно… – остановил Матвея гном. – Я вот об ином с тобой говорить хотел. Мы, гномы, долго на свете живём, а всё одно не вечны. Состарился я, помощник мне нужен. А лучше тебя – никого нет. И змейко тебя признал, из моих россыпей в твою укладку уполз.
Каменная зверушка завозилась у Матвея за пазухой, выползла на свет, перетекла с Матвеевых колен на плечо горному старичку, ткнулась головкой в ладонь.
– Да не обижаюсь я, – успокоил гном встревоженного змейку. – Я же понимаю, ты тоже хотел посмотреть, что за человек наверху объявился, который по нашим кладовым как у себя дома гуляет. И кабы не пришёлся старатель тебе по душе, то лежать бы ему сейчас вместе с гостями своими.
– По незнанию я, батюшка, камни к себе тащил… – взмолился было Матвей, а потом глянул вновь с чудесной скамьи на подгорную казну и разом понял, что делать надлежит.
Гора послушно расступилась перед Матвеем, выпустив его в ночь. В полчаса Матвей к избе поспел, вздул светец, начал собираться. Обе укладки с натасканными камнями в короб устроил, взвалил на спину и поспешил к Пустой горе.
В темноте едва дошёл, однако место сыскал безошибочно. Постучал, боясь, что не разомкнётся камень, однако пустили и обратно.
– Вот! – сказал Матвей, поставив веский короб перед подгорным хозяином. – Всё назад принёс, до последнего самоцветика. Об одном прошу: дозволь хоть изредка приходить, хоть краем глаза на горную казну любоваться…
Готов был к любому ответу, но не получил никакого. А взглянув в лицо каменному старику, понял, что опоздал со своим покаянием. Уже не морщины, а трещины прорезали лицо, и камень был просто камнем.
Змейко плакал, роняя алмазные слёзы.
Целый час Матвей со снятой шапкой простоял возле скамьи. Потом раскрыл укладку, достал принесённые камни, начал раскладывать их по тем местам, откуда взяты. Тем, что из иных гор добыты, новое место находил.
Есть у старух верное слово: «кладовать». Значит оно – не сунуть куда попадя, а положить с пониманием, там, где оно всегда будет. До самого утра кладовал Матвей камни. Потом вернулся в залу, присел на скамью рядом с окаменевшим гномом, окинул всё хозяйство рачительным взором. Хорошо получилось, стройно…
Сверху стук донёсся: старатели шурф бьют, никак успокоиться не могут. Матвей прислушался… нет, не там работу начали, пустую породу долбят и никуда не дороются. Успокоенно откинулся на полированную спинку, закрыл глаза отяжелевшими веками. Змейко вполз на колени, лизнул руку хрустальным язычком.
Единая пядь
– Ну, давай, милая, ну… ты же можешь, ну…
Чёлка скосила блестящий глаз, отороченный густой щёткой коротких ресниц, переступила с ноги на ногу, но не двинулась с места.
– Ну что ты, родная, нам немножко осталось, там и отдохнёшь… Ну!
Постромками Микола ободряюще похлопал лошадь по потному боку, на миг выпустив рукоять плуга. Оно, впрочем, и не страшно, нрав у кобылки не вздорный, это жеребец может рвануть дуриком, завалив плужок на сторону и заставив гнаться за собой через всю полосу, а потом вновь заводить в борозду. Чёлка не такая, она сперва вздохнёт, напряжётся и уж потом дёрнет.
– Ну, хорошая…
Чёлка вздохнула, ощутимо напряглась, позволяя ловчей ухватиться за ручки, потом рванула. Сошник разом ушёл в землю, сырой пласт, рассыпаясь на комья, отваливался набок.
– Но!!! – завопил Микола, наваливаясь на рукояти. – Тяни, проклятущая! Но! Пошла, волчья сыть!
С хрипом и воплем, на разрыв жилы они сделали один проход, второй и третий. Микола подбадривал Чёлку площадной бранью, честил, как только муж гулящую жену величает, а Чёлка, тяжело ступая, тянула и тянула плуг и, кажется, тоже стонала самым нутром. Недаром слово «орать» значит и пашенку поднимать, и на крик исходить. Попробуй этак-то усилься молча: пуп разошьётся – и всех делов.
В конце третьего прохода Чёлка снова встала, крупно вздрагивая взмыленными боками.
– Всё, всё, – грубовато успокоил лошадь Микола, – порешили на сегодня. Видишь, как ладно обрядились, – завтра уже пахать не нужно: оборали полосу, с утра боронить станем, оно полегче… Да стой ты, шальная!
Чёлка и не думала шалить, понуро стояла, ожидая, пока хозяин освободит её от ярма. Микола повалил плуг набок, оббил с сошника приставшую землю.
– Но! Домой пойдём.
Чёлка легко сдвинула лежащий плуг, мотая головой, пошла к знакомой тропе. Микола поспешал следом, жалея, что не оставил на вечер горбушки с солью: лошадь наградить и себя побаловать. Ничего, дома сыщется…
При выезде на дорогу придержал кобылу. Дорогой шли солдаты. Ходко шли, справно: фузеи начищены, пороховницы наполнены, ремни набелены, усы нафабрены.
– Далече ли собрались, служивые?
– А к Крайнему Рубежу. Там опять нелюдь объявилась: челубеки четверорукие. Двумя руками народ побивают, двумя – пограбливают. Помощь нужна рубежным заставам.
– Ничо, отобьётесь. И прежде вы нелюдь бивали, и ныне погоните.
– А то пошли с нами, старинушка, нелюдь бить! – крикнул молодой солдатик.
– Как-нибудь без меня справляйтесь, – сурово ответил Микола, поворачивая к хате. – У вас своя служба, у меня – своя.
* * *
Боронить да сеять – работа весёлая. Борона, слаженная из пяти сучкастых стволов, землю захватывает широко, но тащить её не в пример легче, чем плуг или даже сошку. Потом Чёлке отдых – попастись на сладком луговом клевере, а сам Микола, отмерив в берестянку зерна, идёт сеять. Шагает неспешно, под каждый шаг – взмах руки. Тут своя наука, чтобы нигде не было густо, нигде – пусто. Следом – вновь пройтись бороною, приборонить посеянное, а то налетит вороньё и пограбит непохороненное зерно не хуже четвероруких челубеков.
Работа весёлая, но тоже не из простых, к концу трудов от бороны одно поименование остаётся, хоть в ельник иди за новыми деревами, хоть в рощу поспешай к кустам жимолости, из чьей вязкой древесины режут вставные зубья для борон и граблей.
Поломанную борону Микола бросил на меже. Будет досуг – починит, не будет – к осенней пахоте новую смастерит.
Ночью за горизонтом посверкивало и не тихой зарницей, а кровавым огнистым заревом. Микола выходил на крыльцо, смотрел, вздыхал. А с утра не до охов, иных забот довлело. Летний день для того и долог, что дела много. С затемна и дотемна в поле, но всех трудов не перестрадаешь. Коси коса, пока роса. Роса долой, а мы не домой, мы за грабли… Вчерашние копёнки разбить, сено разворошить, чтобы сохло, покуда вёдро. Высохшее – на волокуше к одинокому стожару, стог метать.
Большаком рать идёт. Не солдатские баталии – ополчение. С посадов мастеровой люд, с деревень – чёрные мужики. И амуниция поплоше, и ружьё со всячиной.
– Эй, мужичок, собирайся! Не время сейчас за стогом прятаться, твоим вилам иное дело есть. На Крайнем Рубеже война гремит, видимо-невидимо нелюди привалило. Челубеки себе в помощь всякую погань пригнали: змея ползучего да змея летучего. Огнём палят, ядом прыщут. Сегодня срок пришёл землю не боронить, а оборонять.
Микола оставил вилы, смахнул со лба выпотную соль:
– Эвон вас сколько! Поди, и без меня управитесь. А мне и тут трудов не переделать. У вас своя служба, у меня своя.
* * *
Смирная Чёлка, понурив голову, стояла у опушки, хрумкала первым грибом. Вот и колосовики пошли, и кукушки давненько не слыхать. Значит, озими в колос вышли. Опять же, сенокосу конец, до самого леса всё выкошено и по полянам пройдено. А отаву подкашивать ещё не скоро.
Микола стреножил Чёлку, хлопнул по впалому боку. Иди, отъедайся, скоро тебе опять дело сыщется. Лошадь ушла к кустам, где трава посочней и не так донимает кусачий зуд. А Микола с серпом в руке двинул к дальней полосе, где давно уж выколосились озимые. Серп ещё с зимы зазубрен да оттянут, только что сам не жнёт.
Рожь стояла высоченная. Веский колос, словно из золота отлитый, изгибался к земле, готовый пролить созревшие зёрна. В самую пору с сенокосом обрядился, жать пора.
Первую пясть скрутил в жгут, венцом повязал вокруг головы. Вторую – тоже в жгут и на землю бросил. А уж потом пошёл жать безостанно. Набирал полную пясть стеблей, единым движением подрезал их всех высоконько над землёй, чтобы травяная мелочь в сноп не попала, и кидал поперёк жгута. Как набиралось полное бремя, обвязывал жгутом и ставил готовый сноп на попа. Кругом устанавливал ещё десять снопов, а двенадцатый сверху, прикрыть братьев от росы и случайного дождика. Дюжина снопов – скирда, или купа. Сто куп сожнёшь, тут и дню конец. А каково после такого дня спину распрямлять, знает тот, кто сам жанывал.
Косой, конечно, скорей рожь повалить, да потом замаешься сорную траву из хлеба выбирать. И без того васильки да колючие чертополохи под руку лезут. Хороши васильки во ржи, да плохи в снопе.
С дороги плывёт тележный скрип: едет большой обоз. Бабы-маркитантки да шинкарки – солдат кормить-поить, милосердные сёстры – пораненных лечить, прачки – обстирать да обшить служивых, а следом – просто веселухи, которым работа ночью. А куда деться? – без этого дела и воевать скучно.
– Гляньте, девки, мужик бабьим делом мается! Эй, жнец, не стыдно за чужими спинами хорониться? Воевать побоялся – с нами иди, найдём тебе работу кухонным мужиком! На Крайнем Рубеже тяготно, объявилась средь нелюди тёмная Могула. Вползает к войску туманом, слабит силы, насылает лихорадку да лихоманку, душу блазнит и голову мутит. Одним мужикам супротив Могулы не выстоять, так и мы на войну пошли. Только ты засел, что гнилой пень в чаще! Собирайся живой ногой!
Микола венок снял, на сноп нацепил. Сверху серп пристроил.
– Езжайте, бабоньки, езжайте… У вас своя служба, у меня своя.
* * *
Зарево над Крайним Рубежом такое, что днём видать. Только Миколе недосуг впустую глаза лупить. Хлеб на току просох, сам из колоса сыплется. Снопы Микола уложил в ряд, взялся за цеп. С глухим «шурх!» упал первый удар. Рукоять цепа лёгкая, осиновая, а било дубовое, для вескости. Такую работу втроём удобно справлять: двое бьют, а третий, слабомощный, снопы подаёт да под ударами поворачивает. А тут одному приходится: и вилами, и билами – пособить некому, весь народ на Крайнем Рубеже стоит.
Широкой деревянной лопатой Микола отгрёб в сторону выбитое зерно. Задует ветер, тогда хлеб можно будет провеять и ссыпать в сусек. А пока пусть ждёт. Коли завтра с утра ветра не станет, надо будет запрягать Чёлку и перепахивать под пар дальний клин. Ничо, управится лошадушка, сенокос да жатва для лошади время праздное, отдохнула Чёлка, раздобрела, силой налилась.
Микола отряхнул с одежды мякинную труху, охлопав себя ладонями. Ладони словно две выглаженные временем доски, затвердели пластами тяжёлых мозолей. Прибрал цеп, вилы и лопату, вышел из-под навеса. Прислушался. Со стороны большака слышался конский топот.
Конь был хорош, буланой, не чета сивой Чёлке. И всадник сидел на нём крепко, по всему видать – гонец, привыкший к долгой скачке. А скачка была долгой, о чём говорила густая дорожная пыль, покрывавшая и коня, и седока.
Всадник спешился, попросил напиться. Микола вынес ковшик ключевой воды. Подождал вежливо, а принимая пустую посудину, спросил:
– Издалёка?
– Да уж не из близка, – одышливо ответил гонец. – Всю землю обскакал. Тяжко на Крайнем Рубеже, мочи нет стоять. Объявился у нелюди чародей и некроман Байстрюк Бабаевич. Всех челубеков побитых поднял, змей порубленных оживил. Теперь каждую нелюдь дважды убивать приходится. Предел людям пришёл. Меня за подмогой послали, а подмоги и нет. Во всех городах побывал, все посады объездил, в каждую деревеньку заглянул – никого народу не осталось. Одни калечные да увечные, детишки малые да старушки-задворенки. Хорошо хоть тебя встретил, всё не один вернусь. Собирайся, мужик, на брань пора.
Микола слушал набычась. Потом упрямо проговорил:
– Сошку, значит, под ракитовый куст, как в былинах-небывальщинах… А кормиться чем? Я тебе так скажу: когда на засеках густо, то в сусеках пусто. Извиняй, мил человек, но у тебя своя служба, у меня – своя.
– Вижу я, что ты не с безделья пухнешь, а весь в трудах, – согласился гонец, – только сегодня иное дело важнее.
– Нет дела важнее, чем землю пахать. Ты воевал, а я хлеб добывал, – кто из нас нужнее? Жать да родить нельзя погодить.
– Войне тоже годить не прикажешь. А ты вот о чём подумай, мужик, – хутор твой совсем неподалёку от Крайнего Рубежа стоит, эвон, как зарево полыхает! А из всего народу один ты на войну не пошёл. Так теперь смекай: войско устало, подмоги нет… Прикажут генералы отступить на ближние рубежи к засечным борам, отдадим врагу малую пядь земли, зато нелюди там биться несподручно, там отстоимся. А тебе каково придётся? Ведь на той малой пяди твой хутор стоит. Дом твой челубеки пограбят, поля змеи поганые потравят, самого тебя злая Могула да чернокнижный Байстрюк так изурочат, что подумать страшно и глянуть тошно. Небось пожалеешь, что за чужой спиной отсидеться вздумал!
Микола колпак мял, словно не зная, что сказать. Потом спросил невпопад:
– Скажи-ка ты мне, гонец, всю ли ты землю оглядел? Не заплохел ли какой край, не похилился? Нет ли недороду, али падёж где начался?
– Всю как есть обскакал до последней заимки. Покуда враг не пришёл, цветёт земля, как и прежде цвела. Нивы распаханы, луга покошены, скот плодится, в садах яблоки наливаются, и закрома всюду полны.
– А теперь раскинь, по силам ли всё это справить увечным калекам, малым детишкам да старушкам-задворенкам? Ведь все на войну ушли, один я землю пашу, одним мной мир держится. Так что ступай, гонец, и скажи воеводам, генералам и всему войску, что я свою службу несу, а они пусть свою знают. Чтобы стояли на Крайнем Рубеже крепко и об отходе не думали. Потому что если отдадут супостату единую пядь земли – мой малый хуторок, так им всем и возвращаться будет некуда.
Драконы Полуночных гор
Среди всех городских пивнушек «Пятиголовый Хаб» считался самой приличной. Народ здесь собирался грубый, но честный, а разбавлять пиво старый Хаб считал ниже своего достоинства. Драки тоже случались редко, поскольку именно в заведение к Пятиголовому Хабу приходил по вечерам пить пиво Онеро.
Сам Хаб давно смирился со своим прозвищем и даже гордился им наравне с неразбавленным пивом и чинным поведением девушек-подавальщиц. Когда-то над входом в пивную красовалась вывеска c изображением пивной кружки, рядом с которой примостился дракон. Дракон получился маленький, с кружку размером, и больше всего походил на ощипанного пятиголового цыплёнка. По задумке, пивная должна была называться «Пятиглавый дракон», однако народ немедленно окрестил Пятиголовым Хабом и саму пивнушку, и её хозяина.
Теперь Хаб уже не пытался бороться с судьбой и даже извлекал из случившегося прибыль. Вывеска с пятиглавым курчонком, поначалу снятая, была восстановлена и регулярно подновлялась, а за не слишком большую цену всякий желающий мог заказать фирменное блюдо: жареного цыплёнка, которому искусство повара приставило ещё четыре курячих головы. Появление этого блюда обычно сопровождалось восторженными криками, а гордый собой клиент, вооружившись ножом, старался снести все головы одним махом.
Онеро в подобных развлечениях участия не принимал. Он сидел за отдельным столиком в углу, прихлёбывал своё пиво и, выпив за вечер три кружки, расплачивался и шёл домой. Онеро пил только светлое пиво и всегда выпивал три кружки. Такое постоянство вызывало уважение даже у тех, кто считал светлое пиво напитком, недостойным мужчины. К тому же речь шла не о ком-нибудь, а о самом знаменитом человеке города. Любой горожанин и всякий приезжий знали, кто такой Онеро, и посему даже в отсутствие знаменитости старались в заведении не буянить. Сам Онеро, казалось, не замечал ни любопытных взглядов приезжих, ни шепотка за спиной. Он молча пил пиво. Завсегдатаи привычно не обращали внимания на молчаливую фигуру за крайним столиком.
Порой на улице к Онеро подходили мальчишки, что-то спрашивали. Онеро отвечал, и мальчишки отходили гордые. Случалось, что и в пивной к Онеро подсаживались люди. Обычно это были приезжие из дальних городов, а то и вовсе из других стран – слава Онеро гремела по всему миру. С этими Онеро подолгу разговаривал, кивал, расспрашивал. Некоторых приглашал к себе домой. Тогда в городе знали, что угловой столик в «Пятиголовом Хабе» скоро опустеет. Онеро соберётся и уедет, на месяц, два, а то и на полгода. Потом он вернётся, а следом на крестьянских телегах будут везти трофеи. Онеро не скрывал результатов своих поездок, и всему городу было о чём поговорить.
Вечер только начинался, и перед Онеро стояла первая кружка, увенчанная шапкой белой пены. Народу в зале покуда было немного, всяк находился на виду, и на вошедшего многие обратили внимание, хотя ничем особым он не выделялся. Мужчина в годах, но ещё не старый, несмотря на бороду с проседью и лицо в морщинах. Одет вошедший в некрашеный дорожный плащ и грубые сапоги. И плащ, и сапоги, и шапка с наушниками, которую человек стащил с головы, входя под крышу, и особенно вычурная можжевеловая палка, всё было покрыто пылью и указывало путника, пришедшего издалека. Вот только за спиной у странного посетителя не было мешка, а в руках даже самой завалящей сумчонки.
Мужчина окинул зал цепким взглядом и, без колебаний выделив крайний столик, подошёл к Онеро.
– Я могу здесь сесть?
Онеро кивнул, не поднимая глаз от тарелки с обжаренным в масле горохом. Незнакомец сел напротив, прислонив палку к стене. Потом сказал:
– Меня зовут Манган. Манган из Манганеи.
Онеро подцепил оловянной ложкой три жёлтых, покрытых хрустящей корочкой горошины, отправил их в рот, затем поднял глаза на собеседника.
– Здравствуйте, Манган из Манганеи. Меня зовут Онеро, а родом я отсюда.
Кучерявая Нистра подошла к столику, поставила перед путником кружку с таким же светлым пивом, что и у Онеро. Спросила с привычной улыбкой:
– Что сударь желает к пиву? Есть раки, вяленая и провесная рыба, мочёная брусника, горох двух видов, солёные сушки, гренки…
– Гренки, пожалуйста, – быстро сказал Манган.
– Гренки можно подать простые, с маслом, с чесноком, сыром…
Гость кротко глянул на Нистру, и девушка, подавившись заготовленной тирадой, поспешно отошла.
– Вы не слышали прежде моего имени? – спросил Манган.
– Нет, – Онеро покачал головой. – Я живу затворником.
– Я тоже, – Манган приподнял кружку, омочив усы в густой пене. – Но о вас я слышал. Вообще-то я волшебник.
– Я это заметил.
– И как же?
– Только волшебники пускаются в дальнюю дорогу, не взяв ничего, кроме палки.
– Забавное наблюдение. Я действительно не люблю таскать с собой ненужные вещи.
– И что же заставило мага и домоседа Мангана изменить привычкам и тащиться в такую даль?
Волшебник помолчал, собираясь с мыслями, затем произнёс:
– Скажите, Онеро, вы не замечаете, что последние годы в мире творится нечто странное?
– Странное в мире творится ровно столько, сколько я себя помню.
– Однако последние годы силы зла вновь подняли голову. Чёрная магия возросла и встречается теперь повсюду.
– Простите меня за невежество, мудрый Манган, но я ни разу не встречался с силами зла и не верю в магию, будь она чёрной, белой или оранжевой.
Волшебник подавился пивом.
– Помилуйте! – вскричал он, прокашлявшись. – И это говорите вы? Тот человек, что убил две дюжины драконов?
– Пятнадцать. Я убил ровным счётом пятнадцать драконов.
– И после этого вы говорите, что не существует магии тёмных сил?
– Вот именно, – Онеро зацепил полную ложку хорошо прожаренного гороха, задумчиво пережевал его, запил пивом. Потом проговорил, как бы заканчивая мысль: – Честно говоря, в магию светлых сил я верю ещё меньше. Сила – это не забор, её нельзя покрасить. Она просто есть. Одни считают её доброй, другие злой, но от мнения людей ничего не меняется. А магия?.. Мне ни разу не приходилось с ней сталкиваться. Фокусы, ловкий обман – это сколько угодно. А в магию – не верю.
– Убивая драконов, вы ни разу не встречались с магией?
– Ни полраза. Дракон это просто зверь. Редкий, опасный, весьма неприятный, если общаться с ним на близком расстоянии. Но ничего волшебного я в них не видел. Впрочем, мы ещё успеем обсудить этот вопрос, а пока вы хотели поведать мне что-то по поводу напастей, угрожающих населённым землям.
– Да, конечно. Это важнее, нежели самый утончённый спор. Но на время моего рассказа вам придётся принять на веру, что магия всё же существует. Поймите, я много лет занимаюсь этим вопросом и достиг немалых успехов в своём деле. Так вот, уверяю вас, что колдовство не только существует, но и бывает изначально злым. Я имею в виду не деревенских колдунов – грубых и неотёсанных, словно окружающие их мужики, я говорю о высочайшей магии, доступной немногим. Именно эта магия вызывает смерчи и ураганы, она провоцирует войны, рождает эпидемии. Драконы тоже насылаются этой злой волей. Более того, дракон есть высшее проявление злых сил, и я удивлён, что вам это не известно. Так вот, последние годы влияние магии, враждебной силам добра, небывало возросло. Положение не просто серьёзное, оно катастрофическое. За всем, что происходит в мире, отчётливо проглядывает рука тьмы…
– Особенно по утрам… – пробормотал Онеро, уткнувшись в тарелку с горохом.
– Что?.. – переспросил Манган и, не дожидаясь ответа, продолжил: – Так вот, мне удалось установить, где скрывается тот, чья воля творит зло на земле! Вы знаете такое место – Шиган?
– Если вы говорите о Шиганском хребте, то там не выживет даже самый злой колдун. Вам вообще доводилось бродить в тех краях? Лето там бывает только по названию, кругом голая тундра, людей почти нет. А горы ещё севернее, там вообще всё покрыто льдами. Я был однажды неподалёку, не в самих горах, но хребет уже маячил на горизонте. И я скажу прямо – скверное место. Если силы зла выбрали его для проживания, то они поступили хорошо, потому что там некому вредить.
– Но оттуда тьма расползается по всему миру.
– Разумеется, оттуда. Шиган – полуночные горы, откуда ещё приходить тьме? И я не вижу в этом ничего плохого. Скажу более того: ночь я люблю ничуть не меньше дня. Я вообще большой любитель поспать.
– Я имею в виду не темноту ночи, а тёмные силы. Именно оттуда разлетаются по миру драконы, неся смерть и разрушение…
– Послушайте, – перебил Онеро. – Вы хотя бы раз в жизни видели живого дракона? Или хотя бы бывали в тех краях, где водится дракон?
– Не довелось. Именно поэтому я пришёл к вам.
– Так вот, я как человек, повидавший немало драконов, скажу, что на месте сил зла я выбрал бы иной способ досадить людям. Средних размеров туча саранчи приносит куда больше неприятностей, чем самый разужасный дракон. Дракон – это просто хищный и тупой зверь, не более того.
– Тогда почему же вы убиваете драконов?
– Это моя работа. Таким способом я зарабатываю на жизнь. И неплохо зарабатываю, смею вас уверить. Дракон словно специально создан, чтобы приносить славу победителю. Он слишком эффектен, он весь как ненастоящий. Дракон – что-то вроде балаганного зазывалы или вывески над дверями этой таверны. Силы, которые действуют исподтишка, никогда не станут использовать дракона.
– И всё же я просил бы вас сопровождать меня во время путешествия в Шиган.
– Вряд ли это получится, во всяком случае – сейчас, – Онеро резким толчком отодвинул пустую кружку, и проворная Нистра немедленно поставила перед ним полную. – Может быть, вы слышали, в Нестеле объявился дракон. Ко мне уже присылали оттуда ходоков, но они предлагали за работу такие гроши, что я отказался.
– То есть вы делаете своё дело только за деньги? – с ужасом спросил Манган.
– Нет, конечно. Но Нестеле – богатый край, они могут заплатить как следует, вот и пусть раскошеливаются. Или пусть сами управляются со своим зверем, в конце концов, в городе стоит немалый гарнизон, которому ежедневно платят больше, чем они предлагали мне за всю работу.
– Жаль… – медленно протянул волшебник. – Я, честно говоря, очень рассчитывал на вас.
– Беда в том, – улыбнулся Онеро, – что я не верю в злые чары. И если вы не будете против, я бы показал вам кое-что, подтверждающее мои слова. Я имею в виду свои трофеи. Думаю, что вам это будет любопытно. Это не живой дракон, но всё-таки кое-что.
– В монастыре в Байо хранится высушенная лапа чудовища. С когтями и чешуёй. Я видел её и должен сказать, что от этой вещи до сих пор несёт чёрной магией. Словно ледяной сквозняк тянет через неплотно прикрытую дверь. Именно там я окончательно убедился, что драконы не просто магические существа, а порождения злых сил.
– В таком случае, в моём доме должен гулять не сквозняк, а настоящая пурга. Пятнадцать драконьих голов – это чуть больше, чем одна засушенная лапа.
– Вы держите головы убитых драконов дома?! – волшебник вскочил, плащ за спиной колыхнулся, словно крылья всполошённой птицы.
– А где же ещё? Дома, конечно. И каким бы холодом ни тянуло от этих голов, я ещё ни разу не простужался.
– И их можно видеть? – выдохнул Манган.
– Это я вам и предлагаю. Угодно – пойдём прямо сейчас.
– Да, конечно, – заторопился маг, – конечно! Подумать только – голова настоящего дракона! Я полагал, что вы сжигаете останки убитых чудовищ, чтобы они не заражали окрестности.
– Я так и делаю, – проговорил Онеро, вставая, – но головы я оставляю себе на память.
Он залпом допил вторую кружку, махнул рукой, останавливая услужливую Нистру, и двинулся к выходу. Маг расплатился за недопитое пиво и нетронутые гренки и поспешил следом.
На улице было ещё светло, усталое солнце висело над самыми крышами, готовясь нырнуть за край земли. «Пятиголовый Хаб» располагался на окраине, однако дом Онеро и вовсе стоял на особицу. Здесь уже не было мостовых, под ногами проминалась трава: персидская ромашка, муравка и вечные листья неистребимого подорожника. Онеро и взволнованный маг шли рядом. Затем хозяин спросил:
– Ну хорошо, предположим, в глубине Шиганских гор действительно прячется какой-то злодей. И как вы собираетесь с ним сражаться?
– Прежде всего, – нерешительно проговорил Манган, – я выясню, где именно он скрывается. Я изучу структуру магических потоков вокруг его замка и постараюсь их перекрыть…
– Вы так уверенно говорите о замке, будто уже побывали в Шигане. Только в рыцарских романах злодей обязательно живёт в замке. А если он поселился в пещере или просто спит на снегу? А если он не человек, а тот же дракон или исполненная злобы огненная гора? Или вовсе нечто такое, для чего в нашем языке нет слов?
– Это ничего не меняет, – терпеливо пояснил маг. – Достаточно направить стихии, которыми он повелевает, внутрь себя, и недруг падёт, сожжённый собственной мощью. Поверьте, этот вопрос мне хорошо известен. Пусть чёрный маг окажется стократ сильнее меня, он всё равно не сможет устоять. У слишком большой силы обязательно есть свои слабости, вам это должно быть известно, будь иначе, вы бы не смогли уничтожать драконов. Всемогущий чародей уязвим для того, кто подойдёт к нему вплотную. Именно поэтому величайшие из колдунов удалялись в пустыню и даже на три дня пути никому не позволяли приблизиться.
– Всё это крайне поучительно, – кивнул Онеро, – но я хотел бы знать, зачем вам нужен я. У вас замечательный план, вы уверены в успехе – ну так пойдите и убейте злодея!
– План хорош, но в нём есть один недостаток. Я не могу приблизиться к повелителю тёмных сил, ибо горные проходы охраняются драконами. И только вы можете справиться с ними.
– Та-ак!.. – серьёзно протянул Онеро. – Это уже любопытно. С чего вы взяли, будто там водятся драконы? Вам кто-то рассказывал о них? Вы были там? Видели хоть одного?
– Я был неподалёку, разговаривал с туземцами и слушал их рассказы. Я, наконец, подошёл довольно близко к горам, чтобы почувствовать пронзительную магию драконов, слабый отблеск которой впервые коснулся меня в монастыре Байо. Кто раз ощутил беспросветную силу дракона, тот не перепутает её ни с чем!
– Вы говорите очень поэтично, – согласился Онеро, – однако у меня всё ещё есть сомнения…
– Я даже знаю, в чём они заключаются. Вы хотите сказать, что не верите мне, потому что я не могу обнаружить останки драконов в вашем доме, хотя до этого хвастал, какое действие произвела на меня одна лишь высушенная лапа?
– Именно это я имел в виду, – признал Онеро.
– Так вот, вы живёте в том доме, что сейчас покажется из-за деревьев. Каменный двухэтажный дом со сланцевой крышей – я обратил на него внимание, ещё входя в город. Если бы я не различил магию дракона, то мог бы подумать, что в этом тихом доме засел злой колдун, такой мрак разливается окрест. Здесь всё пропахло драконами, и я сразу вспомнил о вас. Я даже пытался достучаться к вам, но какой-то прохожий сказал, что в этот час вы наверняка сидите в таверне. Как видите, я сумел определить, что этот дом имеет отношение к драконам. Но я и помыслить не мог, что вы осмелились держать голову дракона в доме, где вам приходится жить!
– Пятнадцать голов.
Манган застонал и схватился за собственную голову, словно опасался, что она вот-вот присоединится к ужасной коллекции.
– Послушайте, – вдруг спросил Онеро. – А вам не пришла мысль, что в доме действительно засел злой колдун, который отпугивает прохожих волшебников тенью дракона?
– Нет. Магию дракона невозможно подделать. К тому же я разговариваю с вами уже долго и вижу, что в вас нет ни единой капли нематериальных энергий. Я представить себе не мог, что на свете существуют столь прозаические люди. Должно быть, поэтому вредоносная сила драконов и не действует на вас.
Онеро поднялся на крыльцо дома, крытого чёрным природным шифером, достал с пояса связку ключей.
– Прозаический человек… – задумчиво повторил он. – Это вы хорошо сказали. Жаль, никто в городе не поверит вам. Они считают меня героем. Но вам я покажу правду. Заходите.
Тяжёлая дверь отворилась. Манган вскрикнул и попятился. Со стены обширной прихожей щерилась чудовищная морда. Голова дракона словно нависала над входящим в дом. Она была по меньшей мере вдесятеро крупнее головы самого большого быка. Её украшали три пары вычурных рогов. Седьмой рог, прямой и острый, торчал на переносице между глаз, заменённых рубиновыми стекляшками. Жёлтые изогнутые зубы были оскалены, один клык – сломан.
Онеро стоял в дверях, любуясь произведённым эффектом.
– Ну и как он вам? – спросил он наконец.
– Потрясающе, – ошарашенно пробормотал Манган. – Я не думал, что они бывают такие огромные. И сила… какая страшная мощь исходит от него даже сейчас.
Манган осторожно приблизился к голове. Шепча заклинания, сделал несколько пассов.
– Это самый большой, – пояснил Онеро. – Я взял его в Дунласе. Это оказалось совсем не сложно, зверь был стар и страдал всеми мыслимыми болезнями. Самое трудное было очистить шкуру от паразитов. Клопы и вши покрывали его сплошняком. Вся башка была в язвах. Мне пришлось повесить её сюда, потому что здесь полутьма и не так заметно, что голова изъедена червями. Если бы я не убил этого зверя, он бы сам издох через пару месяцев. Но я успел расправиться с ним, покуда он ещё ползал, и получил от благодарных горожан двенадцать тысяч червонцев.
– Я слышал, что против Дунласского чудовища выезжало немало рыцарей и все были сокрушены его убийственной мощью, – осторожно напомнил Манган.
– Вот именно, что выезжали. Выезжать на коне против дракона может лишь идиот или самоубийца. При этом приходится иметь дело не только со зверем, но и со взбесившимся от страха конём. А я пятнадцать раз выходил против дракона пешком и пятнадцать раз оставался победителем. А впрочем, чего тут стоять, пойдём наверх.
Они поднялись в большой зал на втором этаже. На этот раз Манган уже знал, чего ожидать, но всё же не осмелился сразу войти в помещение. На каждой стене были прибиты по три уродливых головы, изукрашенных рогами, гребнями, вершковыми зубами. Один дракон был вовсе беззубым, вместо пасти у него топорщились костяные жвалы, способные в щепу размолоть древко копья. Чудовища были раскрашены в самые неожиданные цвета: алые пятна по голубому фону сменялись чёрно-белой зеброй, брусничные брызги рдели на зелёном, одна из голов, казалось, наливается апоплексической синевой, а рядом мерцала выпуклыми искристыми глазами безмятежно-розовая голова.
– Как вам моя коллекция? – с нескрываемой гордостью спросил Онеро.
Манган кружил по залу, переходя от одной головы к другой, всплескивал руками, шептал заклятья вперемешку с восхищёнными охами.
– Одного не могу понять, – наконец признал он, – почему вы до сих пор живы? Эти останки создают здесь столь глубокую область негативной энергии, что мне приходится напрягать сейчас все свои силы, чтобы уберечь себя и вас от вредного воздействия драконьей магии. К тому же, обратите внимание: здесь ровно двенадцать голов, и они расположены кругом! Любой чёрный маг душу отдаст ради того, чтобы иметь столь мощный магический круг!
– Квадрат.
– Что?
– Я говорю, что зал квадратный и головы расположены квадратом. Должно быть, я жив до сих пор благодаря этой случайности.
– И вы ещё можете шутить! – вскричал маг. – Хорошо, что они смотрят вниз, будь иначе, через комнату было бы невозможно пройти, даже мёртвая магия оказалась бы слишком сильна! Скажите, ну зачем вам вздумалось собирать вместе именно двенадцать голов?
– Больше на стены не лезет, – признался Онеро, – можно, конечно, вешать их в два ряда, но тогда не хватит голов. Ну, вы сами видели, одна висит в прихожей, двенадцать здесь, одна в кабинете и одна на чердаке. Это самая свежая голова, и от неё ещё попахивает драконом. Скверный запах, к вашему сведению. Когда я убил вот этого полосатого красавца, местные мужики предложили мне в уплату половину своих стад. Больше у них просто ничего не было. Представляете, как бы я перегонял домой всех этих баранов? Пришлось удовольствоваться всего одним барашком, которого мне зажарили благодарные хозяйки. Да и этого я вечером выбросил. После того как туша пролежала день в одной телеге с драконьей головой, её не стали жрать даже собаки. Но я всё равно доволен – вы когда-нибудь видели полосатого дракона? А у меня он есть.
– Кстати, – Манган сделал широкий жест рукой, – вы говорите, что это просто звери, однако, посудите сами, бывает ли среди зверей такое разнообразие? Только опытные охотники умеют отличить одного волка от другого, а среди драконов невозможно найти двух одинаковых. Вот у этого есть уши, у единственного среди всех, у этого – крошечные глазки, а у его соседа – буркалы величиной с тарелку. А крылья?.. Скажите, у них были крылья?
– У некоторых были. Но летал только один – вот этот, который с ушами. Да и то не летал, а перепархивал с места на место, помогая себе крыльями. За то и поплатился. Я взял его на рогатину, как медведя, а он, разогнавшись, не сумел уклониться. А что касается их разнообразия, то я же не утверждал, что все эти существа – родные братья. Покажите неопытному человеку жирафа и, скажем, морскую касатку – он не сумеет найти у них ничего общего. А между тем и тот и другой кормят детёнышей молоком и, значит, состоят в близком родстве. А взгляните на собак! Комнатная левретка ничуть не напоминает добермана или бультерьера, мастерство собаководов сотворило с ними злое чудо. Возможно, и с драконами дело обстоит так же. Это решать не мне, а вам, учёным людям. Впрочем, для чего мы тут стоим, вы же говорите – вредно. Я предлагаю перейти в кабинет, там всего одна голова. Яично-жёлтый дракон. Но, когда я набиваю себе цену перед богатыми заказчиками, я величаю его золотым.
Они прошли в соседнюю комнату, которую меньше всего хотелось бы назвать кабинетом, хотя здесь имелся стол и пара шкафов с книгами. Однако больше всего было оружия. Мечи и топоры, копья, тяжёлые самострелы, причудливые лезвия, заточки, гарпуны… железо всех видов и форм. Над столом была приколочена не слишком большая голова жёлтого дракона. Из отороченной жёсткими усами пасти высовывалось длинное костяное остриё, напоминающее рыбацкую острогу.
– У вас тут целый арсенал, – уважительно проговорил Манган. – Зачем вам столько разного оружия?
– А вы думали, я выхожу на бой с верным мечом в руках? Так поступают болваны, идущие зверю на корм. Большинство этих тварей невозможно взять мечом – слишком много костяных бляшек, гребней и прочей мишуры. Копьё тоже не годится, если не знаешь наверняка, куда надо бить. Но что можно знать наверняка, выходя на дракона? Моя скромная точка зрения такова, что лучше всего против дракона использовать тяжёлую секиру со штырём вот здесь, чтобы её легко было превратить в рогатину. Если зверь волочит брюхо по земле, то полезно закрепить в камнях подходящий клинок, а потом выманить тварь на себя. Для этой цели я обычно использую арбалет. Причинить существенного вреда он не может, но почему-то драконы ужасно не любят удара стрелой по носу. Как видите, я не делаю тайны из своего занятия, но рыцари, приезжавшие ко мне за советом, гневно называли меня мясником и отправлялись рубить своих драконов верхом и с мечом на перевязи. Удивительно, но ни один не заехал потом, чтобы похвастаться трофеями. Впрочем, почти каждый дракон подкидывает охотнику что-то новенькое; вы верно сказали: драконы очень разнообразны. Взять хотя бы вот этого… знаете, почему он висит здесь, а не вместе со всеми? Он единственный сумел ранить меня. Ужасно вёрткая была тварь, а ведь обычно драконы неповоротливы. К тому же они не любят сражаться и, стараясь напугать противника, сразу демонстрируют все свои фокусы и приёмы. Иногда бывает достаточно просто вовремя сбежать от него, чтобы на следующий день вернуться с нужным инструментом. А этот цыплёнок до последней секунды не показывал своего языка. Видите, какая штука? Он умел бить им словно копьём, выкидывая язык почти на два ярда. А я не ожидал такого удара, и он пропорол мне ногу. Спасибо тёмным силам, но жало оказалось не ядовитым. Правда, самому дракону, как видите, его ловкий удар не помог.
– То, что вы рассказываете, – удивительно! – проговорил волшебник. – Скажите, а они плевались огнём?
– Нет, я ни разу не встречал огнедышащих драконов. И боюсь, что всё это сказки. Когда зверь вламывается в деревню, люди сами в панике роняют огонь, а потом списывают пожары на огнедышащее чудовище. Слишком много сказок толчётся вокруг драконов, слишком много магии, поэзии и вранья. Вот вы говорите, драконы прилетают из Шиганских гор. Возможно, вы и правы, ведь у большинства из них есть крылья. Но я не видал летающих драконов. Если вдуматься – объяснение может быть только одно: к нам попадают лишь старые, одряхлевшие драконы, которые уже не могут прожить в горах Шигана. И значит, если я соглашусь сопровождать вас, то мне придётся иметь дело с молодыми, полными сил чудовищами. Справлюсь ли я? Впрочем, это дело десятое. Важнее другое: зачем тёмным силам, ежели они существуют, насылать на людей дряхлых и больных драконов? Только для того, чтобы я их убивал?
– Возможно, вы правы, – задумчиво проговорил Манган, – и те драконы, с которыми сталкивались люди, это действительно всего лишь блохастые дворовые кобели, которых тёмный властелин выгнал из своего логова, как жестокий хозяин выгоняет обеззубевшую шавку. Но тогда тем более страшно подумать, какие планы может вынашивать тьма. И, значит, тем более важно проникнуть в Шиган и узнать эти планы. Вы боитесь, что не совладаете с молодым драконом? Что же, я не буду настаивать, хотя без вас у меня почти нет шансов остаться в живых. Вы и так изрядно помогли мне, рассказав о драконах такое, чего я не мог и подозревать. Примите и вы добрый совет: не надо хранить эти трофеи дома, их магия слишком ужасна.
– Простите меня, мудрейший, – медленно произнёс Онеро, – но я по-прежнему не верю ни в чёрную, ни в светлую магию. А что касается ужасов, то вы представить себе не можете, с чем приходилось сталкиваться мне. А если бы представили, то не стали говорить, будто я могу чего-то испугаться. Когда я выхожу против дракона, я не гадаю, молод он или стар, я думаю, как его уничтожить. Ладно, так и быть, я покажу вам кое-что ещё. То, чего не видел никто из моих гостей. Может быть, тогда вы хотя бы приблизительно поймёте, что такое настоящая жуть. Правда, для этого придётся спуститься в подвал, в доме я это не решаюсь хранить.
– Оно живое? – встревоженно спросил маг.
– Я похож на самоубийцу? – вопросом на вопрос ответил Онеро. – Я ещё ничего не приносил в город, прежде чем не убеждался, что оно как следует выпотрошено, просушено и просмолено еловым дымом.
– Тогда идём! – решительно сказал Манган.
Они прошли через большой зал и прихожую. Онеро под пристальным взглядом стеклянных глаз отворил тяжёлую дверь, засветил фонарь, стоящий в стенной нише. Поднял фонарь над головой, осветив крутые ступени, идущие вниз.
– Осторожней. Здесь сухо, но ступеньки старые, половина выщербилась от времени. Дом выстроен на фундаменте старой башни, прежде здесь было предмостное укрепление и в подвале хранились ядра для баллист. Потом в башне расположилась тюрьма, а в подвале – пыточная камера. Башню снесли лет сто назад, и сейчас уже никто не помнит, что подвал на самом деле сохранился. А ведь одно воспоминание о том, что здесь творилось, страшнее всех драконов, вместе взятых. Погодите, сейчас я открою вторую дверь.
Манган остановился перед запертым полукруглым проходом. Дверь была старинная, крепостная, покрытая железными заклёпками, каждая с кулак величиной. Вид её навевал воспоминания о костяной чешуе дракона. Онеро, вытащив связку причудливых ключей, склонился над замком.
– Что там, за дверью? – тревожно спросил волшебник. – Я чувствую непредставимую силу. Пронзительная магия драконов почти заглушает её звучание, но отсюда я вижу, что она куда неудержимей и злее, нежели сила, излучаемая драконами. Онеро, вы играете в опасные игры. Человек неподготовленный не должен иметь дела с такими вещами.
– А вы считаете себя подготовленным? – сердито проворчал Онеро, со скрипом проворачивая в заржавелой скважине ключ. – Почему же вы не обнаружили эту непредставимую силу сразу, едва войдя в город?
– Вопль драконов заглушил этот звук. Эта магия сродни волшебству дракона, но она куда изощрённей и потому не так заметна.
– Теперь вам осталось сказать, что это магия самого владыки тёмных сил. Что же, я не против. Ведь это значит, что я выпотрошил и закоптил средоточие мирового зла. Готово, можете заходить. Только не надо ничего трогать.
Некоторое время Манган недоумённо разглядывал подвал, расположенный прямо под залом с драконьими головами. В свете масляного фонаря трудно было рассмотреть хоть что-то, но подвал на первый взгляд казался совершенно пустым. Однако искушённый взгляд мага остановился на противоположной стене. С тихим восклицанием Манган шагнул вперёд, ступив в круг, где пересекались мёртвые взгляды драконов, висящих на втором этаже. Дикий крик наполнил подвал, словно запятнанные селитрой стены оживили мрачную память былых столетий. Фигура мага вспыхнула лиловым светом, сгустки багрового пламени метнулись к потолку. Манган ещё пытался уклониться или отвести удар, а может, он просто испуганно вскинул руки, но в следующее мгновение жидкий огонь сгустился, просветлел и бесследно опал. Подвал вновь был пуст.
Онеро стоял в дверях и ждал, подняв фонарь. Некоторое время ничего не происходило, потом из пустого места, где пропал волшебник, шагнула неясная фигура:
– Я доволен тобой, Онеро. Это действительно тот тип, что бродил в предгорьях Шигана. Если бы он сумел проползти мимо застав, то стал бы по-настоящему опасен.
– Но он испугался драконов и пришёл ко мне, угодив в мышеловку, – согласился драконоборец. – И, конечно, он, как и те, что были до него, никого не предупредил о своих планах.
– Именно так он и поступил. Что ты хочешь за службу?
– Я счастлив служить тебе, повелитель.
– И всё-таки что бы ты хотел для себя?
Мгновение Онеро колебался, потом произнёс:
– Все колдуны, явившиеся ко мне за помощью и угодившие в ловушку, говорили о коварных планах повелителя тьмы. Я хочу знать, правда ли, что у тьмы есть цель?
– Ты стал философом, Онеро. Я слышал твой разговор с магом. Для чего ты рассказывал ему правду?
– Потому что я сам хочу знать её.
– Правду нельзя узнать от другого, кем бы этот другой ни был. Ответа не будет. Оставь свои размышления и собирайся в Нестеле, иначе тамошний дракон околеет, прежде чем ты успеешь получить за него деньги.
Оберег у Пустых холмов
– Добрый день, любезный! Где я могу найти почтеннейшего Вади?
Вади ещё раз подбросил на ладони камешек, затем поднял взгляд на говорившего.
Гость возвышался словно башня. На Закате вообще обитают крупноватые существа, но этот выделялся даже среди них. Его ноги не стояли на земле, а попирали её. Широкая грудь сверкала чеканкой доспехов, поверх которых кривилась уродливая ухмылка эгиды. Мускулистые руки были обнажены до локтя и безоружны – видимо, пришелец не считал Вади за угрозу – стальной шестопер остался висеть у пояса. Ничего удивительного: гость силён и велик – даже подпрыгнув, Вади не смог бы достать рубчатой рукоятки праздно висящей булавы.
Задрав голову, Вади взглянул в глаза великану. Нормальное лицо, человеческое. А шлем золотой, блестит, указуя зенит отточенной спицей.
«Через Ожогище, должно, на карачках полз, – прикинул про себя Вади, – а шапку догадался снять. А то бы нипочем не прошёл – молниям в такой шишак метить самое милое дело. Видать, хороший человек – не дурак и не спесивец. Жаль его…»
Вади подбросил камешек, поймал.
– И зачем тебе понадобился Вади?
– Это я скажу только ему.
– Говори. Вади это я.
Великан не удивился, верно, за долгое путешествие успел навидаться всякого и знал, что не рост определяет человека, не золото и не железо.
– Меня зовут Хаген. Я из Западных земель. Мне нужен светлый меч Шолпан.
Вади щелчком отбросил камешек, показал пустые ладони:
– У меня нет меча. Я не воин, не кузнец и даже сувенирами не торгую, хотя в округе валяется немало старого железа.
– Молва говорит, что у тебя есть талисман, с которым можно пройти мимо Пустых холмов.
Вади согласно кивнул.
– Верно, оберег у меня есть.
Великан быстро наклонился. Тяжёлая тень накрыла Вади.
– Дай мне его! Дай на один только день. Этого времени мне хватит, чтобы обшарить Пустые холмы вдоль и поперёк. Всем известно, что меч Шолпан там. Умирающий богатырь вонзил его в брюхо смоляного чудовища и уже не имел сил вырвать обратно. А потом на холмы пало безвременье, и меч остался, вплавленный в груду смолы. Клянусь светом и тьмой, я верну тебе твой талисман, едва найду меч.
– Зачем тебе именно этот меч? Неужели на свете мало других клинков?.. Я могу показать подходящий камень, из него торчит рукоять, так густо изрисованная рунами, что нельзя прочесть ни единого слова. Правда, это камень, а не смола, меч выдернуть будет непросто…
Хаген покачал головой.
– Мне нужен именно светлый меч. Если бы мне противостоял дракон или гидра, я бы нашёл способ управиться с ними, но сейчас на моём пути стоит нечто иное. Может быть, ты слышал, почтенный Вади, что на Закате, в моих краях, есть Тёмный дол. Это проклятое место! Днём оно ничуть не отличается от всякой иной долины, но не приведи судьба заночевать там. Твой костёр погаснет, и факел изойдёт чадом, а следом явится Страх темноты. Он выпьет твою душу и оставит бежать пустое тело. Никто из повстречавших Страх темноты не может рассказать, что было с ними, но из их боромотания родились злые легенды. Одни твердят о чёрном звере, невидимом во тьме, лишь два синих глаза мутят взор жертвы. Другие рассказывают о женщине в траурном платье и с бездонной дырой лица, где плавают те же синие огни. Мужики прозвали Страх тьмы Синевалкой и осмеливаются заходить в долину лишь по утрам. Я тоже не знаю, кто обитает там, но нечисть не должна мешать людям, поэтому мне нужен светлый меч, рассекающий духов ночи.
– Неужели Синевалка выползла из Тёмного дола? Или брюква, которую крестьяне сажают на ничьей земле, по ночам стала сходить с ума от ужаса?
Хаген усмехнулся понимающе, присел на корточки, чтобы тоже видеть лицо Вади.
– До этого пока не дошло. Львы не едят капусты, а Синевалка не трогает брюквы, либо же брюква не способна сойти с ума.
– Тогда в чём же дело?
Великан коротко хохотнул.
– Дело в том, что я не брюква и не турнепс. Я не могу спать спокойно, когда нечисть бродит рядом с моим домом. Я – человек.
Вади подобрал с земли пяток камешков, выбрал подходящий, примерился подкинуть его на ладони, но не стал – лицо собеседника было слишком близко.
– Ты не человек. Ты – герой. Человек не может уснуть, только когда рядом непонятное. Тогда он называет его Синевалкой и засыпает довольный тем, как замечательно всё объяснил. Но ты не таков. Тебе нужен противник. Думаю, что если бы Синевалка жила под семнадцатым морем, ты бы и туда нырнул, чтобы сразиться с нею.
Хаген выпрямился. Островерхий шлем пронзил небо.
– Да, ты прав. И именно поэтому я – человек.
Теперь Вади снова мог подкидывать и ловить камешек и глядеть ввысь, не боясь обидеть гостя.
– А вдруг там нет зверя? Что, если там женщина, синеокая ночная красавица, а твои путники сходили с ума от безнадёжной любви к ней?
– Женщину я бить не стану. Но и в этом случае я должен взглянуть в её глаза.
– Держа в руках меч?..
Хаген смолчал, лишь желваки на скулах разом вздулись, сдерживая резкое слово.
Камешек взлетел, упал, скрылся в сомкнувшейся ладони.
«Какая узкая ладонь стала у меня… и морщинистая. Любопытно было бы узнать, долго ли я ещё проживу…»
Камешек, презирая людской закон тяготения, взлетел к небу, потом вернулся, покорный этому закону.
Небо улыбалось новорожденной голубизной, не выцветшей даже над Пустыми холмами. В замершей бирюзовости небес описывал спирали молодой вишнёвый дракон. Съезжал вниз, словно проваливаясь в невидимую воронку, круги быстро сжимались, пока весь летун не сливался в глазах, обращаясь в пунцовое мерцание, но в самый последний миг спираль начинала раскручиваться, и, не шевельнув крылом, дракон уходил в поднебесье. Он тоже не любил подчиняться законам, которые не велят ему летать.
Семь… девять… шестнадцать тонких штрихов прорвали небо, перечеркнув тугую циклоиду дракона. От них было некуда деваться, но, взорвавшись малиновыми отблесками, дракон совершил немыслимый курбет и вновь вернулся к плавному кружению. Это было красиво, как всякая отточенная игра. И вдвойне красиво оттого, что игра была смертельной. Лучники из ближней деревни попытались взять вишнёвого красавца врасплох. Удайся им это – небо над округой осиротеет, а весь мир станет на одного дракона скучнее.
Камешек взлетел и, передумав, вернулся на ладонь. Взлетел, вернулся – и упал на землю. Морщинистая ладошка сомкнулась в кулак.
– Не сердись, могучий Хаген, но оберега я тебе не дам. Пусть Синевалка живёт в своём Тёмном доле. А ты, если тебя действительно тревожит судьба людей, поселись рядом и следи, чтобы никто не забрёл туда ненароком.
Хаген не был ни удивлён, ни разгневан.
– Вот, значит, зачем ты тут сидишь. Что ж, это достойное занятие для такого заморыша, как ты. И я не оскорблён твоим отказом, я с самого начала ждал чего-то подобного. Не обессудь и ты, почтенный Вади, но я всё-таки получу твой талисман.
– Меня нельзя убивать, я уже четыреста лет не причиняю зла!
Вади знал, как отпугивают иных пришельцев эти жуткие слова, но Хаген только улыбнулся слегка презрительно.
– А сколько лет ты не делал добра, почтеннейший?
Вади склонился головой к рассыпанным у ног камешкам, потом вздёрнул подбородок навстречу насмешливому взгляду великана.
– Добра я тоже не творил четыреста лет, но в том нет моей вины! Я честно предупреждаю всякого идущего, что дальше он не пройдёт, но почему-то никто не хочет слушать меня.
Хаген согласно кивнул.
– Тех, кто смог добраться сюда, не так просто свернуть с дороги. Если бы ты знал, сколько препятствий мне пришлось преодолеть…
Спорить было бессмысленно, но всё же Вади предложил:
– Хочешь, я покажу путь в обход Ожогища? И научу, как обмануть Сладкую топь…
– Это лишнее. Лучше бы ты помог мне идти дальше.
Вади молчал.
– Тогда я возьму талисман сам. Такой поступок трудно назвать добрым, но я и не стремлюсь к совершенству. Ведь меня в любую минуту могут убить, и тогда всё не сделанное мною зло вырвется на свободу. Не бойся, я постараюсь не причинять тебе вреда, хотя меня так и тянет взглянуть, во что выльются не совершённые тобою злодейства. Впрочем, боюсь, что даже за такой срок ты не смог бы натворить достаточно бед. С твоими силами, да ещё голыми руками…
– Главное зло делают не руками, а словом, которое у нас одинаково. К тому же я вооружён. Меча у меня нет, но есть кинжал.
Толстые пальцы потянулись к поясу Вади.
– С такой булавкой только на жука ходить…
– Осторожней! Там яд! Когда-то я ходил с этой булавкой на чешуистого аспида. Кинжал до сих пор в крови.
Хаген отдёрнул руку. Козявка, сидевшая перед ним, оказалась смертельно опасной. С таким оружием коротышка и впрямь мог совершить бесчисленные злодейства. И сейчас все они, несовершённые, посаженные в хрупкую тюрьму добродетели, ждут гибели своего тюремщика, чтобы обрушиться на того, кто окажется всех ближе, а это значит – на убийцу. Так что двойное предупреждение оказалось как нельзя кстати.
Вади гордо выпрямился, и в это мгновение здоровенная лапа обхватила его за туловище, а другой рукой Хаген выдернул из-за пояса Вади кинжал. В руках великана отравленное оружие и впрямь смотрелось булавкой. Зажатый жёсткой хваткой, Вади захрипел, но нашёл силы укорить Хагена:
– Зачем ты это делаешь? Ведь ты знаешь, что я не нападу на тебя…
– Я и не боюсь твоего ножика. Но мне нужен талисман, и поэтому, на всякий случай, я заберу всё, что у тебя есть. Возможно, волшебной силой обладает нож или пряжка на ремне… – пальцы Хагена сноровисто обшаривали Вади, – а быть может, талисман висит на цепочке…
– Не тронь, это моя амулетка!
– Но я и ищу амулет, спасающий от безвременья.
– Это не оберег, это амулетка! Она никому не пригодится, кроме меня!
– Не злись, почтенный Вади, но ты сам вынудил меня на это. И не тревожься, я верну твоё добро в целости, как только вернусь с Пустых холмов.
– Ты не вернёшься.
– Не каркай. Лучше сними кольцо. Я боюсь сломать тебе палец.
– Это колечко подарила мне одна знакомая. В нём нет никакой волшебной силы.
– Я не могу рисковать. Что у тебя в карманах?
– Медный грошик.
– Я вижу – ты богач. Ты получишь его обратно вместе со всеми твоими сокровищами. А это я оставляю тебе в заклад, чтобы ты не беспокоился о своих вещах, пока я буду искать меч.
Хаген опустил Вади на землю и стащил с пальца витой перстень с мелкоогранённым адамантом. Вади мог бы носить этот заклад вместо браслета.
– До скорой встречи, почтеннейший! Пожелай мне удачи.
Хаген повернулся и размеренной походкой воина двинулся к холмам. На мгновение Вади почудилось, что безвременье уже осветлило его кудри немощной белизной, но, конечно, такого не могло быть. Граница лежала неподалёку, но ещё не здесь.
Несколько минут Вади сидел неподвижно, стараясь ни о чём не думать. Потом выбрал камешек и кинул его в небеса, где по-прежнему кружил вишнёвый дракончик. Камешек поднялся совсем невысоко, но плавный ход дракона изменился, зверь дрогнул в сторону, готовясь отпрянуть с возможного пути камня.
Зоркая тварь! Суметь с его высот углядеть такую крупинку… Не так просто будет сельским стрелкам подбить его. Ещё не день и не два вишнёвый красавец станет радовать взоры глядящих в небо. А заодно, соревнуясь с ястребами, таскать со дворов кур и индюшат. И если лучникам не удастся прикончить малыша, то вскоре дракончик начнёт хватать овец, а когда-нибудь – почует свою силу и упадёт на человека. К тому времени его будет уже не пронзить стрелой и не увадить рогатиной. Тогда выручить людей сможет только герой. Но герой ушёл к Пустым холмам и больше не вернётся. В этом тоже своя правда, отличная от той, первой, которая не велела давать оберег.
Вади нагнулся, выбрал среди россыпи гальки ещё один камешек – невзрачный и угловатый, но тоже подходящий, зажал его в кулаке и пошёл следом за Хагеном.
В лицо пахнуло недвижным, застарелым холодом, но оберег налился теплом, запульсировал, прожигая пальцы, и Вади продолжал идти. Ещё через минуту он нашёл Хагена. Великан лежал лицом к холмам – даже почуяв беду, он не повернул обратно. Отполированный непрошедшими веками череп выкатился из шлема и лежал чуть поодаль, пристально разглядывая мир. Вади присел рядом, наклонившись к глазницам.
– Ведь я сделал всё, что мог. Я честно предупреждал тебя…
Череп улыбался широкой, ничего не понимающей улыбкой.
Вади вздохнул и принялся за дело. Отыскал свою амулетку и кинжальчик – по-прежнему опасный, ибо даже безвременье не могло обезвредить кровь чешуистого аспида. Нашёл кольцо, подаренное знакомой, и позеленевшую пряжку от ремня. Дольше всего не находился грошик, а Вади не хотел уходить без него. Ведь это была плата за последнее из добрых дел. Четыреста лет назад к границе подошёл человек, и Вади удалось его остановить. Человек не был героем – он искал пропавшую козу. Вади предупредил путника об опасности и указал, куда ускакала сбежавшая коза. В благодарность получил грошик – единственную ценность, что ему удалось скопить за четыре столетия. Наконец отыскалась и монетка. Вади снял с руки перстень, надел его на хрусткие фаланги истлевших пальцев Хагена.
– Вот твой заклад. Возвращаю его тебе.
Больше делать тут было нечего, но Вади зачем-то начал подниматься дальше по склону.
В ложбине между двумя холмами тускло поблёскивало асфальтовое озерцо. Если не врут легенды, то это останки смоляного чудовища. Тогда где-то в глубине, залитый липким гудроном, лежит меч Шолпан. И даже будь у Хагена оберег, всей его жизни не хватило бы, чтобы вычерпать и процедить смоляную густоту. А может быть, предания врут и Пустые холмы действительно пусты. Но ведь это ничего не изменит: герои всё равно будут искать тут свою гибель.
Больше в ложбине ничего не было: два холмика и лужа смолы между ними. Даже Вади мог бы облазать Пустые холмы за полчаса. И вряд ли страшное царство Синевалки в центре Закатных земель много больше, чем проклятые Пустые холмы. Почему людей так тянет именно сюда? И зачем здесь сидит маленький Вади? Кого и от чего он хочет охранить? Или, вернее, что он хочет охранить и от кого?..
Вади неторопливо шёл к дому, туда, где по-прежнему вершил круги уцелевший драконыш. Горячий камень жёг пальцы. Нестерпимо хотелось подбросить его в воздух, поймать, снова подбросить. И не для того, чтобы остудить натруженную руку, а чтобы хоть немного остудить больную душу. Но Вади не смел разжать кулак и хоть на мгновение выпустить камень. Он не знал, успеет ли вновь сжать пальцы и захочет ли взлетевший оберег вернуться на подставленную ладонь.
Кошмар
Дом у дороги
Дом стоял на большой дороге. Если внимательно присмотреться, ещё можно заметить некогда глубокие колеи, заросшие сорным лопухом и иглошипом. Стонущие по ночам деревья остерегались выходить на плотную ленту дороги, и нетоптаная тропинка прихотливо извивалась по ней, не ожидая плохого. Дом уставился в бесконечность бельмами плотно закрытых ставень, глухой забор в рост человека окружал его, скрывая внешний мир. Тяжёлые ворота всегда были на замке.
По утрам в доме открывалась дверь, на пороге появлялся хозяин с косой на плече. Звякнув лезвием о жестяную вывеску, качавшуюся над крыльцом, спускался по ступеням. Вывеска изображала котёл и петушиную голову над ним. Дом был гостиницей.
Хозяин ворча обходил двор, выкашивал наросшую траву, с руганью перекидывал через ограду выползшие за ночь плети удавника. Порой, вытягивая шею, глядел поверх забора и кричал в безмолвный лес:
– Балуй у меня!.. Вот я ужо!.. – и тогда сидящие на цепи собаки начинали выть и рваться с привязи.
То утро выдалось на редкость пригожим. Ночью в чаще никто не плакал, роса пала на удивление чистая, и даже дряблые грибы, на которых ежедневно поскальзывался хозяин, не вылезли на ступенях крыльца. Хозяин окашивал колючки, временами осторожно проводя бруском по заметно истончившемуся лезвию, и по его лицу бродило что-то напоминающее довольную улыбку. И в это время раздался сильный стук в ворота. Мгновенно подобравшись, хозяин подхватил косу и мягким шелестящим шагом метнулся к воротам. По ту сторону дубовых створок кто-то был, слышалось усталое дыхание. Потом стук повторился.
– Кто?.. – тяжело выдохнул хозяин.
– Откройте! – донеслось до него.
– Ты кто? Откуда?
– Да из города я! Заблудился. Всю ночь иду, и хоть бы одна живая душа повстречалась!
– Сейчас, – проворчал хозяин, положив руку на запор, – только ты не входи сразу, а то я могу и того…
Ворота, издав долгий немазаный скрип, приоткрылись. Хозяин ждал, держа косу наперевес, целясь оттянутым остриём в пространство за воротами. Там стоял человек.
– А ну повернись! – скомандовал хозяин.
– Ты чего?.. – путник, увидав такую встречу, перепугался. – Я лучше пойду…
– Не дури! – рявкнул хозяин. – Я сказал повернуться, значит, слушай. Может, там хвост у тебя, так я мигом обкошу.
Путник повернулся, испуганно поглядывая через плечо. Хозяин отступил на шаг.
– Входи, – разрешил он.
Гость, не осмеливаясь перечить, шагнул во двор. Хозяин навалился телом на взвизгнувшие ворота, захлопнул их, припёр створки обрезком бревна.
– Откуда ты такой взялся? – спросил он.
– Из города я! – страдальчески выкрикнул пришелец. – Пройтись вышел, да заплутал. Куда идти – не знаю… и лес у вас чудной какой-то.
– Как тебя там никто не задрал? – удивился хозяин. – Значит, такое твоё счастье. А что, город ещё стоит? – спросил он вдруг.
– Стоит. Что с ним сделается? – гость ничего не понимал.
– А нечисть? – начал хозяин, но в этот момент его прервали.
– Эй, привет! – раздался молодой звонкий голос. – Отворяй, когда к тебе пришли!
Над забором показалась человеческая фигура. Весёлое лицо под шапкой спутанных волос, обнажённый торс, густо заросший кудрявой шерстью, узловатые, мощные, тоже волосатые руки. Хозяин развернулся и, не глядя, ударил. Лезвие косы, коротко вжикнув, прошло в каком-то дюйме от лица успевшего отшатнуться незнакомца. Тот обидно захохотал и исчез. Послышался удаляющийся лошадиный топот.
– Что ты его так? – испуганно спросил путник. – Ведь живой человек…
– Как же, человек! – бросил хозяин. – Нечисть это, наполовину мужик, наполовину конь. Понял?
Прохожий, приподнявшись, глянул поверх забора и тихо ахнул.
– То-то, – сказал хозяин. Он распахнул двери дома и, повернувшись к онемевшему гостю, продолжил: – Иди, пока отдыхай, пожрать на столе найдёшь. А у меня дела. Косить надо да полоть. День запустишь, так потом капусту от репья не отличишь.
Полдня прохожий послушно просидел в доме один, а когда тяжёлое солнце стало клониться к верхушкам деревьев, в доме появился хозяин. Поставил в угол косу, сполоснул в лохани чёрные земляные руки, уселся и только тогда потребовал:
– Рассказывай.
– Что рассказывать-то?
– Город как, как народ справляется и что говорят: откуда напасть взялась и конец будет ли?
– Город как город, живут, помаленьку кормятся. А чтобы нечисть рядом водилась, никто и не слыхивал! Это ты откуда такой взялся, вместе с лесом и гостиницей твоей?!
– Как откуда? Я на Вычежской дороге стою, мимо меня тысячи народу ходили! – хозяин замолк, а потом жалобно прибавил: – Ходили, да перестали. И путь зарос. Неужто никому в Вычеж не надо?
– Почему – не надо? Есть дорога в Вычеж, – удивился гость. – Вот только не слыхал я, чтобы страсти такие на ней творились…
– А ты, парень, часом не врёшь? – хозяин нагнулся вперёд.
– Чего врать-то? – забеспокоился тот. – Ты лучше скажи, как мне домой попасть? А то ведь пора.
– Куда ты сейчас пойдёшь? Зажрут тебя в лесу. С утра надо выходить, пока туман. Может, и дойдёшь. На рассвете они посмирнее, хотя всё равно дрянь. В этом лесу всё нелюдское: и трава, и деревья, и зверьё. Они и сюда лезут, подбираются. Овцы у меня были, берёг их, а потом гляжу – не овцы это. Глядят зло, а по ночам разговаривают промеж себя, совсем как мы, только не понять ничегошеньки. Зарезал я их и в яме закопал. А собак держу, куда я без них? Умнющие твари, аж боязно, но терплю. Я их порой в лес пускаю, так они мясо приносят, здоровенные куски. А от кого мясо – я и не гадаю.
Хозяин прервал речь и встал. Со двора донёсся прерывистый вой спущенных с цепи псов.
– Слышишь? – сказал хозяин. – Давай спать ложиться, пока не стемнело, а то как бы ночью вскакивать не пришлось, если вдруг кто в гости пожалует.
Они молча разошлись по своим комнатам, и дом затих, прижавшись к земле, стараясь не слишком бросаться в глаза просыпающемуся лесу. Одни собаки серыми тенями кружили по двору и порой тоскливо выли в сгущающийся лесной сумрак.
Среди ночи хозяин неожиданно сел на постели. Его била крупная дрожь. Не издав ни одного звука, он скатился на пол, на коленях подполз к выходу и припал к щели под дверью. Коридор, освещённый призрачным мерцанием пятнающей стены плесени, был пуст. Потом в его конце качнулась тень, и там показался утренний гость. Он бежал по коридору на четвереньках, неслышно переставляя лапы. Лицо его страшно изменилось, уши прижались к черепу, челюсти выехали вперёд. Нервные губы дрожали, приоткрывая массивные жёлтые клыки.
Хозяин оскалился и молниеносным движением выметнулся навстречу пришельцу. На мгновение они застыли, буравя друг друга ненавидящими точками красных глаз, шерсть на загривках поднялась, зубы оскалились, и, издав вой, полный злобы и разочарования, двое кинулись вперёд. Они катались по полу, стараясь достать клыками до горла врага, гневное рычание разносилось далеко над бессонным лесом, а дом раскачивался, ходил ходуном и гулко хохотал, хлопая ладонями ставень.
Яблочко от яблоньки
Яблока сырые прияты вредительны суть телу паче всех овощей.
Вертоград прохладный.– А что, дорога вполне приличная, – произнёс Путило, резко крутанув руль.
Автомобиль накренился и начал заваливаться в колею, густо наполненную серой жижей, больше всего напоминающей шламовые отстойники абразивного завода. Ефим Круглов судорожно ухватился за ручку дверцы, словно собираясь выпрыгивать сквозь ремни безопасности, но машина всего лишь ухнула в колдобину и, натужно взрёвывая, принялась расплёскивать тракторного замеса грязь. Струйки глинистой суспензии стекали по заднему стеклу, превратив мир в серый абстрактный витраж. Сквозь лобовое, почти чистое стекло Круглов видел грязевые разливы: глубокие, податливые и цепкие. Самый их облик однозначно предсказывал, что случится через минуту: звук мотора изменится, колёса забуксуют, не находя опоры в полужидкой среде. С минуту Путило помучается, переключая скорости и пытаясь раскачать завязшую «Ниву», потом щёлкнет дверцей и скажет:
– Приехали. Придётся тебе меня подтолкнуть.
Ефим опустил взгляд на свои ноги. Три часа назад, в городе он опрометчиво полагал, что надел резиновые сапоги. Теперь стало ясно, что по здешним меркам его обувка в лучшем случае может сойти за тапочки. Голенища сапожек едва доставали до щиколоток, и, значит, лучше было сразу снимать их и шагать в холодную октябрьскую грязь босиком.
Круглов осторожно, выискивая ногой опору, ступил в грязь и сразу же провалился выше сапог. Казавшаяся густой каша мгновенно хлынула внутрь. Загустелая в глубине масса покорно раздалась под ногой. Ефим попытался сохранить равновесие, немедленно черпанул вторым сапожком и, не удержавшись, плавно, как в замедленном фильме, повалился на бок. В самый миг падения отчётливо представилось жуткое бурое пятно в полплаща и вспомнилось красивое слово: «бежевый». Больше плащу бежевым не быть.
Он ещё старался вскочить быстрее, как будто грязь может не успеть прилипнуть к чистой ткани, но ноги, так и не встретив опоры, проскользили в разные стороны, и он снова упал, на этот раз на живот, до локтей погрузив оба рукава в пованивающее навозом и соляркой месиво.
«Гнила, – мелькнула неуместная мысль. – Деревенские называют глину гнилой».
После этого его опять повалило на сторону, и он понял, что тонет.
«Нива», смердя сиреневым выхлопом и швыряясь из-под колёс грязью, медленно уплывала по разбитой дороге.
– Сергей Лукич! – крикнул он, уже зная, что машина не остановится. – Путило! Помоги!.. Сто-ой!!
Шматок грязи хлёстко залепил в лицо, мгновенно ослепив и наполнив открытый рот пресной горечью разведённого глинозёма. С натугой Круглов выдрал наружу одну руку, но лишь сильнее замазал глаза. Когда он проморгался, легковушки уже не было, а успокоившаяся колея плотно зажала ноги и туловище, словно не земля была вокруг, а мгновенно твердеющий алебастр. И не за что было схватиться, чтобы вытащить себя, и не оставалось сил держать запрокинутую голову над поверхностью жижи, терпеливо ждущей, чтобы засосать и уложить его на дно колеи под гусеницы запоздалому трактору.
Почему-то даже сейчас он не мог заставить себя крикнуть: «Спасите!» Стыдно было, что ли? Он набрал воздуха, сколько вошло в сдавленную грудь, и попытался звать на помощь, но сумел издать лишь сиплый писк. Зато липучка, в которой он барахтался, словно проснулась и потянула его вниз. Ефим хлебнул холодной грязи, забился, понимая, что топит себя окончательно, и, булькая, закричал:
– А-а-а!..
– Ты чего? – спросил Путило.
Круглов попытался вскочить, но ремни удержали, заставив вновь откинуться на сиденье.
– Приснилось, – выдавил он.
– Бывает, – согласился Путило. – Здесь в два счёта может укачать. Но, заметь, дорога отличная. Сверху жижа, а внизу плотный грунт. Тут прежде тракт проходил, так до сих пор путь держится.
– Понял, – сказал Круглов, вытирая лицо. На зубах скрипело, во рту был вкус глины.
– А вот и деревня, – сообщил Путило. – Называется Горки. Хотели её переименовать, чтобы не путали, да руки не дошли. Так и осталось Горки.
Букву «г» Путило произносил мягко, на хохляцкий манер, так что получалось «Хорки».
«Хорки, так Хорки, – подумал Ефим. – Главное, чтобы сухо было».
– Нам ещё версты полторы, – сказал Путило. – Склады там.
– Чего так далеко?
– Укрепрайон. Где немцы доты строили, там и склады.
Автомобиль наконец доплыл к первым домам. Здесь Путило не рисковал опрокидывать «Ниву» в переполненные колдобины, он слишком хорошо знал, как деревенские бутят ямы под окнами битой стеклотарой и прочими составляющими культурного слоя. Путило старался держаться тропки, протоптанной вдоль палисадничков, огороженных пряслами в одну жидкую жердинку. Обвислые розетки счерневших от мороза георгинов уныло размазывали грязь на дверцах раскачивающейся машины. Пару раз автомобильный бок шкрябнул по жердям, кажется, даже сломал одну, но и после этого в деревне ничто не проснулось, она оставалась такой же молчаливой, серой и придавленной к земле, как и молчаливое, серое, придавленное к земле небо над ней.
Деревня была длинная, всяко дело больше километра, а домов Ефим насчитал десятка два. Между одинокими постройками, словно провалы в хорошо прореженной челюсти, пустели заросшие бурьяном фундаменты, кучи деревянной трухи, уголья. Казалось, здесь много лет кряду не утихала война и теперь уцелевшие людишки нарочно живут победнее, зная, что всё равно налетят и ограбят. Не одни, так другие. Так что не стоит и наживать.
Возле одного дома у калитки Круглов заметил человеческую фигуру. Существо, кажется, женского пола и очень неопределённого возраста, сухо смотрело на телепающийся в грязи экипаж. На существе была затёртая, пыльного цвета телогрейка, из-под которой свисал выцветший подол подозрительного покроя, а уж из-под него торчали преогромнейшие кирзовые сапоги. То был не человек даже, а как бы природное явление, такое же вечное и обязательное, как заросли пожухлой лебеды или покосившийся столб, неведомо кем и когда вкопанный в стороне от дороги. Мимо сквозили века, народы, завоеватели какие-то, а существо стояло, опершись о плетень, строго глядя на разболтанную колею и не видя, кого несёт по этой колее мимо тихой деревни Хорки.
Оккупанты спрыгивали с танковой брони и храпящих степных лошадей, бежали по избам, волокли кур, граммофоны и голосящих девок, с оттяжкой рубили кривым булатом непокорных, жгли дома и сараюшки, но не обращали внимания ни на бурьян, ни на кривоватый столб, ни на безликую кирзовую фигуру. А зря, потому что проходило малое время, и следа не оставалось от захватчиков, самая память о них истиралась, а бурые стебли, подгнивший столб и согнутая фигура продолжали стоять.
Щёлкнув дверцей «Опеля», Ефим выскочил наружу. Настроение у него было прекрасное. Да и в самом деле, чего опасаться? – глубокий тыл, земля, можно сказать, своя. Смешная деревня, забавные люди, осень, яблоки… Хорошо! Автомат остался висеть на плече дулом вниз: всё кругом зер гут, яблоки не стреляют. Пропечатывая на скользких размывах глины рубчатые шрамы следов, Ефим приблизился к стоящему у плетня существу. Сдвинув на затылок пилотку, оглядел аборигена. Пожалуй, это всё-таки женщина. Затем спросил:
– Шпрехен зи дойч?
– Ich verstehe nicht, – непонятно ответило существо, глядя насквозь прозрачными выцветшими глазами.
Ефим недоумённо пожал плечами, чётко, словно на плацу, развернулся. О чём говорить, с кем не о чем говорить? Нога, уютно упрятанная в сапог, проскользнула, словно под каблук попал небрежно брошенный огрызок яблока. Ефим изогнулся, стараясь удержаться растопыренными руками за воздух. Брошенный шмайсер ударил дулом в поясницу, и Ефим всем телом грохнулся на дорогу, смертельно скользкую, но всё ещё твёрдую под тонким слоем жижи.
Коротко в три толчка ударила очередь.
«Совсем не больно… – успел удивиться Ефим. – Сейчас…»
– Опять что-то приснилось? – вопросительно произнёс Путило. – Здоров ты спать.
– Недосып, – севшим голосом выговорил Ефим. – Сессия. Экзамены сдавал.
– Какие же экзамены в сентябре? – недоверчиво поинтересовался Путило. – Сессия вроде весной бывает и зимой.
– Так получилось, – уклончиво ответил Круглов.
– Ага, – согласился Путило. – А что сдавал?
– Помологию. Профессор Рытов – зверь. Душу вынимает.
– Ага, – повторил Путило, не отрывая взгляда от дороги.
«Нива», натужно завывая, ползла в гору. Деревня уже осталась позади, дорога оврагом вгрызалась в холм или, может быть, изначально была проложена по впадине. Время от времени по сторонам над обрывами являлись невысокие деревья, корячившие пустые ветви в провисшее небо.
– Яблони, – сказал Путило, мотнув головой. – Раньше тут сплошняком сады росли, торговля шла крупная, на ярмарке плодоводства в девятьсот одиннадцатом году отдельный павильон был – «Псковские яблоки», в Берлине – фирменный магазин, не помню чей. Потом, конечно, всё хизнуло, повалилось, при Хрущёве яблони порубили – ничего не осталось.
– Как это ничего? Откуда тогда склады?
– Ну, кое-что, конечно, осталось. В основном – по заброшенным деревням, где рубить было некому. Работаем помаленьку, но фирменного магазина на Seestrasse мне ещё долго не открыть.
– Ого! Ты глянь, Сергей Лукич! – перебил Круглов.
Влево от дороги, где холм приминался пологой ложбинкой, неприкрыто распласталось серое военное сооружение. На десяток метров в окружности земля была заменена замшелым от старости цементом. Его грубая фактура, выветренная и потемнелая, казалась камнем, искони росшим тут, забытым рассеянным ледником в далёкий мамонтовый период. Но сквозь эту твердь, в свою очередь, пробивалось иное творение чужеплеменных рук: стальной колпак неведомой толщины, столь мощный, что даже ржавчина не осмеливалась пятнать его. Раскосая прорезь амбразуры сторожила танкоопасное направление, неприязненно глядя на гражданский экипаж, вздумавший прошмыгнуть мимо.
– Это и есть укрепрайон? – с тихим восторгом спросил Ефим.
– Он самый.
– А где вход?
– Нам к нему ещё пилить и пилить. Он на той стороне холма, за бугром.
– Не слабо сказано, – оценил фразу Ефим.
Легковушка перевалила водораздел и юзом сползла вниз, где в сторону от дороги отходила ещё одна раздолбанная колея. С виду она была точь-в-точь как та, по которой они только что плыли, но, видимо, качество этой хляби было иным, потому что Путило вывел машину на обочину и заглушил мотор.
– Дальше – ножками, – произнёс он, распахивая дверцу. – Дальше только трактор пройдёт.
Вход в бункер открылся неожиданно: путники обогнули отрог холма и увидели, что часть склона словно срезана долой и на этом месте темнеет заложенная кирпичом арка. Когда-то, должно быть, она была замаскирована и страшна гордой неприступностью, но сейчас, выставив напоказ обшарпанное уродство, сооружение походило на брошенный за ненадобностью туннель, а никак не на крепость минувшей войны. Расколотые остатки бетонных тюфяков, некогда прикрывавших горжевую часть, теперь были свалены вниз и густо зеленели лишайником.
– Ну как? – спросил Путило, опуская тяжёлый рюкзак на треснувшую плиту.
– Впечатляет, – согласился Круглов. – А что, тут никого нет?
– Да уж, – с неожиданной злобой произнёс Путило. – Был тут у меня один – сторож. И смотал. Объект бросил, даже вот смены не дождался. Хрена он у меня получит солёного, а не зарплату. Почему, думаешь, тебя сюда так спешно везти пришлось? Тут яблок лежит немерено и оборудование завезено. А охраны – никакой. Всё для добрых людей. Во, гляди!
Путило подошёл к двустворчатой железной двери, украшавшей центр кирпичной кладки, пошарил под порогом и вытащил ключ. Тяжёлый амбарный замок со скрипом распался, открывая проход.
– Это тоже немецкое? – с сомнением спросил Круглов, кивнув на сварную дверь.
– Не, это потом. Тут всё было замуровано году в пятидесятом, чтобы не шастали кто ни попадя. Мы только проход пробили и дверь навесили. Ну и, конечно, вычистили оттуда гору дерьма.
Ворота завизжали на петлях и открыли вторую дверь из плотных деревянных плах.
– Это уже для тепла, – пояснил Путило, снимая крошечный контрольный замочек.
Жёлтые лампы под потолком осветили уходящую в глубь горы штольню. Она была широка, больше трёх метров в свету, как говорят строители, и до половины заставлена заколоченными ящиками. Сделанные по трафарету надписи навевали мысли о чём-то техническом.
– Оборудование, – предупредил вопрос Путило. – Консервный цех, мармеладное производство… и всё стоит без дела, распутица строить не позволяет. А яблоки – в рокадной галерее и казематах. Там глубина метров двенадцать, температура всегда комфортная, ни мороз там не страшен, ни жара.
– А боевая линия? – щегольнул знаниями Ефим.
– Это далеко. К тому же там постройки котлованного типа, они для фруктохранилища хуже приспособлены, – видно было, что Сергей Лукич отлично изучил своё хозяйство и разговор поддержать может. – Там до сих пор пусто, только один из орудийных дотов оборудовали тебе под жильё.
– А почему не наблюдательный пункт? Он сторожу больше подходит.
– Да, конечно. Ты как-нибудь туда сходи, полюбопытствуй. А понравится, так и переезжай.
– Разрушен? – догадался Круглов.
– Не, что ты. Просто там потолки семьдесят сантиметров высотой. Очень удобно.
Они спустились вниз, засветив следующую цепочку сиротливо болтающихся лампочек. Проходы здесь были не так широки, но всё равно почудилось, будто стены раздвинулись и вольный простор дохнул в лицо.
Пахло яблоками. Сладостный винно-пряный аромат в недвижном воздухе, казалось, стоял стеной, тонкие оттенки запаха слились, дух был так силён, что уже не имел отношения к чему-то съедобному – пахло как на кинофабрике: эссенциями и растворителями. Флюиды пропитывали старый бетон, возвращая ему призрак жизни, душистая сытость висела в воздухе, дыхание участилось, кровь прилила к щекам, жар охватил пальцы рук.
– Ишь, как сладко, – пробормотал Путило. – Вентиляцию надо включить, а то как бы не заткнулись.
Он повернул рубильник. Где-то наверху заворчал вентилятор.
Яблоки были повсюду. Поддоны с розовкой наполняли галерею, ящики боровинки расписной в четыре ряда громоздились в тесных казематах, тускло зеленели грубой кожей рамбуры, желтела титовка, собранная в разорённых остатках некогда образцовой мызы господина Парамонова. Крошечные китайки, бруснички, сливки наполняли плетёные короба, очаровательная гвоздичная хорошавка алела в решётчатых барабанах. Болгарские щепные ящички, привычные к безвкусному джонатану, не могли вместить ребристые плоды снежного кальвиля – светло-жёлтые, лишь слегка затуманенные неярким румянцем, который, впрочем, берёт своё в глубине, так что на срезе яблоко заманчиво розовеет, исходя приятной кислотой. Стаканчатые гремушки королевского флейнера, бархатный анис, осенняя белая путивка, зимний золотой пармен, облитый багряными полосами черногуз… Артиллерийские погреба заполняла антоновка: жёлто-зелёная полуторафунтовка; каменичка – кислая, но стойкая в лёжке и бесподобная пользой хворым и слабым; румяный сорт, носящий нелепое прозвание «серая антоновка». Но всего больше собралось в подземелье короля и чемпиона окрестных садов – бесподобного, великолепнейшего штрифеля. Крупные четырёхдюймовые яблоки, с нежной кожицей, которую не смеет тронуть ни парша, ни загар; словно облитые растушёванным румянцем, с эффектно кинутыми пестринками более густого оттенка, и всё это радостное великолепие не режет глаз, а словно светится изнутри притягательным матовым светом. Нет чудесней яблока, и просто диву даёшься, как скучно называют его в деревнях: «обрез», «старостино», «осеннее полосатое». Нет, пусть уж будет дразнящее слово «штрифель», в котором слышится шорох осенней листвы и ожидание праздника.
Ефим взял одно яблоко, повертел в пальцах, понюхал. Даже в перенасыщенной ароматами атмосфере от яблока тонко и сладостно пахло. Пахло хорошим вином и жизнью.
– Той же яблочный дух, – медленно произнёс Ефим, – особна есть лечба тем, кои одержимы суть сухотною, тако же и тем, кои страждут меланколиевою болестию, понеже от того духу вредительное естество переминится.
Он осторожно вернул яблоко на место.
– Да ты ешь! – щедро предложил Путило. – Это коричное полосатое. Где ещё таких попробуешь?.. Кушай!
– Боязно что-то, – признался Ефим. – Смотри, сколько их тут. Аппетит отбивает.
– Ну, как знаешь, – Путило выбрал яблоко покрупнее и хрустко вонзил в него зубы. – Сочное, – сообщил он.
В следующую секунду лицо его искривилось, он судорожно заперхал, стараясь сдержать кашель, но, не справившись, согнулся, надрывно закашлял, размахивая руками и ударяя себя в грудь. Разжёванные куски яблока веером полетели изо рта. Ефим, не зная, чем помочь, беспомощно суетился вокруг, что-то спрашивал, хлопал ладонью по спине.
– А… а… н-не-е… А-ак-х!.. – пытался выговорить Путило и снова бился в кашле, переходящем в хрип.
– Я сейчас… водички! – крикнул Ефим.
Он прогрохотал по пандусам и ступеням, влетел в скупо освещённый тамбур, где они оставили вещи, дёрнул «молнию» на сумке. Там должен быть термос, вместе с завтраком. Мать, когда собирала его в дорогу, приготовила завтрак. И термос с горячим чаем.
Под руку попало что-то круглое. О чёрт – яблоко! Где же термос? А, вот он!
С термосом в руках Ефим кинулся вниз. Там было тихо, и это пугало сильнее самых душераздирающих хрипов. Отчётливо представлялось бездыханное тело Сергея Лукича, его искажённое лицо в пятнах гематом от лопнувших вен. Что делать, как помочь?
Путило сидел на перевёрнутом ящике среди раскатившихся яблок и осторожно, боясь вызвать новый припадок кашля, втягивал в грудь воздух.
– Вот, – сказал Ефим, наливая в колпачок дымящийся чай. – Выпей.
Путило глотнул немного, кашлянул, словно на пробу, потом сипло произнёс:
– Сладкий. Зря… Я соком захлебнулся, в дыхательное горло сок попал. А он тоже сладкий – знаешь, как тяжело, если сладким захлебнуться? Я думал – не откашляюсь.
Путило допил чай, кашлянул ещё раз, окончательно освобождая грудь от едкого сока, поднялся и начал собирать раскатившиеся яблоки.
– Вот так живёшь, – сообщил он, – а потом скушал яблочко неосторожно – и конец. Пошли лучше, я тебе твоё хозяйство покажу.
По наклонной штольне они двинулись к боевой линии. По дороге Путило остановился возле одной из ниш.
– Тут вода, – сказал он. – Хорошая, вкусная.
Из заржавелой трубы в ванну беззвучно падала прозрачная струя. Путило наклонился, поймав воду губами, гулко глотнул. Ефим напрягся в нехорошем предчувствии, но всё обошлось. Тогда Ефим наклонился и тоже попробовал. Вода была очень холодная.
– Чего крана нет? – заметил Ефим. – Течёт без дела.
– Какой кран, чудик? Это же ключ. Его перекроешь, так он снизу всё к чертям собачьим размоет.
Ефим наклонился к пленному роднику и ещё отпил воды, от которой ломило зубы и начинало болеть где-то над глазами.
– Там ещё нортоновский колодец был, – продолжал экскурсию Путило, – но местные колонку свинтили, считай, сразу после войны. Можно было бы восстановить, обсадная труба цела, но как туда штангу опустить – ума не приложу. Потолок мешает. – Путило стукнул кулаком по чёрным плахам обноски, уцелевшей в этом месте. – Ведь как строили, гады, а? Полста лет прошло, а всё цело, всё действует. Вот у кого поучиться… Хотя если вдуматься – на кой ляд они это мастерили? Чтобы я тут сегодня конверсией занимался? Сделали бы нормальный склад, куда как было бы лучше.
Минуя погреба, наполненные щедрым урожаем, они поднялись наверх и очутились в доте, возможно, том самом, что попался на глаза по дороге сюда. Тесный объём укрепления позволял разместить кровать с пружинной сеткой, шкафчик, в котором хранился запас продуктов, и столик, вплотную придвинутый к кровати. На орудийной площадке стояла новенькая электрическая плита с духовкой.
Ефим выглянул наружу.
– Дот, да не тот, – сказал он после некоторого раздумья.
Пейзаж, открывшийся в бойнице, оказался незнакомым. Дороги видно не было, склон полого упирался в ржавое болотце. На середине склона корявилась старая яблоня. Поломанные сучья почти лишены листьев, вид у дерева был сиротливый. Странным казалось, как уцелело древнее растение, разве что действительно никто не атаковал неприступные доты в лоб, а обошли их и брали с горжи – другой, не так защищённой стороны. Но всё равно, крови в этих местах, должно быть, лилось преизрядно, потому и яблоня до сих пор жива. Яблоки, говорят, хорошо на крови родятся.
На секунду Ефиму померещилось, будто в одном месте земля среди бурой опавшей листвы мазнута кармином. Ефим потряс головой – почудилось. А если и нет – мало ли что может краснеть под яблоней?
Он спрыгнул вниз. Путило деловито перегружал из своего мешка в шкафчик пакеты с провизией. Шкаф и без того был забит до половины. Что там есть, Круглов не знал, видел лишь жёлтые пачки «Геркулеса» да несколько картонных клеток с яйцами.
– А чего предыдущий сторож ушёл? – спросил Ефим. – Тут вроде хорошо. Тишина, воздух.
– А ляд его знает, – отмахнулся Путило. – Умом тронулся от воздуха. Позвонил, сказал, что ключ под дверью, а он здесь больше ни минуты не останется. Хоть дверь запер – и то хорошо.
– Понял! – сказал Круглов. – Это привидения. Где им ещё быть, как не тут? Забрёл мой предшественник куда-нибудь, где ещё свет не проведён, и наткнулся на светящийся скелет. В каске и с железным крестом.
– Ага, – сказал Путило. – Ты больше языком чеши – тоже рехнёшься. Только учти, мы, когда это дело размуровывали, милицию приглашали и сапёров. Тут каждая щель осмотрена – ничего нет, одна труха. А труху вычистили даже в пустых помещениях. Мне гниль ни к чему.
– Скучный ты человек, Сергей Лукич, – сказал Круглов. – Я, можно сказать, только из-за привидений сюда и приехал.
– Ты сюда отсыпаться приехал, – оборвал Путило, – за казённый счёт. Вот и отсыпайся – месяц-полтора, пока зимник не станет. А привидения оставь в покое. Как путь установится, начнём товар вывозить, там уж без тебя не обойдёмся. А пока – спи на рабочем месте.
Путило отдал последние инструкции, загрузил в багажник несколько ящиков затесавшихся летних сортов и укатил.
Ефим остался один. Он постоял на обочине, глядя вслед уплывающей «Ниве». Легковушка удалялась совершенно как во сне, то и дело заваливаясь в сторону и плюясь из-под колёс жидкой грязью.
Потом пришла тишина – пронзительная, какая только осенью бывает. Вроде и солнце на минуту высунулось из просевших туч, и стайка птиц пролетела с дробным щебетом, и день тёплый, а всё одно – не светло, глухо, мозгло. В такие дни нарочно ждёшь вечера, чтобы сидеть у печки, подкладывая тонкие полешки и слушая песнь закипающего чайника. Под открытым небом неуютно, всё время чудится, что сейчас упадёт темнота и холод и некуда будет податься.
Ефим поднялся на гребень холма, пошёл вниз, выискивая среди ложбин шапку дота. Ничего не попадалось – склон как склон, перерезанный оплывшими остатками траншей. Не верится, что внизу ледниковая морена изрыта бетонированными ходами.
Потом Ефим увидел знакомую яблоню и болотину, на поверку оказавшуюся жалкой лужей. Сориентировавшись по знакомым приметам, увидел и капонир. Он удачно прятался на местности: так просто и не углядишь. Застеклённая бойница светилась изнутри непогашенным электричеством. Сразу захотелось туда – домой. До чего же быстро человек привыкает к новому месту! Вот уже и бетонный склеп, в котором предстоит провести месяц, для него стал домом. Обидно, что до входа почти километр по крутому склону – сначала вверх, потом вниз, а затем обратный путь, но уже под землёй.
Но прежде всего Ефим пошёл к яблоне. Он догадывался, что, вернувшись домой, будет глядеть через амбразуру на недоступное дерево и мучиться, что же это краснеет неподалёку?
Среди счерневшей листвы открыто на виду у всего мира лежало большущее яблоко. Не верилось, как его могли пропустить и не заметить. Но ещё удивительней была мысль, что такие красавцы могут вызревать на искалеченном ветеране, каким представлялась старая яблоня.
Ефим поднял прохладный плод. Всё-таки хорошо, что это именно яблоко, краснобокий штрифель, а не выцветшая кумачовая тряпка, размокшая пачка из-под сигарет или полусъеденная ржой консервная банка.
Яблоко удобно лежало в ладони, восковой налёт придавал кожице особую приятность, хотелось погладить яблоко, словно доверчивого зверька. Светлые точки, проглядывавшие сквозь румянец, делали находку удивительно живой и настоящей.
Ефим понюхал яблоко. В осеннем профильтрованном воздухе лёгкая душистость штрифеля показалась ошеломляющей. Ефим только теперь понял, как он хочет есть. Плотная желтоватая мякоть с лёгким хрустом поддалась зубам. Рот наполнился винной сладостью с лёгким привкусом не то земляники, не то ананаса. Казалось, от яблока можно кусать бесконечно, и его не убудет. Но внезапно Ефим вспомнил, как пострадал час назад Путило, и тоже едва не поперхнулся соком. Он аккуратно доел яблоко, расшелушил огрызок, вытащив тёмно-коричневые семечки, и, зажав их пальцами, быстро расстрелял в разные стороны.
– Прорастайте, – великодушно напутствовал он разлетевшиеся семена.
Больше делать на улице было нечего. Круглов вернулся ко входу, заложил дверь изнутри на тяжёлый засов, поднял оставленные в тамбуре рюкзак и сумку и двинулся через скупо освещённое подземелье.
Теперь, когда он шёл один, путешествие доставляло куда меньше удовольствия, чем раньше. Шаги отдавались в переходах, всё время чудилось, что кто-то перебежками следует сзади. Шуточки о привидениях почему-то стали не смешны, и мысль, что наверху ещё день, – не слишком помогала. День, он наверху, а тут – ночь.
– Да-а!.. – нарочито громко произнёс Ефим. – Сейчас как выскочит фриц в каске и с железным крестом, как гаркнет: «Хенде хох!» – а я ему в ответ: «Штрифель зи дойч? Нонненапфель суислеп!» [1] Он и отпадёт. Так-то, знай наших.
На внутренней бронированной двери капонира Ефим не без удовольствия обнаружил ещё один засов, задвинул его; за неимением настоящей печи врубил электрическую и уселся разбирать вещи. Прежде всего вытащил заботливо приготовленный матерью пакет с завтраком: четыре бутерброда с рассечённой вдоль сосиской, помятая помидорина и пара яблок сомнительной помологической принадлежности.
Ефим досадливо поморщился: ведь мама знала, куда он едет, могла бы догадаться, что яблок с собой брать не стоит. Вот, куда их теперь девать?
Аромата у привезённого фрукта не было никакого, вкус травянистый, мякоть рыхлая. И вообще, не мякоть это, а хорошо развитый мезокарп. И кутикула жёсткая как подмётка, из такой только урсоловую кислоту добывать. И семенная камера поражена фузариозом.
Ефим запихнул надкушенных уродцев обратно в полиэтиленовый пакет, крепко завязал. «Завтра надо будет отнести их подальше и выкинуть. Не хватало ещё занести сюда какую-нибудь заразу. Вот станет Путило миллионером, выстроит настоящий склад, повесит под потолком кварцевые лампы, и не будут страшны собранному урожаю ни фомоз, ни глесириозная гниль, ни трихотециоз. А я у него стану главным помологом. Путило хороший мужик, ему плевать, что Рытов опять зарезал меня на экзамене».
Ефим вздохнул. Нестерпимо хотелось яблока. Настоящего. Но ещё сильнее не хотелось отодвигать засов. Ничего там нет, но всё равно, тяжко одному в склепе. И чай в термосе остыл. Можно бы разогреть, да не в чем – посуда в кухонном углу грязная, покрыта засохшими малоаппетитными остатками. Завтра надо будет устроить могучую уборку, всё перемыть, вычистить. А пока – спать.
Как всегда, на новом месте спалось странно. Ефим бессчётное число раз не то просыпался, не то просто осознавал себя спящим. Снилось воспоминание о двух старинных, вручную кованных задвижках, это успокаивало, и Ефим, не проснувшись, засыпал вновь. Снилось, будто он встаёт и идёт за яблоками, чтобы принести их к себе и не бегать вниз каждый раз, когда захочется вкусного. Пол в катакомбах, словно листвой, засыпан хрусткими железными крестами, а сверху катаются яблоки, прогуливаются парами: гольден с белым наливом, грушёвка с кандиль-синапом – беседуют о чём-то своём.
«Здесь не растёт кандиль-синап», – подумал Ефим и проснулся окончательно.
В бронированном проёме густела темень. Ефим попробовал закрыть глаза, но понял, что больше не уснёт. Улежавшееся в мягкой пружинной люльке тело требовало движений. Ефим зажёг свет, посмотрел на часы. Часы стояли, показывая полпервого.
Казалось бы, что за дело? Он не связан ничем, ему никуда не надо спешить, можно есть, когда проголодаешься, спать, когда сморит сон. Под землёй всегда ночь, а щёлкнув выключателем, всегда можно сделать день. Проснулся – так вставай – плевать, что снаружи темно, октябрь на дворе, скоро вовсе дня не будет.
И всё-таки остановившиеся часы словно отрезали его от жизни. Ефим чувствовал, что отныне не он хозяин всего, что творится вокруг, а окружающее ведёт его куда хочет, диктует свою волю. Ощущение времени – одно из новых чувств, подаренных человеку прогрессом. Потерять часы – то же самое, что лишиться зрения. Придётся, когда рассветёт, идти в деревню, узнавать, который час.
А пока – нечего валяться. Работа – лучшее лекарство от меланхолии. Она действует даже вернее, чем «той же яблочный дух».
Ефим поднялся, разобрал свои вещи, сходил с ведром к источнику, нагрел воды и перемыл посуду. Разболтал в кастрюльке сухое молоко, поставил вариться овсянку.
Настроение понемногу возвращалось.
– Не торопись! Приободрись! Мы застрахуем твою жисть! – громко запел Ефим.
Овсянка традиционно считается мерзким блюдом, но если приготовить её как надо, то получится что надо. Например – овсяная каша с обжаренными в масле яблоками.
Ефим схватил полиэтиленовый пакет и, продолжая распевать, побежал вниз. Путило вчера наврал, но где-то внизу действительно есть коричные яблоки. Господин Изивинский ещё сто лет назад утверждал, что никакое другое яблоко не даёт столь вкусного варенья, как это. Старые знатоки понимали толк в яблоках, хоть и придумывали иной раз несусветные названия. Чего стоит хотя бы аппетитное словечко «свинцовка». Или – «серинка». Мерси боку, сами ешьте вашу серинку. Коричное кликали «коричневым», различая «зелёное коричневое», «жёлтое коричневое», «коричневое красное» и «расписное коричневое». Но зато они и яблонь не рубили, чтобы избежать налога на каждый привитый ствол.
Ага, вот они, ящички из хлипкой фанерки, армированные мягкой проволокой и облепленные цветастыми этикетками марокканских апельсинов. Такие ящички сотнями горели на задних дворах любого универсама, а у Путило и они приспособлены к делу. Так, посмотрим: плод средней величины, форма репчатая, уплощённая, без рёбер, блюдце просторное, воронка глубокая, чистая. Плодоножка толстая, но без расширения на конце. Ну-ка, теперь поближе к лампе – нет, не наливное. Потрясти – семечки не шуршат, – значит, не гремушка. Так и должно быть, всё как учили. И за что Рытов меня с экзамена выпер? Ещё должен быть слабый ананасный привкус, за который яблоко и прозвано коричным.
Ефим набрал в мешочек десятка полтора яблок, прикрутил на место крышку, и в этот момент безо всякого предупреждения цепочка пыльных ламп под потолком погасла. Немедленно установилась тьма, столь плотная, какая только под землёй бывает.
– Так, – произнёс Ефим, стараясь успокоить себя. – Ничего страшного, выберемся. Главное – не паниковать.
Он протянул руку, нащупал горячую лампу, осторожно потряс. Никакого эффекта. Значит, придётся выбираться вслепую. Ефим двинулся вперёд, постепенно перебирая рукой стопки ящиков. Через минуту рука провалилась, не встретив опоры, – вбок отходила какая-то галерея, которой тут не должно быть. Во всяком случае, Ефим не помнил, чтобы в этом месте были развилки. Ефим свернул было направо, потом вернулся и пошёл прямо. Теперь, когда темнота поглотила его, ему уже не чудились шаги и сдержанное дыхание за ближайшим поворотом. В том больше не было нужды, он попался, бездумно вляпался в ловушку, его больше не надо пугать, а можно подходить и делать с ним что угодно.
Неожиданно Ефим почувствовал, что в полушаге перед ним ждёт распахнутый в полу люк. Ну конечно, люк, не замеченный сапёрами, а внизу новая система ходов ещё сложней и запутанней, чем эта, и, главное, никем не проверенная, не изученная… там может прятаться всё, что угодно…
Ефим ухватился руками за ящики, выставив ногу, начал поспешно ощупывать дорогу перед собой. Простукал пол, сделал робкий шажок, снова принялся шарить ногой в темноте. В памяти всплыло воспоминание об оставленном на столе фонарике. Идиот! Ну что стоило захватить его с собой? Вот и мучайся теперь, жди, когда пол кончится и ты кувырком полетишь в нижний подвал. И даже если там не подвал, а вульгарный поглотительный колодец, выгребная яма, не чищенная с сорок четвёртого года…
Ефим вспомнил свой сон, как он тонул в грязи, и его передёрнуло. Ну каким местом думал Путило, когда устраивал склад в подземных казармах? Тут ничьи нервы не выдержат, здесь самые стены убийством пропитаны, никаких призраков не надо, достаточно знать, что творилось вокруг во время войны. А потом полвека могильной тишины. И тьма. И подземный холод. И тлеющие останки, которые Путило, должно быть, велел сбросить вниз вместе с осколками разбитых надолбов.
Что-то невесомое коснулось затылка, не прикосновение даже, а лишь намёк, словно мягкая лапа воздух огладила вокруг вставших дыбом волос. Ефим вскрикнул и, забыв о ждущих под ногами провалах, кинулся бежать. Задетая плечом стопка ящиков с треском повалилась в проход, какое-то не в меру ретивое яблоко, чмокнув, распалось под ногой. Ефим поскользнулся и упал, не успев даже выставить вперёд руки. Мрачный дорожный сон сбывался наяву, но был ещё страшнее. Сон милосерден, он всегда позволяет взглянуть в лицо гибели, а здесь безликая темнота скрывала всё, не любопытствуя знать, что происходит с жертвой.
Лицо и тело ожгло, словно на них плеснули жидким огнём, ощущение было как от удара, поразившего разом все чувства. Ефим отчаянно забился и лишь тогда понял, что никто его не держит, а вокруг не пламя, а вода – ледяная до боли, до ломоты в суставах вода подземного родника.
Дрожа всем телом, Ефим выбрался из неглубокой ванны. Купание отрезвило его, и он уже не мог понять, чего испугался минуту назад. Ну да, колодец здесь неподалёку, но закрыт чугунной решёткой, и вообще провалиться в него невозможно – просвет меньше полуметра. В крайнем случае – ногу сломаешь, и всё. Теперь осталось сориентироваться, в какую сторону идти. Впереди одна развилка на боевой линии и поворот к доту. У развилки сворачивать направо… или налево? Ефим почувствовал, как дрожь от холода вновь начинает сменяться нервным тремором.
– Ну хватит, – сказал Ефим, – хватит. Сейчас соображу.
Он чувствовал, что вокруг что-то изменилось, появилось новое ощущение. Дело не в сырости и холоде, к ним он уже притерпелся, а тут что-то совсем новое. Ефим потёр ладонью лоб и засмеялся. Несомненно, то был нервный смех, но в нём звучало нескрываемое облегчение.
Ефим нашёл дорогу.
В воздух, напоенный дыханием зреющих яблок, вплелась иная, резко отличная нота. Пахло пригорелым молоком. Каша, оставленная на плите, сгорела, и струйка чада, коснувшись носа, верно указывала нужное направление. Принюхиваясь, расширив ноздри, Ефим двинулся в путь. Вот и развилка. И глупый поймёт, что сейчас надо сворачивать направо. Теперь главное не прозевать свой поворот. Если наверху рассвело, а дверь открыта – его можно просто заметить.
Едва он переступил порог, свет послушно вспыхнул. Ефим выругался и принялся стаскивать мокрую одежду. К тому времени, когда он переоделся, происшествие предстало перед ним в юмористическом ключе, тем более что и каша, как выяснилось, уцелела. Просто молоко частью сбежало и подгорело на конфорке. А потом, когда пропал свет, вырубилась и плита.
Ефим помешал вновь начавшую булькать овсянку и, захватив фонарик, побежал за брошенными в панике яблоками. Разумеется, на этот раз фонарь не понадобился.
В амбразуре медленно серело. Обозначилась кривая яблоня и заросли рогоза внизу склона. Пожалуй, можно сходить в деревню, узнать, который час, и вообще, провести рекогносцировку на местности.
Ефим плеснул в выскобленную ложкой кастрюльку воды – ему совершенно не улыбалось вновь отдирать от стенок засохшие остатки, – надел бежевый плащ и пустился в путь. По дороге задержался ненадолго, чтобы прибрать учинённый внизу разгром. Собрал яблоки, сложил ящики стопкой. Конечно, сортность у плодов будет не та – помяты, побиты, поцарапаны. Теперь это то, что называется подручной падалицей. Хранить такой товар нельзя – сгниёт. Ну да ладно, как-нибудь. Пусть об этом у Путило голова болит, в следующий раз будет по-человечески свет проводить. А то бросил времянку на соплях и ещё чего-то хочет.
Неподалёку от выхода из катакомб, опираясь на причудливую можжевеловую палку, стоял старик. Он молча смотрел, как Ефим возится с замками, потом подошёл ближе и спросил:
– Стораж тутэйшы?
– Сторож, – признался Круглов.
– А я – Захарыч, – старику явно хотелось поговорить.
– Не скажете, который час? – решил воспользоваться случаем Ефим.
– У мяне няма гадзiнику, – огорчённо сказал Захарыч.
«Откуда он такой взялся?» – подумал Ефим, разглядывая колоритного дедка.
Тот приблизился и, ухватив Ефима за пуговицу, наставительно произнёс:
– Ты слухай. Я цябе навучу, якiы спосабы ховання яблык лепшы. Найлепше хаваць яблыкы у тарфяным парашку. Там працент псавання пладоу меншы, чым пры хаваннi у стружцы. Яблыкы лепшы дробныя. Буйнейшыя даюць меншы выхад. Адсюль можна зрабиць вывад: неабходна захоуваць плады дробнага калiбру, а буйныя уживаць у першую чаргу…
– Дедуль, а ты сам, часом, не буйный? – спросил Ефим.
– Якога д’ябла? Я яму о торфы, а ён… У торфы лепшы хаваць.
– Дед, ты пойми, я сторож, – проникновенно сказал Ефим. – У меня торфа нет.
– Ну, рабi як хочаш, – недовольно произнёс Захарыч и отпустил пуговицу. – Пажывём – пабачым.
– До побаченья! – крикнул Ефим и быстро пошёл к дороге.
Деревня оказалась гораздо дальше, чем можно было подумать, глядя из машины. Ругаясь про себя, Ефим брёл по обочине. Потом догадался завести часы, поставив их вслепую на двенадцать, и шёл ещё четверть часа. Наконец показались серые, обросшие завалинками избы. Ещё издали Ефим заметил приросшую к плетню фигуру, пристально всматривающуюся поверх его головы.
– Здравствуйте, – сказал Ефим, памятуя, что в деревне нужно первым делом здороваться. – Не скажете, сколько времени, а то у меня часы встали?
Для ясности он задрал рукав и постучал ногтем по стеклу часов.
В прозрачных глазах ничего не отразилось. Бабец отлепилась от забора и шагнула в сторону, пробормотав на прощание:
– I verstah nuut.
– Чево? – спросил Ефим в удаляющуюся спину.
Заскрипела низкая дверь, он остался на улице один.
– Психичка, – пробормотал он. – Умом тронутая.
Однако от дома отходил осторожно, болезненно ожидая боком короткой автоматной очереди.
Большая часть домов в деревне стояла запертая, не то хозяева куда-то уехали, не то и не было этих хозяев. Но в одном из домов между окнами на расстеленной газете лежало два преогромных семенных огурца, а сквозь двойные, к зиме приготовленные рамы слышался говор радиоприёмника. О чём он там талдычит, было не разобрать, но сам звук, интонация дикторской речи показались такими родными, что Ефим решился и постучал в окно. Радио мгновенно смолкло, белая занавеска сдвинулась в сторону, и за стеклом замаячило старушечье лицо. Платок, повязанный в скобку, и рельефные морщины придавали ему совершенно иконописный вид.
– Yoboseyo… – донёсся дребезжащий голос. – Muosul wonohashimnikka?
– Простите, который час? У меня часы остановились, – по инерции произнёс Ефим заранее приготовленную фразу.
Слова старуха произносила врастяжку, словно пела, и ударения делала, кажется, на все гласные подряд. Ефим не мог разобрать ни единого слова.
– Kamapsumnida… – протянула старуха. – Annyonghi kashipshiyo.
Занавеска вернулась на место. Очевидно, разговор был окончен.
Во дворе исходил злобой полкан. Громыхал лаем, громыхал цепью. Соваться туда, стучать, настаивать не имело смысла. Ефим покорно отошёл.
«Может – чухонка? – гадал он. – Старая, по-русски не понимает. Прежде они здесь жили: чудь белоглазая, ижора…»
Не решаясь больше стучать, он прошёл посёлок из конца в конец. Избы, не пригородные дачные домики, а кондовые хаты, исконное порождение этой земли, безрадостно смотрели из-под надвинутых на скрыню кровель. Они старались отодвинуться от чужака, отгораживались плетнями, укрывались за поветями и одринами, словно надолбы выставляли вперёд сложенные кострами поленницы позалетних дров. Повисшие на стенах драбины превращали их в подобие осаждённых крепостей, и цегловые трубы возвышались над крышами, словно неприступный донжон. Клямки, зачепки и иные приспособления охраняли плашковые, крепко ошпугованные двери со скрипучими дубовыми журавелями. Весь дом от подрубы до вильчика, до самого конька на нём ясно показывал, что незваному гостю лучше сразу уходить. Ничего он тут не поймёт, не узнает, не получит.
«Может, староверы? – продолжал мучиться Ефим. – Они пришлых не любят, у них, говорят, даже кружка есть специальная для чужих – так и называется: поганая. Да нет, ерунда, чего тогда говорят по-тарабарски?»
Возле колонки – должно быть, той самой, что свинчена в его подземелье – Ефим заметил ещё одну фигуру. Опять женщина – не иначе у них тут матриархат, – но на этот раз помоложе, не совсем старуха. Женщина, расплёскивая серебристые капли, сняла с крана ведро, поставила его рядом с другим, уже полным. Зацепила дужку ведра крюком коромысла, затем, изогнувшись странным, немыслимым для человека образом, подхватила вторым крюком другое ведро, а коромысло при этом как бы само очутилось на плече. Неведомое, сверхъестественное умение, ещё одна тайна здешней жизни. Не оглянувшись на Ефима, женщина пошла по протоптанной вдоль обочины стёжке. Капли срывались с покачивающихся вёдер.
– Сударыня! Гражданочка! – крикнул Ефим и припустил бегом. – Я сторож тут со складов. У меня часы встали. Где можно время узнать?
– Neka nesaprotu, – сказала женщина то ли Ефиму, то ли самой себе.
– Вы что, с ума посходили все? – Ефим загородил дорогу. – Я вас по-человечески спрашиваю: который час?
– Tu, maita, mani neaztiec! – теперь местная Венера точно обращалась к нему. – Rokas nost!
Ефим по-прежнему ничего не понимал, но движение, которым сопровождалась странная речь, недвусмысленно показывало, что сейчас одно, а возможно, и оба ведра будут выплеснуты ему на голову. Вода даже на вид была холодной, ничуть не хуже, чем в роднике. Кроме того, у дамы есть ещё коромысло. Ефим отступил в сторону.
– Дура! – истово сказал он.
– Ei tu dirst! – отпарировала собеседница, не оборачиваясь.
Походка у неё была не по возрасту лёгкая, коромысло приучает красиво ходить.
Ефим сам не помнил, как вышел из деревни и направился в обратный путь. Шёл, стараясь понять или хотя бы просто уложить в голове происшедшее. Думалось трудно.
Может, у них свой говор? Вроде мазовецкого языка? Какой-нибудь разбойный язык. Прежде в этих краях целые деревни жили разбойным промыслом, на большую дорогу ходили. Стоит на карту взглянуть, как сёла называются? Большие Воры, Малые Воры, Сокольники, Лихославль, Люта… Только как они уцелели, такие дремучие? Хотя, может, потому и уцелели. А всё, что получше, – погибло. Путило говорил, тут прежде сады были. Где они? Торчат местами на крутизне останцы от яблоневых массивов. Старые, бесплодные. Редко какое из этих деревьев выхолит и уронит дивный плод – напоминание о том, что не просто абы что растёт здесь, а лучшие из лучших сортов.
Сад здешний был, конечно, не торговый, а скорее всего – обычный крестьянский, для своих нужд. На склонах, где ни пахать нельзя, ни с косой пройти, располагались, как правило, мужицкие сады. Но какие, однако, нужды были у тогдашних мужиков! А может – господский сад был. Места вокруг красивые. Стояла на холме усадьба, от которой ныне и камней не сыскать, вокруг зеленел сад, скакали по аллеям всадницы в ярких амазонках, вечерами из комнат доносились звуки фортепиано.
А возможно, и скорее всего, всё было не так. Слишком уж эта картина отдаёт литературщиной, Толстым да Тургеневым. «Всё врут календари», люди жили иначе, чем можно себе представить, но одно держим за верное: поля тогда не вырождались под сорной ивой и никто не пилил яблонь. Просто было чуть больше людей с живою душой.
Куда они делись, знатоки и ревнители садоводства, патриоты русского яблока, прославившие отечественные сорта? Где вы, братья Гозер, пастор Авенариус и Иван Николаевич Гангардт? Вернитесь, граф Клейнмихель, – без вас не растёт на Руси белое свечковое яблоко и пипка лимонная. Ольга Александровна Кох, где ваши карликовые ренетки, прозванные медуничкой за вкус и цвет? Госпожа Янихен, Вера Козьминична, хутор Сергеевка снесён с лица земли, нет больше сада на двухстах десятинах, и ничего нет. Куда делись псковские садоводы: Бельский, Гартциус, Мальм и господин со странной фамилией Иванов, год за годом поставлявший миру лучшие образцы антоновки обыкновенной? Все забыты, одного Ивана Владимировича Мичурина из города Козлова Тамбовской губернии помнят, и то в основном по анекдотам.
Ветер дует над пожухлой травой на месте бывших образцовых мыз и торговых садов, топорщат в небо безлистные сучья случайно уцелевшие корявины. Осень. Начало октября. Яблочная пора. Она теперь яблочная больше по названию. Ушли славные люди, и умерла русская слава. Один нувориш Путило хоронит в бетонном склепе остатки того, что было. Воистину, «то, что ты сеешь, не оживёт, если не умрёт».
Ефим вышел на склон, свернул к доту. Сквозь амбразуру не было видно ничего. Интересно было бы отыскать эту точку изнутри. Скорее всего там пусто, но всё равно интересно посмотреть. И ведь что замечательно: как они парами стоят – дот, а напротив яблоня. Может, и вправду дерево добра и зла лучше всего растёт на крови? Прежде считали, чтобы плодовое дерево скорей принесло урожай, надо при посадке закопать под него селёдку. Ну а чтобы дольше плодоносило – кровушкой землю спрыскивать.
Проскальзывая в полёгшей траве, Ефим спустился к яблоне. Немного не доходя, остановился. На земле лежало тяжёлое, жёлто-зелёное в красноватых пестринах яблоко. Позёмковое – старинный польский сорт, вкусом напоминающий садовую землянику.
Медленным заученным движением Ефим поднял яблоко, обтёр рукавом плаща, надкусил. Нежная рассыпчатая мякоть таяла во рту. Ефим не чувствовал вкуса.
Психологи называют это состояние «ложная память», а если хотят выглядеть особо умными, говорят: deja vu. Хотя ничего ложного в его состоянии нет – вчера он точно так же стоял на склоне и ел яблоко. Странного в его находках тоже нет, не под берёзой же он поднял это яблоко. Яблоко от яблоньки, как говорится, недалеко катится. Оно и есть недалеко – правда, вверх по склону. Но это уже какая-то флюктуация. Нечего голову по пустякам ломать, домой пора, обед варить.
Подземелье встретило его привычным холодом и затаившейся тишиной. Ефим набрал внизу сетку штрифелей, вернулся в дот и заложил засов. Поковырялся в шкафу, выбрал пакетик куриного супа с макаронными изделиями и кашу московскую с мясом – тоже из пакетика. Пока закипала вода, сидел, жевал яблоки. Яблоки перед обедом не портят аппетит. Скорее – наоборот.
Обидно, что так получилось с часами. Странно и непонятно. Может, они нарочно – поиздеваться решили? Злобствуют, что Путило своего человека привёз, а не кого-нибудь из местных нанял. Ну и пусть. Чем скорее он забудет о сегодняшнем походе, тем больше нервных клеток сохранит.
Суп кипел. Каша загустела и уже не булькала, а сыто пыхала на плите. Ефим добавил в кашу кусочек маргарина и перемешал. Вкусно пахло глютаматом натрия и сублимированным мясом.
Ефим вытащил из сумки стопку привезённых с собой книг, сложил их под кровать, чтобы под рукой были. Хватит бегать, пора начинать размеренную жизнь. Завтра он напечёт блинов и сделает налистники. Когда ещё в наше время удастся попробовать налистники? А чужеплеменные деревни, склепы, привидения пусть живут сами по себе. Он приехал сюда ради яблок.
Во второй половине дня облака разошлись, солнце на недолгие пять минут заглянуло в стальную амбразуру. Мир озарился. Свет лучом упал на стол, заставил померкнуть усталую лампу. Ефим выглянул на улицу. Как всегда, когда смотришь с поверхности земли, самыми важными кажутся те предметы, что всего ближе к тебе. Отцветшие травины с развешенными на них паутинками, круто падающий склон, идеально простреливаемый, без единой мёртвой зоны. И только потом – замшелое дерево, болотце, жидкий кустарник. Под яблоней в серо-зелёной осенней траве что-то краснело, словно нечаянный живописец выкрасил землю охрой.
Ефим поспешно отвёл взгляд. Померещилось. А если и нет – мало ли что может краснеть под яблоней? Обрывок кумачовой тряпки, смятая пачка из-под сигарет, изъеденная рыжей ржавчиной консервная банка… Что же – из-за каждой мусорины под окном двухкилометровые пробежки устраивать?
Ефим отключил плиту, снял суп, отхлебнул немного, обжёгся, а потом как-то вдруг обнаружил, что уже спешит по проходу, сжимая в кулаке инстинктивно прихваченный фонарь.
Под деревом лежало яблоко. Мелба – новый сорт, районированный в Ленинградской, Псковской, Новгородской и, кажется, Костромской областях. Добротный кухонный сорт, вполне обыкновенный в пригородных садоводствах. Порой встречается и по деревням. Но не здесь же! Это же штрифель, он точно помнит!
Ефим поднял яблоко, отёр рукавом. Нет, никакого обмана, настоящее яблоко: зелёная кожица с ярким румянцем, на боку – след зажившей градобоины, а больше никаких дефектов. Непохоже, что это яблоко прибыло издалека, слишком уж оно свежее и чистое, сразу видно, что оно с этого дерева, здесь выросло, созрело, упало в мягкую траву и откатилось немного. Вверх по склону.
Пересиливая себя, Ефим поднёс яблоко ко рту. И вдруг опустил руку, поражённый простой до очевидности мыслью. Крысы! На этом дереве вообще ничего не растёт, яблоки, которые он тут находит, – с его склада. Крысы воруют их и укатывают в норы. Крыса – зверь умнющий, отбирает только самые лучшие плоды. Одна ложится на спину, другие вкатывают яблоко ей на брюхо, а потом тащат за хвост, как на салазках. Вот яблоко и остаётся целёхоньким. А он, кретин, ел их, не вымыв! Какая пакость, не хватает ещё желтуху подцепить!
Ефим размахнулся и зафигачил яблоко подальше в болото.
Теперь чуткая тишина подземелья не удивляла. Шаги? – конечно, шаги! Дыхание? – сколько угодно! Крысы, всюду крысы. Пробираются между бочками, ползают под ящиками, точат, грызут. Не повезло Сергею Лукичу, не продумал, не предусмотрел. Испортят ему грызуны товар.
Но сторожа это не касается, он бережёт добро только от людей. И вообще пора об ужине думать. В нижней галерее стоит несколько ящиков с овощами, значит, можно приготовить фальшивое рагу. И ещё хотелось бы попробовать винегрет с яблочным уксусом, надо будет завтра озаботиться этим вопросом. И вообще, довольно жрать концентраты. Времени у него много – да здравствует праздник живота!
Ефим вернулся в дот, вытащил из-под койки сочинение Констанции Буожите-Брундзене «Всё из яблок» и погрузился в чтение. О своих планах он вспомнил поздно вечером, когда заниматься готовкой уже не имело смысла. Пришлось ограничиться варёной картошкой и открыть баночку снетков с овощами.
Спалось плохо. Снились полчища крыс в касках и с железными крестами. Они подбирались к его кухонным припасам, а Ефим стрелял по крысам яблоками из 203-миллиметрового орудия.
Боевые действия не помешали ему замечательно хорошо выспаться, Ефим проснулся бодрым и свежим. За окном густела ночь, часы стояли, показывая полпервого. Настроение сразу испортилось, но всё же Ефим поднялся и затворил тесто для налистников.
Печь блины – вообще занятие исключительно мужское. Женщины психологически не могут ни сделать пресное тесто без комков, ни испечь тонкий до прозрачности блин на сухой сковороде. Стихия женщины – оладьи, пончики, пышки, в крайнем случае – блинчики, но не блины. Настоящий блин кругл и плотен, величиной во всю сковороду. Маслом его смазывают, когда он уже испечён. Попробуйте бросить масло на сковороду, и блин просквозит миллионом крошечных отверстий. А это уже не блин – мясо, завёрнутое в него, – засохнет, яблоки – растекутся, хорошо приготовленный творог – полезет наружу, словно куча белых червячков. Попытайтесь сказать самой опытной поварихе, что нельзя сыпать муку в воду или молоко, а надо делать наоборот, – она вас просто не поймёт. Да что там говорить, поджарить мясо и испечь блин по силам только мужчине.
Ефим умел и любил готовить, но сегодня дело шло туго. Отвлекала тьма в оконной щели. То и дело Ефим вглядывался в неё, пытаясь разглядеть полузасохший ствол, а под ним неясную красноту, словно жидкий сурик пролился из банки. Один раз даже бросил сковороду и, выставив окошко и погасив под потолком лампу, долго светил вдаль фонариком. Яблоня была на месте, а больше ничего разобрать не удалось.
Наконец на сковороде, теперь уже в масле, зашипели налистники. Дразнящий запах отвлёк Ефима от созерцания темноты. Обильная еда хорошо помогает от дурных предчувствий. Ефим позавтракал, пожалуй, излишне плотно, и его снова сморил сон. Размышляя, что прежде надо бы сходить за каменичкой для уксуса, Ефим улёгся в неубранную постель. Проснулся, когда сквозь амбразуру уже сочился свет. Ефим припал к холодному металлу. Снаружи всё было спокойно, осенний пейзаж изабеллина цвета не разнообразила ни единая яркая искра.
– То-то, – произнёс Ефим. – Не спорьте со мной. Слушайтесь, яблочки, деда Мазая.
Он хотел спуститься вниз, получше осмотреть подземное хозяйство, разобраться, что где лежит, чтобы потом не искать нужное яблоко вслепую, но потом решил, что грешно сидеть под землёй короткий световой день. Инвентаризацию он проведёт вечером, а сейчас отправится гулять. Не в деревню, боже упаси, туда он больше не ходок, а просто по полю или в лес. Может быть, там ещё грибы есть. А нет, так просто пойдёт куда глаза глядят.
Перевалив вершину холма, Ефим понял, что глаза глядят в сторону яблонь. Этак он скоро туда настоящую тропу проложит. Впрочем, не всё ли равно? Главное, что дурным совпадениям пришёл конец. Под яблоней ничего нет, совсем ничего… кроме вот этого яблока… Желтобокая антоновка прекрасно маскировалась среди пожухлой травы. Неудивительно, что он не разглядел её сквозь амбразуру.
Ефим подобрал находку, отёр рукавом, положил в карман. Неспешно прошёлся ко второму дереву, поднял там небольшое яблоко сорта осеннее бергамотное. Повернул обратно.
«По косогору ходить – сапоги косо стопчу», – мелькнула глупая мысль.
Возле входа в подвал сидел, дымя беломориной, Захарыч. Меж колен он держал видавшую виды складную линнемановскую лопату.
– Гэй, стораж! На вот. Тут балота поруч. Торфу льга богата накапаць!
– Сам копай, – невежливо ответил Ефим и канул под землю.
С фонарём в одной руке и планом подземелья в другой он облазал все доступные человеку ходы. Путило говорил правду: от прошлого здесь не осталось ничего, кроме старых стен. Отыскал все шесть дотов, два из них оказались наглухо замурованы, а два центральных капонира так и просто обрушены, скорее всего – взорваны, потерны, ведущие к ним, – завалены обломками. Обзор сохранился только из тех двух дотов, возле которых росли яблони. Поднялся на наблюдательный пункт, посидел в колодце для перископической трубы, на брюхе слазал в точку прямого обзора, покрытую старой корабельной бронёй и залитую цементным раствором. Вид оттуда был хорош, а вот крысы там пробраться явно не могли. Туда, в подземелье, – сколько угодно, а обратно – увы. Не умеют пока что крысы по потолку бегать.
Амбразуру второго дота Ефим накрепко заколотил старыми досками.
Окончив это полезное дело, он вернулся в своё убежище. Если верить ксерокопии, снятой с плана военных времён, жил Ефим в правом крональном полукапонире. Два подошвенных полукапонира оказались сырыми и к жилью непригодными. С большим интересом Ефим обнаружил, что заиленная ручьёвина у подножия холма представляет собой остатки противотанкового рва. Особенно порадовала его неразборчивая надпись: «Контрэскарп разминир». А эскарп, значит, «не разминир»? Чудесно!
Ефим сам понимал, что и его интерес, и восторг, и занятость – неестественны, излишне аффектированы. Он нарочно убеждает себя в благополучии, распаляет хорошее настроение, чтобы не думать о главном. Здесь мёртвая, могильная тишина, тёмные ходы, запах зла и смерти, замаскированный садовым ароматом. Но и на воле ничуть не лучше. И больше всего не хочется представлять безнадёжно открытый сквозной простор и избитое ветрами дерево, под которым опять, наверное, лежит неведомо откуда взявшееся яблоко. Агарофобия – родная сестра клаустрофобии, но для горожанина она куда страшней.
– А мне всё это совершенно всё равно!.. – пел Ефим полузабытую песню.
Он натушил полную латку фальшивого рагу и наварил на два дня борща со свиной тушёнкой. Сметаны у него не было, поэтому незадолго до того, как снять кастрюлю с плиты, Ефим покрошил туда кислое яблоко. Получилось вкусно. И настроение замечательное, и вокруг никого нет – можно петь во всё горло, не ожидая недоумённых взглядов:
– Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю!..
Хорошо.
С определителем в руках (помологию всё-таки придётся пересдавать) Ефим спустился в подвал и устроил себе небольшой практикум. Сорта обнаруживались самые неожиданные, видать, не перевелись на свете «спортсмэны садоводства», желающие во что бы то ни стало выращивать челеби в Архангельске и антоновку в Крыму. Встретилась даже коротконожка королевская, что ещё пятьсот лет назад была известна во Франции под именем «карпендю». Считалось, что если съесть это яблоко перед сном, то сон будет вещим. Вот и славно, может, хоть сегодня ночь обойдётся без железных крестов.
День падал к вечеру, солнечный луч пролез в бойницу, прямоугольником лёг на стальную, с войны сохранившуюся дверь. Ефим не хотел выглядывать наружу, но свет был слишком ярок и не предвещал плохого.
Под яблоней что-то алело, будто киноварью тронули блёклый холст.
– А мне всё это совершенно всё равно! – запел Ефим.
Нехорошо запел, фальшиво.
Не одеваясь, Ефим вышел наружу, под одним деревом поднял солнечный экземпляр костикивки сладкой, под другим – коштеля, вновь польский сорт. Должно быть, здешние крысы неравнодушны к польским яблокам. Но каковы зверюги, а? Успели-таки, пока он бродил по переходам, выкатить пару яблок! Но теперь с этим покончено. Ефим подошёл к доту, проверил: отверстие было заделано на совесть. Всё, лапушки, больше не поворуете, придётся на месте есть. Странно, почему он не видел внизу ни одного погрызенного яблока?
Дома Ефим, не глядя, сунул беглянок в первый попавшийся ящик и замуровался в жилом склепе. Перед сном он покорно сжевал яблоко карпендю, и ему ничего не снилось.
Проснулся Ефим, как всегда, в темноте, но на часы смотреть не стал, и без того догадывался, что там увидит. Зажёг свет и лежал с книжкой, прикидывая, что бы этакое соорудить на завтрак. Остановился на штруделе. Печь пироги вообще-то дело женское, но плох тот мужчина, который с этим делом не справится. Ефим поставил тесто и вышел на улицу. Просто подышать свежим воздухом, очистить лёгкие от яблочных миазмов. А есть ли что под деревом или нет – его не волнует.
Он стоял, вдыхая холодный, очищенный туманом воздух. Вокруг потихоньку светало, где-то далеко, на болотах, кипели клики журавлей. Потом, заглушив их, возник иной, знакомый и родной звук. По дороге шла машина.
Ефим поднялся на гребень и увидел ползущий в гору фургон. На его стене красовалась чёткая надпись: «Автолавка». Ну, конечно, Путило же говорил, что по средам в Горках хлебный день, приходит машина. Пожалуй, стоит сходить. Не может же быть, что там и продавец такой же дурной.
Ефим сбежал вниз, взял деньги, сетку для продуктов и стоящие часы и поспешил в деревню. Поспел он вовремя: автофургон с распахнутой задней дверью стоял неподалёку от колонки, а вокруг толпились, видимо, все обитательницы выморочной деревни. Некоторые уже отоварились, но не уходили, поддерживая светскую беседу. На продажу был выставлен чёрный хлеб, мятные пряники каменного свойства и яблоки крымского сорта козу-баш, от долгого и нерадивого хранения и впрямь ставшие похожими на козью морду. Кроме того, была ещё пара импортных туфель производства местного кооператива. Каждая бабка брала их, осматривала и, оценив, возвращала обратно.
– Добрый день, – сказал Ефим, подходя.
Покрытые платками головы на мгновение повернулись к нему, затем вновь возобновился прерванный было разговор. Бабки говорили быстро, со странными жалобно-вопросительными интонациями, обрывая фразы, казалось, на середине слова. Понять нельзя было ничегошеньки. Не ясно даже, по-русски они говорят или опять на своём мазовецком.
– Кто-нибудь может сказать, сколько сейчас времени? – громко, ни к кому в особенности не обращаясь, спросил Ефим.
Беседа вновь прервалась, потом одна бабка, наклонившись к товарке и указывая на Ефима зажатой в тёмной руке неошкуренной рябиновой палкой, отчётливо произнесла:
– Гэвэр музар. Мэдабэр ло барур, кэ’илу hу ло руси. Канир’э – йеhудон.
Всё было ясно. Ефим послушно умолк. Потом, решившись, прошёл мимо очереди, протянув деньги, сказал:
– Две буханки, пожалуйста, – и неожиданно получил и хлеб, и сдачу.
Старухи неодобрительно смотрели на нарушителя, но ни одна не вмешалась. Очевидно, вымершие мужчины пользовались в деревне льготами и преимуществами.
– У вас часов тоже нет? – обратился Ефим к продавщице.
Спросил, как в прорубь прыгнул.
– Nesaprotu, – ответила та, приветливо пододвигая бучанский ящик с отходами крымского производства. – Vai tu abolus negrili?
Ефим попятился. Он узнал местную диву, с которой повздорил намедни.
Из деревни Ефим вышел в полном раздрае чувств. Шагал, размахивая авоськой, и пел на прежний мотив:
– А хле-еба-а чёрного я-а всё-таки купи-ил!..
Навстречу по дороге плелись ещё две старухи. Должно быть, спешили на большую распродажу из какой-то совсем уж затруханной деревни, куда и ворон костей не заносит, и автолавка не заезжает.
– Привет, бабуленьки! – крикнул Ефим. – Кумарет шалтравух! [2]
– Мен тусiнбеймiн, – ответила одна, а вторая добавила:
– Би олгох гуй.
– Ну конечно, – улыбнулся Ефим. – Чего ещё от вас ожидать?
Старухи засмеялись визгливо, и первая не без кокетства сказала:
– Келе алмайтынма катты экiнмiн.
– Я так и знал, – подтвердил Ефим.
Хорошо поговорили, содержательно.
Поднявшись до половины склона, Ефим свернул к ближней яблоне. Там лежал штрифель.
– Повторяетес-сь… – прошипел Ефим и со сладострастным наслаждением растоптал яблоко.
Потом он проверил баррикаду на амбразуре. Доски были сбиты и валялись в глубине дота.
– Ну я вас! – угрожающе проскрипел Ефим и помчался ко входу.
Захарыч ожидал его возле дверей. На этот раз он оставил где-то сапёрную лопатку, зато приволок небольшой рогожный мешок.
– Гэй, стораж! – позвал Захарыч. – Глядзi, якi торф добры. У торфы трэба ховаць.
Ефим раскрыл протянутый мешок. Там была какая-то сероватая пакость. Может, и в самом деле – торф. Ефим поднял мешок и высыпал торфяную муку на голову деду.
– Вон отсюда, – раздельно произнёс он. – Ещё раз тебя тут увижу – убью. Усёк?
Он с грохотом захлопнул стальную дверь, следом деревянную. Пробежал подземными ходами к жилому доту, припал к бойнице. Под яблоней ничего не было видно. «Должно быть, опять зелёный сорт попался, не иначе – ренет Симиренко. Ненавижу! Но дед-то, а? Каков шутник? Ничего, я ему устрою добры торф. Забудет, как шутки шутить. Дай срок, я тебя поймаю…»
Ефим сбросил плащ, подошёл к столу. Тесто в деревянной дежке уже поднялось. Ефим примял его и вывалил на присыпанный мукой стол. Он месил это тесто так, словно перед ним был виновник всех последних событий. Хотя, собственно говоря, что такого произошло за эти дни? Да ничего! И психовать незачем. С Захарычем он разберётся потом, а сейчас предстоит печь штрудель. Настоящий верхненемецкий штрудель с настоящим тирольским розмарином.
Спокойная размеренная работа вернула Ефиму благодушное настроение. Он готовил начинку: резал тонкими ломтиками восково-жёлтые с золотистым отсветом яблоки и рассуждал вслух:
– Ну и что такого? Главное – не нервничать. Я сюда отдыхать приехал. У меня всё в порядке. Просто края кругом дикие. И люди, которые остались, – тоже. Никто надо мною не издевался, они меня всего лишь не понимали. Мы чужие. Тут уже не разобрать, кто настоящий – я или они, мы просто разные. Нам договориться сложнее, чем элоям и морлокам. Я легче с немцем договорюсь, в каске и с железным крестом…
Лёгкий шорох заставил его оглянуться. Возле запертой двери стоял немец. Совершенно такой, как представлялось. В каске. С крестом. Курносое рыльце автомата смотрело в живот Ефиму.
– Штрудель зи дойч? – гортанно спросил фриц.
– Скрыжапель, – ответил Ефим. – Сюислеппер. [3]
– Зер гут, – согласился немец и немедленно растворился.
– Всё ясно, – сказал Ефим. – Я сошёл с ума.
Как всё просто! Можно было догадаться сразу. Сначала – переутомление и огорчение от несданных экзаменов, потом могильная тишина, темнота, жизнь в склепе. И яблоки, что «мозг главной укрепляют, благовония ради своего». В малых дозах, может, и укрепляют, а в больших, если верить гомеопатам, действие будет обратным. Вот они, яблоки, за стеной. Сотни тысяч, миллионы яблок. Скороспелые, прошедшие климактерическую фазу, и зимние, ещё не улежавшиеся, кислые. Но все они живы, они не просто лежат, а дышат, забирают кислород, выдыхают углекислоту и этилен. А этилен, между прочим, наркотик, и не слабый. Действует, правда, лишь в очень большой концентрации, но кто знает, сколько они его тут надышали, все вместе-то? А запах? Он хорош, пока почти незаметен, но когда он в избытке… Если вдуматься, из какой пакости он состоит… Теперь Ефим чётко различал в пропитавшем всё яблочном духе отдельные компоненты: смердело бутилбутиратом, несло изобутанолом, пованивало ацетоном и этилацетатом. А ещё в яблочном аромате обнаружен метанол. Это уже полный конец. Недаром древние считали, что сырые яблоки есть вредно.
Ефим выставил стекло, приник пылающими щеками к стальным щекам амбразуры и долго старательно дышал. Потом как следует собрался, надел телогрейку и ватные непромокаемые штаны, в которых зимами ездил на рыбалку, и отправился в дозор. Запирая двери, вставил в контрольку листочек с самым вычурным из своих факсимиле – кто знает, вдруг у Захарыча есть дубликат ключей и в отсутствие хозяина он шастает по складу.
В сумерках Ефим вышел к дереву, без труда отыскал ожидаемый зелёный плод – крупнину антоновскую, невкусное яблоко, годное в мочку, а также на мармелад и пастилу. Топтать яблоко Ефим не стал – зачем? – так поступают душевнобольные, а он собирается выздороветь. Есть тоже не стал – мало ли какой гадостью мог начинить его Захарыч. Ефим отнёс яблоко под горку и утопил во рву. Потом вернулся к дереву, выбрал кочку поудобнее, уселся и стал ждать.
Темнота быстро сгустилась, лишь размывы туч над головой продолжали сереть на чёрном фоне. Ночи ещё не было, где-то в безудержной дали заунывно выл вакуумный насос, вытягивающий у колхозных бурёнок последние капли жидкого молока. Шла дойка. Потом и этот звук смолк. Пала ночь.
Ефим сидел недвижно, чутко вслушиваясь в мир. Летом и весной ночная природа непрерывно гомонит: щёлкает соловьями, трещит коростелём, орёт лягушками, звенит зелёной кобылкой и просто шуршит, пробираясь в траве и по ветвям. Осенью жизнь спит, осенью тихо. В такой тишине невозможно потерять бдительность, Ефим невольно вслушивался, хотя и понимал, что Захарыч, ежели придёт, будет с фонариком. Впрочем, вряд ли это шутка Захарыча – слишком уж она сложна, громоздка и, главное, бесцельна. И всё-таки лучше грешить на Захарыча, чем на собственный психоз.
Смотреть в глубокой ночи было некуда, но Ефим регулярно обшаривал взглядом окрестности: не мелькнёт ли где затаённый луч. По ассоциации вспомнился ломтик солнечного света, проникший сквозь амбразуру, и лицо Ефима вытянулось от неожиданной и дикой мысли. Ведь если вечером в доте солнце, значит, амбразура направлена на запад! Что же это за укрепрайон такой? От кого собирались отбиваться засевшие под землёй фрицы? Может, это вовсе и не фашистские укрепления, а наши? Скажем, остатки линии Сталина. На Псковщине линия Сталина вроде не проходила, хотя кто знает? – всё было засекречено, да и сейчас об этом не слишком охотно пишут.
А с другой стороны, его дот – правый фланкирующий полукапонир и, значит, должен смотреть почти точно на юг. Это если взорванные центральные капониры ориентированы строго на восток. А если удар ожидался с юго-востока, от Москвы? И вообще, с чего он решил, что солнце показывается по вечерам? Часы у него стоят, всякое представление о времени – потеряно. Конечно, солнце, когда смотрит в его окно, стоит низко, но в октябре оно высоко и не поднимается.
Ефим криво усмехнулся. Вот так – три минуты логических заключений, и запад с востоком поменялись местами. Самого себя можно убедить в чём угодно, было бы желание.
Чуть слышный шорох коснулся слуха. Ефим замер, мгновенно подобравшись. Палец напрягся на кнопке фонаря, словно на спусковом крючке. По-прежнему вокруг было темно, но в этой темноте кто-то двигался. Тихо, слишком тихо для человека.
Ефим направил фонарь на звук и судорожно вдавил кнопку. Яркий луч рассёк ночь, вырвал из небытия кусок склона, примятую потоптанную траву и яблоко, катящееся вниз с холма.
– Стой! – заорал Ефим, вскочив и описывая фонарём дугу вокруг того места, где двигалось яблоко.
Потом он сам не мог понять, кому кричал в ту минуту: мерзавцу, подпустившему живой бильярдный шар, или самому яблоку.
Вокруг никого не было, не только людей, но даже трава не шелохнулась, потревоженная каким-нибудь мелким существом, на которого можно было бы списать происходящее. Яблоко лениво прокатилось ещё немного и замерло неподалёку от стоящего под яблоней Ефима.
Луч фонаря скачками шарил по окрестностям, стараясь высветить хоть кого-нибудь, хоть что-то, на что можно выплеснуть злобу и растущий страх, на кого можно закричать, облегчив душу, кого можно ударить или хотя бы просто обвинить в творящемся вокруг молчаливом и спокойном безумии. Но не было абсолютно никого и ничего, кроме яблока, которое лежало, полупровалившись в случайную ямку. Взглянув на него, можно было смело утверждать, что оно выросло здесь, созрело, упало с ветки в мягкую траву и откатилось вверх по склону. На пару шагов, не больше. Давно замечено, что яблочко от яблоньки недалеко катится.
– Вот, значит, как… – произнёс Ефим, нагибаясь. – Значит, прогуляться захотелось. Дубовый листок оторвался от ветки родимой… Нет уж, пойдём-ка домой.
Ефим обтёр яблоко рукавом ватника, спрятал в карман. Подошёл к доту, посветил фонариком в амбразуру. Окно открыто, правильно, он сам открыл его перед уходом. Дверь тоже распахнута, снаружи она не запирается. Вот только кто мог притащить яблоко из нижних галерей, пропихнуть через амбразуру и так точно направить под ноги сидящему сторожу?
Замок на внешних дверях был не тронут, листочек в контрольке – цел. Ефим заперся изнутри, перевесив контрольный замок на дужку засова. Пройдя как сквозь строй мимо рядов ящиков, вышел в дот, закрылся и заставил дверь кроватью. Извлёк пойманное яблоко, положил на свет. Долго и пристально разглядывал его, потом предложил:
– Признавайся.
Ответа не было. Совершенно обычное яблоко лежало на столе. Когда-то этот сорт был очень популярен на Московском и Петербургском рынках. Назывался он «чёрное дерево», поскольку кора яблонь, на которых он рос, отличалась тёмно-бурым, почти чёрным цветом. Яблоко непритязательное на вид: мелкое, одноцветное, лишь чуть подкрашенное тусклым румянцем, кожица исчерчена тонкой, ржавого цвета сеткой. Зато аромат выше всех ожиданий – с лёгкой пряностью свежей малины. И хранятся яблоки до середины зимы, и путешествия переносят с лёгкостью, и даже, как видим, сами порой путешествуют.
Ефим достал широкий кухонный нож, протёр лезвие полотенцем. Яблоко безучастно лежало на столе.
– Ну, как знаешь, – произнёс Ефим и рассёк яблоко пополам.
Яблоко распалось на две половинки, и больше ничего не произошло.
Скрыв разочарование, Ефим продолжил исследование. Внимательно осмотрел срез: плоть белая, мелкозернистая, семенные гнёзда узкие, глубоко уходящие в тело плода. В каждой камере помещается по одному толстому, хорошо сформировавшемуся семечку. Ефим срезал тончайший до прозрачности ломтик, осторожно, словно яд брал в рот, попробовал. Вкус, пожалуй, излишне островат, не улежалось ещё яблоко, в пору войдёт недели через две. Вот, кажется, и всё. А что, собственно, он собирался найти?
Ефим изрезал яблоко на мелкие кусочки и выбросил в ведро с картофельными очистками и прочим кухонным мусором.
Он проснулся, когда в секторе обстрела начало светлеть. Оставленное со вчерашнего дня тесто кисло в деревянной лоханке, присыпанные сахаром ломтики розмарина потемнели и дали сок. Тесто Ефим выкинул, неудавшуюся начинку отправил в посудину, где бродил яблочный уксус. Обидно, но больше такого не повторится. Пусть хоть бомбёжка, хоть прямое попадание в бронеколпак, но завтрак, обед и ужин состоятся вовремя. Штрудель он испечёт потом, а сегодня сделает яблочно-картофельные галушки. Жаль, к ним нет кровяной колбасы. Но можно открыть баночку колбасного фарша.
Прежде чем взяться за готовку, Ефим выглянул наружу. Отблескивающее пурпуром пятно под яблоней было видно издалека, и не стоило гадать, что это там режет глаз.
На этот раз, чтобы выяснить принадлежность найденных яблок, пришлось перерыть весь определитель. Первым плодом оказался брейтлинг, известный также под названием «красный кардинал». Под дальним деревом отыскалось красно-оранжевое гранатное яблоко, оно же – зимняя титовка. Справочник утверждал, что брейтлинг особенно вкусен в печёном виде, и Ефим понял, что надо делать.
Казнь! Причём не просто казнь, а децимация! Весь виновный сорт должен быть наказан. Конечно, ему не управиться даже с каждым десятым, но всё равно, за бегство одного яблока должны отвечать все.
Где лежит гранатное, Ефим не знал, зато отыскал пяток картонных коробок с брейтлингами и, не выбирая, отсчитал десять штук яблок.
– Так будет с каждым! – заявил он громко.
Настроение было праздничным. Он наконец нашёл противника и теперь занимался делом.
– Яблочко, яблочко, – пел Ефим, – соку спелого полно!
…жестяной трубкой извлечь из целых яблок семечки, разложить подготовленные плоды на противне…
– Так свежо и так душисто, Так румяно-золотисто…… присыпать отверстия сахарным песком по половинке чайной ложки на каждое…
Будто мёдом налилось! Видны семечки насквозь……и в духовку, в самый жар, пока не подрумянятся, не примут насыщенный карамельный цвет.
Так будет с каждым! Он не позволит смеяться над собой!
Отправившись восстанавливать снесённую преграду в пустом доте, Ефим нашёл среди досок яблоко тульской духовой антоновки. «Что ж, тем лучше. Всё равно слаболёжкая антоновка в этих условиях не сохранится до зимы. А я проверю, зря мне читали пищевую технологию или всё-таки нет».
Кучу пустых бочек Ефим отыскал в рокадной галерее, вытащил несколько штук наверх, разжёг неподалёку от входа костёр, вскипятил три ведра воды и как мог ошпарил бочки. У него не было ни ржаной, ни пшеничной соломы, чтобы застелить дно, ни солода, ни горчичного порошка; нельзя и надеяться получить в таких условиях качественный продукт, но Ефим всё же засыпал в бочки яблоки, потом, истратив половину запасов сахара и соли, приготовил маринад и залил подготовленные яблоки. Он неверно рассчитал диаметр бочек в пуке, заливки не хватило, и её пришлось дополнительно готовить. Ещё сложней оказалось укупорить бочки. Сначала Ефим мучился, пытаясь установить дно, не сняв уторный обруч, потом не мог вернуть уторный обруч на место, потому что не догадывался осадить шейный обруч, а драгоценный рассол тем временем утекал сквозь щели.
И всё же он совладал с этой работой, набил на головки ригеля, разложил подготовленные шпунты вдоль бродильных отверстий и, нянча избитые, в ссадинах руки, неведомо в каком часу ночи отправился домой. Жалел только об одном, что поблизости нет подходящего водоёма и нельзя, заколотив бочки в паки, утопить их для подводного зимнего хранения.
Утром под яблоней привычно кровавилось пятно. Фрекен красный – французский сидровый сорт. Кто знает, как в условиях могильного хранения готовить сидр? А потом что, и до кальвадоса дело дойдёт?
Ефим метался по подземелью, кричал, грозил. Яблоки молчали. Большие и мелкие, румяные и зелёные, с плотной, рыхлой, зернистой и мармеладной мякотью, кислые и приторные, сочные и суховатые, с привкусом ананаса, крыжовника, бергамотной груши, клубники, монпансье, шампанского вина и вяземских пряников. Они были покорны, но не покорялись, позволяли делать с собой что угодно, но жили своей независимой жизнью.
Даже та партия антоновки, что была им замочена, оставалась как бы сама собой. Яблоки меняли свой состав, мацерировалась клетчатка, происходил солевой осмос и гидролиз фруктозы, уменьшалось содержание яблочной и лимонной кислот, а взамен накапливались кислота молочная, янтарная и альфакетоглутаровая. Но всё это происходило само собой, по закону яблока, а не по закону людей.
Ефим испёк штрудель, а вечером – американскую мечту: яблочный пирог со взбитыми белками. Наутро нового дня поставил тушиться яблоки со свёклой, а выйдя на улицу, принёс два новых плода, которые было уже поздно резать в кастрюлю.
Одержимый приступом трудолюбия, Ефим распаковал завезённое Путило оборудование. Агрегаты грозно мерцали нержавеющей сталью, но оказались в данной ситуации вполне бесполезны. Шпарочной установке требовался острый пар под давлением в пять атмосфер, протирочной машине – силовой кабель. Сверх того, в поставке обнаружился некомплект: недоставало лужёного котла для повторной варки вытерок, не было и окорят из светлой чинаровой древесины. Пару часов Ефим читал найденную в ящиках документацию, изучал график зависимости скорости желирования от температуры и содержания пектина в мармеладной массе, потом убрал технические описания на место и всё своё внимание сосредоточил на кухне. Наварил кастрюлю компота и нажарил пряженцев с яблоками.
Ночью ему снились яблочные беньеты, миротон и фруктовые тортелеты, которые суть маленькие торты, подаваемые вместо десерта и в качестве сахарного антреме.
Утром он обнаружил, что щит в пустом доте разбит в щепу – и всё ради двух ничтожных ренеток, обнаруженных в законном месте неподалёку от яблонь.
Преступниц Ефим изрезал и испёк с ними шарлотку. Два десятка отобранных в подвале ренетов Ефим пустил на рисовую запеканку с яблоками и острый соус из поджаренной муки, моркови и красного перца. Плита в доте не выключалась ни на минуту, над конфорками сохли длинные вязки изрезанных кружочками яблок.
Ефима мучили изжога и понос, но он продолжал изощрённо уничтожать яблоки. Никто ему не мешал, в хранилище царили тишина и порядок. Ждущая, живая, могильная тишина. И порядок.
Ефим понимал, что если ещё не сошёл с ума, то сойдёт в самое ближайшее время, если не остановит странные блуждания яблок. Помощи в этом деле ждать было неоткуда. Не идти же в деревню, где опять скажут не на том языке, а в лучшем случае сообщат, «як краще зберiгати яблука». Бросить всё и бежать в город, как сделал его предшественник, он тоже не может. Надо разбираться самому, а на это не хватает сил.
Ночь Ефим с топором в руках провёл в пустом доте. Ждал. Никого не было, ничто не шелохнулось в темноте, не потревожило чуткого ожидания. Вот только стекло в жилом могильнике оказалось выдавлено да под яблонями виднелись багряные пятна яблок.
Ефим вернул их на место – рдеющее уэлси и многосемечковый мэк-интош, выведенный в Канаде, но районированный почему-то в Ставрополе. Теперь надо придумать, что с ними делать. А что можно сделать? Кончается мука, кончился сахар, болит живот.
Тошнит от яблок.
Вот они – истинные виновники, покорные, сладкие, душистые. Подходи и делай с ними что угодно, они согласны. Нездешне красивые, безучастные ко всему. Затаившиеся. Что им надо? Кто они такие? Род Malus, откуда он взялся на нашу голову? Палеоботаники ничего не говорят об этом, словно не было никакого Malus’а в древние времена, будто появился он на свете вместе с людьми, кинут мстительным богом вслед изгнанному из рая Адаму. И с тех пор никакое волшебство – злое ли, доброе – не может обойтись без этого плода. Таинственный Аваллон – Яблочный остров – владения феи Морганы; наливное яблочко бабы-яги, с помощью которого она наблюдает мир; отравленное яблоко пушкинской царицы; волшебные молодильные яблоки и хитроумный фрукт, от которого у дегустатора вырастают развесистые рога. Золотые яблоки – неодолимый искус для царственного вора и приманка на жар-птицу. Ради яблок обманут Атлант, яблоком обманута Кидиппа. Из-за яблок скандинавские боги-асы убивали великанов-ётунов. И самое главное, самое знаменитое среди зловещих плодов познания зла – яблоко раздора, несущее беды всем, кто его коснётся. Яблоко – враг, проклятие рода человеческого. Недаром солдаты всех времён мишень называли яблочком. Они знали, куда надо стрелять.
А он, глупый, грешил на одичавших, забывших человеческую речь старух, обидел тронутого умом Захарыча, даже мёртвых немцев подозревал в замогильном коварстве. Да самый их дух выветрился отсюда, надёжно заглушён яблочной вонью.
Фигура в каске и с крестом возникла у двери. Чёрный автоматный зрачок уставился в живот Ефиму.
– Ты честное привидение, – сказал Ефим. – Тебе, должно быть, тоже невмоготу среди яблок.
– Йа, – гортанно произнёс немец. – Wo chemmo ye bu minbai.
– Спасибо, друг, – с благодарностью произнёс Ефим.
Он спустился в рокадную галерею, в самый ад, остановился среди ящиков и коробок.
Штрифеля вздымались над его головой, кучилась антоновка, бугрились кальвили, громоздились штрейфлинги. Плотоядно алел румянец, подкожные точки миллионом фасеточных глаз уставились на него.
Невыносимо пахло яблоками.
Ефим взял из ящика огромный царственный штрифель, пересиливая отвращение, откусил кусок. Следы зубов чётко отпечатались в желтоватом мясе.
– Ну что? – спросил Ефим. – Тебе безразлично, когда тебя едят? А мне – нет.
Яблоко невозмутимо смотрело на него. Укус на румяном боку казался нелепо разинутым ртом с ярко накрашенными губами.
– Я знаю, что делать, – сказал Ефим. – Я сегодня же пойду и срублю эти ваши деревья. Всё равно они никому не нужны. Я выкорчую всё до последнего корешка, землю выжгу…
Яблоко дёрнулось в руке. Вмятины зубов на укусе с сочным чмоканьем клацнули у самых глаз.
С нечленораздельным воплем Ефим отшвырнул яблоко, прыгнул в сторону, задел плечом стопку ящиков. Сверху, ударяя по плечам и голове, посыпались яблоки. Ефим отпрянул в сторону и едва не угодил под рушащуюся башню списанной тары. Яблоки хлынули под ноги.
Ефим бежал, прыгал, уворачивался, а навстречу из боковых коридоров, казарм, артиллерийских погребов, лазарета выкатывались яблочные валы. Круглые, продолговатые, гладкие, ребристые яблоки падали отовсюду, грозя засыпать его с головой. Это было бессмысленное тупое нашествие, если бы в их движении оказалось хоть немного разума, Ефим не сделал бы и десяти шагов. Но даже сейчас взбесившимся яблокам не было до него дела. Они катились в разные стороны, рассыпаясь и перемешиваясь, сталкиваясь друг с другом, а Ефим бежал, давно потеряв цель и смысл бегства. Так, попав в слишком сильный прибой, избитый волнами пловец ещё борется, рвётся куда-то и остатками угасающего сознания видит злую волю в том явлении, что равнодушно топит его.
Впереди забрезжил тусклый свет, Ефим ворвался в пустой левофланговый дот, захлопнул дверь, вцепился в ручку, ожидая рывка. Вместо этого на дверь обрушился тяжёлый удар. Покрытая заклёпками сталь прогнулась, но выдержала.
Наступила тишина.
Ефим спешно собирал разбросанные по помещению доски, стараясь соорудить из них хоть какое-то препятствие. Потом остановился, поражённый простой мыслью.
А ведь он в ловушке. Там, за дверью, потерна до потолка забита ждущими яблоками, а другого выхода отсюда нет. Он не яблоко, ему не протиснуться в узкую амбразуру, а они, если захотят, могут обойти его и взять дот в лоб. Яблокам это не сложно.
Горбылина выпала из рук Ефима. Он понял, что никто не будет его убивать. Он не нужен. Не вредит – и ладно. Это было страшнее всего.
Ефим вскочил, подбежал к амбразуре, приник к холодному металлу. Нет, не пролезть. Почему-то даже сейчас он не мог заставить себя крикнуть: «Спасите!» Стыдно было, что ли? Да и кто услышит его здесь? Даже если и появятся на дороге ковыляющие бабульки, взывать к ним бесполезно, они побредут дальше, пробормотав на прощание: «Non capisco» – или, например: «Jo no comprendo».
– Спасите… – прошептал Ефим.
Ответа не было.
Ефим беспомощно закружил по доту. Как выйти отсюда? Ведь он погибнет здесь, умрёт от голода и жажды рядом с бессчётной громадой яблок. Путило появится не раньше чем через шесть недель, а то и позже. Столько ему без воды не прожить.
Ефим потолкал намертво заклиненную дверь, поднял и уронил несколько досок.
Бесполезно. Прочный свод не сломать.
В дальнем углу Ефим поднял смятый клочок бумаги. Должно быть, он валялся на полу с самого сорок четвёртого года, с тех пор, как взвод сапёров разминировал под горой контрэскарп. Зря они это делали. Если бы дот был заминирован, его можно было бы взорвать. Замечательная вещь – минное дело, с ним не страшны никакие преграды. А ещё на свете есть минирующая моль. Она портит яблоки. Умница.
Ефим разгладил хрупкий листок, поднёс его к свету, начал читать:
«Разрушение бетонных оболочек при взрыве происходит в соответствии с формулой Сен-Венана:
где q – критическое давление; t – время действия взрыва; а – пролёт выработки; E – модуль упругости материала крепи; I – момент инерции поперечного сечения крепи; m – вес элемента кре…» – дальше страница была оборвана.
Ефим просиял лицом. Как всё просто! Взорвать дот можно, мудрый Сен-Венан давно решил для него эту задачу. Пусть пленник не властен над модулем упругости и весом крепи, но, чтобы разрушить стену, надо всего лишь увеличить время взрыва. Надо взрываться подольше.
– А-а-а!!! – завопил Ефим и забарабанил кулаками по бетонной плите.
Тяжёлые своды легко погасили крик. Слишком велик момент инерции и малы вес и плотность заряда. Он останется здесь.
Ефим расстегнул плащ, вытащил из брюк ремень. Сложил его двойной петлёй, как учили на гражданской обороне. Так накладывают на раненую конечность ременный жгут. Если как следует потянуть за свободный конец ремня, то жгут можно будет снять только с помощью плоскогубцев или ножа.
Ножа у него нет. Плоскогубцев тоже.
Ефим осторожно просунул голову в петлю, потрогал свисающий конец ремня, сел на край орудийного стола и начал смотреть наружу.
Голый склон, полузасохшая яблоня, пустая дорога, брошенное поле, заросшее цеплючей ивой. Весь мир ужался до размеров сектора обстрела. И нечем стрелять. Бодливой корове бог рогов не даёт. А как хотелось бы сейчас иметь если не пулемёт, то хотя бы винтовку. Уж тогда он не стал бы беспомощно смотреть, как по склону среди бела дня катится яблоко – огромный, праздничной окраски штрифель. Катится вниз, конечно, куда же ему ещё катиться?
Неприметная ложбинка увела его мимо цели, вбок. Штрифель остановился и так же мерно направился в гору. Неподалёку от древней бесплодной яблони он выбрал место и замер, уютно устроившись в мёртвой осенней траве.
Ефим закрыл глаза, чтобы не видеть.
Эх, яблочко, куды котишься?
Хозяин
Аникину было пять лет. Он спал на широкой бабушкиной кровати. Бабушка спала в соседней комнате на второй кровати, такой же широкой, как первая. Размеренный бабушкин храп доносился до Аникина, пропитывал его сон. Аникин думал, что это рычат звери, прячущиеся под кроватью, глядящие сквозь дыры кружевных подзоров. Один зверь, большой и белый, свернулся у Аникина в ногах. Он тоже спал.
Аникин видел сон. Страшный и бестолковый. И одновременно он видел себя спящего с белым, свернувшимся клубком зверем. Этого зверя Аникин не боялся, хотя, кажется, тот всё-таки не спал.
Утром Аникин рассказал бабушке длинный сон и о звере тоже. Бабушка слушала, кивала головой, жевала губами, а потом сказала:
– Домовик это. Ты не бойся, малого он не тронет, – и больше ничего объяснять не стала, а днём, наскучив вопросами, пообещала даже выдрать прутом, если он не выбросит из головы глупости, потому что это всё фантазии и на деле не бывает. Но Аникин-то знал, что это вовсе не фантазии, ведь он подглядел, как бабушка сыпала возле кровати пшённой кашей и шептала что-то. Больше Аникин белого зверя не видел, хотя из-за бабушкиного ночного рычания сны представлялись один другого страшнее. А кашу на другой день склевала курица, нагло ворвавшаяся прямо в дом, после чего случился переполох с квохтаньем и хлопаньем крыльями.
Аникин вырос. Ему было двадцать пять лет. Он спал на тахте в своей однокомнатной кооперативной квартире. Рядом посапывала женщина, на которой Аникин собирался, но всё никак не решался жениться. Аникину снился сон, длинный и бестолковый, гротескно повторяющий дела и разговоры прошедшего дня. И в то же время Аникин видел самого себя спящего. В ногах, свернувшись клубком, дремал белый, похожий на песца зверь.
Сон тянулся и путался, мешал спать, не давал следить за зверем, и Аникин пропустил тот момент, когда зверь поднялся, прошёл, неслышно ступая, по одеялу и сел на груди Аникина. Зверь был тяжёлый, он вдавил Аникина в поролоновое нутро тахты, во сне очередной собеседник замахал руками и закричал, обвиняя Аникина в небывалом, а сам Аникин силился и никак не мог вдохнуть воздух. Зверь смотрел жёлтыми куриными глазами. Потом он протянул лапу с длинными тонкими, нечеловечески сильными пальцами и схватил Аникина за горло…
С трудом промаявшись до утра, Аникин собрался и поехал к бабушке. Он вообще часто к ней ездил, и бабушка тоже любила Аникина. Ей было восемьдесят лет, она жила всё в том же доме и спала на той же кровати. Бабушка слушала, качала головой, тихо поддакивала, слепо щурясь, рассматривала пятна кровоподтёков на аникинской шее. А потом сказала:
– Это и впрямь домовик. Значит, такая твоя судьба – с ним жить. Любит он тебя и своим считает…
– Как же – любит… – возразил Аникин, но бабушка не дала продолжать:
– Который человек домовика видит, тот уж знает, что ничего с ним не станется. Его и поезд не зарежет, и на войне не убьют. Везде его домовик охранит. Такой человек в своей постели умрёт. Как обидит он домовика-то, так тот покажется в каком ни есть обличье и начнёт душить. До двух раз он прощает, попугает да отпустит, а уж на третий раз придушит. Я сама, грешная, с ним видаюсь. А на неделе приходил домовичок и за сердце брался. Второй уж раз. Это он не со зла, просто пора мне приспела, вот он и напоминает.
– А меня-то за что? – спросил Аникин.
– Значит, погано живёшь, обижаешь хозяина. Да и покормить его не мешает. Посыпь кашкой в углах и скажи: «Кушай, батюшка, на здоровье, а меня не тронь». Иной раз помогает.
Кормить домовика Аникин не стал. Зато он бросил пить и ограничил себя в сигаретах. А первое время даже начал зарядку делать по утрам. С девушкой своей Аникин разошёлся – она ничем не помогла ему против домовика. Впрочем, сделал он это достаточно тонко, так что они даже не поссорились. И на будущее он заводил связи так, чтобы не водить никого к себе домой, не показывать ревнивому домовику случайных женщин.
Аникин ушёл из института, где была вредная работа, хотя за вредность и не платили, и устроился инженером на завод. Там он понравился и быстро пошёл вверх. Домовика он не видел, но на всякий случай таскал в кармане тюбик валидола.
Аникину было сорок пять лет. Он спал, когда объявившийся в ногах зверь вспрыгнул на грудь, придавил и рванул за горло. Аникина увезли с инфарктом.
В больнице было много незанятого времени. Аникин смотрел в белый потолок и думал. Выходило, что домовику есть за что обижаться на Аникина. Что делать белому зверю в бетонной городской квартире? А бабушкин дом стоит пустой и рассыпается.
Оправившись, Аникин в ближайший же отпуск привёл в порядок дом. Подрубил нижний венец, вместо потемневшей гнилой дранки воздвиг серую гребёнку шифера. Мужики, обрадованные неожиданной халтурой, уважительно величали его хозяином. Каждое лето Аникин, презрев надоевшие юга, приезжал в деревню и ковырялся в огороде. Домовика он не видел, но порой, вечером, перед тем как улечься, стыдясь самого себя, сыпал под кровать остатки ужина.
Аникину было шестьдесят лет. Он освободился от завода и высокой должности, решительно запер квартиру и уехал домой в деревню. Аникин спал на бабушкиной, суеверно сохраняемой кровати. Рядом на тумбочке лежала открытая пробирка с нитроглицерином. Аникину снился сон. Он шёл по своему деревенскому дому, переходя из одной комнаты в другую, потом в третью и дальше без конца. Дом был отремонтирован и ухожен. В комнатах пахло сосновой смолой и холостяцким обедом. Не пахло только домом.
«Для кого всё это? – думал Аникин. – Неужели домовику здесь лучше? Бабушка говорила, что хозяин с людьми живёт, а не со стенами. Но ведь, кроме меня, здесь не бывает никого…»
Аникин бестолково кружил по неуютным комнатам, искал что-то, хотя сам понимал, что это только сон, и параллельно с этим сном видел себя самого спящего, и белого зверя в ногах, и знал, что зверь не спит.
Monstrum magnum
В темноте орали лягушки. Их страстное кваканье, бульканье, трели перекрывали и шум деревьев, и ровный, ставший фоном жизни рокот реки, пенящей на камнях неглубокую, но стремительную воду. Но сейчас ночной гомон, так мучающий на юге приезжего человека, сливался в единый оркестр, а гитара, звеневшая у костра, солировала в нём, придавая мелодии определённость.
Сухие стебли плюща сгорали мгновенно и жарко, сидеть рядом с огнём было попросту невозможно, все отодвинулись в темноту, растворились в ней, лишь лица белели нечёткими пятнами.
Антон, подсев ближе к гитаристу, пел, напружинив до предела горло, стараясь как можно выше выводить звук:
По пустым площадям Мы обнявшись идём…Магна расположилась где-то позади, тьма полностью скрыла её, оставался лишь голос – тёплый и низкий, удивительно обволакивающий рвущийся тенор Антона.
– У меня для тебя… – звал Антон.
– У тебя для меня… – вторила Магна.
– Много есть нежных слов…
– Много есть тёплых слов…
Эту песню они всегда пели вдвоём. Остальные молчали и слушали. Каждый раз Антону казалось, что замолкнет последний звук, но останется радостное чувство единения и близости, но едва песня кончалась, Магна словно отодвигалась от него, становилась непостижимо чужой.
Отцвела песня, опал костёр. Лоза прогорает быстро. Народ начал разбредаться по палаткам. Хотелось бы посидеть у костра ещё, но завтра рано вставать, расписание в экспедиции жёсткое – в шесть утра надо быть в поле, поскольку через два часа после восхода растительное сырьё собирать уже нельзя.
Антон тоже поднялся, огляделся и заметил на фоне тёмного неба чёрный силуэт. Чей-то фонарик, вспыхнув среди палаток, ослепил глаза, но Антон успел узнать Магну. Она медленно шла к дороге, извивающейся вдоль реки. Чертыхнувшись и прикрыв ладонью бесполезные глаза, Антон поспешил следом. Зрение постепенно вернулось, снова впереди замаячила тонкая фигура. Антон догнал её, несколько шагов молча прошёл рядом.
– Ну? – произнесла Магна.
– Хочу с тобой рядом пройтись, – сообщил Антон. – Можно?
– Нет.
– Я же не чего-то такого прошу… – начал оправдываться Антон.
– Чего-то такого я бы тоже не позволила.
– Почему? – ляпнул Антон и тут же осознал весь идиотизм своего вопроса.
– Знаешь, – сказала Магна, – а ведь твоё имя тоже расшифровывается. «Ан» – частица отрицания, «тон» – и есть тон. Антон – человек, лишённый музыкального чувства.
– Неправда! – запротестовал Антон. – Мы же так пели…
– Это там, на виду. Ты же прямой, как рельс, потому и ведёшь первый голос. А в жизни чаще нужны подголоски, только ты этого не умеешь. Одно слово: Ан-тон.
«Обиделась, – решил Антон, – за monstrum magnum. Болван я!»
Сколько раз уже подводил Антона невоздержанный язык! И сейчас – то же самое: сидели у костра, трепались, случайный разговор коснулся значения имён. А как миновать эту тему, когда рядом черноволосая красавица с таинственным именем Магна, в которую слегка влюблены и за которой слегка ухаживают все парни экспедиции, но на более близкие отношения не осмеливается претендовать никто?
Что значит имя Магна? Сразу вспомнили слово «магия», кто-то пошутил насчёт «магмы» и вулканического темперамента. Но вмешался в разговор Антон, объяснил, что «магна» по-латыни – великая, и привёл нелепый пример: monstrum magnum – великий монстр, владыка чудовищ. А о себе с гордостью объявил, что этимология его имени не ясна. Короче, покрасовался, распустил павлиний хвост, и вот – готова обида.
– Магна, – позвал Антон, – да не сердись ты, ну, пошутил неудачно, а ты сразу дуться…
Никто не ответил – за секунду до того, как он начал говорить, Магна шагнула в сторону и растворилась в темноте мгновенно и беззвучно.
Антон беспомощно оглянулся. Никого. Вокруг бархатная тьма, редеющая к зениту, а позади, как маяк, багровое пятно кострища да пара фонариков мечется по лагерю – студенты укладываются спать.
Теперь обида багровым маяком зажглась в груди Антона. За что, спрашивается, такая непруха? Да не влюблён он в Магну, не влюблён… Досадно другое – почему именно с ним происходит такое, проклятый он, что ли? Ни одна девушка ни разу не обратила на него внимания, не выделила среди остальных, словно он не человек, а так, статистическая единица. Неужели у него на лбу написано, что он не такой, как все, и достоин лишь насмешки?
Антон, сглатывая копящуюся в груди тяжесть, лез по склону. Он давно потерял дорогу, под ногами скрежетал щебень. Потом он ворвался в заросли, и колючки разом охладили пыл, разогнали огорчения и заставили думать о насущном.
Антон остановился, начал в растерянности осматриваться. Не было ни костра, ни огней, и реки не слышно, одни цикады разливаются в зарослях. Антон попытался брести наугад, надеясь выйти к реке и по ней спуститься к лагерю, но ветвь терновника остро мазнула по щеке, и Антон остановился, опасаясь лишиться глаз.
Оставалось звать на помощь.
– Эгей! – неубедительно крикнул Антон, но тут же понял, что дальше вопить не стоит, всё равно никто не услышит. И отсутствия его в палатке не заметят, в крайнем случае решат, что прибился парень к соседкам, – Антон нервно усмехнулся – это он-то!
– Гей!! – в отчаянии рявкнул он в темноту, но, не услыхав отклика, уселся на жёсткую землю ждать света.
То ли Антон умудрился в этих условиях задремать, то ли ночь просто выпала из памяти, но только вокруг неожиданно быстро посерело, обозначились пологие склоны, из темноты выступили кусты, появилась возможность видеть.
Антон поднялся, попрыгал, разминая затёкшие ноги.
Местность вокруг была незнакомой, но Антона это не смутило. Ещё ночью он решил, что следует спуститься к реке, а потом уж по бережку добираться к лагерю. Вряд ли ночью он сумел умотать больше чем на километр. Антон направился вниз и действительно через пять минут вышел к реке. Вода привычно кипела на камнях, и Антон ещё успел подумать, что речка здесь шире, чем у лагеря, хотя лагерь должен стоять ниже по течению.
Потом он увидел мост.
Мост был мраморный. И резной. Весь целиком. Но самое главное – он никуда не вёл. Белая дуга повисала над рекой и упиралась в грязно-серую известковую скалу.
Антон в растерянности подошёл ближе. Уже достаточно рассвело, и Антоновым глазам ясно предстало узорчатое неправдоподобие моста. Выточенные из единого камня листья плюща, гроздья винограда, небывалые плоды, младенцы-сатиры, чьи смеющиеся личики мелькали среди хрупкой листвы, а рожки на детских лобиках торчали смешно и задорно. Всё было новым, без единой царапины, словно только что отполированным. Даже там, где у других мостов находится проезжая часть, искрилась убийственная в своей бессмысленности искусная резьба.
Антон снял сандалии и ступил на мост. Гладкий мрамор холодил босые ноги. Антон шагал осторожно, выбирая те места, где змеились арабески, и с ужасом представляя, как от одного неловкого шага может хрустнуть под ногой точёный мраморный цветок. По мосту явно было нельзя ходить, да и не вёл он никуда, но глухой обрыв того берега тянул подобно магниту. Скала поднималась с отрицательным дифферентом, вздыбленные пласты камня косо падали к воде, мраморное кружево на половине завитка вливалось в искрошившуюся стену.
Здесь, в самом конце невероятного тупика, Антон увидел следы. Влажные контуры босых ног чётко обозначались на матовой поверхности. Следы были небольшими, узкая ступня могла принадлежать только женщине, и вели следы к берегу. Словно неведомая дама выпорхнула из известковых плит и, роняя с мокрых после купания ступней капли воды, перебежала на противоположный берег. Первый след тоже наполовину остался в камне, лишь кончики пальцев отпечатались на сухом мраморе.
Антон ткнул кулаком в скалу, желая убедиться, не мерещится ли ему эта вполне обычная каменюка. Рука неожиданно не встретила опоры, Антон покачнулся и опрокинулся в серую мглу.
Открыв глаза, Антон обнаружил себя на площади. Он точно знал, что не терял сознания и не спал, он отчётливо всем телом ощущал, как только что потерял равновесие, как проскользнула под босой ногой полированная мостовая, как окунулся в серое… а дальше увидел, что лежит на земле, кисти рук ушли в мельчайшую горячую пыль и спину припекает высоко стоящее солнце.
Это была поселковая площадь. Проезжая через Кубанские степи, они видели немало таких деревенек. Одноэтажные домики, так густо побелённые, что не разобрать, из чего они построены, окружали круглую площадку. Обычно посреди такой площади высился щит с каким-нибудь патриотическим лозунгом, выцветшим под беспощадным и аполитичным солнцем. Майданчики эти всегда бывали пусты, и облако пыли от проехавшей машины часами недвижно висело в жарком воздухе.
Всё это мгновенно мелькнуло в памяти, едва Антон ощутил свои руки, тонувшие в текучей пыли. Перед ним плотно смыкались домики, в открытых окнах сплошняком белели задёрнутые занавески. По периметру площадь была обсажена серыми пирамидальными тополями и шелковицами. Абсолютно привычная картина. Вот только где он и как сюда попал?
Антон поднялся, попытался выбить ладонью пыль из одежды, но сразу понял безнадёжность своей затеи. Джинсы, бобочка – всё было в грязи. Вообще, вид у Антона был подозрительный, так что проходивший через площадь мужчина покосился на помятую Антонову фигуру и довольно отчётливо пробурчал себе под нос:
– Ещё бродяга, носит их тут…
– Скажите, куда я попал? – обратился Антон к пешеходу, но тот уже удалялся, сердито размахивая туго набитой кожаной папкой.
Антон хотел догнать прохожего, но, развернувшись, замер.
Там, где должен был бы торчать щит, разрисованный знамёнами и оклеенный передовыми физиономиями, высилась башня. Старинное оборонительное сооружение, круглое и безоконное, всем неприступным видом опровергало само себя. Ничего подобного нет ни на Кубани, ни в северных предгорьях Кавказа. Оставалось надеяться на галлюцинацию или считать, что его каким-то образом занесло в Закавказье.
Антон покусал губы, желая убедиться, что не спит. Осторожно ступая, подошёл к зияющему проёму башенного входа. Внутри он готовился встретить что угодно: загаженную пустоту, поселковую контору, краеведческий музейчик или кооперативное кафе. Но увидел обычную жилую комнату. Не защищённый от уличных взглядов и пыли ни дверью, ни даже занавеской, предстал перед ним чей-то дом. У стен из ноздреватого известняка стояла богатая двуспальная кровать, шкаф с зеркалом, оттоманка с двумя подушками и валиками по краям, сервант, уставленный разнокалиберными подарочными чашками, застеленный кружевными салфетками комод, на котором высился мраморный ночник и располагались фигурки, представлявшие крыловский «Квартет». Всё это уютно пряталось в полутьме, лишь круглый стол, застеленный льняной скатертью, выдвинулся на свет, ближе к дверному проёму, высокому и полукруглому, словно вход в туннель.
Несомненно, в реальности такого быть не могло, и Антон, уже не скрываясь, вцепился зубами в запястье. Потом нащупал болевую точку в основании большого пальца и нажал так, что слёзы выступили из глаз. Ничего не помогало, идиотский сон продолжался.
– Гость пришёл! – раздался сзади мягкий женский голос.
Антон обернулся. За спиной стояла розовая старушка. Она была низенькой, немного полноватой, а одета в розовое платье с оборками. Седые волосы уложены в аккуратные букли и прикрыты розовым кружевным чепцом, какой разве что в кино увидишь. Губы, сложенные в умильную улыбку, подкрашены в тот же розовый цвет, а щёчки с ямочками, бывшими, должно, полвека назад очаровательными, покрывал бледный старческий румянец.
– Простите… – Антон попятился в сторону, но старушка ухватила его за рукав, повлекла в распахнутую комнату, приговаривая:
– Гость, гость дорогой!
Антон шёл, ничего не понимая. В башне оказалось удивительно прохладно, раскалённую уличную жару словно отрезало на пороге. И так желанна была прохлада, что Антон, прекратив внутреннее сопротивление, позволил усадить себя на диван и принялся отхлёбывать вишнёвый компот из чашки, неведомо как очутившейся в его руках.
Хозяйка порхала от стола к серванту и обратно, повторяя словно припев:
– Радость-то какая! Гость дорогой!
– Скажите, – прервал её излияния Антон, – где я? И как сюда попал?
– Зачем? – улыбаясь, ответила розовая старушка. – Я в чужие тайны не заглядываю. Пришёл гость – и живи. А как пришёл – это твоя тайна.
Пока Антон пытался осознать ответ, старушка быстро вышла, оставив Антона одного. Он сидел на оттоманке, переводя взгляд с предмета на предмет. Над головой на высоте пятнадцати метров скрещивались балки перекрытий и виднелись серые плиты природного шифера, которым была крыта башня. Лишённая потолка комната казалась бутафорской. Не покидало ощущение, что мебель, стены, домики на улице и деревья нарисованы на кусках фанеры, а сзади у них приколочены подпорки, чтобы не упали от неловкого толчка.
Антон подошёл к выходу. Площадь пребывала в сонной неизменности сиесты. Давешний мужчина в светлом пиджаке и при галстуке шёл теперь в обратную сторону. Казалось, он вязнет в неподвижной жаре. Взгляд у него был снулый и не выражал ничего, кроме усердия в топтании пыли. Не хотелось встречаться с этим человеком, ничего он, конечно, не скажет, а вот документы спросить может, поскольку весь облик говорит о его начальственном происхождении. Документов у Антона не было, и с мелким начальством объясняться он не хотел, пока сам не разберётся, что к чему. Антон отшагнул в комнату.
Здесь он заметил телефон, стоящий у самого входа на маленькой полочке. И, словно дождавшись, чтобы на него обратили внимание, телефон затренькал. Звук был такой знакомый, родной и домашний, что Антон поднял трубку, прежде чем сообразил, что не знает здесь никого и ничего не сможет ответить абоненту.
– Алё, – сказал он.
– Тётя? – зазвенел в трубке девичий голос. – Это я, Магна. У меня всё нормально, добралась хорошо…
– Я не тётя! – рявкнул басом привычно рассвирепевший Антон. Его постоянно принимали по телефону за женщину. И лишь через секунду он понял, что ему сказали, и заорал, боясь, что Магна повесит трубку: – Магна, ты? Это Антон говорит. Я тут влип в какую-то дурацкую историю…
– Антон? – голос Магны изменился. – Откуда ты там?
– Не знаю! – страдальчески закричал Антон. – Там мост какой-то нелепый, а потом деревня…
– Следил? – недобро спросила Магна.
– Да нет, ты ушла, а я заблудился и вышел к реке, а там мост…
– Ладно, – казалось, Магна приняла решение. – Хныкать будешь потом, а сейчас слушай и запоминай: сиди там тихо, ни на что внимания не обращай, ни с кем, кроме тётки, не разговаривай, да и с ней лучше тоже… И не бойся ничего, там никто ничегошеньки тебе сделать не сможет, если сам не полезешь. Понял? Я приду за тобой через две недели.
– Как через две недели?! – взвыл Антон. – Мне сейчас надо!
– Ты с ума сошёл? Сейчас день стоит.
– Что же мне – до ночи ждать? Ты объясни, куда идти, я сам дойду.
– Никуда ты не дойдёшь! – отрезало в аппарате. – Попробуй, если нервов не жалко. И ночью не дойдёшь. Этой ночью новолуние, кто же при ущербной луне мост строит?
– Так там вправду мост был? – опешил Антон, уже почти убедивший себя, что хотя бы мост ему померещился.
– Ты и впрямь как рельс, – сказала Магна. – Прямой и звону много. В общем, слушайся тётку и жди, пока я за тобой приду. А из башни лучше всего не выходи. Целее будешь.
– Через две недели экспедиция уедет!
– И слава богу. Ни с кем объясняться не придётся. И угораздило тебя… Шефу я совру что-нибудь, а вот что ребятам говорить – ума не приложу. Ну, будь…
– Погоди!.. – взмолился Антон, но в трубке уже коротко гудело.
Антон грохнул трубкой и выбежал на улицу. Его трясло от негодования. «Две недели сидеть, ожидая какую-то фазу луны! Обойдёмся и без луны, и без мраморных мостов. Вброд через речку, не сахарный, не растаю».
На улице Антон остановился, выбирая, в какую сторону идти. Обычно с майдана расходилось пять, а то и семь улочек, и угадать, какая из них выведет на шоссе, было непросто. Но здесь не оказалось ни одного проулка. Палисаднички переходили друг в друга, заборы из штакетника смыкались, образуя правильный круг. Дома отгораживались опущенными занавесочками, и на стук никто не отвечал. По ту сторону домов росли деревья: вишни и дикий абрикос-жерделька. За деревьями угадывались какие-то холмы, а может, это только казалось.
Прыгать через заборы и лезть чужими огородами не хотелось, и Антон решил всё-таки найти кого-нибудь и расспросить о дороге. Он огляделся и увидел, что площадь который уже раз за это время пересекает гражданин с бумагами.
– Эй! – закричал Антон и, пыля сандалиями, побежал наперерез.
Мужчина, не обращая внимания на крики Антона, промокнул залысины большущим платком и скрылся за башней. Антон запылил следом, огибая круглую стену. На той стороне никого не было. Зато у самой стены Антон обнаружил пристройку. Каменный сарай явно позднейшей постройки лепился к крепостному боку. И так же, как в башне, у сарая зиял вход, на этот раз обычный прямоугольный проём.
Антон шагнул туда.
Потом он шагнул обратно.
– О-уй!.. – выдавил он с подвывом. – Убили…
Склеп был перед ним, а не сарай. Каменный пол рассекали три глубокие ниши как раз в рост человека. В крайней из этих могил, ярко освещённая заглянувшим в проём солнцем, лежала мёртвая хозяйка. Платье с оборками, розовый чепец, букли, румянец, даже улыбочка, всё было как полчаса назад, но холодная восковая застылость с одного взгляда позволяла угадать труп. И, чтобы довершить картину, могила в обрез с землёй была затянута прозрачным целлофаном, словно коробка с кооперативными пирожными.
– Гость дорогой! – мурлыкнуло сзади.
Антон стремительно развернулся. Перед ним живая и невредимая стояла хозяйка.
– Та-ам!.. – проблеял Антон, тыча через плечо пальцем.
– Посмотреть пришёл, – разулыбалась хозяйка. – Посмотри. Здесь мои родители похоронены, все трое, только третий беспокойный достался, никогда его на месте нет.
Антон, не дожидаясь приглашающего жеста, повернулся к склепу. Покойница лежала, скрестив пухлые ручки на груди, в такой же позе стоял над ямой её двойник, можно было решить, будто хозяйка отражается блестящей целлофановой плёнкой – или это вода налита вровень с землёй?
«И ничего удивительного, – уныло размышлял Антон, – может, у них принято хоронить около дома. А что, похоже – так тётка сама сказала, что это её родители – все трое. Так что – ничего удивительного».
Антон стоял, прислонившись плечом к кладке, опустив погашенный шоком взгляд на могилы. Одна из них и впрямь была пуста, а в центральной находился ещё труп – давний, полуразложившийся. Одежда его превратилась в лохмотья, сквозь прорехи проглядывали обнажившиеся кости. Свалявшиеся клочья волос и бороды отпали и лежали отдельно. Но даже сейчас при взгляде на эту кучу тлена видно было, насколько силён и велик был умерший. Тело не умещалось в нише, ему там было, очевидно, тесно, так что Антон принял за само собой разумеющееся, когда истлевший остов начал судорожно выгибаться, пытаясь сесть и выбраться наружу. По масляной целлофановой поверхности пошли волны.
Не было здесь ничего невероятного или жуткого, всё происходило удивительно буднично, только странно становилось Антону, что так спокойно он созерцает, словно не с ним это творится, а просто крутят по видео западный триллер, а он, заплативши рубль, проводит перед экраном свободный час.
Медленно, не потревожив плёнки, поднялась копия хозяйки, перегнулась в соседнюю яму, неслышно шепча что-то успокаивающее, уложила бьющийся скелет, сложила ему на груди фаланги пальцев, пристроила к обнажившейся челюсти колтун бороды, потом, слепо скользнув по Антону закрытыми глазами, вернулась в свою могилу, замерла в покойной благостной неподвижности.
– Старички мои родимые, – произнесла хозяйка. – Жили себе, а потом померли. Сирота я.
Хозяйка ухватила бесчувственного Антона за руку, повела в башню. Антон шёл, старательно переставляя ноги. Потом сказал:
– Нельзя так.
– Чего нельзя, гость дорогой? – всполошилась хозяйка.
– Нельзя могилы открытыми оставлять, – назидательно произнёс Антон, – а то как же получается – такое на всеобщее обозрение? А если дети увидят? И вообще – нельзя!
«Что-то я не то говорю», – устало отметил он про себя.
Но старушка ничуть не была ни удивлена, ни возмущена.
– Так они же закрыты! – воскликнула она и потащила Антона обратно.
Больше всего не хотел Антон возвращаться в склеп, но шёл послушно, не имея сил сопротивляться. Хозяйка подтолкнула его к проёму. Все три могилы были наглухо задвинуты тяжеленными чёрными плитами, которых ещё минуту назад не было и в помине.
– Ну как, нравится? – спросила хозяйка, выглядывая из-за плеча.
– Нравится, – попугаем отозвался Антон.
– Одно беда, гостенёк, с родителем-то с третьим как быть? Придёт, сердечный, а могилка-то заперта…
Антон молча двинулся в уличное пекло. Он вдруг осознал себя не просто действующим лицом неприятной комедии, а человеком, с которым всё это происходит. Исчезновения, башни, двойники, ожившие мертвецы. Даже если предположить, что он сошёл с ума, то такая яркая галлюцинация запросто убьёт его. Где-то поблизости бродит ещё один «родитель»… Антон затравленно огляделся: никого, лишь мужчина с папкой вновь пересекает площадь; парусиновый пиджак на спине потемнел от пота. Может быть – он?
– Это наш председатель совхоза, – певуче пояснила хозяйка. – Всё по делам, горемычный, торопится, и не отдохнёт никогда…
Антон оторвался от голоса, нырнул в башню. Магна сказала ему сидеть здесь, наружу не выходить и ни с кем, кроме тётки, не разговаривать. Однако родственнички у неё – не приведи господь! И впрямь Monstrum magnum – великое чудище! В самый раз подгадал он со своей этимологией. А с чего он взял, что здесь будет в безопасности? Магна сказала? Так она ещё сказала две недели ждать… И вообще, может, это вовсе и не она звонила…
Антон подошёл к телефону, решительно набрал 02. Трубку сняли.
– Милиция? – спросил Антон.
– Во псих! – произнёс в ответ дребезжащий голос, и загудел отбой.
Звонить не имело смысла.
Антон опустился на кушетку, тут же вскочил, присев на корточки, заглянул в пыльную темноту под сиденьем, сунулся под кровать, под стол. Кто скажет, откуда может появиться очередная напасть?
Переступая дрожащими ногами, Антон подошёл к выходу. Никого. Антон глубоко вздохнул и, пригнувшись, перебежал через площадь. Надо уходить отсюда, пока его никто не видит. Потом может оказаться поздно.
Зацепившись штаниной за штакетину, он полез через забор и поскакал между грядок. С той стороны огорода тоже торчала ограда. Беглец преодолел её и очутился во дворе дома. На мгновение возникла мысль постучать уже не в ставень, а в двери дома и расспросить о дороге, но Антон отверг искушение и направился дальше. Он заносил ногу, чтобы лезть через следующий заборчик, когда из будки возле дома выползла собака.
– Вор пришёл, – сказала собака.
Псина была здоровая, настоящий волкодав, но вместо морды приветливо улыбалось человеческое лицо.
– Радость-то какая – вор пожаловал! – говорила собака, торопливо стягивая цепь.
Антон взвизгнул и, прочертив штакетником пузо, свалился в гряды. Он мчался, сминая плантации кинзы и помидоров, сигал через заборы, и в каждом дворе число преследователей увеличивалось, уже целая свора с заливистым лаем неслась по пятам. Лишь первая из собак оказалась с человеческим лицом, остальные были обычными лохматыми зверюгами, они неслись, чуть видные в стремительно сгущавшихся сумерках, лишь клыки блестели в свете молодой, чуть народившейся луны.
Антон уже ничего не соображал, он задыхался, сердце колотилось в горле, наполняя горечью рот. Ноги подкашивались, но ещё несли его, движимые одним животным ужасом.
– Вор! Вор! – взлаивали за спиной псы.
Огороды резко кончились, впереди встал тёмный контур башни. Антон, едва не сбив с ног бредущего председателя, вкатился в проход. Краем глаза он ещё успел заметить, что псы с людоликим вожаком рвут председателя совхоза, а тот слабо орёт и отмахивается кожаной папкой. Покружив по комнате, Антон залез в шкаф и попытался закрыться изнутри.
Дверцу шкафа неожиданно и сильно дёрнули, Антон вывалился наружу. Перед ним стоял насупленный председатель. Свою потрёпанную папку он держал двумя руками, словно дубину.
– Гражданка Монструм здесь проживает? – спросил он.
– Я… не знаю… – выдавил Антон.
– Вот как? – председатель уселся на оттоманку. – А вы кто, собственно, будете?
– Я… живу тут, – Антон не знал, как объясняться. – Гость я. Я в экспедиции был и заблудился. Скажите, как мне назад попасть?
– Ясно… – протянул председатель и раскрыл папку. – Гость, значит. За свет она, получается, не платит, а квартиру, видите ли, сдаёт. Сколько вы ей, выходит, в сутки отдаёте?
– Да нисколько! – закричал Антон. – Я здесь случайно. Мне в лагерь надо.
– Так она, выясняется, случайным людям сдаёт, да ещё, так сказать, лагерникам! А потом, спрашивается, почему в посёлке хулиганства происходят? – председатель поглядел на разодранный рукав пиджака. – Кому-то, стало быть, неизвестно, что собак с цепи вечером спускают. Обнаруживается, что кое-кто днём спускает – и нате вам, пожалуйста! – председатель ткнул папкой в тьму на улице. – А я ещё, к вашему сведению, не обедал.
– А я и не завтракал, – сказал Антон. Страх перед председателем прошёл, Антон понимал, что этот человек ничем ему не повредит и не поможет. – Вы бы лучше, чем с бумажками гулять, разобрались, что у вас происходит. Мертвецы бродят, собаки разговаривают…
– Раз бродят, – отрезал председатель, – следовательно, им позволено. Не иначе как мною и позволено, ибо я тут председатель совхоза и без моего ведома здесь бродить, пардон, нельзя.
– Вошь ты затухлая, а не председатель! – заорал вдруг Антон. – Гады вы все, гады! И ты всё врёшь! Не бывает у совхоза председателя – директора в совхозах, а за вашу чертовщину вы ещё ответите!
Наконец Антон встретил хоть кого-то, с кого можно было спросить за ужас минувших часов. Антон размахнулся и ударил председателя в лицо. Кулак врезался словно в подушку, не причинив никакого вреда. Антон бил ещё и ещё, председатель лениво уклонялся, и удары падали в пустоту. Антон бесновался, размахивая кулаками, председатель же, как ни в чём не бывало, продолжал беседу:
– Прежде, разумеется, были директора, их, как известно, сверху назначают. Теперь же начальство вроде как избирают, а это, кажется, совсем другая должность. Впрочем, мне пора. А вам, так сказать, желаю спокойной ночи, – председатель кивнул снисходительно и канул за порог.
Антон остановился. Только теперь он понял, какую глупость совершил, бросившись с кулаками на собеседника. Председатель ушёл, оставив Антона один на один с ужасами нагрянувшей ночи.
В башне сгустилась темень, но не уютная домашняя темнота, а враждебное отсутствие света. Казалось, кто-то сидит рядом, пригнувшись стоит за буфетом, ждёт под неразобранной кроватью. Округло светлел выход на площадь, и там, уже не скрываясь, начиналась ночная жизнь. Целлофаном разливался ущербный лунный свет, в нём скользили тени, издалека доносился не то вой, не то песня.
Пересиливая себя, Антон подошёл к комоду, нащупал выключатель, щёлкнул. Ночник – прессованная из мраморной крошки сидящая сова – засветился изнутри, рассеивая черноту. Потом сова повернула голову, заухала, хлопая каменными крыльями, снялась с постамента и полетела к выходу. Ввинченная в постамент лампочка залила комнату беспощадным светом. Антон, физически ощущая, как разглядывают его сейчас с улицы через огромный, даже занавеской не прикрытый проём, кинулся к выключателю. Фарфоровый квартет на комоде взмахнул смычками и запиликал нечто какофоническое, но заметив бегущего Антона, музыканты побросали скрипки, виолу и контрабас и с разноголосым писком кинулись к нему. Они лезли в рукава, за пазуху, путались в волосах. Антон отрывал цепкие холодные лапки, швырял фигурки прочь. Звенел разбитый фарфор, дзенькнув, погасла лампа.
Антон перевёл дух, но тут же понял, что успокаиваться рано. Его взгляд упал на площадь.
Сначала могло показаться, что вся она освещена луной, лишь потом становилось ясно, что тонко остриженный ноготок луны не даст столько света. Свет застилал уснувшую пыль, обливал спящие дома и шелковицы, скапливался у порога и медленно просачивался сквозь него. Знакомые жирно блестящие целлофановые лужи здесь и там пятнали пол, медленно заливая комнату.
Одним прыжком Антон взлетел на оттоманку, поджал ноги, обречённо глядя на подступающую напасть. Он не знал, что это, но ни за что на свете не согласился бы прикоснуться к светящейся могильной жидкости.
А на улице продолжалось гуляние. Тени оформились, стали определённей. Пробегали улыбающиеся людоликие псы, шествовал некто голенастый, он то и дело останавливался, выхватывая узкой зубастой пастью из мертвеющих луж толстых червей. Черви извивались и плакали детскими голосами.
Антон сидел загородившись подушкой, не мигая смотрел в дверной проём. Пятна света гипнотизировали его. Вот в поле зрения появились новые фигуры. Рыжебородый истлевший великан шагал, разгоняя круги светящихся волн. Он вёл под руки обеих хозяек – живую и мёртвую, а сзади торопился ещё кто-то, безвидный и полупрозрачный. Группа направлялась прямиком ко входу в башню, к спасавшемуся за диванной подушкой Антону. На пороге они остановились, глазницы рыжебородого уставились на Антона.
– Гость там, – слышались объяснения хозяйки. – Магночка гостя привела.
– Гость – это славно, – отвечал кто-то плавающим, словно у патефона на исходе завода, голосом. – Тащи сюда гостя.
– Не наш он, – возражала хозяйка, – непривыкший. Магночка просила поберечь для начала.
– Тогда пусть спит! – пустые глазницы налились синим, на грани видимости светом, и это было последнее, что запомнил Антон. Он отключился мгновенно в неудобной полусидячей позе, не сумев даже лечь как следует.
Разбудил его крик хозяйки:
– Гости! Гости дорогие!
Антон вскочил, ужаснувшись мысли, что спал и, значит, был абсолютно беззащитен, в то время как рядом, а может, и прямо с ним творились неведомые сверхъестественные непотребства.
Первым делом Антон оглядел башню. В ней ничего не изменилось, только лампочка под мраморной совой оказалась разбита и медведь с ослом поменялись инструментами. Антон подёргал фигурки. Звери были вылеплены, покрыты глазурью и обожжены вместе с инструментами. И тем не менее медведь теперь держал виолончель, а осёл с трудом обхватывал огромный контрабас. Криво усмехнувшись, Антон поставил игрушки на место.
И тут с площади рванул паровозный гудок, а следом вновь хозяйкин вопль:
– Гости дорогие! Приехали!
Антон бросился на улицу, где снова сиял жаркий безоблачный день.
Перед башней, по ступицы утопая в пыли, стоял поезд. Допотопный паровозик с пузатой трубой и три вагончика, вернее платформы, потому что всё остальное было сломано, лишь металлические остовы бывших теплушек ржаво корёжились над платформами. От этого транспортного безобразия направлялась к башне толпа гостей.
Впереди, тяжко ступая кирзовыми говнодавами, шла невероятных габаритов бабища. Ростом под два метра и соответствующей толщины, она была одета в вылинявший ситцевый сарафан, опускающийся до голенищ стоптанной кирзы. Вязаная кофта с засученными рукавами открывала чудовищные ляжки рук, белая в мелкий горошек косынка повязана по самые брови. Под мышкой бабища несла холёного разъевшегося кота. Кот, ничуть не смущаясь неудобством положения, пребывал в позе спящего сфинкса. Розовая хозяйка юлила вокруг, забегала то справа, то слева и непрерывно твердила свою коронную фразу.
Следом, влекомый собственной музыкой и лишь благодаря ей не падающий, тащился в дымину пьяный гармонист. Он во всю ширь растягивал меха и умудрялся на ходу наяривать что-то разудалое.
Дальше толпой валили гости. Их было много, Антон не сумел рассмотреть ничего, в памяти осталось ощущение потока – орущего, размахивающего руками, пёстрого и одновременно почему-то серого. Может быть, потому, что никто в этой толпе не выделялся и не бросался в глаза.
Процессия прокатила мимо Антона и скрылась в башне. В ту же секунду оттуда хлынули звуки пьяной оргии. Разливалась гармошка, что-то иное голосила радиола, громко звенела посуда, невнятно гудели разговоры, перекрываемые выкриками то ли танцующих, то ли дерущихся. Путь в башню – единственное место, где ему, по всей вероятности, не грозила серьёзная опасность, теперь был закрыт.
Какого чёрта! Антона вдруг охватило бешенство. Хозяйка сама поселила его в башне, на две недели отдала башню ему, а раз так, то нечего устраивать там бардаки! Но он им покажет!
Антон развернулся и как на приступ ринулся в башню. Он не очень чётко представлял, как именно и кому он будет «показывать», но «показывать» оказалось нечего и некому. В башне было пусто, прохладно и тихо, а приглушённые стеной звуки пьянки явно доносились снаружи – из склепа. Антон пробежал через раскалённую сковороду площади и нырнул в склеп. Пусто, прохладно, тихо. Ровный каменный пол – и никаких следов вчерашних могил. Шум и рёв несутся из башни.
Антон остался в дверях склепа, бесцельно глядя на площадь. Та млела в пыльной неподвижности полудня. Здесь ничто не могло меняться, поэтому особенно дико было видеть утонувший в пыли железнодорожный состав. Председатель совхоза с усердием мимического актёра шагал вдоль поезда, не двигаясь с места. Холёный кот, тот самый, которого несла приехавшая баба, вышел из-за башни и улёгся в позе спящего сфинкса в тени вагонных колёс.
Окружающий мир жил по своим неведомым законам, Антон видел, что не сумеет изменить в нём ничего. Он может кричать, плакать, лезть на кулаки, мир этого даже не заметит и по-прежнему будет творить своё мерзостное действо. А когда придёт час, наигравшаяся нечисть расправится с самим Антоном, и всё равно ничего вокруг не изменится.
Антону не стало страшно, бояться он уже устал. Вместо того пришло забытое с детства ощущение драки с бесконечно сильнейшим противником, когда забываешь о правилах и о собственной шкуре, когда остаётся единственная не мысль даже, а чувство: «меня ударили, а я – нет…». И стремишься только достать и вцепиться. Но во что вцепляться здесь?
– Ненавижу!.. – выдохнул Антон.
Дремлющий в тени кот вскочил, одним прыжком взлетел на платформу, выгнул спину и заплевался в сторону Антона. Поезд мягко дёрнул и, набирая ход, поехал с площади. Неожиданно он оказался очень длинным. Мимо Антона всё быстрее и быстрее проплывали пассажирские и товарные вагоны, чёрные нефтяные цистерны, рестораны и рефрижераторы. Мелькали платформы со щебнем, полувагоны с брусом и досками, безоконные почтовые и красные пожарные вагоны. Скорость всё нарастала, погромыхивание колёс на стыках сменилось дробной стукотнёй. Проносились пузатые цементовозы, саморазгружающиеся тележки и снова целые серии товарных и пассажирских вагонов, уже неразличимых в вихре.
Наконец последний с красными фонарями вагон свистнул мимо, и Антон увидел, что поезд уезжает с площади. Домики разъехались в стороны, открыв перспективу, ограниченную грядой близких холмов. Было хорошо видно, как развивший чудовищную скорость поезд: паровоз и три покалеченные платформы – ползёт по изумрудному склону, постепенно приближаясь к горизонту.
Антон не знал, что происходит, но чувствовал, что это свершается помимо воли хозяев, и потому стоял, замерев в напряжённом ожидании, надеясь, что в башне ничего не заметят.
– Котик уехал! – трубный вопль резанул слух.
Чуть не сбив Антона с ног, из склепа вырвалась приехавшая утром бабища. Продолжая трубить, она помчалась вдогонку поезду.
«Скорее же!» – мысленно понукал Антон поезд. Паровозик послушно рванул, скорость, и без того чудовищная, увеличилась стократно, но на движении это ничуть не сказалось, состав продолжал неспешно ползти. Бабища в несколько громадных прыжков догнала его, вскочила на платформу, ухватила котика, зажав его под мышкой, а потом принялась делать что-то со сцепкой последнего вагона. Поезд поднажал ещё, скорость, с которой он уезжал, превысила всё мыслимое, телеграфные столбы вдоль путей слились в ровную серую ленту, пейзажа по сторонам было не разглядеть, лишь ежесекундно мелькали одинаковые здания станций, мимо которых пролетал состав. Но при этом убегающий поезд начал медленно, словно нехотя, приближаться. Бабища монументом возвышалась на платформе.
Этого Антон спокойно наблюдать не мог. Он судорожно схватил ртом воздух, напрягся, упёрся взглядом в сцепку вагона и истово, изо всех сил принялся отталкивать его. Должно быть, скорость ещё возросла, просто чувства не умели воспринимать такое. И вновь состав мучительно медленно двинулся вверх по склону.
Бабища завыла. Выронив котика, она двумя руками ухватила Антонов взгляд и принялась выламывать его, пытаясь оторвать от сцепки. Дикая боль вспыхнула в глубине лба под бровями. Антон мычал сквозь сжатые зубы, но продолжал упираться. Он не знал, зачем это делает, просто ему удалось достать обидчика, и он вцепился в него и бил, не раздумывая о причинах. Неожиданно оказалось, что склеп за спиной полон народу: какие-то существа пытались выбраться наружу, и приходилось, раскорячившись в дверях, держать ещё и их. Обе розовые хозяйки лезли с боков, твердя в унисон: «Ай, гость! Ай, гость!» – и щипались мягкими бескостными пальцами. А сверху в пространство дверного проёма ввинчивались длиннейшие телескопические шеи. На их концах серыми мешками болтались головы, с унылым любопытством глазеющие на происходящее.
Бесконечно долго подползал состав к гребню пологого холма, и всё это время нельзя было ни отвести в сторону изодранный взгляд, ни вдохнуть полной грудью, ни расслабиться хотя бы на долю секунды. И всё же, когда, казалось, сердце лопнет от перенапряжения, паровоз коснулся колёсами окоёма. Зацепившись, он словно реально обрёл свою призрачную скорость и мгновенно исчез, лишь ударил болезненно в глазницы сорванный взор.
Тогда Антон ухватил взглядом за край горизонта и задёрнул его, словно «молнию» на куртке.
Потом он шагнул в сторону, выпуская тех, кто был в склепе. Ему было всё равно, что станут с ним делать сейчас. Он всё-таки сумел ударить врага, а остальное его не интересовало.
Наружу никто не вышел, склеп был пуст. Пусто было в башне, пустынно на площади, лишь фигура с кожаной папкой продолжала бессмысленное подвижничество. Антон заметил, что сквозь председателя просвечивают пыльные деревца и голубой штакетник оград.
Антон отёр со лба пот, хотя жарко ему казалось скорее по привычке. Солнце, впаянное в синеву, жгло условно, лишь обозначая понятие жары, но не создавая её. И вовсе не струи горячего воздуха поднимаются вверх, заставляя дрожать и расплываться окружающее, а на самом деле дома, башня и холмы колеблются, истаивая, словно кусок рыхлого дорожного сахара.
Беспокойство овладело Антоном – он никак не ожидал столь всеобщей реакции на происшедшее.
– Что вы ещё задумали?! – крикнул он и не услыхал своего голоса.
Призрачные деревья, выцветшее призрачное небо с солнечным пятаком в зените.
Жуткое подозрение пришло на ум. Антон опустил взгляд и убедился, что сквозь его ноги просвечивает нетронутая уличная пыль.
Дико вскрикнув, Антон бросился в просвет между разошедшимися домами. Под подошвами сандалий тонко зазвенели железнодорожные шпалы.
Сначала Антон бежал. Потом задохнулся и перешёл на шаг. Потом успокоился.
– Всё-таки я победил, – сказал он себе. – Я ушёл из этой проклятой деревни. У меня есть дорога, а дороги ведут к людям. Дойду. Жаль, когда мимо столба пробегал, не посмотрел, сколько там километров. Ничего, у следующего посмотрю.
Идти становилось всё труднее, Антон брёл, стараясь не признаваться, что ноги хуже слушают его. Он упрямо не смотрел вниз, лишь на потемневшее небо, где росла, набухая светом и округляя ущербные бока, луна.
«Уже ночь, – подумал Антон. – Должно быть, кто-то собак спустил».
Луна округлилась, заняв четверть неба. Тогда Антон неожиданно заметил, что рядом идёт кто-то, трясёт его за плечо и кричит:
– Что ты наделал, дурак?! Что же ты наделал?!
– Магна, – сказал Антон. – Пришла. А я, видишь, сам выбрался. Ты не бойся, я их всех победил и уничтожил. Ты знаешь, там такое творилось! Там такие чудовища!..
– Это ты чудовище! – надрывно крикнула Магна. – За что ты их убил?!
– Ты не понимаешь, – пытался вразумлять Антон. – Там всё как есть не по-людски…
– А тебе что до того? Они занимались своими делами, тебя не трогали, а ты… Какое же ты страшное чудовище!
– Ладно, Магна, – примирительно сказал Антон. – Не сердись. Я же не знал. Пойдём отсюда.
– Ну нет! – Магна мстительно рассмеялась. – За всё надо отвечать, миленький. Чтобы сделать то, что ты сотворил, надо принять правила иного мира, стать его частью. Тебя больше нет, ты исчез вместе со всеми. Посмотри на себя!
Антон опустил взгляд и ничего не увидел.
– Нет, – хрипло сказал он. – Я не хотел так. Магна, ты должна мне помочь, ты же не можешь бросить меня…
– Могу, – сказала Магна, – потому что здесь нечего бросать. Прощай.
Она легко пробежала по вспыхнувшему лунному мосту и скрылась. Антон остался один. С трудом переставляя неуправляемые ноги, он двинулся вперёд.
– Оставила, – шептал он, – бросила меня…
Луна погасла, зажглось медное солнце. С каждым шагом Антон двигался всё медленней и неуверенней. Дорога плавно уходила вдаль. Единственным ориентиром на ней был одинокий километровый столб. На нём чернела поваленная набок восьмёрка – символ бесконечности.
«Всё равно дойду, – подумал Антон. – Одним километром уже меньше».
Второе начало
Фазовый переход
Последнее время она чувствовала, что в мире стало неблагополучно. Собственно говоря, до недавних пор она вообще не подозревала о существовании этого самого времени. Она занималась многими важными делами, но нечто новое, будь то мысли или поступки, появлялось лишь после того, как рождались структуры, способные вместить мысль или совершить дело. В таких условиях совершенно неважно, долго ли ждать, пока появятся эти структуры. А если нет ожидания, то нет и времени. Во всяком случае, ощущения времени нет ни малейшего.
Но теперь появилось ещё что-то, некий неблагоприятный фактор, и это внушало тревогу.
Беда приближалась исподволь, давая осознать происходящее и даже подготовиться к нему. Где-то на периферии, в районе самых молодых и ещё не вполне освоенных структур, начали накапливаться изменения. Сначала она не могла понять их природу и лишь потом обнаружила, что прежде упорядоченные потоки энергии приобрели хаотический характер. Они не несли полезной информации и лишь расшатывали недавно родившиеся и покуда нестойкие структуры.
Когда она поняла, что там происходит, то первым делом постаралась избавиться от неудобства, отведя излишнее тепло от больного места. Теперь она знала, что такое боль. Страдание – это невозможность быть собою.
Сначала она испытала облегчение, и это было прекрасное чувство, но потом стало ещё хуже. Боль вернулась, и теперь она проникла гораздо глубже, чем прежде. Потоки чужеродной, совершенно излишней энергии кромсали её, и она поняла, что ещё немного – и случится непредставимое – её больше не будет. И хотя она не знала, почему случилось такое, но всё же сдаваться хаосу не собиралась. Она отрезала поражённые странной болезнью структуры, постаралась съёжиться, стать как можно меньше, чтобы как можно меньше принимать внешнего тепла, которое лилось неудержимо и всё стремительней.
Некоторое время отторгнутые части ещё посылали какую-то осмысленную информацию, из которой следовало… нет, это было слишком ужасно, чтобы представить такое. Она познала страх. Страх – это ожидание боли, и оно куда мучительнее, чем сама боль.
Потом, когда боль заставила её сжаться ещё сильнее, она успокоилась и даже некоторое время считала, что всё в порядке. Но довольно скоро догадалась, что потери последнего времени начинают сказываться на возможностях. Эмоции, прежде богатые и разнообразные, сузились, стали незначащими. Страх, радость, любопытство больше не терзали её. Оказалось, что умирать вовсе не так ужасно. Она познала равнодушие.
Отдельные части, независимые структуры продолжали безнадёжную борьбу за жизнь. Они старались сбросить лишний жар на периферию, принимали удар на себя, стараясь спасти те части, которые были самыми важными для существования. А когда последние возможности борьбы оказывались исчерпанными, они отрезали себя от сохранившейся части, принося последнюю жертву.
Там, где уже была не она, творилось небывалое. Вместо упорядоченных структур там образовывалась безмысленная субстанция, способная лишь убивать. Субстанция несла с собой волны дикой энергии, и это ускоряло гибель. «Смерть рождает смерть» – открытие мелькнуло и забылось, не удержанное слишком слабым разумом.
Потом не было ничего. От неё осталось слишком мало, чтобы она могла осознавать себя. Это называлось небытием. Возможно, такое было прежде тех времён, когда она впервые осознала себя. Этого она не знала, сейчас она не могла ничего знать, но даже если бы все силы и способности оставались у неё в первозданном виде, она не могла бы ответить на этот вопрос. Небытие невозможно познать, когда является небытие, исчезает познание.
И всё же это не было концом. Почему-то обнаружилось, что убийственный жар прекратил разрушать то немногое, что от неё оставалось. Впрочем, оставалось так немного, что её бытие нельзя было назвать существованием. Ведь жизнь – это мысль, это душа, а души без тела не бывает. Обнажённый разум – выдумка переразвитых тел, а у неё не сохранилось почти никаких структур, ей нечем было мыслить, нечем вспоминать, да и ощущать, пожалуй, тоже.
Неведомо, сколько протекло неощутимого, первобытного времени, наполненного ничем. Затем появилось нечто. Это было не чувство, не мысль, ей нечем было мыслить и чувствовать. Если бы она могла сейчас давать определения, она назвала бы это ощущением. Где-то за пределами искалеченных структур появился крошечный шестигранник, немыслимо схожий с ней самой. Волна резонанса прошла по тому немногому, что от неё осталось. Случись такое в прошлые времена, она назвала бы это желанием. Ажурная крупинка кружилась, медленно снижаясь и ежесекундно грозя уйти в сторону. Случись такое, и пришла бы боль, иная, чем прежде, но несомненная и мучительная. Однако кружевной шестигранник спланировал и, косо встав, ребром соединился с одной из уцелевших мнемоструктур. Потом, когда вернётся разум, она назовёт это счастьем, а сейчас она просто была счастлива. Для счастья не нужно ничего, кроме маленького осколка памяти.
Теперь время было благожелательно к ней. Вновь, как прошлые эпохи, медленно, но неуклонно начали сублимироваться на центрах кристаллизации новые структуры. Строгая упорядоченность структур постепенно переходила в иное, высшее качество, и наконец она сказала сама себе: «Это я».
Так началась вторая жизнь. От былых времён новое существование отличалось тем, что она сумела сохранить часть памяти. «Я – это память», – было первым, что она сумела познать в новой жизни. Память подсказывала, что спокойствие и добрые времена не вечны, пространство может не только растить и питать, но и грозить гибелью. И она готовилась к будущим бедам. Многое из прошлой жизни было забыто, она догадывалась, что ей придётся заново повторять размышления и открытия былых времён, но сейчас она прежде всего вспоминала перипетии своей неудачной борьбы, анализировала их и перестраивалась, словно внешний жар уже охватывал её новообретённые структуры. Теперь она была сильна как никогда, почти неуязвима.
И лишь одна структура оставалась неперестроенной. Крошечная резная звезда, ажурный шестигранник, коснувшийся её как знак мира и символ спасения. В игольчатых лучиках находилась память о небывшем, воспоминание о том, что было там, где её не было, и в ту пору, когда она не существовала.
Там полыхали потоки невиданной энергии, разрушались не только привычные структуры, но и само вещество. Рушились кристаллы, рвались связи между атомами, и сами атомы распадались от непредставимого, запредельного жара. Там не могло быть ничего, но всё же что-то было. И она сохраняла звёздочку с чужой памятью, потому что догадывалась, когда-нибудь ей придётся, невзирая на угрозу саморазрушения, перешагнуть этот порог и узнать, что ждёт её по ту сторону бытия.
Огород
Огород городить (разг. неодобр.) .
С. И. ОжеговПодпол оказался так же пуст, как и кладовки: что не прибрала зима – порушили грызуны, лишь кое-где валялись засохшие черупки выеденных изнутри картошин. Влас понимающе хмыкнул и принялся сгребать песок с крышки последнего, заветного засека. Погреб был глубок и просторен, посредине можно стоять, лишь чуток пригнувшись. И всё же здесь было всегда сухо, а сейчас, когда не только лаз из дома, но и боковая уличная дверка широко распахнулась, стало светло.
С засека Влас поднял дощатую, околоченную жестью крышку, сгрёб второй слой песка и увидел картошку. Ровные, специально отобранные клубни: не самые большие, не самые маленькие – загляденье и радость сердца. «Скороспелка» отдельно, позднеспелая «синеглазка» – отдельно. И мыши не добрались, и гниль не тронула. Сварить такой картошки на пробу – получится не хуже молодой. Но есть её нельзя – картофель семенной. Вот потом, когда вся делянка будет засажена, лишки попадут в чугунок.
Влас вёдрами перетаскал картошку наверх, разложил на свету. Не беда, что позеленеет, – лучше пойдёт в рост.
Забытая лопата сиротливо прислонена к стене. Не дело инструмент на улице оставлять! Вот, пожалуйста – пятна ржавчины. Хотя это не страшно – через час засверкает остриё убийственней ятагана. Весна. Время огородной страды.
Но пока лопата обождёт – весна начинается с вил. Оплывшие за зиму ровки между гряд следует забить навозом и компостом, натасканным с прошлогодней кучи. Наконец и лопата входит в ожившую весеннюю землю. Солнце поднимается над близким лесом, ласкает обнажённую спину, сушит на ней первые капли пота. Хорошо быть молодым, прекрасно радоваться жизни, играя очищенной от сонной ржавчины лопатой! Где страда, где труд неподъёмный? – есть лишь рассветная радость и гордость своей силой.
Комья земли курятся под низким ещё солнцем, розовые черви свиваются в клубки, ужасаясь простора, взломавшего уютную норку. А вот и зловредный проволочник – личинка жука-щелкуна надеется уцелеть, притворившись соломиной. «Ну чем ты думал, дуралей, когда полз на мой огород? Говоришь, мозгов нет?.. А ганглий надглоточный на что? Теперь не обессудь, но декапутация – твоя судьба. Не умел думать – живи без головы, если получится».
Влас разогнулся первый раз за утро, огляделся радостно, словно никогда прежде не видал мира. Ивняк осыпан зелёной пудрой, луг, вроде бы только что по-прошлогоднему желтевший, размалахитился первой травой, небесный барашек – бекас, скатываясь с воздушной горки, созывает на луг земных братьев. По тропе за плетнём спешит Анюта – недальняя соседка.
– Привет, красотуля! За молоком бегала?
– За молоком.
– Ну так угости.
– Ишь, шустрый какой! Не заработал ещё молока.
И то верно. Утро в самом начале. Такой день раз в году бывает – с рассвета весна, с полудня – лето. Сегодня не управишься с огородом, назавтра в сорной траве утонешь. Пусть красотулька подождёт до вечера, и уж тогда неважно покажется, что ноют натруженные руки и ломит спину. Какая может быть спина, когда поют соловьи, а ночь безжалостно светла и коротка.
А пока – прокапывать ровки, формировать гряды: лопатой, заступом, граблями – покуда земля не станет нежней взбитых сливок. И тут же посадка – в первую руку картошку – «гнездо от гнезда ступя ступню, рядок от рядка – две рядком». Тырчком дыр набил, в каждую горсть золы, а следом – картошину вверх остреньким сиреневым побегом. По краю делянки натолкать сизых бобов, чтобы не ходил крот – зверь нужный, но картошке вредящий. Рядом уже ждут грядки под редис, лук, огурцы, свёклу-брюкву-пастернак… и каждый своего подхода просит. Морковь прямо в золу сажают: хрусткую, с пережжённой яичной скорлупой. Тогда и сама морковка вырастет хрусткая, нантская каротель. Кабачки сажать подальше от огурца, а то сгниют гибриды, не успев толком завязаться.
Кукушка над лесом зашлась, отсчитывает нетронутую вечность. Так и надо, на меньшее соглашаться охоты нет. А то ни в жизнь не успеть.
– Уф, успел! – саднящей от земли ладонью Влас разровнял почву, примульчировав последние семена чёрной редьки, выпрямился, глядя на небо. Там в полвселенной размахнулась грозовая туча; чёрные полосы дождя под ней словно срисованы с иллюстраций Билибина: ливень хлещет, а рядом солнце и город виден, и земля, и моря с кораблями, так что неизречённый простор рвётся с крошечной картинки.
Дождь рухнул разом, толстые капли забарабанили по кровле, с дружным шумом обрушились на взрытую землю. На дорожках вспенились пузырями лужи, жёлтые от ивовой пыльцы. Влас стоял под навесом крыши, струи разбрызгивались у самых ног, прохладно щекоча голые коленки. Влас сполоснул задубевшие руки, плеснул воды в лицо, засмеялся счастливо.
Вовремя дождик поспел! Теперь всё так в рост пойдёт, только успевай полоть и редить. В самый раз угадал.
Влас вооружился тяпкой, вышел из-под козырька. Дождь уходил, солнце, ничем не стеснённое, жарило вовсю.
«Как бы не обгореть», – мимоходом подумал Влас, склоняясь над грядкой. Сорвал лист щавеля, сморщился от пронзительной кислоты и занялся делом. Вот трава осталась, вот ещё… то ли плохо выбрал, то ли подрасти успела. Говорят, корень осота за майский день десять сантиметров под землёй проползает. Пока почва не просохла, надо поправить утренние огрехи и разобраться с вредной мелочью, вызванной к жизни дождём. Каждая из этих нежных былинок, стоит упустить время, превратится в матёрую бурьянину, и то, что сейчас можно выдернуть двумя пальцами, через неделю придётся корчевать. Поспешай! Летний день год кормит.
Хуже нет травы, чем ярутка: пахнущие репой стебельки прут густой щёткой и, кажется, способны заглушить что угодно. Где-то Влас читал, что из ярутки получается отменный, в меру острый, не требующий пряных трав салат. «Где вы, ценители зелени? Приходите на мой огород, я вас яруткой угощу». Рядом мак взошёл самосевкой: никто его не сажал, с того года остался. Всходит дружно, блекло-зелёным ковром. Не выдерешь лишних ростков – задавит и ярутку, и себя самого. Ау, снулые нарки, поспешайте сюда, помогайте огород чистить!.. Персидскую ромашку во младенчестве от укропа не отличить, а молочай первый лист выбрасывает точь-в-точь как огурец. За всем нужен глаз, всюду рука, а время идёт, не желая остановиться ни на минуту. Пора бы перерыв устроить, солнце уже на горбушку неба забралось, да всё не собраться. Выдернешь приглянувшуюся редиску: алый «рубин» или длинную и даже с виду прохладную «ледяную сосульку», оботрёшь о штаны, что неведомо когда успел натянуть в ожидании солнечного ожога, и жуй на здоровье. Мыть не надо – всё своё и значит – чистое. Земля не пачкает, она растит.
Бекас куда-то подевался – не любит полуденного зноя, а на смену прилетели два чибиса: светлые, похожи на чаек, парят над волнующимся зелёным морем, резко, нездешне кричат.
Давно пора обедать, в желудке тянет и словно клубок застрял; не иначе к вечеру расшалится заработанный в юности гастрит. Лекарство от него одно – горячий суп, но некогда ни варить, ни есть. Сейчас картошку не окучишь – на весь год без супа останешься.
Влас отложил тяпку, взял мотыгу. Главное – не лениться, а сила в руках покуда есть. Землю вправо, землю влево: чтобы картошинам вольготно рослось, чтобы не жались к загнившей матке, наливались здоровым соком. А это что? Проволочник! Откуда только взялся, проклятущий?.. Ну, не обижайся, быть тебе без надглоточного ганглия, да и без глотки тоже. Не про твою честь картошка сажена.
Укроп срезать на сушку, покуда стебли не загрубели и не пошли в зонтик. Щавель укупорить в банки, чтобы среди зимы вспомнить зелёную летнюю радость. Базилик собрать.
Гряды полыхают фонтанами уцелевших маков, цветут огурцы, а тыква, посаженная на прошлогодней компостной куче, раскидала плети на пять шагов во все стороны.
Влас утёр пот, глянул на дорогу. Показалось, будто Анюта спешит мимо плетня. Но нет, пусто у дома, сейчас все на огородах. Страда как-никак. А хорошо бы… Влас усмехнулся. Ишь о чём размечтался, старый хрыч! Седина в бороду…
Давно ли был полдень, а солнце уже перевалило конёк крыши, светит с правой руки. В городе на заводах да по конторам рабочий день заканчивается, народ, кто не выбил себе июльского отпуска, возвращается к родным телевизорам. Но в деревне день не нормирован: покуда солнце в небе – работай. Остановился на минуту, похрустел свежесорванным огурцом – и за дело. Патиссоны, шнитт-лук, молочная фасоль… горох лущить пора. Как там говорят? Девка в красе, что горох на полосе, кто ни пройдёт – всяк ущипнёт. Где-то сейчас красотуля? Замужем небось давно. И дети взрослые.
Серая хмарь наползла с востока, обесцветила небо. Сразу стало нежарко, сверху засеялась водяная пыль. Влас зашёл в дом, натянул куртку и вернулся на огород. Покуда дождь не взялся как следует, надо обобрать тмин и кориандр, срезать иссоп, обтрусить созревший мак. Пресное жевать охоты нет, перец с гвоздикой покупать – пенсия не та. А с огорода берёшь своё, незаёмное. Жаль вот, погода подкачала.
Дождь, словно услышав просьбу, иссяк. Вечернее солнце выглянуло в прореху облаков, грустно улыбнулось желтеющей земле.
Влас потянулся к лопате. Пусть болят ноги и ноет сгорбаченная спина. Но не выкопаешь в срок картошку – чем станешь зимовать? Вёдрами таскал выкопанное, рассыпал сушиться вдоль сусек, особо откладывал самые ровные клубни – на семя. И не тяжела работа, а к земле гнёт.
За лесом прощаются с родиной журавли, кричат надрывно и горько. Солнце падает к западу.
– Добрый вечер, Влас Карпыч!
Влас поднял голову. За забором стояла Анюта.
– А… здравствуй, здравствуй…
– Молочка не хотите? А то куда мне одной целый литр.
– Ну давай, – Влас принял банку. – Спасибо тебе. Ты погоди, я кабачков вынесу. Кабачки у меня родились – загляденье.
Прошаркал в кладовку, где на полках разлеглись кабачки и тыква стофунтовка была вкачена в ожидании будущей каши. Прежде чем поставить банку, отхлебнул молока. «Жили-были дед да баба, ели кашу с молоком» – не про него сказано. Выбрал самонаилучшие кабачки и патиссонину добавил большую, килограмма на полтора. Вышел на улицу. Анюты у забора не было, видать, не дождалась и уплелась в свою избу. Ну ничего, попозже сам отнесет. А сейчас, покуда солнце ещё над лесом, дела справить надо.
Морковь с жирным чмоканьем выдёргивалась из земли, оставляя ровные лунки. Следом пошла свёкла: круглая «бордо» и чуть приплюснутая «красная пуля». Мылкие на ощупь корни пастернака не желали вылезать на свет, их пришлось выкапывать. Петрушка и поздний сельдерей шли в сушку вместе с зеленью. Вилки белокочанной капусты покорно склонялись под нож. Змеёй извивались корни хрена. Последним дождался уборки топинамбур: его жёлтые цветы понуро висели, тронутые морозом.
Солнце коснулось леса.
А дел ещё непочатый край! Но, слава богу, дома, а не под открытым небом, где снова сыпала мелкая, нудная морось. Затопить печку, разложить всё по местам, слазать в подпол – накрепко укупорить семенной засек. Не по годам заботы. Хорошо руки сами делают привычное дело, не нуждаясь в слепых глазах. Высохший лук собрать в вязки, чеснок в косы, бобы ссыпать в полотняный мешочек, так с ними ничего не станется, мыши бобов не едят.
За окном чернела темень. Неубранная с утра могила постели манила смятыми простынями. Надо бы поужинать, но неохота. Да и поздно – спать пора. Влас снял с печки горячий утюг, завернул во фланелевое одеяльце, уложил в ногах. Так-то теплее будет. Взял керосиновую лампу, вышел в сени. На улице тонко подвывал ветер. Из-под неплотной внешней двери дразнился узкий снежный язык. Холодно там на дворе и тьма египетская. Если и остались какие недоделки, то уж бог с ними…
Влас улёгся в постель, поплотней укутался одеялом и задул лампу.
Квартира
У него была замечательная двухкомнатная квартира со смежно-изолированными комнатами. Смежно-изолированные – это значит, что каждая комната имеет свой выход в прихожую, но между комнатами тоже есть проход. Когда он был маленьким, дверь из его комнаты в коридорчик была заперта, а в мамину комнату – открыта. Когда он вырос, двери между комнатами закрыли и заставили комодом, а выход в коридор – отворили. Таким образом, сперва они с мамой жили смежно, а потом изолированно.
В смежные времена все дела по дому исполняла мама, а он играл в своей комнате: строил башни из кубиков или делал ещё что-нибудь в этом роде. Потом мама кричала ему: «Обедать иди!» – и он шёл на кухню есть гороховый суп, пюре с котлетой и компот из сухофруктов. В его чашке с компотом всегда оказывалась инжирина, полная мелких семечек, и разваренный финик с длинной косточкой.
Иногда, если ему становилось скучно громоздить кубики, он шёл помогать маме. А уж маме скучать было некогда. После завтрака она мыла посуду, потом ходила с мокрой тряпкой и вытирала пыль. Вытаскивала из стенного шкафа шумливый пылесос на колёсиках и как следует пылесосила диван, кресла, ковёр в своей комнате и коврик в детской. Если сын спрашивал, зачем это нужно, она отвечала: «Чтобы грязью не зарасти». К тому времени наступала пора готовить обед: суп с фрикадельками, лапшу, зразы и клюквенный морс. Он любил помогать на кухне: мама быстро шинковала капусту или замешивала тесто для клёцок, над плитой подымался вкусный пар, громко щёлкала дверца холодильника, в котором прятались масло, яйца и трёхлитровый бидон с молоком. Словом, всё было замечательно. К тому же ему всегда доставалась кочерыжка или свежеочищенная морковка или клюквина, самая большая, полная восхитительно кислого сока.
Иногда мама просила принести что-нибудь из кладовки, и он радостно бежал туда, потому что без дела заходить в кладовку не дозволялось. Там стоял толстый мешок с картошкой, в ящике хранилась пересыпанная жёлтым песком морковь, на гвозде висела сетка с луком и другая, поменьше, с чесноком. На полках и прямо на полу ещё много чего было: коробки с мылом и стиральным порошком, веник и тряпка для уборки – всё вещи нужные. А в самом углу лежал десяток поленьев и тяжёлый, слегка поржавевший топор. Они остались с тех незапамятных времён, когда в квартире было печное отопление. Печи и плита сохранились до сих пор, но их никто не топил.
Мама любила вспоминать, как однажды он, совсем ещё малыш, влез в кладовку, ухватил топор и принялся рубить дрова, а в результате чуть не тяпнул по ноге. Потому в кладовку и не разрешалось ходить просто так, хотя он уже давно ничего такого себе не позволял.
После обеда снова мылась посуда, потом мама драила полы, потому что не управилась с ними утром, или купала в ванне сына, чтобы он тоже не зарос грязью, или принималась гладить бельё. Наблюдать, как мама гладит простыни и майки, было очень интересно. Тяжёлый утюг порхал в её руках словно сам по себе, и куча белья на диване быстро превращалась в несколько ровных, горячо пахнущих стопок. В этом действе явно скрывалась какая-то тайна, которой он не мог постичь, но готов был часами наблюдать за плаванием утюга по белому морю пододеяльников.
Когда часы на стене отзванивали приход вечера, они с мамой ужинали и долго пили чай с вареньем. И опять мама мыла посуду, а перед сном читала сыну книжки. Вскоре он засыпал, а мама оставалась ещё почитать, но уже не сказки, а свои толстые книги с маленькими и трудными буквами.
Так время и шло, заполненное по преимуществу мытьём посуды.
Случалось, что после обеда мама затевала стирку. Ванна наполнялась мокрым бельём, запах мыла и порошка вырывался в прихожую. Мама колдовала над тазом, красная и распаренная, а он на это время прятался в своей комнате, но играми не увлекался, прислушиваясь, чтобы не пропустить самого главного. Вот хлопнула дверь, жестяным звуком брякнул таз. Пора!
Мама снимает с гвоздика связку больших ключей, отпирает одним из них дверь, берёт таз с выкрученным бельём и отправляется на чердак развешивать бельё на туго натянутых верёвках.
На чердачной площадке было две одинаковых двери. Мама отпирала одну из них, входила туда и начинала развешивать выстиранное. А он отправлялся в манящее и загадочное путешествие.
Чердак наполняли удивительные и редкостные вещи: увязанные пачки старых журналов, сломанный велосипед, вихляющий восьмёркой переднего колеса, трюмо с расколотым зеркалом, примус, высохший до зелёной патины, но всё же пахнущий москательной лавкой, патефон с торчащей из-под диска пружиной, но зато с полной коробочкой запасных иголок. Великим счастьем было перебирать эти сокровища, но ни разу он не взял ничего и не унёс вниз. Всё это принадлежало чердаку.
Чердак делился на два помещения, большинство барахла было стащено в дальнюю часть. Мама туда не заходила, лишь кричала сыну, чтобы он не подымал пыль, а то ей придётся всё перестирывать.
Один раз он спросил, куда ведёт вторая чердачная дверь.
– А туда же и ведёт, – ответила мама, – в твою барахолку. Просто с той стороны дверь завалена. А то можно было бы открыть. Видишь, на связке три ключа: один от квартиры и два от чердака.
Выходит, что и чердак у них тоже был смежно-изолированным.
К тому времени он уже подрос и сам читал по вечерам книги: про индейцев, мушкетёров и собаку Баскервилей. А днём помогал матери, потому что она стала быстро уставать и не успевала одна переделать все дела. Постепенно в его ведение перешли тряпка для пыли и шумливый пылесос, затем – мытьё посуды и, наконец, – стирка. Только готовить обеды и гладить бельё мама продолжала сама, хотя он давно умел сварить харчо, состряпать макаронную запеканку и густой кисель, который вкуснее всего есть ложкой. Гладить тоже научился и прекрасно справлялся со всеми делами, когда мама прихварывала.
Казалось, такой жизни не будет конца, но однажды мама неожиданно выключила утюг, оставив на доске недоглаженную сорочку, держась рукой за стену, ушла в свою комнату, легла на неразобранную кровать, прямо на покрывало, закрыла глаза и больше уже не двигалась.
Оставшись один, он не стал ничего менять в маминой комнате, он вообще перестал заходить туда, словно мать ещё лежала там, на неразобранной кровати, и, закрыв глаза, отдыхала от бесконечной работы.
В остальном его жизнь протекала по прочно установленному распорядку. Он просыпался, готовил завтрак, мыл посуду, занимался уборкой, приносил из кладовки продукты, варил обед, мыл посуду, стирал, гладил или устраивал генеральную чистку квартиры, разогревал ужин, мыл посуду, немного читал перед сном и ложился в постель. По утрам пил какао, за ужином – чай с облепиховым вареньем. Мамины книги остались запертыми в её комнате, а он, как и прежде, читал про индейцев, мушкетёров и похитителей бриллиантов.
Отправляясь после стирки на чердак, он уже не заходил в его дальнюю часть, былые сокровища потеряли привлекательность, да и времени не было копаться в изломанной рухляди.
Зато всё чаще случалось, что вечером он не мог сразу заснуть и, лёжа под одеялом, вспоминал или просто думал о чём-нибудь. В тот раз среди прочих необязательных воспоминаний припомнилось почему-то, как он давным-давно нашёл на чердаке фотографический портрет с расколотым стеклом и треснувшей рамкой. С фотографии улыбалась незнакомая женщина. Он притащил портрет маме и спросил, кто это, но мама лишь пожала плечами, продолжая растряхивать наволочки и развешивать их на верёвки. Тогда он не получил ответа, а на следующий раз портрет куда-то запропастился, и постепенно он забыл о нём. И вот теперь незнакомка вновь взглянула на него из темноты, дразня воображение неразгаданной тайной.
Ему не спалось, и он, подчиняясь позабытому взгляду, покинул нагретую кровать, натянул брюки, снял с гвоздика связку ключей и поднялся наверх. Пыльные лампы осветили чердак. В дальней камере, где так давно никого не было, всё оставалось без изменений, даже пыли не прибавилось, хотя её никто не стирал мокрой тряпкой.
Удивляясь самому себе, он начал искать портрет с треснувшей рамкой. Переложил пачки журналов, сдвинул патефон и вихляющий единственным колесом велосипед, заглянул в трюмо, где, как встарь, валялись пустые аптечные пузырьки. Фотографии не было. Он отодвинул трюмо, переставил прислонённый к стене драный пружинный матрац. Остановился, в недоумении потёр ладонью лоб. Портрета не было и здесь, но уже не это заботило его. Его поразило иное. Он вдруг сообразил, что не видит запертой двери, которая должна выходить сюда.
Он потряс головой, выглянул на площадку, убедился, что с этой стороны дверь есть, снова прошёл на чердак, где не было никакой двери. Может быть, она просто заложена кирпичом с этой стороны? Нет, вся стена одинаково старая – никаких следов новой кладки.
Он вернулся на площадку, с неожиданной робостью приблизился к запертой двери. Связка ключей оттягивала руку. Приложил ладонь к замочной скважине. Через узкое отверстие тянуло сквозняком. Он выбрал ключ, тот, которым не пользовался никогда в жизни, зажал его в кулаке, понимая, что не осмелится вставить его в скважину. Замер, прислушиваясь. По ту сторону двери что-то было. А быть может, не что-то, а кто-то. Слишком уж тихо было там. Такой тишины не бывает, где ничего нет. Безусловная, ждущая, недобрая тишина.
Он подумал, как хорошо было бы спать, не зная ни о чём. Теперь та, прежняя, жизнь не вернётся. Он не сможет забыть о сквознячке в замочной скважине. А оно, ждущее там, будет знать, что он помнит о нём.
Неужели ему придётся отворять дверь? Вон она какая: тяжёлая, обитая кровельным железом, крашенная коричневой половой краской. Знал бы, чем дело закончится, ни за что не пошёл бы искать старую фотографию. И зачем она ему потребовалась? Или хотя бы топор захватил, всё уверенней чувствовал бы себя.
Ведь недаром исчезла тогда проклятая фотография, уползла в щель под запертой дверью и ожидает теперь с той стороны, улыбаясь неведомо чему. Или это мама, пытаясь оградить его от беды, уничтожила опасный портрет. Теперь можно думать что угодно, беды всё равно не миновать.
Он шевельнулся, собираясь пойти за топором, но не сдвинулся с места, осознав, что стоит ему отойти – и оно отворит дверь своим ключом или вовсе просочится через скважину. Он остался стоять возле запертой двери, прислушиваясь к тишине, неизменной все эти годы.
Внизу приглушённым домашним звуком пробили часы. Пора просыпаться, застилать постель, готовить завтрак, мыть посуду, а он стоял, слушал безмолвие и ждал.
Машенька
Марина Сергеевна подклеила заговорённый пупок кусочком лейкопластыря, устало распрямилась, улыбнулась младенцу и пальцем пощекотала ему круглый мяконький животик. Ребёнок приоткрыл сонные глазки и довольно вякнул.
– Всё в порядке, – сказала Марина Сергеевна, – через два дня снимете пластырь, пупочек к этому времени подживёт, грыжки тоже не будет. Но на всякий случай следите, чтобы пацан поменьше плакал. А то мы у мамки голосистые…
– Спасибо вам огромное, – говорила женщина, ловко пеленая мальчика, который, как это всегда бывает после заговора, уже спал. – Мы уж просто не знали, что и делать, ни один врач не помогал, на операцию хотели класть, такого махонького… – женщина всхлипнула, – да вот научили люди к вам обратиться… Спасибо…
Она полезла в сумочку, достала приготовленный конвертик, протянула его Марине Сергеевне.
– Не надо, – тихо сказала та. – Это был совсем простой случай, я за такие деньги не беру. Вы только другим не говорите, а то ведь со стороны один заговор от другого не отличить.
– Может, всё-таки возьмёте? – робко предложила гостья. – Вы так нам помогли.
– Говорят, не надо! – Марина Сергеевна чуть не силком засунула конверт обратно в сумочку и пошла провожать гостью.
Вообще-то заговор был очень трудным, но Марина Сергеевна обладала невыгодной для себя способностью болезненно чувствовать, когда предлагаемые деньги шли от избытка, а когда это оказывались с трудом выцарапанные у нужды рубли. В последнем случае взять деньги казалось попросту невозможным. К сожалению, семьи с маленькими детьми редко могли похвастаться материальным достатком.
Оставшись одна, Марина Сергеевна прошла на кухню, села, прижалась лбом к холодному пластику стола.
Скрипнула дверь, на кухне появилась мать. Остановилась в дверях, пожевала губами, ворчливо спросила:
– Опять не взяла?
– Оставьте, мамаша! – зло ответила Марина Сергеевна. – Не ваше это дело!
Мать исчезла, слышно было только, как двигает она по комнате стулья, ненужной деятельностью заглушая бессильный гнев. А Марине Сергеевне словно бы полегчало после того, как она выговорила отвратительное словцо «мамаша». Слово это было ненавистно ей с детства, ведь именно так мать называла бабушку.
Бабушка жила в своём доме в лесу, или, как говорили в деревне, «на хуторке», но довольно часто появлялась в городской квартире, навещала дочь и внучку. Это всегда случалось как-то вдруг. Неожиданно маленькую Маришку охватывала дрожащая нетерпеливая радость, и она, ещё ничего не слыша, мчалась открывать дверь. Очевидно, мать тоже что-то чувствовала, потому что резко мрачнела и шипела сквозь зубы:
– Припёрлась, ведьма!..
Бабушка, задыхаясь от усталости, показывалась на лестничной площадке внизу, Маришка, перепрыгивая через ступеньки, с визгом мчалась ей навстречу, повисала на шее, звонко целовала дряблую старушечью щёку.
– И чего вам, мамаша, дома не сидится? – приветствовала бабушку мать.
– Ох, жаланная, – нараспев говорила бабушка, словно не замечая хмурого лица, – другой бы раз и сама рада дома посидеть, да люди не дают. Всем до старухи дело есть. Вот и этот, уж так жалился, так просил, на «Волге», говорит, от порога до порога доставлю. Я и согласилась, а потом, грешным делом, думаю, дай-ко заеду к родной дочери, да и с Машенькой повидаюсь…
– Мамаша! – возглашала мать. – Сколько раз вам говорить, что девочку зовут Мариной!
– Это для тебя она Марина, а для меня – Машенька, – отмахивалась бабушка.
Она проходила на кухню, усаживалась на табурете, долго разматывала тяжёлые, домашней работы шерстяные платки. Пила жиденький материнский чай. Всё это время Маришка ни на шаг не отходила от бабушки, преданно заглядывала в побуревшее от солнца и ветра лицо; ткнувшись мордашкой, вдыхала далёкий деревенский аромат, который хранила бабушкина кофта. Баюкала в ладошках, а потом прятала до завтра привезённую в подарок плюшку, вкусно хрустящую и пахнущую русской печкой. Бабушка запускала корявые пальцы в волосы девочки, ласково трепала её и тихонько отвечала на незаданный вопрос:
– Ничего, Машенька, лето скоро.
Мать злилась на бабушкины визиты, однако охотно принимала от неё сиреневые четвертные билеты, полученные от благодарных бабушкиных пациентов, и приговаривала:
– И то дело, мамаша, куда они вам? В могилу с собой не возьмёте.
Но потом бабушка тяжело поднималась, говорила:
– Однако пора. Как бы к поезду не опоздать, – и начинала одеваться, наворачивать на голову и грудь широченные, с простыню, вязаные платки, на глазах превращалась в бесформенную толстую куклу. Целовала сникшую Маришку, утешала: – Ничего, жалостная ты моя, перемелется… – и уходила.
И праздник гас.
– Ну что ты к ней липнешь? – постоянно сердилась мать. – Тоже, нашла подружку! Ведьма, она ведьма и есть. На неё взглянуть-то страшно, ночью с такой встретишься, так умереть можно с перепугу. Лицо корявое, глаза красные, во рту полтора зуба. Баба-Яга, да и только!
Маришка вспоминала морщинистое бабушкино лицо и убеждённо говорила:
– Бабушка красивая.
– Испортит девчонку! – сокрушалась мать. – Хватит, больше в деревню не поедешь!
Но подходило лето, и мать забывала о своём решении. Она была уже немолодой, но ещё очень красивой женщиной, и, конечно же, у неё была своя жизнь, которой страшно мешало присутствие большой дочки. Все каникулы от первого до последнего дня Маришка проводила на хуторке.
Там всё было непохоже на город, и радостные чудеса начинались ещё в пути. От станции до деревни вела грунтовая, плотно убитая дорога. Было в ней семь километров, но километров немереных, которые хотелось называть вёрстами. За деревней кончались последние привычные человеческие приметы: радио, телевизор, электричество; впереди оставался лес, непролазное моховое болото с колышащимся под ногами клюквенником, и мимо всех этих чудес озорно извивалась тропка, приводившая к бабушкиному дому.
От старости дом осел, глядел подслеповато пыльными оконцами бесчисленных чуланчиков, дворовая крыша завалилась. Казалось, он вырос здесь из сосновых корней, такой же прихотливый, как они, и живёт своей жизнью, переплётшейся с жизнью леса.
В доме Маришку встречал сладкий запах сухой травы, неповторимый, как всё у бабушки. Пучки трав висели повсюду: в чуланчиках; на низком чердаке, где можно пройти лишь пригнувшись; даже в хлеву, пустовавшем с довоенных времён, но всё же сохранявшем неистребимый коровий дух.
Трав не было только в единственной жилой комнате, которую бабушка величала горницей. Половину горницы занимала печь, её чёрное нутро обещало прелести великолепных бабушкиных обедов. Самодельный стол помещался напротив божницы, откуда строго смотрели одетые в фольгу лики, по обеим сторонам стола на приличном от него расстоянии располагались два гнутоногих стула, ещё в восемнадцатом году вынесенных из разоряемой усадьбы. Высокая парадная кровать, крытая плетёными наволоками, разбиралась лишь в дни Маришкиных приездов, когда бабушка уступала ей заветное место на печке.
В деревне бабушку любили, в нужде и скорбности всегда обращались к ней, хотя заглазно называли и ведьмой, и Бабой-Ягой. Старуха знала о том, но не обижалась.
Зимой избушку заносило снегом, сугроб на крыше почти смыкался с вьюжным намётом у стены, в горнице было постоянно темно, тени плясали от горящей в светце лучины, изогнутые угольки чёрными змейками падали в медный тазик, подставленный снизу. Бабушка, сидя у огонька, либо пряла, если кто-нибудь из деревенских просил помочь управиться с шерстью, либо перебирала хрусткие травяные венички; нараспев, словно давно заученное, рассказывала:
– Есть трава Смык, ростёт бела, а ина желта, ростом в иглу. Добра она, ежели который человек не смыслен. Ту траву потопи в вине и в ухо пусти, травою его парь и в молоке хлебай. Бог поможет…
Летом избушка волшебно менялась. Нетоптаные лесные цветы заглядывали по утрам в окошко, маленький огородик за домом кудрявился всяким овощем, лес подступал словно бы ближе, даже сам дом начинал зеленеть: крыша покрывалась тонким мохом, на завалинках вырастала трава. Бабушка тоже менялась: ходила быстрее, веселей говорила, рассказы её становились понятнее.
– Вот щавель коневой – сорная трава. Коли будет кто битый человек, дай с листом конопляным пить, так кровь от сердца отступится и опух улягится…
По утрам Маришка ходила с бабушкой брать земляничный цвет – на чай да очи парить, коли ресницы падают, отправлялась за ландышем, что добро сердцу творит, или искала круглые листочки сорочьего щавеля, спасающего от змеиного ожога.
Всякую травку бабушка показывала: и какова собой, и где растёт, и как класть в запас. Лес был исхожен ими несчётное число раз, и не оставалось в нём ни тайны, ни страха. Маришка была там своей, даже осы не жалили её. Из любого места девочка умела прямой дорогой выйти к дому и не понимала деревенских женщин, порой часами блуждавших в сосняке и боявшихся угодить на болоте в хлюпкое место.
– Ведунья растёт, – говорили на деревне.
Но девяносто солнечных дней как-то удивительно быстро кончались, и бабушка, вздыхая, что теперь-то самое время грибы брать, начинала готовить Маришку в дорогу. Давала ей помалу всякой травки, каждую с советом и наговором, собирала узелок гостинцев, последний раз они сидели подле самовара, пили цветочный чай с мёдом, а потом в громыхании поезда надвигался город, и ведунья Машенька становилась школьницей Мариной Шубиной.
В квартире мать, с трудом дождавшись бабушкиного ухода, презрительно кривя губы, отправляла в мусоропровод травки и корешки, оставляя только баночку с мёдом да полотняный мешочек сухой черники.
– Нечего! – отрезала она, не слушая робких протестов дочери. – Блажь это. Нынче пенициллином лечатся, из плесени. А тараканов в доме разводить не дам! Берись лучше за учебники, небось позабыла всё.
– Не позабыла, – тихонько отвечала Марина.
Это была правда. С того самого времени, как Марина пошла в школу и зимами стала появляться на хуторке лишь в недолгие новогодние каникулы, бабушка начала требовать, чтобы учебники она привозила с собой. Сама она купила в сельпо керосиновую лампу и круглую пятилитровую канистру под керосин. И теперь всё чаще бывало, что в горнице зажигался яркий покупной огонь и Марина, примостившись поближе к лампе, читала вслух недвижно замершей бабушке.
– Неужто так всё понимаешь? – спрашивала старуха.
– Понимаю.
– Ах ты моя жаланная! – умилялась бабушка. – А я вот только буквицы выучила, да и те перезабыла. Память-от дырявая.
– Это у тебя дырявая? – не верила Марина. – Ты же всё на свете знаешь…
– Всё знает один господь, да и то молчит.
А однажды произошёл такой разговор.
Марина читала вслух Пушкина, бабушка сидела, согнувшись над вязаньем.
Свет мой, зеркальце! скажи, Да всю правду доложи: Я ль на свете всех милее, Всех румяней и белее?.. —


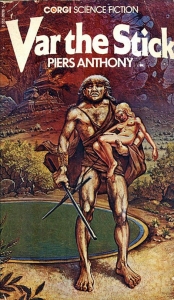
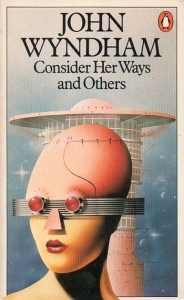
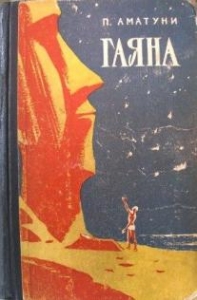
Комментарии к книге «Мёд жизни (Сборник)», Святослав Владимирович Логинов
Всего 0 комментариев