И конь проклянет седока
— Вам часы не нужны? — молодой человек спросил это таким голосом, что сразу стало понятно: часы краденые.
Я отвернулся. Толпа тянулась к эскалатору, поднимаясь на второй этаж огромного торгового центра.
Под эскалатором сидел нищий, похожий на евангелиста Луку.
Рядом юнец на столике разложил специфическую печатную продукцию. Несколько случайных людей рассматривали голые задницы и — если можно так выразиться — их оборотные стороны, будто увидели их впервые в жизни. Юнец скучал. Ему были противны потенциальные покупатели, и я в их числе.
Чуть дальше два парня пытались петь, перекрывая шум толпы.
Один играл на гитаре, другой колотил в барабан. Они стояли друг против друга и вопили что было сил на неизвестном мне языке.
Народ катил мимо, бушевал у прилавков, дети ели мороженое и глазели по сторонам, их потные мамаши кричали от касс:
— Марина! Отойди от дяди, я кому сказала?
В толпе были единицы, которые никуда не бежали, ничего не хватали, не кричали и даже не глазели по сторонам. Прислонясь к колоннам, они глядели внутрь себя, — или в какой-то другой мир, видимый только им самим. Они были похожи на манекены, с той лишь разницей, что одеты были куда лучше.
К одному из этих людей меня и поднесла толпа, поднесла и выплеснула на пятачок, где он стоял.
Я хотел отдышаться. Мне не был интересен человек, глядевший сквозь меня и жевавший жвачку. Я даже не взглянул на него — о чем сейчас жалею. Как бы там ни было, я примостился рядом с ним и тоже прислонился к колонне, хотя места было маловато: со всех сторон колонну омывала кипучая целеустремленная людская масса.
Тот, что стоял рядом, разглядывая свой собственный мир, теснее прижался ко мне и сказал:
— Ты поездом приехал или самолетом прилетел?
Я машинально ответил, как старому знакомому:
— Хотел самолетом, да билет не взял — поздно спохватился. Вот и пришлось…
Он не дослушал. Да я и не спешил договорить. Потому что в этот самый момент произошло что-то странное. Я увидел… Вернее, нет: передо мной распахнулась дверь Туда. Именно. Я как-то даже сразу понял, что это вход в другое измерение, в другой мир. Из него пахнуло чем-то… Затрудняюсь определить, чем именно, но от легкого сквозняка мне стало не по себе. Длинный полутемный коридор, который к тому же покачивался — я не успел рассмотреть его, как почувствовал предательский толчок в спину. Толчок был основательный: я упал на качавшийся пол и понял одновременно две вещи: я оказался в поезде и меня втолкнул сюда манекен, втолкнул, равнодушно двигая челюстями и глядя именно сюда, в длинный качающийся коридор.
Первое, что я сделал — вскочил и попытался выбраться обратно, в такой привычный, такой волнующе переполненный торговый зал.
Я повернулся, но не увидел никакой двери. Все тот же вагон, в топке титана плясали огненные язычки и на окнах колыхались грязные занавески.
«Черт!» — подумал я и черт тотчас же появился из открывшейся двери купе проводников. Черт был невысоким, в синей форменной рубашке. Он открыл топку титана и начал подбрасывать в огонь уголь. Мне кажется, топлива было достаточно и он бросал уголь специально для меня, как бы намекая на что-то, чего я еще не понимал.
Прошло какое-то время, пока я пришел в себя, потрогал с недоверием стенку, потоптался и двинулся к проводнику. Я еще не успел открыть рта, как он, не оборачиваясь, сказал:
— Чаю нет. Кипяток.
«Ага! — помнится, с облегчением подумал я. — И тут нету чаю!
Значит, тут как у нас и, значит, еще не все потеряно».
— А станция скоро?
— Скоро-скоро, — буркнул проводник, помешивая совком в топке.
— А какая станция-то?
— Конечная, какая еще, — тут он повернулся ко мне и я увидел его улыбающееся лицо. Нет, это было не лицо. Это была натуральная харя. Даже хуже. Пожалуй, есть только одно слово, которое соответствовало бы облику проводника, правда, это слово находится за пределами нормативной лексики. Ну, так вот, я и говорю: это самое ело ухмыльнулось. Тут же ухмылка пропала, уступив место выражению ужаса. Я посмотрел назад, соображая, что же могло так испугать проводника в пустом коридоре, и ничего не увидел кроме прежних занавесок и цепочки огней, бежавшей за окнами.
Дверь в тамбур была открыта и та, что должна была вести в соседний вагон — тоже. Но никакого соседнего вагона не было. В проеме виднелась кирпичная стена, обыкновенная стена, исписанная привычными словами. Стена не качалась вместе с вагоном, мчавшимся сквозь ночь, и это-то поразило меня больше всего. Когда я повернулся, проводника уже не было, только гудело пламя в топке и столбик термометра титана прочно застыл на высшей отметке.
Я кинулся к двери проводника и стал рвать ее влево, но она не поддалась. Держась за поручни, я двинулся в противоположный конец вагона, дергая ручки других купе — с тем же успехом.
Я испугался. Кирпичная стена приближалась и надписи на ней стали видны лучше. Где-то я уже видел эту стену, в какой-то подворотне, в проходном дворе или еще где-то, где был совсем недавно.
Я уже был рядом с последним купе, из-за двери вдруг донеслись жалобные голоса. Кажется, там плакали дети. Я рванул дверь раз и другой, приложил ухо, еще раз дернул за ручку — дверь приоткрылась на пару сантиметров. В темном купе ничего нельзя было разобрать, вроде бы мелькнули чьи-то руки, и сейчас же дверь с треском закрылась. Щелкнул замок.
Я постоял, прислонившись к двери спиной и глядя в грязное, залитое чем-то бурым окно: там была мутная тьма, виднелись какие-то строения и, кажется, сеял мелкий дождь.
В следующее мгновение вагон дернулся и остановился. Вспыхнул свет и с обеих сторон в коридор вбежали люди — верзилы, как на подбор. Первый же из них, оказавшийся возле меня, сбил меня с ног. Потом я почувствовал, что меня тащат из вагона. Я увидел рельсы, огромное здание вокзала, семафоры и грязный, покрытый теми же бурыми пятнами перрон. Тут мне дали отдышаться и кто-то прорычал в самое ухо:
— Туфли!
С меня сняли туфли.
Где-то поблизости, за пеленой дождя, плакали дети, кричали охранники-елы, и где-то совсем далеко, по ту сторону вокзала, играл духовой оркестр.
Меня потащили к вокзалу. Там, среди раскуроченных автоматических камер хранения с меня сняли рубашку, сунули в руки какое-то тряпье.
— Одевайся!
Я натянул на себя вонючую грязную куртку.
Потом меня толкнули в спину и заставили идти к выходу, и, выйдя из здания на привокзальную площадь, я сделал еще одно неприятное открытие: вся площадь была запружена елами. Мужчины и женщины, молодые и старые, с перекошенными рожами и глазами, выражавшими звериный голод. Толпа бесновалась. Елы показывали на меня пальцами и возбужденно рычали.
Подкатил трамвай с разбитыми окнами, отрезав нас от толпы. В трамвае было несколько елов, вооруженных странными орудиями, напоминающими гигантские ножницы. Меня втолкнули в вагон, вместе с детьми — множеством детей, разного возраста, но одинаково испуганными и безропотными.
Вагоновожатый-ел прозвонил отходную и мы помчались по полутемным улицам смутно знакомого города. Кажется, я узнавал улицы и дома, но на всем городе лежала печать запустения и распада.
Трамвай несся как угорелый и на поворотах визжал, будто его резали по-живому. Мы проносились по мостам над чернильной водой — из воды торчали надстройки затонувших теплоходов; мчались мимо обветшавших домов, по аллее с засохшими деревьями, мимо разбитых статуй и колоннад.
Трамвай перепрыгнул через узкий канал, свернул и притормозил.
— Станция метро «Московская»! — издевательски прокричал вагоновожатый и несколько верзил с гоготом выскочили в открытые двери трамвая.
Тут мне пришла в голову интересная мысль. Я искоса, насколько позволял заплывший глаз, посмотрел на сидевших рядом. Елы равнодушно повесили головы, поставив свои чудовищные ножницы между колен, как карабины. Конечно, силы были неравны. Но попытаться стоило — еще неизвестно, что мне грозило в конце этой многообещающей поездки.
Трамвай снова завизжал резанной свиньей — мы выруливали на площадь, на которую в том, привычном мире, непременно водят экскурсантов полюбоваться на исторический паровоз. И когда трамвай занесло на повороте, я вскочил и выпрыгнул в дверной проем. Покатился по выщербленному асфальту, вскочил и нырнул в колючие кусты. Трамвай промчался мимо и загрохотал, невидимый, между домами.
Я огляделся. Улица была пуста и тишина звенела в ушах, как будто в этом огромном городе больше не осталось людей.
Тишину нарушило отдаленное дребезжание — трамвай возвращался, или, может быть, это был уже другой трамвай, увозивший очередную партию детей.
Я метнулся в узкий переулок, побежал мимо старых домов, свернул под арку двора, миновал один двор, и другой, и третий, и присел в груде мусора возле глухой кирпичной стены.
Отдышался. Прямо передо мной была железная полуподвальная дверь с вывеской «Прием стеклотары». Рядом с дверью находилась прикрытая фанеркой амбразура для приема этой самой стеклотары, которую, судя по всему, тысячу лет уже никто не принимал. Я отодрал фанерку и вполз было в амбразуру, но амбразура заканчивалась решеткой. Да, на выходы мне сегодня явно везло.
Я представил себе, что елы появились во дворе и заметили мои босые ноги, торчащие из амбразуры. Это заставило меня поторопиться. Ужом выскользнув наружу, я сорвал с себя куртку, сообразив, что елы могли обнаружить меня по запаху, свернул ее и сунул в разбитое подвальное окно. Прислушался. Пока было тихо, но я чувствовал их приближение. Меня выдавал запах. Мне нужна была обувь, чтобы сбить их со следа, но времени не было.
Я бросился к пожарной лестнице, подпрыгнул, ухватился за нижнюю перекладину, полез вверх. Лестница шаталась, но держалась. Когда до крыши оставалось совсем немного, внизу появились елы. Это были не те ротозеи, что сопровождали меня от вокзала, это были ищейки в мотоциклетных шлемах, с фонарями в руках, вооруженные ножницами, которые были чуть короче, с никелированными лезвиями.
Крыша была крыта жестью, с высоким гребнем, крайне неудобная для бегства. Я двинулся по ней, держась за невысокий чугунный парапет. Перебрался на крышу соседнего дома, откуда уже не был виден двор. Я знал, что делают елы: обнюхивают амбразуру, идут по следу к пожарной лестнице, и вот-вот обнаружат мои следы. И тогда, возможно, они оцепят весь квартал, слишком маленький для беглеца: одно здание, слепленное из причудливо расположенных разноэтажных секций.
Я приостановился, и в этот момент парапет дрогнул и обрушился вниз с невероятным грохотом. Я замер, ожидая выстрелов, криков, света прожекторов — но все было тихо. И тогда я понял: они уже здесь. Они не шумят потому, что не хотят выдавать свое присутствие.
В тусклом сиянии редких фонарей я посмотрел на свои окровавленные руки, вздохнул и понял: мне не уйти.
Я присел передохнуть. Хотелось курить, но сигареты остались в том, теперь уже далеком и недостижимом мире. У меня были спички, я достал их и чиркнул. Дунул ветерок — огонек погас.
Выхода не было.
Я поднялся и побрел дальше вдоль парапета — то над пустыми гулкими дворами, то над переулками, с крыши на крышу, с одного дома на другой. И вдруг обнаружил, что нахожусь уже совсем в другом квартале. Теперь внизу была довольно широкая улица, освещенная редкими фонарями. Тускло светила вода канала, а за каналом высился огромный квадрат торгового центра. У меня дрогнуло сердце: неужели это тот самый магазин, в котором возле колонны стоит «проводник» и жует свою бесконечную жвачку?..
Я перебежал на следующую крышу. Дома расступились. Теперь нужно спуститься вниз. Поиски пожарной лестницы ни к чему не привели, зато я нашел слуховое окно с разбитыми стеклами. Я влез в окно, прислушался. Зажег спичку и успел рассмотреть стропила, кирпичные дымоходы, паутину. Что-то скрипело в дальнем конце чердака. Зажигая спичку за спичкой, я нашел выход на лестницу. Окованная железом дверь была заперта, но она открывалась на лестницу, и я стал вышибать ее плечом.
Грохот разносился, наверное, по всему городу. Я торопился.
Наконец звякнула железяка, дверь распахнулась. Впереди была темная широкая лестница.
Из темных пустых квартир тянуло сыростью и гнилью, и я даже не приостанавливался возле открытых дверей, торопясь вниз.
Выглянул из парадного. Улица по-прежнему выглядела безжизненной. Перебежками, укрываясь в тени домов, через полчаса я добрался до канала. Огляделся и бегом кинулся по освещенному мосту. И сейчас же на мост вкатился трамвай. Он проскочил мимо, задребезжал и остановился. Я кинулся назад — следом затопали армейские ботинки. Я бежал по набережной, лихорадочно ища укрытия.
Единственное, что можно было сделать — это прыгнуть в маслянистую стоячую воду. И я сделал это. Клацанье огромных ножниц, топот и вопли все осталось на набережной. В несколько гребков я пересек канал, ухватился за старинное причальное кольцо, дотянулся до парапета. Еще мгновение — и темный проулок скрыл меня от преследователей.
Снова каменный пустой двор, забитый деревянными ящиками и картонными коробками, проржавевшими контейнерами, промасленной бумагой.
Отсюда — если только я правильно сориентировался — можно было напрямую выйти к торговому центру.
Я присел на корточки, дрожа от холода и напряжения. Я подумал, что совершенно напрасно стремлюсь к этому торговому центру: скорее всего он тоже находится в запустении, как и весь этот проклятый город. Вскоре придут елы и порубят меня своими ножницами на мелкие кусочки — вместе с мокрыми джинсами: рагу по-ельски.
Когда я поднял голову, в проулке появился ел. Этот явно не принадлежал к моим преследователям. У него был довольный и беззаботный вид, он урчал себе под нос и шлепал по мокрому асфальту, по отражениям пыльных лампочек, прерывистой цепочкой горевших над проулком.
Спрятавшись между ящиками, я затаил дыхание. Ел прошел мимо, а я выполз следом и двинулся за ним. Это был мой шанс.
Ел прошел мимо опрокинутого мусорного контейнера. В куче мусора блестела пустая бутылка из-под шампанского. Я поднял бутылку. Ел что-то почувствовал и стал медленно поворачиваться ко мне. Возможно, он даже успел увидеть меня. Но в этот момент тяжелая бутылка опустилась на его покатую стриженную голову.
Хрустнула височная кость. Он свалился, не издав ни звука.
Я оттащил его в тень, раздел, натянул его одежду на себя. Ел был крупноват для меня. Ладно. Буду небольшим елом. Не совсем елом. Недоелом. Елом, похудевшим от тоски. От тоски по нездешнему, другому миру.
Теперь я был обут и следы мои меня не выдавали. Теперь от меня пахло елом.
Я выбрался на улицу. Прямо передо мной светились огромные окна торгового центра.
Я зашагал к магазину походкой голодного ела, когда прямо на меня из полутьмы выкатился трамвай. Угрюмый вагоновожатый высунул рoжу из разбитого окошка и несколько секунд молча изучал меня. Я постоял, потом сделал ему ручкой и перешагнул через рельсы. Трамвай покатил дальше.
Я решил обойти здание. Огромные окна первого этажа были завешены изнутри плотными шторами.
Свернул за угол. Здание, примыкавшее к центру, стояло в лесах.
Этим лесам, однако, было столько же лет, сколько и бутылке из под шампанского — стояки проржавели, часть досок обрушилась. Я вскарабкался по металлической лесенке. Леса кряхтели подо мной, но держались. На уровне второго этажа я подобрался к светящемуся окну. На окне не было штор, и я увидел внутри огромный мясокомбинат: ряды мясных туш на металлических столах, рабочие-елы в фартуках. Над ними, на крюках транспортера, покачиваясь, медленно двигались освежеванные туши.
Елы-рабочие сновали между тушами, орудуя огромными ножницами.
Туман, висевший в помещении, мешал рассмотреть все как следует, но я увидел достаточно.
Остаток ночи я провел, пробираясь по проулкам и проходным дворам, пересекая огромные запущенные площади с потрескавшимся и провалившемся асфальтом, парки с почти непроходимыми аллеями, потом вышел на берег реки и долго шел вдоль кромки воды, пока не оказался на кладбище теплоходов и барж. Здесь я, наконец, нашел укромное местечко, лег на пыльные доски и забылся.
…Кто-то тряс меня за плечо. Я не хотел просыпаться, но тот, кто будил меня, был очень настойчив. Я увидел огромные окровавленные ножницы — они вот-вот должны были сомкнуться на моем горле, — застонал и проснулся.
Я лежал в трюме корабля. В щели пробивался свет, а надо мной стоял человек с длинной бородой, белой, как у Деда Мороза. Он приставил палец к губам: тише!
Передо мной, несомненно, был человек. Человек, а не ел. Я схватил его за руку, а он испуганно проговорил:
— Пожалуйста, тише! Мы сейчас в безопасности, но кто знает…
Одет он был в дорогое женское платье, порванное в подмышках, и к тому же с оторванным подолом. На плече у него была котомка.
Проследив за моим взглядом, он кивнул, вытащил из котомки сухарь и протянул его мне. И, пока я грыз сухарь, он говорил:
— Вы устали. Но теперь все позади. Теперь вы не один. Нас, правда, мало и нам приходится прятаться, да. Но зато мы вместе и у нас есть убежища. Там, в нижнем городе.
Потом мы вылезли наружу. Был солнечный день и теперь я мог разглядеть страшное запустение, царившее в этом гигантском городе. Из воды тут и там поднимались груды ржавого металла, торчали палубные надстройки и днища затонувших кораблей.
Справа тянулись кирпичные стены заводских цехов. На стене одного из них была громадная, полустертая временем надпись: «Завод имени Октябрьской Революции».
Мы вошли в широкий проход под этой надписью, прошли насквозь один корпус, другой, обогнули третий и оказались у полуразрушенной электроподстанции с проржавевшей дверью, на которой еще был виден череп с костями. Длиннобородый наклонился к лазу, заложенному кирпичами и сказал кому-то вниз:
— Мы здесь!
Кирпичи зашевелились, длиннобородый, помогая кому-то, стал вытаскивать их из прохода. Потом полез в лаз. Я двинулся следом. Кто-то снизу подхватил меня и я оказался в бункере среди людей — десятка людей. Свет проникал сверху и его было достаточно. Обросшие, исхудавшие, в самой невообразимой одежде (на одном был даже камзол времен Екатерины), они тесно обступили меня, трясли за руки, и улыбались, при этом никто из них не проронил ни слова. Странное молчание нарушил невысокий, лысый, в очках человек, выступивший вперед.
— Здравствуйте, — сказал он. — Я — Александр Александрович.
Вы, конечно, голодны? Знаю, знаю. Мы узнали о вас ночью, когда началась облава. Молодец! Ловко вы обманули вампиров!
Вампирами они называли елов. Стекло в его очках было треснуто и трещина неприятно сверкнула.
Мы прошли в глубину помещения, там был накрыт настоящий стол, правда, посуда тоже была самой разнообразной — от сервизных фарфоровых чашечек до армейских алюминиевых кружек. Вместо стульев стояли длинные скамьи.
Все расселись. Передо мной оказалась большая тарелка жареного мяса, от его запаха мгновенно засосало под ложечкой, и я съел все, кажется, мгновенно. И снова передо мной появилась полная тарелка.
— Кушайте, кушайте, — ласково приговаривал Александр Александрович. — У нас сегодня праздничный обед — в вашу честь. Мы всегда отмечаем прибытие новеньких. Вам ведь нравится мясо?
Он мигнул при этом. Я перехватил его взгляд, и вдруг почувствовал, как все присутствующие напряглись. Кусок застрял у меня в горле, но думать было некогда: хотелось есть.
— Очень, очень вкусно, — ворковал Александр Александрович. — Выпейте вот это.
Я выпил кисленькой водички.
Александр Александрович отрыгнул и отодвинулся от стола. И все тотчас же отодвинулись тоже.
— Ну, а теперь рассказывайте.
Я стал рассказывать, увлекся, и рассказал все, даже то, о чем хотелось бы пока умолчать. Впрочем, Александр Александрович дополнял мой рассказ, иногда делал пояснения, так что кое-что стало проясняться. Так, когда я рассказал о том, что видел в торговом центре, присутствующие заволновались и Александр Александрович сказал с жаром:
— Да-да, они пожирают детей! О, вы их еще не знаете!
При этом он облизнулся и очень странно посмотрел на меня.
— Вот куда пропадают наши дети, — добавил он. — Вы понимаете?
О, сколько людей пропадает из нашего мира — и почти все они оказываются жертвами этих ненасытных тварей.
Александр Александрович рассказал, что сам он попал сюда много лет назад. Ему удалось бежать от елов, потом он встретил Прежних — так он называл людей, ушедших под землю после прихода елов. Прежние научили его скрываться, добывать пропитание, выискивать и укрывать беглецов.
— Тех, прежних, уже не осталось: кто попал в лапы вампиров, кто погиб от наводнений, кто умер и своей смертью. Все, кого вы видите здесь бывшие жители нашего мира, попавшие сюда и сбежавшие от вампиров, говорил Александр Александрович.
Я спросил о виденном мною в торговом центре, и предводитель прежних подтвердил, что елы питаются теми, кого мы считаем без вести пропавшими. Видимо, пропадающих без вести достаточно для того, чтобы жуткая цивилизация елов могла существовать.
— Я даже не знаю, который сейчас год, — сообщил Александр Александрович. — Здесь нет смены времен года, и мы ведем счет не годам, а потерям.
Длиннобородый, сидевший рядом с нами, схватился за голову и застонал.
— Он самый старый из нас, — пояснил Александр Александрович. — Он помнит многих из прежних, поскольку попал сюда раньше меня.
Почти год он прожил среди вампиров. У него, видите ли, редкая специальность, и вампиры оставили его в живых.
— А какая у него специальность? — спросил я.
Мне никто не ответил. Длиннобородый глухо выговорил:
— Я попал сюда сорок лет назад. Я все забыл. Вампы многих изрубили на моих глазах.
Помолчали.
— Нас не так уж мало, — снова заговорил А. А. — Конспирация.
Мы никогда не собираемся числом больше десяти. Кстати, сейчас вы одиннадцатый.
Длиннобородый поднял голову:
— Время одиннадцатого.
— Что?
— Время одиннадцатого человека.
Мне очень не понравились его слова. Но вмешался А. А.:
— У нас есть подземные убежища и переходы; весь метрополитен, за исключением нескольких центральных станций — наш. А кроме того — подвалы, старые кладбища, канализация… Вампы панически боятся всего, что находится ниже уровня земли. И нас они, кстати, называют Нижними.
— А вампы — верхние? — спросил я, уже не надеясь получить ответ: кажется, никто здесь не отвечал на вопросы.
— Вампы — не люди! — закричал А. А. Трещина в очках сверкнула, словно ударила молния.
Я неожиданно для себя вскочил на ноги. Они тоже вскочили, их тени отделились от стен и придвинулись ко мне.
— Мы ведь вам объяснили, — вкрадчиво проговорил А. А. — Вы — среди друзей. Почему вы нам не доверяете? Я откровенно говорю с вами, ничего не утаиваю… Информацию надо усваивать постепенно. Десять человек предельная норма. Одиннадцатого быть не должно. Но больно вам не будет.
Голова у меня пошла кругом, я подумал, что верхним есть чего опасаться здесь, внизу.
— Чье мясо мы сейчас ели? — задыхаясь, спросил я.
— Мясо?.. — переспросил Александр Александрович. — А действительно, чье?
Он снял очки, покрутил ими в воздухе так, что молнии засверкали, сливаясь в ослепительный круг.
Я молчал. Мне уже ничего не хотелось — не хотелось даже вырваться из этого круговорота кошмаров.
— Вы действительно хотите это знать? — с нажимом спросил А. А.
— Ну, так хотите или нет?
Он сделал шаг ко мне. Над его лысиной столбом стояла золотая пыль.
— Хочу!
— Хорошо. Слышали? — А. А. повернулся к остальным.
Длиннобородый вдруг зарыдал, протягивая ко мне руки:
— Одиннадцатый! Как жалко!..
И тут же Александр Александрович схватил мою руку и впился в нее зубами. Я ударил его кулаком в очки. Хрустнула дужка, посыпались осколки. Александр Александрович выпустил руку, я отскочил к стене и схватил скамейку. Из прокушенной руки текла кровь.
С дикими воплями они скопом кинулись на меня. Я отбился скамейкой, прыгнул на стол. А. А. погрозил мне длинным пальцем. Длиннобородый оказался в опасной близости от меня и скамейка опустилась ему на голову. Что-то хрустнуло у него в шее, голова неестественно склонилась набок и длиннобородый упал. Скамейка выпала у меня из рук, а нижние, вопя и толкаясь, бросились на длиннобородого, запуская пальцы ему в уши, ноздри, глазницы. Брызнула кровь.
Я подпрыгнул, зацепился за край лаза, подтянулся. Кто-то из нижних попытался схватить меня за ноги, но я отбился и через секунду уже был снаружи. Побежал к заводскому корпусу, потом долго брел вдоль ржавых выгнутых рельсов, а потом, наконец, на меня дохнула свежесть большой реки.
Долго-долго шел я вдоль берега к западу, к центру этого огромного города. Перебирался через завалы кирпичей, обходил выброшенные на берег речные теплоходики, полузатонувшие плавучие пристани. Присаживался отдохнуть, пытался перебинтовать израненные ноги и снова плелся на запад под мерный плеск мертвых волн.
До сумерек я просидел среди старых кораблей, все время боясь нападения елов или нижних людей. В сумерках я начал строить плот. Чайки кричали надо мной в меркнущем небе, и казалось, что чайки тоже жаждут моей крови.
К ночи плот — сооружение из досок и спасательных кругов, снятых с баржи — был готов. Помогая себе багром, я столкнул плот в воду, вскочил на него и отчалил. Река медленно подхватила меня и понесла на запад.
Я лег и долго смотрел на проплывающие мимо руины великолепных дворцов и соборов, и уснул под мирный плеск волн.
Я проснулся от чувства тревоги. Уже светало, кричали чайки, пахло рыбой и водорослями. Река вынесла меня в море.
Далеко-далеко на востоке торчали в сиреневое небо скелеты высотных ярусных домов.
Я покинул обреченный город. Но не знал, радоваться мне или грустить.
Взошло солнце и море стало синим и прозрачным, как акварельная краска. Легкий ветерок сносил меня все дальше в море и берег вскоре скрылся из глаз.
Потом стало жарко. Я лежал на спине, наполовину в воде, закрыв руками лицо. Голова кружилась, мучила жажда. В такт волнам перед глазами вспыхивали разноцветные шары.
Я пытался поймать рыбу и пил морскую воду. Воду, разбавленную рекой.
Я очнулся на закате. Плот приближался к острову со стороны дамбы. Потом, размокший и разваливающийся на части, плот застыл на гниющем мелководье. Я сполз с него и побрел к берегу, едва перебирая ногами в слое загустевшего ила. На берегу чернели коробки домов, а над ними пламенел в последних лучах солнца наполовину облупленный, когда-то белоснежный купол огромного собора.
Добравшись, наконец, до берега, я упал в траву. В глазах рябило от бесконечного мельтешения солнечных бликов, и меня качало, качало, качало. Не знаю, сколько времени прошло, пока я увидел людей, идущих по воде. В полной тишине, с длинными палками в руках, они рядами двигались по мелководью и отражения в воде удлиняли их фигуры, делая их похожими на призраков с рисунков Ярослава Панушки. Я думал, что они мне снятся, и даже не пытался их позвать. Потом они приблизились, я услышал плеск воды и негромкий разговор. Они выходили на берег, а им навстречу из-за заборов и гаражей шли женщины и дети.
— Эй… сюда… я здесь… — прошептал я. Они не слышали.
Я приподнялся и пополз к ним, слизывая кровь, сочившуюся из треснувших губ.
Они заметили меня.
Подхватили, перевели через зловонную, залитую водой низину и подвели к костру. Здесь сидели люди в старых матросских бушлатах. Мне дали воды и позволили отдохнуть. И мы снова пошли вперед, мимо полуразрушенных девятиэтажек, вошли в город, потом под арку в кирпичной стене и по лестнице спустились вниз. Здесь мне дали еды и бутылку с водой. Я поел и улегся на казенный матрац.
Меня разбудили двое в бушлатах и велели идти за ними.
Мы поднялись по лестнице, вошли в мрачную длинную комнату, где за столом сидели несколько человек. Один из них был в форме морского офицера.
— Ты приплыл из Города? — спросил он.
— Да.
— Зачем?
— Спасался от вампиров.
— В Городе давно уже нет людей. Откуда ты?
— Я из другого мира.
Они переглянулись и один из них сказал:
— Он врет. Это лазутчик. Его подослали.
— Нет, я не лазутчик! Я сделал плот, чтобы не попасть в лапы вампиров и тех, нижних людей. На плоту я уснул и река вынесла меня в море.
— Это правда, плот нашли, — произнес кто-то за моей спиной.
— Мы не можем верить тому, кто приплыл оттуда, — покачал головой офицер. — Эта болезнь заразна и неизлечима. Он может заразить всех нас. Остров погибнет.
— Но ведь есть еще… — произнес тот же голос.
— Замолчи! Никто ничего не знает.
Они зашумели все разом, а меня повели назад. Снова была камера с окном под потолком — быть может, это была бывшая комендатура, — мне дали поесть и ничего не объяснили.
Так прошло несколько дней. Меня выводили во двор. Там, среди штабелей проржавевших торпедных корпусов я прогуливался под надзором матроса. Из обрывков разговоров я понял, что здесь укрылись те, которые называли себя Последними.
Прошло еще несколько дней и меня, наконец, перестали стеречь.
Я мог свободно выходить в город, гулять сколько влезет. На ночь я возвращался в комендатуру. Я обошел весь остров. Я видел обычную жизнь обычного провинциального городка — правда, городка, находящегося в осадном положении. На улицах было малолюдно, свободные клочки земли были засажены картошкой. В обветшавших зданиях в центре завывал ветер, знаменитая чугунная мостовая заросла травой. И маленькая пушка больше не стреляла в полдень, и мертвые корабли ржавели в сухих доках.
Остров был по-прежнему красив, как когда-то. И памятник погибшему адмиралу стоял на прежнем месте, хотя буйно разросшиеся кусты забили постамент. В доках цвела зеленая вода.
Последние занимались своими делами — ловили рыбу, копали картошку. На берегу стояли отряды вооруженной стражи. А над фортами по ночам взвивалось пламя костров, передававших сигналы: все в порядке, опасности нет. Но однажды ночью меня разбудили раскаты. Спросонья их можно было принять за неистовые удары грома, но в промежутках между раскатами слышался характерный треск. И я понял: стреляли пушки, еще, видимо, сохраняемые Последними, и еще — трещали автоматы. Вопли и шум доносились с восточной оконечности острова — как раз оттуда, где стража была особенно бдительна.
Охранник вбежал в мою камеру и молча протянул диковатое оружие — что-то вроде копья с невозвратным наконечником.
— Что там такое? — спросил я.
— Они плывут! — кратко ответил охранник и выбежал из камеры.
Я поспешил следом. При свете факелов по улицам бегали люди.
Плакали дети, кричали женщины. Пушка палила с короткими перерывами и ее раскаты гулко и жутко отдавались от стен.
Мужчины спешили в сторону бывшего военного порта и я побежал вместе с ними.
Во тьме, разрываемой выстрелами берегового орудия, кипела ожесточенная схватка. Закованные в железо вампы с ножницами наперевес высаживались с катеров, лодок, пассажирских теплоходиков и бросались в бой. Наверху, у бетонных парапетов их встречали копья островитян. Пушка, послав во тьму последний снаряд, умолкла. Вампы огласили остров радостными воплями. Кое — где им уже удалось прорваться на берег и бой кипел в приморском парке, возле памятника Петру. Хищно щелкали ножницы, скрежетали наконечники копий о металлические нагрудники вампов. Где-то включили сирену и ее раскатистый плачущий крик заглушил шум битвы. Горстку островитян, защищавших парк, окружили вампы. В свете факелов я хорошо видел, как падали защитники острова, сраженные маленькими ножницами, которые вампы метали с большой ловкостью.
Одни из этих ножниц полетели в меня, и я едва успел подставить копье. Ножницы раскрылись, завертелись и улетели вбок. И тут факела почему-то погасли. Во тьме люди слипались в темные клубки, распадались, бежали куда-то, падали, и казалось, в темноте происходит какая-то жутковатая, непонятная игра.
Кто-то дернул меня за ноги, я упал, ударившись головой о ржавый металлический бордюр. Я лежал и думал лишь об одном — чтобы кто-нибудь наконец выключил эту проклятую, рвавшую душу сирену.
Я не знаю, когда прекратился вой. Подняв голову, я увидел, что уже брезжит рассвет и легкий туман клубится над травой и над телами Последних, раскиданных по кровавой траве.
Я привстал и на четвереньках пополз к берегу. Вокруг стояла глубокая тишина, в пелене тумана высились стройные стволы деревьев, которые можно было принять за замершие фигуры людей.
Потом выплыл и исчез Петр, а впереди показался пирс и корабли, приплывшие из города.
Я подумал, что, может быть, стоит попытаться угнать один из кораблей. Куда? Не знаю, но море бесконечно, не у финнов, так у шведов, не у них, так у немцев, может быть, можно будет найти приют. А нет — так плыви себе дальше, по воле ветра и волн.
Я поднялся на ноги и пошел к пирсу. Ветер быстро разгонял туман. Я перешагивал через трупы, пронзенные вертикально торчавшими копьями, порубленными ножницами, но чем дальше, тем больше вокруг становилось трупов. В конце концов я остановился, не решаясь пойти прямо по телам.
На дальнем конце пирса раздались гвалт и клекот: чайки распробовали человечину и слетелись отовсюду, образовав настоящую птичью кучу-малу.
Я повернулся и побежал прочь. Мне больше не хотелось ни бежать, ни видеть, ни слышать. Человек — скотина, и скотина довольно выносливая и неприхотливая. Можно привыкнуть и к человечине. Но я не хотел быть скотиной.
Мне стало холодно, очень холодно. В ближайшей подворотне я остановился, пересек двор и вошел в двустворчатую дверь.
Широкая лестница вела в небольшой вестибюль. Окна были забраны решетками, и я не сразу освоился в полутьме. Сначала я их услышал, и только потом увидел: нескольких детей, одетых кое-как, большей частью во взрослые обноски. Они сбились в кучку в дальнем углу вестибюля и глядели на меня, как голодные птенцы. Рядом с ними — я не сразу разглядел — была женщина.
Она поднялась с пола, сделала шаг мне навстречу. Она была в старой телогрейке, с платочком на голове, и в армейских сапогах. В руке она держала что-то, что показалось мне и знакомым, и незнакомым одновременно. Это был электрошокер, но я не сразу разглядел это, и даже инстинктивно выставил вперед свое копье с обломанным древком. Какое-то время мы глядели друг на друга, потом она сказала:
— Ты — тот, кто привел их сюда? — она кивнула за окно, и я понял, что она говорит о вампах.
— Нет, я не приводил. Я только убегал от них…
— Они следили за тобой, — сказала женщина. — Они видели твой плот и чувствовали твой запах… Впрочем, рано или поздно, но они добрались бы до острова…
— Все погибли? — спросил я.
— Нет. Кажется, на этот раз островитяне отбились. Просто кончились снаряды и патроны, поэтому так тихо. Бой шел там, у штаба, — она махнула рукой.
Потом обернулась к детям, покосившись на меня, спрятала шокер под телогрейкой и сказала голосом строгой воспитательницы в детском саду:
— Идемте, дети.
Дети поднялись и послушно двинулись к дверям. Она шла следом и замедлила шаг возле меня:
— И ты тоже.
— Куда? — спросил я.
— Ты же знаешь, куда, — ответила она.
Я не знал, но двинулся за ней.
Мы вышли во двор, потом — на улицу. Туман снова сгустился, передо мной маячил силуэт женщины в нелепой телогрейке с закатанными рукавами. Дети шли рядом с ней, сбившись в стайку.
И эта картина почему-то показалась мне страшно знакомой.
Мы шли недолго, и туман становился все плотнее, так, что я уже не видел ничего, кроме силуэта, маячившего впереди.
Потом она полуобернулась и сказала:
— Прощай. И не возвращайся…
В следующий миг я полетел в бездну, перебирая ногами в тщетной надежде ощутить утерянную опору. Я летел, а мне казалось — висел в плотном тягучем тумане, и прижимал к себе копье, ожидая, что из тумана выбегут вампы с ножницами наперевес…И я действительно не летел. Я стоял. А вокруг шумел переполненный торговый зал, я разглядел это не сразу, оглушенный шумом. Я держал в руке копье, а вокруг сновали люди, и копье рассекало толпу, как бушприт.
Кто-то тронул меня за плечо. Я повернулся. Глаза были те же, и только благодаря им я понял, что передо мной — та самая женщина. Только одета она была совсем иначе, а рядом с ней жались друг к дружке несколько детей, и смотрели на нас огромными испуганными глазами.
— Прощай, — снова сказала она.
— Нет, — ответил я, и, боясь, что она уйдет, схватил ее за руку. Объясни…
— Некогда, — тускло сказала она. — Надо отвести детей. У кого-то из них есть дом, у кого-то — нет. Их нужно пристроить.
И тут передо мной забрезжил свет. — В детдом?
— И в детдом, — кивнула она рассеянно. — Волокита… Но все же лучше здесь, чем ТАМ…
— Ты выводишь детей? — спросил я, затаив дыхание.
Она промолчала.
— Из того безумного города?
— Из одного — в другой. Да. И не только детей.
Она повернулась и пошла, дети послушно заторопились за ней.
— Подожди! — я отшвырнул ставшее вдруг ненавистным копье. Оно со звоном покатилось под ноги толпы, кто-то отпрянул, кто-то даже не обернулся. Подожди. Я ведь тоже могу…
— Может быть, — серьезно кивнула она.
Я шел за ней, но все еще не чувствовал, что окончательно вернулся. Мир вокруг был тем же — и уже не тем. Мне показалось, что к виду копья, валяющегося под ногами, здесь давно привыкли.
Над прилавком, забитом тканями, хищно защелкали ножницы в руках молодой продавщицы. Я вздрогнул и снова схватил за руку свою провожатую.
Она остановилась. И вдруг сказала:
— Возвращать заблудившихся и заблудших, находить потерянных, спасать детей от кошмаров… Если ты сможешь… Что ж, тогда ты тоже будешь проводником. Посмотри — видишь, вон там, на ступеньке, плачет ребенок? Подойди к нему. Узнай, из какого он мира, и отведи его туда. Ты сможешь?
Я хотел сказать, что не знаю, но не сказал, только смотрел ей в глаза.
— Иногда это так же трудно, как воскрешать мертвых, — она вздохнула. Ну, некогда мне…
И ушла. Мгновенно растворилась в толпе, как будто ее и не было, и дети, которых она вела, тоже исчезли.
Кажется, я попал куда-то не туда. Может быть, это мир еще страшнее, чем тот, в котором я только что побывал… Но кто-то же должен связывать эти миры, эту бесконечную цепь, иначе она прервется, и тогда… Малыш держался за поручень неподалеку от эскалатора, смотрел прямо перед собой; он не звал на помощь, лишь слезы — крупные и до странности круглые, как горошины — скатывались по щекам. Я присел и сказал:
— Ну, здравствуй. Он перестал плакать и взглянул со страхом — наверное, принял меня за вампа, или за одного из Нижних, а может быть, из Последних. Но слезы сразу же высохли, и я почувствовал огромное облегчение.
И я стал проводником.
Время от времени мы встречаемся у колонн в торговых залах, или на улицах, или даже у карусели в Приморском парке. Мы стараемся не замечать друг друга. Но если я вижу, как кто-то из них берет за руку незнакомого плачущего ребенка, я знаю: мы все еще здесь, и все еще занимаемся своим делом, и, значит, есть надежда, что эти времена — не самые худшие из громадного множества времен.
Никто не сможет помешать нам, никто не отнимет у нас наших детей. Мы возвращаем детям их собственный мир.
Уж я-то знаю, как все это страшно. В конце концов, я сам был когда-то мальчиком, которого однажды взяли за руку и увели в другие — плохие времена. И к этим новым, чужим временам я до сих пор не могу привыкнуть.
Но те, что приходят ОТТУДА…
Колыбель мертвецов
Сон второй
В тесном, переполненном городе, где улицы похожи на пещеры даже днем, забываешь, что где-то есть солнце и море.
Этот сон сначала казался просто ностальгией по солнцу и морю.
Потому, что я лежал на песке, закрыв глаза. Сквозь веки чувствовал горячее солнце и легкий щекочущий ветерок, и кроме того, слышал крики чаек и плеск волн. Даже голос с причала казался сонным, странным, нереальным: «Начинается посадка на теплоход, следующий до пристани „Эрмитаж“»…
Можно было лежать так долго-долго, грезя о спокойной жизни в хижине у моря, на пустом берегу, бесконечно далеко от наркоманов в грязном подъезде, неистребимого запаха мочи в утреннем автобусе и тягостного ощущения, что все хорошее уже позади. И еще — что живешь не среди людей, а все в том же загаженном скотном дворе, и ходишь по колено в свином дерьме, ожидая забоя как праздника.
Можно было лежать… но праздники слишком быстро кончаются. Что-то заслонило солнце. Я открыл глаза.
Вместо ослепительного неба — серая пелена. Из нее валит снег крупными мягкими комьями. Море кажется черным, а берег — ослепительно белым.
Так началось мое второе путешествие в Ночной мир.
* * *
Это был, наверное, самый страшный кошмар из тех, в которых мне пришлось побывать. Хотя начиналось-то все довольно мирно. И город, и люди — ничто не вызывало беспокойства.
Квартира неподалеку от Фонтанки была совершенно прежней. И вид из окна — на ржавые крыши и узкую щель переулка. И расшатанный лифт, встроенный в этот древний дом. И даже захламленный двор.
Сосед, из крутых, был тот же. Мы не здоровались при встречах, только косились друг на друга. Он тут был новичком — в большинстве квартир этого дома еще жили блокадницы, державшиеся за свои комнатки как за последнее в этой жизни.
Оно и было последним. И одна за другой блокадницы исчезали. Их место занимали молодые, и не понять было — то ли родня, то ли убийцы.
* * *
Я ехал в автобусе. Нас было человек десять, и сидели мы спинами к окнам, а у наших ног лежал фиолетовый гроб.
За окнами плыл сумеречный город, из-за вечерних пробок казавшийся бесконечным. Можно было даже подумать, что наш автобус попал в искривленное пространство, вроде ленты Мебиуса, и все время кружит по одним и тем же улицам.
Все мы устали, замерзли, окоченели — почти как тот, что лежал сейчас за тонкой дощатой перегородкой, обитой фиолетовой тканью с оборками.
Наконец город постепенно сошел на нет. Здесь, на черной дороге, стало немного светлей. Белые поля еще хранили свет погасшего солнца, и шофер гнал чуть не под сто, словно мы не на похороны торопились, а на пожар. Понятно, что мы опаздывали — кому же охота рулить по кладбищу в темноте, и может быть, нас там уже и не ждали. Впрочем, как раз этого-то и не могло быть. Автобус был всего один — так мало людей провожали покойника в его последний путь. Я почему-то не знал, кто он. Вернее, знал очень мало. Ветеран войны, старичок, тихо скончавшийся у себя дома — в алькове каморки на шестом этаже в древнем доме на Садовой.
Провожали тоже ветераны. Все ветхие, износившиеся, — да еще вдова со сморщенным личиком, белым, как снег. Был только один человек среднего возраста — я.
На повороте промелькнул указатель: «До кладбища 11 км». «11» было зачеркнуто пожарной краской и рядом стояло: «7». Но и семерка тоже была замазана.
На кладбище нас все же ждали. У белокаменной роскошной конторы в автобус подсел местный чиновник, — при белой рубашке и галстуке, картинно выставленных из-за ворота темной драповой куртки, — стал показывать водителю путь. Чиновник был все же странным. Впрочем, осознал я это уже гораздо позднее. Кладбище было старым, огромным, многокилометровым. Следуя указаниям человечка, автобус несколько раз сворачивал, пока не уперся в столбик с табличкой: «212-й квартал».
Автобус замер среди черных худосочных болотных сосен.
— Квартал, конечно, далековато от входа, — вполголоса сказал чиновник вдове, когда она с трудом выбралась из автобуса, — но внутри квартала место самое почетное. Там вот — Герой Союза, а здесь — два Героя России. А вон там — тоже орденоносцы…
Вдова выслушала молча, строго. Открылась задняя дверь. Я хотел подхватить гроб, но меня оттолкнул старичок, благожелательно, но безапелляционно проскрипев:
— Сыновьям не положено…
Тут только я понял, чью роль исполнял. В таком случае следовало бы поддерживать вдову — она же мне мать, — но это краткое заблуждение было тут же рассеяно ею самой:
— Вы давно приехали в Питер? — спросила она.
Видимо, там, при прощании в морге, мы впервые увиделись. Может быть, кивнули друг другу, но спрашивать о приезде было и некогда, и не к месту.
— Утром, — соврал я. Потому, что не знал.
— А где остановились?
— У знакомых… Там, на Охте.
Она кивнула, и больше мы не говорили. Несколько старичков, кряхтя, вытянули гроб из допотопного «пазика» — грязно-желтого, с черной полосой посередине, — с трудом двинулись к свежей могиле — двое землекопов по команде чиновника бросились на помощь. Как-то странно из сумерек, медленно, но неотвратимо заливавших кладбище, вынырнул темный «мерседес». Бесшумно остановился на дорожке, из машины вышел священник — молодой, бородатый, в очочках. Надел на голову круглую шапочку. В руках у него было кадило, он озабоченно глянул на него, помахал. Потом — искоса — на меня:
— Вот незадача — погасло.
Отломил от деревца над соседней могилой веточку, смял ее, сунул в кадило, стал разжигать спичками. Пояснил:
— Я сегодня один, помощник загрипповал. Который раз гаснет…
Остальные молча ждали, стоя над гробом. Крышку сняли. Я подошел, чтобы взглянуть на того, кто здесь и сейчас считался моим отцом.
Священник буквально выстроил нас вокруг гроба, стал кадить, нараспев читая молитву. Потом объяснил скороговоркой:
— Сейчас пропою отходную, и можно прощаться. Проходите вот так вокруг гроба, против часовой стрелки, у изголовья останавливайтесь. При этом по обычаю надо сказать: «Прости нас, раб Божий Имярек, а я тебе уже все простил». Кто желает, может поцеловать покойного в лоб…
Он снова запел. Над нами пронеслась какая-то большая птица. Я глянул кажется, чайка. Села на каменный крест, хрипло каркнула почти по-вороньи.
— Со святыми упокой!.. — пропел священник.
И я пошел прощаться.
Потом, пока рабочие опускали гроб в жижу — болотистая земля не промерзла, — и забрасывали могилу землей, я огляделся. Мне хотелось запомнить это место, чтобы прийти еще раз, и не заблудиться. Но соседние памятники уже тонули во мраке, чахлая цепочка сосен тянулась вправо и влево, и сквозь черные стволы вдруг на мгновение прорвался солнечный луч.
Словно кровью окатило снег.
Я надел шапку. Мне было холодно, тоскливо… Хотелось проснуться.
* * *
Автобус внезапно остановился. Шофер переговорил с кем-то, кто стоял на дороге, потом обернулся к нам:
— Проверка…
Дверь открылась со скрежетом. В автобусе появились двое-трое омоновцев с мини-автоматами, один сказал:
— У которых нет документов — на выход по одному. Остальным сидеть.
— Что вы такое говорите? — сказал старичок. — Я инвалид войны!..
— Значит, сидите, — тут же отозвался старший, хмыкнул, оглядел всех. Пенсионные книжки сойдут, удостоверения блокадников и прочих участников тоже…
Посмотрел на меня, кивнул. Я пошел следом за ним.
— Что случилось-то? — вдогонку спросила вдова.
— Карантин, — как-то странно буркнул старший.
На дороге стоял бронетранспортер, на обочине — бело-синий «гибэдэдэшник». Несколько вооруженных людей, некоторые в касках и бронежилетах, маячили между ними. Чуть дальше виднелся шлагбаум, за которым дорога тоже была перегорожена; там стояли машины, слышались голоса и двигались люди. А еще дальше, за реденькой цепью сосен желтым светом полыхала железнодорожная платформа. На платформе толпилось множество людей, и явственно раздавался лай овчарок.
— Паспорт, военный билет? — спросил лейтенант в камуфляже, освещенный прожектором БТР-а.
Паспорт у меня был с собой: по идее, в этом и не было ничего удивительного, учитывая, что еще утром я был в самолете, перелетевшим чуть ли не пол-России.
— Старенький паспорт-то, советский, — сказал лейтенант, разглядывая паспорт. — Что, гость Питера?
— На похороны прилетел, — сказал я. — Вы же видите…
— Ну-ну, — миролюбиво отозвался он. — Ладно. Паспорт я пока оставлю у себя. А вы пройдите в автобус.
— Как же я без паспорта? Меня и в гостиницу не возьмут.
— А я и не сказал, что вы без паспорта уедете…
Лейтенант кивнул омоновцу, тот легонько подтолкнул меня к автобусу.
Потом по команде омоновца автобус подал назад, освобождая место следующим автомобилям, свернул влево и въехал на пятачок возле заправки. Пятачок уже был забит до отказа, а по периметру стояли вооруженные люди в камуфляже.
Хотелось курить. Я попросил шофера открыть двери, чтобы покурить на воздухе, но не успел выйти, как где-то за машинами рявкнул мегафон:
— Водитель ПАЗа, закройте двери! Никому не выходить! После предупреждения открываем огонь на поражение!
Пришлось курить в автобусе, пуская дым в дверную щель. Шофер, сидевший за моей спиной, положил руки на руль и сдавленно матерился, глядя прямо перед собой.
* * *
В общем-то, жить было можно. Вдова пошепталась со своими старичками — и неожиданно появилась бутылка водки. Нашлись и пластиковые стаканы, а шофер, внезапно подобрев, достал пакет с двумя мятыми хотдогами.
— Берегла водку, чтобы с землекопами рассчитаться, — сказала старушка. — А там сейчас порядки другие. Водку не берут.
— За Европой тянутся, — сказал крепкий на вид старик. — А какая тут Европа? — Он кивнул за окно и плюнул. — Ну, помянем…
Помянули.
— Я от совета ветеранов районного, — сказал он, выпив и лихо крякнув. Вообще-то я плохо знал покойного, но меня попросили… Мало нас-то осталось…
Выпили еще. Появилась вторая бутылка. Когда и она подходила к концу, а деды отогрелись и повеселели, снаружи стукнули. Шофер открыл двери, в проем всунулась веснушчатая веселая рожа в шапке с кокардой.
— Распиваете? — весело осведомилась она.
— Влезай, присоединяйся! — крикнули ему.
— Влезаю! — ухмыльнулся он.
Сержант оказался веселый. И компанию так поддержал, что третья бутылка кончилась почти мгновенно. Он мигнул одному деду, другому, шепнул что-то вдове, на белом лице которой появился слабый румянец, — и высунулся в окно:
— Эй, Саньк! Тут деды с кладбища едут. Полдня мерзли… На вот тебе деньги, сбегай за фуфырем… Слышь? Закуски возьми!
Однако веселость — веселостью, но секретов он не выдавал. На мои вопросы о карантине отвечал так:
— А мне не докладывают! Я срочник — поднимут ночью и поведут на амбразуры, и как звать, не спросят, так и останусь неизвестным героем…
* * *
Потом Леха — сержанта звали Лехой — исчез. Час-полтора его не было. Старички дремали, но в автобусе становилось зябко. Шофер время от времени включал подогрев.
Снова стукнули — за окном во тьме маячило веснушчатое лицо, рот до ушей:
— Короче, старичье, вас обратно заворачивают. В город никого не велено пускать.
— Куда обратно-то? — утомленно рявкнул шофер. — На кладбище?
Леха хохотнул и исчез.
— Меня дома же ждут, — сказал шофер. — Мать их так… Карантин выдумали. Хоть бы позвонить, сволочи, дали…
Вверху застрекотало. Низко-низко над нами проплыл вертолет.
Потом еще один. Повисел над шоссе, разбрасывая пятна света, взмыл выше и исчез.
Шофер только присвистнул.
— В одна тысяча девятьсот сорок втором… — проскрипел районный совет ветеранов, — на Западной Лице…
— На чем? — спросил шофер.
— Речка такая… Так вот, мы голыми руками, считай, окопались, и так, что генерал горных стрелков Дитль больше за всю войну шага к Мурманску не сделал…
Старик, проявив неожиданную прыть, внезапно оказался у дверей:
— Открой-ка, паренек… Я вас научу в разведку ходить…
Шофер открыл было рот, покачал головой.
— Открой, я сказал!
В руке у него оказалась монтировка, вынутая, видно, из-под сиденья. Он сунул ее в щель и стал выворачивать двери.
Шофер матюгнулся, плюнул:
— Да и хрен с тобой!..
Дед вывалился наружу. Некоторое время было тихо, потом раздался звонкий лёхин голос:
— Дедусь, ты куда? Стоять!..
— А что мне, в кальсоны срать?? — рявкнул в ответ райсовет.
Потом послышался шум.
Шофер покачал головой.
— Хлопнут этого Дитля. Мы ж не в Ольстере — пули у них не резиновые.
Но было тихо.
А потом вдруг что-то большое и темное показалось в дверях. Мы глянули и ахнули: разведчик пер на себе оглушенного Леху!
* * *
Леху разложили на полу, привязав его собственным ремнем к ноге сиденья. В свете единственной лампы, горевшей над передней дверью, мы склонились над «языком». Оживившиеся деды отыскали остаток водки, брызнули Лехе в лицо, потерли виски. Леха открыл заячьи глаза, опушенные белесыми ресницами.
— Вы чо?.. — сдавленно спросил он. С лица его сошла улыбка, и оно может быть, впервые в жизни — приняло осмысленное выражение.
— Не шуми, — строго сказал разведчик и приставил к лёхиному носу раструб автомата. — Шутить я не буду… Прогрей-ка двигатель! — велел он шоферу. И снова наклонился к Лехе:
— Стрельну — никто и не поймет, где это хлопнуло, понял?
— Понял, — безропотно сказал Леха.
— А теперь отвечай на вопросы. Это что — военный переворот?
Леха вытаращил глаза.
— Кто город захватил, сволочь? — дед ткнул Леху стволом в висок.
— Никто не захватывал. Вы чо, сдурели?..
— А почему дорога перекрыта?
— Сказали: карантин. Вроде, в виду эпидемии гриппа…
Он получил увесистый тычок в висок — даже кровь потекла — и замолк.
— Я вот те покажу эпидемию! Отвечай по-хорошему!
— Ну… Для недопущения слухов… И паники… Велено город закрыть. Военный комендант Захаров. Приказ утром зачитали… В обед нас вывели из казармы, бросили сюда. Подогнали технику, блокировали дороги…
Он замолчал, переводя глаза с одного на другого. Деды держали его за ноги и за руки, хотя руки были перехвачены ремнем.
— Какие слухи? Какая паника? — спросил я.
Разведчик отмахнулся:
— Да откуда я знаю!
— Еще ты сказал, что нас обратно повернут…
— Это правда. Я слышал, замком роты сказал: всех отправлять обратно. Тех, кто проверку прошел…
— А мы?
— А вы не прошли. Тут у вас подозрительный есть…
Он мельком взглянул на меня.
Дед поднял голову, тоже поглядел на меня. Взгляд его показался мне нехорошим. Но он сказал:
— Ну что, ребята — будем назад прорываться? Может, в Парголове что знают? Там и переночевать можно. А то с этих, военных, толку мало — ни хрена не знают.
Никто не возразил.
— А ты, — он повернулся к Лехе, — поедешь с нами. Как трофей.
Леха взвыл, подергался, и затих.
* * *
Медленно-медленно мы выбирались к дороге. Леха стоял рядом с шофером и глупо ухмылялся, глядя вперед: в спину ему упирался ствол.
На выезде с заправки у «вольво» с распахнутыми дверцами стоял, подняв руки, толстый человек. Его обыскивали, а он плаксиво кричал:
— Да что здесь творится, пацаны?
«Пазик» аккуратно объехал «вольво», но тут кто-то из омоновцев поднял голову, крикнул:
— Э! А этот куда?
— Домой! На кладбище!.. — сдавленно сказал шофер и газанул.
Внезапно в глаза нам ударил сноп света, шофер притормозил, вывернул вбок, автобус тряхнуло.
— Стоять! Стоять! — кричали сзади. Потом треснула автоматная очередь.
Леха вдруг потерял равновесие и стал валиться на шофера, тот пытался удержать руль, автобус накренился и дедов побросало кого на пол, а кого и на окна. Я уцепился за поручень над дверью, ноги потеряли опору. Какой-то миг казалось, что автобус ляжет на бок, но этого не случилось: Леха сполз на пол — руки повисли на шофере, дед, державший автомат, опрокинулся на спину и вдруг — грохнуло. Длинная очередь ударила в потолок, посыпались горячие гильзы. Автобус вильнул, выправился, и понесся по черной дороге так, что засвистело в дверной щели.
* * *
С трассы мы свернули влево, на двухрядную дорогу, а немного погодя направо. Оказавшись среди сосен, шофер притормозил, аккуратно съехал на едва видный, переметенный снегом проселок, и заехав совсем уж в какую-то глушь, заглушил двигатель.
Леха завозился на полу. Деды, нахохлившись, сидели смирно, только вдова испуганно оглядывалась и что-то бормотала.
— Приехали, — сказал шофер.
Леха приподнялся, кряхтя. Ощупал голову, поморщился.
— Ну, чо? — спросил, оглядывая нас. — Доездились?.. Помирать пора — а вы… И не стыдно?..
Старый разведчик привстал, дрожащей рукой протянул Лехе автомат.
— Ты не серчай на стариков-то, — сказал он устало, вытер слезящиеся глаза. — Мы всякое пережили, но такого… Квартиры-то наши мэрии заложены, в случае смерти городу перейдут. Вот я и подумал, грешным делом специально все это подстроено…
Ну, старичье ликвидировать.
— Ну ты, дед, даешь. Я же сказал: ка-ран-тин! — Леха сплюнул, снова поморщился. — Где-то в меня срикошетило, что ли… Спасибо, жилет под бушлатом…. Две шишки на голове, гадство…
Потом повернулся к шоферу:
— И куда это мы заехали?
— Да выберемся, если надо, — нехотя ответил тот.
— Бензина-то хватит?
— До заправки хватит, — сказал шофер. Открыл двери.
Я вышел, за мной неожиданно резво выскочила вдова и засеменила за ближайшие сосны.
Я закурил и выбросил опустевшую пачку. Леха тоже вылез, присоединился.
— Вот что, — вполголоса сказал он, покосившись на автобус. — Здесь где-то поблизости пост ГИБДД есть. А там у них рация и все такое. Так что я двинусь… Он выжидательно посмотрел на меня, повернулся и зашагал по дороге.
Прошло минуты две-три. Я еще докуривал, растягивая последнюю сигарету, когда Леха появился снова. Он почти бежал.
— Слышь? — громко сказал он. — А дороги-то нету!..
Остановился, тяжело дыша.
— Нету, говорю, дороги, слышь?.. — он не улыбался, и веснушки исчезли, побелев.
— А что есть? — спросил я, с трудом шевеля холодными губами.
— Хрен его разберет. Кладбище вроде. Оградки… Кресты…
Я не поверил. Леха возбужденно махал руками, и вместе с ним мы пошли посмотреть. Метров через сто, возникнув прямо там, где недавно была хоть и плохонькая, но все-таки дорога, действительно чернели кресты и оградки. Мало того — автобусный след просто обрывался среди засыпанных нетронутым снегом могилами.
Мы потоптались, не решаясь приблизиться. Черные сосны стояли безмолвно и строго, верхушки их пропадали в зеленовато-темном небе, а внизу, на зеленоватом снегу, ясно выделялись кресты и стандартные гранитные плиты-памятники. На некоторых даже чернели остатки венков.
Мы пошли к автобусу, и застали другой переполох:
— Николай Трофимович помер! — испуганно крикнула вдова, показывая в автобус. Тут же стоял и шофер, у дверей толклись остальные. — Он от жилконторы ездил, тоже ветеран. Петр-то его толкнул — чего, дескать, спать, замерзнешь — а он и бух на бок!..
* * *
Я все еще ничего не понимал. Кроме, пожалуй, одного: глядя на сгрудившихся у дверей катафалка стариков, плохо одетых, пахнувших нафталином и смертью, я понял, что на этот раз спасать нужно не детей, заблудившихся в страшном сне.
Мне почему-то казалось, что старикам не снятся кошмары.
* * *
— Алексей! — дрожащим голосом сказала вдова. — Вы подойдите, пожалуйста, к нам, вот сюда… Все же у вас автомат…
— Да, — подал голос разведчик. — Надо держаться кучнее.
Леха тупо глянул на автомат, передвинул его к себе и машинально встал, куда показала вдова.
Шофер выдал старое байковое одеяло, слегка запачканное маслом.
Мы положили Николая Трофимовича на пол, подле торцевой двери автобуса, прикрыли лицо. Снова вышли наружу.
Внезапно раздался долгий протяжный треск. Как по команде, мы глянули назад, в темноту. Неподалеку, прямо через дорогу, падала сосна. Падала невыносимо медленно. Наконец рухнула, брызнув мокрым снегом и застонав, как человек.
Не сговариваясь, мы молча кинулись в автобус. Шофер прыгнул на свое место, стал заводить. Было слышно, как со скрежетом вхолостую провернулся стартер. И еще раз. И еще. Шофер выругался в голос — а голос дрожал, попытался завести снова и снова.
— Давай крутану! — не своим голосом крикнул Леха.
Но двигатель внезапно ожил. Автобус буквально прыгнул вперед — и тут же застрял. Дернулся раз, другой, третий, содрогаясь и дребезжа. Яростно взревывал движок.
— Толкнуть надо! — обернулся шофер.
Не рассуждая, мы кинулись в двери. Обежали автобус, уперлись, бестолково толкнули раз и другой. Позади, даже сквозь шум, послышался новый треск. Я мельком глянул назад: упала еще одна сосна, а за ней из-под снега вдруг выскочил черный крест.
Это прибавило сил, и не только мне: автобус выкатился вперед и даже пошел слегка боком. Прыгали внутрь уже на ходу, и даже не закрыв двери, прилипнув грудью к рулю, шофер налег на газ…
* * *
Сколько мы носились по проселкам, плутая в соснах, не знаю.
Наверное, долго. По пути попадались строения — но ни света, ни признака жизни. Наконец под колесами снова появился асфальт, и вскоре впереди показался просвет и черная широкая лента шоссе.
Шофер приткнулся к обочине, в тени сосен, не доезжая до магистрали. Перевел дух, закурил, отвалившись от баранки, потом повернулся к нам. Света он не включал, но вокруг посветлело: пелена облаков истончилась, сквозь нее глянуло мутное, словно больное око луны.
— Надо бы на разведку сходить. Глянуть, как там и что, — сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь.
Леха завозился, буркнул:
— Сейчас… Дедов пересчитаю…
Устроили что-то вроде переклички. Все были живы, хотя разведчик совсем раскис. Шофер подал нам аптечку, дедам раздали валидол, нитроглицерин, валерьянку.
— Ну, пойдем, что ли? — спросил меня Леха.
Мы вылезли и отправились по дороге. Вышли на шоссе. Оно было абсолютно пустынно в обе стороны.
— Первый закон — не высовывайся! — сказал Леха.
Мы отошли под сосны, присели на корточки. Асфальт казался мокрым и сиял под луной. Было тихо. Леха спрятал руки в рукавах, нахохлился так, что голова вместе с шапкой ушла в воротник.
— Что там случилось, в городе? — спросил я.
— Да вроде ничего.
— А зачем же тогда карантин?
— Знал бы — сказал бы давно… — Леха вдруг вздохнул. — Эх, лучше бы на Кавказ… Ведь предлагали же. Там, по крайней мере, враг понятный…
Он подумал.
— Наших ребят последние дни на какие-то бетонные работы возили. С утра до ночи. Говорили, дамбы укреплять. Что за дамбы? Наврали, наверное. Теперь я думаю — оборону выстраивали…
Он пугливо глянул в сторону леса, послушал — было тихо — успокоился.
— Еще говорили, паника в городе. Сам я не видел, но рассказывали, что народ потихоньку уезжает. Кто на дачи, кто к родне. А неделю назад два взвода бросали разгонять демонстрацию.
— Какую?
— Да кто ее знает? Парни вернулись злые. Говорят, там одни старики были, драться кидались. Наши, правда, поймали каких-то парней, но их тут же фээсбэшники забрали. Плакаты какие-то у них были, про конец света, что ли.
— Так все-таки — из-за чего уезжали? Что за паника?
Леха помолчал.
— Да, видно, из-за того самого. Из-за конца света…
Я все еще ничего не понимал. Надо бы расспросить дедов — закрывались ли станции метро? Сообщалось ли об авариях, «ремонтных работах»?
В городе тоже хватало кладбищ…
* * *
Они появились неожиданно — потому, что почти бесшумно.
Колонна большегрузных военных грузовиков, с кузовами, закрытыми брезентом шла медленно, с ближним светом, двигатели работали чуть слышно, на малых оборотах, шуршали покрышки — весь этот автопоезд приближался к нам. Пригнувшись, мы бросились под защиту сосен и притаились. К нашему ужасу, колонна стала поворачивать — как раз к нашему автобусу.
Предупреждать уже было поздно; мы лишь передвинулись, срезав угол, ближе.
Колонна протащилась мимо автобуса, стоявшего на обочине с выключенным светом, не задержавшись ни на секунду. Когда габаритные огни последнего грузовика стали едва различимы, мы подбежали к автобусу.
Шофер по-прежнему сидел за баранкой — немой и сосредоточенный.
Открыл двери. Мы прыгнули внутрь и я сказал:
— Поехали за ними.
Шофер глянул на меня удивленно-недоверчиво. Леха, сообразив какую-то свою выгоду, поддержал:
— Давай поехали! Слышал?..
Двигатель завелся сразу же. Соблюдая светомаскировку, мы развернулись и не торопясь двинулись вслед за колонной.
Через пару километров мы догнали ее — она как раз сворачивала на боковую грунтовку; сверток охранял букет указателей, один из которых свидетельствовал о радиационной опасности.
Возможно, дорога вела на полигон, но я не стал уточнять. Тем более, что до полигона колонная не дошла. Когда сосны поредели, мы оказались на широком открытом пространстве, сплошь заваленном гигантскими кучами мусора. У меня мелькнула было мысль, что это одна из муниципальных свалок, но тут грузовики стали тормозить и разворачиваться.
— Стой. Открой двери и жди здесь, — вполголоса сказал я.
Оставив автобус у «колючки», щедро развешенной на столбах, я метнулся к ближней куче. Полез наверх. Сзади послышалось сопение, потом — сдавленная ругань: за мной полз Леха.
Куча состояла из странных предметов, но на этой стороне ничего нельзя было разглядеть, а на ощупь я мог лишь приблизительно определить, что ползу по доскам, перемешанным с крупными осколками камня. Свет с той стороны поднимался над вершиной зеленым ореолом. На той стороне слышались голоса, а потом раздался грохот.
Последние метры я преодолел на четвереньках, порвав перчатки и ободрав ладони.
Внизу открылась широкая площадка, на которой полукругом стояли машины, а между ними сновали десятки солдат в простых бушлатах. А кроме того, работали несколько бульдозеров, еще какие-то механизмы, и надо всем этим стояло облако пыли, подсвеченное прожекторами.
Разгружали машины.
Присмотревшись, я понял, что это был за груз, только не сразу поверил своим глазам. А поверив, перевел взгляд на тот мусор, на котором лежал животом вниз.
Что-то неудобное упиралось в живот. Я передвинулся, скосил глаза.
Череп. Кости. Обломки гробов. Обломки гранитных надгробий и памятников. Чугунные плиты. Старинные восьмиконечные кресты с завитушками, тоже отлитые из чугуна. Фотографии, впечатанные в овалы. Обрывки полуистлевшей материи. Чьи-то мертвые высохшие локоны. И венчик из белых искусственных цветов.
Сбоку в странной позе застыл Леха. Как зачарованный, он водил пальцем по гранитному обломку с табличкой из бронзы. На табличке было крупно выбито: «ТЫ БЫЛА НАШЕЙ РАДОСТЬЮ, ТАНЕЧКА». И даты: «1966–1973».
— Леш! — позвал я.
Он перевел на меня пустые глаза.
— Что они делают — видишь?
Он перевел взгляд вниз. Сосредоточенно вглядывался. Потом неторопливо снял с плеча автомат, пристроил его на чью-то мумифицированную голову с роскошными черными волосами, высохшими до состояния, близкого к мертвой синтетике. И стал старательно целиться, чуть ли не высовывая язык.
И вдруг стало светло. Я подумал было, что нас осветили прожекторами, но, оглядевшись, понял: наш шофер включил дальний свет и подъехал поближе. Мои старики вышли из автобуса и скорбной цепочкой двинулись к пирамиде смерти.
Подошли и застыли, как изваяния. К ним присоединился шофер.
Глядел на нас с Лехой снизу вверх, втянув голову в плечи; спортивную шапочку мял в руках, держа их у груди.
От его странной, невыносимо странной позы веяло безнадежностью. Терпение кончилось. Даже у него. Даже его удивили…
Мозаика, все время ускользавшая от меня, внезапно сложилась.
Хотя в ней и не хватало множества фрагментов, но главное я понял.
Леха продолжал целиться. Или выбирать. Может быть, искал самого главного здесь, на этой чудовищной свалке.
Я решил ему не мешать.
Он выстрелил трижды.
* * *
Потом я лежал на снегу. Животом вниз, щекой в мокрый снег.
Рядом были уложены мои старики — руки на головах — темные и немые. Леху в это время пинали. Сосредоточенно, ругаясь почему — то вполголоса.
Потом разрешили перевернуться. Я перевернулся на спину и увидел большую бледно-желтую луну. Она была совсем близко — протянешь руку и почувствуешь слабый и теплый трепет.
Мы лежали и смотрели друг на друга, а военные тем временем начали материться в полный голос: умер еще кто-то. Я приподнял голову испугался, вдруг, это вдова? Оказалось — нет. Это был наш разведчик.
Потом в памяти наступил короткий провал. И мы снова оказались в автобусе. Леха, закованный в наручники, лежал у нас под ногами, между скамьями. Причем мы были на одной скамье, а наши конвойные, экипированные, как натовские миротворцы, на другом.
Шофер тоже оказался в числе «военнопленных», а за баранку сел солдат.
Мы мчались по пустому шоссе в сторону города.
Я не знал, убил ли кого-нибудь Леха. Вряд ли: иначе, скорее всего, его там бы и закопали. А к несчастному Николаю Трофимовичу присоседился Дитль — их завернули в брезент, и они смирно лежали у задней двери, как и положено лежать в катафалке транзитникам «земля-небо». В автобусе было темно, но я постепенно разглядел, что командовал нашими конвойными майор. Майор был уставшим, с серым лицом и запавшими глазами. Он спал, отвернув голову, пока автобус не остановился: мы оказались перед… скорее всего, этот завал на дороге можно было назвать баррикадой.
Узкий проход в баррикаде охраняли милиционеры в бронежилетах.
Майор вышел, переговорил с охраной, а потом разрешил выйти и нам размяться.
Я выбрался без особой охоты. Была приблизительно середина ночи, небо прояснилось, в лунном свете были видны темные коробки домов. Ни огонька, ни собачьего лая.
Вдова подсеменила к майору и строго спросила:
— Куда вы нас везете?
— В комендатуру, — неохотно ответил майор.
— А что будет с мальчиком?
Я не сразу понял, что вдова спрашивала о Лехе. Но майор понял:
— А что вы хотите? Не награду же ему давать!
— Он ни в чем не виноват, — твердо сказала вдова. — Ни в чем.
То, что творили вы — это гораздо страшнее…
Он не ответил, а она вдруг заплакала.
— Идите в автобус, — буркнул майор. — Скоро приедем, там вам помогут.
— В комендатуре? — спросил я.
Майор посмотрел на меня, словно только что увидел.
— В пункте сбора беженцев, — сказал он.
Вдова оторопело уставилась на него — даже слезы высохли:
— Но мы еще не беженцы!
Майор вздохнул:
— Там разберутся…
Он не хотел больше говорить — отвернулся и пошел к баррикаде.
Сел на обломок железобетонной опоры, попросил у милиционера закурить.
Я подошел к ним.
— Я приезжий. Прилетел на похороны отца. Я ничего не знаю. Что происходит в городе?
Майор молчал, курил. Милиционер был почти мальчишкой, хотя и носил лейтенантские звездочки; он молча достал пачку «Бонда» и протянул мне. Я закурил, присел на корточки.
— В городе… — сказал майор. — Никто не знает, что происходит с этим городом. Еще позавчера все казалось случайностью.
Обвалился свод на закрытом участке метро. Трещины на колоннах Исаакия. На Васильевском… Короче, то тут, то там. Ну, козырек обвалился. На Кузнецком асфальт разошелся.
Тепломагистрали рвались. А утром рухнул Троицкий собор.
— Какой Троицкий собор?
— В Лавре. На Смоленском кладбище задвигались могилы. Паника.
Беженцы. Пулково закрыт. Поезд сошел с рельс под Колпино…
Продолжать он не стал. Бросил окурок.
Поднялся и сказал как бы сам себе:
— Смоленское, Волково, даже Лавра — это цветочки. А вот Пискаревка двинется с места…
— Двинулась, товарищ майор, — сказал милиционер. — По нашей частоте передали.
Майор повернулся к нему:
— Что же ты молчишь? И кого вы тут охраняете?..
Милиционер вскочил:
— Новой задачи не поставлено, товарищ майор! Будем ждать смены!..
— А-а! — страшным голосом вдруг крикнул майор. — Будете ждать, пока не провалитесь сквозь землю! «Честное слово» в детстве читали? Ну да, в вашем детстве читали уже другое…
Он поглядел вокруг дикими глазами.
— Слушай мою команду. Всем — в автобус. Поворачиваем на Токсово.
— В город же хотели, — по-мальчишески возразил было лейтенант.
— В городе теперь остались одни сумасшедшие и безногие, — отрезал майор.
* * *
Все мы вымотались и отупели, поэтому не сразу заметили, что что-то происходит. Автобус подрагивал, появился странный неприятный звук, и непонятно было, откуда он: из железного чрева под капотом, или извне, из черной глухой неизвестности, окружавшей нас на безлюдном шоссе.
Потом автобус тряхнуло — и сразу же вскрикнул водитель, вывернул руль, все повалились на пол, друг на друга, автобус подскочил, накренился, завис на двух боковых колесах, продолжая разворот… И наконец, со скрежетом развернувшись, опустился на все четыре.
Двигатель заглох. Водитель лежал на баранке с окровавленным лицом. Запахло жженой резиной. И все это было ерундой по сравнению со звуком, нараставшим снизу, из ГЛУБИНЫ.
Трудно описать этот звук. Полустон-полувздох, запредельно низкий, нарастающий, леденящий.
Приподнявшись, я в ужасе увидел, как в мертвенном свете луны за автобусом вспучивался асфальт. Его разрывала невидимая сила, и в трещины полился зеленый свет. Автобус потряс новый удар. Кто-то в панике вскочил и упал на меня, кто-то завизжал, кто-то полез вперед прямо по головам.
Страшно выматерился майор, вытаскивая водителя из-за баранки.
Леха забился почти под самое сиденье, вдова влезла на сиденье с ногами и беспрерывно взвизгивала…
А потом задняя дверь стала прогибаться, трещать, и наконец с гулким хлопком вылетела наружу. Зеленый свет протянулся в автобус двумя бледными полосами. Это подобие рук нежно обняло два трупа, полузавернутые в брезент, и потащило их наружу.
Один из миротворцев, наконец, пришел в себя настолько, что начал стрелять. Горячие гильзы посыпались сквозь грохот и удушливые клубы, а звука почему-то почти не было. Только пульсирующие вспышки из пламегасителя, да застывшее, как маска, сосредоточенное лицо стрелявшего.
Внезапно автобус зарычал испуганным зверем, прыгнул вперед, и помчался.
Мы неслись по дороге на юг, в сторону города, а нас догоняла стремительная трещина, вспарывавшая асфальтовое полотно.
А потом — мы уже не кричали, и даже не чувствовали ни страха, ни боли, молча вцепившись друг в друга — земля перед нами поднялась на дыбы.
* * *
Это был печальный рассвет. Тусклый, серый, невероятно унылый, растекавшийся в узком пространстве между тяжкими глухими небесами, и черно-белой землей.
Мы брели по улице. Когда-то это была широкая многолюдная улица, стремительно впадавшая в огромные круглые площади.
Теперь это был город призраков.
Поближе к домам — пустым и холодным — жались немногочисленные жители. Время от времени по улице проносились машины, переполненные беженцами. Какие-то парни в оранжевых куртках спасателей у входа в метро жгли костер из картонных коробок, газет и книг.
Мимо нас медленно прокатился туристический автобус, из громкоговорителя неживой гундосый голос твердил:
— Уважаемые жители! В связи с невозможностью обеспечивать подачу в дома электричества и отопления военная комендатура рекомендует покинуть город. Сборные пункты организованы в следующих районах…
Дальше голос перечислял районы и адреса. Видимо, голос был записан на пленку, а автобусом управлял свихнувшийся чиновник управления по ЧС.
В другом месте прямо на улицу из разграбленного ресторана были вынесены летние столы и кресла, и даже один цветастый зонтик.
Несколько пьяных мужчин и женщин, с пьяными детьми, сидели за столиками и пили коньяк и водку. Из разбитых дверей ресторана доносилась музыка.
Показалась новехонькая маршрутка. Я машинально махнул рукой и она, к моему удивлению, притормозила. Мы влезли — старики, вдова, солдаты, майор, потерявший шапку; у него были коротко стриженные волосы — белые-белые.
— Вам куда? — спросил водитель. На носу у него были темные очки и он прихлебывал джин прямо из бутылки.
— Домой. На Садовую, — сказала вдова.
Шофер кивнул и мы поехали.
В Озерках подсели еще несколько человек, потом еще и еще, и к Неве мы подъехали, когда в автобусе стало совсем тесно. Как ни странно, пассажиры не выглядели испуганными. Один молодой человек даже читал газету, а девушка долго и нудно болтала по сотовому телефону.
— Придется ехать в круговую, — сказал водитель. — Мосты разведены или разрушены. Остался один Большеохтинский…
— Если остался, — поправил бомж, как две капли воды похожий на Льва Толстого.
— Щас узнаем, — отозвался водитель. Хлебнул джину и передал бутылку бомжу. Бомж хлебнул и передал девушке в круглых очках-стрекозах. Девушка аккуратно вытерла рукавичкой горлышко и приложилась.
* * *
— Прошу на четвертый этаж. Лифт не работает, — сказала вдова.
Мы гурьбой потянулись наверх.
Это была скромная квартирка — одна комната с альковом, совмещенный санузел и узкая кухня.
В комнате был накрыт длинный стол, стояли стулья и табуретки; вдова стала хлопотать на кухне, несколько добровольцев вызвались ей помогать.
Я протолкался к окошку, к майору, курившему в форточку.
Закурил.
В окно была видна крыша, крытая жестью, глухая стена и внизу — кусочек пустой улицы.
А потом начались поминки.
Все было правильно. Они такими и должны быть — печальными и жутковатыми.
По крайней мере, выпив сразу стакан водки, я согрелся, а после второго стакана даже проглотил несколько блинов и пельменей.
Майор сидел рядом, машинально жевал. Мы говорили о покойном, чей портрет с черным крепом висел посреди голой стены.
Он был добрым и безобидным стариком. Он даже писал стихи — вдова прочитала несколько. Стихи о Родине и о любви.
Он был хорошим.
Но с его смертью земля переполнилась. Здесь, под нами, в этой горькой земле слишком много рождалось мертвых. Слишком много.
И слишком долго. Почти триста лет.
* * *
Потом кто-то ушел, кто-то повалился спать — в алькове, на кухне, в прихожей, и даже в сортире.
Востроносая девушка, рывшаяся в шкафах с книгами, вдруг сказала:
— Постойте. Вот оно. Я нашла.
Она развернула сборник стихов польских поэтов, поправила соскальзывавшие с длинного носа очки и прочла:
— Земля
колыбель мертвых
полная ими
как соты медом
могила к могиле
они почили
от нас так близко
оторванные от жизни
будто уста
* * *
Майор снова стоял у окна и курил. Я подошел, и он сказал:
— Они все еще наступают. Слышите?.. Сваи под городом. Сотни тысяч, миллионы свай. Они выскакивают из переполненной земли — им не хватает места.
— Да. Это не их колыбель…
Вариант
Сон третий
К этому никогда не бываешь готов.
Слишком внезапно.
Дело в том, что вентилятор заедало. То ли пыль накопилась, то ли эти китайские вентиляторы просто рассчитаны на определенный срок службы делаются-то из барахла, из пластика, они даже на подшипниках экономят, короче говоря, вентилятор сразу не включался, его надо было подтолкнуть. Обычно я просовывал в защитную решетку отвертку и подталкивал лопасти. Вентилятор начинал вращаться, сначала медленно, потом все быстрее, пока наконец от него не начинало дуть. Дело, стало быть, было обычным и рутинным.
И день был солнечным — впервые после трехнедельного циклона, когда серость пропитала не только небо, но и город, и сам воздух, и даже людей. А тут внезапно выглянуло солнышко, когда его уже никто и не ждал. Вдруг загорелись полуоткрытые жалюзи, и за окном все заискрилось, да так, что стало больно смотреть.
А тут какой-то дурацкий вентилятор. И отвертка, конечно, куда-то запропастилась. Иногда я совал сквозь решетку строкомер — это такая металлическая линейка, — когда лень было искать отвертку. Вентилятор не работал. Отвертки нигде не было. Ну, упала куда-нибудь, завалилась за металлический шкаф, или взял кто-то — такое у нас бывает, мало ли, винтик подкрутить, тем более, отвертка у меня нормальная, еще с советских времен, с двумя сменными стержнями, которые не вываливаются и не шатаются в пазах, в отличие от нынешних, опять-таки, наверное, китайских.
Короче говоря, я машинально взял строкомер, сунул его в решетку, пошевелил лопасти. Вентилятор не заводился. Я еще пошевелил. И еще. Ну никак, зараза — такое тоже случалось.
А глядел в это время, понятно, на жалюзи, сквозь которые в комнату бил ослепительный весенний свет.
Даже не помню, о чем я думал. Торопился, кажется. Кажется, даже чертыхнулся: давай, гад, шевелись, что ли. Линейка скрежетала, гнула пластмассовые лопасти, царапала их и срывалась куда-то дальше. В блок питания. А он на этой технике — будь здоров. Древний, как мамонт, и такой же тяжелый. Его однажды уже пытались заменить — но потом решили, что еще послужит. Вот он и послужил.
Внезапно зашумело в голове. И все. Больше я ничего не почувствовал. Даже, кажется, сознания не терял. Вернее, не помню, чтобы хоть на долю секунды померк свет.
Все было по-прежнему, солнце резало глаза, вся комната светилась, и я стоял с потемневшим строкомером в руке, а из блока питания вился ядовитый дымок.
Мне захотелось присесть. Я присел. Закурить. Закурил. Поглядел на линейку, чуть не оплавившуюся на конце, повертел ее в руках, бросил на стол. Она звякнула.
Странно, — помнится, подумал я. Током, вроде, не било. А руки трясутся. И что-то с головой. Плывет все, качается, вместе с ядовитой змейкой, струившейся из обгоревшей решетки.
Потом я выдернул шнур из розетки. Пошел докладывать главному инженеру, что вентилятор, наконец, накрылся. Инженер был на обеде. Я вернулся в комнату. И вспомнил, что тоже еще не обедал.
Я оделся и вышел на улицу. В голове было звонко и пусто, и вертелась одна-единственная мысль, которую мне никак не удавалось ухватить. Очень важная, очень. Важнее всего, того, что я думал прежде.
Очень странно — есть не хотелось. Я постоял в магазинчике за углом, где можно было перекусить разогретыми в микроволновке сосисками в тесте, самсой, чебуреками, — и выбрался наружу, в ослепительный день. Знакомая продавщица как-то странно посмотрела на меня. И проводила глазами.
Небо было не синим, а каким-то неистово голубым, и на его фоне невыносимо яркими казались белые крыши. Я постоял, глядя на толпу и скопище транспорта у остановки; что-то воздуха мне не хватало — от гари першило в горле.
Я вернулся на работу, зашел к инженеру:
— Вентилятор-то, — говорю, — накрылся. И трансформатор сгорел.
Инженер раскладывал пасьянс. У него под рукой стояла баночка с джин-тоником, он урчал и выглядел довольным — как всегда после обеда.
— Какой трансформатор? — спросил он, не отрываясь от карт на экране.
— Ну… в блоке питания который, — сказал я.
Инженер хлебнул из баночки, вздохнул, с трудом отрываясь от любимого занятия. Поглядел на меня. Взгляд его стал очень странным.
— Вентилятор… — сказал он, почесал бородку и крякнул. — А вы кто, собственно, такой?
Теперь уже удивился я. Посмотрел на него, на баночку, на громоздившиеся вокруг компьютеры, принтеры, коробки с картриджами, стопки клавиатур, и прочую дребедень. На почетном месте, на свободном столе, лежала увесистая книга с крупной надписью «Windows NT». Книгу припорошило толстым девственным слоем пыли.
— Я-то? Александр… Борисович, то есть, — сказал я.
— Какой Александр Борисович? — изумленно спросил инженер и стал привставать.
Я промолчал. В голове шумело и плескалось весеннее солнце, и я ничего, совсем ничего не понимал.
— Да я же здесь работаю, — сказал я. — Александр Борисович…
— Какой Александр Борисович?? — выкрикнул вдруг инженер. Глаза его внезапно стали круглыми и он переспросил тоном ниже: — Александр Борисович?.. — и добавил уже совсем чуть слышно: — Да он же умер.
Я слегка оторопел. Попятился. Потер лоб ватной рукой. Мне стало как-то нехорошо. И почему-то обидно.
— Я не умер, — сказал я. — Это вентилятор умер. И блок питания тоже…
Но инженер меня не слушал. Судорожным движением опрокинул баночку и стал выбираться из удобного офисного кресла — кстати, единственного на всю контору.
— Вы как сюда попали? — вдруг отрывисто спросил он. Вылез, наконец, из кресла и выпрямился во весь рост — как раз мне по плечо. — А ну-ка подождите…
Он прошел мимо, как-то странно изогнувшись, чтобы не коснуться меня, и уже из коридора внезапно взвизгнул неестественным голосом:
— Охрана! Вы кого сюда пускаете? Это же режимное предприятие! А вы пускаете сумасшедших!..
Я вышел вслед за ним. Ко мне бежали два охранника — я даже не знал их имен. Интересно, что еще утром они со мной поздоровались…
— Парни… — начал было я, но тут же почувствовал, как они пытаются заломать мне руки за спину. То есть, они не слишком пытались, а тот, что помоложе, и вовсе бормотал что-то вроде извинений.
Так, с извинениями, они довели меня до выхода, толкая в спину и придерживая за руку, а потом вытолкали на улицу.
— Да вы чего, озверели, что ли? — успел спросить я.
— Не положено!.. — сказал молодой, пряча глаза.
Они исчезли за дверью. Я остался на ступеньке. Толпа целеустремленно огибала ее, и струилась мимо, мимо, разноцветным шумным потоком. «Какой Александр Борисович?? Александр Борисович? Он уже умер!» Наконец, я ухватил какую-то мысль. Двинулся вдоль здания, к зеркальным окнам ресторана «Марсель». Посмотрел на себя не без опаски. Но нет, вроде все было нормально. Шапка и куртка, и лицо, — все как обычно. Конечно, красавцем я никогда не был, но на человека похож. Мохеровый шарф выбился наружу, — это, наверное, когда охранники выталкивали меня из конторы.
Мохеровый шарф — подарок жены. На этот дурацкий праздник — день святого Валентина.
В голове снова прояснилось, и я понял, что должен сделать.
Съездить домой.
* * *
Жены не было дома. Еще было слишком рано. Я отпер железную дверь внизу, поднялся на свой этаж, отпер вторую железную дверь, перегораживавшую площадку, и наконец, третью — в квартиру.
Здесь вовсю гуляло солнце. Форточка была открыта, и в нее лилось невыносимое сияние, заливая всю комнату, выплескиваясь в коридор. Зайчики плясали на обоях.
Я снял шапку и куртку, постоял, глядя на себя в зеркало на стене.
Это был я. И не я.
Я не знаю.
Я вошел на кухню, полыхавшую солнцем, сел за стол. Кошка взглянула на меня, как на пустое место.
Я и был пустым местом. Но все же…
Достал из холодильника кошачьих консервов, щедро вывалил пол-банки. Жри. И помни меня.
И вдруг меня осенило: заначка! Жена ничего не знала о ней.
В спальне я выдернул плохо прибитый плинтус, отогнул линолеум.
Заначка была на месте: три стодолларовых бумажки в целлофановом пакете.
Я положил пакет на кухонный стол.
Зашел в ванную. Искоса глянул на себя: щека небрита, но все на месте. И все-таки…
Потом вернулся в комнату, включил компьютер. Я подумал: чем черт не шутит, надо попробовать… Связь, конечно, была плохой, соединение шло долго и нудно; не дожидаясь полной загрузки, я набрал пароль. Стоп! Ошибка доступа. Я снова набрал пароль. Хотя уже понял: они сменили пароли.
Посмотрел почту. Три десятка непрочитанных писем. Я не стал их читать. Мелькнула было мысль: послать всем адресатам письмо.
То самое. С того света… Но при такой связи, пока прокачается… Плюнул и выключил машину.
Что-то можно было сделать еще. Позвонить.
Я подумал, полистал записную книжку, лежавшую на тумбочке у телефона. Наконец, стал набирать номера. С третьего раза попал. Приятный женский голос. Она не узнала меня, и я стал прикидываться приезжим: дескать, друг детства, только что прибыл, здесь проездом, хотел встретиться с другом, но не знаю, как ему позвонить домой. А на работе сказали черт знает что. Вроде нет такого. А ваш телефон он давал когда-то, вроде, он работал у вас. Вас же Ларисой зовут? (Уж Лариска-то, Лариска! Печальная у нас была любовь).
— А… — сказала она, и голос ее пресекся. — Вы разве не знаете? Его больше нет…
Шум прибоя. Меня закачало, как лодку — я даже схватился за тумбочку. В зеркало сбоку я видел себя: согнувшись в три погибели, стою над телефоном, держусь за край тумбочки, — черный силуэт, обведенный ореолом неистового света.
— Он умер… Да так нелепо: током убило…
Дальше я не слушал. Бросил трубку — Лариса продолжала что-то кричать, а я сел на тумбочку и сидел, прислушиваясь к себе.
Что-то было не так. Что-то было не так — я не слышал собственного сердца. Пустота в груди, и — тишина.
Я стал разглядывать свое запястье. Вроде, оно. И не оно.
Жилочка не пульсирует. Бред какой-то…
Чем-то жутким повеяло вдруг, словно сорвался в невидимую пропасть. Я не дышал. Мне и не нужно было дышать. Я сидел, покачиваясь, как маятник. Маятник, который слишком долго набирал обороты, чтобы остановиться сразу, и все еще по инерции продолжает свой ход. Мертвый ход в тишине.
Я вернулся в комнату. Огляделся. Теперь я увидел то, что ускользнуло вначале: чужие вещи, признаки чужого человека.
А потом, на стеллаже, я увидел свою фотографию. Это была хорошая фотография. И очень большая. Я на ней молодой и красивый. И невыносимо живой.
Нелепая черная полоса пересекала ее с угла. Будто жизнь зачеркнули.
И вдруг я понял, почему вокруг так тихо, неестественно тихо: сердце не билось.
* * *
Мне больше нечего здесь было делать. Останься я здесь — перепугаю людей до смерти. Еще неизвестно, чем все может закончиться. Еще, пожалуй, с женой станет плохо.
Я окинул последним взглядом все, что осталось после меня. Это хорошая квартира. Пусть те, что остались в ней жить, живут долго и счастливо.
Я закрыл за собой все двери. И, оказавшись на улице, швырнул связку ключей в котлован, который копали под погреба.
И, уходя со двора, я наконец-то вспомнил ту мысль, которую недодумал тогда, когда случилось непоправимое: наконец-то я узнаю эту страшную и великую тайну — а что там, за краем, к которому все мы приходим?
Жаль. Но я так и не узнал.
* * *
Следовало сделать еще одну вещь. И я ее сделал, хотя ушло на это много времени, даже слишком много. Уже темнело, когда я отыскал могилу и взглянул на надписи на стандартном памятнике из мраморной крошки. Такой-то. Родился тогда-то. Умер тогда-то.
Это было давно.
Солнце спряталось. Мне нельзя было здесь оставаться. Я стал таким же холодным, как памятник. Как земля, на которой стоял.
Пора уходить. Я двинулся к быстро тонувшей во тьме кромке печального леса.
Ни доброго и ни злого — больше я ничего не смогу совершить.
Жаль только, что прощание состоялось в такой спешке. И эта стена, облепленная паутиной, темная, из неподъемных блоков.
Стена, в которую я уперся с разбега. Внезапно. Слишком внезапно.
Прощайте.
Я шел и чувствовал, как с последним проблеском света меня покидало все, что когда-то печалило и тревожило, или радовало до слез. Я распадался, возвращаясь к тем, кто еще не родился.
Я смешивался с туманом, и холодный воздух начинал продувать меня насквозь. Ноги мои уже не вязли в холодной жиже — они становились частью ее, и уже не отрывались от нее. Посыпался снег.
И я стал снегом. Что-то еще ползло к лесу, без дороги, проходя сквозь кресты и оградки, но движение было все слабее. И сознание гасло, как гасли хлопья снега, долетавшие до земли.
* * *
— …У вас блок питания сгорел! — сообщил инженер, когда я вернулся с обеда. Он был деловит и собран, как всегда.
— Я вам давно говорил про вентилятор, — сказал я. — И что теперь?
— Заменим! — инженер энергично кивнул и скрылся за дверью.
Из-за перегородки раздался характерный хлопок: инженер открыл баночку с тоником. Значит, все. Сейчас он приступит к пасьянсу. Да еще не к простому — к турнаменту «тетушки Анны». А это надолго… Значит, можно со спокойной совестью доложиться начальству и идти домой. Тем более — погода прекрасная. После трех-то недель сырых снегопадов. Пройтись по улице — и то радость.
На столе осталась лежать обугленная металлическая линейка.





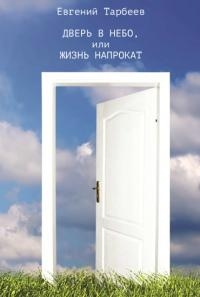
Комментарии к книге «И конь проклянет седока...», Сергей Борисович Смирнов
Всего 0 комментариев