Лавров Илья Васильевич Черно-красная книга вокруг
Часть первая
1
Да будет проклята та ночь! Я должен был плохо кончить, ибо нарушил законы Твои, Господи. Я пошел на поводу у своего низменного желания, того желания, что всегда, в конце концов, подводит людей со времен Каина, желания, казалось бы, вполне естественного — жить чуточку лучше, чем другие. Вожделеть — значит не повиноваться ни Тебе, Господи — душе моей, ни себе — собственному рассудку. Повернись ко мне лицом, протяни мне свою божественную длань, выслушай, прими мою исповедь и подскажи мне путь к спасению.
А началось ведь с безобидной шутки. Это была всего лишь шутка, поверь мне! Пошутишь так один раз — понравится, пошутишь еще — затянет, и потеряешь все. Было у меня любимое дело — я фоторепортер — не стало дела, была у меня какая-никакая спокойная жизнь — не стало жизни, так, существование, мерзкое самому себе; была у меня любимая женщина, и ее, сам того не подозревая, я принес в жертву. Узнал я цену легких денег и дорого заплатил за это.
В ту апрельскую ночь меня мучила бессонница. Сам дьявол не давал мне уснуть. Ночь была душной, как в середине лета. Но сейчас, вспоминая, я думаю, что дело еще и в бесе. Близкое его присутствие, видимо, нагнетало горячую атмосферу вокруг — парник, будто я — дьявольский цветок — должен был распуститься в эту роковую ночь. Я ворочался с боку на бок, как мертвец в гробу, когда его вспоминают нехорошим словом; я собирал под собой простыню, отчего лежать было только еще неудобнее; я воевал с одеялом: под ним жарко, отбросишь — холодно.
Измучавшись, встал с постели, подошел к окну и, открыв форточку, вгляделся в темноту. Воздух разряженный, хмельной, как перед грозой, если она возможна в апреле. Тучи налепились глыбами, да так и застыли над городом. Я опустил взгляд и сразу увидел светящиеся окна в доме напротив. Там, видно, была вечеринка. Мужчины и женщины сидели за столом, ходили из комнаты в комнату, не выпуская бокалов из рук, несколько пар лениво танцевали. Весь остальной дом давно уже был погружен в сон, и только в этой квартире веселились, не потрудившись даже задернуть шторы. Я обернулся, чтобы посмотреть на часы — было уже за полночь. И — вот она дьявольская телепатия! — как будто уловив мою мысль, гости вдруг стали собираться домой. Почему же я не отошел от окна? Сделай я это, и жил бы как прежде.
Я смотрел, как гости вышли на улицу, но перед тем, как пойти веселой толпой, дружно остановились и стали смотреть на светящиеся окна. Там на кухне хозяйка высунулась наружу, легла на подоконник, махала гостям рукой, кричала что-то. Сзади к ней подошел мужчина и обнял за талию. Легко было предположить, что это ее муж. Контуры их слились на фоне света. Оба махали руками, пока не скрылся за углом последний гость. И тут вдруг мужчина, не дав женщине подняться с подоконника — да она и не больно-то сопротивлялась, цинично задрал ей платье и красноречиво пристроился сзади.
Я не половой извращенец, не маньяк, но и не деревянный истукан; с женщинами у меня тоже все в порядке, и воспитан я был когда-то давно вовсе не по-пуритански, чтобы вот так просто, застеснявшись, отойти от окна и пропустить такую сцену. И дьявол, дьявол был тут рядом!
Меж тем в глубине кухни вдруг появился второй мужчина и, выжидая, облокотился на холодильник. Третьего я увидел в соседнем окне, в комнате — он развалился на диване, положив ногу на ногу, и нервно похлопывал себя по ляжке. Представление обещало быть интересным, мешало только большое расстояние. Разве можно разглядеть все подробности из своего окна. И тут меня осенило.
Я подбежал к письменному столу, дрожащими руками вытащил из футляра «Зенит» — свой верный фотоаппарат, и, не сразу попав резьбой в резьбу, вкрутил в него длиннофокусный объектив, предназначенный для съемок удаленных предметов. Получилась прекрасная подзорная труба.
Найдя через объектив ту самую кухню, я никого уже там не обнаружил. И как сейчас помню: досада, непонятная звериная досада заскреблась во мне. Но вся веселая компания оказалась в другом окне, в соседней комнате. Они играли в свои взрослые игры, расположившись на ковре. Моя квартира была на седьмом этаже, эта, веселая — на четвертом, так что ковер мне сверху был открыт полностью. Я навел резкость и автоматически, с профессиональной точностью поставил выдержку и диафрагму. Теперь, вооружившись сильной оптикой, я мог рассмотреть детали вплоть до огоньков похоти в их глазах.
Женщине было около сорока, но выглядела она неплохо: плоский живот, шарообразность грудей, колыхающихся при каждом движении хорошим наваристым студнем, ни капли лишнего в бедрах — сразу видно, что она не рожала. Загорелая кожа — это в апреле-то! — контрастно оттенялась по сравнению с белизной ее зада и, особенно — на фоне бледной кожи мужчин. Все трое, кстати, были младше ее, и все, как на подбор: микеланжеловские линии играющих мышц, волосы на груди, бритые затылки.
Время не могло их унять. Я заворожено смотрел в видоискатель фотоаппарата за их перемещениями. Действие это выглядело, как добротная порнография, и если бы я точно не знал, что вижу все своими собственными глазами, могло бы показаться, что я смотрю фильм. Тем более картинка развертывалась передо мною через формат камеры. Я искренне восхищался их изобретательности. Это была мерзкая, животная, но потому и влекущая вакханалия. В следующий момент все случилось мгновенно. «Вот хороший ракурс», — подумал я и нажал на спуск. Камера щелкнула, на доли секунды закрылось от меня действо, на веки вечные запечатлелось оно на пленке.
Уверяю Тебя, Господи, первый раз я сделал это интуитивно, из профессионального интереса, не преследуя никаких целей. Цель появилась потом. Может быть, когда я сделал второй снимок. Но и тогда это было не больше, чем шутка.
Я отснял всю пленку.
Я с такими подробностями рассказываю об этом, Господи, чтобы Ты увидел, как велико было искушение для меня. Я — обычный смертный, жизнь которого, Ты сам знаешь, коротка и уныла. Стремление к жизни другой — это ведь так, казалось бы, естественно. Может хоть эта мысль послужит мне каким-нибудь жалким оправданием. Грех мой еще даже не зародился тогда в голове — большой и неискупимый грех по сравнению с невинным созерцанием шабаша этой ведьмы и ее подручных.╜ ╜╜Но сознаюсь — не ускользнуло от меня, что квартира, где происходила эта вакханалия не из бедных: дорогая мебель, богатая отделка, картины на той стене, что была мне видна — эти, казалось бы, мелочи и внушили мне чудовищную идею.
Я тут же достал отснятую пленку, проявил ее и стал печатать фотографии. Крупный план, четко различимые лица, откровенные подробности — снимки получились великолепные. Закончив, я, наконец, почувствовал усталость и хотел было уже лечь спать, но тут прогремел гром. В какой-то момент я удивился, а потом подумал, что ничего странного в этом нет: обычный грозовой разряд, первая весенняя гроза, только очень ранняя, апрельская. Я снова подошел к окну. Взгляд мельком скользнул по тем светящимся окнам — там еще что-то возилось, — но было не до того. Вид грозного неба приковал взор. Тучи надвигались прямо на меня, ветер свистел, тополя внизу раскачивались и скрипели. И вдруг раскололось небо, вспыхнуло, будто хотело засветить мою пленку и в ту же секунду загрохотало. Все вздрогнуло от неожиданности: и деревья, и здания, и сама земля, и тревожная птица, перелетавшая от дома к дому. Вздрогнул и я. Гроза была надо мной…
Кто сказал, что после крика петухов сатана не властвует над нами, утром он разбудил меня, требуя закончить начатое дело. Спешно позавтракав, я взял фотографии, напечатанные ночью, и вышел из дома. Я без труда вычислил квартиру этой ведьмы. Почему-то я не побоялся быть узнанным — живем-то ведь рядом — только и сделал, что нацепил на нос солнцезащитные очки. «Слишком мала вероятность встречи в новом многонаселенном районе, — думал я с наивностью младенца, — я-то не видел раньше этой женщины, значит, и она не знает меня». В своей эйфории я даже не подумал о том, что могут сделать со мной те трое ее мужчин, — я ведь не видел, ушли они или нет.
Дверь открыла сама ведьма. Утром, в непосредственной близости она не выглядела привлекательной: заплывшие после бессонной ночи глаза, дряблые губы, спутанные обилием лака волосы, бесформенная масса груди под халатом. Трудно было поверить, что эта женщина не давала покоя трем молодым мужчинам. Но факты — упрямая вещь, факты все еще сжимала моя рука.
Я сразу же, без лишних слов, показал ей один снимок, самый впечатляющий и мерзопакостный. Наверное, она вначале приняла меня за почтальона или разносчика телеграмм, потому что, увидев фотографию, охнула от неожиданности. И тут же из квартиры раздалось:
— Кто там, Ирина?
Сердце сжалось. Только в этот миг я понял всю глупость, затмившую мой рассудок. Я уже был готов сорваться вниз по лестнице, но, посмотрев на женщину, увидел в ее глазах еще больше страха.
— Нет, нет, лежи, милый. Ты устал с дороги. Это Ангелина Павловна пришла насчет вязания, — торопливо крикнула она, не спуская с меня умоляющего взгляда, и, выскользнув на лестничную площадку, плотно прикрыла за собой дверь.
От сердца отлегло. Наверно, домой вернулся муж, иначе как еще объяснить ее страхи? И, правда: мужской голос был с характерным старческим скрипом и принадлежал явно не тем молодым людям. Но хороша: ночью — вакханка, днем — добропорядочная домохозяйка, объясняющая соседкам, как правильно закончить вязальный орнамент.
— Что вы хотите? — спросила она шепотом.
Я пожал плечами, мол, что я могу еще хотеть, и ответил тоже шепотом:
— Деньги.
— Сколько? — спросила она быстро, по-деловому.
— Три тысячи долларов.
— Хорошо, — сказала она, а я пожалел, что попросил не пять.
— Значит так, — быстро заговорил я, пока она не опомнилась. — Даю вам сутки с небольшим. Завтра в семнадцать часов встаньте на углу Ленинского и Московского проспектов напротив памятника Ленину возле проезжей части. Будьте одна. Деньги держите наготове. Тогда и купите у меня пленку. Но предупреждаю: без шуток. На всякий случай мы оставим себе фотографии, и если со мной что-нибудь случится, мой напарник найдет способ, где их пристроить.
Я очень опасно блефовал. Никакого напарника у меня не было. Но попал в точку. Мне вообще сильно повезло в тот первый раз. На следующий день в семнадцать десять я уже ехал на такси по Ленинскому проспекту подальше от того злополучного места. Помню, как оглянулся и увидел — Ленин протягивает в мою сторону руку, мол, отдай. Но погони не было. В кармане у меня лежала пачка «зеленых», сердце билось где-то в пятках, а в голове вертелось: «И никакая она не ведьма. Обычная самка, наложившая от страха в штаны».
Впрочем, и мои штаны только чудом остались сухи.
2
Есть писатели признанные, читаемые, любимые; есть писатели признанные, читаемые, но не любимые; есть писатели признанные, но не читаемые; есть просто непризнанные писатели. И последних легион…
Павел Заманихин принадлежал как раз к ним, истребляющим бумагу, считай — деревья, как жуки-короеды. Сколько ими, короедами, испорчено бумаги, чернил, карандашей, сколько потрачено на них времени серьезных занятых людей: редакторов, издателей, литконсультантов, которым хочешь, не хочешь приходиться читать бесконечные опусы этого легиона. Но грозил Заманихин! Грозил оторваться от себе подобных и потеснить настоящих писателей, как бы те того не хотели, — если не в первой группе, то во второй или хотя бы в третьей.
1 июня 199… года, в воскресенье, он проснулся с мыслью, что теперь-то он будет известен. Бывает же такое со смертными! Только вчера он, оператор котельной, крутил задвижки, регулировал давление пара на деаэраторе, включал и выключал бойлер, никому не известный, непризнанный, а сегодня о нем уже будет знать весь мир. Конечно, гипербола здесь раздулась, как только может она раздуться в голове человека с нездоровым воображением — в голове писателя, но повод для гордости у Заманихина действительно был. Вчера поступила в продажу его первая книга под названием «Мертвый фотограф». И пусть ему послезавтра снова идти на смену, пусть книга была задержана с выходом на два месяца из-за прекращения финансирования, пусть это всего сто девяносто две странички в мягкой обложке, пусть тираж лишь тысяча экземпляров — Заманихину этого было достаточно для удовлетворения авторского тщеславия.
Тщеславие, оно ведь такое разное. Одному хватит и случайной фотографии в районной газетенке, где угадывается лицо или вытянутая рука на дальнем плане; другому и целого мира мало.
Гонорар задерживали. Но пока Заманихина это не волновало. Что там деньги по сравнению с радостью славы! Главное — пробился. Казалось, предложи ему в издательстве за роман и несколько рассказов, что уместились в книжке, десятидолларовую бумажку, он и на это согласится. Раньше-то было одно разочарование да саркастическая ухмылка жены, стоило ему вместо гонорара получить по несколько экземпляров журналов с опубликованными в них своими рассказами. Три раза так и было. Три раза его рассказы брали литературные журналы — интересная, если задуматься, омоформа: Заманихин думал, что это его произведения брали приступом журналы, как какую-то недосягаемую литературную высоту, а в журналах, наверно, думали наоборот: «Возьмем рассказик, так и быть». Прямо как хрестоматийное «мать любит дочь», где непонятно, кто кого любит, или парадоксальное «бытие определяет сознание», где непонятно, что чего определяет. Что здесь было раньше: курица или яйцо?
С первым июня Заманихин связывал большие надежды. И речь здесь не о тщеславии. Уже год прошел, как Павел поставил в своем романе окончательную жирную точку. После этого он не смог написать ни одной достойной строчки. «Исписался!» — все чаще и чаще думал Заманихин с тревогой, грустнел, хмурился, перечитывал с отвращением только что сочиненное и рвал, рвал бумагу. Возникало еще предположение, что это просто лень, обычная мирская лень. И тогда Заманихин заставлял себя работать, корпел над листом, писал другой, но чувство отвращения не проходило. Не то, не то, — кричали мысли, лист мялся, разлетался на клочки, в упрямом усердии брался новый, и повторялось то же самое только с еще большим остервенением. Заманихин пытался настроиться, перед тем как сесть за стол, читал своих любимых писателей, но те только доказывали ему, кто здесь бездарность. В отчаянии он пробовал писать и по ночам, подражая кумирам, тоже сочинявшим по ночам, но получалось сотворить только рекордно продолжительную зевоту.
Заманихин хватался за одну спасительную мысль, на протяжении целого года всячески им лелеемую, уже давно всю обсосанную и облизанную: все дело в романе, — думал он, — пока роман не опубликуют, пока роман не увидит своего читателя, не сможет он, Заманихин взяться за что-то другое. Приятное оправдание. Со злостью Павел вспоминал, как легко сочинялся «Мертвый фотограф». Что называется «на одном дыхании», если бы не затянулась эта счастливейшая пора на полгода. Было такое чувство, будто кто-то диктовал ему абзац за абзацем, а Заманихин только и успевал записывать. Замыслы в его голове возникали один за другим, он ставил рекорд за рекордом, просиживая за письменным столом то шесть, то семь, то даже восемь часов в день. Немела рука, отваливалась, устав держать авторучку, а Заманихин никак не мог закончить писать, потому что идеи поступали к нему откуда-то, как на хорошем конвейере. И сколько их пропало, когда этот работяга от литературы, думая, что никогда уж теперь не забудет какую-нибудь мысль, конечно, важную, но в то же время и шальную, потому что пришла она к нему в туалете, начисто забывал-таки ее. Поэтому и на работе, и в метро, и дома, и даже в постели он то и дело хватал карандаш, записывая новую идею. А утром она удивительнейшим образом четко вписывалась в повествование — не прибавишь, не выкинешь.
Да, это было вдохновение! Как еще объяснить такую плодовитость? И вот после последней жирной точки, все кончилось, как отрезало. Если бы Заманихин мог проанализировать свои действия, глядишь, и понял бы причины. Тогда, окончив роман, он взял продолжительный писательский отпуск: сначала просто отдых, затем ремонт квартиры, потом поездка в Воронеж к теще на блины. И в результате за те четыре месяца, в которые Заманихин и ручку-то брал всего несколько раз, огонь сочинительства, так сильно раздутый и надежно подпитаный топливом во время создания романа, благополучно потух. Не осталось ни одного хоть слабо тлеющего уголька.
Но тогда казалось, что отдых ему был нужен. После романа он был измучен и выжат до последней капельки-слова. Он устал так, что не мог смотреть на свою книгу, пока еще в рукописном варианте. Но усталость эта была такой приятной, удовлетворяющей, как после секса. И никакого повода к беспокойству не было. Зато потом Заманихин почувствовал себя импотентом. Не тянуло его даже садиться за стол и брать ручку, как некоторых несчастных счастливцев не тянет к женщине. Вот тогда-то в его голове и укоренилась мысль, что все это из-за его детища, из-за романа, рожденного, но не пристроенного. Павел перестал писать, чтобы не мучить себя теми страничными выкидышами, которые неизменно оказывались на полу измятыми или изорванными.
Роман требовал, чтобы его напечатали, роман хотел превратиться в книгу. Заманихину пришлось расшибиться в лепешку, но сделать это. Как ему удалось напечататься — другая история. Мне сейчас не до этого. Мне рассказать бы, какие ужасы ждут его впереди.
И вот теперь, когда роман напечатан, никаких послаблений быть не должно. Теперь надо садиться за стол и работать. Заманихин тихонько выскользнул из-под одеяла, чтобы не разбудить жену.
— Куда ты? — спросонья взглянула она на часы. — Еще рано…
— Ты спи, Надюша, спи…
Ее не надо было уговаривать. Она тут же раскинулась на всей кровати.
Заманихин умылся, торопливо позавтракал и сел тут же, на кухне за стол, положив перед собой чистый лист бумаги. Бумага и ручка были приготовлены еще с вечера. Закурил, задумался.
Стоит ли портить этот лист, который в ожидании разлегся перед ним. Заманихин думал, что сейчас слова польются легко и просто, как раньше, будто и не было этого бесплодного года. Но белый лист кричаще сверкал, не давая сосредоточиться.
Еще с вечера он решил, что начнет этот прорыв с небольшого рассказика о том, как один человек, отказавшись пойти на антиядерную демонстрацию, смотрел футбол по телевизору. Трансляцию матча вдруг прервали экстренным сообщением о ядерном взрыве. Человек этот недоуменно смотрел по телевизору, как приближается взрывная волна, а потом воскликнув: «А как же футбол?!» — подошел к окну и в последние секунды жизни увидел взрыв воочию. Но теперь Заманихин испугался: он знал, о чем писать, но не знал как. Вдруг слова, косноязычно брыкаясь, сложатся не так, как нужно, лягут не в те сочетания и тогда… Страшно подумать! Лист будет скомкан.
Заманихину было жалко замысла.
Надо расписаться. Надо попробовать записать свои мысли, чтобы снова почувствовать вкус вдохновения, а потом пойдет, само пойдет, он знал это по «Мертвому фотографу». Но о чем тогда писать? О себе? Что можно написать о себе, когда жизнь скучна и размерена до отвращения. С детства Заманихина мучила жажда приключений, да так и осталась неутоленной. Потому и стал он писателем: воображение увлекало его куда как дальше, чем был он сам.
Он посмотрел в окно, в ту даль, которая его всегда манила. Там, за высотными домами белели остатки вчерашних облаков. Выше было чистое небо. Насколько оно высоко? Попробуй-ка описать его высоту всего несколькими мазками, как это сделал Толстой. Заманихину захотелось прочитать это место, но «Война и мир» стояла на полке в той комнате, где спала Надя. Пришлось отложить. Заманихин прислушался. Через открытую форточку доносилась с улицы воробьиная возня, да однообразно вжикала по асфальту дворницкая метла. Вот она — жизнь: размеренные взмахи метлы. А если захочешь действия, движения вперед, то эти взмахи только лишь участятся. И щебет воробьев — тот же наш бессмысленный лепет, иногда тише, иногда крикливее…
Вдруг у Заманихина наконец-то возникла первая путевая мысль. Он попытался ее развить, бросил в пепельницу очередную сигарету и застрочил: «Есть писатели признанные, читаемые, любимые…»
Он писал о себе и не утешал себя мыслью, что пишет только для себя. Утверждающий это — лжец. Если только писатель не кокетничает, если не обманывает самого себя, то никогда он не скажет, что творит из-за зуда в пальцах. Любой писатель пишет только для того, чтобы его читали, как композитор сочиняет музыку для того, чтобы ее слушали, а художник пишет картины, чтобы на них смотрели.
Заманихин расписался, и какое-то время его мысль было не остановить. Так он незаметно проскочил страничный рубеж и погнал мысль дальше. Но вдруг опять, как отрезало… Вроде бы закончил абзац, и тут пришли воспоминания — паразиты, как и мечты, отвлекающие от творчества. Стоит что-то вспомнить или праздно замечтаться, и тут же разрушается стройный процесс созидания. Сейчас Заманихин вспомнил, как вчера поссорился с женой. Вернулся со смены, а дома никого, ужин не приготовлен. И тут она вваливается, довольная, счастливая. Где была — молчит, улыбается, придумывает на ходу и придумывает неудачно: «Гуляла». Потом бессонная ночь, ревность — какое тут может быть творчество!
Вся их беда в том, что у них нет детей. Ходили вместе на обследование, выяснили, что все дело в нем, в Заманихине, и в его наследственности. Что-то там у него еще не созрело. Вот и сам он был у родителей единственный поздний ребенок. Но они-то ждали, надеялись… А Надя…
И тогда воспоминания уступили место мечтам. О новом белом листе Заманихин забыл. Решено (и все обдумано было давно): бросить в рюкзак самое необходимое, взвалить его на плечи, сесть в первую попавшуюся электричку и путешествовать. Сейчас начинается лето — будет тепло, с работой договориться легко — летом в его котельной можно взять отпуск за свой счет. Дождаться только гонорара за книгу — дадут его на днях — и в путь! Ничего не держит, все сошлось: лето, нелады с женой, творческие мучения и даже лишние деньги. Все, все, решено! Вперед за приключениями!
Заманихин совершенно новыми глазами посмотрел на то, что успел написать за это утро и начал рвать листы со словами:
— Не то! Не то! Все не то!
Но рвал он на этот раз без привычного остервенения, рвал он с уверенностью человека, знающего, что ему делать дальше.
3
Символично, что первой моей жертвой стала женщина — далекая праправнучка той, что невинно сорвала яблоко. Не так ли, Господи, и Ева, совершив грех, потащила за собой Адама. И если дьявол по отношению к ней — искуситель, то она — искусительница по отношению к мужчине. Что ей, этой Ирине, стоило подойти к окну и задернуть шторы. Да, она не догадывалась обо мне, не предвидела возможные последствия, но и Ева думала ли, что ее ждет.
Я целиком ушел в захватившие меня планы. Так игрок, нашедший бумажник, с горящими глазами спешит в казино, чтобы умножить свое случайное состояние, пока снова не останется ни с чем. У меня теперь тоже горели глаза, но рассудок был дьявольски холоден. Когда совершаешь первый дурной поступок, сразу же отодвигаешь в сторону и мораль, и совесть, а вместе с ними вдруг сама собой исчезает та благородная горячка, которая так мешает деятельности ума.
Первым делом я выработал правила, которые должны были уберечь меня от случайных губительных неудач. Во-первых, ни в коем случае не снимать на фотоаппарат возле своего жилья: лучше сиди дома, смотри телевизор, если лень смотаться на другой конец города. Во-вторых, никогда больше не встречаться со своими клиентами лично: есть ведь почтовый ящик для фотографий, уличный таксофон для переговоров, автоматические камеры хранения на различных вокзалах для получения денег. В-третьих, никогда не возвращаться на место удачной съемки: зачем зря рисковать, когда город так велик. Я приобрел уголовный кодекс и увлекся чтением криминальной хроники в газетах. Все это могло пригодиться для поиска клиентов. Раньше меня это мало интересовало — сам ведь газетчик, такого насмотришься через объектив камеры, что на чтение не остается ни капли желания. Но я и не представлял, что у нас в стране, да и не только у нас все до такой степени запущено. Мир катится в пропасть. «Есть ли хоть один честный человек на этом свете?» — спрашивал я себя. И тогда же в голове у меня зародились странные на первый взгляд мысли — зачатки стройной, объясняющей все теории.
Теперь каждый вечер, свободный от основной работы, и добрую часть ночи я проводил на крышах или на верхних этажах лестниц у окна. Недоразумений с особо бдительными жильцами или с милицией я не боялся — в кармане у меня лежало мое подлинное удостоверение фотожурналиста известной газеты. Вокруг меня орали коты, возбужденные весенним распутством; звезды равнодушными аргусовыми глазами сторожили землю; мир был погружен во тьму, но не спал. Люди включали свет в своих жилищах, забывали закрыть при этом шторы, ссорились, любили друг друга, нарушали закон у меня на глазах, даже не подозревая о моем существовании.
Первые несколько вечеров не принесли мне никаких результатов, но я не отчаивался, понял — ремесло, выбранное мною не из легких, и просто так никто не будет отдавать мне свои деньги. Но вот, наконец, рыбка клюнула. Она была маленькая и сорвалась в итоге, но все-таки, проводя аналогию между собой и рыбаками, я был рад: значит, клюет!
Как-то я наблюдал за большим кооперативным домом с крыши соседней «хрущевки». Потихоньку у меня вырабатывались навыки во многом нового для меня ремесла, и я отмечал про себя мельчайшие изменения за окнами, которые вскоре могли мне пригодиться. Вот в одной квартире ссора с битьем посуды, вот в другой — женщина оголила перед зеркалом свою неплохую, в общем-то, задницу, вот мужчина с цветами оказался на позднем вовсе не деловом ужине, вот родители на ночь глядя собираются куда-то уходить, оставляя дома одну дочку лет так семнадцати, вот они ушли…
Я задержал внимание на этой последней квартире, потому что тут же, после ухода родителей, девушка бросилась к телефону. Любая деталь была мне важна…. Но нет, прокол. Девушка, быстро наговорившись, выключила свет. Побежала, наверное, к своему милому, пока родителей дома нет.
Я продолжал наблюдение. Сколько я насмотрелся тогда человеческих непотребств, прежде чем нажать на спуск своей камеры. И не всегда ведь снимал. Юноша, сидящий перед телевизором — голубые блики так и прыгают по возбужденному лицу — играет сам с собой в игру, испортившую доброе имя мифическому Онану. Некое подобие любовного треугольника: молодая женщина обнимает пожилого мужчину и за его спиной делает рукой успокаивающий жест молодому человеку, который сидит на диване, мол, не ревнуй, подожди. Вечеринка в заключительной стадии: выключенный свет, и только цветомузыка ритмично выхватывает из темноты копошащиеся пары — уже никто не танцует, уже не до этого.
Воображение у меня достаточно развитое, чтобы домыслить все эти сцены до конца. Не надо и помощи Асмодея. Люди во славу удовольствия с легкостью приносят в жертву свою нравственность. «Как бы ни напоминали все эти писателишки в своих нравственно-воспитательных романах, что стыдно не только то, что видно, видно гораздо больше, чем кажется, и мне всегда найдется работа», — думал я.
Именно в этот момент, Господи, я был в таком заблуждении, что мне в голову пришла сумбурнейшая мысль, облекшая мое новое ремесло в стройную, как мне тогда показалось теорию. Решил, что я стал тем самым человеком, который способен изобличать людские пороки совершенно другим, действенным способом, чем до этого был у писателей. Да кто их сейчас и читает! Что толку молоть и перемалывать в общем и в целом. Надо действовать так же, как НАТО во время «Бури в пустыне»: меткими точечными ударами. Но и это не все. Работая в газете, я ведь тоже изобличал, и только теперь понял, что не было от этого толка. Фотографию печатали в газете на всеобщее обозрение, и человек, загнанный в угол глазом моего фотоаппарата, был обречен. Ему уже нечего было терять — на нем поставили клеймо негодяя. Психология тут проста: если тебя назвали негодяем, значит, ты негодяй, но если тебе пока только намекнули, что ты «как негодяй», у тебя еще остается шанс на исправление. Никто ведь пока не знает о твоем пороке, кроме какого-то одного единственного фотографа, владеющего компроматом. Тем более расплачиваться надо не честью, не свободой, не здоровьем, не жизнью, чего у каждого имеется только в одном экземпляре, а тем, чего у человека всегда много — деньгами. Деньги — дело наживное.
Может быть, в этой моей теории полно банальностей, но тогда, пронесшись у меня в мозгу, как ураган, ломающий все этические преграды, она оставила после себя успокоительную обоснованность моих поступков. В конце концов, все идеологии основаны на банальностях.
Не знал я раньше на практике, что обычная идеология может прибавить энтузиазма. «Жить стало лучше, жить стало веселей». Я еще усердней заводил биноклем. И откуда только появилась у меня усидчивость? Право, не только наперсники Твои, Господи, исполнены терпения, но и у дьявола есть это грозное оружие.
Загорелся свет в одном окне, и это сразу привлекло мое внимание. «Хорошо, — подумал я тогда, — начинаю реагировать на малейшие изменения — вырабатывается профессионализм». Окно было знакомое — вернулась домой та девушка, у которой ушли родители. Торопливо сняла куртку прямо в гостиной, бросила ее на кресло и исчезла в комнате, окна которой выходили на другую сторону дома. Ее поспешность показалась подозрительной. Если предположить, что она, например, повздорила со своим милым, то ей некуда было бы торопиться: не спеша, вошла бы в комнату, включила свет и села, может быть, прямо в куртке в кресло; уставилась бы в одну точку и думала, думала, думала о своей тяжелой девичьей судьбе. И потом, где я встречал такое выражение лица? Хаотично бегающий взгляд никак не вязался с безразличием опущенных уголков губ, бледная аристократичность впалых щек — с дрожащим подбородком и вялыми безвольными губами. Все это не укрылось от меня и сильно заинтриговало. К счастью, девушка снова появилась в гостиной, и все разъяснилось. В руках у нее был шприц. Она держала его высоко на отлете, как медсестра, которая уже готова ввести его в тело больного и ждет, когда тот расслабится. Я тут же вспомнил, где видел такие лица.
Это было, когда я делал для газеты фоторепортаж о наркоманах, специально ездил в клинику. О, их умоляющие лица! Они навсегда останутся в моей памяти: искусанные до крови губы, бесноватые, горящие глаза, жажда, неутолимая жажда в них — и у тех, что прибыли недавно, еще не осознав даже до конца, где они находятся, и еще более у тех, кто уже начал лечение.
Дальнейшее я наблюдал через видоискатель фотоаппарата. Девушка села в кресло, сбросив на пол куртку. Я заметил, что она пыталась расслабиться, но ничего у нее не получалось. Организм требовал вожделенную манну, организм чувствовал ее близость, организм торопил — судорога корчила тело. Наконец, девушке удалось закрутить карандашом резинку выше сгиба локтя, чтобы он не раскручивался. Она неумело прижала его подбородком и, застыв в таком неудобном положении, вонзила иглу…
Снимки получились хорошие, «Зенит», верный, молчаливый, не подвел — все было видно до мельчайших подробностей, вплоть до черной резинки и карандаша. На одной фотографии даже игла, нацелившаяся в ручейки разбегающихся вен, торжественно блеснула отраженным светом люстры. А вот другой снимок, который стоит оставить себе на память, как триумф творца, остановившего мгновение — «Портрет в кайфе»: раскрутившаяся резинка на безжизненной руке, гримаса блаженной улыбки, белки закатившихся глаз, расслабленные ноги, тонкие, девичьи, раскрывшиеся, как цветочный бутон.
Много денег я просить не собирался — не тот случай. Откуда у нее, девчонки, наркоманки, скрывающей свою тайну от родителей, могут быть деньги. Я просто хотел проверить свою новую теорию.
Утром, выяснив через справочную номер телефона, я зашел в подъезд того дома, с которого ночью вел наблюдение, поднялся на последний этаж и заглянул в окна напротив. В гостиной и на кухне, как и вчера, занавески не закрывали мне наблюдение. Было, как сейчас помню, воскресение. Наверное, девушка еще спала, а родители так и не появились. Я опустил в почтовый ящик вычисленной квартиры конверт с самыми сочными фотографиями и направился к ближайшей телефонной будке. На мой звонок долго никто не отвечал, но я ждал — знал ведь, что она дома. Наконец, раздалось сонное детское «алё».
— Девушка, к сожалению, не знаю, как вас зовут, — не удержался я, чтобы не съехидничать, — но точно знаю, что в вашем почтовом ящике документы любопытные для вас. Поторопитесь их взять, пока этого не сделал кто-нибудь раньше. А я перезвоню через десять минут.
Я перезвонил через полчаса. «Пусть она поволнуется», — думал я, хотя и сам сгрыз все ногти на пальцах. На этот раз бедная девочка взяла трубку после первого же гудка.
— Эта пленка стоит тысячу долларов, — сразу же объяснил я ей.
— Тысячу долларов?! У меня нет таких денег!
— Уж потрудитесь найти. Поверьте, это очень низкая цена за такие красивые фотографии. Я делаю лично вам огромную скидку исключительно из-за вашей привлекательной внешности. Любая газета отвалила бы гораздо больше, но что скажут ваши родители?
— Но где мне взять столько денег?! — жалобно воскликнула она. Право, наивность этого юного создания умиляла.
— «Где-где»… Где хотите! — ответил я холодно на ее дурацкий вопрос. — Я позвоню вам через два дня. Кстати, скажите все-таки ваше имя, вдруг мне придется позвать вас к телефону.
Без капли жалости я повесил трубку. Я не забывал, что искореняю порок. Я уже упоминал, кажется, что так никогда и не увидел этой тысячи. Вскоре у меня появились клиенты посерьезней, и такая незначительная сумма не играла для меня никакой роли. Но я все равно частенько напоминал о себе той девочке. Я производил точечное бомбометание. Я названивал примерно два раза в неделю, так что родители — кстати, довольно состоятельные — подумали, наверное, что у их дочери появился серьезный настойчивый поклонник, вежливо просивший позвать их Светочку к телефону. А она боялась разреветься от страха, разговаривая со мной на незначительные темы. Знали бы ее родители, что я сделал для их семьи, сами бы раскошелились от счастья. Убежден, эта девочка меня не обманывала: вскоре она излечилась от своего недуга, и тогда я перестал ее беспокоить. Только этого мне и надо было. Светочка, сама о том не догадываясь, доказала исключительную правильность моей теории. Я уверился, что способен излечивать человеческие пороки.
4
Надя проснулась от шума — опять у Паши что-то там не получается. Она слышала, как он раздирал свои листы на кухне и кричал: «Не то, не то!»
«Чтоб он их все порвал! И те, что в столе заодно, — подумала она с набухающим шаром раздражения в горле, готовым превратиться в крик. — Надо же — воскресенье, завтра на работу. Хоть один денечек выспаться, хоть раз пробудиться оттого, что выспалась».
Но тут же она окончательно проснулась, и эта тяжелая мысль провалилась в небытие, уступив место другой — легкой, радостной, завладевшей и головой, и душой, и даже телом — так сладко ╜Надя потянулась. С удовольствием вспомнила о вчерашнем вечере. Теперь все у нее должно быть по-другому — прежняя жизнь была лишь прелюдией, тягостным ожиданием. Теперь она поняла: все эти радости детства, нелепые влюбленности, да даже и любовь к Павлу, свадьба — ничто по сравнению с охватившим ее счастьем. Не испортил настроение даже пытавшийся вчера поссориться муж. Экая беда! Ужин ему не приготовили! И даже не так — ведь полон холодильник! — просто не разогрели ему и на стол не подали. Какие мы баре! Пусть теперь помучается, поревнует. Смешно — сидит сейчас, рвет свою бумагу и ни о чем не догадывается. Конечно, ей не долго удастся скрывать свою тайну, она это знала. Слишком была счастлива, чтобы что-то скрывать.
Самое интересное, что это свое состояние счастья она давно уже знала, или скорее изучала по учебникам еще на студенческой скамье. Она психолог — пять лет института, четыре — за работой. Казалось, для нее уже не осталось тайн в человеческой душе, а вот, пожалуйста — стоит увлечься жизнью, как тут же забываются все эти ученые теории, и только потом вспоминаешь, что сделанного не воротишь.
Тайна…. Опять смешно! Больше всего ей сейчас хотелось смеяться. Не было бы никакой тайны, если бы он вчера так себя безобразно не вел. Понятно, устал на работе, пришел злой, голодный, но ведь можно хоть чуточку прислушаться к Надиному крику души. Все, что он уловил — это счастье, написанное на ее лице, и сразу сделал свои дурацкие выводы, приревновал.
Много ли у нее было тайн от мужа? Нет. Просто она иногда не все ему рассказывала, считая пустым и неинтересным. Разве можно это назвать тайной? Как-то еще тогда, когда они ходили в женихах-невестах, Павел поведал о своей юношеской любви, наивной, детской, но Наде почему-то было неприятно об этом слушать — ревность что ли. И тогда она вполне резонно решила, что раз ей неприятно, то и ему не к чему знать, а потому промолчала, отшутилась, когда Паша спросил о ее прежних любовных увлечениях. Разве это тайна? «Пусть, пусть помучается, — думала Надя, — сам виноват». Только она вошла вчера, как он набросился: «Где была? Что делала?» — и ужасный вопрос недоверия: «С кем?» А у нее уже готова была сорваться с языка главная новость, но после таких вопросов Надя чуть ли не зубами схватила ее, радостную, правда, схватила — сжала зубы, промолчала и только потом, после долгой паузы процедила: «Гуляла». Не солгала ведь! И больше никаких объяснений. «Пусть я одна пока буду счастлива. Пусть он мучается».
Но надо было мириться. Все-таки и она чувствовала себя чуточку неуютно. Ведь скажи она все сразу, и не было бы никакой никчемной ссоры.
— Паша! — позвала она мужа.
Он тут же перестал рвать свою бумагу, притих.
«Не самое удачное время, он сейчас взбешен. Ну да ничего. Последнее слово будет за мной», — подумала Надя и крикнула еще раз: — Паша, иди сюда.
Заманихин откинул свои листки, с которыми застыл, когда Надя позвала его, и вошел к жене. В комнате еще удерживалась ночная тьма, прячась за плотными занавесками. Он с силой двумя резкими движениями раздвинул их. Свет бесшабашно ворвался в комнату, ударился в зеркала трельяжа и рассыпался, разукрасив цветом обои. Надя зажмурилась.
— С добрым утром, — сказал Павел, сел на край кровати и добавил, но как-то непривычно, сухо: — Мне надо кое-что тебе сказать…
— Мне тоже.
— Давай я скажу первый.
— Думаешь? Может, я?
И оба они тут же замолчали, потому что у обоих одновременно в голове пронеслись тревожные мысли:
«Я должен сказать первый. Зачем мне слушать о ее любовниках. И что еще она может сказать».
«Я должна сказать первая. Иначе разрыв. Он в ярости не сдержится, а я опять сожму зубы и промолчу».
Они разом, синхронно открыли рот, но заговорил один Заманихин, потому что успел резким неуловимым движением положить ладонь жене на губы.
— Я долго не мог вчера заснуть, — начал он издалека, благо теперь его нельзя было перебить, — лежал, думал, и мне показалось, что я должен…
— Подожди! — вырвалась Надя, схватив его за руку своими маленькими ручками. — Все-таки я скажу первая! Потому что я должна была сказать это еще вчера, и… — борьба, — потому что это всего несколько слов…
— Я не собираюсь слушать о твоих…
И опять тяжелая мужская рука потянулась к ее рту. Надя зажмурилась и выпалила:
— У нас будет ребенок…
Немая сцена из «Ревизора», где Заманихин оказался и городничим, и почтмейстером, и Бобчинским с Добчинским в одном лице. Чего-чего, а этого он услышать не ожидал. Да, он хотел, ждал ребенка, но не знал, что это произойдет так, почти на грани разрыва.
Надя открыла глаза. Муж глупо улыбался.
— Что же ты раньше молчала?
— Когда «раньше»? Вчера только все точно подтвердилось.
— Вчера и надо было сказать…
— Я хотела…
— Хорошо хоть — хотела…
— Но у тебя было слишком плохое настроение. К тому же ты совсем перестал интересоваться «праздниками» жены. Я думала, опять задержка, пошла вчера к врачу, и все подтвердилось.
— Так ты вчера была у врача?! А сказала: «гуляла», — в словах Заманихина слышался упрек.
— Да, гуляла. Я вышла из консультации, еще было рано, и можно даже было успеть домой к твоему приходу, если на трамвае. Но, извини, в тот момент я совсем забыла о тебе. Я была так счастлива, что пошла домой пешком. Знаешь, мне теперь надо больше гулять, дышать свежим воздухом. Я прошла через парк…
— И это мой ребенок! — Заманихин бросился головой на живот Нади, и то ли это было восклицание, то ли — вопрос, она не поняла, но исполнил он это довольно картинно, как в многочисленных фильмах, в которых осчастливленный муж узнает о беременности жены.
— Тише ты прыгай! Раздавишь, — выдавила от неожиданности Надя. Но когда муж поднял голову, лицо его действительно светилось от счастья. «Может, так и должно быть», — подумала она. А Заманихин тоже прислушивался к себе, вглядывался в себя как бы со стороны, и тоже чувствовал избитость своих действий, но ничего поделать с собой не мог — он не притворялся, просто так получалось.
— А что хотел сказать ты? — спросила Надя.
Заманихин отвел глаза в сторону.
— Да так, ерунда, ничего особенного…
«Все понятно. Хорошо, что я успела сказать первой», — подумала Надя и промолчала, не стала настаивать на подробностях, за что Павел был ей очень благодарен. Теперь ради своей жены он был готов на любые подвиги, и она не преминула этим воспользоваться: для начала завтрак был подан в постель.
Она неторопливо ела бутерброд, то и дело отпивая кофе с молоком, и смотрела на мужа. Он сидел на краю кровати и тоже не спускал с жены свой радостный взгляд. Но только какое-то время. Потом глаза его опустились, и он уставился — пока все еще радостно — в одну точку: то ли на край подноса, то ли на один из бледных цветочков Надиной ночной рубашки. «Опять задумался», — мелькнуло у Нади, но она не стала мешать, как обычно это делала: надо было только пощелкать пальцами перед его носом. На этот раз ей стало интересно за ним понаблюдать. Вот с мысли о ребенке он переключился на что-то другое — сгорбился, нахмурился, радостный огонек исчез из его глаз. Казалось, он ушел внутрь себя, ищет там что-то впотьмах и не может найти. Ну и бесшабашность! Надя, например, могла теперь думать только о ребенке: мечтать, упиваться, наслаждаться — а он через каких-то пять минут уже переключился на что-то другое — значит, более важное для него. Ну вот, нашел, что искал! Глаза мужа опять просветлели, но уже не тем счастливым пустым огоньком, а по-другому, как будто отразилось в них золото — грязный, зеленый, требующий еще огромной работы золотой слиток, найденный старателем. «Сейчас сорвется», — успела подумать Надя, и точно: пробормотав невнятные извинения, он подскочил к письменному столу и вытащил свое сокровище — толстую от вложенных дополнительных листиков, испещренную чернилами и грифелями карандашей, с жирными следами пальцев, покоробившуюся в одном месте от пролитого кофе бесценную записную книжку.
«Писатель обязательно должен быть хорошим актером, ибо, не поставив себя на место персонажа и не разыграв до всех тонкостей всю его роль, нельзя проникнуть к нему в душу», — записал Заманихин.
Действительно, как Надя и думала, Павел смотрел на нее и радовался новости о ребенке, но затем он стал прислушиваться к ощущениям внутри себя, новым неведомым. Он вспомнил, как только что он смешно, но впрочем, искренне бросился Наде на живот, проанализировал эти эмоции, и тут уже было недалеко до сравнения с актерской игрой. Расскажи, Заманихин, жене! Она — психолог, она объяснит.
— Надя, я как будто играю какую-то пьесу. Я не могу отключить свой рассудок, он точно со стороны, как, знаешь, театральный критик в партере, наблюдает за моими чувствами. И чувства мои всего лишь игра для него. Что со мной?
— Это не игра, — отвечает Надя, — просто так устроен твой ум. И не только у тебя, а у многих людей искусства, у тех же актеров, например. Разум у вас не перестает работать во время избытка чувств, как бывает у обычных людей. Разум пытается оставить все в памяти: вот так, мол, случается, когда человек узнает о рождении ребенка, а так — когда человек видит смерть. И всегда вы, писатели, и в радости, и в горе, в ситуациях экстремальных и самых бытовых продолжаете заниматься своей писательской работой — наблюдением.
Так могла бы ответить Надя, психолог по специальности, если бы Заманихин ее спросил. Но он не спрашивал, он вообще не разговаривал с ней о литературе, потому что чувствовал — ей это было не интересно. Вначале, бывало, пустится объяснять жене что-нибудь, а она быстро и тактично переведет разговор на другую тему. И тогда он привык домысливать эти разговоры о литературе сам. Думает, что бы могла ответить Надя и отвечает за нее.
Вот и сейчас ничего ей не сказал, а вроде как бы и поговорил с ней. И о путешествии, конечно, теперь ничего не скажет. Путешествовать и искать приключения он по-прежнему будет только в своем воображении. Так думал он, но я-то знаю, что совсем скоро он перестанет мечтать о приключениях и даже больше — возненавидит их.
5
Господи, неужели Ты не видишь, как они грешны? Зачем Ты, строгий и принципиальный, дал себе обет не устраивать больше потоп? Взгляни через мой бинокль, и Ты ужаснешься. Неужели Твои создания надоели Тебе, и Ты повернулся спиной к миру. Или Ты придумал для себя новую, более совершенную и послушную игрушку, о которой мы ничего не знаем?
Только посмотри: половина окон в любом доме наглухо закрыта шторами. Сколько же за ними нехристей, предусмотрительных и коварных. Мне же попадаются лишь олухи царя небесного… Прости меня, Господи.
Из-за этих то самых олухов, ротозеев, ворон я и сам расслабился. Это свойственно дуракам — почувствовать себя умнее всех. Тогда и совершается глупость: забываешь завесить шторы, как мои клиенты, или забываешь о рамках вседозволенности, как я. Дуракам не свойственна осторожность.
Но все это будет потом. А пока я с легкостью и даже с любовью занимался своей новой работой. Выбор между журналистикой и новым делом был недолгим. Стоило оформиться моей теории, стоило возникнуть маломальскому конфликту в газете, и я стал свободным художником.
Главный редактор, этот мягкий хлеб в руках своих хозяев, опять зарезал несколько моих лучших снимков. Но я ждал этого, я знал, что так и будет, а потому был готов. И стоило мне только услышать от завотдела, что не включили в номер мой фоторепортаж о жизни ночного города — то, о чем я еще мог снимать — я вскипел. Масла в огонь подбавила новость, что вместо этого репортажа, оказывается, напечатали какие-то полу рекламные снимки с какой-то бомондной вечеринки какого-то нового выскочки-папараци.
Я ворвался в кабинет главного редактора, когда у него сидели два денежных мешка, судя по их виду и поведению. «Вот бы их поймать в мой видоискатель», — мелькнула у меня мысль. Я тряс номером газеты и кричал, но главный редактор, наверное, привык к таким эскападам. Он спокойно выслушал меня и так же спокойно указал на дверь. Ну что же, хлопнул я дверью, раз на нее указывают. А когда-то, помню, мы с этим человеком вместе боролись за свободу слова. Что теперь с ним стало? Где теперь хваленая свобода?
Потом, ближе к вечеру, меня поймал завотдела, порядочный вроде мужик, и раскатал с подачи главного редактора. В конце такой веселой беседы намекнул:
— Ты плохо выглядишь. Я бы на твоем месте завязал с этим делом.
Я удивился, о чем это он. Тому пришлось выразиться яснее:
— Бросай пить, иначе можно потерять работу.
Я рассмеялся ему в лицо. Господи, Ты свидетель, давно уже не было спиртного у меня во рту. Выглядел я, действительно, неважно. Все-таки не мальчик — полночи сидеть на крыше, а с утра бежать в редакцию. И я решил лучше бросить работу.
Наконец-то я ощутил какое-то подобие свободы — так, верно, чувствует себя разбойник в лесу. Ничто не связывало меня, ни от кого я не зависел и никому не был обязан. Требовались только собственная ловкость и хитрость. На вопросы о новой работе, я отвечал, что подрабатываю художественной фотографией, которой всегда мечтал заняться вплотную, и занялся-таки, потому что стало намного больше свободного времени и, кстати, нужных для этого денег. Вот таким стал я: днем — человек искусства, ночью — обличитель человечества. Так и разбойник, благородный разбойник, ночью берет топор, которым днем рубил дрова.
Дело мое разрасталось. Моя увлеченность и обилие материала натолкнули меня на мысль о систематизации. Я завел картотеку. Пленки я продавал, но оставлял себе по экземпляру фотографий, сложенных аккуратно в конверты, с указанием на них адреса, телефона и других данных, которые удавалось узнать.
Может быть, это было нечестно по отношению к моим клиентам, но совесть не грызла меня. В конце концов, они все для меня были враги. И если я когда-нибудь попадусь, — думал я тогда, а у меня не было иллюзий на этот счет — это будет, — то пусть они все горят синим пламенем вместе со мной.
Я стал заядлым коллекционером. Накопительство — болезнь многих, и отныне я тоже коллекционировал два сорта вещей: валюту в банке и толстенькие конверты с фотографиями. Но если первое собирал не я один, то второго такого ни у кого не было. В своей мании я дошел даже до того, что расположил конверты в длинном ящичке в алфавитном порядке, перемежая их картонками с нарисованными жирными красными буквами — прямо, как в какой-нибудь картотеке. Здесь у меня были неверные жены и мужья, проститутки и их сутенеры, гомосексуалисты; был один совратитель малолетних, без страха заманивавший к себе домой беспризорных детей; был один продавец наркотиков, на которого меня навела, о том не догадываясь, та девчонка-наркоманка, Светочка. Была даже одна группа самогонщиков-профессионалов — моя гордость, которых я подловил на зацепившейся за что-то шторе. Большинство из них нехотя, но раскошелилось, другие дозревали. Картотека моя росла, собирая все новые и новые лица, самодовольные, порой улыбающиеся, еще не ведающие обо мне — об опасности. Да я был их опасностью, их забытой совестью, их судьбой.
Улов был огромен. Но в своем азарте я теперь жаждал не количества, а качества. Каждый настоящий рыбак предпочтет десяти худым плотвичкам одного жирного леща. Так и я мечтал о настоящих воротилах. Нет, об акулах бизнеса я не говорю, но сколько подлецов рангом пониже можно вывести на чистую воду. Страна на распутье, страна обрастает новым классом — буржуазией — одно это слово отдает нечистым душком. И дураку понятно, что честно нажить деньги можно только на холодильник, или на сарай за сто один километр от города, или на старенький дребезжащий «Москвич». Но люди катаются на «Мерседесах», строят трехэтажные особняки за городом, и все это выглядит нормальным, естественным, не вызывая даже и тени сомнения у налоговой инспекции. Сколько получает депутат, если он через три месяца после избрания оставляет на домработницу свою немаленькую государственную квартиру и перебирается в новую дачу-крепость о трех этажах, если не считать еще башенок сверху? Какова зарплата начальника районной налоговой инспекции, бюджетника, который, гнушаясь государственной «Волги», разъезжает на новенькой иномарке? Подержать бы их за жабры, чтобы вместо самоуверенной наглости, вместо административного восторга появились страх и мольба в их бесстыжих глазах. Знал ведь я что можно трясти их мошну, но не знал — как.
Меж тем в городе заговорили о хитром и умелом шантажисте. Поговаривали, что от фотоаппарата этого шантажиста не может укрыться ни один пройдоха, поговаривали, что он не знает пощады, поговаривали даже, что он заставляет своих жертв переводить деньги на счета детских домов. Ну, это уж брехня! Впрочем, народ понять можно, народ всегда придумает себе очередного Робин Гуда. Об этом рассказал мне бывший товарищ, один журналистишка из моей газеты.
— Вот бы повстречаться с ним! — добавил он.
— Зачем? — встрепенулся я, про себя подумав, что и тебя, журналистишку, можно смело зацепить на крючок, да толку маловато — грязных дел-то за тобой накопать можно много, а денег у тебя почему-то не прибавляется.
— Как «зачем»? — воскликнул журналист. — Интервью бы взять. Вот сенсация — сразу в ближайший номер попадет.
— Так зачем тебе с ним лично встречаться?
Журналистишка сразу меня понял. Мало что ли у него было сфабрикованных интервью, которые он написал, не поднимая зада с редакционного стула.
— Воображение что-то подводить стало, — ответил он, — материала-то маловато.
— Ерунда! Давай вместе. Я напишу, добавлю интересные фотографии, якобы им снятые, а ты отредактируешь по своему усмотрению. Развернем на всю полосу. Гонорар пополам.
Честно говоря, Господи, меня тогда так и подмывало изложить людям свою теорию. Чего уж проще — через газету. Но этот негодяй отказался. Жалко, наверное, стало половины гонорара. Да не мог я половины не попросить — подозрительно. Побежал он, мелко переступая своими короткими ножками, в редакцию воплощать мою идею без моей теории. Что он знал! Ну да ладно, у меня тогда и без того дел хватало.
Развернувшееся дело требовало и вложений. Купил себе машину, неприметную среди навороченных иномарок «шестерку». Меньше всего мне хотелось погореть из-за того, что кто-нибудь обратил бы внимание на красивую тачку и запомнил ее. А машина была мне нужна как воздух, и выходило дешевле, чем тратиться на дорогостоящие ночные такси. «Шестерка» попалась хорошая: не новая, но проверенная, находившаяся, должно быть, в хороших руках. Единственное, что я сделал — это затонировал все стекла, чтобы можно было незаметно фотографировать прямо из машины.
Мысли о покупке нового фотоаппарата даже не возникло. Хороши, конечно, «Никон» или «Кодак», но верный «Зенит» был, на мой взгляд, надежнее. Все гениальное просто — это о нем. Знал я там каждый винтик, не раз разбирал и ремонтировал, так зачем же мне что-то другое. Слишком патриотично? Ну и что.
Квартира новая, шикарная мне тоже была ни к чему. Это уже опасно. Хватит того, что я уволился с работы и, тем не менее, купил машину. Зарываться не надо. Да мне и своей однокомнатной было достаточно. Тем более, с этим местом у меня было связано слишком уж много светлых воспоминаний, о которых я еще расскажу.
Единственное, что мне теперь не хватало — это хорошего верного помощника со связями. Мне нужен был человек, который смог бы ввести меня в другой мир, помог бы закинуть мой крючок на большую глубину, чтобы затрепыхалась у меня в руках рыба покрупнее. Да и просто я не справлялся, не смотря на то, что уволился с работы. Не хватало времени. Не помешала бы обычная секретарша, но в том то и дело, что она должна была быть не совсем обычной — довериться можно только человеку, которого хорошо знаешь. Такое приобретение ни за какие деньги не купишь. Я рыскал в уголках своей памяти, перебирая всех своих знакомых и отбрасывая одну кандидатуру за другой, и понял одну страшную вещь. Господи, Ты давно уже лишил меня друзей! Не осталось ни одного человека, на которого можно было бы положиться. А когда это произошло, я и не заметил.
Как-то одним меланхоличным вечером, в который я устроил себе выходной (и теперь кляну себя за это, ибо последствия были чудовищны), среди забытых бумаг, фотографий и ненужных документов мне попалась старая записная книжка. А я-то думал, что выбросил ее, невольную свидетельницу моей несуразной молодости. Листая ее пожелтевшие страницы, я с трудом вспоминал имена и фамилии, и из преисподней памяти выныривали незначительные эпизоды только для того, чтобы снова опуститься в эту загадочную пучину. Но иногда случалось и так, что на какое-нибудь имя, написанное резким, молодым, почти не моим почерком память вообще не реагировала, и тогда я с досадой переворачивал не ожившую страницу.
Что-то всколыхнулось в моей душе, когда я открыл записи на букву «Т». Вот она, ничем не выделяющаяся от остальных тань, тамар, толиков, толбухиных, труневых — моя Таня, моя Танюша. Когда-то, в первый день нашей встречи, я записал ее телефон, а потом и не заглядывал туда — запомнил сразу номер, потому что звонил ей по несколько раз на дню.
Тогда я поймал себя на мысли, что до сих пор помню ее трудно усваиваемый, нелогичный, как она сама, без единой повторяющейся цифры номер телефона: 253-49-71. Какой-то обуявший меня трепет не давал мне перевернуть страницу. Цифры гипнотизировали меня. Время ухмылялось отрезком прожитых лет. Все плохое забылось — я решился — я решил позвонить ей прямо сейчас. Клянусь, Господи, я забыл о своем страшном деле, о теории, обо всех клиентах, поверь мне — это важно. Я хотел ей только сказать: «Сколько лет, сколько зим».
— Алё, — ответил чей-то старческий голос.
— Здравствуйте, позовите, пожалуйста, Таню.
— А кто ее спрашивает?
Впервые в жизни я обрадовался этому неприятнейшему из вопросов — значит, она по-прежнему живет там же, и, более того, она дома.
— Очень старый друг…
— Все вы — старые друзья, — услышал я ворчание, но трубку положили рядом с телефоном.
Трепет перерос в неуемную дрожь.
— Да, — услышал я и потерял дар речи. — Слушаю!
— Таня!
— С кем я разговариваю? — надменно и холодно.
Я назвал свое имя, и, уверен, оно вызвало улыбку у нее на губах. Голос ее потеплел.
— Здравствуй, зайчик мой!
О, как все знакомо! Раньше она тоже меня так звала. И не только меня — всех своих кавалеров — специально, чтобы не перепутать и не окрестить кого-нибудь из нас чужим именем.
— Звоню тебе сказать: сколько лет, сколько зим?
— Много, много. Не считай.
— Ну, как у тебя дела?
— Пока не родила, — отшутилась она. Глупый вопрос — глупый ответ, но о чем еще спрашивать, если столько лет прошло, и голос дрожит, и ладони потеют. — Дела у меня — ничего. А у тебя?
— Тоже нормально. Ты не замужем?
— Нет, в разводе.
— Да? — удача! — В каком: третьем или четвертом?
— Ты все такой же нахал, зайчик. Во втором только…
Долго мы разговаривали, и никто из нас не решался первым предложить встретиться. Разве стоило лишать себя тех светлых идеалов молодости, до сих пор тешащих душу, стоило рушить с таким трудом возведенную стену искусственного отчуждения, стоило возвращаться в прошлое? Но это уже было неизбежно. Смог бы я тогда удержаться и не позвонить? Не знаю, что ответить даже сейчас, после всех трагических событий.
6
Жажда приключений мучила Заманихина с детства. Он мечтал стать и моряком, и скалолазом, и летчиком, и, конечно, космонавтом. Ни разу не возникло у него такой распространенной у детей мечты: хочу, мол, продавать мороженое, чтобы можно было объедаться им каждый день, — такого не было. Его тянуло вдаль, в высь и еще неизвестно куда. Да и могло ли быть в детстве иначе…. Но чем больше он взрослел, тем чаще стали перед ним захлопываться двери то в одну мечту, то в другую. Он вскоре осознал это и встревожился, но легче не стало. Успокаиваться он не хотел, и потому все уходило на второй план — в воображение. Он по-прежнему в мечтах лазал по горам, когда в клубе альпинистов его вежливо отшили: «Мальчик, у нас таких, как ты — перебор». Он летал на самолете в мечтах, когда не прошел медкомиссию в летное училище. И надо же, в том же выпускном году успел отдать документы в морское училище и там даже умудрился медкомиссию пройти. Но тем сильнее было разочарование, потому что таких, как он, романтиков оказалось до того много, что Заманихин не смог пробиться через огромный конкурс, хоть и сдал экзамены на «пять» с одной лишь «четверкой».
Было еще немало профессий, о которых он мечтал — стоит ли их и перечислять? — но время было упущено, и, чтобы не терять целый год, родители уговорили поступить его в любой институт, где не было конкурса. Туда, с его единственной четверкой, Заманихина взяли с распростертыми объятиями. Так большинство романтиков становятся строителями, технологами и специалистами по станкам ЧПУ.
Он поступил на вечернее отделение в Технологический институт по странной непонятной специальности «стекло и силикаты». Пошел на завод слесарем, чтобы не сидеть у родителей на шее, и меньше чем через полгода, в осенний призыв его забрали в армию. Романтик Заманихин пошел туда с радостью.
Пожалуй, единственной воплотившейся мечтой для него стал мотоцикл. С восьмого класса начал копить на него — во время летних каникул вкалывал в совхозах сельхозрабочим, деньги эти трудовые не тратил, да и родители помогли — сняли свои накопления со сберкнижки. И вовремя, кстати, сняли, а то все бы пропало в вихре инфляции.
Так Заманихин на своем новеньком «Чезете» влился в огромную армию рокеров и будил вместе с ними город по ночам. Странно для него выглядела мечта, на которую можно накопить денег. Трудно было поверить, что мечту именно так и воплощают в жизнь. И совсем уже невероятным казалось для него во время поступления в морское училище взять и продать мотоцикл, а денежки отдать одному ушлому члену приемной комиссии, как тот и намекал непонятливому абитуриенту. Так бы мог Заманихин воплотить свою мечту о море, и бороздил бы сейчас его просторы, и не случилось бы с ним того, что с ним произошло — тогда бы приключилось что-нибудь другое. Но воспитан был Павел не на тех книжках, и родители не могли ему такого подсказать, потому что тоже воспитывались по-другому. Они лишь пеняли сыну, что с этим мотоциклом он забросил учебу в десятом классе, и были, впрочем, правы — получил же он эту злополучную четверку на экзамене.
К слову сказать, на мотоцикле он больше и не гонял, сразу после возвращения из армии его пришлось продать.
Пока он служил, случились два страшных события. Один за другим, с разницей в два месяца умерли его престарелые родители: сначала мать — от рака, затем отец — наверное, не мог без нее жить. Три раза Павел ездил в отпуск — сначала в связи с болезнью матери, потом два раза на похороны. Сослуживцы завидовали, наблюдая, как он в парадной форме выходит за ворота части, а, узнав причину, умолкали. Вернулся, наконец, домой с семьюдесятью рублями в кармане, оглядел пустую квартиру — хорошо хоть она сохранилась, благодаря тому, что в ней была еще прописана Пашкина тетка — оглядел квартиру, увидел на лоджии запыленный мотоцикл, и вскоре тот, красивый, ярко-оранжевый, с вздернутыми глушаками и задним крылом, с блестящими стальными дугами превратился в два недорогих невзрачных памятника на могиле у родителей.
Он был у них единственный и очень поздний ребенок. Такой поздний, что прямо как в сказке появился нежданным счастьем у стариков. И, естественно, они лелеяли сына, как могли, как позволяли им, учителям, средства и собственное интеллигентское воспитание. Как еще в армию отпустили? Но это все отец со своими принципами: «Иди, Пашка, — сказал он, обнимая сына, — служи честно и поскорее возвращайся». А Пашка и рад был убежать из-под родительской опеки, не мог он еще понять такой сильной привязанности. И только потом, когда история стала повторяться, когда заявила о себе его наследственность, он начал понимать силу родительских чувств. Но тогда, вернувшись из армии, Заманихин в отчаянии даже обвинил родителей: берегли неизвестно для чего и бросили. Что он умел в жизни: перебросить ногу через седло мотоцикла, которого уже не было, отпустить сцепление, поддать резко газу — и на дыбы. Все! Вкус, совесть, независимость, гордость — вот что привили ему родители, вот что передали по наследству, вот чем гордились — все это теперь гроша ломанного не стоит! — думал Заманихин.
Пошел на тот же завод, там ему обещали двести рублей подъемных. Из технологического института документы забрал — не понравились ему стекло и силикаты. И теперь мечты должны были остаться только мечтами, но воображение работало, как в детстве, и, забирая документы, Заманихин уже думал о чем-то другом.
Любовь к литературе проснулась в нем, как спящая красавица. Пойти по стопам родителей пришло на ум как-то само собой — они оба в свое время закончили филфак в университете — там, кстати, когда-то давно и познакомились. С ужасом Заманихин вспомнил, что за два армейских года он не прочитал ни одной книги, а до вступительных экзаменов оставалось пять месяцев. Но самоуверенности было достаточно, и он бросился вспоминать школьную программу.
Срезался на втором экзамене — английском языке, но и первый-то, сочинение, одолел с трудом: умудрился наделать детских орфографических ошибок и получил тройку. Если бы не позор на английском, то все равно не прошел бы по конкурсу: проходной балл в университете высок, и куда Заманихину после двух лет армии было тягаться с отличниками. Со свиным рылом, да в калашный ряд! Самообразование тоже неплохая штука, особенно когда ты зол и требователен к себе, решил Заманихин. Еще на подготовительных курсах он познакомился с одним юным пентюхом, ловившим каждое заманихинское слово — еще бы, человек из армии пришел! Пентюх поступил-таки на заочное, и Заманихин решил с ним не порывать. Они созванивались два раза в год, и Павел получал копии методичек, а затем перечитывал всю ту литературу, что рекомендовали в университете. В конце концов, я учусь не для того, чтобы корочки получить и стать рядовым учителем литературы, как родители — я учусь для себя, — справедливо думал Заманихин. Спроси его кто-нибудь, зачем ему это, зачем изнурять себя Бодуэном де Куртене, Тахо-Годи, Гюисмансом или Шопенгауэром, он бы слукавил или промолчал. Но себя и, тем более, меня он обмануть не мог. Старался пока не думать об этом, но как же — мечты-паразиты не скроешь! Его богатое воображение помогало с легкостью представить себя знаменитым писателем. От методички к методичке, от семестра к семестру, от года к году начало у Заманихина кое-что получаться. Самоотверженности хватало. Самоуверенности не занимать. Опыт заменяло воображение, быстро разраставшееся от одной фразы или жизненной ситуации. Герои, им придуманные герои, вооруженные его мыслями, сомнениями, переживаниями, порой довольно вялые, порой штампованные, клонированные из произведений великих, а порой и достаточно самобытные, интересные — все до одного герои из головы транзитом через бумагу уходили в ящик стола. Сам Заманихин чувствовал, что это еще не то, что еще рано показывать свои произведения кому-нибудь, но постепенно и у него начали появляться читатели.
Первым был его школьный друг Саша Рыжов, с которым они вместе когда-то заразились романтикой ночных рокерских гонок. Тот так и остался при мотоцикле. Рыжий тоже был в армии в одно время с Заманихиным. Вернулся на месяц раньше, и сразу, конечно, на мотоцикл. Да в тот первый раз недалеко уехал. Как он рассказывал потом, вечером шел дождь, и к ночи слегка подморозило — осень. Сел, дал газу, обрадовался, прибавил еще, и вдруг из-за поворота выскочил какой-то бешеный велосипедист. Рыжий только и успел руль повернуть. Заднее колесо занесло, тачка легла на дугу, Рыжего вынесло из седла — это его и спасло: сломал лишь левую руку, ободрал ногу до мяса, да жалко еще было новые кожаные штаны. Мотоцикл же, скинув седока, взъярился, как взбесившийся конь: пролетел на дуге метров десять, споткнулся о поребрик, сделал пяток кульбитов и врезался в столб. Рыжий с яростью рассказывал, как вскочил, бегом догнал велосипедиста и накостылял ему сломанной рукой: за тачку, за то, что та превратилась в груду металлолома. Может, и руку-то об велосипедиста сломал.
Тогда и предложил Заманихин другу свой мотоцикл. Деньги у Рыжего были — накопил в армии, все два года колымил на станции техобслуживания, ремонтируя командирские авто и, кстати, опыта набираясь. Заманихинский «Чезет» Рыжий знал, как свой — вместе до армии его разбирали-собирали, но все-таки поломался немного: друг как никак — у него не купишь дешевле, когда знаешь, что с ним случилось горе. Да и думал Сашка Рыжов поездить, покататься еще вместе с Заманихиным, но тот ни за что, будто решил стать монахом. Купил-таки, и хоть была у Заманихина за тот доармейский год тачка уезжена, как за три, отделал ее Рыжий, и до сих пор она, кажется, на ходу. Руки у него золотые, работал он в автосервисе, и там на него молились.
Вот такой был первый читатель у Заманихина. Ничего он не смыслил в литературе, но бескомпромиссный был. Именно он поднял вверх большой палец, когда Заманихин, наблюдавший, как Рыжик читает, задал заискивающее «Ну как?», загадав при этом: если скажет «Ничего», значит, действительно ничего хорошего. «Больше не буду тебя тачками соблазнять», — патетично добавил друг-технарь, и это многого стоило.
Вторым читателем у Заманихина стала Надя. Они познакомились в библиотеке. Надя тогда заканчивала пятый курс психологического факультета, у Павла был к тому времени примерно курс четвертый его собственного заочно самообразовательного университета. Была, понятно, весна, призывно щебетали воробьи, но Наде нужно было писать дипломную работу на тему «Психология творчества», а тут как раз такой самобытный экземпляр. Заманихина тема тоже заинтересовала, разговорились, он попросил список литературы, затем — телефончик, затем — где-нибудь встретиться и погулять — воробьи ведь, весна. В общем, этот самобытный экземпляр только мешал Наде. Но уже в начале лета он самоотверженно держал кулаки четыре раза по часу — бездельник! — пока Надя сдавала госэкзамены, ведь к тому времени они уже не мыслили себя друг без друга.
Так прошел почти год, и следующей весной они поженились. Это был самый бесплодный творческий год в его жизни. Он не мог ни о чем думать, кроме как о Наде. Написал несколько рассказиков, но таких романтических, слащавых, засюсюканных, что, в один прекрасный редкий момент, опомнившись, без жалости их разорвал, чтобы и следа не осталось. Так же сделать с Надей он не мог. Оставалось лишь думать с тоской, что на этом и заканчивается его писательская стезя, да, впрочем, и вообще — молодость, свобода и безответственность. Сознавая это, он с радостью лез в кабалу.
Но удивительное дело, стоило ему привести в свою холостяцкую однокомнатную квартиру молодую жену, стоило пройти медовому месяцу и наступить второму — полынному, стоило случиться нескольким семейным ссорам, как Заманихина прорвало. Он снова начал писать, и не как-нибудь, а намного лучше, будто жизнь узнал, будто стало о чем. Времени сначала было мало, но и тут повезло: на заводе не хватало операторов котельной, и Заманихину, в ту пору слесарю-сантехнику в принудительном порядке предложили пойти на курсы. Он сначала возмутился: не было у него времени овладевать новой профессией, но потом взвесил всё и остался доволен — на новой работе свободного времени не в пример больше: смены то в день, то в ночь, и на самой работе можно книжку почитать — лафа! А значит, можно и дальше доказывать себе, что из самоучки может получиться писатель.
Теперь днем жена — на работу (она работала в детском саду для детей с психическими отклонениями), а муж, если свободен от смены — за стол. Снова пошла учеба, снова библиотека — правда, здесь жена ревновала, помня, где они познакомились, и зная, что там много молодых красивых студенточек — ну, как Павлу опять понадобится какой-нибудь список литературы. Ей симпатична была самоотверженность мужа, та энергия, с которой он не только любил ее, но и отдавался делу. Впрочем, к творчеству его она относилась с холодком, мол, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы по бабам не бегало. Будучи намного больше сведущим в литературе критиком, чем Рыжий, она не особенно-то и верила, что муж сможет пробиться в большую литературу. Но, тем не менее, именно она высказала мысль, давно уже томившую Павла: «А не пора ли тебе отнести свои рассказы куда-нибудь в журнал?». Этой оценки жены, всегда довольно скупой на похвалы, для Заманихина было достаточно.
Как-то на день рождения мужа Надя, совсем не разбираясь в оптике, подарила Павлу профессиональный фотоаппарат — не какую-то там «мыльницу»! И на удивленно-радостный взгляд мужа, распаковавшего подарок, ответила: «Будешь меня снимать». И он снимал. Пока не родилась в голове у него новая идея, воплотившаяся в тысячу экземпляров книжек в черно-красной обложке под названием «Мертвый фотограф» — плод его воображения, вызванный неожиданным подарком жены и коротким увлечением фотографией, его первый успех, его победа.
7
Да и стоило ли начинать все сызнова, после того, что было. Вспомню, как стоял тогда на крыше, дрожал от пронизывающего ветра или, скорее, от отчаяния, смотрел вниз на людишек-муравьишек, плакал, и от этих воспоминаний муторно становится на душе, будто не восемь лет назад это было, а вчера.
Она была старше меня на два года. С возрастом стирается пропасть в летах, но совсем не так в молодости. Два года разницы позволяли ей смотреть на меня свысока, как на какого-то губошлепого юнца, и я, я сам думал, что я и есть такой, по сравнению с ней. Она — душа любой компании, заводила, способная заткнуть за пояс любого, — она вертела своими многочисленными кавалерами, как хотела. Все они, конечно, были старше ее, потому что и сама она была еще молода, а в этом возрасте, повторюсь, девушки не признают ухажеров моложе их самих. Но как-то в список ее поклонников попал и я.
Помню, веселый междусобойчик в мало знакомой мне компании. Комната в коммунальной квартире, талонная водка на столе, перекуры на черной лестнице, и Таня в центре всеобщего внимания с гитарой в руках. Подробности и лица давно уже стерлись из памяти, не помню даже имени той девушки, которая привела меня на этот день рождения, не помню, чей это был день рождения. Но все, что было связано с Таней, запомнилось навсегда. Перебирая струны гитары, она пела песни, в основном романтические, сентиментальные, девчоночьи. Помню, была там исполнена «Перчатка» Шиллера, положенная на дворовую музыку. Ее восприняли на «ура», и попросили Таню исполнить ее на бис, но имя Шиллера ни разу не прозвучало: я молчал от стеснения, остальные, наверно, не знали, а Таня, скорее всего, не хотела отдавать часть аплодисментов немецкому поэту. Все мы были там примерно одного сопливого возраста, причем девушек было намного больше, чем молодых людей, и, конечно, среди нас не было ни одного настоящего мужчины — потому, может, и ловил я на себе иногда Танины взгляды. Взглядов было всего несколько за весь вечер, но я уже знал тогда — этого хватит — так, с любопытством, призывно и озорно горели ее глаза.
Чем я был тогда! Легкомысленный мальчишка!
Черная лестница запомнилась только потому, что там все и случилось. Все, кто курил — большая часть компании — время от времени выбегали на лестницу всегда одновременно, чтобы покурить и быстрей за стол, за водочку, но один раз Таня пришла, когда многие уже докуривали. Пришла и опять посмотрела на меня. Помню, я отметил это про себя и стал реже прикладываться к сигарете. Все так же одновременно докурили и ушли. Остались только я и Таня. Мы должны были о чем-то говорить и говорили, наверное, но я ничего не помню. Я сидел на подоконнике, она рядом стояла у стенки. Вот она уже и докурила, а моя сигарета все не кончалась, я специально делал так, чтобы только она не потухла. Сам не понимаю, Господи, откуда у меня появилось столько хитрости, но помню, точно помню, я заранее все рассчитал.
— Пойдем? — предложила она.
— Сейчас, — ответил я и показал на сигарету, мол, еще не докурил.
— Пойдем! — уже не предложила, а приказала она, в шутку, конечно, и взяла меня за руку, чтобы стащить с подоконника. Я спрыгнул вниз, бросил ненужную сигарету и притянул Таню к себе за эту маленькую доверчивую ее ручку. Все случилось просто, как будто и должно было так быть. С ней всё всегда было просто и естественно. Я обнял ее. Какой-то миг она смотрела на меня удивленными кокетливыми глазами, и, честное слово, не помню, кто из нас первый потянулся к другому с поцелуем.
С дня рождения мы ушли вместе…
Помню, была та заключительная пора осени, совсем не романтичная, когда листья уже облетели и лежали бурыми неубранными кучами, темнело рано, и все ожидало снега. С ним бы и светлей было и праздничней. В такую погоду мы и гуляли с ней, забыв о слякоти и промозглости. Мы исколесили весь ее район новостроек, месили ногами осеннюю грязь, разговаривали, редко, особенно я, и целовались на шквальном ветру.
Так было не один день и продолжалось до первого снега. А потом с переменой погоды изменилось и настроение у Тани. Ей сразу почему-то стало не хватать времени, и какая-то неизвестная мне ранее отчужденность появилась в ее голосе, искаженном телефоном. Я ей просто надоел, но тогда не мог этого понять и думал, что ей действительно некогда. У меня же времени было достаточно, и я торчал у ее подъезда. Выйдет она из дома, пойдет в магазин или еще куда-нибудь — я с ней. «Но только до метро, — говорила она или: — только до того угла». И я соглашался, а когда мы доходили вместе до этого самого угла, она всегда следила, чтобы я уходил обратно, и долго стояла — ждала, когда скроюсь из виду. Что мне было делать? Шел к ее подъезду и ждал снова. Там, на детской площадке был такой удобный грибок со скамеечкой, там я и сидел, дрожал от холода и грыз ногти от ревности. А поводов для нее было достаточно.
Частенько она возвращалась домой не одна, а в сопровождении мужчин. Обычно это были или один в дубленке и нутриевой шапке, или другой на «Жигулях». Я оставался в своем укрытии, но, конечно, Таня видела меня. Радовало только то, что они, как и я, не попадали к ней домой — прощались у подъезда, целовались, но тоже не так, как со мной, а мимоходом, вскользь — и Таня исчезала за дверью. Бывало, она возвращалась одна, и тогда я бежал к ней, но вскоре, как и те мужчины, оставался один перед дверью подъезда.
Один раз я вытерпел ее мужчин, другой, третий, но долго ли это могло продолжаться? Собравшись с духом, я вышел как-то из своего укрытия, когда Таня возвратилась домой с тем, что был на «Жигулях». Увидев мое воинственное приближение, она демонстративно, так чтобы я видел, закатила глаза и вздохнула:
— Боже мой! — а потом быстро добавила: — Ну, вы тут сами разберитесь, мальчики, а я пошла, — и упорхнула за дверь.
«Мальчик», что остался стоять передо мной, был лет тридцати и где-то на голову повыше меня. Он смотрел на меня и глупо добродушно улыбался.
— Если ты еще раз… — начал я.
— Да брось ты, парень, — перебил он. — Ты, наверное, плохо знаешь Таню — она сама выберет, кого захочет. Не стоит и кулаками махать. Тебя подвести? — вдруг предложил он, улыбнувшись обезоруживающе, и показал на свою машину. Я отказался. Я совсем опешил. До сих пор не знаю, почему не двинул ему по роже. Он уехал, а я остался стоять один у подъезда то ли победителем, то ли дураком.
После этого случая я долго не мог встретиться с Таней. Она избегала меня. Мы переругивались с ней по телефону, и дошло до того, что я готов уже был простить все, лишь бы только увидеть ее. Тогда-то она и проговорилась, что одной любви ей мало, нужны еще и удовольствия, нужна интересная веселая жизнь. «Скучно с тобой, пойми», — сказала она, и я мысленно согласился с ней. «А у тебя нет на такую жизнь средств», — еще прозрачнее намекнула она в ответ на мое молчание.
И тогда до меня дошло. С получки я купил билеты на модную в те времена поп-группу. Тогда-то у концертоного зала мы, наконец, и увиделись. Опять мы были вместе. И, слава Тебе, Господи, было нам не скучно. После концерта мы пошли пешком. Куда, я не знал. До ее дома было далековато, и я мучительно придумывал, что же еще сделать такое, чтобы не было скучно. А тут она возьми и скажи, что ей хочется есть. Вполне объяснимое желание. Конечно, я тут же пригласил Таню в ресторан, мимо которого мы как раз проходили, благо и денег я захватил с собой достаточно. Да, было здорово, было весело и совсем не скучно. Мы много ели, пили и танцевали. Но потом был конфуз: денег все-таки не хватило — я, оказывается, совершенно не представлял себе ресторанные цены. Таня выручила, достала свой кошелек, но тем и подписала мне смертный приговор. Такого краха, такого позора я в своей жизни никогда больше не испытывал.
После ресторана мы пошли пешком по ночному городу. Общественный транспорт уже не ходил, и до Таниного дома теперь можно было добраться только на такси. Но денег-то у меня не было, а ей, наверное, было интересно, как я выпутаюсь из такой щекотливой ситуации, или она не хотела меня окончательно позорить — не знаю. Как бы там ни было, она пока шла со мной и не собиралась сама себе брать такси. Я же готов был возненавидеть ее, за эту ее ненужную жалость. Сейчас вспоминая, я догадываюсь, что это-то, наверное, и не отпускало ее от меня. И тут пришло решение: мой дом был рядом, буквально в двух шагах, и там даже было немного денег, которые я отложил сдуру, как мне тогда казалось, а на самом деле из благоразумия — жить-то еще месяц.
— Зайдем ко мне? Тут недалеко, — предложил я без всякой надежды, что Таня согласится. Но она вдруг согласилась, то ли опять из жалости, то ли ей было интересно, как я живу, то ли она просто замерзла. И вот она оказалась в этой самой моей квартире, которая теперь хранит после стольких лет воспоминание о той чудесной ночи, что мы провели здесь. И только потом, утром, я узнал, что она осталась у меня не потому, что замерзла, или ей было жалко меня, или тем более, интересно, как я живу, а из-за того, что должна была отплатить мне за удовольствие. Вот, как я об этом узнал. Утром я отвез ее домой на такси, и, прощаясь со мной возле подъезда, Таня нежно поцеловала меня и сказала ужасные слова:
— Спасибо, зайчик мой, было все очень здорово, но… — и она невинно, просто, как могла только она, посмотрела на меня, — но ты теперь и сам понимаешь, что я тебе буду слишком дорого обходиться. Я думаю, нам не надо больше встречаться. Прощай! — и тут же скрылась за такой ненавистной для меня подъездной дверью.
Мог ли я смириться с этим! Я еще звонил ей, упрашивал, говорил, что брошу свою газету, в которой я тогда был всего лишь заштатным фоторепортером, наивно клялся, что стану богатым.
— Не надо, зайчик, — парировала она, — ты слишком чист, чтобы зарабатывать большие деньги. Потом, когда я тебе надоем, ты проклянешь меня за то, что я заставила тебя бросить любимое дело и пойти против совести.
И тогда была крыша. В последний раз я приехал к ее дому и забрался на крышу. Думал, сейчас придет она со своим очередным «зайчиком», и я брошусь им под ноги. Глупо все это было, конечно, глупо. Может, спасло меня то, что слишком долго я ждал — ее все не было, может, что пришла она одна, может, на крыше, на холодном ветру я понял, что не стоит она того, а может, просто испугался.
Я больше не звонил ей. Я был полон презрения к ней, а еще больше — к себе.
8
— Паша, помнишь, ты говорил, что произведение для тебя, как зачатый ребенок…
— Ну…
— Будто придет идея и сидит, растет в животе… в голове… не знаю, где-то там, и через девять месяцев выходит на свет.
— Да.
— Я тогда так злилась на тебя. Вот, думала, нахал, смеется надо мной. Рожает свои произведения, а ребенка родить не может. А теперь, знаешь, Паш, кажется, я поняла. Такое чувство, что и у меня родилась идея, — Надя погладила себя по животу. — Вот здесь они рождаются, я теперь точно знаю. Это наша с тобой идея, здесь у меня в животе, такой еще ни у кого не было.
Умиление, то, что Заманихин всегда пытался вытравить из себя, чтобы, не дай бог, не просочилось в какой-нибудь рассказ, поднялось откуда-то снизу и дрожью рассеялось в плечах. Глупость, только что вырвавшаяся у жены, без труда проникла через преграды, которые он внутри себя всегда старался выставлять перед глупостями. Но глупость эта была искренняя.
Он снял поднос с пустой чашкой с груди Нади, поставил, не мешкая, на пол и так же искренне, в умилении обнял жену. Надя в ответ прижалась к нему.
Что может быть глупее счастья?
Это было в то самое время, когда Москва окончательно погрязла в грехе, когда деревня ломала голову над невыполнимым словом «рентабельность», и ненужным привеском болтался между рынков своих Петербург. В то самое время, когда еще не утихло эхо от гула разрывов под сводами Калининского, а ныне Новоарбатского моста, когда у каждого умного человека был жизненно необходимый запас соли и спичек в кухонном шкафу, когда люди устали от перестройки — русской эпохи Возрождения, перестали читать неожиданно свалившуюся на них информацию, которой их лишали семьдесят лет, и думали, что делать с этой правдой и с этой свободой; в то самое время, когда инфляция заставляла распухать кошельки, как голодных, пухнущих от голода, и каждый, у кого был хотя бы холодильник, стал сам себе миллионером; когда задержка зарплат и пенсий стала делом обычным, и кто из пенсионеров был предприимчивей, начал продавать сигареты, чтобы выжить, а кто проще — умирал; это было в то самое время, когда начался раздел имущества государства, расслабленного, словно девка, только что лишившаяся невинности — кради у нее теперь что хошь! — главного-то уже лишили; когда умный становился богатым, а честный — мертвым; когда выйти на улицу с оттопыренным карманом — будь там кошелек или просто целлофановый пакет — все равно, что с крыши спрыгнуть — и так и этак расколется черепушка; это было, когда родители стали бояться, если их дети задержаться где-то на полчаса, а дети стали желать, чтобы скорее не стало родителей; когда до такой степени упала рождаемость в стране, что роддомы стали закрываться один за другим.
В такое время двое в однокомнатной квартире прижались друг к другу и наслаждались своим сиюминутным счастьем. Как много на свете таких вот людей! И каждую минуту на смену им приходят другие.
— Надя, ты что-нибудь уже чувствуешь внутри себя?
— Ты знаешь, смешно — ведь всего несколько недель — а мне кажется, что чувствую…
— Ворочается?
— Нет, это еще рано, но я чувствую — честно! — будто маленькая Дюймовочка поет песенку у меня в животе.
— Какая Дюймовочка! Там тогда должен быть Мальчик-с-пальчик… Это он поет. У него просто еще очень тоненький голосок, и тебе кажется, что это девочка…
Ну вот, пошли долгожданные споры о мальчиках-девочках. Раньше Заманихины и заикнуться об этом боялись: хоть бы кто — мальчик ли, девочка — лишь бы был ребенок. Стоило встретить знакомых с детьми, своими, родными, как тоскливо ухало сердце. А знакомые в материнско-отцовской гордости обязательно норовили тащить из коляски любимое чадо, потрясти им перед дядей-тетей и спросить:
— А вы что же?
— А мы успеем, — привычно лукавили Заманихины, — надо и для себя пожить.
— Правильно, молодцы, — тут же звучало в ответ, — в такое время не до детей, — и дальше обычно шли проблемы на ту же тему: — Сухую молочную смесь не достать, а в поликлинике выдают только по две пачки в месяц. Тут за фруктовым пюре в магазине стояли, а оно просроченное оказалось…
И все в том же духе.
А Заманихиным такие разговоры — нож в сердце. Я то знаю, будет у них ребенок, но вижу — из последних сил друг с другом общаются. Надя весь день в своем детском саду с убогими детьми проведет, приходит домой — пустота. Реветь — это самое легкое. Но ведь сама психолог — знает, казалось бы, все состояния человеческой души. Ан нет. Завела себе обезьянку, мягкую игрушку размером с ладонь, нашила ей маленькой одежды, и нянчила ее, и ласкала, и спать укладывала. И это ей-то, так любящей детей, досталась такая доля.
Сколько себя помнит, с детства, мечтала быть матерью. Конечно, все девочки мечтают, но она думала об этом больше других. И сначала это смешило ее родителей: шестилетняя дочка, играя в куклы, вдруг заявляет: «Хочу быть мамой», — чего, казалось, особенного. Но когда то же заявление все за той же игрой с уже замызганными постаревшими куклами повторилось в тринадцать лет, Надина мама встревожилась: как бы та не принесла чего в подоле. И то: девочка на сдобных воронежских хлебах физически развита была не по годам — первые месячные давно уже пришли, грудь набухала, бедра тяжелели. Мужчины сворачивали шеи, когда они, мама и дочка, шли по улице, и мама со страхом сознавала, что не чувствует уже на себе мужских взглядов — все они теперь доставались дочери.
И выход был найден: хочет дочка ребеночка — пожалуйста, мама сама забеременела и говорила теперь Наде, поглаживая себя по обширному животу: «Вот и будешь нянчить братика или сестренку». Надя откровенно радовалась. И надо же, не зря мать тревожилась — слишком уж огромен был живот — и братик, и сестренка получились. Вылезли один за другим, крикнули разом, и началась в их семье кутерьма.
Родители Нади были из добрых крестьянских семей, не так давно перебравшихся в город Воронеж, традиции еще были свежи и не забыты. Вполне по-русски: нагрузить молодую девушку, пусть даже и очень молодую, работой. Детство в миг закончилось. Теперь было все для них, спиногрызов, как мать ласково про себя называла близнецов. Отец не вылезал с работы, тщетно пытаясь прокормить семью, а у матери разве хватит рук на этих шельмецов. С утра, пока Надя еще в школе, мать вся избегается, исхлопочется — семь потов прольет, а ничего не успевает. Надя придет, мама ей: «Нянчи, ты хотела», — а сама по магазинам, по очередям — есть-то что-то надо. Ждали одного, и то знали, будет хлопот полон рот, а тут — двойня. Хорошо хоть родственники из деревни помогали.
А Надя и рада — нянчится, играет, как и раньше в дочки-матери, только уже по-настоящему. Своих кукол сразу забросила. Вот спят близнецы, Маша с Сашей, чуть расслабишься, сядешь отдохнуть после тазика с пеленками, проснется кто-нибудь один, закричит, конечно, благим матом и другого обязательно разбудит; одного в одну руку, другого — в другую, и качай. Мать прибежит, поможет и усылает потом на кухню: «Иди, Наденька, уроки делай. В ученье твое спасение». А Надя — ничего, даже не устала, только с виду исхудала, заострилась всеми своими девичьими местами. И учеба давалась ей легко — шла на золотую медаль, да в последнем классе за автовождение получила единственную четверку в аттестат. Плохой из нее был водитель грузовика. Зато радовалась, искренне радовалась за любимую свою подружку — той тоже светила медаль, и засветила-таки.
И открылись перед ними, юными, красивыми, все дороги. Куда дальше пойти учиться? Надя так для себя и не могла решить. Хотелось ей по-прежнему возиться с детьми, сколько бы их ни было, хотелось ей стать мамой. Чего уж проще? Да останавливала с детства внушенная родителями мысль, что просто только кошки рожают, что должно быть какое-то чувство ответственности перед своим ребенком и прежде, чем родить, нужно самой вырасти, поумнеть, научиться жить. Потому Надя и решила поступить в Воронежский педагогический институт.
Но тут, откуда ни возьмись, прибежала та самая любимая подружка, которую Надя любила из-за того, что тоже ее воспитывала, как Машу с Сашей, сама того не замечая. И подружка не замечала, не думала, что бежит плакаться не к подруге-одногодку, а к своей воспитательнице. Прибежала, закричала: «Что делать, Надюха?» Ее парень, по которому она беспричинно, как Наде казалось, сохла, уезжает после школы поступать в военное училище в далекий Ленинград. И подружка решилась: за ним! «Но боюсь, боюсь одна, — причитала эта новая возлюбленная декабриста. — Поехали со мной, Надюха, а?» Ну что ответить? Не оставлять же ее неразумную одну. Надя сказала родителям, что уезжает. Мама вспылила: «А если подружка в колодец прыгнет — и ты за ней? Что, вам в Воронеже институтов мало?» — но потом взглянула на младшеньких своих, на близнецов. Тем уже по три года было, и с ними уже легче стало. Взглянула и остыла — поняла, что старшая дочь убежать от этой своей обузы хочет, и не вправе она, мать, свою дочь неволить. Была надежда, что не поступит дочка, срежется на каком-нибудь трудном столичном экзамене и назад вернется. Пусть тогда эта пигалица, подружка ее ненаглядная, сама там, в холоде, в голоде, да вдали от родного дома поживет. А вышло все по-другому.
Поехали. Девки молодые, вырвались на свободу. В Ленинграде музеи, театры, достопримечательности. Какая там подготовка к экзаменам! Все так и шло, как думала Надина мама. Документы-то отдали в ЛГУ — только лишь в Московском университете конкурс больше. Подружке Надиной было легче — ей и надо-то было, как медалистке, только первый экзамен на отлично сдать — сочинение. Но на нем-то она и срезалась. То ли город на нее так подействовал, то ли преподаватели были так агрессивно настроены к приезжей, только вышло все очень плохо. Написала она сочинение, стала проверять и засомневалась вдруг в одном слове — так ли оно пишется? Спросила у соседа, тот в неуверенности пожал плечами, но покопался у себя за пазухой и протянул Надиной подружке шпаргалку — там, мол, это слово есть. Никогда подружка шпаргалками не пользовалась, опыта не было, тут ее за руку и схватили. И ни оправдания, ни слезы не помогли, поехала вскоре домой. А Надя — ничего, сдала все экзамены, выдержала конкурс и осталась.
Трудно ли было ей одной, маленькой, беззащитной, в незнакомом городе, в общежитии? Трудно, несмотря на то, что работы она не боялась, и воспитана была так, что не до глупостей ей было, распиравших других девчонок. Очень уж скучала она по дому, по семье, по родителям, по Саше с Машей, будто и не было тех трех лет, за которые могли бы ей братик с сестренкой надоесть. Потому и вспоминала с радостью, как нянчила близнецов, потому и мечтала по-прежнему, как своих нянчить будет, потому и на распределении хотела попроситься в Воронеж, благо училась она хорошо, и начинаться распределение должно было с нее.
А тут перед ней возник Пашка, и неожиданно для себя осталась она навсегда в этом случайном, подружкой, и даже не подружкой, а парнем подружки выбранном городе. И Пашу-то она любила больше всего как отца ее будущих детей, но вот не мог он дать ей их. И тогда появились обезьянка, тоска, разлады, ссоры и уговоры «поехали жить в Воронеж», будто там дети лучше рождаются.
Но теперь Надя была счастлива. Теперь забудется все плохое: печали, страхи, одиночество вдвоем, теперь у них будет новая жизнь! — думала она, не догадываясь, что ей предстоит испытать уже в этот так счастливо начавшийся для нее день.
9
Таня, милая моя Таня! Господи, зачем Ты позволил снова встретиться нам? Или это и было началом мщения за грехи?
Все кончилось постелью, прямо как раньше. А до этого — тоже, как раньше — оплата вперед за удовольствия. Я хотел ошеломить ее своим богатством. Для чего мне еще нужны были деньги — шуршащие властные бумажки — как только не для этого. Я подкатил к подъезду ее дома с шиком, с каким только может подкатить водитель «Жигулей», бравируя не дороговизной машины, а лихостью вождения. Заметил в ее глазах легкое пренебрежение, может, она не любила ездить в советских машинах — откуда я знаю. Моя «шестерка», конечно, не могла соперничать с каким-нибудь «Мерседесом», который, кстати, я хотел ради такого случая приобрести, да вовремя сдержался. Мы заранее условились посидеть в ресторане, и Таня тут же предложила какой-то уютный недорогой кабачок, но я загадочно улыбнулся, затряс головой и направил машину в центр. Я отвез ее в самый дорогой ресторан, в котором цены не кусаются, а просто сжирают содержимое кошельков. Столик для нас был заказан заранее. Готов поклясться: Таня раньше здесь не бывала. Глаза ее заметно расширились. Да и было от чего. Сам я хоть и побывал здесь накануне, слегка закусив на сотню у.е., не мог не поразиться во второй раз и интерьером девятнадцатого века, и сервисом, и изысканностью блюд, и, главное, тем духом истории, витавшим в этой ресторации. Я чувствовал, что у Тани готово сорваться с губ: «Помнишь, когда мы были молодыми, у тебя не хватило денег…» — но она сдерживалась, боясь напомнить мне о том, что я сам и не собирался забывать. То-то она напряглась, когда официант принес счет, а я достал свой бумажник.
— Ты поднялся, — удивленно сказала она, и я даже сначала не понял, о чем это она, но Таня сама объяснила: — А я-то думала, что ты на всю жизнь останешься заурядным фотографом.
Это она сказала еще там, в ресторане, а затем мы оказались у меня дома, и наше общее дежа вю с новой силой захватило нас. Потом мы лежали на моей холостяцкой тахте, откинув ненужный груз простыни, едва касаясь друг друга, и молчали. Каждый думал о своем, но я уверен, что все-таки, как и я, Таня думала о нас. Я смотрел на нее. Господи, она совсем не изменилась, будто прошлое ворвалось в мою квартиру, наполняя ее запахом все тех же пьянящих духов.
Мне вспомнилось, как в первую нашу ночь, много лет назад, она говорила: «Посмотри, какая у меня белая кожа. Нравится?» Разве могла она услышать отрицательный ответ? Я гладил эту приятную, забывшую за зиму о загаре, матовую поверхность, такую же, как на девственно-чистой фотобумаге, лист которой только что достали из пакета. Тот же блеск, тот же оттенок, те же блики от красного фонаря, специально включенного мной за неимением ночника. Тогда, в тот первый раз, я навсегда запомнил, как мы считали родинки на ее теле, темные точечки, контрастно выделяющиеся на белом. Мы так играли: я целовал их, считая после каждого поцелуя вслух, а она шептала: «Еще вот здесь, и здесь, и выше…» И я помню, она сказала тогда: «Много родинок — это к счастью. Значит, я счастливой буду». А я тогда самоуверенно подумал: «Со мной». Стала ли ты счастливой, Таня? И я сейчас же спросил ее об этом. Мой вопрос прозвучал неестественно громко и повис в тишине.
Таня лежала на спине и смотрела, не мигая вверх. Что она видела? Небо сквозь потолок? Свою звезду, которую она до сих пор искала? Не сразу она ответила:
— Стала ли я счастлива? Не совсем… Хочется курить.
Она улыбнулась, по-прежнему не глядя на меня, — и так знала, что я не отвожу от нее глаз. Я дотянулся до тумбочки, делая много ненужных движений, и прикурил две сигареты — ей и себе. Еще какое-то время мы молчали, пуская дым, который смешивался в воздухе, превращаясь под потолком в облако, отгораживающее нас от Таниного неба.
Я был счастлив, но так хотелось, чтобы и она тоже. Люди глупеют от этого. Не от счастья, а от желания счастья другим.
— А теперь? — снова спросил я уже в шутку.
— Не задавай глупых вопросов. Счастье — слишком шаткое и недостижимое состояние, чтобы так просто ощутить его и удовлетвориться этим. Ответь-ка лучше, чем ты занимаешься? Где работаешь?
— Так… Снимаю.
— Свободный художник? Значит, ты стал талантливым фотографом?
— В какой-то мере… — усмехнулся я. О своих делах совсем не хотелось говорить. В первый раз мне, наверное, стало стыдно.
Вдруг она встала — нагая, красивая, желанная — подошла к окну и дернула за шторы, обнажая ночную муть за окном. Все было так внезапно, что своей реакции я сам от себя не ожидал.
— Закрой сейчас же! — исступленно закричал я.
Она вздрогнула и послушалась.
— Извини меня, Таня… Не надо открывать занавески.
Она пожала плечами и подошла к столу. Как грациозна была ее походка! Таня небольшого роста, но так прямо она держала голову, ровно — спину, и грудь — вперед, что казалась выше ростом. Я заворожено смотрел за игрой ее мышц. Вот она остановилась, и мышцы замерли, напряглись, собрались. Замедленным повтором в моем воображении она снова шла к столу: бедро под тяжестью тела слегка отклоняется в бок, напрягается икра, пятка отрывается от пола — идеальный выгнутый подъем у ступни, а другая нога уже встала, расслабившись, на пол…
— А это что? — Таня стояла перед моей картотекой и уже вытащила из нее один из конвертов с фотографиями.
Я очнулся.
— Положи на место! — опять закричал я, но на этот раз Таня никак не отреагировала на мое рычание.
— Ого! — она уже достала фотографии. — Педики…
Ох уж это женское любопытство! Второй конверт в ее руках, и прежде чем я успел вскочить, пробежать через всю комнату и выхватить фотографии, ее загустевший от удивления голос:
— Ничего себе, это уже откровенная порнуха!
Я отобрал у нее фотографии, а она, улыбаясь, вроде бы даже отошла ближе к красному фонарю. Лихорадочно стал запихивать снимки в ящик, но вдруг она опять сказала:
— Наркоманка…
Я оглянулся: в руках у Тани каким-то образом оказалась еще одна пачка фотографий.
Женский ум работает быстрее мужского. Мне не пришлось ничего объяснять, Таня прекрасно догадалась обо всем сама. Я готов был провалиться сквозь землю. Мне подумалось, что все, только что возродившееся между нами готово рухнуть в один миг и рассыпаться прахом.
Но оказалось, Таня думала о другом.
— Ты знаешь, — сказала она, — у нас в управлении я могу достать тебе кучу сведений о таких вот делах, ты только снимай.
— В управлении?
— Да. Я же говорила тебе, где работаю.
— Ты — секретарша…
— Секретарь. И знаешь, где? В Федеральном управлении. Я секретарь у одной очень важной шишки.
Господи, Ты — свидетель, я не хотел ее посвящать в свои дела, я ни о чем ее не просил — она сама. Я только и сделал, что, поломавшись, принял ее предложение. Но зачем, зачем, зачем?! Может, я хотел, чтобы она стала счастливой? Счастлива ли она теперь? Ответь, Господи!
А она все шептала и шептала мне на ухо, убаюкивая и меня и мою совесть, и мой страх за нее, за Таню:
— Мы с тобой таких дел наворочаем, так развернемся — всех к рукам приберем. А сейчас спи, любимый, спи — утро вечера мудренее… Завтра… завтра… остальное завтра…
И я уснул…
А наутро ее ласки так же легко разбудили меня, как накануне усыпили, и с тех пор я почувствовал себя настоящим мужчиной — мужем — любимая женщина взяла на себя заботу обо мне.
Она ворвалась в мою жизнь с непостижимой бесшабашностью и нескромной женской обстоятельностью. Все получалось у нее просто и легко. Она в один миг перевернула всю мою жизнь вверх дном, отбрасывая непонятные ей, как любой женщине, а значит, ненужные, мужские привычки, а я не противился, ибо все ее реформы сопровождались нежностью и лаской. В первый же день, произведя ревизию холодильника, она приготовила наивкуснейший борщ, какой я едал только у мамы, затем, или одновременно с тем, перемыла полы и выстирала белье. Моя холостяцкая квартира наполнилась новыми запахами, давно уже позабытыми: запахом пережаренной морковки, запахом стирального порошка, запахом дорогих женских духов, а не тех дешевых, цветочных, которыми пахли появлявшиеся здесь время от времени случайные женщины. Именно этого, ее, Таниного запаха, сразу вспомнившегося, родного, не хватало мне все эти годы.
Но становиться навсегда полноправной хозяйкой Таня отказывалась.
— Третий раз я в эту кабалу не полезу, — отшучивалась она. Но не в кабале было дело. Дома у нее оставалась мама — та самая старушка, разговаривавшая со мной по телефону — капризный беспомощный ребенок шестидесяти с лишним лет. Да, мама очень хотела, чтобы дочь, наконец, «по-настоящему» вышла замуж, чтобы жили все вместе, и было много внуков — внуков ей хотелось больше всего. Но, как я понял, когда Таня один раз проговорилась в сердцах, именно мама и была отчасти причиной двух предыдущих разводов. Не могла она ужиться со своими зятьями, а Таня, когда оба раза перед ней встал выбор «или-или», предпочитала остаться с матерью.
Так и жила она теперь на два дома. Забежит, бывало, ко мне после работы, проверит содержимое кастрюль — не голоден ли? — останется часа на два на три и, усталая, летит домой, к маме.
Сейчас, после того, что случилось, я часто думаю: вот если бы она согласилась остаться навсегда. Может быть, тогда я забросил бы свое черное дело, не поехал бы никуда, на ночь глядя, зная, что оставляю дома жену. Но с другой стороны, осталась бы Таня со мной, если бы я снова стал тем заурядным фотографом, которого она уже один раз бросила? О, Господи! Неужели она любила меня только за мои деньги?! Нет, не может этого быть! Она и так была достаточно обеспечена, она никогда не просила у меня подарков, да, признаться, за то короткое время, что мы снова были вместе, я почему-то совсем не думал об этом и подарки дарил очень редко. Нет! Она не любила мои деньги, она любила меня как личность — не заурядного, а сумевшего, как она сама сказала «подняться». Она, романтик, купилась на мою идею. Она знала, что я иду против чуждого ей мира, и она хотела быть со мной. Она, наверное, представляла меня сверхчеловеком, а себя — тем болезненным немецким философом, спешащим рядом.
И это, Господи, неужели все было с Твоего ведома?
Таня упростила мою работу до невероятности. Она стала той верной секретаршей, о которой я не смел и мечтать. Теперь мне не надо было подолгу торчать на крышах, выискивая себе клиентуру. Теперь и клиентура-то стала другая — опасная, конечно, но стопроцентно денежная. Работая в Большом доме, ей удавалось без труда, и, думается, без особого риска собирать сведения на лиц, каким-либо образом попавшим на заметку Госбезопасности. Таня предоставляла мне полнейшие данные, необходимые для дела: помимо той «изюминки», которая должна была очутиться на моей пленке, я теперь знал и род занятий, и увлечения клиента, и, конечно же, адрес с номером телефона. Получив материал, мне оставалось только выбрать правильную позицию для съемок. Денежный ручеек стал быстро расти, превращаясь в реку…
Как-то Таня сказала, что скоро уходит в отпуск.
— Мне тоже пора отдохнуть, — тут же выпалил я.
Мы взяли газету объявлений и стали вместе выбирать курорт, потому что — ясное дело — отдыхать мы решили вместе. Я предложил Флориду — чего мелочиться! Таня не согласилась. Тогда — Канары? Опять — нет. Египет? — Нет. — Но почему? — не мог понять я.
— Да потому что деньги надо тратить с умом!
— Логично.
— Ты, кажется, говорил, что вообще еще не был заграницей, ну так и давай начнем с чего попроще, с Кипра, например. Лучше съездить на Кипр и жить в пятизвездочном отеле и вообще на высшем уровне, чем на Канарах — за три звездочки.
— Ты хочешь сказать, что у меня не хватит средств для пяти звездочек на Канарах?
— У тебя-то хватит, а у меня — нет.
Я оторопел.
— Понимаешь, — продолжала Таня, — я еще не заработала в твоей фирме на Канары… И вообще, начинать надо с малого.
— Ну тогда поедем вот, — ткнул я пальцем, — в Сестрорецк. Начинать, так отсюда.
— Не обижайся, Зайчик, — она ласково погладила меня по голове. — Давай начнем с Кипра, хотя бы потому, что в Сестрорецке я уже была. И не бойся, я поеду на твои деньги, мы не будем делить стоимость обедов пополам, просто к роскоши надо подступаться постепенно, иначе закружиться голова, как перед пропастью, и упадешь.
Вот такая она у меня была.
Так мы решили поехать на Кипр. И в Сестрорецк, в санаторий, взяли путевку — для Таниной мамы. Я засомневался — поедет ли она? Но Таня уверила — поедет из одного лишь только любопытства.
— Вот только потом переплюется, — добавила Таня со смехом, — но тут уж ей все равно: что Сестрорецк, что Кипр, что Канары — лишь бы только поругать чего-нибудь.
Итак, как сказал Шекспир: «Добро пожаловать на Кипр». Быстро сказка сказывается, быстро и дело делается, когда есть желание и средства. Вскоре мы уже летели над Черным морем, над Турцией. Я не только никогда не был за границей, я и в самолете-то никогда не летал, и теперь от одной только мысли, что все так просто, что это обычное дело для меня — сесть в самолет и отправиться в любую часть света, — от этой мысли захватывало дух. Денежные мешки, сидящие вокруг, своим видом еще больше убеждали меня, что я такой же богатый и счастливый. И поверь мне, Господи, тогда это было приятно.
«Зенит», конечно, был со мной. Но теперь я фотографировал только Таню: на фоне моря с размытой границей горизонта — так лазурна была вода и густ, насыщен аквамарином воздух; на фоне резких в своей независимости и гордости скал; среди молодящихся античных развалин, среди сующихся в кадр своими неумытыми моськами мальчишек; перед бесконечными шеренгами виноградников и рядом с торжественно одиноким в своей отрешенности флейтистом — везде была Таня. Я представлял, как дома, печатая эти фотографии, до предела, на сколько хватит резкости и длины штанги увеличителя, увеличу Танину улыбку и повешу снимок на стену. Раньше я посчитал бы это сентиментальщиной, теперь же мне страстно хотелось так сделать. Во всем виновато счастье! Я был счастлив и от этого глуп, я не думал о том, что у счастья, как и у солнца, есть не только апогей, но и перегей, который неизбежен. И даже моему «Зениту» было не под силу остановить эти дивные мгновения.
10
Солнце вставало над городом. Дом за домом, крыша за крышей, двор за двором наполнялись его лучами. Просыпались жители, кое-кто радовался такому пустяку — солнечному лучу, вспоминали о наступившем первом дне лета, о предстоящих в этот день делах, которые у каждого свои, и, может быть, даже поминали меня добрым словом. Город этот — особенный и жители его отмечены печатью, которую заслужили предки их, и эта печать известна и почитаема по всей России. Странный нрав у этих людей — город развивал его. С одной стороны — суровый климат: ветер, дождь, промозглая зима, холодное лето; а с другой стороны — красота. Так и живут здесь люди: мучаются, но уезжать не хотят. Я люблю этот город и пытаюсь сохранить его таким, какой он был и есть. Солнце часто закрыто здесь тучами, но душу тучей не закроешь. А сегодня было и солнце.
— Пойдем на пляж в Озерки, — вдруг пришла Заманихину мысль, стоило ему глянуть на солнце. — Посмотри, какой день настает!
— Нет, Паша, не хочется. Холодно еще. И, кстати, теперь мне нельзя загорать.
— Тепло, тепло. И пока мы соберемся, будет еще теплее. А здесь, в квартире, даже душно, — он открыл форточку, чтобы Надя почувствовала, какой он — первый, по-настоящему летний день. — Забыла что ли? Теперь тебе надо больше дышать свежим воздухом, а там — парк, сосны, вода. Загорать нельзя — ладно. Тенек я тебе обеспечу. Тенек — это моя забота.
Долго ли, коротко ли — уговорил-таки. Собирались, вышли. До Озерков им было ходьбы всего минут двадцать.
— Смотри-ка, правда, печет, — вырвалось у Нади, стоило Заманихиным выйти из тени домов и деревьев. — Пятнадцать, пятнадцать градусов, и вдруг — сразу тридцать! Сейчас ведь не меньше, да? Прямо, как в сказке.
— Твои последние слова я обязательно написал бы через дефис каждое.
— Почему?
— Освежить. Все эти устоявшиеся выражения, затасканные метафоры и метонимии, кажется, только и делают, что просят: оживите нас, сделайте так, чтобы люди снова могли почувствовать всю нашу свежесть и красоту.
— И все? Одни дефисы? Нет, дорогой, этого мало. Я бы на твоем писательском месте употребила бы их в таком контексте, чтобы они и без всяких там дефисов засверкали.
— Да? Думаешь, это так просто?
Но весь этот разговор Заманихин опять только лишь вообразил: так могла бы сказать Надя, если бы она не избегала разговоров о литературе. Что ж, приходиться самому воображать их. Надя сказала и про пекло, и про пятнадцать, и про тридцать градусов, и даже «как в сказке», а дальше он все выдумал и представил, как это могло бы быть. Был он даже неуверен, знает ли его жена — жена писателя — такое слово: «метонимия».
Вместо этого разговора он нашарил в сумке зонтик и раскрыл его.
— Ты чего? — испугалась Надя, когда над ней щелкнул автоматический механизм.
— Обещанная тень, пожалуйста. Вон как парит, вдруг еще дождик пойдет.
«Надменно прыснет дождь», — про себя составил он фразу и тут же отбросил ее — напыщенно.
— Закрой, Паша. Люди на нас как на дураков будут смотреть.
— А и шут с ними…
Встречные и в самом деле поглядывали: то на Заманихиных, то на безоблачное небо, то — снова на них. Надя, казалась бы, уже давно привыкшая к причудам мужа, почувствовала себя неуютно. А Паша между тем непринужденно болтал:
— Они на нас смотрят, давай и мы на них посмотрим. Перед тобой образец заурядной человеческой зависти. Вон, видишь, тетушка идет и на нас пялится. Она изнывает от жары и, небось, думает: «С каким бы удовольствием я сейчас тоже спряталась под тень зонтика». Она, бедняжка, послушав утром прогноз погоды, выложила свой зонтик из сумки.
— Болтун ты, Пашка. Тихо, она услышит!
«Тетушка» прошла мимо, отворачивая глаза от заманихинского взгляда.
Они пришли, наконец, и очень удачно выбрали место. Крутая горка не позволяла принять горизонтальное положение, сосны закрывали солнце настолько, насколько нужно: хвоя пропускала играющий свет, как через сито. Внизу открывался вид на узкую полоску пляжа. Самого пляжа, песочка уже было почти не видно — все застелено покрывалами, на которых лежал раскаляющийся, но еще довольно бледный люд. За озером на другой, песчаной горке еще были свободные проплешины, не занятые загорающими, а сама водная гладь — совсем пуста — купаться было холодновато.
Заманихин разделся и, отступив на шаг в просвет между ветками, первый раз в этом году подставил солнцу спину.
— Как я тебя раскормила, — пошутила Надя. Она расположилась на плоском, давно уже отшлифованном корне — отшлифованном одними человеческими местами совсем не похожими на шлифовальные машинки, — и прислонилась к дереву — этакое кресло, созданное природой. За годы замужества она хорошо изучила своего супруга и, поймав его умоляющий взгляд, сразу догадалась:
— Иди, иди, купайся. Я давно тебя раскусила, эгоист. За тем меня сюда и притащил. А то «воздух-воздух»!
— Пойдем вместе.
— Ты что! Вода холодная. Нельзя мне…
— Ну, я тогда пошел…
Быстро она вошла в роль будущей матери, — думал Заманихин, осторожно, чтобы не засадить непривычные ступни, спускаясь к берегу. — Купаться ей не хочется, загорать боится, а срок, конечно, позволяет еще и то и другое. Что ж дальше-то будет! Ладно, пусть. Слишком долго она ждала этого момента. Обезьянку спать укладывала…
Он преодолел плескающийся у воды арьергард детей и их мам, и с шумом, с брызгами ушел под воду. Вынырнув, не спеша, поплыл. Появилась возможность подумать о последних событиях.
Нельзя останавливаться на достигнутом, — думал он, заплывая все дальше и дальше и ощущая всеми членами, какая все-таки холодная вода. — Нельзя тем более теперь, когда скоро появится ребенок. А это — пеленки, внимание, игры. Надя уйдет в декрет, и тогда уже не останешься днем в одиночестве в своей однокомнатной квартире — волей неволей надо будет ей помогать. Что же, в туалете запираться?! Короче, у тебя есть только девять месяцев — кровь из носа, а за это время ты должен написать новую книгу. Или о тебе забудут. Новая книга за девять месяцев — не слишком ли жесткие условия ты себе ставишь? Но попробовать можно. Достоевский… Но это уж чересчур самоуверенно. А попробуем! Вызов принимаю! — он вспомнил утренние слова Нади о ребенке, о том, что ребенок — это тоже произведение искусства. — Устроим социалистическое соревнование: кто быстрей родит — ты или Надя. Условия, конечно, неравные. И у нее ведь уже несколько недель, а у тебя еще даже ничего не зачато. Нужно срочно идею! Вернее, какой-то грандиозный замысел, чтобы он был лучше «Мертвого фотографа» — и сразу в печать. Хотелось бы, чтобы это было, как в прыжках в высоту: одна высота взята, имеешь право поднять планку выше. А на самом деле — это прыжки в длину: один раз рекорд поставил, и совсем не факт, что сможешь его когда-нибудь повторить. Нужна тема! Сногсшибательная тема!
На середине озера вода оказалась невыносимо холодной. Заманихин развернулся и мощным согревающим кролем ринулся к берегу. Только бы ногу не свело. И стоило подумать, как вот — на тебе, страх, не что иное, как страх сократил мышцу — Заманихин еще успел сделать два гребка руками, шевельнул ногой, и судорога выпрямила ее. Он ушел с головой под воду и схватился за ступню. Другая нога инстинктивно нащупала дно. И все он делал подсознательно: согнулся, потянул ступню на себя. Подпрыгнул на здоровой ноге, хватанул воздуха — и снова ушел под воду, и снова вцепился в ногу — тянул ступню, щипал голень. Воздух вышел пузырями, он из последних сил подпрыгнул еще раз, вдохнул.
И тут отпустило. Нога согнулась, расслабилась. Заманихин с облегчением перевел дух и встал на дно. Здесь было по шейку.
Руки дрожали. В глазах темно. А вокруг — никого. Дети у берега не в счет. Но почему он не закричал? Спасение утопающих дело рук самих утопающих, — подумал он, и тут уж было не до каких-то там дефисов. Дефисы хороши на бумаге. Он представил, как могло это выглядеть со стороны: барахтается мужик на мелкоте, плескается, наслаждается — никто и не подумал бы, что он тонет. Так и помереть можно молодым, напечатав книгу, узнав о ребенке. Только начал, можно сказать, жить — долго, что ли закончить! Если бы не те два последних гребка, унесшие его с глубины, утонул бы, как пить, утонул бы!
Он выбрался из воды и, прихрамывая, полез на горку к Наде.
— Как водичка? — спросила она.
— Бр-р-р! Хорошо!
— А чего хромаешь? Ударился?
— Да, — соврал он.
— И охота тебе бултыхаться в этой луже!
— Что поделаешь. На юга у нас нет ни денег, ни времени.
В руках Надя держала книгу. Заманихин встрепенулся — знакомая черно-красная обложка. Неужели?!
— Что читаем?
— Тебя. «Я читаю тебя, как раскрытую книгу», — продекламировала Надя.
— Откуда эта фраза? Что-то знакомое.
— Не знаю. Я сама сейчас придумала.
— Польщен, польщен. Чем обязан таким вниманием к своей особе? — лакейски прогнувшись, осклабился он.
— Ну, все-таки родственник, какой-никакой… — осадила его Надя и вдруг нахмурилась: — Так. Кто собирал вещи в дорогу? Где вода?
— А что, в сумке бутылки нет? Значит, я на кухне ее оставил.
— А я пить хочу.
— Сильно?
— Что за глупый вопрос!
— Ладно. Это поправимо. Там, возле того берега, за горкой, показал Заманихин налево, — в прошлом году ларек стоял, и кафе было. Сейчас схожу. Обсохну только.
— Хочу пить!
— Иду, иду.
— Мне пиво.
— Обойдешься. Беременным алкоголь нельзя — забыла? Пиво — мужчине.
Заманихин, непривычный к земле урбанист, обул ботинки на-босу ногу, взял тощеватый кошелек и, как был — в плавках, в ботинках, пошел выполнять желание дамы своего сердца.
— Только быстрей, пожалуйста, Паша, — попросила она.
— Через пять минут уже вернусь.
Гип-гип-ура! — крикнул он про себя. — Ее величество, жена соизволили открыть мою книгу.
За всю их совместную жизнь Надя прочитала от силы три-четыре рассказа мужа, и то он их ей навязывал, чуть ли не силой, чтобы узнать ее мнение. «Мертвого фотографа» в рукописи она откладывала, откладывала, да так и не прочитала. Сказала, потом: напечатаешь — прочту. И это, конечно, очень его обижало. Ему хотелось, чтобы Надя была, как Крупская, как Анна Сниткина…
Заманихин вышагивал по дороге, повторявшей изгибы озерка, когда его обогнал вороного цвета «БМВ» и остановился прямо перед ним. Из автомобиля вылезла девица, беловолосая и тонконогая — слишком беловолосая и слишком тонконогая, чтобы быть красивой. За ней по-спортивному резко из задних дверей выскочили два дюжих молодца. Девица направилась прямо на Заманихина, с каждым шагом расцветая соблазняющей, как, должно быть, ей казалось, улыбкой, и увлекая за собой своих телохранителей. Или — телопочитателей.
— Так это же правда — Заманихин! — вдруг воскликнула она, с поддельным интересом разглядывая нашего новоиспеченного — с пылу, с жару — писателя. — Не может быть! — и ему, приблизившись вплотную: — Только вчера, представьте, проглотила вашу книгу, а потом долго разглядывала ваше мужественное лицо на обложке.
Ну вот, пришла известность, — подумал Заманихин. — «Мужественное лицо», хм — слышала бы Надя!
Девица взяла Заманихина под руку:
— А вы меня случайно не узнали?
— Не-а.
Может актриса какая-нибудь? — подумалось.
— Странно… Ну ничего, вспомните. Давайте, мы вас подвезем, а?
— Нет, нет, что вы! Я уже почти пришел…
— Ну, пожалуйста! Нам будет так приятно, — она прижалась, бесстыжая, чем только смогла.
— Да я за лимонадом…
Вдруг голая спина Заманихина ощутила что-то острое, упершееся ему под левую лопатку.
— Полезай в машину, падла! И без шуток, — произнес один из телоломателей, как-то оказавшийся сзади, пока Заманихин из скромности перед похвалами девицы потуплял взгляд. Другой был слева, девица — справа, под лопаткой — нож. Не убежишь.
— Возьмите деньги, — протянул Заманихин свой кошелек, который до этого сжимал в руке. Кошелек взяли, да тут же и выбросили его в воду.
Вот тебе и тема для новой книги, — мелькнуло у Павла, пока они дружной компанией, если бы кто-нибудь посмотрел со стороны, шли к машине. Прежде, чем влезть внутрь, Заманихин бросил взгляд на горку, туда, где была его Надежда, но из-за деревьев ему, а, скорее всего и ей, было ничего не видно.
11
Заканчивался наш отпуск. Вернувшись с чудо-острова, мы еще неделю занимались только друг другом. Ни с чем не сравнимое удовольствие — наслаждаться близостью любимого человека, лелеять его, выполнять все желания и самому капризничать, не думать ни о чем. Хорошо отключить телефон и не интересоваться новостями; даже не выходить на улицу, заказывая еду в ресторанах с доставкой на дом, чтобы после Кипра не получить шок от неумолимо жестокой повседневной действительности.
Но и это кончилось.
В воскресенье мы привезли из Сестрорецка Танину маму. Тогда-то я впервые и увидел ее. В понедельник Тане надо было на работу, и она ночевала дома: выслушивала, наверное, впечатления мамы и делилась своими. А я коротал ночь один. И оттого, что, должно быть, я отвык от одиночества, мне не спалось, хотя, совсем недавно, на Кипре, я только и мечтал, чтобы выспаться ночью. Думал, не напечатать ли мне фотографии с Таниными улыбками, но тут же вспоминал о ней и говорил себе: «спать, спать» — вдруг придет она завтра после работы, а я буду клевать носом.
В результате, я спал, чуть ли не до обеда. Затем занялся мелким ремонтом автомобиля: покопался в двигателе, подтянул кое-что, залил масло. Хотел уже идти обедать, но сел за руль, решив сначала намотать несколько кругов по городу, во-первых, чтобы проверить работу машины, во-вторых, чтобы понаблюдать — вдруг попадется что-нибудь необычное, достойное пленки моего «Зенита» и, конечно, стоящее немало денег. Кто же знал, кроме Тебя, Господи, во что это выльется. Ты умело столкнул между собой две силы зла и наблюдал, потирая чистенькие свои ручки, как более сильный хищник пожрал неосторожного хищника поменьше. Ты продемонстрировал догадку Дарвина, только и всего.
Я шнырял на своем «Жигуленке» и по узким улочкам, и по широким, забитым машинами проспектам, пока не нашел свою судьбу. Теперь я знаю, Господи, не я, а Ты управлял моей машиной: там поставил знак «объезд», там — «поворота нет», там создал пробку, а там вовремя включил красный свет светофора, и вот она — моя судьба.
Она стояла слева от меня за встречной полосой движения в виде скульптурной композиции из четырех человек… Нет, конечно, это были живые люди, и они шевелились, особенно один — седой, средних лет мужчина в приличном, светлых тонов костюме. Он ожесточенно махал руками и брызгал слюной на скульптуру девушки, стройной, белоголовой, с голыми ногами — черное платьице едва закрывало место, откуда они росли. Скульптуру, потому что она, действительно, стояла, как статуя, надменно и величаво, не обращая внимания даже на плевки, как не обращают внимания театральные зрители, сидящие за бешеные деньги в первом ряду, на брызжущих слюной актеров. Последних два изваяния изображали двух совершенно одинаковых бугаев в спортивных костюмах, вытянувшихся столбами за кричащим мужчиной. Со стороны казалось, что богатенький папаша увещевает свою неразумную дочь, а сзади стоит его охрана. Так я и подумал. Но вдруг один бугай шевельнулся, и я увидел, как что-то сверкнуло на солнце в его руке. Сомнений не было — это нож, приставленный к спине седоватого мужчины.
Но тут зажегся зеленый на светофоре, мне загудели стоящие сзади машины. Я вынужден был отпустить сцепление. Я вертел головой, глядя то вперед — на дорогу, то влево, а потом и назад — на удаляющуюся сцену. «Неужели его убили прямо на улице?» — мелькнуло у меня. Но все-таки я успел увидеть, как они вчетвером забирались в белоснежный, модной марки, «БМВ», дабы укатить в противоположном от меня направлении. Я сделал все, чтобы они не ускользнули: проехал перекресток, резко перестроился в крайний левый ряд, вызвав еще более ожесточенные гудки в свой адрес, и, развернувшись на встречной полосе, успел проскочить на желтый все того же светофора. Все, я сидел у них на «хвосте».
«Лишь бы теперь не упустить», — думал я, хотя, оказывается, как бы хорошо было, если б это случилось. Один раз я подъехал к ним бок о бок, пытаясь что-нибудь разглядеть. За рулем сидела девушка. Она вела машину небрежно, одной рукой, высунув локоть другой из окна наружу, и в такт оглушительной попсе энергично качала головой. Остальные окна не только были закрыты, но и густо затонированы, скрывая сидящих сзади мужчин. Девушка поймала мой взгляд и, все так же мотая своими белыми волосами, улыбнулась мне. Прекрасная юная улыбка. Улыбнулась, надула пузырь из жвачки, хлопнула его, демонстративно не спуская с меня взгляд, и прибавила газу.
«Какие беспечные мне попались клиенты», — подумал я тогда. У них даже и мысли о слежке не возникло. И это при их-то опасной профессии! По себе знаю: моя голова во время «дела» крутилась на триста шестьдесят градусов, я вздрагивал от каждого шороха и никак не мог привыкнуть. И только потом, когда уже было поздно что-либо поправить, я все понял. Дело было в их безнаказанности. И не потому, что они не чувствовали своей вины перед законом — нет, просто они не боялись ничего. А пока я не мог нарадоваться: хоть и трудно было на машине уследить за ними — совсем не так, как в фильмах, я все-таки сделал это; и в подъезд они ввалились всей компанией, и этаж мне указали — девушка крикнула в лифте: «Куда жмешь, идиот! Пятый». И даже не потрудились закрыть шторы — их просто не было на окнах. А я не обратил внимания на этот первейший признак безнаказанности, откровенный намек мне, исповедующему культ занавесок и гардин: «Уйди по-хорошему!» Но разве в силах я теперь был уйти!
На шестом этаже в подъезде дома напротив я приготовился к съемке. Пленник уже был привязан к стулу, причем прямо у окна, так что мне было все хорошо видно. Но спектакль не начинался — наверное, кого-то ждали еще. На всякий случай я снял мучения привязанного: руки заломлены высоко за спинку стула, растрепанные седые волосы закрывали опущенное вниз лицо — если бы не его неестественная поза на стуле, если бы не покрасневшая шея с блестками пота, можно было бы подумать, что он спит.
Напротив него — и это тоже попало в кадр — в кресле, положив ногу на ногу, сидел мужчина и разговаривал по телефону. Он был подстрижен по моде, пришедшей к нам из американских боевиков — его череп был выбрит начисто, и из растительности на голове его украшали только кустистые седые брови. В глазах — холод, на губах — ехидная улыбка, обнажающая ровные зубы и фиксу на клыке.
Положив телефонную трубку, лысый встал, что-то говоря пленнику и довольно потирая руки — ну, прямо отец семейства, предвкушающий обильную трапезу, — а затем все также что-то рассказывая — что, мне было не слышно — заходил взад-вперед по комнате. Вдруг хлопнув в ладони (я готов поклясться, что он при этом сказал: «приступим!»), лысый снова сел в кресло. Тут же на сцене появились бугаи, прятавшиеся где-то за кулисами этого немого театра. Они заломили пленнику руки еще выше, и он, как послушный механизм, открыл рот. На самом деле, наверное, он кричал благим матом от боли. Дальше — больше. Бугаи напряглись, надули щеки и подняли свою жертву за вывернутые руки вместе со стулом. И тут же тело подпрыгнуло — это девушка с белыми волосами, милое создание, еще полчаса назад так терпеливо внимавшая негодованию седоватого мужчины со всеми его жидкими брызгами, — эта девушка, окончательно, до самых оснований, оголив свои стройные ножки, всадила острый каблучок ему в глаз. Прямо — мечта мазохиста. Я так засмотрелся, что, кажется, даже не успел вовремя щелкнуть фотоаппаратом.
Вероятно, зазвонил телефон, потому что лысый поспешно снял трубку. Он говорил некоторое время и даже поднял ее вверх, направив на пленника. Как я понял, невидимый собеседник лысого тоже хотел насладиться криками жертвы.
Пытки продолжались. Подробности слишком мерзки, чтобы на них останавливаться, хватит и того, что все они запечатлялись моим «Зенитом». Чем мог им насолить этот пожилой поседевший мужчина с красной рожей обыкновенного русского пьяницы? Что он сделал такого? Странно, я задумался об этом только теперь, а тогда это нисколько меня не интересовало, у меня даже не возникло мысли, что я могу оказаться на его месте.
Через пятнадцать отснятых кадров на сцене вдруг появилось новое лицо. И не лицо даже, а лик для некоторых то ли правых, то ли левых, то ли тех, что посередине, — трудно в этом было разобраться: когда-то он был правым, а потом стал левым, или наоборот. Лик, еще совсем недавно смотревший на своих почитателей с уличных предвыборных иконок. Теперь я назову его просто Х, а тогда от изумления я выкрикнул его фамилию на весь подъезд. С неуемной радостью я снова защелкал «Зенитом»: «Х рядом с лысым», «Х щипает девушку за щечку», «Брезгливый Х поднимает за волосы еще не отрубленную голову своей жертвы». И вот он, кульминационный кадр — групповой портрет: окровавленная жертва, разгоряченные молодцы, беловолосая девушка (снова сама скромность), довольный, улыбающийся лысый и Х, делающий красноречивый жест ладонью себе по горлу, имея в виду горло вовсе не свое.
Большего мне было не нужно. О большем уже не мечтают. Я полетел домой. Я радовался, я ликовал, и деньги стояли перед моими глазами. Я думал, что стоит теперь зацепить эту рыбину покрепче на крючок, измотать ее, и она сама выбросится на берег; что такой крупной добычи мне еще не попадалось, остальные — жалкая мелочь по сравнению с этой. Как любой рыбак я был упрям. Я даже не подумал о том, что эта рыбина может утащить меня за собой на неведомые глубины.
Я проявлял пленку, печатал фотографии со скоростью автомата. Азарт захватил меня. Интересно, знай я, что последний раз наблюдаю магическое проявление на белом листе, достаю фотографию из кюветки, разглядываю ее при красном свете, окунаю снова — стал бы тогда я спешить? Почему, Господи, Ты не подал мне знак, почему не шепнул мне об опасности? Ах, да! Ты наоборот потирал руки от удовольствия — тоже в предвкушении трапезы.
Я позвонил Тане на работу:
— Мне срочно нужны телефоны Х.
— Ты что?! Это не телефонный разговор.
— Срочно!
— Хорошо… Ты дома? Перезвоню с улицы.
— Быстрее, Таня, — нетерпение захватило меня, хотя куда было спешить — снимки еще глянцевались — но я просто не мог сидеть на одном месте.
Таня позвонила через двадцать минут и сообщила мне все, что требовалось. Я уже готов был уходить.
— Может быть теперь, ты объяснишь, что случилось? — спросила она.
Милая Таня, если бы ты была не так вышколена своим засекреченным шефом, требующим, как в армии: сначала исполнить команду, а обсуждение — потом, если бы ты была чуточку настойчивее, хитрее, ты бы расспросила меня, и тогда бы диктовала номера телефонов. Или не стала бы диктовать, чтобы уберечь меня и себя от опасности.
— Он у меня на крючке, — сказал я, плохо сдерживая возбуждение.
— Он?! Ты сумасшедший! Ни в коем случае не делай этого! Ты же сам говорил, что мы не будем залезать в такие истории. Он очень опасен. У тебя не получится…
— Получится! — крикнул я и повесил трубку. Не так надо было меня отговаривать.
На Московском вокзале я закрыл пакет с фотографиями в автоматическую камеру хранения, нашел одиноко стоящую телефонную будку. Из трех номеров я выбрал один наугад и попал с первого раза. Мелькнуло: «Хороший знак!»
Он назвал свою известную фамилию.
— Шантажист, — представился я.
Он опешил, наверное, но потом собрался и выговорил:
— Что вам угодно?
— У меня есть компрометирующие вас фотографии. Вы найдете их на Московском вокзале в камере хранения, — я назвал номер и код камеры. — пошлите туда кого-нибудь побыстрей, а я перезвоню вам через час, и тогда мы обо всем договоримся…
— Дорогой мой, у вас большие уши? — вдруг перебил он меня.
На этот раз опешил я, хотя отвечать и не стоило.
— Не жалуюсь…
— Но я все равно их вам подрежу.
— Предупреждаю, — опять затараторил я давно затверженный текст, — если вы вдруг не захотите выполнить наши условия, мы передадим эти сведения вашим врагам — они не плохо отвалят за это. Если со мной вдруг что-нибудь случится, все сделает мой помощник…
Дальше Х не стал слушать, повесил трубку. Капелька пота быстро потекла у меня по спине, неприятно охлаждая кожу.
Ровно час я проездил по городу и позвонил из таксофона снова.
— Ну как? Производит впечатление? — спросил я.
На другом конце линии Х почмокал губами. «Пошел на примирение», — успел подумать я, но ошибся.
— Как вам сказать… — опять чмоканье. — Я полагал, будет что-нибудь интересней. Так, значит, это вы тот знаменитый фотограф-шантажист? Но все равно я вам скажу: вы уже труп, дорогой мой. И ваш помощник. Да. И попрошу больше меня не беспокоить. Был фотограф, стал мертвый фотограф.
В сердце екнуло, в трубке — гудки.
«Это развязывает мне руки», — подумал я. По пути домой я решал, кому же из врагов Х лучше отдать пленку. Почему я сразу не сделал этого? Ведь тоже бы немало денег отвалили. Да потому что не мог, потому что мне казалось это непорядочным — у шантажиста тоже есть свой кодекс чести, потому что это шло вразрез с моей теорией — это, во-первых; а во-вторых, еще не было такого в моей практике, чтобы кто-нибудь отказывался купить мои откровенные снимки.
Я ехал домой. Вдруг впереди меня в мой двор не сбрасывая скорости на повороте, вкатил белый «БМВ». Я сразу его узнал. Сомнений не было — даже номера те же. Хорошо хоть, что дворы в новостройках большие, я успел сообразить, и когда «БМВ» поехал прямо, туда, где была моя парадная, я свернул направо и остановился метрах в двухстах у соседнего дома. Как повезло мне, посчитал я, что они какой-то минутой раньше меня приехали и что у меня такой неприметный автомобиль, на который и смотреть-то не хочется из окон их крутой тачки. Я видел, как они все вместе вылезли из машины: лысый, белоголовая девушка, два бугая — и уверенно, будто были здесь не первый раз, скрылись в моем подъезде. Я остался в машине. Окна моей квартиры выходили на противоположную сторону, к тому же шторы там, естественно, были закрыты — соглядатайствовать за собственной квартирой у меня не было никакого желания. Да и так ясно — все кончено: я вычислен, пленка, стоившая бешеные деньги будет найдена. Но в тот момент мне было жаль другую пленку, так и не проявленную, а потому беззащитную — ту, на которой кадр за кадром должны были мелькать улыбки моей любимой. Надо было предупредить Таню, а я сидел и не мог пошевелиться от отчаяния.
Часть вторая
12
Вот тебе и начало новой книги! — вертелось в голове Заманихина. Он сидел в машине, стиснутый с двух сторон плечами молодцов; глаза ему завязали тряпкой. Он не знал, что и подумать. И если бы эта крашенная блондинка не назвала его фамилию — достаточно редкую, чтобы предположить совпадение, — можно было подумать, что его с кем-то перепутали. Но что тогда? Похищение? Выкуп? Какой, к чертям, выкуп! Он и свой жалкий гонорар-то до сих пор не получил. Что же еще? Что еще может быть?
— Вы меня, наверное, с кем-то перепутали… — обратился он в темноту.
— Заткнись, Заманихин, а то — скотч на губы. Скоро сам все узнаешь.
Его обдало чье-то смрадное дыхание — букет из запахов перегара, вчерашнего чеснока и гнилых зубов.
Не перепутали…
Да, лучше помолчать. Но воображение-то просто так не заткнешь, не выключишь, и оно стало раскручивать эту новую книгу, так неожиданно вдруг зародившуюся. Как парадоксально писательское сознание: ему приставили нож к спине, везут куда-то, а он придумывает книгу, напрягся, зашевелил мозгами. И наплевать ему на себя, лишь бы думать о книге… Конечно, все это надо представить романтичнее, — думал Заманихин, — например, главный герой идет в булочную или на работу, как вдруг перед ним останавливается машина — «Мерседес» или тот же «БМВ», хотя «БМВ» уже был в «Мертвом фотографе». Но неважно, главное, чтобы это был красивый дорогой автомобиль. За рулем — прекрасная одинокая женщина, которая приглашает героя прокатиться. А эти молодцы, ножи в спину, банальные повязки на глаза — все это лишнее. Тут очень важный момент, согласится ли герой сесть в машину, согласится ли, другими словами, бросить свою жизнь с надоевшей работой, с нудной женой, посылающей за хлебом, и оказаться готовым к необычайному приключению. Если не согласится, не будет и книги. Тут надо обязательно все обосновать и мотивировать. Далее — приключение, этакая фантастическая химериада, невозможная в обычной жизни. Юмор, гротеск, загадки и ловушки — это он все сможет.
Вот только одно малодушное «но». Пусть даже герой рассказывает о своих невероятных приключениях от первого лица, но, хотелось бы, чтоб все это происходило с героем вымышленным, литературным, а не с ним самим.
Шутка затягивалась. Надя, наверное, уже волнуется. Минут двадцать они уже ехали, поворачивали, кружили. Если бы сразу запомнить все повороты, глядишь, и выбрался бы. Но то, что они едут по городу, Заманихин понял сразу: повороты, остановки у светофоров, машины вокруг ревут. Это радовало. Хорошо, что не за город, в лес, а там — ножиком по горлу — и вся недолга.
Наконец поехали медленнее, а потом и совсем остановились. Тут же сняли повязку с глаз и вытолкали из машины.
Узкий проходной петербургский двор-колодец: с четырех сторон стены этажей в пять-шесть, вверху квадрат светлого неба, слева подворотня, справа подворотня, темные зевы подъездов и — ни одного человека. Заманихин поежился от холода — он ведь был в одних плавках и ботинках. Здесь, наверное, убогий асфальт и не знал, что такое луч солнца.
Вошли в подъезд и начали подниматься по лестнице: впереди девица, за ней Заманихин, сзади два молодца. Был бы Заманихин суперменом, он бы девицу — за волосы и вниз, на молодцов, а сам бы с криком и со стуком бросился бы вверх — авось, кто-нибудь бы дверь и открыл. Но это все опять воображение. Не был Заманихин суперменом. Да, похоже, и дом-то нежилой.
На третьем этаже девица отперла дверь и ступила в непроглядную темень. То же, значит, должен был сделать и Заманихин, но никак не мог решиться, пока не дождался толчка в спину. Девица не включила свет, и без того неплохо ориентируясь в этом темном лабиринте. Заманихин старался не упустить из виду ее беловолосую голову — единственный ускользающий маячок. Но, наконец, повороты закончились, и коридор потянулся прямо, бесконечно прямо.
Вот они — коридоры коммуналки, — подумал Павел. Сколько лет в такой же квартире прожили его родители. В такой квартире родился и он, но совсем ничего не помнит об этом. Родители получили квартиру на окраине города и с легким сердцем покинули жалкую комнату в коммунальной квартире. В конце концов, все коренные жители проделывали этот путь, или другой, через кладбище, оставляя центр с его коммунальными квартирами приезжим. Шумно, наверное, здесь должно быть, но сейчас — ни звука, и то и дело попадался мусор под ногами. Неужели здесь никто теперь не живет?
Девица остановилась так внезапно, что Заманихин врезался в ее невидимое тело. Хотел извиниться, но она резко открыла дверь, и его втолкнули внутрь.
В глаза ударил свет. Можно ли описать это? Лев Николаевич, быть может, и смог. Но как это сделать, если строптивые веки закрываются сами, если перед этим повязка была на глазах, и темный двор, и коридор… Свет, свет из двух окон напротив. Свят, свят, свят! Первое, что увидел Заманихин — черт, возлежащий на старой, железной, с шарами на высоких спинках, кровати. Его рожки на совершенно лысой голове отливали стальным блеском, хвостик свешивался на пол, копытца… А были ли они? Заманихин не успел посмотреть туда, в сторону, где заканчивались голые волосатые конечности, а может, и побоялся. Взгляд приковала книжица с портретом на задней обложке, на черно-красной обложке, его, Заманихина, книжица, которую черт невозмутимо почитывал.
— А-а! — воскликнул он, увидев входящих. — Добро пожаловать, Павел… кажется, Петрович!
Он резво вскочил; пружины облегченно вздохнули. Но удивительно: рожки превратились в две вертикальные штанги на спинке кровати и остались на месте; хвостик же незнакомец привычным движением обмотал вокруг талии и завязал узлом на пузе — хвостик оказался кушаком с кисточками на его халате; копытца… А были ли они? Голые желтые пятки выглядывали из шлепанцев.
Зрение окончательно вернулось к Заманихину. Перед ним стоял улыбающийся человек, совершенно лысый, с белесыми кустистыми бровями, с острым длинным носом и ленинским прищуром в глазах. Заманихин посмотрел по сторонам: комната, залитая полуденным солнцем, была огромна и пуста — только кровать у стены и единственный стул в углу, а в другом углу сметен мусор. Не было ни занавесок на окнах — только пустые карнизы, никакой маломальской лампочки на потолке, лишь массивный крюк вместо нее, а на нем веревка с еще одним крючком. У двери на гвозде висел на вешалке-плечиках черный костюм, вероятно, этого незнакомца, а под ним на полу остроносые, с блеском, ботинки.
— Стул гостю! — вдруг крикнул лысый — на миг от крика исказилось лицо, исчез прищур, сверкнуло под бровями — и снова дружелюбное умиление.
Тут же один из молодцов схватил стул, подбежал к Заманихину и сунул его сзади под сгибы коленей. Пришлось сесть. Ну, и гостеприимство! Откуда ни возьмись, сзади захлестнула его веревка, прижала к спинке, опутала ноги, сроднила с незнакомым стулом, закрутившись замысловатыми узлами, похожими на путы, порой такой сумбурной заманихинской мысли. Руки ему вывернули назад и — щелк! — Заманихин никогда не слышал раньше такого неприятного звука — нацепили наручники.
— Так вроде, вы это описали? — осведомился лысый и зачем-то постучал желтым ногтем по черно-красной обложке. Затем расправил плечи, расслабился и опустился на свою кровать.
— Я не понимаю… в чем дело? Объясните, по какому праву? — на последней ноте голос предал Заманихина, сорвался, дал петуха.
— Вы что же, еще не ввели его в курс дела? — вопросил лысый изумленно и строго у своих подчиненных.
— А зачем? Скоро и сам все поймет, — это сказала девица, стоявшая где-то за спиной Заманихина. Голос ее, полчаса назад при первой встрече такой слащавый и заискивающий, теперь был по-мужски низок, с железной хрипотцой. — И потом, приказа не было, — невозмутимо добавила она.
— Это верно. Инициатива в нашем деле должна быть наказуема… Но разве Павел Петрович не просил, не требовал?
— Просил… Да нам что! Кулак понюхал и успокоился.
— Ну и метод, — махнул лысый рукой и ласково, вкрадчиво обратился к Заманихину: — Так вот, Павел Петрович, нам и надо-то узнать у вас одну маленькую безделицу, пустячок. Спросить мы у вас хотели, как нам найти одного нашего старого друга. А вы, оказывается, тоже с ним встречались. Он — главный герой этой вашей книжки.
И опять ногтем по обложке. Ноготь был не только желт, а еще с каким-то коричневым отливом, длинный и, должно быть, твердый, потому что стучал по мягкой обложке с таким звуком, как по дереву стучит коготь зверя.
Заманихин не сразу понял, кто им нужен, а, сообразив, даже чуть-чуть успокоился. Сейчас все образуется. И как ни сильно он был напуган, все же выдавил из себя усмешку:
— Вы что! Он же выдуманный…
— Это ты издателям и ментам рассказывай, козел, а нам не ври! — сорвалась на крик девица.
— Тише, тише, спокойнее надо, — осадил лысый девицу, — аргументами, доводами, доказательствами. Человек понять должен, что мы от него хотим, а потом уже, если упрется, то и пыточки применим.
И так он сладко, мечтательно выговорил это слово «пыточки», что Заманихин отшатнулся на своем стуле. Но хоть убей его, он пока ничего не понимал.
— И я вот чувствую, что вы пока ничего еще не поняли и не осознали всей ответственности, — вдруг подхватил лысый, будто только что прочитал мысль в голове Заманихина. — Объясняю. Нам нужен этот ваш фотограф, которого вы так живенько описали. Ваш этот самый «мертвый» фотограф. Не понимаю только, что за название. Точно ведь знаю, что он жив, стервец. Эка, вы, писатели, любите свои эпитеты! «Мертвый» — это, наверное, в том смысле, что для общества он уже потерян, да? Ну, так мы вам еще и поможем, мы его по-настоящему мертвым сделаем. А вам, кстати, за это ничего не будет, только огромное наше товарищеское спасибо.
— Но я, правда, его выдумал…
Лысый сморщился, будто железом провели по стеклу.
— Бросьте, может, вы и все остальное выдумали?
— Конечно.
— И нас?
— Как это?
— Ну, вот мы стоим перед вами — мы, получается, тоже выдуманы?
Заманихин ничего не понимал, и лысый опять это почувствовал:
— Похоже, без цитат не обойтись, — он начал копаться в книге. — Сейчас, сейчас… Вот, например, — и он начал читать: — «Напротив него — и это тоже попало в кадр — в кресле, положив ногу на ногу, сидел мужчина и разговаривал по телефону. Он был подстрижен по моде, пришедшей к нам из американских боевиков — его череп был выбрит начисто, и из растительности на голове его украшали только кустистые седые брови. В глазах — холод, на губах — ехидная улыбка, обнажающая ровные зубы и фиксу на клыке…» А? Что? Похож? Фиксу показать? — и лысый ощерился — там, во рту у него действительно блеснуло золото.
— Это чудовищное совпадение, — подавлено произнес Заманихин. Не мог он не узнать отрывок из своего произведения.
— Хотелось бы, батенька, верить, но факты — упрямая вещь. Не мною первым сказано. В этой книге нет ни одного — ни одного! — поднял лысый палец, — описания, которое бы так или иначе не соответствовало действительности. Мы все, конечно, польщены, приятно, когда о тебе пишут…
— Мы не польщены, шеф, — вдруг перебил лысого один из парней. — Чего он нас с Жемком все время бугаями называет.
— Так это же, Кнут, комплимент. Он же не называет вас долбогребами, как я. Он — ласково: бугаи, бугайчики… Впрочем, теперь вы можете и отомстить. Пора Павлу Петровичу понять, что тут не до шуток. Давайте!
Молодцы вдруг схватили Заманихина за кисти вывернутых рук и подняли его в воздух. Боль вонзилась в тело, крик разорвал сжатые зубы. Парни подтащили его чуть вперед, к веревке, зацепили за крюк его руки в наручниках и оставили висеть вместе со стулом.
— Мы тут усовершенствовали вашу пыточку, — сквозь шум в ушах услышал Заманихин голос лысого. — Помните, как у вас описано? Зачем мальчишечкам надрываться, на руках вас держать, когда можно вас на крючочек подвесить вместо лампочки, — лысый поднял за волосы опущенную голову Павла и улыбнулся ему в лицо: — Итак, где же нам найти фотографа?
В глазах Заманихина потемнело. У него бы было такое чувство, что все это происходит не с ним, если бы ему не претила банальная пошлость этой фразы. Ну как это — не с ним, когда он все видит, слышит, чувствует. А руки! Они ведь сейчас оторвутся! Но по мере того, как его сознание все больше и больше заволакивало густым неприятным туманом, ему казалось, что он начал кое-что понимать. Он попал в какой-то другой мир, другое измерение. Это был мир его собственной книги, где живут им же созданные герои. И в глазах было черно с красными пятнами — черно-красная книга вокруг! Город, казалось бы, тот же, да не тот — город создан в его воображении. Невыразительная пустота над головой, потому что он, создатель этого черно-красного мира, не смог описать небо; зыбко, шатко под ногами. Надежда на спасение только в слове. Нужно слово, но какое? Как найти сейчас его?
Заманихин потерял сознание.
13
Теперь, восстанавливая в памяти все события того безбожного дня, вспоминается еще один короткий разговор с Таней. Это было перед отпуском. Таня только что пришла с работы, мы поели и пьем чай с сушками. Вечер, сумерки, через час мне выезжать на пост.
— О тебе говорили сегодня, — вдруг неожиданно сказала Таня. Я сразу понял, кто говорил, где и о чем. Развивать эту тему не было смысла — когда-нибудь обо мне должны были узнать там, и поэтому я отшутился:
— О нас… говорили о нас. Разве смог бы я добиться такой известности без тебя, — и, дотянувшись губами, чмокнул ее в плечо. И все на этом.
Да, все было кончено. Но Ты, Господи, посчитал, что этого мало. Ты добивал меня изощренно, с садистским удовольствием. Так почему же Ты оставляешь меня жить до сих пор, когда она…
Она неожиданно появилась из-за угла и быстро знакомой дорогой пошла в сторону моего подъезда. Ей оставалось шагов двадцать, чтобы скрыться от меня навсегда, когда я опомнился. Я пытался судорожно открыть дверцу машины, и не сразу сообразил, что зачем-то закрылся изнутри на защелку. Выскочил, наконец, крикнул, но имя ее, как всполошившаяся птица, застряло у меня в груди, глотка пересохла, голос сорвался. Откашлялся, крикнул, но она не услышала — она уже заходила в подъезд. Это было ужасно: смотреть, как Таня неотвратимо приближается к своей гибели — она ведь спешила, она переживала за меня. Я бросился к ней через огромный двор: мимо детской площадки, мимо машин, кустов, деревьев, мимо людей, удивленно смотревших на меня — у них ведь все было нормально. Но уже тогда я понял, что не успею — слишком велико было расстояние.
Помню, я вбежал в подъезд и сразу же окликнул Таню. Но ответа не было. Тишина поразила меня. Лестница наслаждалась тишиной, зловещей, обманчивой тишиной, без труда поглотившей мой крик. Лифт стоял где-то наверху, скорее всего на моем этаже, скорее всего Таня ехала на лифте. Я поднялся на несколько ступенек и остановился, с ужасом представив, как она выходит на моем седьмом этаже, как достает свой ключ, открывает дверь, включает свет в прихожей, зовет меня… О, Господи, я сразу же вспомнил того мужчину, привязанного к стулу, и представил себя на его месте. Но не ее, не ее!
Я еще даже вызвал лифт. Он с завыванием и скрипом поехал вниз. Но вместе с этим шумом раздался и другой. Щелкнул замок, и кто-то многоногий быстро побежал по лестнице вниз. Теперь я сомневаюсь, точно ли это выбежали из моей квартиры, но тогда мне показалось, что щелкнул именно мой замок, и бегут именно за мной. И этого хватило. Я выскочил из подъезда и понесся к машине. Включая зажигание, я, кажется, обернулся и увидел — бегут, бегут за мной. Бежали, но теперь не уверен: за мной ли. Я дал газу.
Первым делом я ринулся в банк и снял свои сбережения с текущего счета. Удивительно устроен человек: в зеркале заднего вида мне мерещился белый «БМВ», в банке я пугался любого блеска лысины, но с деньгами я расстаться не мог. Все мои действия походили на работу автомата, которому нужно было спасти деньги и свою шкуру — больше он ни о чем не думал.
Затем я рванул из города.
С трудом вспоминаю эту бешеную гонку. Я был как будто в забытьи, я гнал свой «Жигуленок» на максимальной скорости, и замирал от страха, стоило какой-нибудь крутой машине догонять или перегонять меня.
Опомнился я только после трех часов езды где-то за Лугой. Автомобилей на шоссе заметно поубавилось, и затеряться среди них стало сложно. А мне хотелось исчезнуть, раствориться в толпе, быть таким же, как все, чтобы не гонялись за мной крутые парни. И тогда я свернул на какую-то пыльную проселочную дорогу, и через несколько минут в зеркале заднего вида шоссе исчезло. Погони, конечно, не было, но я еще долго на полной скорости, гробя машину, трясся по ухабам. Дорога петляла по причинам известным одной только ей. Заходящее солнце было от меня то слева, то справа, но больше всего оно или пряталось за непроницаемой стеной леса или вдруг неожиданно выныривало прямо передо мной ярким слепящим шаром. И от этого, и от того, что с обеих сторон меня обступали то желтеющие ржаные поля, то не скошенные луга, то леса: еловые, дремучие — в низинах, и реденькие, веселые, березовые — на горках, а чаще сосновые, строгие, чистые, величественные в своей стати; а впереди была убегающая за новый поворот и требующая постоянного внимания дорога — от всего этого успокоилось сердцебиение, взгляд расстался, наконец, с видением уходящей вверх лестницы, руки, сжимавшие руль, перестали дрожать. Теперь, если я и смотрел в зеркало заднего вида, то только затем, чтобы насладиться ускользающим штрихом, умело сотворенным природой.
Тогда, наверное, я впервые понял, но еще не осознал, что попал в совершенно другой мир. Помню, в детстве, в пионерских походах он приоткрыл мне часть своей красоты, но был забыт мною в суете городской жизни. Да и не только в красоте дело. Что-то еще, неясное, необъяснимое завлекло меня сюда — неужели тот банальный зов предков, неужели то, что пращуры мои когда-то вышли из этих дремучих лесов, и теперь, в минуту опасности я вернулся туда. Не знаю. Все было ново, незнакомо мне: и деревья, ни в какое сравнение не идущие с чахлыми городскими, и избы в деревнях, которые я пролетал одним махом — что там деревня: одна улица, с двух сторон дома. И даже люди были другие с первого взгляда. Вот они, приставляя ладонь ко лбу, чтобы не мешало заходящее солнце, смотрят мне вслед. «Не к нам ли? — думают, наверное. — Нет, дальше покатил».
Ехать бы так и ехать. Смотреть по сторонам, не думать ни о чем, узнавать новое. Ехать бы так всю жизнь. Но вечерело, кончался этот проклятый день.
Я остановился в очередной деревеньке и в первой же избе, некрашеной, почерневшей от времени, получил ночлег. Все было просто: я, еще не заглушив двигатель, вылез из машины, и тут же мне навстречу выбежала из дома и остановилась на крыльце маленькая сгорбленная старушка. Фразой из каких-то фильмов или, еще скорее, из детства — из сказок я начал наше знакомство:
— Хозяйка, пусти переночевать.
— Отчего же, ночуй, сынок, — ответила она и с этими словами скрылась за дверью. У меня возникло чувство, что меня поначалу с кем-то перепутали. Так оно впоследствии и оказалось.
Я оставил машину у палисадника, огороженного низеньким заборчиком — не от людей, а, скорее всего, от кур и скота. Больше никаких заборов не было, что для меня, посещавшего иногда дачи знакомых, оказалось в диковинку.
Вошел в дом, блуждал в темных сенях, пока хозяйка не открыла дверь и не пустила меня внутрь. В нос сразу ударил тяжелый угарный дух — топилась печь. Еще пахло воском, кожей и чем-то резким, новым, непонятным. Что-то скворчало и булькало — из сеней я сразу попал в кухню.
На крыльцо хозяйка выскочила без платка, а внутри, в избе уже накрыла им голову. Представились друг другу. Евдокия Тимофеевна — очень приятно! — сразу предложила умыться «с дорожки» и, оценив мое неумелое пользование рукомойником, сама полила мне из ковшика. Пока я вытирался и оглядывался, хозяйка накрывала на стол, и, сев за него, я, наконец, почувствовал адский голод — не ел ведь с утра. Да и было от чего появиться слюне: сметана, яйца, огурцы, зеленый лук и уверения, что все свое — «свойское», а на горячее — какой-то суп с плавающим в нем куском сала.
— Серые щи, — пояснила хозяйка.
— Серые? — таких я еще не едал.
— Серые, из крошева.
— Из чего?
— Из крошева. Эта такая засоленная капуста.
— А-а. Квашеная?
— Нет, сынок. Из квашеной капусты варят кислые щи, а это — другое. Да ты лучше отведай.
Я запустил ложку в это новое для себя блюдо. Оно было солоно, горчило, и пахло тем же горьким запахом, что и во всем доме, но оторваться от него было невозможно.
— Кушай, кушай, — Евдокия Тимофеевна, успев перед этим зачем-то сходить в сени, умиленно смотрела, как я по-стахановски работаю ложкой. Она вытирала что-то фартуком и вдруг выставила на стол прозрачную бутылку.
Сама она есть не стала. Пригубила только самогона из старинной, судя по желтизне, граненой стопочки — «За компанию». И то ли самогон подействовал, то ли самой ей хотелось поговорить, то ли я умело расспрашивал — выговорилась она перед незнакомым человеком. Живет одна-одинешенька: и мужа, и двух сынов схоронила — «Одним словом, зажилась». Муж на войне пропал без вести. Старший сын по пьянке провалился вместе со своим трактором под лед на реке Плюссе; здоровяк был — мог бы и выплыть, да, видно, не захотел: что за цена его жизни по сравнению с колхозным имуществом. Трактор летом вытащили, а сына так и не нашли. Младший подался в город поступать в институт, да связался с плохими людьми и сгинул в тюрьме. Писала она тогда во всякие инстанции, пришел ответ, что умер он, а как, где — об этом ни слова. Могли ведь и ошибиться. И ведь ни одной могилы у нее на кладбище нет — сгинули все, а, может, еще и живы. Чувствует она, что не зря зажилась, есть еще кто-то — он, наверное, сын, которому помощь материнская еще нужна. (Вот почему, понял я, без платка — на крыльцо.) Иногда сношенька заходит, старшего жена, по хозяйству помогает. Она в соседнем селе живет. Да не часто теперь стала появляться, сама постарела, да и путь неблизкий. Жаль, детей не успели они завесть. С внуками было бы все веселее. А хозяйство большое: огород, свинья, куры, бычок у совхоза взят на вырост — в следующую весну отдавать. Как справляюсь? Справляюсь, — махнула рукой по-деревенски, наотмашь, — руки есть, ноги ходят — привычная. Пожить тебе? Живи, сколь хочешь. Нет, денег не возьму. Себе на похороны хватит, скопила уже, все приготовила, а так — куды они мне! Еще нерусские. Доллыры? Отродясь таких не видывала, и в руки не возьму, не буду их пачкать.
— Что пачкать — доллары или руки?
— А и то и другое. Спрячь, спрячь, сынок, не возьму. Вот лучше по хозяйству мне поможешь, коль охота будет — тем и сквитаемся.
Пока я курил на крыльце, Евдокия Тимофеевна постелила мне постель. Я лег и охнул от неожиданности, утонув в пуховой перине. Сразу же отступили и мысли и тревоги — я уснул.
14
Заманихина вернуло в этот мир ведро воды, остудившее кипящий рассудок. Он по-прежнему висел вместе со стулом.
— Ути-пути, какие мы слабенькие, — лысый вновь стоял перед ним. Та же комната, та же кровать, а на кровати открытая черно-красной обложкой вверх его, Заманихина, проклятая книга. Не бред ли, что герои, придуманные им, вылезли из книги и мучают его теперь? Нет, наоборот. Это он попал в свою книгу. Вот она — вокруг. Этот выдуманный, когда-то казалось, мир на самом деле реальнее действительности. Это и есть действительность — жизнь людей, обычных нечестных людей, которую он, Заманихин, хотел изобразить и изобразил-таки, да так, что все эти лысые, девицы, бугаи и, может быть, даже фотограф, оказывается, существуют. Эта черно-красная книга поглотила его, вобрала в себя, затянула, и теперь уже выхода нет. Черно-красная книга вокруг, черно-красная книга везде, и он, ее автор — всего лишь второстепенный персонаж. Так кто же тогда ее создатель?! — взорвался вопрос в мозгу Заманихина.
— Ну, где же наш друг фотограф? — снова спросил лысый, будто и не было этого бесконечного погружения в небытие. А может, его и не было.
— Я его выдумал, — прохрипел Заманихин, но сам уже с трудом себе верил. Что еще он мог сказать? Это ведь правда, которую он знал.
— Ручки уже, наверное, привыкли? Ну-ка, милая моя, обними-ка его, повисни-ка на нем, как влюбленная барышня. Авось крючочек вас выдержит.
Девица сзади ухватилась за ножки стульев. Боль пронзила Заманихина. Руки отрываются! Руки мои, руки! Как же без них!
Обморок.
Прояснение.
— Ты уж, батенька, не теряй сознание, а то затопим водой соседей снизу.
И снова тот же вопрос, на который Павел не знал ответа. Подключились молодцы. Били расчетливо, метко и так злобно, будто дорвавшиеся до человечины голодные волки.
И снова вода в лицо, и снова ленинский прищур. Но только теперь уже лысый перестал шутить — и на него повлиял вид крови, он жаждал ее, как вампир. Все кружилось в водовороте: кулаки, боль, вода, непостижимый вопрос, и снова заход на новый круг…
— Стоп! Стоп! Стоп! — вдруг остановил лысый эту чудовищную карусель и захлопал в ладоши. Так делает режиссер, почувствовавший не полную самоотдачу своих актеров. — Придется использовать более продуктивный метод, — сказал он после того, как парни отпустили Заманихина. — Кнут, Жемок, возьмите машину и отправляйтесь к нему домой. Пошебуршите там. Переверните все вверх дном: должны там быть какие-нибудь документики, записные книжечки, черновики, фотографии, наконец. Да, и вот еще что: разрешаю проявить инициативу и побаловаться его бабой.
— Сволочи, вы не сделаете этого!
— Ты вспомнил?
— Я не знаю… я клянусь… Как мне доказать вам, что я не знаю? — слезы заволокли очертания бандитов.
— Ну, на «нет» и суда нет. Ступайте, ребята. Вспоминай быстрей. Ты же знаешь, что мы сделали с этой… как бишь ее?.. Таней.
— Помогите! — закричал из последних сил Заманихин, но крик его потонул в жеребином ржании молодцов. И лысый не смог удержать улыбку.
— Зря стараешься. Дом уже готов к капитальному ремонту. А те соседи, что снизу — бомжи, вряд ли тебе помогут. Они тут сами на птичьих правах.
Парни ушли, хлопнув дверью и все еще похохатывая. Ушла куда-то девица. Неожиданно скрылось и солнце. Лысый завалился на кровать и снова уткнулся в заманихинскую книжку. Заманихина оставили в покое, если можно назвать покоем положение, в котором он висел под потолком, как перегоревшая лампочка. И Надя! Что он мог сделать, чтобы они не поехали к ней? Обмануть, сказать, что он сведет их с этим мифическим фотографом? А дальше? Как выкручиваться дальше? Но теперь он уже ухватился за эту возможность, а время было упущено. Эх, почему он не придумал этого раньше!
Вдруг шаги в коридоре. Скрипнула дверь. Заманихин поднял голову с надеждой и тут же в бессилии опустил. Неужели можно еще ждать откуда-нибудь избавления! Вошла девица. Она принесла две чашки кофе на подносе. Лысый вскочил, бросил книжку и принял в руки чашечку. Другую взяла девица, и, поставив поднос на пол, уселась на краешек кровати.
— Ну что, писатель, как тебе висеть-то — нравится? — спросил лысый, отхлебнув маленький глоток кофе. Настроение его и отношение к Заманихину явно изменились. Где тот слащавый тон, где озорной ленинский прищур, где обращения на «вы» и «Павел Петрович»? — Вот повиси-ка, — продолжал он, — узнай, каково это, прежде чем писать. Ручки болят? Ничего. Поймешь, может, что человеку нужно гора-аздо меньше, чем он хочет. А? Прав я? Чего молчишь? Читал я тут как-то одного деятеля — повесить бы его рядом с тобой! Утверждает, что писатели, дескать, прежде чем написать что-то, переживают все приключения, все страдания своих героев, будто сами оказываются на их месте. И не обязательно даже, якобы, писателям испытывать то же, хватит, мол, и одного воображения… Брехня все это! — закричал лысый. — Потому что разные у них — у этого писателя и его героя — желания. Вот представь… Да что представлять, возьми себя. Тебе бы сейчас чего? Полжизни, небось, отдашь, чтобы ручки тебе развязали и вылили бы в морду ведро воды. Так? Это ты сейчас на месте героя. А теперь вспомни, когда ты писал свою книгу, о чем ты думал. О славе, небось, о деньгах-богатстве, о титьке жены своей ненаглядной.
Заманихин застонал от этих последних грубых слов.
— А что ты писал в это время? — продолжал лысый. — Как висит человек на веревке, в жару, привязан за вывернутые руки. А у самого у тебя креслице удобное, кондиционеры там, сигареты, кофе вот тоже, а еще где-нибудь рядом все та же жена ходит, бедрами покачивает. Что ты чувствовать можешь? Сможешь разве ты ощутить настоящую жажду, никогда ее не изведав? Сможешь ты понять смысл настоящей боли? А теперь сможешь. Теперь я это тебе гарантирую. Потому что — и только по этому! — ты теперь ее не воображать будешь, а вспоминать. Вспоминать! Вспомнишь, как руки отваливались — и напишешь. А представишь, вообразишь — и ничего не получится, оттого что ты точных слов не сможешь подобрать. Допустим, кто-нибудь тебе и поверит, но не тот, кто это испытал.
Ты, конечно, еще молодой, не зажравшийся. Читаю тебя и вижу, есть еще что-то свеженькое. Знавал я одного писателя — не то, что ты — настоящего, матерого. Детективы он карябал. Мы его раскулачивали. И что ты думаешь. После того, как я с ним таким вот образом познакомился, дай, думаю, почитаю, о чем он пишет. В библиотеку пошел! Ох, и переплевался же я потом. Ну не знает он жизни, не видит дальше своего носа, а пишет. И, главное, в наглую прет, такие подробности приводит, что неискушенный читатель и усомниться не подумает. А мне ли не знать подробностей, того, что он описывал. Вообще, вредные вы для общества, адреналиновые писатели…
— Какие писатели? — переспросила девица.
— Адреналиновые. Вырабатывают их книги, милая, у читателя такой гормон в организме — адреналин, который только в экстремальных ситуациях должен в человеке формироваться. Только страх и настоящая опасность должны его вырабатывать.
— Знаю.
— От этого гормона у человека резко стимулируется обмен веществ, и мобилизуются все защитные силы организма. Вот, помнишь, милая, вас с Моней группа Печеночника подкараулила, Моню порезали, а ты через двухметровый забор сиганула и была такова. Поставь перед тобой сейчас этот забор — ни за что не перепрыгнешь. Это в тебе адреналин взыграл.
А что делают эти адреналиновые писаки. Кормят читателя малыми дозами, заставляя переживать за других, по сути, чужих людей — за своих главных героев. И во время настоящей пиковой ситуации, да что там — просто обычной болезни, хотя бы простуды — эти самые их читатели уже не способны выработать ни грамма адреналина для защиты собственного организма. Адреналин — это жизнь: обмен веществ — это раз, резкое повышение потребления кислорода — это два. Да что там — повышение артериального давления или сахара в крови тоже порой нужно. Потому читаем мы этих вот сорванцов и не замечаем, как чахнем.
И еще один момент. Этого ты, милая, не знаешь, а ты, писатель, знать должен. Эй, писатель! Жив ты там? Древние греки говорили: для зрителя, а в твоем случае — для читателя, очень важна радость узнавания. Это такое чувство — объясняю для дураков, — когда читатель узнает в герое себя, соседа или своего начальника, а главное — жизненные ситуации, в которые и ему приходилось попадать. Пусть это даже фантастика или историческое повествование о прошлом, но там должна быть связь с реальной жизнью. Так сказать, современная действительность. А у вас что? Я теперь не о тебе конкретно, а вообще о вашем цехе. У вас — при-клю-че-ение! — растянул лысый, передразнивая. И Заманихин вдруг осознал, что передразнивают-то его. Именно он произносил так это слово, о нем мечтая. — Жизни у вас нет ни на грош! А как раз описанием человеческой жизни славны были раньше писатели. Потому их до сих пор и читаем. И внуки наши будут читать, а вас забудут. Чтоб не быть голословным, возьми первого известного — Гомера. Да, война, да, путешествие Одиссея — казалось бы, полно этих самых приключений, но жизни, обычных жизненных ситуаций, которые и вызывают радость узнавания у читателя, несоизмеримо больше.
Вот к чему я и клоню. Испортили вы читателей, нас, то есть, смертных. Подавай нам теперь приключения, и не простые, а все более и более необычные. Начитались и ринулись все за опасностью, будто это золота кусок. Скучной нам теперь кажется наша жизнь без приключений. А на самом деле нет ничего лучше обычной, тихой, мирной жизни: чтобы жена обед готовила, чтобы детишки писались, чтобы кусочек земли был, свой участок, пусть даже в цветочном горшке. И стоит лишь попасть кому-нибудь в настоящую передрягу, почувствовать, так сказать, вкус приключения, сразу появятся мысли о тихой спокойной жизни. Ан, уже и поздно. Уже не вырваться, уже нашел, как метко говорится, этих самых приключений на свою жопу, уже и смертушка недалеко. Да-а! Ну скажи, писатель, не прав ли я? Не хочется ли тебе теперь домой, к жене под крылышко, а? Эй, писатель! Оглох? Уснул?
Заманихин и рад был бы не слышать, да не слышать не мог. Он провалился в какое-то странное забытье, боль сковала все члены, но слух работал, и сознание воспринимало эти нравоучения, как должное, как собственные укоры совести, когда в минуты отчаяния он думал о том, что пишет, и чувствовал — делает что-то не то. Так и в аду, — представилось ему сейчас, — укоры совести во сто крат усиленные болью.
Но что это? Громоподобные шаги в коридоре. Избавление? Возмездие? Или отказывает уже и слух.
— А, встрепенулся! — радостно воскликнул лысый. — А то я уж подумал, что с покойником разговариваю. Это, наверное, наши герои возвращаются… Классные я им прозвища дал, а?
И, правда, в комнату ворвались Кнут и Жемок, веселые, довольные.
— Что так быстро? — сразу же поставил их на место резкий вопрос лысого; и снова искры гнева из глаз — с подчиненными он не церемонился.
— Долго ли умеючи. Там квартирка, что собачья конура, — ответил Жемок. — Один ищет, другой — с бабой. Потом наоборот: один — с бабой, другой…
— Тоже с бабой, — вставила девица.
Заманихин заревел медвежьим рыком, задергался на веревке. Бросился бы, разорвал, а так раскачался только на крюке.
— Экие вы удальцы из ларца, — усмехнулся лысый. — Нашли что-нибудь?
— Не-а. Нет там ничего, ни писем, ни фотографий.
— А черновики?
— Да там, шеф, в этих черновиках сам черт ногу сломит, даже тебе ничего бы не найти. Непонятно он пишет, не разобрать.
Лысый аж зарычал, и отчет пошел быстрее:
— Ты только не волнуйся, шеф. Мы все обыскали, почерк фотографа мы знаем по картотеке. От него там ни записки, ни строчки. Это точно, — воскликнул Жемок.
— Точно, шеф, — вторил ему Кнут.
— Надо было мне поехать, — вставила девица.
— Да, надо было. Моя ошибка. Ведь думал и этих олухов надо когда-то к самостоятельности приучать. А они — бабу увидели!
И снова бессильно забился Заманихин. О, моя Надюша, что с тобой? Как мне теперь смотреть тебе в глаза?
— Скоро ты увидишь свою Надюшу, скоро, — с этими словами лысый подошел к нему и милосердно остановил его, чтобы не раскачивался. То ли лысый мысли читал, то ли Заманихин в голос крикнул. — Что твоей Надюше будет, она ведь женщина, все стерпит. Как там у Некрасова: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». А в Великую Отечественную? Чего только женщины не натерпелись. Знаешь, как наши бабы по взводу фрицев на себя брали. И кстати, вот наша Ляля не даст соврать, — махнул он в сторону девицы, — сексуальные причиндалы этих героев оставляют желать лучшего. Так что жена твоя мечтать о них не будет.
Молодцы промолчали.
— Ладно, снимайте его, — хлопнул лысый в ладоши. — Будем считать, что ты, Павел свет Петрович, ничего не знаешь. Мы теперь и сами это видим. Слишком неравноценны те сведения, которые мы хотим получить, и та цена, которую ты уже заплатил. Как известно: доверяй, но проверяй. И то хорошо, что живой остался. Как говорили на моей прежней работе: извините, служба.
Заманихина отвязали, и он тут же бросился в бой, но куда там — руки, как у тряпичной куклы — не слушались. Миг — и он был прижат к полу.
— А вот это зря, — опять занудел лысый. — За это уважаю, но — зря. Бесполезно. Полежи, остынь. А потом — домой, к жене, к деткам… Есть детки-то? Ну, теперь будут, — ухмыльнулся он. Заманихин опять зарычал. Он забыл человеческий язык. А главарь, казалось, и не обратил внимания на этот животный рык — тихо вдалбливал свое: — Только предупреждаю: никаких фокусов с милицией — все равно не поможет. Ты ведь сам написал о нашей безнаказанности, помнишь? И ведь верно написал.
Может, действительно отпустят? — мелькнуло у Заманихина. — Если и могу я еще им пригодиться для того, чтобы они вышли на этого своего фотографа, тогда они будут следить за мной. Тогда я буду свободен!
А лысый меж тем распорядился, не оставляя сомнений:
— Ведите его в машину, везите домой. Ах да, автограф-то забыл взять, — и протянул Заманихину его черно-красную книжицу с ручкой. — Пару слов черкните на память, прошу.
Заманихин взял было ручку как обычно, тремя перстами, но потом резко сжал ее в кулак и воткнул в название на открытом титульном листе. Тут же его схватили за вывернутые руки, не давая сотворить еще что-нибудь похуже. Но Павел уже выразил все, что хотел.
— Помни, писатель, наш разговор о приключении, — крикнул вслед ему лысый и, когда дверь закрылась, тише сказал девице, но Заманихин все равно слышал: — Глаз с него не спускать, — и еще что-то невнятное.
15
Теперь уже можно сказать название этого спасительного уголка — ты, Господи, все равно выжил меня оттуда, слишком уж спокойной показалась тебе моя жизнь. Деревня Залупаевка. Притаилась она где-то в лесной глуши на границе Ленинградской и Псковской областей. Маленькая вымирающая русская деревенька: пять домов с одной стороны дороги, семь, ближе к полю — с другой; да крохотный магазинчик на краю, когда-то с гордостью именовавшийся «сельпо», а теперь ставший собственностью одной предприимчивой бабы из соседнего поселка и открывавшийся раз в месяц по причине постоянных запоев предпринимательницы; да еще узкая лужа посреди деревни, причудливо разделявшая дорогу на двухстороннее движение — старинный пожарный пруд, в котором раньше, когда были в деревне мужики, разводились жирнющие караси, и случись свадьба или конец уборочной, эти самые мифические мужики проходили вдоль пруда бреднем, и потом вся деревня неделю ела карасиков; да вот еще кривая быстрая речушка за околицей; да обширные огороды с узкими межами, потеснившие совхозные поля и засаженные исключительно вторым хлебом — картохой; да около леса старые скособоченные совхозные коровники, дававшие работу всей деревне — здесь, что ни баба, то доярка. Именно в этом месте я и нашел то, что не хватало моему растревоженному сердцу — успокоение.
В первое утро меня разбудили голоса старушек, соседушек моей хозяйки. Могли ли они не зайти, увидев машину перед домом? Еще, наверное, всю ночь плохо спали, зная, что кто-то приехал к Тимофеевне. Теперь же они бесцеремонно обсуждали мою персону. Между горницей, где спал я, и кухней, где болтали соседки, дверей не было — так, занавесочки, но старушки и не думали о том, что могут меня разбудить.
— Ты хоть паспорт у него спросила? — услышал я. — Может, он — бандит какой.
— Сколько их разъезжает теперь по деревням!
— А жена у него есть, не спрашивала?
— А тебе зачем знать? Глаз на него положила?
— Хи-хи-хи…
— А вот молва ходит, — громким шепотом, — ездит такой, выспрашивает, как людям живется, а потом президенту, значит, на прямую докладает.
— Да, дождешься ты, глупая, от президента…
— А что! Мне родитель сказывал — царство ему небесное — еще до революции такой ходил, и здеся у нас живал. В рясе, борода — во! Вроде как и грехи всем замаливает, да тут же и баб бесчестит. А потом, глядь — у самого царя, — шепотом, — главным советником стал!
— Так у нас некого бесчестить. Разве что тебя, Ивановна.
— Хи-хи-хи…
Пора было кончать эти бабушкины сказки, а то, чего доброго, они и меня царем признают. Или подумают, что Емелька Пугачев к ним пожаловал. Я вышел и громко со всеми поздоровался. А старушкам, казалось, только того и надо было — посмотреть городского: на что способен и сколько съест, — и гуськом, гуськом друг за дружкой к дверям — весть по деревне разносить.
Пока я ходил за удобствами на двор, пока пытался подружиться с весело тренькающим рукомойником, Евдокия Тимофеевна уже накрыла на стол и так быстро, будто скатерть-самобранку расстелила.
— Да что вы, зачем все так пышно? — попробовал я урезонить хозяйку.
— Мне ж это в радость, сынок, — ответила она. — Вот, бывало, до войны муженек мой, покойничек, встанет с утра и кричит: «Евдоха, жрать давай!» Соскучала я по гостям.
Я сел за стол. Было все на нем не только пышно, а и обильно. Я принялся за еду с неизвестно откуда взявшимся вдруг аппетитом. Никогда им по утрам не страдал: кофе, бутерброд — вот и весь завтрак. Тут не было ни того, ни другого. Зато на столе стояли тарелки и миски с картошкой, салом, яйцами, сметаной и горячими еще пирожками. Я сам себя не узнавал, я поглощал еду за обе щеки. Можно было списать все на несколько глотков чистого утреннего воздуха, которого я успел схватить, бегая в уборную, — так я тогда и подумал, но теперь-то знаю: переменились условия жизни — переменился и я. Странное утверждение, не без Твоего, наверное, Господи, внушения, из которого выходило, что живи я изначально в этом лесном краю, был бы я совершенно другим в этическом плане человеком.
Хозяйка за стол не присела.
— А вы что же, Евдокия Тимофеевна? — спросил я с набитым ртом.
— А я уже поела, сынок. Мне много не надо: чаю напилась с утра и все.
Когда после завтрака я уселся на крыльце, чтобы выкурить первую опьяняющую сигарету, хозяйка тоже вышла на двор с веником и, подметая и без того чистую, вытоптанную перед крыльцом землю, предложила ненароком:
— Бабы вон говорят, грибы наконец-то пошли. Сходил бы сынок, проверил. Вам, городским, это в диковинку.
На мгновение мне показалось, что Евдокия Тимофеевна — ведьма, и что она знает обо мне все. Подальше от любого людского взгляда, остаться одному — этого мне хотелось сейчас больше всего. С радостью я согласился.
Хозяйка объяснила, куда лучше пойти, «чтоб не заплутать», и дала старенькую залатанную корзинку, в которую уложила несколько пирожков — «проголодаися на воздухе». Туда же, в корзинку, я сунул фотоаппарат и бинокль.
В лесу моя оптика полетела в воду речушки, той самой, что потом протекала мимо деревни и правей которой мне наказывала держаться хозяйка. Тут же я сел на берегу и нюни распустил так, что сейчас и вспоминать стыдно. Только когда скрылся в воде фотоаппарат — орудие моего зла — я по-настоящему осознал, что погубил любимого человека. Сможешь ли Ты понять, Господи, Ты, расправившийся не с одним мерзавцем, сможешь ли Ты поверить мне, что я жалел о содеянном. Я рычал, но не от ненависти, а от бессилия, я не жаждал мести, я клеймил себя и зарекался остаток своей гнусной жизни прожить так, чтобы меня было не слышно и не видно. Тогда-то на берегу извилистой лесной речушки я впервые и вспомнил о Тебе. Впервые в жизни я попросил Тебя, Господи, чтобы Ты помог, но не мне — нет, Тане. Чтобы те отморозки оставили ее в живых, ведь такое вполне было в Твоих силах.
И странное дело: журчала вода в речушке, скрипели и шумели деревья, щебетали невидимые птицы — я вдруг услышал все это после первой в своей жизни молитвы, я успокоился и поверил, что Ты понял меня, что вместе с журчаньем воды и скрипом деревьев Ты уверяешь: все будет хорошо. И долго еще я сидел и слушал эти новые для меня звуки леса.
До грибов ли мне было тогда! Но стоило мне отойти немного от речки, раздумывая, в какой стороне находится деревня, и не слишком беспокоясь о том, что возвращаться придется с пустой корзинкой, как прямо на тропинке передо мной предстал гриб. Он стоял, накренив свою яркую шляпку, подбоченился, будто сам хотел в корзину, будто предлагал мне себя: возьми, срежь. А ведь по этой самой тропинке я шел к речке и, конечно, ничего не заметил. Хорошо хоть, не наступил на такого красавца. Я вытащил из прутьев корзинки хозяйкин кухонный ножик и присел над грибочком. Примял мягкий податливый мох и увидел, что ножка-то у гриба огромная. Взял его за эту ножку, ощутив его крепость, срезал и вдруг краем взгляда увидел еще одну точно такую же красную шляпку в паре метров от тропинки.
Непередаваемые впечатления!
В каком-то новом, неизвестном мне ранее азарте я накручивал круги по лесу в поисках красных, желтых, серых, бурых, а порой и совершенно удивительных расцветок шляпок. Грибы росли в таком изобилии, что не надо было даже далеко отходить от деревни. Я забыл обо всем, я наслаждался видом найденного красавца, срезал его и, оглянувшись по сторонам, спешил дальше. Я был как будто в счастливом сне, я радовался, как ребенок, каждой находке, а в голове, однажды возникнув, крутилась мысль: вот так и надо жить — получать от земли и от солнца добро, а потом отдавать себя людям, как вот этот гриб.
Так и плутая около деревни, я скоро с грустью обнаружил, что корзина, казалось, такая вместительная, полна до краев, а значит, надо выходить из леса.
После обеда мы с хозяйкой чистили мою добычу. Евдокия Тимофеевна, безжалостно выкинув половину содержимого корзины, рассказывала мне о грибах:
— Вот это белый — ценный гриб, а это тоже белый, но ложный. Попробуй языком под шляпкой — горько? — гриб тут же летел в помойное ведро. — Это вообще поганки, — снова в ведро. — А вот это вкусные грибочки — лисички. Никогда они не червивеют, не смотри. Моховик, волнушка… Это хорошо, даже волнушки пошли. Подожди, шкурку на шляпке надо почистить… Ничего, наука не сложная, враз одолеешь.
Нельзя сказать, что я совсем не разбирался в грибах. Например, те «поганки», что хозяйка выбросила, я знал, у нас загородом собирают, но я молчал и только слушал. Что съедят в городе, не будут есть в деревне. Пусть это поганки, Евдокии Тимофеевне видней.
Потом, ближе к вечеру, когда уже стало садиться солнце, мы с хозяйкой пошли на огород, который был за домом. Долго поливали огурцы, капусту, морковку — всего здесь было много. А затем я носил воду из колодца, категорически запретив делать это Евдокии Тимофеевне, и долго она со мной по этому поводу препиралась.
— Как же раньше-то я носила, вчерась… и не умерла, — возмущалась она. — Самому-то, небось, тяжело с непривычки.
Она была права. Пока наполнил бочку на огороде, а затем — и бак в бане, я-то как раз с непривычки чуть и не умер. Колодец стоял в центре деревни возле пруда. То и дело, встречавшиеся мне незнакомые люди благодушно здоровались со мной, будто знали меня давно. И я отвечал им тем же простецким «здрасте», радуясь про себя, что меня так легко здесь приняли.
Когда стемнело, Евдокия Тимофеевна затопила баню, и я смыл с себя всю накопившуюся грязь. Ах, Господи, вода и та была здесь другой — жесткой, не мылкой, но удивительно вкусной. Оделся я в сероватую полотняную одежду — штаны, свободные, вроде кальсон, рубаху без пуговиц — одежду старинную, будто из фильмов о революции, но прочную и благоухающую какой-то травкой — кажется, мятой. Как просто предложила мне ее хозяйка, отправляя меня в баню:
— Не побрезгуй, это у меня сыновье осталось.
Надо ли говорить, что я снова уснул, едва опустился на перину, и снились мне шляпки грибов.
16
Заманихин в плавках, в ботинках стоял перед дверью своей квартиры — и не решался войти. Дверь была слегка приоткрыта, за ней — мрак. Ущипнуть себя, и, может, он проснется, но страх мешал сделать это: вдруг почувствуешь боль и поймешь, что не спишь. Ведь присниться может самое невероятное, можешь о нем прочитать, посмотреть фильм или просто подумать, но в жизни невероятное невозможно.
Он ступил во мрак, в прихожую, с дрожью в пальцах дотронулся до упругого выключателя. Свет не помог, не исправил, напротив — Заманихин понял, что они были здесь, это не сон, не шутка, — и бросился в темную комнату. Все перевернуто вверх дном, на полу бумаги, вещи, кругом беспорядок, занавески зашторены, и на диване бесформенная, неразличимая масса…
— Надя!
Она лежала, уткнувшись лицом в подушку. Она не дышала.
Он кинулся к ней, развернул ее лицом к себе и отшатнулся. Растрепанные волосы, разбитая губа, щеки блеснувшие слезами и злоба — злоба в глазах. Она ударила его своим кулачком и попала в шею, и била потом, куда придется, а он прижимал ее к себе и шептал, шептал, что главное — они живы, они вместе, и большего им не надо, что все кончилось, все позади, а сам не верил своим словам.
Так прошла вечность.
События были невероятные, и стресс мешал сосредоточиться, оценить, проанализировать произошедшее. Как это так: восстание собственных персонажей из этой вот книжки, которая сейчас лежала перед четой Заманихиных, и Паша с первого раза выискивал цитаты, чтобы ему легче было описать Наде лысого, девицу, этих двух бугаев. Надя все равно не верила. Он и сам-то до конца не верил, точнее ему было никак не объять необъятное. Он сравнивал действительность и вымышленный им самим мир, удивляясь точности портретов тех, кого он раньше никогда не видел. Но факты были налицо, не нужно и щипать себя. Выяснилось, что молодцы, побывавшие у них дома, документы-то все оставили, а вот деньги и Надины золотые украшения — не много их и было — прихватили.
Той же бессонной ночью Заманихины решили, что пойдут в милицию — нет, не сейчас, а утром, вдвоем, и пусть только попробуют напасть на них белым днем. Здравый ум подсказал им, что книжку лучше не показывать — куда как проще объявить их обоих сумасшедшими, чем найти бандитов. Хватит и имеющихся фактов: ограбление, изнасилование, похищение, избиение.
Надя позвонила себе на работу в детский сад и взяла отгул, у Паши был выходной.
До отделения милиции они дошли без происшествий. Заманихин все время оглядывался, слышал ведь: «Глаз с него не спускать», — но ничего и никого подозрительного не заметил. И все-таки перевести дух он смог только в милиции. Вошли внутрь, подошли к дежурному. Тот сидел за пуленепробиваемым стеклом и смотрел, как они поднимаются по лестнице. Видок у них был — да, не очень: у нее разбитая лопнувшая нижняя губа, заплаканные, опухшие глаза, у него ссадины на лбу и подбородке, один глаз заплыл, другой горел гневом.
— Вчера вечером к нам в квартиру ворвались два неизвестных парня и изнасиловали мою жену, — начал объяснять Заманихин, но тут вдруг запищал телефон.
— Простите, подождите минуточку, — извинился милиционер и крикнул в трубку: — Старший сержант Семаков.
В трубке что-то заурчало, забулькало, и старший сержант невольно подобрался:
— Здравия желаю, товарищ полковник. Так точно, товарищ полковник, только что подошли… Есть… В отделе присутствуют старший лейтенант Парменов, и капитан Быстров. Капитан Мигун? Так точно — здесь, но он сегодня должен быть выходной. Есть, послать их к нему… Есть, молчать… виноват… Есть.
Старший лейтенант сконфуженно повесил трубку и, глядя в сторону, бросил:
— Продолжайте.
— А перед этим меня похитили, избивали…
Как-то все скомкалось из-за того, что старший сержант отвлекся на телефон. Заманихин засомневался, запомнил ли тот первую часть про Надю. Может, нужно было еще раз сказать? Но как мучительно повторять такое!
— Хорошо, — произнес старший сержант. — Поднимитесь, пожалуйста, на второй этаж, комната номер двадцать три.
Поднялись. На двери с номером 23 висела табличка:
«Следователь капитан Мигун С. В.»
За дверью слышался низкий голос:
— Сделаем все в лучшем виде. Не переживайте.
Постучали, вошли, огляделись. Маленький кабинетик, шкафы, стол. За столом развалясь сидел слишком здоровый и грузный для этого крохотного помещения человек в гражданке. Увидев их, он сразу положил трубку и выпрямился. Больше никого в комнате не было. Человек и не подумал представиться, но кто же это мог быть, как не следователь капитан Мигун С. В., если судить по табличке на дверях. Он жестом пригласил Заманихиных сесть напротив себя и сказал голосом, вкрадчивым, доверительным, но таким громоподобным, что крикни он — обрушился бы потолок:
— Слушаю вас внимательно.
Заманихин повторил ту же фразу, что и сержанту, а потом стал рассказывать подробнее, с самого начала, с Озерков, с похищения. Про книгу и вымышленных героев, как и договорились, промолчал. Капитан слушал его внимательно, но ничего не записывал и вопросов не задавал.
— Вот и все, — наконец закончил Заманихин.
— Все? — спросил капитан, будто сказанного было мало, открыл ящик стола, достал какие-то бланки и, положив их перед собой, начал задавать вопросы. Фамилия, имя, отчество? Где живете? Давно женаты? Один вопрос был странным:
— Золотые украшения были застрахованы?
И дальше потребовал подробного описания этих побрякушек.
— Словесные портреты преступников дать сможете? А вы?
Дали словесные портреты.
Еще куча вопросов.
И вот:
— Вы можете подробнее описать, чего добивались от вас преступники, когда похитили.
Заманихин задумался. Добивались-то они от него только одного: где какой-то там фотограф?
— Понимаете, — начал он и поймал встревоженный взгляд Нади, — я — писатель, и недавно вышла моя первая книга. Может, они думали, что у меня большие гонорары, а на самом деле я деньги за эту книгу до сих пор еще не получил…
— Погодите, погодите, — вдруг остановил его капитан, и, не вставая с места, дотянулся до своего портфеля, который был небрежно брошен на запыленную, отслужившую свое пишущую машинку «Ятрань», и достал из него… книгу «Мертвый фотограф». Заманихин отпрянул. Его уже начало тошнить от этой дьявольской книги.
Капитан улыбался:
— А я гадаю, гадаю, где же я вас видел? И точно — вот же ваша фотография, — он потряс книжкой; закладка была вставлена где-то посередине.
У Заманихина шевельнулось подозрение. Что-то тысяча экземпляров этой книги слишком быстро разошлась по городу. Слишком часто собственные книги попадаются на его пути. Так тесен мир?
— Ладно, продолжим, — отложил книгу в сторону капитан. — Об этом позже… Расскажите, что конкретно вас спрашивали преступники? Вас пытали? Неужели ради того, чтобы узнать, где лежат деньги?
Павел решился. Он уже начал догадываться кое о чем.
— Раз вы прочитали мою книгу…
— Еще не до конца, — вставил капитан.
— Мне будет легче объяснить вам, что они искали главного героя этой книги…
Капитан Мигун нисколько не удивился этим невероятным словам, будто давно ждал их. Наоборот, даже поправил Заманихина:
— Вернее сказать, его прототипа?
— Да. Но дело в том, что никакого прототипа не было, я все выдумал из головы.
Капитан заговорчески подмигнул:
— Ну, это вы тем рассказывайте, а со мной-то уж можно поделиться…
Заманихин вспомнил, что он слышал такую фразу, или почти такую. Он уже догадывался о многом, но не мог не сорваться.
— Я еще раз вам говорю, — закричал он, — Я его выдумал. Меня били, меня пытали, мою жену… — он осекся. — И неужели бы я ничего им не сказал!
— Спокойнее, спокойнее, — встал капитан, превратившись в нависшую над Павлом глыбу. — Я вам тоже могу кое-что рассказать. Этим делом занимаются все внутренние органы. Больше года назад в городе появился мошенник, фотографирующий других прохиндеев и мошенников, а потом шантажирующий их. Этакий Робин Гуд. Может, и делал он хорошее дело, но — вот даже у вас написано — есть у него картотека очень интересная картотека, где все эти правонарушители с поличным в целости и сохранности дожидаются правосудия.
— Клянусь, я ничего не знаю…
— Ну, клясться не надо. А вот интерес для нас вы представляете большой. Жалко не наши этим делом занимаются. У меня появилась сногсшибательная версия… Кстати, появилась только после того, как я начал читать вашу книгу и познакомился с вами, — и в лоб: — А что если вы и есть этот самый наш фотограф?
Заманихин оторопел. Столько раз во время написания книги он представлял себя на месте фотографа, что почти им и был.
— Вы что? — только и смог он произнести. — Я даже фотографировать не умею.
— И фотоаппарата у вас нет?
— Есть. Жена подарила года три назад.
— Какой марки?
— «Зенит».
— Как интересно! Как все сходится! А?
— Так ведь как вы не понимаете. Я же ведь сам и написал эту книгу, а, значит, и название фотоаппарата взял то, что мне знакомо.
— Неубедительно. А почему — это к вам вопрос, Надежда Анатольевна — вы дарите мужу, не умеющему фотографировать такую дорогую камеру, которая к тому же не автоматическая, как те же дешевые «мыльницы»?
— В ваших «мыльницах» глаза красные. Мне в магазине посоветовали хороший фотоаппарат.
Вот что значит психолог! Надя ответила так спокойно и просто, что капитан Мигун опешил. Он, видно, брал на испуг: когда начинают глаза бегать и руки дрожать. Так и было сейчас с Заманихиным. Он с легкостью представил себя на месте следователя, как тот раскалывает преступника Заманихина, а потом представил себя действительно преступником — и это было ему, писателю, тоже очень легко вообразить. И так было всегда. Воображение не только помогало, но порой и серьезно вредило. А Надя — раз, и спокойно отшила.
— Вот еще такая маленькая деталь, — снова обратился следователь к Заманихину. — У этого вашего героя… как бишь его?.. У него и имени-то нет — все: «я, я» — но я не об этом… У вашего героя тоже рано умерли родители, как и у вас. Я наводил справки.
— Так значит, вы дочитали книгу до конца?
Капитан Мигун, уличенный в маленькой лжи, смутился и надолго отстал от них, уткнувшись в свои бумаги и что-то там записывая. Потом протянул их все сразу:
— Прочитайте и распишитесь. Вам, Павел Петрович, придется посидеть в городе — вот, подпишите здесь о невыезде. Вам, Надежда Анатольевна, направление на судебно-медицинскую экспертизу по факту изнасилования. Поедете сейчас на нашей машине.
— А мужу можно со мной?
— На служебной машине? — на миг задумался следователь. — Да пожалуйста, — позвонил: — Семаков? Следственные бригады есть свободные? Нет? А машины? Хорошо. Подгони шофера. Поедет с парочкой, что сейчас у меня, на судебно-медицинскую. И скажи ему, чтобы отвез, а сам сразу назад. Извините, — сказал он Заманихиным, положив трубку, — обратно уж сами как-нибудь. Единственная свободная машина. У нас понедельник — тяжелый день. В выходные всегда разгул преступности. Поэтому и следственная бригада приедет к вам на квартиру позже, но вы пока ничего не убирайте. И еще, не откажите в любезности, поставьте еще одну подпись, вот здесь, — и капитан Мигун протянул Заманихину ненавистную черно-красную книжицу. Тут уж делать нечего — подписал.
Выходя из кабинета следователя, Павел вдруг с отчетливой ясностью вспомнил, как вчера тонул, и облек свою мысль во вчерашнюю формулу: «Спасение утопающих дело рук самих утопающих».
17
Жизнь моя вдруг из стремительного бурного потока превратилась в равнинную спокойную реку. К черту все приключения, жить бы так, Господи, и дальше! Почему Ты не позволил мне этого?
Утром я вставал чуть свет, потому что ложились мы с Евдокией Тимофеевной рано. Но все равно хозяйка поднималась раньше и побрякивала ведрами, кастрюлями, чугунками и еще чем-то у русской печи — скатерть-самобранка нуждалась в приготовлении блюд. Частенько после плотного завтрака я отправлялся за грибами. Лесное одиночество не пугало, я его просто не чувствовал. Что оно, по сравнению с одиночеством среди людей. Мне казалось, каждое дерево прислушивается к моему бормотанию и отвечает мне тем же: то дружным скрипом засмеются сосновые стволы, то зашелестят краснощекими листочками осинки, то неулыбчивые старухи-ели бросят шишку мне в ноги. Но больше всего я любил разговаривать с грибами: и громко радовался, когда находил их, и ворчал за червивость, и ругался, если долго они не попадались. А грибы в ответ дружными семьями вставали на моем пути, пойду ли я в ельник за груздями и волнушками, или пробегусь по холмикам соснового бора в поисках белых, да даже присев отдохнуть на берегу лесной речушки в том самом месте, где похоронил я свою несбывшуюся мечту о приключении, — и там я порой встречал какую-нибудь молодую толстоногую сыроежку.
Дома (как быстро я привык к этому слову «дом») ждала меня обеспокоенная хозяйка, почти всегда повторявшая:
— Я уж за тобой собралась. Думала, заплутал где, пора идти искать.
Если не ходил в лес, то скучать не приходилось. Дел по хозяйству было много; чувствовалось, что мужика здесь не хватает. Но и одной мужской руки без сноровки было мало. Потому и делали мы все вместе с Евдокией Тимофеевной. И не то чтобы она только руководила, а я только орудовал топором — нет. Бывало, выхватит у меня из рук инструмент: «Подожди, мол, не так», — и давай им помахивать, только щепки летят — не остановишь. А я стою и бесполезно уговариваю: «Да понял я, хватит, отдайте». Так вдвоем мы поправили изгородь на задках огорода и поставили новую сараюху для дров — дровяник. С этим дровяником без мата не обошлось. Ох, и ругалась хозяйка на мою городскую неумелость, но потом всегда приговаривала:
— Что же это за работа без мата.
Казалось, она понимала то, что творилось у меня на душе, и загружала, заваливала меня работой, чтобы, не дай бог, не присел, не задумался. Видела она один раз меня таким: сижу на крыльце, смолю одну сигарету за другой, уставившись в звездное августовское небо. Там далеко на севере, не смотря на огромное расстояние, горело светлое пятно — огни большого города.
Она не спрашивала меня ни о чем, сказав однажды: «Сердце не лукошко, не прошибешь окошко». О себе же говорила часто — впрочем, я-то как раз сам всегда просил ее об этом. Удивительно: она не только опускала все даты, но даже и приблизительного года не могла или, может, не хотела вспомнить. Единственным временным ориентиром, навеки отложившимся в памяти, была для нее Великая Отечественная: «до войны», «после войны», — говорила она. Я с интересом слушал ее истории, поучительные и очень похожие на притчи: о нелегкой жизни людей, о правде, о совести и — кто бы мог подумать — о любви. Иногда мне даже казалось, что Евдокия Тимофеевна знает о моих грехах и не зря все рассказывает — так удивительно противоположны были моя жизнь и ее.
Так незаметно наступила осень, и дел прибавилось. Несколько дней мы вдвоем не спеша выкапывали картошку. А потом неожиданно, но неожиданно только для меня — я и не знал, что существует такой запрет, вполне справедливый, направленный против людской жадности, — из области пришло разрешение на сбор клюквы. Мы ходили за ней тоже вдвоем. Сколько бы я не упрашивал Евдокию Тимофеевну, она не соглашалась остаться дома.
— Мыслимое ли дело, — ворчала она, — в наших болотах тебе одному, городскому, тепличному, клюкву брать. Это тебе не в городе на базаре. Хватит мне двух сынов, еще и ты сгинуть хочешь. Нет, и не проси.
Будто (отбросим всякие аллегории) она смогла бы помочь, случись мне пойти на дно.
В этих нелегких шатаниях по болотам, когда то, что никак не назовешь почвой, уходит из-под ног, когда сапоги постоянно по щиколотку в воде, и сверху тоже частенько капает, когда стоишь целый день в наклонку, быстро, стараясь не потерять ни секунды, ни ягодки, орудуешь обеими руками и складываешь, складываешь, складываешь в привязанное к поясу ведерко это красное золото, рассыпанное вокруг, я поражался выносливости своей хозяйки. Как ни старался я собрать клюквы больше, чем маленькая сгорбленная старушка, ни разу ничего у меня не получалось. Сначала я думал, что дело опять-таки в сноровке, но после трех-четырех походов на болото я, копируя действия Евдокии Тимофеевны, в совершенстве освоил это искусство. Однако все равно угнаться за ней не мог. Дрожали ноги, болела спина, когда мы возвращались из леса (а ведь и обратный путь был тоже нелегким с полными коробами за спиной, в которых по два, по три ведра клюквы), и я представлял каково же Евдокии Тимофеевне. А она, казалось, не знала усталости — дел-то дома было еще много. Сидит, сидит и вдруг — шасть на колодец за водой. Я за ней. Догоняю, когда она уже идет обратно. Выхватываю тяжеленное ведро, а она придет домой — и за другое дело: месево скотине понесет или на огород убежит. И опять я спешу ей на помощь.
— Ну что ты мне работать не даешь! — шутливо возмущалась она. И я отвечал ей тоже какой-нибудь шуткой, не подозревая еще тогда, что шутки наши выльются в трагедию, и снова я стану убийцей, хоть и невольным.
Еще эту самую клюкву надо было перебрать, очистить от мусора. Делали мы это так: ставили под две ножки обеденного стола по чурбачку, так что стол получался под наклоном, снизу этой импровизированной горки на табуретку ставили таз, а сверху сыпали клюкву. Твердая, еще не дозревшая она катилась по наклону вниз, оставляя на столе весь мусор. Затем, очищенную, ее надо было разложить на тряпочки тонким слоем, чтобы она дозревала. Клюквы мы собрали очень много, и она теперь занимала весь пол в горнице.
— Куда нам столько? — как-то спросил я, запуская растопыренные пальцы в приятное рубиновое нутро таза, полное только что перебранных ягод.
— Как это «куда»? Сдадим государству. Государство нам за это талоны выдаст, а на эти талоны надо тебе портки купить. Вон, твои «джопсы» (перевожу: «джинсы») совсем истрепались. Стыдно, небось, на улицу выйти.
И, правда, вскоре мешки с созревшей клюквой мы погрузили в багажник «Жигулей» и отвезли в район на консервный завод. Простояв в очереди таких же «собирателей», мы сдали клюкву, получили талоны и в ближайшем местном магазине их «отоварили». Я во все глаза смотрел за этим пережитком времен социалистических дефицитов и столичных «березок». Цены по талонам были действительно очень низкие. Я смог купить себе зимнюю куртку, теплые ботинки и «портки», а Евдокии Тимофеевне приобрел пуховый платок и небольшой цветной телевизор — ее-то черно-белый совсем плохо показывал.
Там же, в районном центре, проезжая мимо телеграфа, я резко остановился.
— Что ты? — испугалась Евдокия Тимофеевна, но тут же, поймав мой взгляд, догадалась сама: — Иди, иди, позвони.
Я набрал по междугороднему телефону-автомату знакомый номер: 253-49-71.
— Алло, Таня?
Это не я спросил, а меня тут же спросили.
Голос старческий — Танина мама.
— Нет, — ответил я, — это ее друг. А когда Таня будет? — все-таки спросил я с надеждой — может, она просто куда-то вышла.
— Ой, не знаю. Больше месяца ни слуху, ни духу. Я уже и в милицию заявила, да там ничего…
Я повесил трубку. «Алло, Таня?» — с какой надеждой был произнесен этот вопрос. Что моя боль по сравнению с этой, материнской! Тут же на телеграфе я послал в Петербург денежный перевод, благо Танин адрес я знал — это все, что я мог сделать, но чувствовать себя подлецом я не перестал.
«Эх, теки жизнь дальше своим чередом!» — подумал я тогда.
И жизнь текла…
Неутомимая моя хозяйка заказала две машины дров, которые скоро вывалили огромной кучей прямо перед домом. Их надо было распилить, расколоть и уложить в наш новый дровяник. Пилили мы вдвоем двуручной пилой, прозванной в народе «Дружба-2».
— Вот эти, березовые, колоть зимой будем, в мороз, — учила меня Евдокия Тимофеевна, без усилия вытягивая на себя пилу и расслабляя руку в тот самый момент, когда тащить на себя должен был я. Получалось споро: вжик, вжик, — я учился у нее каждому движению.
Убирали урожай на огороде, перекапывали бедную псковскую землю для следующей, весенней посадки. Да мало ли еще дел в деревне осенью — весь день мы крутились, спешили, принимались то за одно, то за другое, и только вечерами, которые начинались все раньше и раньше, наступал покой.
Так равномерно текла моя жизнь, и только еще два маленьких события, случившиеся в начале осени, сразу стали событиями большими на общем фоне, и главное, как я теперь понимаю, значимыми.
Как-то мы с хозяйкой вешали на просушку лук на чердаке, и вдруг мой взгляд упал на огромный кованый сундук в самом дальнем углу. Кто и как его мог сюда затащить — непонятно, весил он, должно быть, прилично, даже пустой, и со своими размерами не мог бы пролезть ни в чердачную дверь, ни в слуховое окошко.
— А там что, Евдокия Тимофеевна? — указал я на сундук. — Сапоги-скороходы и ковер-самолет?
— Кабы так! Там книги моего младшенького, Саши. Он ведь в институт собирался поступать, ездил в район за книгами, и даже в область — много денег на них потратил. Да не жалко. Жалко, что в институт-то и не поступил — блат там, а потом с плохой компанией и связался, — Евдокия Тимофеевна тяжело вздохнула, и мне показалось, что в ее представлении этот непроходимый блат не что иное, как цербер, охраняющий вход в высшее учебное заведение.
— Разрешите посмотреть, — попросил я.
— Смотри, конечно. Что спрашиваешь.
Так у меня появилось еще одно занятие. Во всем доме у Евдокии Тимофеевны я не обнаружил ни одной книги, кроме захватанного старинного молитвослова, чему Ты, Господи, наверное, порадуешься, вспоминая о рабе Твоей Евдокии. Я уже, признаться, начал скучать без печатного слова, и вот надо же — нашлись книги! В основном в этом чудесном сундуке была художественная литература школьной программы, может быть только чуть-чуть в большем объеме, чем нужно абитуриенту. По математике, по физике, по другим точным наукам — ни одной книги. Ни одного детектива, ни Жюля Верна, ни Купера, ни одного современного автора. Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты. Я легко представил себе худенького деревенского мальчика, немного романтичного, насколько это возможно в деревне, влюбленного в русскую классическую литературу, которая научила его добру, чести, достоинству, но полностью исказила понятия о жизни. В какой институт он поступал, на какой факультет? Евдокия Тимофеевна этого уже не помнила. Явно, он не хотел быть ни агрономом, ни механизатором. Явно, он хотел приобщиться к литературе, а его осадили: «Куда ты, деревня? Иди-ка лучше коров паси!»
Теперь я частенько поднимался на чердак, доставал запыленную книгу и проглатывал ее за несколько вечеров. Я вдруг увлекся тем, что не перечитывал со школы или не читал вовсе, что, благодаря нажиму учителей и мятежному юношескому духу когда-то вызывало только отвращение, что я раньше просто не мог еще понять из-за своих малых лет. Я вдруг открыл для себя совершенно новый мир, возвративший меня к жизни, успокоивший мою душу. Уже сейчас, Господи, я думаю: случись это открытие раньше, до той беспокойной ночи, до дьявольской грозы, может, тогда бы я и не стал нарушать заповеди Твои.
Свободного времени становилось все больше и больше. Вечера росли, и не далека была та зимняя пора, когда вся деревня от безделья погрузится в спячку. Вечера мы проводили дома, в тепле, исходящем от красавицы-печки — хозяйка смотрела телевизор, я читал.
— Вышел бы хоть погулял, — сказала мне как-то Евдокия Тимофеевна. — Вон девки под окном так и шныряют.
Девок было всего три: наша соседка Ленка, да две Наташки. И один парень на троих — гармонист Андрюша. Все вчетвером они сидели на завалинке у соседнего дома — видно было из окна — переговаривались нехотя, кутались от холода в незамысловатые современные куртки, но не расходились.
«А что?» — подумал я, закрыл книгу и вышел на улицу.
Андрюша тихонько невпопад нажимал клавиши на гармошке, изредка выдавая какую-нибудь модную мелодию, девчонки щелкали семечки, и, как только я показался им на глаза, уставились на меня. Я подсел к ним, не поздоровавшись — не было нужды, виделись уже сегодня. Андрюша, отложив в сторону гармошку, достал из кармана горсть семечек и протянул мне, да и сам принялся за них. Наступила тишина.
— Ну что, так и будем сидеть? — вскочила вдруг Ленка. — Я замерзла уже, а мужики нахохлились, семечки лузгают! Ну-ка, вставай, сосед, плясать будем — греться. А ты, Андрей, держи палец бодрей на гармошке своей.
Она взяла меня за руку, потянула. Развернулись зычно меха и минор за минором разнесли веселье по деревне. Закружилось все, замелькало в глазах: завалинка, изба, изгородь, завалинка, изба, изгородь… И только Ленкино лицо, смеющееся, лукавое, оставалось прямо предо мной.
А Наташки выкрикивали друг за дружкой высоко, по-бабьи частушки — соль с перцем:
Меня милый не целует, Говорит: «Потом, потом». Прихожу, а он на печке Тренируется с котом.— У-ух! — разнеслось по деревне, аукнулось в лесу.
Выглянули из домов старушки, да и тетки помоложе. Стал народ собираться, несмотря на холодный вечер.
— Давно уже не было такого в деревне, — услышал я.
Я кружился без перерыва, чувствуя на сгибе то одного, то другого локтя, а то и обоих вместе, руки своих партнерш. Ленку сменила одна Наташка, другая уже встала, ожидая своей очереди, потом обе Наташки вместе с двух сторон, потом была тетя Маня, с которой я немного отдохнул — она никак не успевала за Андрюшкиной гармошкой. А вокруг дрожала земля, потому что уже все притоптывали, выбивая из нее, родимой, заводящую русскую дробь. А я уже снова кружился и кружился с Ленкой.
— Смотри, как Ленка мужика закадрила, и сплясать с ним не дает! — выкрикнул кто-то.
— Куда тебе с ним, старая! Вон дед Гаврил к забору жмется, бери его и пляши, — тут же на ходу ответила бойкая Ленка, унося меня в бесконечную карусель своей улыбки.
18
— Мне-то можешь сказать, где ты подцепил этого фотографа?
— Снова — здорово!
Они стояли перед зданием милиции. Рядом в своем «УАЗике» копался водитель, сонный и злой — что-то там у него не заводилось. Заманихин курил, часто и сильно затягиваясь. Адреналина в крови было с избытком.
— И тебе то же скажу, — ответил он жене. — Ты-то хоть поверишь?
— Сказал — поверю. Я еще твою книгу не дочитала…
— Гори она синим пламенем!
— Тебе ничего не показалось странным?
Паша думал как раз о том же. Странного было с избытком. В слух же он спросил:
— Что?
— Слушай, — начала Надя. — Только мы входим — у дежурного звонок. И что он ответил, помнишь? «Только что подошли». Это ведь о нас! Потом речь о капитане Мигуне, который вроде бы и выходной, но пришел на службу, да? И надо же, нас к этому капитану отправляют.
— Точно! И к капитану входим — он тоже по телефону разговаривает. Нас пасли! Помнишь, я тебе говорил, как главарь приказал, глаз с меня не спускать.
— А когда капитан твою книжку достал, — подхватила Надя, — и притом не откуда-нибудь из стола, где всякие вещественные доказательства и документы, а из портфеля, где у него бутерброды из дома, тут уж ясно: вызвали его специально. Нас надо было встретить, допросить и все дело замять…
— Да нет, не замять, — помрачнел Заманихин. — Они решили с другого бока зайти. Раз я под пытками ничего не говорю, то, может, на следствии из меня что-нибудь вытянут. Следствие-то по психологической напряженности серьезнее пыток будет, а? Как ты думаешь, психолог?
— Не знаю.
— Видно этот фотограф у них поперек горла стоит.
— Какой фотограф? — с ухмылкой спросила жена.
— Которого я выдумал, — ответил муж.
Взревел двигатель.
— Садитесь, — крикнул водитель.
— Паша, — испуганно схватила Надя мужа за рукав, — вдруг…
Ловушка? — мелькнуло и у него.
Он положил вторую свою руку поверх ее и попробовал успокоить:
— Хуже уже быть не может. Садись.
Забираясь в машину, Заманихин интуитивно почувствовал на себе чей-то взгляд, а, может, и случайно посмотрел на окна милиции и увидел капитана Мигуна. Тот наблюдал за ними из открытого окна своего кабинета. Наде Паша об этом ничего не сказал.
Сели вдвоем на заднее сиденье, чтоб, если что, так лучше быть вместе. Сердце у Заманихина защемило. Хуже, может быть и хуже! Вдруг они захотят пытать Надю, а его заставить смотреть. Скажешь тогда… Было бы, что говорить! И тут его осенило. Почему он раньше об этом не подумал? Он же писатель, и вдруг не знает что сказать! Если получилось так, что им самим выдуманное вдруг ожило, материализовалось, почему бы тогда не продолжить выдумывать. Неужели он не сможет сочинить, где этим отморозкам найти их фотографа? Запросто, лишь бы только это оказалось правдой. Дальше, как Заманихин ни старался, сосредоточиться не смог — сумбур в голове был полный. Кто кого сочинил, он книгу или она его? Кто где находился, он в книге или она в нем? Попробуй разберись!
Обошлось. Доехали быстро и без приключений. Водитель высадил их, развернулся и укатил. Они остались стоять перед медицинским центром. Надя тут бывала по своим женским делам, и не было здесь ничего опасного. Поэтому она настояла, чтобы муж остался снаружи. Паша не спорил, потянулся только опять за сигаретами.
— Ты ведь только что курил, — напомнила Надя.
— Ах, да, — он убрал сигареты, но стоило Наде уйти, снова достал их. Надо было кое-что серьезно обмозговать. Появилась у него одна заманчивая идея, о которой он сам-то с трепетом думал, и тем более не собирался сообщать ее жене.
Наде повезло. Врач попалась не только опытная, пожилая, но и душевная. Судмедэкспертиза судмедэкспертизой, они и после нее неплохо поговорили. Врач ее успокоила: плод не пострадал. Все дело было в психическом состоянии. Тут Надя вставила, что она сама психолог, и разговор пошел на более профессиональном уровне. Чрезмерные волнения могут вызвать самопроизвольный абортус, но с физиологической точки зрения оснований для этого нет: недоразвитость половых органов отсутствует. Покой, покой и еще раз покой. Неплохо бы сменить обстановку. Вы говорите, где это произошло, дома? Тогда — тем более. Есть возможность куда-нибудь уехать? К родителям в Воронеж? Прекрасно! К родителям, к родителям! Родители — лучшее лекарство. Кроме того, легкое успокоительное — не надо импортного! Хвойные ванны тоже прекрасно помогут…
Долго они еще беседовали, и у Нади сложилось впечатление, что этой доброй старушке-докторше не хватает здесь, на их судмедэкспертизе, и практики, и простого общения. На улицу Надя вышла полностью успокоенная. Зато муж весь извелся.
— Что так долго? Как? Ничего подозрительного не заметила?
— Когда сидела на гинекологическом кресле, видела, как мне микрофон вставили туда, — показала Надя вниз.
— Куда?! — испугался Паша.
— Шучу.
— Ты еще можешь шутить?
— Все нормально, не беспокойся. Доктор попалась очень хорошая. Посмотрела, плод не пострадал.
Они пошли к трамвайной остановке.
— Ты знаешь, Паш, врач сказала, что мне нужно сменить обстановку, и ни в коем случае не быть там, где это произошло. Лучше вообще уехать, хотя бы на лето.
— Согласен. А как быть с твоей работой? Отпуск-то у тебя еще через месяц.
— Договорюсь. Детей всех разобрали. С пятнадцатого в садике ремонт. Заведующая намекнула, кто хочет, может взять за свой счет.
— Хорошо, бери.
Надя такого не ожидала: муж согласился неожиданно быстро. Она не догадывалась, что для плана, созревшего у Паши, как раз не хватало одной маленькой, но важной детали: чтобы Нади не было в городе — только так она не сможет помешать. И вот — пожалуйста.
— Значит, давай сделаем так, — решила Надя, — завтра я иду на работу и беру отпуск за свой счет прямо послезавтра. А ты поедешь за билетом на поезд.
— Мне завтра на смену…
— На сутки? О-о!
— Ты же все равно завтра не поедешь.
— А как же я одна буду?
— Ты же на работу пойдешь, а вечером что-нибудь придумаем.
— Ладно, может, переночую у Светки. Значит, тогда так. Ты поедешь за билетом сегодня. Возьмешь на… сегодня понедельник, второе? Возьмешь на четвертое.
— Билетов, наверное, уже нет. Лето.
— Достанешь… — и тут Надя заговорила таким умоляющим тоном, каким она всегда говорила, когда ей хотелось чего-то нереального — знает же, что невозможно, а просит: — Паша, давай уедем из этого города насовсем. Мы же, помнишь, собирались переехать в Воронеж.
Ты собиралась — не я, — подумал Заманихин. Вслух же сказал:
— Не так это просто. Там видно будет.
Главное, сейчас переменить тему разговора, сейчас с Надей трудно будет спорить, но она не сдавалась:
— Что значит: «видно будет»?
— Вот хотя бы гонорар надо вытряхнуть из издательства. И не забывай, я ведь теперь невыездной, — пришлось напомнить то, о чем напоминать не хотелось. Но помогло: Надя тут же замолчала.
О переезде — это был их давнишний спор. Надя хотела жить в Воронеже, там, а Паша не представлял своей жизни без Петербурга. Он оставил его надолго только один раз, когда был в армии — тогда и прочувствовал он любовь к родному месту. Но армия — это особый случай, его тянуло не к городу, а из армии — так объяснила ему Надя. Здесь прошло его детство, — выставлял Паша новые аргументы, — здесь были друзья, здесь он учился творить и считал, что именно город вдохновлял его; здесь, наконец, похоронены родители. Только последняя причина имела для Нади хоть какую-то силу, но и ее она разрешала: «Мы же будем сюда приезжать к твоим теткам, они и могилы не оставят без присмотра». Крыть нечем. Спорить с Надей было бесполезно — всегда она переспорит. Спасало только то, что находились они в Петербурге, а не в Воронеже, и Паше только и надо было, что отмалчиваться — пусть дискутирует.
Теперь все складывалось неплохо. За билетом поехали вдвоем — Надя не захотела оставаться дома одна. Достали-таки. Следственная бригада приехала только часов в шесть вечера, но пробыла, как ни странно, не долго. Автоматически сделала свое дело — и на новое место преступления. До позднего вечера потом Заманихины наводили порядок в квартире, где будто две орды прошли: сначала — одна, а по их следам — другая.
Легли спать и не потянулись друг к другу, как обычно. Паша боялся причинить боль свежими воспоминаниями, Надя боялась сказать Паше, что боли о воспоминаниях уже никакой не было. Знала она, чувствовала, что вертится у него в голове глупый вопрос: «Как тебе было с теми?» — и готовила ответ, что плохо, что лучше, чем с ним ей не было. Да и сравнивать — разве что с этими насильниками — было не с кем. Был Паша у нее первым мужчиной, и всегда она думала, что будет единственным, да вот как вышло — не получилось. Урок: впредь не зарекайся.
Утром — оба на работу. Вечером Надя ненавязчиво напросилась в гости к своей подруге. Купила бутылку красного, торт и повод нашла — даже два: во-первых, она забеременела, наконец, чему подруга искренне порадовалась, зная о проблеме Заманихиных; а во-вторых, уезжает и надолго, а, может, и насовсем, если удастся уговорить мужа.
В среду вечером Заманихины стояли на перроне Московского вокзала. Поезд «Санкт-Петербург — Воронеж» отправлялся через несколько минут, и последние эти минуты как всегда проходили тягостно. Удивительное свойство было у Нади: стоит только остаться двум минутам до отхода поезда, независимо от того провожает она или сама уезжает, как у нее на глазах наворачиваются слезы, набухают быстро, как капли росы, и, отяжелевшие, текут по щекам.
Поезд тронулся, наконец. Надя в последний раз посмотрела в окно на мужа и показала пальцем на него и — тут же на свой живот: «ты со мной». Он понял, кивнул и послал последний воздушный поцелуй.
На уплывающий за окном город смотреть не хотелось. Надя достала из сумки книгу.
«Павел Заманихин. Мертвый фотограф», — значилось на обложке. Увядшая травинка, вложенная вместо закладки, напомнила Наде тот день, тот час, когда она, не дождавшись мужа, по-настоящему рассердившись, пошла искать его по пляжу. Как ей тогда хотелось пить! — почему-то вспомнилось именно это. Она положила травинку на столик и, сощурившись, погрузилась в подрагивающие строчки.
Пассажиры знакомились, беседовали, смеялись, но Надя, уткнувшись в книгу, сидела на «боковушке», и не было им никакого дела до нее и до мира, в котором она очутилась. Получили белье, проехали Малую Вишеру, кто-то уже стал укладываться спать. Стемнело, включили свет. Надя постелила себе, легла и снова принялась за чтение, благо света от лампы было достаточно. Повезло: стоило ей проглотить последнюю страницу, как электричество погасили.
Поезд остановился на очередной станции. Надя устроилась поудобнее, приготовилась спать, но вспомнила прочитанное. И была тут радость: захватило, молодец, Пашка; и была жалость, какая-то необычайно острая. Таню почему-то было не жалко, жалко этого фотографа, жалко Евдокию Тимофеевну, и Ленку, и того писателя, который появился в конце. Зачем он вообще был нужен! И была тревога. Разливалась она медленно, степенно, Надя даже и понять не могла, чем она может быть вызвана, а потом догадалась, поняла и вскрикнула даже от испуга:
— О, Господи!
В тот же миг поезд тронулся, и пока Надя бежала к проводнику со своего места у самого туалета, набрал полный ход. Проводник как раз вышел из тамбура: закрывал двери.
— Это какая станция была? — бросилась к нему Надя.
Он беспристрастно посмотрел в ее ошалевшие глаза — мало ли что пассажирам приснится — ответил:
— Бологое.
— А следующая когда будет? Мне выйти надо…
— Следующая Тверь. Рано утром. Спите пока. Подождите, подождите. Вам до Воронежа, девушка. Вам ить до конца!
— Да, нам идти до конца, — не расслышав или уяснив по-своему, тихо проговорила Надя и пошла на свое место.
19
Господи, что Ты решил сотворить со мной! Я (это я-то!) начал зачитываться стихами Блока. Перечитывал и перечитывал их, пока они не откладывались в моей памяти, и тогда декламировал вслух — и кому?! — деревенской девчонке. Я нашел у Блока слова о себе. Нет, не все творчество поэта, а какой-то один период, а именно второй том его шеститомного собрания сочинений, оказавшегося на чердаке. Наверное, и Блок в этот период чувствовал то же, что тогда, той осенью, почувствовал я. Иначе как объяснить, что каждый стих отдавался в сердце, каждая строфа запоминалась с легкостью, которая может быть присуща только поэту, вымучившему свое стихотворение. Или влюбленному.
Опускался вечер. Догорали осины.
Я встречал ее у коровника, когда она заканчивала дойку. Она выходила ко мне и выдавала всегда неожиданную шутку-прибаутку в мой адрес. Чувствуя, что краснею каждый раз, как какой-нибудь мальчишка, я брал у нее из рук трехлитровый бидончик с парным молоком, ждал, пока она запрет двери, и затем мы медленно шли к деревне. Тут-то я и читал ей стихи. Первый раз они вырвались сами, после ее очередного обидного укола. Первые хриплые, но от того не менее ритмичные фразы прозвучали так нелепо в вечерних сумерках на задках огородов. Но она сразу перестала смеяться, только улыбалась, восторженно глядя куда-то вверх и в сторону…
…И смех ее в длинном Звучит повтореньи Под небом невинным… И страсти и смерти, И смерти и страсти — Венчальные ветви Осенних убранств и запястий…— А еще… — тут же попросила она, когда я закончил, и, по-детски склонив голову, посмотрела на меня каким-то совершенно новым взглядом.
И я начал:
Я живу в отдаленном скиту В дни, когда опадают листы…В тот первый раз, когда я прочитал ей стихи, мы сделали лишний круг окрест деревни, а потом уже описывали круги постоянно, медленно продвигаясь по едва заметным в осенней темноте тропкам. Вскоре она уже знала всего того Блока, которого знал я, и частенько просила почитать ей особенно понравившиеся стихотворения. И тогда звучали «Она пришла с мороза…» и «Девушка пела в церковном хоре…».
Мы шли рядом, почти никогда не касаясь друг друга. Мы месили ногами осеннюю грязь и не замечали этого. Мы не мерзли. Мы были одеты почти одинаково: ватники, джинсы, резиновые сапоги. Мы наслаждались Блоком, или говорили о чем-то, мало значащем для нас обоих, или просто молчали, слушая октябрьскую тишину близкого леса. Иногда тропинки были слишком узки, чтобы мы могли пройти вдвоем, и тогда я пропускал ее вперед и смотрел сзади на распушившуюся за день толстую косу, на стройную, даже в такой одежде, фигуру. В одном месте — и я с радостью мальчишки ждал его — надо было перейти канаву по бревну. Тогда я переходил первый и протягивал ей руку. Она в два шага преодолевала препятствие, а на третьем давала мне то, что я так ждал — свою горячую ладошку, согретую, увы, не мной, а карманом ватника.
Мы подходили к ее дому, и она, прощаясь, снова отпускала какую-нибудь шутку, такую необходимую в этот момент ей и такую неуместную для меня. Шутки сдерживали меня, но разряжали неловкую ситуацию, в которой мы оказывались. Взяв бидон, она исчезала за дверью, оставляя меня наедине со своей любовью.
И все.
Я не узнавал себя. Я боялся сделать всего лишь один шаг вперед, чтобы мы оказались вплотную лицом к лицу, и она не смогла бы отвернуть в сторону взгляд; чтобы руки мои дотянулись до хлястика на ее ватнике и встретились там, коснулись друг друга; чтобы почувствовать через толстую одежду стук ее сердца.
Чего я боялся? Я не мог тогда признаться в этом даже себе. Но Тебе, Господи, и теперь, когда прошло время, я скажу: я боялся повторений.
А деревня ликовала. Это было поинтересней, чем в каком-нибудь обмыленном телесериале — ведь в живую, у всех на глазах. По утрам, если б захотел, я мог в подробностях расспросить все у своей хозяйки: и сколько кругов мы сделали вчера вечером, и как мы были одеты, и, главное, чем все закончилось. Евдокии Тимофеевне, хоть она об этом никого и не просила, сразу же с утра обо всем докладывали, стоило ей только выйти на колодец за водой, или пойти на огород, или даже дома, пока я еще спал, могли ей обо всем сообщить. Но что меня больше всего поражало: никто не видел ничего дурного в этом соглядатайстве. Еще тем временем жила Залупаевка.
Однажды, проснувшись раньше обычного, и услышал я такой вот «доклад». По громкому шепоту, который, наверное, меня и разбудил, нельзя было узнать говорившего — бабулька какая-то:
— …опять он проводил ее и даже слова не сказал на прощанье. Какой там — в дом напроситься! Матерь-то у нее в это время еще в коровнике была — я это точно знаю.
— Ты знаешь, а они, может статься, не знали, — вставила моя хозяйка.
— Да брось ты — «не знали»! Как же! То-то мать задерживаться стала, боится, как бы их в дому не застать. А вот Кимиха из дровяника слышала — они как раз мимо задками проходили — и, представляешь, говорит, он ей стихи читал! Послушай, Тимофеевна, что же это за мужик такой, сколь же он будет ходить за ней?
— Не твое это собачье дело, старая, — защитила меня Евдокия Тимофеевна. — Иди лучше по добру по здорову, а то сейчас сам проснется, услышит, покажет тебе тогда, какой он мужик.
— Кто это приходил, — спросил я, выйдя на кухню минут через пятнадцать.
— Да не обращай ты внимания на людей. У них сейчас языки злые от скуки — делать-то нечего. Вот весной, летом не до этого будет. А ты поступай, как сам знаешь, — и хозяйка посмотрела в окно, где по стеклу лениво постукивал дождик.
В то же утро произошло еще одно событие, которому ни я, ни Евдокия Тимофеевна, не уделили должного внимания.
За завтраком, когда я лениво пережевывал пищу, разглядывая половицы и думая о людях, которым до всего есть дело («так ведь и рушится любовь»), я вдруг обратил внимание на босую ногу хозяйки. На ней пониже голени расплылось иссиня-черное пятно.
— Что это у вас, Евдокия Тимофеевна? — спросил я.
— А! Это? Да ударилась… Тромб там что ли был, или как это называется?
— Вы что! — изумился я. — С этим не шутят. Надо к врачу сходить.
— Как же сходишь тут. В такую грязищу, до первых морозов автобусы у нас не ходят. А до района далековато.
— У меня же машина. Сейчас заведу, и поедем.
— Ты что! Из-за синяка к врачу ехать. Вот выдумал! Люди засмеют.
Ноги у Евдокии Тимофеевны болели всегда — еще бы, столько бегать! Спина — никогда. Бывало, придет какая-нибудь соседка и начнет стонать:
— Ой, спину ломит. Хорошо тебе, Тимофеевна, не знаешь, что это такое.
— А ты в наклонку больше, — отвечает хозяйка.
— Дык от этого спина и болит…
— Клин клином вышибают.
Каждый вечер Евдокия Тимофеевна мазала свои больные ноги какой-то настойкой, распространяя по дому сладковатый запах самогона и березовых почек. И помогало — утром она не чувствовала ни боли, ни усталости.
Но с тромбами, насколько я знал, а знал я очень мало, шутки плохи.
— У меня и не болит ничего. Синяк он и есть синяк, — все еще сопротивлялась Евдокия Тимофеевна.
Кое-как я уговорил ее съездить в поликлинику, провериться — хуже не будет, а заодно и купить каких-нибудь лекарств.
— Ой, лекарств! Толку-то от них, — сразу же опять возмутилась хозяйка, но еще после пяти минут спокойных рассудительных уговоров поехать согласилась.
Я побежал в сарай, где стояли мои «Жигули». Двигатель не заводился. Сбегал в дом, прогрел свечи на печке — по ночам-то холодно, все отсырело — никакого результата. Полез под капот, толком даже не зная, в чем причина.
— Ну и слава Богу, — сказала Евдокия Тимофеевна, выйдя из дома за дровами. — А то я уже было ехать собралась.
Думал ли я тогда, что у Тебя, Господи, были совершенно другие планы. Ты хотел, чтобы все было по-другому, а не так, как мы загадали. Весь день я прокопался в двигателе, но думал я не о нем, и не о тромбе, а о Ленке, как пойду вечером опять к коровнику встречать ее, лишь бы только утих этот дождь.
Машину я все-таки отремонтировал, но ехать, конечно, было уже поздно. Поездку в поликлинику отложили на следующий день.
Дождь не утих. Мелкий, неприятный, он нехотя выплакивал свои пресные, никого не тревожащие слезы. Я оделся и пошел знакомой, протоптанной Ленкой и ее матерью, и еще многими доярками до них, тропкой через огороды к коровникам. «Какие прогулки могут быть в такую погоду», — подумал я и поймал себя на мысли, что неплохо бы вернуться. Остановился. Дождь, почувствовав мои сомнения, с новой силой зачастил по лицу. Я представил, как все это может быть и чем кончится…
…Вымокнув, я подошел к первому коровнику. В другом, дальнем, работала мать Ленки. Почерневшая от дождя дверь скрипнула, в нос ударило запахом перепревшего сена и навоза. Впереди была еще одна дверь, через щели которой пробивались полоски света.
— Закрывай быстрей, а то мне телят застудишь, — откуда-то крикнула Ленка.
Здесь было тепло. Воздух спертый, сухой. Посередине длинный проход, с двух сторон загородки, за ними — коровы. Забеспокоились, увидев чужого.
— Что это ты рано сегодня? — сказала Ленка, выходя из-за загородки. Она, раскрасневшаяся от работы, с бисеринками пота, блестевшими на висках, в платке, съехавшем на шею, без ватника, в выцветшей старой кофте, джинсах, резиновых сапогах показалась мне прекрасной. Полюбил доярку — вот судьба!
— И не страшно тебе здесь одной?
— А кого мне бояться? Тебя что ли? Некогда. Будешь бояться, до ночи провозишься. Да и не одна я, с чего ты взял? Вон, ухажеров сколько, и каждый за меня хоть кого на рога подымет, хоть самого директора совхоза. Один Борька чего стоит.
Я с уважением посмотрел на Борьку, огромного черного быка, грозу собак и мальчишек. «Да, это так», — казалось, говорили его большие глаза.
— Раз пришел, потаскай корм из сеней, а то я еще не скоро. Как выйдешь, там справа свет включается. Да руками носи, а то вилами еще чего доброго телку в нос ткнешь.
Я с необъяснимой радостью носил охапки сена. Первому — Борьке. Он принял это как должное и — давай жевать. Вскоре я уже устал таскаться туда-сюда и присел отдохнуть, хотя не сделал и половины.
— Как ты с этим всем одна справляешься? — крикнул я Ленке, работавшей где-то в другом конце коровника.
— А что, я привычная. Это вам, городским все в тягость.
После такого укола хочешь, не хочешь, схватишься за работу. Остервенение даже появилось: что же это, девчонка подгоняет мужика, который сено таскает, невесомое сено.
Когда я отнес последнюю охапку, Ленка уже все закончила и ждала меня в сенях.
— Ох, мамочка! А уделался-то как! — воскликнула она и стала отряхивать высушенные травинки с моей рубашки. Я прижал ее к себе. Она не стала вырываться, только положила свои теплые ладони мне на грудь, и ее руки, как пружины, должны были сдержать мою нахрапистость. Но разве могло меня что-нибудь теперь остановить! Я потянулся к ней губами, но она прогнулась и отклонилась, не отрывая от меня своего смеющегося взгляда. Я сделал вторую попытку — она прогнулась еще сильней. И когда показалось, что мы сейчас упадем вместе в пахучую сухую траву, она громко засмеялась, крутанулась, вырвалась каким-то непостижимым образом из моих объятий и с озорным смехом быстро полезла по куче сена на самый верх…
…Я закурил, представив все это. Закурил совсем зря — сигарета тут же промокла и порвалась, как ни старался я спрятать ее в ладонь. Все от волнения. Передо мной так ясно, будто наяву встало другое лицо. Таня! Мало мне было ее смерти. Зачем же, Господи, Ты толкал мне в объятия эту невинную восемнадцатилетнюю девочку? Чтобы не говорили прислужники Твои о том, что неисповедимы пути Твои, я только после еще двух смертей понял, зачем Тебе это было нужно. Я не пошел у Тебя на поводу, я бросил размокшую сигарету и вернулся в дом.
20
Заманихин помахал еще немного рукой на прощанье, пока окно, за которым уже было не видно жены, не слилось с такими же в одну удаляющуюся ленту. Поезд ушел, и перрон начал пустеть.
Теперь надо было делать дело.
Приехав домой, он позвонил своему старому другу, Саше Рыжову — нужна была помощь. И вот какой малопонятный непосвященному разговор состоялся между ними:
— Здорово, Рыжий!
— О, Пашка!
— Я звоню по делу.
— Еще бы! Ты всегда старым друзьям только по делу звонишь.
— Как зверь-то? На ходу?
— Который? Наш или мой последний?
— Твоего я боюсь. Наш, конечно.
— На ходу. Так и рвется в бой, соскучился без движения.
— Так продал бы кому-нибудь.
— Кто ж его купит. Подожду уж лет двадцать, тогда и продам, как антиквариат. Неужели он тебе понадобился?
— Да вот…
— Сегодня?
— Нет, завтра утром.
— Утром?!
— Он что, только по ночам привык?
— Сам знаешь. Тогда стучи в дверь громче. В звонок трезвонить бесполезно. Я завтра выходной — буду высыпаться. А то, Паш, может, сегодня погоняем, а?
— Не, Саш. Мне по делу…
Перед тем, как уснуть, Заманихин долго ворочался в постели, обдумывая детали. Он еще сам не верил до конца во все происшедшее, и потому на завтрашнее утро запланировал небольшую проверочку, чтобы уж не оставалось сомнений.
Ночью ему приснился сон. Будто он проснулся от стука своей пишущей машинки. Именно своей, ее он ни с чем не перепутает. Пошел на кухню — стук, равномерный и звонкий в уснувшем доме, шел от туда. Там за столом сидел и печатал незнакомый мужчина средних лет, в очках, в каком-то балахоне, закрывавшем не только ноги до пят, но и табурет. Мужчина услышал, как Заманихин нерешительно остановился в дверях, повернулся всем корпусом, посмотрел внимательно, серьезно и заставил Заманихина проснуться. Уже было утро.
Спешно позавтракав, Павел взял водительские права и пошел к Сашке Рыжову. Тот жил недалеко, через улицу, но встречались они очень редко. Долго Заманихин и звонил, и стучал в дверь, но не сразу, не сразу впустил его внутрь Рыжий. Заспанный, босиком, он стоял перед Пашей, от утреннего холода скрестив на груди руки, и открыв один лишь глаз — другой еще спал. Совсем не изменился Рыжик.
— Тебе надо вместо звонка гаишную сирену поставить.
— Неплохая мысль. Долго стучал? Сколько времени?
— Восемь.
— Какая рань! Ты мне всех соседей разбудил.
— Все на работе давно.
— А я лег часа три назад…
— И не стыдно в таком почтенном возрасте по ночам мотаться? Ну, где наш ненаглядный? — Заманихин нетерпеливо заглянул внутрь.
— Не смотри, он не здесь. В гараже.
— А далеко гараж?
— Не, во дворе. Взял, так сказать, в аренду у одного инвалида. Им же гаражи разрешают во дворе, не то, что нам.
— Да. А помнишь, раньше в квартирах их держали…
— По лестнице таскали. Бр-р-р!
Они спустились во двор. Рыжий открыл железный гараж. Там в темноте поблескивали фарами и дугами два мотоцикла.
— Это что же, — удивился Заманихин, — никак «Хонда»? А где «Харлей»?
— Угробил… Разобрал на запчасти. Может, ее возьмешь? Супер!
— Не, я лучше на нашем, — ответил Паша и подошел ко второму мотоциклу — «Чезету».
— Ладно. Машина — зверь! — похлопав «Чезет» по высоко вздернутому заду, сказал Рыжий те слова, какие они всегда говорили раньше. — Шлемак дать?
— Да.
— Второй?
— Нет, не надо.
Заманихин надел шлем, сел, повернул ключ, открыл краник подачи топлива и, сидя, завел двигатель.
Взревело.
— О! Как и раньше, с полтычка! — крикнул он.
— Ни пуха! — гаркнул Рыжий.
— К черту! — ответил Заманихин и слишком резко отпустил сцепление.
Мотоцикл заглох.
— Ты чего? — удивился Сашка. — Разучился что ли, писатель?
Пашка завел тачку снова — и снова с полтычка. Только тогда, перекрикивая рев мотора, ответил:
— Волнуюсь! — и выехал из гаража.
Первый конфуз сразу же забылся. Мотоцикл почувствовал свободу в его руках. Что чувствовал Заманихин, он и описать бы не смог. Он пел от радости, но никто его не слышал, песни тонули в музыке двигателя. Какие там ограничения скорости, когда под тобой рев мотора, когда ветер переливчатыми трелями от малейшего наклона головы вплетается в эту упоительную музыку, когда правая рука так и норовит вывернуться в запястье, прибавить газу. А запах! Вот чего не хватало Заманихину, этого неповторимого запаха выхлопных газов, перемешанного с ветром. В автомобилях пахнет не так: там запах бензина, водительского пота и мнимого комфорта. Здесь — ветер! Эх, променял! Променял романтику, приключение на сидячую жизнь!
С трудом Заманихин сдерживался на шестидесяти, то и дело поглядывая на спидометр. Вскоре он выехал за черту города и тут уже оторвался, вывернул до конца ручку газа, без труда обгоняя любую колымагу. Гнал он в свое удовольствие. Но и сообразил тоже, что если и была за ним слежка, то отстала, а если не отстала, то он бы таких шустрых заметил и оторвался бы от них по-другому. На мотоцикле можно сделать такое, что невозможно на автомобиле: есть лестницы, пешеходные дорожки, лесные тропинки, где автомобилю не проехать. Но погони не было — хватило одной скорости.
Только за Лугой он поехал медленнее, и не только из-за того, что не было слежки — несся бы так и несся, но надо было делать дело. Подъехав к обочине, Заманихин остановился около старушки, продававшей семечки стаканами из двух больших мешков.
— Бабушка, не подскажете, как в Залупаевку проехать?
— Не знаю такой, милок. Купи семечек жареных.
— Что, все — жареные? — показал «милок» на мешки.
— Все, все.
— Не, не могу, видите, руки заняты, — поднял он обе ладони. И тут же снова их на руль: левая — сцепление, правая — газу.
— А ты их зубками! — крикнула вслед старушка, но он ее уже не слышал.
Идея Заманихина была проста, но абсурдна. Самому-то верилось в успех с трудом, так — пятьдесят на пятьдесят. Когда взяли с него подписку о невыезде, заподозрили его самого, вспомнил он тогда, что спасение утопающего дело рук самого утопающего. Была тут и жажда мщения, и кипучий дух справедливости. Все это подсказало шальную идею: надо найти фотографа. Ищет его милиция, ищут бандиты, а найдет он, Заманихин. Он еще не знал точно — как, но знал, что найдет — это точно. Только найдет не для бандитов, а для того, чтобы отомстить им и заодно доказать свою невиновность. Найдет его — и за шкирку в милицию. И вертелись теперь в голове крылатые слова, сказанные Тарасом Бульбой. Но сомнения все-таки были, а потому и нужна была эта маленькая проверочка: сначала отыскать деревню Залупаевку — может, есть такая. Может, бывал в ней некий фотограф, и тогда, может, что-то о нем удастся узнать. Сомнения возникли вчера вечером, когда он пытался найти на карте Ленинградской области эту Залупаевку. Карта была подробная, со всеми населенными пунктами. Там был значительный кусок области Псковской, а Заманихин знал из своей растреклятой книги, что деревенька эта где-то за Лугой, на границе двух областей. Но самой деревни так и не нашел. Заманихин искал и ругал себя — ну что за дурак! Сам ведь выдумал это название, а теперь ищет его на карте. С другой стороны и лысого, и девицу эту мерзопакостно-притягательную он тоже выдумал, а они оказались реальнее реальности. Значит, и деревенька может быть на свете, и именно там, где он ее указал — за Лугой. Главарь же — лысый. Девица — пергидролевая. Бугаев — двое, а не трое и не четверо. Значит и деревня есть такая — Залупаевка. Смущало, конечно, что не было ее на карте, но это могло и означать, что сейчас он въезжает на мотоцикле в мир, созданный его книгой, мир, который есть, существует.
Почему он назвал ее Залупаевкой, Заманихин даже себе не смог бы объяснить — захотелось ему так. Мало ли названий русских деревень. Стоит проехать на поезде в любом направлении, каких только звучных замысловатых прозвищ не встретишь на табличках убогих станционных вокзальчиков. А если пешком… Знаю я мечту твою, Заманихин: рюкзак — на плечи, блокнот наготове, и — в глубь России.
Заманихин снова остановился и задал тот же свой вопрос мужику на обочине дороги.
— Нет, не знаю, — был ответ.
Поедем дальше. Пока Заманихин не унывал.
— Не знаете, как в Залупаевку проехать?
— Нет, сынок.
Тот же неприличный вопрос молодым девчонкам. Хороши девчонки, есть еще такие: кровь с молоком, ноги голые, сарафаны грудастые, в обтяжечку. Прыснули, одна — в кулачок, другая — в голое плечо подруги. Нашел, у кого спрашивать. Езжай дальше.
— Не знаете, где Залупаевка?
— Нет.
— Не знаете такой деревни…
— Нет.
— Нет.
— Нет.
Энтузиазм поубавился. Мотоцикл не успевал разгоняться и до сорока.
И тут на тебе!
— Отчего же не знаю, — сердце замерло, пока дед-столет, милый такой старикашка с бородой «а ля Толстой-Солженицын» выдерживал нужную ему зачем-то паузу. — Показать даже могу, если ты меня подбросишь по пути.
— Садитесь.
— Так, — скомандовал дед, усевшись — а схватился-то как! — Вертай назад свой драндулет, проехал ты уже.
Сейчас я тебе покажу «драндулет», старый ты хрыч, — ласково подумал Заманихин, и от радости он, может, слишком сильно вывернул ручку газа, приподняв своего зверя на дыбы.
— Ты уж не шибко гони, мил человек, а то старухе одни кости привезешь, — кричал ему сзади дедуля. — Вот ща повертка будет. Вот она! Сворачивай, черт! Сворачивай!
Они затряслись по ухабам, объезжали никогда не высыхающие, старинные, как мировой океан, дорожные лужи, поднимали за собой столб пыли, и ни разу им не встретилось ни человека, ни тем более машины. Примерно через полчаса в сторонке на холме показалась какая-то деревенька, и дед скомандовал, выявляя в себе бывшего «подводника» от слова «подвода», бывалого водителя кобылы:
— Тпр-р-у-у! Стой, родимай! Все я приехал, вон мое Заполье. А тебе при твоем-то коне еще минут двадцать езды. Ехай прямо, никуда не сворачивай. Будет развилка — там еще камень такой большой — тебе направо. Да не перепутай: направо! — и зачем-то добавил странные слова: — Жалко было бы такую машину потерять. Ну бывай!
Заманихинское «спасибо» унесло ветром.
Ехал, ехал. Вот и развилка. И, правда, между двух дорог, великан-камень. На нем рукой шутника школьным мелком надпись: «Налево пойдешь — коня потеряешь, направо пойдешь голову сложишь», — и приписка фиолетовым мелком: «на грудь мою девичью». А еще ниже матерное словцо — как же без него на Руси!
Устраивает, — усмехнулся Заманихин и свернул направо, как дед велел.
Еще долго кувыркался на ухабах, с трудом удерживая руль — дорога совсем испортилась. Прошло уже и двадцать минут, и тридцать, и сорок, а ни деревни, ни вообще хоть одного прохожего. Не обманул ли старый плут, — замелькала мысль. Как вдруг из-за леса прямо пред ним выросла деревня. Она, Залупаевка, без всякого сомнения. С десяток некрашеных, почерневших домов, по краям огороды до самого леса, а на другом конце деревни то ли огромные сараи, то ли коровники.
Крайний дом был нежилой — окна заколочены крест-накрест старыми досками. Заманихин подъехал к следующему и заглушил уставший раскаленный двигатель. Дом перед ним был хоть и такой же почерневший, но добротный. Двускатная шиферная крыша, забора нет, крылечко под навесом.
Из будки возле крыльца выскочил щенок и, виляя хвостом, радуясь, бросился на своих толстых лапах к Заманихину, да не добежал — не по росту большая цепь не дала. И только тогда, вспомнив, наверное, о своих обязанностях, щенок пискляво с серьезным видом затявкал.
Снимая шлем, краем глаза заметил Заманихин, как колыхнулась занавеска на окне, и на шум вышла хозяйка — молодая, лет двадцати-двадцати пяти с крепкими загорелыми руками и ногами, небрежно заколотыми светло-русыми волосами, в выцветшем коротком халатике без рукавов. Вышла и остановилась на крыльце, увидев незнакомого человека.
Щенок перестал лаять, но хвостом замахал еще усерднее.
— Вам кого? — спросила женщина.
— Это Залупаевка?
— Да.
Эх, рисковать, так рисковать. С губ сорвалось выдуманное имя.
— Я бы хотел узнать что-нибудь насчет Евдокии Тимофеевны.
— Евдокии Тимофеевны? Она умерла. Уж два года как почти. Вон ее дом заколочен, — указала женщина подбородком на соседний крайний дом, мимо которого Заманихин только что проехал.
Сердце запрыгало в такт слогам: по-лу-ча-ет-ся! Только не останавливаться! Давай, Заманихин!
— А скажите, у нее жилец жил последнее время?
— Жил.
Ура!!!
— Вас Лена зовут? — это был необязательный вопрос — так, для полной победы.
— Да, — тихо сказала она удивившись.
Перед Павлом стоял на крыльце еще один его персонаж. Это много стоит — увидеть воочию своего героя. Не прототипа какого-нибудь, которого ты сначала увидел, и потом описал, а наоборот. Вот она, бойкая веселая Ленка! Заманихин смотрел на нее во все глаза. Красивой я тебя создал, — мелькнуло у него. Никакая, впрочем, она не бойкая, тут он просчитался. Ах, вот оно что!
Дверь за ней тихонько приоткрылась и на крыльце, неумело перешагнув пухленькими ножками через порог, появилось маленькое существо мужского пола без штанов в короткой рубашонке. Увидел незнакомого дядьку, прижался к мамкиной ноге, спрятав лицо в складках халата. Но потом не утерпел, выглянул и проговорил:
— Бу-бу, — и еще: — Па-па.
— Это сколько же такому богатырю? — умилился Заманихин.
— Год.
— И уже ходит?
— Да. Недавно пошел. Теперь не удержишь.
— Так, значит, как вы говорите звали этого жильца, который жил у Евдокии Тимофеевны? — резко переключился Заманихин.
— Степанов… Сергей…
— А где он сейчас, вы не знаете?
Ленка пожала плечами и виновато улыбнулась.
— Ну хотя бы приблизительно…
— Не знаю.
— А никто кроме меня его не искал?
— Нет.
— Все понятно. Спасибо, больше вопросов не будет.
Заманихин завел мотоцикл, но вдруг эта самая Ленка, его героиня, действительно бойкая, сказала такое, что двигатель заглох сам по себе:
— Вы если его встретите, скажите, что здесь его ждут… жена и сын Сергей.
— Как! — удивленно воскликнул Заманихин. — Этого в книге не было.
Теперь и она удивилась:
— В какой книге?
— Да это я так… Мы теперь обязательно с ним встретимся, и я передам. Вы его жена?
— Ну, — смутилась она, — мы не расписывались… но… ведь… как же это?! — она схватила ребенка на руки и скрылась за дверью.
Щенок тут же заскулил.
21
Все мое благополучие — призрачное, как оказалось, — рухнуло от одного удара десницы Твоей, Господи. Рухнуло, будто карточный домик (кропотливая работа — и легкое дуновение ветерка), будто соборы Твои величавые, помешавшие очередным робеспьерам, будто первая в моей жизни поленница, нестойкая и кривая.
В одно вьюжное декабрьское утро…
Нет, все началось гораздо раньше. Только теперь, по прошествии времени, можно разглядеть предзнаменования Твои, Господи. Перед тем мрачным утром было еще одно — октябрьское, то самое утро, которым мы должны были, наконец, отправиться в поликлинику. Но опять не поехали. Накануне я весь день провел в холодном сарае, ремонтируя машину, а затем в своей уничижительной нерешительности вымок под дождем. На следующий день я заболел.
Я плохо помню свое пробуждение. Кажется, умывался и даже ел. Кажется, мы говорили о чем-то с Евдокией Тимофеевной — я запомнил ее внимательный тревожный взгляд. А потом провал в памяти вплоть до какого-то неопределенного во времени момента, когда я очнулся ненадолго и увидел перед собой знакомый пожелтевший потолок, что всегда представал предо мной, стоило только проснуться у Евдокии Тимофеевны. И тут же его заслонило Ленкино лицо. Помню ее улыбку, немного грустную, из тех, которыми она одаривала меня, слушая стихи. И сквозь шум в ушах прорывается голос хозяйки из того угла, где были иконы:
— Очнулся? Ну, слава Богу.
И еще. Чей-то требовательный голос: «Пей!» — выводит меня из забытья, и языком, нёбом, я ощущаю вкус горячего бульона. И голос опять запрыгал по моим перепонкам, превращаясь в хозяйкин шепоток:
— Пей, сынок, это Машка, хрюшка наша, тебя выручает. Ты о ней заботился, вот и ей пришлось тебе помочь, — голос убаюкивает, успокаивает, и я засыпаю.
Не предзнаменование ли это? Свинья, конечно, не человек, ведь все равно Евдокия Тимофеевна планировала заколоть ее с первым снегом. Но как все сошлось! Жертвы, жертвы, сплошные жертвы! И это ради спасения одной моей никчемной души.
Я провалялся с воспалением легких весь ноябрь. И только пошел на поправку, только начал вставать и помогать хозяйке по дому, как и наступило то вьюжное декабрьское утро…
Проснулся я от холода — за ночь выдуло сквозняками все тепло. Евдокия Тимофеевна лежала на своей высокой кровати. Глаза у нее были пусто открыты.
Я вскочил, но подойти к ней ближе почему-то побоялся.
— Жива я, жива, — почувствовала мой нарастающий страх старушка. — Только вот встать не могу. Голова кружится… Ты, сынок, сам затопи печку.
Не с первого раза, но получилось: разгорелось, загудело, затрещало у печки внутри. Первый раз я растопил ее сам. Никогда раньше хозяйка не допускала меня к этому священнодействию. И в том, что мною было сделано, сделано вынуждено, не по праву, вместо хозяйки очага, было тоже зловещее предзнаменование.
— Я поеду за доктором, Евдокия Тимофеевна.
— Брось ты, какой доктор! Это от старости, сейчас полежу, погреюсь, и все пройдет.
Не прошло. Не удалось даже сбить температуру. Сходил за Ленкой. Она только что вернулась с утренней дойки и не успела раздеться — так и стояла, слушала меня в валенках, ватнике и платке.
— Конечно, я сейчас приду, — сказала она без колебаний.
Досадуя, что в деревне сломан единственный телефон, связывающий ее с большим миром, я прогрел мотор «Жигулей» и поехал за доктором в район, прямо как герои чеховских рассказов.
В поликлинике меня вежливо отшили:
— Что же, врач с вами поедет, а обратно? — (по Чехову надо было отвезти его и назад). — Да, как же, отвезете вы потом! Я все записала. Приедут к вам сегодня во второй половине дня.
— А почему не в первой?
— Потому что в первой у вашего участкового врача прием в поликлинике.
Я вернулся ни с чем.
Когда уже начало темнеть к дому подкатил тупорылый зеленый «УАЗик» с красным крестом в белом круге. Чтобы не перекрашивать всю машину в белый цвет, оказывается, достаточно и одного круга. Молодая докторша в лягушачьих очках показалась мне знакомой — что-то выплыло из забытья.
— Ну как, оклемались? — спросила она меня и, не дожидаясь ответа, прошла по-хозяйски в горницу. Значит, это она меня лечила. Мы с Ленкой остались на кухне — тихо сидели, прислушиваясь, что там творится за занавеской, и невольно подглядывали в щелку. Доктор послушала фонендоскопом, поставила градусник, измерила давление. Тут Евдокия Тимофеевна что-то сказала ей слабым шепотом. Врачиха резко откинула одеяло и громко выругалась. И тут сквозь неплотно прикрытые занавески, что разделяли кухню и горницу, я тоже увидел: в неверном желтом свете единственной лампочки левая нога Евдокии Тимофеевны была вся синяя.
Доктор снова достала фонендоскоп, считала пульс, потом приглушенным голосом в чем-то долго убеждала старушку, та отказывалась. Наконец врач вышла и жестом увлекла нас за собой на улицу.
— Вы ей кто? — спросила она у Ленки.
— Никто… соседка.
Доктор сразу от нее отвернулась и обратилась ко мне:
— А вы?
— Я? Жилец…
— Ясно, — выговорила она медным голосом. — Где же вы раньше были?
— В каком смысле?
— Ах да, вы же сами тут валялись… В общем, если на чистоту, дела плохи. Долечились, черт побери, всякими примочками. Раньше надо было врача вызывать. Впрочем, вряд ли что-нибудь изменилось бы.
— Что случилось?
— «Что-что»! Гангрена! Лопнул тромб, и уже довольно-таки давно. Надо бы резать ногу и, боюсь, уже под самый корень. Но и резать-то нельзя, вот в чем вся штука. Возраст! Сердце слабое. Шансы есть. Но, во-первых, вряд ли кто из наших хирургов возьмется — кому охота, чтобы пациентка под ножом умерла. Во-вторых, перевозка практически невозможна — растрясем. В-третьих, она сама не хочет. Я попробовала уговорить — нет, и все. Ну ладно, будет приезжать медицинская сестра через день, колоть обезболивающее. Это все, что мы можем, — с этими словами она направилась к машине и на ходу мне бросила: — А вы ищите себе новое жилье…
Кто же это так верно подметил, что все врачи циничны. Но в тот момент я еще не осознал до конца все сказанные ею слова.
— Доктор, но ведь она еще вчера бегала…
— Вот и добегалась, — пробормотала она, думая, что я не услышу — она уже садилась в машину.
Так Евдокия Тимофеевна больше и не встала. Я не отходил от нее, ловя те недолгие моменты, когда она возвращалась из забытья. Тут я насильно кормил ее бульоном, поил чаем, а она все повторяла: «Крему, крему…» Я долго не мог понять, что это за «крему» такое, пока одна из старушек, ее подружек, приходивших по-прежнему навестить хозяйку, не подсказала:
— Это у нас в магазин один раз такое завозили. Помню, купили все по баночке, а Тимофеихе особенно пондравилось.
— Что же «это»?
— Да крем, крем шикладный. Вот она, сердешная, и просит его теперича.
Поехал в район за «кремом» — так бедная Евдокия Тимофеевна называла орехово-шоколадную пасту. Нашел-таки с трудом. Вернулся. Все старушки сбежались посмотреть, завидев, как моя машина трясется по деревенским колдобинам.
— Ой, он! Его ты, родимый, привез, — обрадовались они, глядя на банки, которые я им показал, и все как одна разрыдались.
Евдокия Тимофеевна очнулась, и ей дали чайную ложечку «крема». Она с жадностью обхватила ее слабыми губами и сняла эту густую массу с ложки, сколько смогла, чуточку, почти ничего, только то, что было горкой, а во внутренности ложки паста осталась. Стала сосать между деснами и ввалившимися щеками. И, глядя, как она блаженно закрыла глаза, догадался я, наконец. Она всю свою долгую жизнь отказывала себе: все только для мужа, только для сыновей и даже только, может быть, для колхоза, но никогда — для себя. И вот теперь перед самой своей смертью, когда она, смерть, уже стала неотвратима, Евдокия Тимофеевна попросила и для себя то, что показалось ей чудом — баночку импортной орехово-шоколадной пасты.
Как и обещала доктор, через день приезжала медсестра и колола обезболивающее. Сама она была родом из Залупаевки, и прекрасно знала хозяйку.
— Ну что, Тимофеевна, мучаешься? — входя в горницу, говорила она обычно, даже, когда старушка была в забытьи. — Потерпи, потерпи, сейчас полегчает, — делала укол, а потом, глядя, как от наркотика разглаживаются черты на лице больной, беседовала со мной. От нее, неграмотной, в сущности, женщины с семилетним образованием я услышал впервые об эвтаназии. Не это ли был лучший выход для Евдокии Тимофеевны. Не лучше ли, чем мучаться от боли и сесть на иглу. Но тут законы Твои, Господи, вступали в силу. Ты считал, что нужно не жизнью праведной, а мучением доказать любовь к Тебе. Мучайся, человек, и откроется тебе царствие Господне!
Все реже Евдокия Тимофеевна выплывала из беспамятства. И все труднее ей было выносить боль в твердой памяти. Теперь она уже и «крема» не просила, только — медсестру. В ее сознании отложилось: с приходом медсестры будет легче. Ее тело высохло и уменьшилось в размерах, превратившись в тельце худенького ребенка лет семи. Перенося ее с кровати на диван, чтобы поменять или поправить простыни, я совершенно не ощущал ее веса. Она испарялась, она исчезала. Гангренная нога ее до самого колена была похожа на черную обуглившуюся головешку, острую в том месте, где когда-то был большой палец. Лицо — череп, обтянутый землистой морщинистой кожей, рот — темная безгубая дыра, руки — дрожащие сухие ветки погибающего дерева.
Бабки говорили, что надо бы привезти священника, но тут же и добавляли:
— Да где же его взять.
Даже в районном центре не было ни одной церквушки, все было сметено, а восстанавливали пока только в столицах. В соседнем районе — да, была одна. Туда и ездили, кто на чем мог. Да и то только в последнее время. Привыкли обходиться без церкви. Привыкли обращаться к Тебе, Господи, напрямую, без посредников. И верили, свято, наивно верили, что это не помешает попасть в царствие Твое.
Перед самым концом Евдокия Тимофеевна вдруг очнулась. Сейчас я даже думаю, что и не без помощи Твоей, Господи. Я был рядом. Она узнала меня, зашептала:
— Сынок, там за иконкой деньги на похороны. Там много, на поминки хватит. Помяните меня, как следует. Платье, платок — в шкафу. Туфли белые. Свечки. Все там припасёно. А ты, сынок, живи здесь. Что ж я, дура старая, завещание-то… Сноха может заерепениться… Куда ей дом-то. Ты живи, живи, а я буду тебя оберегать… как и прежде…
Будто только для этих слов и очнулась: сказала и опять — в забытье.
Той же ночью она умерла. Я проснулся от тишины. Вечером разыгралась вьюга, ветер рвался в окно. А тут — удивительная тишина. Глянул в окно, а там медленно, не спеша, падает снег. И вдруг я понял, чего не хватало — прерывистого сиплого дыхания Евдокии Тимофеевны. Она уже освободилась от старой, тесной для души оболочки. Отмучилась.
Еще один дорогой моему сердцу человек был погублен мной. Да, Господи, мной. Да, это я погубил Евдокию Тимофеевну, ворвавшись в ее жизнь. Я лишил ее единственной соломинки, за которую она хваталась — дела, не дававшего ей зачахнуть. Я невольно внушил ей, что есть такой человек, который позаботится о ее старости, вникнет в ее слабости, сделает за нее то, что по неумолимым законам жизни (опять Чарльз Дарвин! А я уже начал о нем забывать!) она должна была сделать сама. Я лишил ее дела, работы, возможности ухаживать за мной, а вместо этого сам стал оберегать ее. И погубил!
Я ходил из угла в угол, пораженный страшным открытием. «Значит, — думал я, — у меня нет никакого права связывать свою жизнь хоть с кем-нибудь — погублю». И тут я остановился: «Кроме одного человека».
Я размышлял, пока не увидел в окно, что среди тьмы загорелся свет у Ленки. Значит, наступило утро. Я достал из-за иконки белую тряпочку, в которую были бережно завернуты деньги. Так я и думал. Блажен тот, кто прожил на свете и не узнал, что такое инфляция. Я завернул оставшиеся у меня доллары в эту белую тряпочку и положил на место.
И тут я встретился с Тобой глазами. Ты смотрел на меня сквозь стекло, закрывающее икону, чинно и беспристрастно. Ты — кумир. Я — изгой. Какое право Ты имеешь на жизни людей? По какому праву Ты гонишь меня отовсюду, оставляя вокруг пустынное место смертей? Взглянув на Твой отрешенный лик, тут только я начал кое-что понимать.
Ленка собралась уходить в коровник. Мать ее уже ушла. Ленка восприняла случившееся легче, чем я. Смерть на селе, где большинство — старики, частое явление.
— Отмучилась, — только и сказала она, посмотрела на икону, но не перекрестилась. Только, когда я, передав последнюю просьбу Евдокии Тимофеевны о похоронах, сказал, что уезжаю — сейчас, срочно — в ее глазах появилось беспокойство.
— Может, останешься? — нерешительно спросила она и села на скамейку.
«Эх, Ленка, ты мне нравишься больше не такой, а веселой, бойкой, кружащейся со мной в русской плясовой. Оставайся лучше такой, Ленка. Не хватает еще твою жизнь погубить», — подумал я. А в слух произнес — и откуда только взялась твердость — короткое слово:
— Нет.
Я выехал на заледенелое шоссе с одной лишь целью: резко свернуть влево перед каким-нибудь встречным трейлером, и чтоб сразу — насмерть. Но вот проехал один грузовик, потом второй, третий, а повернуть руль у меня не хватало решительности. А Ты, Господи, я теперь понял это, насмехался надо мной, посылая мне все новые и новые гигантские машины — знал, что я не смогу.
Если и можно было чем-то оправдать мою жажду жизни, то только одним: был еще один человек, которого я оставил — косвенно, конечно — в одиночестве, который слаб и немощен, которому требовалась моя помощь. Ради этого стоило жить. «Я спасу его и этим сам обрету спасение», — подумал я и вернулся в город.
Так я снова начал странствие по жизни. Так вечно в пути и Агасфер, внук Божий.
22
Заманихин летел, расправив крылья. Так ему и самому казалось: широко расставленные руки на руле, рукава трепыхаются, хлопают, ветер бьет в лицо; таково было и состояние его души. Сосредоточиться, мыслить он сейчас не мог, а надо бы было. Он просто радовался, так же, как тогда, когда закончил своего «Мертвого фотографа». И мысли у него сейчас были сумбурные, легкие.
Все, Степанов Сергей, невыдуманный кошмар, обман моего воображения, ты в моих руках! — ликовал Заманихин, на предельной скорости приближаясь к городу. — Теперь я найду тебя, достану хоть из-под земли, вытащу из любой норки, где бы ты ни прятался.
Мотоцикл — в гараж. Нет-нет, Рыжик, пивка в другой раз попьем, сейчас мне нужна ясная голова. Чем бы наоборот отрезвить ее, чтобы она, ленивая, думала. Домой!
Взбежал на свой этаж. Там его ждали. Человек в милицейской форме представился:
— Участковый, старший лейтенант Шевчук. Вам повестка. Распишитесь в получении.
— Давно ждете? — подписываясь, спросил Заманихин.
— Нет, только поднялся.
Павел заглянул в повестку: ого, в Большой дом на Литейном. Когда? Завтра, шестого июня, в девять ноль-ноль. Отлично! — сказал он себе. — Вот тебе Заманихин три четверти суток, чтобы найти фотографа. Пойдете в милицию вместе. Не пойдет? Пойдет, как миленький! Совесть-то, наверное, разрослась, словно печень у алкоголика. Совесть-то у него есть, я знаю, я же его выдумал. Самому фотографу не выбраться — утонет. Лозунг «спасение утопающих дело рук самих утопающих» теперь не подходит. Фотографа надо спасать. Спасем друг друга — только так. И еще есть один козырь: малыш, маленький Сергей по отчеству Сергеевич, мама которого справедливого хочет, чтобы у него была фамилия Степанов.
Заманихин вошел в квартиру. О еде и не вспомнил. Схватил телефонную трубку, положил, взял телефонный справочник. С чего начать? Оказывается, он этого не знал. Руки опустились. Энтузиазма убавилось. Заманихин упал в кресло и задумался: надо восстановить весь ход событий, тогда все встанет на свои места. И мозг его привычно, быстро заработал, только успевай следить за мыслью.
Значит так. Первое. Когда это было? Лена ему сказала, что Евдокия Тимофеевна умерла «почти два года как». Вернее, если быть точным, двух лет с ее смерти еще нет. Она умерла в декабре, сейчас — июнь, значит, прошло полтора года. Почему не два с половиной? Очень просто. Ленкиному отпрыску год, плюс еще девять месяцев — вот тебе и точное время, когда фотограф был в Залупаевке. Далее в обратном порядке: где-то в середине лета он сбежал из города, где-то весной того же года, а точнее — как там в книге — «душной апрельской ночью», фотограф начал впервые искоренять зло злом. Значит, это точно — два с лишним года назад события начались, полтора — как закончились.
Второе. Зачем его ищут? Картотека со всеми мерзкими его фотографиями у бандитов — это ясно. Не мог же он все время таскать ее с собой. И потом, бандиты знают его почерк именно по картотеке — помнишь, Павел, они так сказали, вернувшись после погрома в квартире. Да, это точно. Стоп! Получается, что следователь этого не знает, ведь он сказал, что милиция ищет фотографа, чтобы, в том числе забрать картотеку. Или следователь тебя, Заманихин, обманывает. Так. Здесь пока ничего не ясно. Зачем фотограф нужен бандитам? Только для одного — как говориться, он слишком много знал. Ах да! Скоро же выборы! Знания фотографа одним ударом могут смести этого таинственного «Х». «Х» забеспокоился, занервничал. Так всегда у политиков: перед выборами они предупредительны, вежливы, внимательны и осторожны — как же, голоса избирателей нужны; после выборов — хоть травой все порасти!
Третье. Где искать фотографа? Куда ни сунься, везде уже, наверняка, побывали бандиты или милиция. Им вычислить прежнее его место работы гораздо проще, чем ему, Заманихину; найти пару-тройку его бывших друзей-приятелей тоже не проблема. Был бы от этого толк. Хорошо еще, Заманихин вовремя понял, что готов уже был идти по проторенной колее. Так бы успел только к шапочному разбору.
Но где тогда искать фотографа? — вот вопрос!
И как часто бывает на пороге истины, пока еще не видной, но близкой, напало уныние. Утренние радости вобрали в себя все силы до капли.
Пошел на кухню, достал огромную кастрюлю холодного борща, приготовленного Надей перед отъездом; навернул полторы тарелочки. Знал, что лучше бы ему размышлять на голодный желудок, но, оказывается, аппетит он успел нагулять зверский, и думать больше не хотелось. Сварил кофе, выпил, чтобы чего доброго не задремать. Лег. Снова задумался.
Если вымышленные персонажи вдруг становятся нашими читателями, — закрутилось у него в голове, — то, получается, что и мы, читатели, возможно, просто кем-то выдуманы. Но кем? Демиург может быть и обычным человеком, создавшим наш мир. И тогда этот самый демиург может просто элементарно ошибиться, как любой другой человек, — Заманихин вскочил. — Стоп, стоп, стоп! Попахивает Борхесом. Не о том думаешь. Работа, приятели фотографа отпадают. Но Залупаевка… О! В Залупаевке же не было ни бандитов, ни милиции. Ха-ха, они не до конца поверили ему, Заманихину, или невнимательно читали книгу. Вот с чего надо начинать!
Заманихин схватил книжку — не записную, не толстую дурацкую телефонную — он схватил своего «Мертвого фотографа». Ответ должен быть здесь! Сколько уже раз он ее перечитывал! Как она опротивела! Еще и неприятности приносит! Не чаял, что придется снова, и так скоро, ее открыть. Думал — только в старости, да и то, если не будет других, лучших книг… Черно-красную обложку нарисовал незнакомый Заманихину художник. Павла известили об этом самым последним, но он не спорил, обложка ему понравилась. Черно-красный цвет — это постоянный фон работы фотографа: при проявлении, при печатании фотографий в полной темноте используется красный фонарь. Но кто же знал, что символы цвета станут более значимыми. В черно-красную жизнь своего героя пришлось окунуться писателю. Черно-красным может быть только зло и обман. Заманихин попробовал ухватиться за мысль, что страницы у книги белые. И тут же — буквы-то на них чернее черного! Павел попытался не думать больше об этом. Символы — такая штука, что могут завести в непроглядные дебри любую мысль, а все равно будут одни домыслы.
Строча в свое время эту книгу, Заманихин старался всегда помнить, что Бог — это, прежде всего, совесть, и поэтому те немного литературные, но, казалось, такие нужные обращения главного героя к Господу — это взывание к своей совести. Бог-совесть мучил (или мучила) фотографа.
Он открыл книгу почти в самом конце, в том месте, где фотограф покидает Залупаевку, и прочитал:
«Если и можно было чем-то оправдать мою жажду жизни, то только одним: был еще один человек, которого я оставил — косвенно, конечно — в одиночестве, который слаб и немощен, которому требовалась моя помощь…»
Кто это? Человек «слаб и немощен». Отец? Мать? Они уже умерли. Ему ли, автору, не знать! Кто же это может быть? Придется перечитывать полностью из-за одного этого. Хорошо хоть есть еще время. Но тут его снова привлекла эта же самая цитата, а вернее всего два слова в ней, выделенных, будто специально, с двух сторон знаками тире. Он уже сомневался, есть ли в этой страшной книге хоть одно неправильное слово, хоть малая частица вымысла. Перед ним была книга вроде бы и написанная им самим, и даже больше — выдуманная им от первого до последнего слова, но на самом деле то, что он вообразил, оказалось действительностью. И страшно было даже пошевелиться. Но вот она, разгадка! Можно ли было теперь остановиться! «…человек, которого я оставил… в одиночестве…» — и между словами «оставил» и «в одиночестве» еще два слова, отделенных от других знаками тире: «косвенно, конечно».
Это мать Тани! Именно о ней думал фотограф. Именно Танина мама осталась одна, без чьей-либо помощи, после того, как дочь ее пропала. Осталась одна по вине фотографа, а «косвенно», потому что именно он был причиной гибели Тани. И совесть, совесть, Бог-совесть, не переставала мучить его.
Не задумываясь больше ни о чем, Заманихин сел к телефону и опять начал листать свою книжку — не телефонную — свою, черно-красную: где-то там даже был номер телефона. Вот он — 253-49-71. Когда-то Павел его просто придумал, проследив только за тем, чтобы не повторялись цифры — так он хотел подчеркнуть характер героини, а сам номер был нужен, чтобы показать, что герой спустя много лет по-прежнему помнит его, но сейчас Заманихин был уверен: нет здесь ничего случайного.
— Але, — ответил старческий голос.
— Здравствуйте. Это звонит человек, который хорошо знает Сергея Степанова и вашу дочь Таню.
— Мою дочь?.. Что с ней? Где она?
— Я могу это сказать только Сергею Степанову.
— Вы не туда попали. Здесь такие не живут, — голос вдруг обрел железную твердость.
— Не бросайте трубку! Послушайте! — закричал Заманихин. — Я друг. Я один могу помочь Степанову. Запишите мой номер, — он продиктовал его скороговоркой. — Меня зовут Павел. Пусть он мне срочно позвонит. Это важно…
Последняя фраза где-то там на линии столкнулась с короткими гудками, но Заманихин все равно ликовал. Старушка, несомненно, записала номер. Она молчала, когда он говорил, а значит, слушала. Он попал в точку, заинтриговав ее именем дочери. Жестоко, но что делать — Тане все равно ничем не поможешь. А так, если получится, то, может статься, удастся найти ее тело, и тогда мать хотя бы побывает на могиле дочери.
Теперь надо было только ждать. Заманихин чувствовал себя Шерлоком Холмсом и Эркюлем Пуаро. Он был уверен, что фотограф позвонит. Где же ему быть, как ни у матери Тани. Совесть привела его туда, и об этом, о замучившей совести, не догадается ни один человек, у которого ее нет. Вот почему бандиты не нашли фотографа до сих пор.
Смерть Тани и смерть Евдокии Тимофеевны, несомненно, были связаны в душе у Степанова. Если одна старушка умерла от его чрезмерных забот, как он считал, то вторая, Танина мама, жить не могла без хлопот дочери — он ведь знал, как Таня оберегала свою маму. Разве мог он допустить третью смерть по своей вине, хоть и косвенной. Заманихин не знал, как Степанову удалось заполучить доверие Таниной матери, но, судя даже по тому, что она до сих пор жива, он был связан с ней.
Теперь можно было подумать и о себе. Беспокойство было еще где-то далеко в сознании. Кровь гудела в голове. Расшевелились мозговые извилины, и мысль о себе перевоплотилась в небольшую интересную творческую идею. Он хотел творить и так сильно как никогда. Такой момент упускать было нельзя. Что все эти мучения по сравнению с несколькими минутами вдохновения! Он сел за стол, взял лист бумаги, и вот что у него получилось.
Басня об отважном мотыльке.
Все мотыльки, известно, любители повертеться у одинокой лампы. И почему Господь заставил их бдеть по ночам? Они же так тянутся к свету. Ах, как они на бреющем рвутся к лампе! С радостью, что преодолели тьму, подлетают и… падают с обожженными крылышками.
Но ничего, это не смертельно. Обгорели крылышки — и ладно. На мотыльках все заживает, как на собаках. Лишь только со временем расшатывается нервная система, они становятся склонны к алкоголизму и даже суициду. Но не все. Постоянно обжигая свои крылышки, многие благополучно доживают до старости, становятся знаменитостями и «пламенными» борцами в глазах себе подобных членов Союза Мотыльков. Некоторые — лауреаты всевозможных мотыльковых премий, заслуженные деятели обжигания крылышек. Есть среди них очень знаменитые мотыльки.
И вот однажды один неизвестный глупец среди них крикнул:
«Друзья, смотрите, там за темнотой Большая печка пышет жаром. Она зовет нас новый подвиг совершить».Ему ответили:
«А мы и здесь неплохо обгорим и навсегда Останемся в веках под светом лампы, И, главное, мы будем живы»Но этот глупец махнул крылом и полетел через тьму прямо к печке, рискуя, что скоро о нем забудут, хоть до этого безрассудства он уже обещающе обжигал свои крылышки. И он своего добился. Воздушные потоки подхватили глупца, не давая больше махать крылышками, и бросили в горнило, спалившее его всего без остатка.
И кто знает, может, много было таких, ведь о них не помнят.
Заманихин прочитал написанное, и не сделал даже ни одного исправления — так ему все понравилось.
Написанное им было моим последним предупреждением, посланным ему. Этот писатель возомнил себя творцом, но не творцом слова, а творцом себе подобных. Надо же думать такое о живом человеке, пусть и чужими словами: «Я тебя породил, я тебя и убью». А о своем возможном конце он задумываться не хотел. Воспитание. С детства, со школы искаженными мыслями Лермонтова ему и таким же, как он, внушали, что человек может изменять свою судьбу. Именно внушали — думать сами они не хотели. А ведь тот же Лермонтов предсказал свою смерть несколькими главами ранее. Бунт бесполезен. Бунт ведет к авторитарному пределу, но все не могут быть диктаторами. Надо помнить, что свобода воли дарует только лишь право предпочесть ад.
Вы, творцы словосочетаний, помните, что вы только творцы словосочетаний и ничего больше. Владеть словом — это уже много для человечества. Не забывайте о Моисее, выбившем воду из скалы и возомнившем, что он добился этого сам.
Но надо приводить к логическому концу эту историю.
Зазвонил телефон. Заманихин тут же бросился к нему.
— Это Павел? — спросили.
— А это Сергей? — вместо ответа тоже спросил Заманихин.
— Да. Что вам нужно?
— Я хочу с вами встретиться. Я все знаю о вас, и даже больше. У меня есть приятные новости из Залупаевки, они должны обрадовать вас. Я хочу вам только помочь, поверьте мне.
— Вы что — священник?
— Нет, я писатель, но это к делу не относится. Почти. Не бойтесь, я ваш друг. Можно даже сказать, товарищ по несчастью.
На том конце провода тишина.
— Повторяю, я могу вам помочь. Я спасу вас.
— Верю, — тихо ответил фотограф. — Где вы живете?
Заманихин назвал свой адрес.
— Знакомый район. У вас нет собачки?
— Нет.
— Жалко. Тогда вам придется просто так постоять у своего подъезда. Вы знаете, как я выгляжу?
— Нет.
— Прекрасно. Как я смогу узнать вас?
— Особых примет нет. Среднего роста, светлые волосы. Буду в голубых джинсах и черной рубашке.
— Хорошо. Выходите на улицу ровно через час, но подождите минут пятнадцать, пока я не подойду.
— А-а, вы хотите на меня с крыши посмотреть?
В ответ — гудки. Заманихин пожалел, что сказал о крыше. Ну ничего, придет.
Целый час Павел ходил из угла в угол, возбужденный, всклокоченный. В сей час он увидит еще одного своего персонажа, главного, мыслями которого жил долгое время. Это как встреча с ни разу не виданным собственным внебрачным дитятей. Книжку, подлинное свое творение, он кинул на диван — к черту ее!
Планы были такие: просидеть всю ночь за разговорами, можно выпить — водка есть, а утром — вместе в Большой дом. Когда уже собирался выходить на улицу — снова телефонный звонок. Заманихин застыл над аппаратом. Гудки были длинные — междугородка. Взглянув на часы, подсчитав, понял: Надя вполне могла успеть доехать, вбежать домой к родителям и сразу позвонить ему. И решил не брать трубку. Вернется с фотографом, тогда сам ей брякнет.
Спустился вниз. Закурил. Сигарета была лишняя, столько их уже было за этот час ожидания. А на улице прошел дождь, пахло сиренью, паром от земли, свежестью ветра. Заманихин посмотрел вверх: на востоке темные тучи уходили прочь, а под ними видная глазу пелена дождя, размывающая дали. Над головой было несколько облаков, еле-еле плывущих вслед за тучами. А везде было небо. Вот каким видел его Толстой. Вот что он понял, описав неизъяснимую красоту высоты.
Его окликнули:
— Можно прикурить.
Заманихин механически отдал свой окурок.
Мужчина перед ним не уходил. Заманихин, наконец, посмотрел на него. Фотограф? Нет, тот должен быть другим. Без этого уверенно-шального взгляда, без фиксатой улыбки, без пошлой золотой цепи на шее, без примитивного ножа…
Заманихин догадывался, но не верил до самого последнего мига, что так оно и будет, как в книге. Нож легко вошел под ребра. Было больно, но терпимо. Заманихин медленно опустился на землю, и снова открылось ему небо.
23
Прошло два года после исчезновения Тани и моего бегства, полтора — после смерти Евдокии Тимофеевны.
Мое новое жилище было как укромная норка, куда я, маленький боязливый зверек забился в страхе. Я менял места работы, как тот джентльмен свои перчатки, и не потому что боялся слежки, — не лежала к ним душа. Никак не мог я забыть свой фотоаппарат, похороненный в лесной речушке. А может, это ты насмешник, не давал мне освободиться от прошлого, искушая у магазина фототоваров. Все-таки с фотоаппаратом была связана большая часть моей сознательной жизни. Как сейчас помню: мне восемь лет, мой день рождение, и мама с папой за три месяца до автокатастрофы, где оба они погибли что называется: в одну минуту, — мама с папой вручают мне «Смену-символ», новенький, вороного цвета фотоаппарат. С ним одним через три месяца я переселился к бабушке, не взяв ни одной игрушки, будто знал, что детство мое на этом кончилось. С этих пор через его видоискатель я видел мир таким, какой он есть, — мир, разительно отличавшийся от того, что был на фотографиях в газетах и журналах. Это предопределило мою судьбу — я стал тем, кем я стал. И теперь я потерял все, потому что как ни согревали меня воспоминания о природе в кадре, о милых родных лицах в кадре, одно воспоминание, которое я даже и не видел, а всего лишь вообразил, заставляло меня каждый раз содрогаться: отморозки убивают мою Таню. И я отходил от витрины с фотоаппаратами, зная, что никогда не смогу теперь смотреть в видоискатель.
Я жил теперь новой жизнью, а огромный город был для меня, иголочки, надежным стогом сена. Я не виделся ни с одним из своих старых знакомых, я обходил стороной все те места, где бывал раньше. Я изменился — жизнь побила меня, я осунулся и постарел, и не было надобности скрываться под гримом, чтобы случайно встреченный знакомый на улице прошел мимо и не узнал меня.
Как меня вычислил тот писатель, до сих пор понять не могу и никогда теперь не узнаю. Сразу же, без обиняков, он сказал по телефону, что хочет выслушать мою исповедь, и я, не узнавая себя, как загипнотизированный поверил ему. Потому, наверное, что давно ждал этого момента — надо было, чтобы кто-то снял с души камень, надежно прижавший, как квашеную капусту в бочке, мои воспоминания.
Я согласился на встречу. По пути купил водки — как для бесстрашия, так и для плавного течения разговора. В последнее время я частенько прибегал к ее помощи, но не отпускало. И теперь я знаю почему — не было видно выхода. Я быстро уверился, что эта встреча принесет облегчение, и к тому же писатель упомянул что-то о новостях из Залупаевки.
Ловушки я не боялся. После тех ночных трейлеров, которые один за другим выскакивали из темноты навстречу моей машине, когда я понял, что не смогу сам лишить себя жизни, я был бы только рад, если кто-то сделал бы это за меня. Пусть этот писатель — один из бандитов, думал я, хорошо. Отдамся им в руки и скажу: «Вот я, пожалуйста, убивайте». Тогда я чувствовал, что у меня хватит сил и мужества расстаться со своей никчемной жизнью.
Подходя к дому, где жил писатель, я увидел его издалека: он стоял, как условились, у своего подъезда и курил. Он еще не видел меня. На какое-то мгновение я застыл в нерешительности. Эти-то несколько мгновений и погубили того, кто должен был спасти меня. Спасли меня, хотя должен был погибнуть я. Все перевернулось. Господи, я совсем запутался!
Прямо у меня на глазах какой-то мужчина подошел к писателю. Я видел это и не прибавил шагу! Казалось, мужчина просто прикурил сигарету и пошел дальше… Но писатель вдруг как-то весь обмяк и медленно опустился на землю. И на асфальте под ним сразу расплылась коричневая лужа.
Вдруг взорвалось у меня под ногами — выскочила из рук бутылка и разбилась. Я очнулся. Огляделся. Ко мне приближались два человека в черном; и тот, что прикуривал, тоже бросился ко мне. Я побежал. Я не видел уже ничего.
За что Ты, Господи, лишил его жизни?! Только для того, чтобы снова увидеть, как я бегу? Ты доволен? Я бегу. Так верни его теперь! Ты же можешь, можешь! Возьми его за руку, как ту девочку, в которую Ты одним прикосновением вдохнул жизнь. Как Лазаря… Сделай это снова, и тогда на одного верующего в Тебя будет больше. Верующего не в то, что Ты есть, а в то, что Ты Бог. Молчишь? Не хочешь? Да, тогда Ты завоевывал таким способом себе славу, а сейчас Ты и так популярен, зачем Тебе больше. И зачем Тебе еще один верующий, да? Все Тебе не нужны, да? Иначе скучно будет без Содома и Гоморры, без Вавилонской башни, без Ирода, без Иуды, без измученного бегущего фотографа. Это, мол, дьяволово, с этим, мол, надо бороться…
Послушай, а есть ли дьявол? Не внушил ли Ты нам это заблуждение себе на потеху, а сам время от времени просто меняешь свои личины. Вот захотел и надел маску зла… Молчишь? Даешь мне кричать? Значит, это и есть истина! А-а, я слышу Твой смех. Ты смеешься надо мной жалким твоим созданием, сотворенным Тобою от скуки.
Господи, сделай милость — убей меня!
24
По двору бежал человек и кричал какую-то ересь, высоко, к небу, подняв голову. За ним припустили двое в черном, но вдруг из подворотни выехал милицейский «УАЗ», и тот первый человек, не глядя вперед, а только на небо, врезался в капот машины. Его схватили. Двоих в черном тоже. А человек показывал назад себе за спину и в исступлении кричал:
— Я еще одного погубил!
Там, куда он показывал, в глубине двора лежал еще один человек и тоже смотрел на небо. И никто не видел, как по-прежнему лежа, он отделился от тела и пошел, поднимаясь, ко мне рассказать то, что я и так уже знаю.






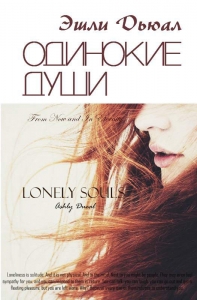



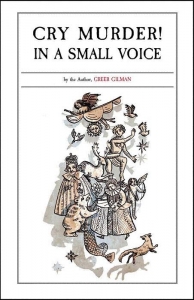
Комментарии к книге «Черно-красная книга вокруг», Илья Васильевич Лавров
Всего 0 комментариев