Эрика Свайлер Книга домыслов
Erika Swyler
The Book of Speculation
© Erika Swyler, 2015
© Hemiro Ltd, издание на русском языке, 2016
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», перевод и художественное оформление, 2016
* * *
Посвящается маме. У меня просто нет слов
Благодарности
Над созданием книги работали многие. Те, кого я упомянула, внесли самый большой вклад.
Мой агент Мишель Брауер разобралась со всей неразберихой и не дрогнула даже тогда, когда я заявила ей, что собираюсь сама править свою рукопись. Прежде чем сообщить мне хорошую новость, она посоветовала присесть и успокоиться. Эта женщина во всем оказалась права.
Мой редактор Хоуп Деллон с добродушной приветливостью вела меня, пока я работала над книгой. Она и все остальные сотрудники «Сент-Мартин пресс» – просто фантастические люди.
Многие страницы этой книги были написаны в стенах Комсвоугской и Бруклинской публичных библиотек. История цирка дика и полна фантасмагорий, поэтому работать в библиотеках – то, что нужно. Когда я не могла придумать города, обращалась за помощью к историческим обществам Шарлотта (штат Северная Каролина), Нью-Касла (штат Делавэр) и Берлингтона (штат Нью-Джерси). Все исторические неточности – исключительно моя вина.
Следовало бы дать длинный перечень имен, но их, к сожалению, слишком много. Эта книга не увидела бы свет без Рика Рофайе и Мэтта де ла Пэна. Стефани Фридберг звонила посреди ночи, кричала в трубку, называя номер главы, и тем самым давала толчок дальнейшему развитию сюжета. Карен Свайлер поддерживала меня так, как способна поддержать лишь родная сестра.
А еще Роберт. Несмотря на бесконечную череду чашек кофе, ты бодрил меня лучше всего.
Глава 1
20 июня
Стоящий едва ли не на краю отвесного обрыва дом находился в опасности. Ночной шторм обрушил на осыпающийся берег стены воды, которые, схлынув, оставили после себя бутылки, морские водоросли и спинные щиты мечехвостов[1]. Дому, в котором я прожил всю свою жизнь, вряд ли суждено пережить осенний сезон штормов. Берега пролива Лонг-Айленд усеяны руинами домов и прочими напоминаниями о прежней жизни. Все это постепенно поглощается жадным, вечно голодным песком.
Никаких дамб, защищающих берег от разрушения. Никаких террас на склонах. Безучастность отца оставила мне в наследство неразрешимую проблему, неподъемную для кармана библиотекаря из Напаусета. Впрочем, библиотекари славятся своей изворотливостью.
Я подошел к деревянной лестнице, которая спускалась по крутому склону к песчаному пляжу. В этом году я запустил мозоли на ногах, и было больно ступать босыми ногами по голым камням. На северном берегу мало что столь же важно, как здоровые ноги. Я и моя сестра Энола прежде летом имели обыкновение бегать босиком до тех пор, пока асфальт тротуара не раскалялся до такой степени, что ступни оставляли на нем свои отпечатки. Чужаки не в состоянии гулять по нашему побережью.
У подножия лестницы я заметил Фрэнка Мак-Эвоя, он помахал мне рукой, а затем перевел взгляд на крутой берег, на котором стоит мой дом. У него есть ялик. Красивая лодка кажется вырезанной из цельного куска дерева. Фрэнк – шлюпочный мастер и просто хороший человек, он дружил с нашей семьей еще до моего рождения. Когда он улыбается, его веснушчатое лицо покрывается глубокими морщинами, что свойственно ирландцам, долгие годы подставляющим лица всем ветрам, штормам и летнему зною. Кустистые брови старика касаются полей старой-престарой рыбацкой парусиновой шляпы, с которой он никогда не расстается. Если бы мой отец дожил до шестидесяти лет, он, пожалуй, выглядел бы как Фрэнк, – желтые зубы и старческие пятна на щеках.
При виде Фрэнка я вспомнил, как, будучи еще маленьким, лазил среди дров, желая развести костер, а его сильная, большая рука вовремя выхватила меня из-под бревна, которое грозило вот-вот упасть на меня. Вид старика оживил в моей памяти образ отца, стоящего над барбекюшницей и готовящего из кукурузы попкорн. В воздухе витали запахи горелой шелухи и кукурузных початков. Папа делал попкорн, а Фрэнк потчевал его рыбацкими байками. Он врал не краснея и даже не пытался придать правдоподобия своим рассказам. Моя мама и его жена то и дело поднимали Фрэнка на смех, и женский хохот пугал морских чаек. Двух человек уже не было с нами. Глядя на Фрэнка, я видел родителей. Пожалуй, глядя на меня, он вспоминал своих друзей, так рано ушедших из жизни.
– Кажись, шторм крепко тебя потрепал, Саймон, – обратился ко мне старик.
– Да уж… Я потерял с пяток футов берега, – отозвался я.
Пять футов было явным преуменьшением.
– Я говорил твоему отцу, что нужно посадить на защитной дамбе деревья.
Дом Мак-Эвоев располагался в нескольких сотнях ярдов восточнее моего и куда дальше от воды, к тому же его защищали рукотворные, обсаженные деревьями и кустарником террасы. Если ад в виде высокой воды все же доберется до его собственности, эти предосторожности наверняка спасут дом.
– Папа никогда не прислушивался к чьим-либо советам.
– Это уж точно. Даже если сейчас подлатать твою дамбу, насыпать побольше земли, это избавит тебя от множества проблем в дальнейшем.
– Вы же помните, каким он был…
Молчание… Сожаление.
Фрэнк со свистом втянул в себя воздух.
– Наверняка он думал, что впереди еще достаточно времени, чтобы все это уладить.
– Пожалуй, так оно и было, – согласился я.
Кто знает, что было на уме у моего отца?
– В последние годы вода поднимается все выше и выше, – продолжил старик.
– Вижу. Дальше так продолжаться не может. Если у вас есть на примете надежный строительный подрядчик, я буду рад узнать его имя.
– Вот и чудненько! – почесав затылок, сказал Фрэнк. – Я кого-нибудь направлю к тебе. Не хочу вводить тебя в заблуждение: дешево не получится.
– Ничего другого, как я полагаю, не остается.
– Думаю, что нет.
– Возможно, мне придется продать дом.
– Мне бы этого не хотелось, – нахмурившись, произнес Фрэнк и стянул с головы свою шляпу.
– Если даже дом развалится, земля кое-чего все же стоит.
– Надо все хорошенько обдумать.
Фрэнк прекрасно понимал, насколько затруднительно мое финансовое положение. Его дочь Алиса работала вместе со мной в библиотеке. Рыжеволосая и симпатичная, она унаследовала от отца дружелюбную улыбку, а еще умела ладить с детьми. Вследствие врожденной общительности Алисе поручали вести различные обучающие программы для детей, а меня оставляли в хранилище работать с каталогом. Впрочем, сегодня мы встретились не для того, чтобы обсуждать плачевное состояние моего дома либо болтать об Алисе. Сегодня нам предстояло сделать то, что мы с Фрэнком делали уже на протяжении доброго десятилетия, а именно расставляли буйки, ограждая ими безопасное для плавания место. Сильный шторм вынес все буйки с якорями на берег, и теперь на песке грудились кучи обросших ракушками ржавых цепей и оранжевых канатов. Ничего удивительного, что море постепенно крадет у меня землю.
– Начнем? – предложил я.
– Пожалуй… Время не ждет.
Сняв рубашку, я перекинул цепи и канаты через плечо и начал медленно заходить в воду.
– Тебе точно не нужна моя помощь? – спросил Фрэнк.
Старик столкнул лежащий на песке ялик в воду.
– Нет, спасибо. Я и сам справлюсь.
Я вполне управился бы и сам, но с Фрэнком делать это надежнее. Если уж говорить начистоту, то старик пришел не ради меня. Он пришел на берег моря с той же целью, с какой я каждый год совершаю этот ритуал в память о моей матери Паулине, утонувшей в этом месте.
Как для июня вода в проливе довольно прохладная. Но я не остановился до тех пор, пока ступни не коснулись покрытых водорослями камней. Якорные цепи замедляли мое продвижение, но Фрэнк, работая веслами, не сбавлял темпа. Я шел, пока вода не достигла моей груди, потом шеи. Перед погружением я сначала выдохнул, а затем набрал полные легкие воздуха так, как учила меня мама теплым утром в конце июля, и так, как я учил мою сестру.
Хитрость заключается в том, что человек, испытывающий жажду, может дольше задерживать дыхание.
– Всплываешь и делаешь резкий вдох, – говорила мама.
Ее мягкий голос шелестел у меня в ушах. На мелководье ее густые темные волосы струились вокруг нас, подобно водорослям. Тогда мне было пять лет. Мама давила рукой мне на живот до тех пор, пока начинало казаться, что пуп вот-вот коснется хребта. Она с силой давила рукой. Я чувствовал на коже ее длинные острые ногти.
– А теперь сильнее! Сильнее! Сильнее! Расширяй свою грудную клетку. Расширяй свое сознание.
Мама набрала в легкие воздуха, и ее грудная клетка расширилась; тонкие, словно птичьи, ребра разошлись в стороны, а живот стал походить на донышко бочонка. Ее купальник светился белым светом в воде. Я жмурился, когда на него смотрел.
Шлеп, шлеп, шлеп…
– Ты вдохнул, Саймон. Если ты вдохнешь в воде, то утонешь. Когда ты вдыхаешь грудью, объем твоего живота уменьшается.
Нежное прикосновение. Легкая улыбка. Мама сказала, что я должен представить, будто умираю от жажды, что я пустой и полностью высушенный изнутри, а затем надо жадно, захлебываясь, пить воздух. Расправить свою грудную клетку и пить воздух полной грудью.
Когда мой живот стал напоминать барабан, мама прошептала:
– Замечательно… Замечательно… А теперь мы погружаемся.
Сейчас я погрузился в воду с головой. Мягкие лучи света проникали сквозь водную толщу. Рядом нависла тень ялика Фрэнка. Временами я слышал, как мама плывет где-то поблизости. Временами я замечал, как ее темные волосы мелькают среди бурого полога морских водорослей.
Мое дыхание превратилось в легкий туман, оседающий у меня на коже.
В прошлом Паулина, моя мама, выступала в цирке и на карнавалах. Она предсказывала судьбу, помогала фокуснику, а когда представала в образе русалки, надолго задерживала дыхание под водой. Она научила меня плавать, как рыба. Она вызывала у отца счастливую улыбку. Она часто надолго пропадала. Она то бросала работу, то работала в двух-трех местах одновременно. Она останавливалась в гостиницах лишь для того, чтобы переменить обстановку. Мой отец Даниэль работал у станка на заводе и был верным, преданным мужем. Он улыбаясь ждал ее возвращения дома, ждал, когда Паулина назовет его мой дорогой.
Мой дорогой Саймон. И меня мама так называла.
Мне было семь лет, когда мама в последний раз вошла в воду. Я старался забыть тот роковой день, но он навечно отпечатался в моей памяти. Она ушла утром, накормив нас завтраком. Скорлупу сваренных вкрутую яиц разбивали о краешек тарелки, а затем счищали ногтями и бросали рядом на стол. Я разбил и очистил яйцо для сестры, потом разрезал его на дольки – как раз такие, чтобы их могли удержать крошечные пальчики малышки. Сухарики и апельсиновый сок дополняли завтрак. В эти ранние утренние часы тени кажутся темнее, лица – светлее, а все пустоты становятся угловатыми, более резко выделяются. Паулина в то утро казалась еще более красивой, чем всегда, похожей на грациозную лебедушку. Папа уехал работать на завод. Мама осталась одна с нами, детьми. Она смотрела, как я разрезаю яйцо для Энолы, и одобрительно кивала.
– Ты хороший брат, Саймон. Приглядывай за Энолой. Она попытается от тебя убежать, но ты не позволяй ей этого. Обещаешь?
– Обещаю.
– Ты ведь хороший мальчик. Я не ожидала, что так все обернется. Я вообще на тебя не рассчитывала.
Маятник на часах с кукушкой качался из стороны в сторону. Мама стукнула каблучком по линолеуму, призывая к тишине. Энола сидела вся в хлебных крошках и маленьких кусочках яйца. Я безуспешно пытался есть, одновременно следя за тем, чтобы сестра не сильно измазалась.
По прошествии некоторого времени мама поднялась на ноги и одернула спереди подол своей желтой летней юбки.
– Увидимся позже, Саймон! Пока, Энола!
Мама поцеловала дочь в щеку и прижалась губами к моей макушке. Еще раз помахав рукой на прощание, она улыбнулась и ушла. Я думал, что мама поедет на работу. Откуда мне было знать, что она прощалась с нами навсегда? Тяжелые мысли иногда сокрыты в ничего не значащих словах. В то утро, глядя на меня, мама поняла, что я позабочусь об Эноле. Она знала, что мы за ней не увяжемся. Время было выбрано удачно.
Вскоре после этого, когда мы с Алисой Мак-Эвой гоняли игрушечные машины по расстеленному на полу гостиной ковру, мама утонула в водах пролива.
Пригнувшись, я оттолкнулся пальцами ног ото дна, ощущая сопротивление воды грудью, и, преодолев еще пару ярдов, сбросил якорь. Тот упал на дно с приглушенным звоном. Я посмотрел вверх на тень ялика. Фрэнк оставался настороже. Весла били по поверхности воды. Как это бывает, когда вдыхаешь воду? Я представил себе искаженное агонией лицо матери, но продолжал идти до тех пор, пока не установил второй якорь. Выпустив воздух из легких, я направился к берегу, стараясь оставаться на дне как можно дольше. В детстве мы часто играли с Энолой в эту игру. Я пускался вплавь, только когда становилось трудно удерживать равновесие… А потом мои руки задвигались, разрезая воду, словно одна из лодок, изготовленных Фрэнком. Когда глубина едва превышала мой рост, я коснулся рукой дна ялика, но сделал это не ради себя, а ради Фрэнка.
– Медленнее, Саймон, – говаривала мне мама. – Держи глаза широко раскрытыми, даже если их жжет. Когда выходишь из воды, жжение усиливается, но ты все равно не закрывай глаз, не моргай.
Соль жгла, но мама никогда не моргала, даже в воде, даже когда ветер хлестал глаза после всплытия. В воде она превращалась в движущуюся статую.
– Не дыши даже тогда, когда твой нос окажется над поверхностью воды. Поспешишь – наберешь полный рот соли. Жди, – говорила она, словно взвешивая каждое произнесенное слово. – Подожди до тех пор, пока твой рот не окажется над поверхностью, но дыши только через нос, а то окружающие решат, что ты очень устал. После этого улыбнись.
У мамы был маленький рот, тонкие губы, но улыбалась она так широко, как разливаются воды.
Мама показала мне, как правильно кланяться: руки высоко, грудь выпячена, и ты сгибаешься, словно журавль, собирающийся взлететь.
– Толпа любит очень низкорослых и очень высоких людей. Не кланяйся, сгибаясь в талии, словно актер. Из-за этого людям будет казаться, что ты не так уж высок. Пусть лучше думают, что ты выше, чем есть на самом деле. – Она улыбнулась, обнимая меня обеими руками. – Ты вырастешь высоким, очень высоким, Саймон.
Скупой кивок невидимой публике.
– Будь грациозен, всегда будь…
Я грациозно склонил голову, но сделал это не для Фрэнка, а для себя. В последний раз я поступил так, когда учил Энолу нырять. Соленая вода настолько сильно раздражала слизистую оболочку наших глаз, что со стороны могло показаться, будто мы только что поссорились по-крупному. Я улыбнулся и набрал через нос воздух, позволяя моей груди ощутить свою силу, наполняя легкие кислородом.
– Мне уже казалось, что еще немного – и я отправлюсь вслед за тобой, – крикнул мне Фрэнк.
– Сколько времени я пробыл внизу?
Бросив взгляд на часы на покрытом трещинками кожаном ремешке, охватывающем запястье, и с шумом выпустив из груди воздух, старик сказал:
– Девять минут.
– Мама умела оставаться там до одиннадцати минут.
Я мотнул головой, стряхивая капли воды с волос, а затем двумя ударами пальца вытряхнул воду из уха.
– Никогда этого не понимал, – пробурчал Фрэнк, высвобождая весла из уключин.
Они загрохотали, когда старик швырнул их на дно ялика. Никто из нас никогда вслух не задавал очевидного вопроса: «Сколько времени надо человеку, умеющему надолго задерживать дыхание, чтобы утонуть?»
Я натянул на себя полную песка рубаху. Песок – неизменный спутник всякого, кто живет на берегу. Песок попадает тебе в волосы. Он забивается под ногти. Ты обнаруживаешь песок в складках своей простыни.
Фрэнк шел сзади и тяжело дышал: ему довелось вытаскивать на берег ялик.
– Лучше бы я помог вам.
Старик хлопнул меня по спине.
– Если я не буду держать себя в форме, то быстро сдам.
Мы принялись болтать о делах, творящихся на шлюпочной пристани. Фрэнк пожаловался на засилье суден из стеклопластика. Оба мы испытывали поэтическую ностальгию по «Ветряку». Этой гоночной парусной яхтой Фрэнк владел на паях с моим отцом. После того как мама утонула, папа продал яхту, ничего никому не объяснив. Это было довольно жестоко по отношению к Фрэнку, который, как я предполагал, мог бы легко выкупить долю моего отца, если бы захотел. Мы не заговаривали о продаже дома, но я понимал, что эта мысль Фрэнка совсем не радует. Я бы его не продавал, если бы отыскался иной выход. Вместо тяжелого разговора мы предпочли обменяться шутливыми замечаниями по поводу Алисы. Я пообещал старику приглядывать за его дочерью, хотя в этом не было ни малейшей нужды.
– Как поживает твоя сестра? Нигде еще не осела? – поинтересовался Фрэнк.
– Не знаю… Если начистоту, я не уверен, что она вообще когда-нибудь угомонится.
Фрэнк улыбнулся. Мы оба считали, что Энола – такая же непоседа, какой была ее мама.
– До сих пор предсказывает судьбу по картам Таро? – спросил он.
– Она со всем разберется сама…
Сестра выступала на всевозможных ярмарках и в бродячих цирках.
Когда мы сказали друг другу все, что должны были сказать, и немного обсохли, мы затащили ялик обратно на рукотворную защитную дамбу.
– Вы сразу подниметесь? – поинтересовался я. – Если так, то я пойду с вами.
– Сегодня выдался погожий денек, – сказал Фрэнк. – Пожалуй, я еще задержусь здесь, внизу.
Ритуал был завершен. Мы разошлись в разные стороны, предварительно утопив наших призраков.
Я поднимался по ступенькам, уклоняясь при этом от ядовитого плюща, который, буйно разросшись, лез вверх по обрыву, то тут, то там оплетая своими стеблями перила лестницы. Никто его не вырывает, так как любое растение, способное укрепить своими корнями склон, пусть даже небезопасное для здоровья человека, имеет право здесь расти. Поднявшись наверх, я зашагал через высокую траву по направлению к дому. Как и большинство домов в Напаусете, мой, выстроенный в конце XVIII века, считается настоящим образцом колониальной архитектуры. Еще недавно возле входной двери красовалась бронзовая табличка, прикрепленная там местным Историческим обществом, но несколько лет назад свирепый северо-восточный ветер сдул ее с фасада. Дом Тимоти Вабаша. Облупливающаяся белая краска. Четыре перекошенные оконные рамы. Покосившаяся крыша. Вид моего дома говорит о запустении и хронической нехватке денег на его ремонт. Проволочная дверь-сетка приоткрыта… Другая дверь тоже… На верхней ступеньке крыльца с остатками поблекшей зеленой краски лежит посылка. Почтальон всегда оставляет дверь приоткрытой, хотя я уже сбился со счета, столько раз просил его не делать этого. Последнее, что мне надо в этой жизни, – перевешивать дверь, которая не отличалась правильностью формы даже тогда, когда ее только сколотили. Я ничего не заказывал по почте и не представлял, кому могла прийти в голову блажь прислать мне что-то. Энола редко задерживалась на одном месте достаточно долго, чтобы отправить мне что-нибудь посущественнее почтовой открытки. Обычно открытки оставались чистыми.
Посылка оказалась довольно тяжелой, надписанной паучьим почерком, характерным для людей старшего поколения. К этому почерку я привык, так как большинство посетителей библиотек – люди пожилого возраста. Это напомнило мне, что следует поговорить с Дженис. Пусть поищет пару лишних долларов в скудном библиотечном бюджете. Возможно, все обойдется, если я смогу найти средства на починку почти смытой водой защитной дамбы. Пусть это не будет постоянным повышением зарплаты, но одноразовую премию за много лет верной службы я, надеюсь, заслужил. Отправителем посылки значился неизвестный мне мистер Черчварри из Айовы. Я убрал со стола несколько газетных вырезок со статьями, посвященными цирку и ярмаркам. Их я собирал уже на протяжении нескольких лет, желая быть в курсе жизни, которую ведет сестра.
В картонном ящике покоилась тщательно обернутая книга внушительных размеров. Еще до того, как я развернул ее, пыльный, резковатый запах старой бумаги, дерева, кожи и клея ударил мне в нос. Упакована она была в тонкую папиросную бумагу и газеты. Под всем этим оказался переплет черной кожи, весь в сильно пострадавшем от воды замысловатом орнаменте в виде завитков. Я был обескуражен. Книга была очень старой, не из тех, к которым следует прикасаться голыми руками, и она уже серьезно пострадала от времени. Я ощутил волнение от осознания того, что прикасаюсь к истории. Уголки не поврежденной влагой бумаги оказались шероховатыми, но в то же время очень мягкими на ощупь. В нашей библиотеке хранится старинная документация, связанная с китобойным промыслом, и мне было позволено время от времени копаться в этих архивах, а иногда пытаться реставрировать тот или иной документ. Полученного опыта мне хватило, чтобы понять: книга относится, по крайней мере, к XIX столетию. Такие книги никогда не пересылают, предварительно не предупредив адресата. Я застелил стол газетами. Конечно, такая раритетная вещь достойна настоящего пюпитра, на котором ее следовало бы разложить, прежде чем читать, но пюпитра у меня в доме не оказалось.
Записка была воткнута под верхнюю крышку переплета. Водянистые чернила. Тот же самый неровный почерк человека, у которого слегка дрожат руки.
Уважаемый мистер Ватсон!
Я приобрел эту книгу вместе с остальными, продававшимися на аукционе оптом. Ее плачевное состояние делает для меня это приобретение совершенно бесполезным, однако имя Вероны Бонн, написанное на заднем форзаце[2], возможно, вызовет любопытство у Вас и членов Вашей семьи. Это интересная книга, и я надеюсь, что у Вас она приживется. Пожалуйста, не стесняйтесь и звоните, если у Вас возникли вопросы, ответы на которые, возможно, Вы сможете услышать от меня.
Подписана записка была неким мистером Черчварри из «Черчварри и сын». Ниже был указан номер телефона. Книготорговец, специализирующийся на антикварных изданиях.
Верона Бонн. Какое отношение моя бабушка имеет к лежащей передо мной книге? Будучи бродячей циркачкой, как и моя мама, бабушка просто не могла иметь ничего общего с подобного рода букинистическими раритетами. Кончиком пальца я перевернул страницу. Бумага едва не порвалась от моего прикосновения. Страницу заполнял написанный каллиграфическим почерком текст, – возможно, излишне каллиграфическим, – так как обилие завитушек несколько затрудняло чтение. Как оказалось, передо мной было нечто среднее между конторской книгой и дневником некоего мистера Гермелиуса Пибоди. Помимо этого удалось разобрать слова «путешествующие» и «курьезы». Все остальное оставалось непонятным из-за повреждений, вызванных влагой, и излишнего пристрастия мистера Пибоди к каллиграфии. Листая страницы, я обнаружил на них сделанные рыжими чернилами рисунки женщин, мужчин, домов, странных фургонов с закругленными крышами… Я никогда в жизни не видел свою бабушку. Она умерла, когда моя мама еще была ребенком. Мама мало рассказывала мне о ней. Какое отношение эта книга может иметь к моей бабушке, оставалось непонятным, но от этого не менее интригующим.
Я набрал номер телефона, указанный в записке, игнорируя писк, означающий, что на автоответчике для меня есть непрочитанное голосовое сообщение. Я ожидал довольно долго, прежде чем на том конце линии включился автоответчик и старческий голос сообщил, что я звоню в букинистическую фирму «Черчварри и сын». После этого голос попросил меня назваться, указать точное время и дату моего звонка, а также подробно описать, что за издание я ищу. Почерк меня не обманул. Я буду иметь дело со стариком.
– Мистер Черчварри! Вам звонит Саймон Ватсон. Я получил вашу книгу. Не знаю, зачем вы послали ее мне, но меня, признаюсь, разбирает любопытство. Сегодня двадцатое июня, шесть часов утра. Книга меня заинтриговала. Я хотел бы больше о ней узнать.
Я оставил номера домашнего и рабочего телефонов, а также номер моего мобильника.
На противоположной стороне улицы Фрэнк направлялся к стоящему на краю его участка амбару, превращенному хозяином в мастерскую. Под мышкой он нес что-то деревянное. Наверное, какой-то шаблон, необходимый в его работе. Мне следовало бы попросить у него денег, а не порекомендовать имя строительного подрядчика. Строителей я и сам найду, а вот деньги на оплату их труда… Это совсем другое дело. Мне нужна прибавка к жалованию или еще одна работа. А может, и то и другое сразу.
Мой взгляд остановился на мерцающем огоньке. Голосовая почта. Точно. Я набрал комбинацию цифр. Голос, который я услышал, застиг меня врасплох. Я не ожидал, что она может позвонить.
– Привет! Это я! Черт! Не так часто я звоню, чтобы просто сказать: «Это я!» Ладно… Надеюсь, ты меня узнал. Как бы то ни было, это я, Энола. Я звоню, чтобы предупредить: в июле я собираюсь к тебе наведаться. Буду рада тебя повидать, если ты все еще обретаешься в наших краях. Мне, честно, хотелось бы с тобой увидеться. Ну… Я приезжаю домой в июле. Оставайся дома! Договорились? Пока!
Я прокрутил запись в начало. Она и впрямь не так часто звонила, чтобы ограничиться фразой «Это я!». Ее голос звучал на фоне какого-то шума. Болтали и смеялись люди. Мне показалось, что я слышу звуки, издаваемые вращающимися каруселями. Впрочем, не исключено, что это мне только почудилось. Ни точного времени, ни конкретного дня. Июль… И все тут! Впрочем, Энола не работает, как обычные люди. Для нее иметь в запасе окно размером в целый месяц – не блажь, а необходимость. Хорошо, что она позвонила, но на душе было как-то тревожно. Энола звонила не чаще одного раза в два месяца, а домой не приезжала уже лет шесть. В последний раз сестра заявила, что, если ей доведется еще хоть день прожить под одной крышей со мной, она этого просто не выдержит. Люди часто такое говорят, но в тот раз и я, и она знали, что ни капли преувеличения в ее словах нет. Нечему удивляться, ведь четыре года, минувшие со дня смерти отца, я только тем и занимался, что докучал Эноле своей заботой. С тех пор она изредка звонила, оставляя на автоответчике несколько путанные голосовые сообщения. Наши разговоры отличались непродолжительностью и касались лишь вещей вполне конкретных. Два года назад она позвонила и сказала, что больна гриппом. Сестру я нашел в номере одного из отелей Нью-Джерси. Она, что называется, жила в обнимку с унитазом. Энола наотрез отказалась ехать домой, и мне пришлось три дня ухаживать за ней в ее номере.
Она хочет приехать ко мне. Пусть приезжает. Я ничего не переставлял в комнате сестры со дня ее отъезда, надеясь, что рано или поздно она вернется. Когда-то я подумывал о том, чтобы сделать из этой комнаты библиотеку, но всегда находились более неотложные дела: заделывание дыры в крыше, ремонт электропроводки, замена стекол в окнах. Что-либо переделывать в комнате давно покинувшей меня сестры казалось делом не первоочередной важности. По крайней мере, так мне проще было думать.
Книга лежала рядом с телефоном, интригуя меня тайной, сокрытой в ней. Этой ночью мне не заснуть. Я часто не сплю по ночам. Я буду думать о доме, о сестре, о деньгах… Я провел большим пальцем по тисненной на коже большой букве «Г», изучая прихотливые завитки орнамента. Надо выяснить, какое отношение эта книга имеет к моей семье.
Глава 2
Бастард родился на маленькой табачной ферме, расположенной среди плодородных холмов Вирджинии. Если бы кто-нибудь потрудился внести время его рождения в официальные документы, то оно пришлось бы на восьмидесятые годы XVIII века. В тот период фермер, выращивающий табак, сам устанавливал цену на большую бочку своего товара, а до того момента, когда его землю поглотит всепожирающий хлопок, оставалось еще немного времени. Небольшая, обшитая досками хибара местами обросла мхом. Ставни никогда не открывались, защищая обитателей дома от дождя, мух и неприятного запаха табака, долетавшего сюда из расположенного невдалеке сушильного сарая.
Матерью ребенка была Юнис Оливер, выносливая жена фермера; отцом – Лемюэль Аткинсон, статный молодой человек, хозяин бродячего театра, в антрактах между представлениями которого продавались различные лекарства. Очаровав женщину вежливостью и мягкостью рук истинного джентльмена, Лемюэль всучил Юнис три пузырька эликсира Аткинсона, а также одарил ее ребеночком.
У фермера Уильяма Оливера уже и так было трое своих собственных детей. Рождение в семье чужого ребенка его совсем не обрадовало. Когда мальчик подрос, научился ходить и уже не мог прожить на объедках, остававшихся после других членов семьи, мистер Оливер отвел ребенка в самую гущу леса и предоставил его судьбе. Юнис горько плакала, когда у нее забирали сына, а мальчик хранил гробовое молчание, так как его несчастье не ограничивалось тем, что он был бастардом. Ко всем остальным бедам, ребенок родился немым.
Он прожил несколько лет, не зная ни звучания слов, ни их значения. Когда светало, ребенок испытывал голод и утолял его тем, чем мог. Он собирал ягоды покрытыми коркой грязи руками. Когда мальчик набредал в своих скитаниях на ферму, он воровал все, что подворачивалось под руку, стараясь соблюдать полнейшую тишину. Если на его пути оказывался сарай, в котором вялилось мясо, ребенок обретал на ночь крышу над головой и несколько недель жил сытой жизнью. Когда становилось темно, он спал, найдя местечко потеплее. Его дни как бы съеживались. Оставались только туман, горы и заросли деревьев, такие бескрайние, что воспринимались как целый мир. Мальчик затерялся в этом мире. Именно в нем он впервые научился исчезать.
Человек может прожить сто лет, так и не узнав, в чем состоит секрет исчезания. Мальчик раскрыл этот секрет, потому что его душа была готова услышать шепот земли, еле уловимое дрожание почвы и дыхание воды. Эти звуки были едва различимы, так как заглушались стуком его сердца. Вода была ключом ко всему. Он вслушивался в ее глубину и широту, соразмеряя дыхание воды с собственным дыханием, замедляя и заглушая биение своего сердца до тех пор, пока оно не становилось едва различимым, а загорелая, покрытая грязью фигура мальчика не сливалась с окружающим миром. Посторонний наблюдатель видел, как грязный оборвыш сворачивал с дороги и исчезал среди стволов деревьев, словно песчинка, которую никто не в состоянии заметить на берегу. Только голод, его всегдашний спутник, подсказывал ребенку, что он до сих пор жив.
Искусство исчезания помогало ему выживать. Он незаметно пробирался в коптильни и ел до тех пор, пока дым и жар не выгоняли его оттуда. Мальчик крал свежеиспеченные караваи хлеба со столов, близко стоявших к деревьям и кустам, куда хозяйки их ставили, чтобы те остывали. Он воровал все, чем можно было утолить голод.
Лишь единожды мальчик отважился проникнуть в дом, из которого его выгнали. К тому времени воспоминания о том периоде его жизни стали настолько туманны, что ребенку начало казаться, будто он все это выдумал. В своих скитаниях он случайно набрел на серую лачугу с покатой крышей и с изумлением понял, что она настоящая, а не плод его грез. Мальчик приоткрыл ставню ровно настолько, чтобы его глубоко посаженный карий глаз мог рассмотреть, что находится там, внутри.
Спальню освещал неясный лунный свет, проникающий сквозь щели в плохо подогнанных ставнях. Мужчина и женщина спали на соломенном матрасе. Мальчик смотрел на грубые черты лица мужчины, на жесткую щетину, пробивающуюся на его подбородке, и ничего не чувствовал. Женщина лежала на боку. Каштановые волосы, завившись кольцами, лежали на ее холщовой рубахе. Что-то проснулось в душе мальчика. Эти волосы словно бы защекотали тыльную сторону его руки. Мальчик проник в дом, проскользнул мимо длинного стола и кроватки со спящим ребенком, а затем пробрался в комнату, в которой спали женщина и мужчина. Его тело помнило планировку дома, мальчик как будто проделывал путь от входной двери до спальни тысячи раз. Он осторожно приподнял одеяло, залез под него и прикрыл глаза. От женщины знакомо пахло хозяйственным мылом и сушеным табаком. Этот запах, вроде бы забытый, все же глубоко засел в его памяти. От женщины исходило тепло. Что-то сжалось в груди мальчика.
Он ушел из дома прежде, чем она проснулась.
Мальчик не видел, как женщина будила мужа, не слышал, как она говорила ему, что ей показалось, будто за ней кто-то следит, а еще она видела во сне сына. Мальчик больше не возвращался в тот дом. Он вернулся в лес, чтобы там найти пристанище и раздобыть себе пищу. Он искал место, где кожу не жжет нещадно солнце.
На берегах мутной реки Дан, недалеко от переправы Бойда, раскинулся городишко Кэтспо, названный так из-за того, что очертания долины, в которой он лежит, напоминали кошачью лапу. Речная глина придала ему коричневато-желтый цвет, а в воздухе стояла вечная пыль, поднимаемая копытами лошадей и мулов. Паводки, этот бич переправы Бойда, в дальнейшем заставили обитателей Кэтспо перебраться повыше, на холмы, но в описываемое нами время городок еще бурно развивался. Мальчик шел вдоль излучины реки Дан, пока не наткнулся на город. Открывшееся ему зрелище пугало, но в то же время сулило новые возможности. Прачки кипятили на очагах огромные чаны с бельем, а мыльную воду выливали в речку. Мужчины управляли с помощью длинных жердей плоскодонными лодками. Лошади тянули фургоны вдоль берега и по городским улочкам. В каждом фургоне сидели мужчины и женщины. Какофония, в которую сливались звуки, издаваемые водой, людьми и фургонами, пугала мальчика. Его встревоженный взгляд метался из стороны в сторону, пока не остановился на мерно покачивающемся подоле ярко-голубого платья какой-то женщины. Мальчик спрятался за стволом дерева, прикрыл уши руками и постарался замедлить биение своего сердца. Он вслушивался в дыхание реки.
А затем послышался этот чудесный звук…
Под крики зычного голоса глашатая в город въезжала труппа бродячего цирка – разношерстное сборище жонглеров, акробатов, фокусников, гадалок и животных. Возглавлял их Гермелиус Пибоди, самозваный духовидец и мечтатель, подвижник в сферах развлечения и обучения, полагавший, что циркачи и животные («считающая» свинья, которую объявили ученой, лошадь-карлик и вращающаяся на одном месте лама) служат инструментами для излечения человеческих душ и наполнения кошелька самого мистера Пибоди. В лучшие дни он считал себя непревзойденным авторитетом, в худшие – местные жители оказывались невосприимчивыми к его идеям просвещения и гнали циркачей вон из города.
На свежевыкрашенном в голубой цвет фургоне, в котором перевозили свинью, гордо значилось имя животного – Тобби, а еще бока повозки хранили на себе следы встречи с вилами неблагодарных зрителей.
Мальчик наблюдал за тем, как местные жители окружают желто-зеленый фургон, выехавший на центральную площадь городка. За фургоном, в некотором отдалении, следовали прочие повозки и фургоны. Некоторые из них были накрыты просмоленной холстиной, другим защитой от непогоды служили части огромных бочек, которые крепились вместо крыши. Раскрашены фургоны были во все цвета радуги. В каждой повозке сидели люди вместе с животными. Возницы принялись выстраивать повозки и фургоны в круг, а женщины прижимали детей поближе к своим юбкам, боясь, что они могут попасть под колеса. Головной фургон украшала надпись – столь вычурная, что ее трудно было прочесть. На нем стоял внушительной наружности мужчина в пышном одеянии. Это и был Пибоди. Горожане, привыкшие к путешествующим в одиночку бродячим жонглерам и музыкантам, впервые лицезрели столь ослепительное зрелище.
Никогда прежде в городе не появлялся человек, подобный Гермелиусу Пибоди, и восхищение толпы весьма льстило самолюбию хозяина бродячего цирка. Всеобщее внимание привлекали как его внушительный рост, так и наружность. Его курчавая борода опускалась на грудь, а длинные седеющие волосы ниспадали на плечи. На голове у него была ворсистая шляпа франтоватого вида. То, что шляпа не слетала с головы, уже казалось ловким трюком. Весьма объемный живот придавал Пибоди вид человека солидного. Медные пуговицы жилета едва сдерживали его выпирающую мощь. Ткань куртки красного бархата, казалось, вот-вот разойдется по швам. Но самым замечательным в Гермелиусе Пибоди был его рокочущий голос, зарождавшийся где-то в глубине нутра и вполне способный достичь самых отдаленных уголков долины.
– Леди и джентльмены! Вам несказанно повезло!
Пибоди сделал знак худощавому мужчине с глубоким шрамом в уголке рта, стоявшему позади него. Тот что-то зашептал Пибоди на ухо.
– Вирджинцы! Вскоре вы увидите самое изумительное зрелище в вашей жизни! – прокричал Пибоди. – Я привез вам с Востока непревзойденную женщину-змею.
Гибкая девушка забралась на крышу фургона, коснулась ногой своего затылка, а затем, наклонившись вперед, стала на одну руку.
Потрясенный мальчик оторвался от ствола дерева, за которым прятался.
– Из самого сердца Карпатских гор, – подняв к небу распростертые руки, объявлял тем временем Пибоди, – средоточия славянского мистицизма, воспитанная волками и посвященная в тайны древнего искусства провиденья судьбы… мадам Рыжкова!
Шепоток пробежал по толпе, когда из-за фургона с покатой крышей появилась сгорбленная пожилая женщина в шелковом платье явно фабричной работы и приветственно подняла руку со скрюченными, подагрическими пальцами.
Голос Пибоди и дикая часть души мальчика звучали в унисон. Ребенок стал осторожно пробираться к фургонам, змейкой проскальзывая между людьми. Вот он заприметил свободное место за колесом, откуда прекрасно было видно мужчину с голосом, подобным рокоту полноводной реки. Взобравшись на колесо, мальчик встал на цыпочках, прислушиваясь, ловя каждое дыхание мужчины.
– Только один раз в жизни, леди и джентльмены! Когда еще вам выпадет шанс увидеть, как человек поднимает одной рукой взрослую лошадь? Когда еще вам доведется лицезреть, как девушка завязывает свое тело в морской узел, или узнать, какую судьбу Господь Бог предначертал вам? Никогда больше такого вам не увидеть, леди и джентльмены!
В едином порыве циркачи заскочили в свои фургоны и повозки, задернули пологи из тяжелой парусины и позакрывали двери, скрывшись от глаз зрителей.
Остался лишь Пибоди. Мужчина степенно прохаживался перед толпой, поглаживая пуговицы на своем жилете.
– В полдень и в сумерки, леди и джентльмены! Три пенса за представление. Мы принимаем также испанские деньги. В полдень и в сумерки!
Толпа рассосалась. Люди вернулись к своим повозкам, к стирке, торговле и прочим делам, составляющим основу жизни в Кэтспо. Мальчик так и остался стоять у повозки. Пибоди устремил на ребенка взгляд своих пронзительных голубых глаз.
– Ма-альчик, – произнес он нараспев.
Ребенок, потеряв равновесие, упал на спину. Воздух с шумом покинул его легкие. Он хотел убежать, но тело отказывалось ему повиноваться.
– У тебя неплохо получается исчезать и неожиданно появляться, – сказал Пибоди. – Отличный трюк. Как ты его называешь? Эфемерность… эфеме… Мы подберем слово потом. Возможно, мы его просто-напросто придумаем.
Мальчик не понимал смысла звуков, издаваемых мужчиной. Слово «мальчик» было ему знакомо, а все остальное составляло не более чем приятный для слуха шум. Ему захотелось пощупать ткань на выпирающем животе этого невероятного человека.
Мужчина подошел к мальчику.
– И что мы имеем? Ну, ты мальчик, как я вижу… А еще ты сделан из травинок и грязи, как я погляжу. Любопытный экземпляр! – рассмеявшись, произнес мужчина. – Ну, что скажешь?
Пибоди тронул рукой мальчика за плечо. После того последнего раза, когда ребенок видел перед собой живого человека, минуло несколько месяцев. Не привыкший к прикосновениям, мальчик зашатался под тяжестью руки и сделал то, что подсказала ему природа, – обмочился.
– Черт! – отскочил от него Пибоди. – Надо будет отучить тебя от этой привычки.
Мальчик часто заморгал. С его губ сорвался неприятный звук.
Выражение лица Пибоди смягчилось, а одна щека дернулась – видно, он пытался изобразить улыбку.
– Не волнуйся, парень. Мы сделаем из тебя знаменитость. Если хочешь знать, я в этом уверен. – Взяв мальчика за руку, он помог ему стать на ноги. – Идем. Надо показать тебе, как мы живем.
Превозмогая страх, заинтригованный ребенок последовал за взрослым.
Пибоди подвел его к покрашенному в зеленый и золотистый цвета фургону. Через тщательно подогнанную дверь они попали в хорошо обставленное помещение. На письменном столе возвышались стопки книг. Под потолком висела медная лампа. Все здесь служило для комфорта человека, всю жизнь проводящего в путешествиях. Мальчик несмело ступил внутрь фургона.
Пибоди оглядел его с головы до ног.
– Ты настолько смугл, что легко сойдешь за магометанина либо турка. Подбородок выше!
Нагнувшись, мужчина попытался пальцем приподнять ему подбородок, желая таким образом лучше рассмотреть мальчика, но тот отпрянул.
– Нет, ты слишком дикий.
Пибоди тяжело опустился на небольшой трехногий стул. Мальчика удивило, что тот выдержал изрядный вес мужчины. Судя по всему, незнакомец о чем-то задумался. Руки у мужчины были чистыми, а ногти – аккуратно подстриженными. Его руки являли собою полную противоположность рукам мальчика. Несмотря на ужасающие размеры мужчины, в нем чувствовалась мягкость. От уголков глаз Пибоди лучились веселые морщинки. Мальчик, вслушиваясь в его рокочущий голос, подошел ближе к столу, за которым сидел мужчина.
– Прежде у нас не было индуса… Решено: Индия, – вслух размышлял Пибоди. – Да, ты у нас будешь индийским дикарем… Мой новый мальчик-дикарь!
Хихикнув, мужчина нагнулся и погладил ребенка по волосам, но затем замер в нерешительности.
– А ты не против стать дикарем?
Мальчик ничего не ответил. Брови Пибоди приподнялись.
– Ты немой?
Мальчик вжался спиной в стену. Кожа сразу же зачесалась. Взгляд его скользнул по тщательно завязанным шнуркам на башмаках взрослого. Ребенок выпрямил подогнутые пальцы своих босых ног.
– Не важно, парень. Твоя роль – роль без слов. – Уголок рта мужчины дернулся. – Главное – это трюк с исчезновением.
Мальчик протянул руку и потрогал башмаки Пибоди.
– Нравятся?
Ребенок отдернул руку.
Пибоди нахмурился. Усы его зашевелились. Выражение лица изменилось. Острый взгляд смягчился. Мужчина заговорил теперь значительно тише:
– С тобой плохо обращались. Мы это исправим, малец. Ты здесь заночуешь. Посмотрим, успокоит ли это тебя хоть немножко.
Из дорожного сундука мужчина вытащил одеяло и протянул его мальчику. Материя оказалась на ощупь колючей, но ребенку все равно понравилось тереться о нее виском. Мальчик пристроился у стола, завернувшись в одеяло. Только один раз за весь вечер мужчина вышел из фургона. Ребенок испугался, что его могут бросить, но вскоре Пибоди вернулся с куском хлеба. Мальчик буквально впился в него зубами. Ничего не сказав, мужчина принялся что-то записывать в книгу. Время от времени он отрывался от этого занятия и поправлял одеяло, которое то и дело норовило сползти с плеч мальчика.
Наконец сон сморил его. Мальчик решил, что будет повсюду следовать за этим человеком.
Утром Пибоди провел мальчика вдоль стоящих кругом фургонов. Он то и дело уходил вперед, но потом останавливался и ждал, когда маленький спутник его догонит. Когда они дошли до внушительных размеров клетки, установленной на обычной телеге, Пибоди остановился.
– Я подумал и решил, что она – твоя. Ты станешь нашим мальчиком-дикарем.
Ребенок разглядывал клетку, не замечая, что за ним наблюдает несколько пар глаз тех, кто находился в фургонах. Пол в клетке был усыпан соломой и опилками. Вечером это сохранит тепло. Весьма предусмотрительно, учитывая, что ребенок босой и голый. Клетка завешивалась бархатными портьерами, которые Пибоди в свое время позаимствовал с окон гостиной своей матери. Портьеры внизу были утяжелены цепями, чтобы защитить сидящего в клетке от света, как объяснил мужчина. При желании их можно поднимать с помощью ворота. Пибоди продемонстрировал, как шокировать публику, внезапно подняв портьеры в тот момент, как мальчик-дикарь будет испражняться или совершать что-нибудь столь же отвратительное.
– У нас когда-то был другой мальчик-дикарь, но теперь эта клетка твоя.
Мальчик быстро вошел в роль. Ему нравилось ощущать холод металла кожей, и, сидя в клетке, он мог не только быть предметом пристального внимания, но и многое видеть. Люди пялились на него, а он без страха смотрел им в лица. Мальчик пытался понять, зачем женщины завивают свои волосы в букли и почему их бедра кажутся куда более широкими, чем у мужчин. А еще его удивляло то, что мужчины делают со своими волосами на лице. Он прыгал, ползал, ел и испражнялся, где и как ему заблагорассудится. Если кто-нибудь ему не нравился, мальчик мог состроить ему гримасу или даже плюнуть в его сторону. Никто его за это не наказывал. Такое поведение было его привилегией. Постепенно он начал чувствовать себя в клетке вполне свободно.
Не ставя ребенка в известность, Пибоди изучал поведение найденыша и со временем разобрался в механизме его исчезновения, пожалуй, даже лучше, чем сам малыш. Если мальчика утром оставляли в клетке, он забивался в угол, дыхание его становилось едва различимым, грудь постепенно переставала подниматься и опускаться, а затем мальчик внезапно исчезал. Пибоди научился медленно поднимать занавеси, когда ребенок уже исчезал.
– Тише, добрые люди! – чуть ли не шепотом обращался он к зрителям. – Нет никакой надобности пугать дикаря.
Когда занавес поднимался достаточно высоко, мальчик выходил из оцепенения. У зрителей, сгрудившихся возле пустой, как им казалось, клетки, внезапное появление дикаря вызывало бурю эмоций. Дети визжали от восторга. Больше мальчику ничего не нужно было делать. При виде голого и молчаливого ребенка толпа сходила с ума от восторга. Мальчику нравилась его новая жизнь. Он обнаружил, что, если начать теребить то, что у него между ног, одна или даже две чересчур впечатлительные и чопорные женщины вполне могут упасть в обморок. После этого Пибоди приказывал опустить занавес, считая выступление вполне удачным. Мальчик принялся выяснять, как еще можно испугать зрителей. Он шипел, рычал, позволял слюне вытекать изо рта. Всякий раз, когда Пибоди гладил его по плечу и хвалил, мальчик преисполнялся несказанной радостью. Похвала мужчины нравилась ему больше сытной еды.
Хотя клетка теперь как бы принадлежала мальчику, он там не спал. Под слоем опилок и сена прятался люк. Когда портьеры-занавеси опускались, ребенок поворачивал щеколду и спускался на дно повозки, на которой стояла клетка. Там уже лежало шерстяное одеяло. Оттуда ребенок пробирался в фургон Пибоди. Чистая сменная одежда ожидала там непревзойденного мальчика-дикаря. Пибоди, пока он одевался, сидел в дальнем конце фургона, посасывал свою трубку, писал и рисовал при свете масляной лампы, изредка бросая исподлобья взгляд на ребенка.
– Замечательно, мальчик мой! – говорил мужчина. – У тебя явно есть талант. Пожалуй, ты самый лучший мальчик-дикарь из всех, что у меня побывали. Ты заметил, как та миссис упала в обморок? У нее юбки взметнулись выше головы.
Его живот трясся от смеха. Пибоди похлопывал мальчика по спине, и ребенок понимал, что он нравится взрослому. Он принялся припоминать слова, известные ему с тех времен, когда его еще не оставили в лесу. Мальчик. Лошадь. Хлеб. Вода. А еще он вспомнил, что смеяться – это хорошо. Слушая Пибоди, он постепенно стал понимать, о чем тот говорит.
С мальчиком мужчина разговаривал куда более тихим голосом, чем с остальными. Ребенок не догадывался, что всего через несколько недель Гермелиус Пибоди начал относиться к нему почти как к родному сыну.
Сначала мужчина решил, что ребенок не должен спать в клетке, если ночи не по сезону холодны. Возможно, его трогала худоба малыша. А еще он подумал, что теплое место для сна – неплохая инвестиция. Это успокоило его душу. Мальчик спал на набитом соломой матрасике, том самом матрасике, на котором когда-то спал его сын Захария. Сын много лет назад отправился на поиски своей судьбы. Пибоди им гордился, однако скучал без Захарии. Глядя на спящего мальчика, мужчина думал, что недавнее приобретение может заполнить образовавшуюся в его сердце брешь. Когда мальчик проснулся, его ждала стопка одежды, в прошлом принадлежавшей Захарии. Бриджи до колен и длинные сорочки совсем не походили на какие-нибудь обноски.
По вечерам мальчик сидел на полу фургона Пибоди, слушал, запоминая имена и названия. Нат. Мелина. Сюзанна. Бенно. Мейксел. Пибоди мало учил мальчика тому, как надо вести себя в обществе, так как считал светский лоск вещью никчемной. Вместо этого мужчина рассказывал ребенку о хитростях ремесла циркача, о том, как угадывать реакцию публики. Сначала мальчик ничего не хотел знать о людях, которые глядели на него через прутья решетки. Ему достаточно было уже того, что клетка ограждает его от их посягательств, но любопытство постепенно прорастало в его душе, особенно когда Пибоди показывал ему выступления других артистов – акробата, девушки-змеи и силача.
– Видишь, – говорил Пибоди. – Бенно смотрит леди в глаза. Он ищет у нее сопереживания. А теперь он притворяется, что вот-вот упадет…
Акробат стоял на одной руке, опасно изогнувшись. Женщина ойкнула.
– Он не в большей опасности, чем ты или я. Он повторяет этот трюк с дрожащей рукой с тех пор, как я подобрал его в Бостоне. Бенно очаровывает и пугает зрителей, мальчик мой. Зрители любят, когда их пугают. Именно за свой страх они готовы платить.
Мальчик начал понимать, что те, кто на него смотрит, – чужаки, а циркачи, он и Пибоди – это мы.
В последующие недели Пибоди учил мальчика-дикаря искусству читать людей. Перед каждым представлением он сидел вместе с ребенком в клетке, и сквозь неплотно сдвинутые портьеры они вместе разглядывали толпу.
– Вон та, – шептал Пибоди. – Она вцепилась в руку своего спутника. Эта женщина уже и так напугана. Шикни на нее, и бедняжка грохнется в обморок.
Мужчина захихикал, надувая при этом щеки так, что они нависали над его седеющей бородой.
– А вот тот здоровяк кажется мне тем еще задирой.
Взгляд мальчика переместился на могучего, словно вол, мужика.
– Уверен, что он попытается победить нашего силача, борясь с ним на руках.
Он пробормотал что-то насчет второго набора гирь.
Мальчик начал думать о людях как о животных. У каждого был свой особенный характер. Пибоди был медведем – большим, сильным, и его речь была подобна реву зверя, но он всегда готов тебя защитить. Силач Нат, широкоплечий и молчаливый, был тяжеловозом. Бенно, с которым мальчик принимал пищу, отличался игривостью козла. Плохо зашитый шрам в уголке рта, который при разговоре кривил губы Бенно вниз, всякий раз приковывал завороженный взгляд ребенка. Провидица была для него загадкой: она одновременно напоминала и птичку, и хищника. Несмотря на преклонный возраст, мадам Рыжкова двигалась быстро, порывисто. Она смотрела на людей так, словно они были ее законной добычей. В глазах старушки горел голодный огонь. От звучания ее голоса поднимались волосы на голове.
Выехав из городка Ролсон, они стали на ночь лагерем. Пибоди подошел к мальчику.
– Ты все делал по-честному. Теперь настал мой черед поступить с тобой по совести. Нельзя же всю жизнь называть тебя мальчиком.
Мужчина слегка прикоснулся к спине ребенка и увлек его от клетки к проходу между стоящими полукругом фургонами, к костру, на котором члены труппы жарили кроликов и пекли рыбу. Из-за загара посторонние вполне могли бы принять их за цыган, играющих в кости. Сюзанна, девушка-змея, прислонилась спиной к стволу тополя, противоестественным образом вывернув суставы своих конечностей. Нат сидел на земле, скрестив ноги по-турецки. Карликовая лошадка лежала у него на коленях, а силач гладил ее гриву своей темной от загара рукой. Пару недель назад мальчик, возможно, испугался бы, увидев перед собой столько людей, но теперь он ощущал лишь любопытство.
Обхватив мальчика за плечи, Пибоди высоко поднял его над землей, а затем поставил на пенек возле огня.
– Друзья и злокозненные смутьяны! – При звуках его серебристого голоса все замерли. – Сегодня нам предстоит исполнить трудную, но почетную миссию. Чудо появилось среди нас, и это чудо – наш новый мальчик-дикарь.
Члены труппы сгрудились возле костра. Приоткрылись двери фургонов. Из своего дома на колесах появилась Мелина, девушка-жонглер с удивительно пронзительным взглядом. Мейксел, светловолосый цирковой наездник невысокого роста, вышел из-за деревьев, весь в соломе, оторвавшись от чищенья ламы. Дверь фургона мадам Рыжковой со скрипом открылась.
– Этот паренек доказал свою ценность, и мы благодаря ему станем чуть богаче. Мы просто обязаны дать ему имя, чтобы по прошествии должного времени, мои самые преданные друзья, он стал хозяином своей жизни.
Огонь вспыхнул. Искры взметнулись вверх, к звездам.
– Силач! – обратился к Нату хозяин цирка.
– Бенджамин, – ответил тот.
– Питер, – сказал кто-то.
– Имя важного человека! – произнес Пибоди.
Едва различимый голос шумел у мальчика в ушах, давя изнутри на кости черепа. Устремив взгляд в огонь, ребенок почувствовал, как его сердцебиение учащается.
– Его имя – Амос, – произнесла мадам Рыжкова тихо, но решительно.
– Амос, – повторил вслед за ней Пибоди.
«Амос», – пронеслось в голове у мальчика.
На него уставились две черные бусинки глаз провидицы. Звук одновременно был длинным и коротким, круглым и плоским. Его имя!
Взяв в руки скрипку, Мейксел принялся играть веселую мелодию, а Сюзанна пустилась в пляс. Вот так, веселясь, циркачи отмечали крещение мальчугана. Амос некоторое время стоял и смотрел, а когда о нем все забыли, бесшумно отошел от костра. Ночью он в беспокойстве метался на матрасе в фургоне Пибоди. Безмолвно он пытался воспроизвести каждый звук своего имени так, как его произнесла мадам Рыжкова.
«Амос, – думал он. – Меня зовут Амос».
Чуть позже в тот же вечер Пибоди вернулся в свой фургон и принялся писать что-то в книге. Между делом он повернул голову и взглянул на лежащего на матрасе найденыша.
– Спокойной ночи, мой мальчик. Хороших снов, Амос.
Ребенок улыбнулся в темноте.
Глава 3
22 июня
Конечно, звонить в это время не полагается, но чем раньше ты позвонишь, тем больше шансов застать человека дома. Хотя лишь краешек солнца поднялся над водой, по голосу мистера Черчварри можно было предположить, что он уже давно на ногах.
– Мистер Черчварри! Я рад, что смог к вам дозвониться. Это Саймон Ватсон. Вы послали мне книгу…
– Ах, мистер Ватсон! – прозвучал голос из трубки. – Я рад, что посылка доставлена в целости и сохранности. – Человек на другом конце линии едва не задыхался от восторга. – Правда, фантастическая находка? Мне так жаль, что я не мог оставить этот журнал себе, потому что Мари обещает убить меня, если я принесу в дом еще хоть одно издание.
– Конечно, – произнес я, задумавшись, а после непродолжительной паузы, добавил: – Я вас не понимаю.
– Работа букиниста – это сущее наказание. Разница между магазином и домом постепенно стирается. Если честно, я пересек линию ограничения и теперь Мари, моя супруга, не потерпит появления в нашем доме ни одной книги, которую я не смогу продать, а оставлю себе.
– Понятно.
– Но вы же звоните не для того, чтобы я рассказывал вам о своей жизни. Как я понимаю, у вас появились кое-какие вопросы.
– Да. Где вы приобрели этот, как вы выразились, журнал и зачем выслали мне?
– Да… Конечно, конечно… Я говорил, что специализируюсь на антикварных изданиях? Я, так сказать, отношусь к разряду гончих, которые ищут по заданию клиента то или иное издание. Ваш журнал я приобрел на аукционе вместе с другими книгами. Я не собирался покупать его, так как поехал за чудесным изданием «Моби Дика», которое приглянулось моему клиенту.
В голосе букиниста появились проказливые нотки, и я вообразил его похожим на эльфа старичком.
– Эта книга была издана в 1930 году «Лейксайд Пресс». Мне очень повезло, что я смог заполучить ее, вот только вместе с этим лотом на аукцион было выставлено более двадцати разномастных изданий. Ничего особенного, но почти все эти книги вполне можно перепродать. Там был Диккенс, несколько книг Вулфа и ваш журнал.
Ваш… Я не считал это журналом, а вот прикосновение к кожаному переплету явно меня успокаивало.
– А кто был владельцем?
– Одна частная компания, управляющая инвестиционным обществом. Я попытался узнать у них, каково происхождение этих книг, но особой общительностью эти люди не отличаются. Если из затеи нельзя извлечь прибыли, этих людей ничто не может заинтересовать. Книги в таком ассортименте прежде принадлежали некоему Джону Вермиллону. Много изданий, но все весьма низкого качества.
Имя было мне незнакомо. Впрочем, я мало знал о своей семье. Папа был единственным сыном довольно пожилой супружеской пары. Его родители умерли раньше, чем я появился на свет. Мама прожила на свете недостаточно долго, чтобы мне о них рассказать.
– Почему вы переслали журнал мне, а не его семье?
– Из-за имени Вероны Бонн. Красивое имя. В основном очарования старым книгам придают пометки, оставляемые их прежними владельцами. То, как выведено имя вашей бабушки, говорит о том, что она была владелицей этого журнала. Было бы жаль выбросить этот раритет либо позволить ему и дальше рассыпаться, но оставить журнал у себя я никак не мог. Ну, я принялся искать человека с таким именем. Цирковая прыгунья с вышки. Как необычно! Я наткнулся на краткий некролог, благодаря ему вышел на вашу мать, а потом на вас.
– Сомневаюсь, что журнал принадлежал моей бабушке, – сказал я. – Насколько я знаю, она жила на чемоданах.
– А может, это был кто-нибудь из членов вашей семьи? Или журнал принадлежал поклоннику вашей бабушки? Люди любят хорошие истории.
Да, истории. Наша история, уж конечно, хорошая. Мои ладони показались вдруг скользкими, и я выронил кружку. Кофе растекся по испещренному трещинами линолеуму на кухонном полу. Схватив бумажное полотенце, я бросился вытирать лужу, но перевернул сахарницу. Старое, кислое чувство угнездилось в моей груди. Знакомое чувство, напрямую связанное с городской трагедией. Мама утонула. Папа умер от горя. Молодой человек в одиночку растил свою сестру.
– Вы это часто делаете? Я имею в виду собираете информацию о семьях прежних владельцев книг.
– Куда чаще, чем вам кажется, мистер Ватсон… Саймон. Могу я вас называть Саймоном?
Кровь струилась у меня под ногой, красная жидкость смешивалась с кофе и сахаром. Должно быть, я наступил на осколок кружки.
– Я не против.
– Вот и чудненько! В прошлом году мне в руки попалось восхитительное издание «Девы озера» Скотта. У книги был очень красивый переплет из любовно вышитой ткани. Между листами я нашел засушенную фиалку, которой исполнилось уже лет сорок, если считать с года выпуска. Маленькое чудо. На форзаце значилось имя владелицы: Ребекка Уиллобай. Женщина, разумеется, уже умерла, но я смог отыскать ее племянницу. Она очень обрадовалась, когда я прислал ей книгу, которую ее тетя так ценила, будучи молодой девушкой. Племянница сказала, что она как будто неожиданно повстречала свою тетю по прошествии стольких лет. Я надеялся, что и этот журнал станет для вас столь же дорогим. Надеюсь, так оно и есть?
Разговор воскресил воспоминания, вот только отнюдь не приятные.
– Раз вы на меня вышли, то знаете, что мои родители мертвы.
Раздалось смущенное покашливание.
– Извините. Мне жаль, если я пробудил неприятные воспоминания.
– Много времени прошло с тех пор, – выдохнул я.
Как бы то ни было, журнал замечательный и имеет какое-то отношение к тому, кто интересовался моей бабушкой.
– Если вам он не нужен, я вас пойму. Лучше перешлите журнал мне, но не выбрасывайте. Я заплачу за пересылку. Он чрезвычайно заинтересовал меня, к тому же он очень старый. Возможно, я смогу убедить Мари разрешить мне принести его домой.
Даже одна мысль о том, что можно попросту выбросить такой старинный документ, показалась мне кощунственной.
– Нет. Я вполне в состоянии позаботиться о сохранности журнала. Вы прислали его подходящему человеку. Я как-никак библиотекарь и работаю с архивами.
– Какое счастливое совпадение! – рассмеялся Черчварри.
Я начал понимать, что он получает истинное удовольствие, даря книги. Кажется, моему собеседнику свойственна интуитивная прозорливость. Светлое чувство зародилось в моей душе.
– Вы не могли бы мне сообщить, если, конечно, вам все же удастся это узнать, ваша это бабушка или нет? Это, разумеется, не столь важно, просто мне нравится знать историю моих книг. Такая у меня причуда.
Слова были произнесены мягким, несколько неуверенным тоном, словно мой собеседник боялся, что ему откажут. Я, конечно же, собирался это выяснить, но не потому, что Черчварри меня попросил, а потому, что поступить по-другому просто не мог. Слишком многое и многих моя семья потеряла, чтобы предавать прошлое забвению.
– Хорошо, – напоследок заверил я его.
Руки казались мне неуклюже большими. Я заклеил ранку на подошве бактерицидным пластырем, обулся в туфли и принялся наблюдать за тем, как солнце поднимается над морем. Разлитый кофе и рассыпанный сахар убирать я не стал. Позже. Прошел час после сумбурного разговора с Черчварри. Не знаю, что я делал все это время.
Чтобы прикрыть дверь, приходилось резко, со всей силы ею хлопать. Очередное неудобство, связанное с тем, что живешь в старом доме, стоящем на участке земли, подверженном оползням. Надо бы перевесить дверь. У Фрэнка есть токарный станок. Быть может, он сможет мне помочь. Я положил журнал на пассажирское сиденье автомобиля, и тут меня передернуло. Это просто чудовищно – так обращаться со старинным документом!
К Грейнджерской библиотеке надо было добираться почти через весь Напаусет. Я проехал три квартала, которые были застроены зданиями, имеющими историческую ценность. Когда-то все они принадлежали семейству Уильямсов. В 1694 году братья Уильямс основали город, построив на паях несколько домов в колониальном стиле. Далее я поехал по дороге, извивающейся лентой вдоль гавани, мимо пристани для яхт и ненавидимых Фрэнком лодок из стеклопластика, мимо порта и домов капитанов, которые туристы находят ужасно живописными. В порту много машин выстроилось в очередь на паром, идущий в Коннектикут. Гигантские челюсти огромного судна разверзлись, заглатывая в свою утробу седаны и спортивные автомобили. После порта дорога пошла вверх, к вершине высокого холма, увенчанного монастырем, а затем спускалась резко вниз. После солончакового болота дорога уходила вглубь острова, на плоскую равнину, в середине которой и располагался Грейнджер.
Сидевшие за абонементными столами Лесли и Кристина подтвердили мои опасения. Я опоздал. Разумеется, никто в такую рань по библиотекам не ходит, а первый детский кружок чтения собирается в десять, но опоздание все равно остается опозданием, что бы я по этому поводу ни думал. Я прошел мимо кабинета директора к своему столу в отделе справочно-информационного обслуживания. Я слышал, как каблуки туфель Дженис Купферман глухо стучат по полу в ее кабинете. Она наверняка заметила мое отсутствие.
Обычно, усевшись в кресло за своим рабочим столом, я чувствовал себя как дома, но сегодня меня донимали тревожные мысли. Я положил журнал перед собой на стол и уставился на него. Рабочий день следовало начинать с заявок на получение субсидий и бесконечной череды заказов самого необходимого, которые, впрочем, почти никогда не удовлетворялись. Потратив некоторое время на составление обоснования необходимости обновления электронных каталогов и списков рекомендуемых книг, я поймал себя на том, что смотрю на ящички с картотекой. Грейнджер находился в плачевном состоянии, граничащем с ветхостью и саморазрушением.
Началом библиотеки стал архив документов, посвященных китобойному промыслу. Хотя в самом Напаусете мало кто ходил бить китов, Филипп Грейнджер, основатель библиотеки, был человеком, одержимым китами. После смерти он завещал всю свою коллекцию документов, посвященных китобойному промыслу и Лонг-Айленду, библиотеке. Экспедиторские отчеты, рисунки, морские навигационные карты, рыночные прейскуранты на спермацетовое масло и ворвань. Плоды шестидесяти лет коллекционирования хранились в двух помещениях без окон на втором этаже. Дженис любила эти документы. Они являлись источником нашего финансирования, но большинство работающих здесь с радостью избавились бы от этой обузы.
Алиса Мак-Эвой переставляла книги на полках над старым микрофильмирующим аппаратом. Было что-то гипнотическое в ее волосах, сейчас заплетенных в толстую косу. Нет, назвать ее рыжей было бы неверно. Ее волосы имели цвет зрелой пшеницы. Я наблюдал за тем, как колышется эта коса в такт ее движениям, и мог уловить едва слышимый звук, с каким мои легкие исторгали воздух.
Алиса обернулась на шелест женского твидового костюма – в мою сторону направлялась Дженис Купферман.
– Саймон! Не могли бы вы зайти ко мне в кабинет на минуточку? – обратилась ко мне директор.
– Да, конечно.
В кабинете Дженис низкий потолок. Для такого низкорослого человека, как она, низковатые кресла не вызывают особого неудобства, а вот мне, когда я там бываю, приходится сидеть так, что колени оказываются едва ли не на уровне груди.
– Извините, – отметив мое затруднительное положение, сказала Дженис. – На новую мебель денег постоянно не хватает.
– Ничего. Я уже привык.
– Да, пожалуй, что так. – Усталая улыбка округлила двойной подбородок, знаменующий собой переход к старости. – Сколько вы уже здесь работаете? Лет десять, не меньше…
– Где-то так. Я уже сбился со счета.
Она сидела напротив меня. Нас разделяли три фута ламинированной столешницы.
– Мне неприятно это говорить… – сказала Дженис.
Каждое произнесенное слово она подкрепляла легким движением головы. При этом ее серьги в виде дельфинов мотались из стороны в сторону под каштановыми волосами, тщательно уложенными в пучок на затылке.
– Мне на самом деле очень неприятно это говорить.
Я бы еще глубже провалился в кресло, если бы только смог. Я уже понимал, о чем пойдет речь.
– Бюджет?
– В этом году город урезал нам финансирование, сильно урезал. Я старалась их переубедить, но это оказалось тщетным.
– Проще выдавить кровь из камня…
Дженис энергично закивала, и всякая надежда на то, что мне удастся выхлопотать премию и потратить ее на ремонт дамбы, улетучилась.
– Ну, надо где-нибудь поискать грант… там, куда мы прежде не обращались…
– Я, конечно, буду продолжать действовать в этом направлении, но реальность такова, какова она есть.
Можно было этого и не говорить. Когда в стране спад экономики, до истории китобойного промысла людям дела нет.
– Мне это очень неприятно, но придется сократить одного человека. Ничего личного. Я буду говорить об этом со всеми, но, если город не будет нас финансировать в прежнем объеме, кто-то вынужден будет уйти.
Кто-то. Не случайно она упомянула, сколько лет я здесь проработал. Я здесь самый старший, ну, еще Алиса почти одного со мной возраста, но она проработала в библиотеке на три года меньше. Вот только она кое-что понимает в составлении программ, а это куда важнее, чем обновление электронного каталога.
– Понимаю.
– Я сделаю все, что в моих силах, Саймон. Окончательного решения пока нет, но я считаю, что было бы нечестно с моей стороны не предупредить вас о том, что происходит.
– Конечно, – сказал я.
Когда я только начинал работать в Грейнджере, я думал, что Дженис излишне педантична в своих поступках. По прошествии нескольких лет, однако, я понял, что ее уже вконец измучила череда отказов в выдаче грантов, сокращение финансирования и вечное вымаливание подачек. Если она уволит двух девушек, работающих на выдаче книг, может быть спасено мое рабочее место или Алисы, но покорность судьбе, читающаяся на лице начальницы, и то, как она пыталась заверить меня, что еще не все потеряно, свидетельствовали о том, что Дженис не пожертвует двумя ради одного. Дамба, террасы, ремонт фундамента и крыши… Ничего этого не будет. Надо искать другой выход.
– Я сделаю все, что смогу, – сказала Дженис, когда я поднялся, чтобы уйти. – Позовите в мой кабинет Алису.
– Хорошо. Вы достанете деньги, Дженис. Вы всегда прежде доставали.
Пустые надежды. Мы оба это понимали.
Мне ничего не пришлось говорить Алисе. Стены кабинета Дженис тонкие. То, что Алиса все слышала, было написано у нее на лице.
– Уверена, что уволят меня, – сказала она.
Я вымученно улыбнулся:
– А я уверен, что никого не уволят.
Дверь в кабинет Дженис закрылась с тяжелым стуком.
Две девушки, сидящие напротив своих окошек выдачи литературы, вязали. Звяканье спиц разносилось эхом по помещению. Посетителей пока нет. Я вновь оказался за своим столом. Я позвонил в Спринхедскую и Морлендскую библиотеки, чтобы узнать, сильно ли их коснулось урезание финансирования. Узнал, что сильно. Плохи наши дела.
Я позвонил в Норт-Айсл Лизе Рид.
– Скажи мне что-нибудь приятное, Лиз.
– Что конкретно ты хочешь услышать?
– Например, о завалявшихся где-нибудь ненужных долларах или о новых возможностях подзаработать…
– Лучше не говори об этом. Я замужняя женщина. – Хотя произнесено это было в шутливой манере, я понимал, что Лиза не шутит. – Ищешь работу?
– Пока нет. Надеюсь на внезапный интерес к истории отечественного китобойного промысла.
Лиза даже не рассмеялась.
– Я могу выслать тебе ссылку на сайт предлагаемых вакансий. Надеюсь, ты там что-нибудь найдешь. Только помни, что мы уже не библиотекари, теперь мы называемся специалистами по информационному обеспечению. Если нужны рекомендации, ссылайся на меня.
– Спасибо, Лиз.
Закончив разговор, я принялся ждать, когда придет по электронной почте письмо от Лизы. На углу моего стола лежал журнал. Очень интересное сочетание дневника и приходно-расходной книги бродячего цирка. Путешествующие чудеса и курьезы Пибоди. Нелепое, абсурдное название. С какой стати кто-то вывел имя моей бабушки на заднем форзаце этого журнала? Вначале речь шла о различных вещах, так или иначе связанных с управлением цирком, перечислялись городки, куда приезжала труппа Пибоди, сообщалось о вырученных деньгах и дальнейшем маршруте следования. Излишне вычурный почерк затруднял чтение записок Пибоди, однако это не мешало заметить, что в них то и дело упоминался номер, в котором принимал участие немой мальчик Амос. Конец журнала очень пострадал. Кожа на задней крышке переплета практически рассыпалась, а чернила на последних страницах расползлись, образуя бессмысленные коричневые, синие и черные кляксы. Что ни говори, а хроматография[3] и время немилосердно обошлись с ним. Листая журнал, я обнаружил, что у него было два владельца. Если в начале страницы пестрели рисунками, то к концу ничего подобного не наблюдалось. Человек, который сменил первого, ограничивался лаконичными записями, содержащими даты, названия населенных пунктов и размер дохода. То, что находилось на последних страницах, уничтожила вода.
Дверь в кабинет Дженис со скрипом открылась и закрылась. Директор продолжала вызывать к себе по одному всех сотрудников библиотеки. Из кабинета вышла Марси, детский библиотекарь, и… я увидел… Незамысловатыми буквами, простыми черными чернилами было выведено: «Бесс Виссер. Утонула 24 июля 1816 года».
Я где-то слышал это имя. Более того, я помнил эту дату. Воспоминание было невольным и очень мучительным. Моя мама тоже утонула 24 июля.
– Саймон!
Алиса заглядывала мне через плечо. Выглядела она уставшей. Что ни говори, а дочь Фрэнка – симпатичная женщина. Я слишком хорошо ее знаю, чтобы восторгаться ее красотой, но вздернутый нос, острый подбородок и задумчивое выражение глаз делают Алису очень привлекательной женщиной. Для меня, впрочем, она всегда оставалась просто Алисой. Это много и ничего одновременно. Я знаком с ней всю свою сознательную жизнь. Мы видим друг друга почти каждый день, и это создает дополнительные неудобства. Трудно подобрать подходящие слова, хотя это и не нужно. У меня с Алисой ничего не может быть. Из-за Фрэнка. Из-за моих родителей.
Я провел рукой по лицу. Алиса тяжело вздохнула.
– Дженис найдет деньги, – сказал я ей.
– Она всегда находит источники финансирования, – поддержала меня Алиса. – Верь в архив.
– В архив мы, конечно, верим… Лиза из Норт-Айсла прислала ссылку на сайт вакансий, на всякий случай…
– На всякий случай… Понятно.
Взгляд Алисы скользнул по журналу. Пальцы пробежали по корешку.
– Старинная.
– Мне ее прислал один человек. Сам не знаю зачем.
– Загадка. Ты любишь разгадывать загадки.
С этим ее замечанием я был согласен, вот только после мелькнувшего в тексте знакомого имени все изменилось. К тому же эта женщина утонула 24 июля, как и моя мама. От этого становилось жутковато.
– Да, загадка здесь есть. На форзаце журнала написано имя моей бабушки. Я разговаривал с человеком, приславшим мне его. Он утверждает, что приобрел журнал на аукционе. Понятия не имею, что им двигало.
– А ты поищи о нем информацию. Ты же как-никак работаешь в библиотеке. Поиск информации – дело для нас привычное.
Женщина прижалась бедром к моему столу. Плавный женственный изгиб заслонил собой часть стеллажа со справочниками. Алиса на фоне энциклопедических изданий.
– У меня времени не было. Только я вошел, а тут Дженис…
Мы оба смолкли. Трудно дышать, когда в воздухе витает дух грядущих сокращений-увольнений.
– Пригласи меня на ужин, – попросила Алиса.
– Что?
– Я тебе помогу. Назови мне имя человека, который прислал тебе журнал. Я узнаю о нем побольше через Интернет. В качестве благодарности – ужин. Платишь ты. В «Памп Хауз» я не хочу. Выбери какое-нибудь милое заведеньице, где подают хорошее вино. Сегодня выдался ужасный день. Я хочу развеяться.
Оттолкнувшись от стола, она сохранила равновесие, балансируя на кончиках пальцев.
– Обещаю, что в «Памп Хауз» я тебя не поведу.
Для того чтобы избегать «Памп Хауз», имелось достаточно причин. Там вечно включен телевизор на всю громкость, обрюзгшие мужики сидят ссутулившись над своим безвкусным пивом… Когда-то я работал в «Памп Хаузе», на ходу подкрепляясь тем, что там подают. Теперь одно воспоминание об этом заведении вызвало у меня тошноту.
– Хорошо. Заедешь за мной в семь. Я хочу успеть принять душ. Так как его зовут?
– Мартин Черчварри из букинистической фирмы «Черчварри и сын», штат Айова.
Квартира Алисы располагалась в Вудленд-Хайтсе, неподалеку от того, что осталось от клубничной фермы. Когда я подъехал к дому, она уже поджидала меня. Я повез Алису в «Ла Мер». Именно в этот ресторан принято водить женщин. Его окна выходят на воду. По ночам Коннектикут призывно светит с противоположного берега гавани. Официанты говорят с акцентом. К блюдам подают настоящие соусы. Поговаривают, что в «Ла Мер» есть и настоящий соусье. На Алисе было розовое платье, достаточно короткое, чтобы все, кто пожелает, могли любоваться ее ногами. Лично я ими восхищаюсь. На работе Алиса ходит в практичных штанах и обуви без каблуков. В них удобно нагибаться, приседать, да и пыль, всегдашняя спутница библиотек, штанам не страшна. Учась в старшей школе, я видел ее ноги, когда Алиса щеголяла в юбочке для игры в хоккей на траве. Тогда они были красивыми, но с годами стали еще красивее. Часть волос была собрана заколками с одной стороны лица. Оставшиеся ниспадали волнами на спину. Это не свидание. Передо мной – Алиса. Женщина улыбнулась, когда я сказал, что она шикарно выглядит. Едва заметно изогнула губы, не больше.
– Ты тоже принарядился, – отозвалась она.
Подошел официант. Моя спутница заказала бокал вина.
– Не бойся. Я не собираюсь разорять твой банк.
Я рассмеялся. Было трудно сдержаться, наблюдая за тем, как ее губы касаются края бокала.
– Ты нашла что-нибудь о Черчварри?
– Я только начала копаться. Фирма «Черчварри и сын» на самом деле существует. Она специализируется на антикварных изданиях. У меня создалось впечатление, что он – Черчварри и сын в одном лице. Все сделки заключаются от имени одного человека. О самом Черчварри мне мало что удалось узнать. По-моему, он очень одинокий человек, поэтому рад протянуть руку помощи ближнему своему.
Я пожал плечами.
– Странное у него понимание помощи ближнему… Мне он совсем не показался одиноким и несчастным. Как раз напротив: жизнерадостность из него бьет ключом.
– Я собиралась еще поискать информацию об этой фирме, но пришлось помогать в детском зале.
– А что случилось с Марси?
– После разговора с Дженис она долго плакала в туалете.
Мы решили, что, пока мы еще не безработные и деньги у нас водятся, надо выпить.
– С тобой все будет в порядке, – заверила меня Алиса. – Из всех нас ты единственный, кто в состоянии выдержать работу с библиографическими примечаниями.
– Оно, возможно, и так, но половину того, что я делаю, может сделать компьютер. Ты когда-нибудь обращалась за грантом, который лишает тебя половины твоей работы?
– Нет, но это лишь потому, что грантами я не занимаюсь, – постукав ноготком по ободку бокала, сказала Алиса. – Меня больше интересует, не обращался ли ты за грантом, который может сделать ненужным половину того, что делаю я?
– Никогда даже в голову такое не приходило.
– Посмотрим, как все обернется, если тебя уволят.
Мы допили вино из бокалов и заказали еще. Вскоре мы расслабились, заулыбались и принялись вспоминать, как на четвертое июля Фрэнк чуть не обжег руку моему отцу римской свечой. Алиса начала со мной спорить, утверждая, что все было как раз наоборот, что она помнит, как ее мама накладывала на руку ее отца марлевую повязку. Трудно поверить, что девчонка, любившая кататься на качелях, и сидящая передо мной женщина – один и тот же человек. Мне всегда казалось, что у нее обязательно должен быть ухажер, какой-нибудь бездельник из Роки-Пойнта или Шорхема, человек, которого я никогда в глаза не видел. Наверняка у нее и сейчас кто-то есть. Принесли наш заказ.
– Папа переживает из-за твоего дома, – сказала Алиса, двигая кусочек спаржи по тарелке. – Я звонила ему на прошлой неделе. Он только о твоем доме и говорил.
– Я тоже переживаю.
– Не понимаю, почему ты его не продашь.
– Слишком много воспоминаний с ним связано.
Зазвонил мой мобильный телефон. Алиса капризно закатила глаза. Я пообещал быстро отделаться от звонящего, но тотчас же понял, что не смогу.
– Это я.
Я тихо сказал Алисе, что это сестра, и она взмахом руки дала мне добро. Когда знаешь человека всю жизнь, ему не надо объяснять, что на тот или иной звонок просто нельзя не ответить. Это удобно. Извинившись, я вышел из ресторана.
– Привет. Ты где?
– В норе в стене. Можешь говорить?
В трубке слышалось позвякивание стекла, стукающегося о стекло. Я повторил свой вопрос.
– Не знаю. Автостоянка у торгового центра… А это разве важно?
– Нет. Ты явно чем-то расстроена. Что случилось? Я как раз ужинал.
– Плохой расклад получился, – сказала сестра.
– Что? На картах гадала?
– Да. Я чувствую себя не в своей тарелке. Можно с тобой поговорить?
Я глянул через окно на Алису. Она ела, запивая еду вином. Заметив, что я на нее смотрю, женщина мне помахала.
– Да, но не долго.
– Помнишь, как я поранила себе ноги? Не знаю, с какой стати я об этом сейчас вспомнила. Я нырнула, а потом почувствовала, что у меня болят ноги. Мне сейчас надо с тобой об этом поговорить.
– Зачем?
Я уж было подумал, что она отключилась. Трижды я позвал сестру по имени, прежде чем она ответила.
– Помнишь, я поскользнулась на тех скалах, а ты меня нес? Должно быть, тебе было тяжело.
– Нет.
Мне было тринадцать, сестре – восемь. Она почти ничего не весила.
– Может, мне к тебе приехать?
Я мог бы отвезти сестру к врачу или в гостиницу, купить ей еду, сделать все, о чем она попросит.
– Я сейчас с Алисой. Мы, если хочешь, можем приехать вместе.
Если она не уйдет раньше, чем я вернусь к столику.
– Мы взбирались на те валуны. Там все было в раковинах усоногих раков. Не представляю, зачем мы туда полезли. Мы там не улиток случайно искали?
– Да, улиток. Энола! Может, я приеду и заберу тебя?
– Нет! Нет… Со мной все будет в порядке. На мне был черный купальник… черный в розовый горошек. Ты стоял на высокой скале, которую мы прозвали Тостером. Глупое название. Я хотела долезть до тебя.
Внутри Алиса разговаривала с официантом. Тот смеялся и, кажется, пытался с ней флиртовать. Мое свидание – или не свидание – продолжалось без меня.
– Помню, – сказал я.
Во время отлива скалы кишат жизнью: усоногие раки, морские улитки, водоросли, песчаные блохи… Мы передвигались на четырех конечностях, хватаясь пальцами за расщелины в камнях.
– Я поскользнулась на водорослях.
Я помнил, с каким звуком она ударилась о камень. Я метнулся и схватил сестру, но рука оказалась слишком маленькой и скользкой, а настоящей опоры у меня самого не было. Сестра скользила вниз по камням до самой воды.
– Энола! Можно я тебе перезвоню?
Она меня не слушала.
– Раковины впивались в мое тело. Чертова морская вода жгла мне кожу. Мне почудилось, что соль разъест меня. Я почувствовала головокружение, а затем мир померк.
– Я видел, как ты поскользнулась, а в следующую секунду уже ушла с головой под воду.
– Я погрузилась в воду очень глубоко. Помню, как мои ступни коснулись песчаного дна. Я кричала, кричала, а потом рядом появился ты. Ты очень быстро пришел мне на помощь.
Я подхватил сестру и нащупал глубокие порезы на ее ногах. Нет, не порезы… Куски плоти моей младшей сестры были вырваны из ее тела и теперь кровоточили на скалах. Я слегка надавил ей на живот, качая на руках.
Алиса посмотрела на меня через стекло. Я одними губами сказал ей: «Минуточку». Она пожала плечами и отпила из своего бокала.
– Ты отнес меня на руках домой, – сказала Энола.
Сестра не помнила кровавой дорожки, которая тянулась за нами по песку. Когда я добрался до дома, мне показалось, что там никого нет. Я ошибся. Папа сидел за кухонным столом, читал газету и пил то, что с натяжкой можно было назвать кофе. Он не оторвал глаз от газеты, когда я внес сестру в дом. Я отнес Энолу в ее спальню и положил животом вниз на кровать. После этого я принялся копаться в аптечке. Половину ее занимали лекарства, которые принимала мама. Прошло шесть лет, а папа так от них и не избавился.
Порезы от раковин усоногих – та еще головная боль. На них живет множество разнообразных бактерий, так что избежать заражения очень трудно.
– Ты мазал мне раны йодом. Помнишь, идиот?
– Я не знал, что делать.
Я навалился на сестру всем телом и крепко держал ее, а она визжала от боли. Мне казалось, что этот кошмар длился долгие часы. Я прижимал лежащую на кровати Энолу. Мамины лекарства валялись на полу. Папа в кухне сидел с пустой чашкой в руке.
– Ты был ко мне очень добр, Саймон, – сказала сестра.
Я делал все, что мог. Кажется, Энола немного успокоилась; по крайней мере, ее голос стал спокойнее, чем в начале разговора.
– С тобой точно все в порядке?
– Да. Мне просто захотелось услышать твой голос. Иногда после разговора с тобой мне становится легче.
– Хорошо.
Бесс Виссер. Внезапно я вспомнил, где видел это имя. В прошлом году, когда я передвигал мамин туалетный столик для того, чтобы устранить очередную течь, я нашел пожелтевший листок бумаги, где рукой матери были выведены имена трех женщин. Имя Бесс Виссер было среди них. Бумажка лежала на самом дне выдвижного ящика. Мама знала о существовании этой женщины.
– Подожди! Ты сказал, что ты сейчас с Алисой Мак-Эвой?
– Да.
– С Алисой, значит… Вот и хорошо. Я тороплюсь. Увидимся через пару недель.
– Энола!
– Спасибо.
Писк. Связь оборвалась.
Тем временем Алиса закончила ужинать и даже расплатилась по счету. Должно быть, на мне лица не было, потому что она тотчас поинтересовалась, что случилось. Я сказал, что просто Эноле срочно понадобилось со мной поболтать. Алиса удивленно приподняла брови, но ничего говорить не стала. Я извинился перед ней, но прежнее настроение к нам не вернулось… По крайней мере, не вернулось ко мне. Когда мы шли к машине, я понял, что Алиса теперь навеселе. Она что-то бормотала насчет каблуков своих туфель, привалившись боком к моему плечу. Приятная нагрузка, что ни говори.
– Это несправедливо! – заявила она, когда мы забрались в машину и тронулись в обратный путь. – Ты всю жизнь о ней заботился. Я же все видела… А потом она оставляет тебя одного, но надеется, что ты по первому же ее звонку все бросишь и помчишься ее выручать.
Алиса, по-видимому, не на шутку рассердилась и хотела продолжить в том же духе, но, вздохнув, сказала:
– Извини, я пьяна.
Я улыбнулся:
– Нет, не пьяна. Ты права. Так оно и есть.
– Невесело.
– Бывает.
Мы задержались у дверей ее квартиры. Я снова извинился и пообещал вернуть деньги за ужин в ресторане. Алиса сказала, что все это сущие пустяки. Кожа ее руки побелела там, где она касалась косяка двери.
– Я хочу кофе, – сказала Алиса. – Будешь кофе?
Она жаловалась мне на мою сестру. Она заплатила за наш ужин. Она надела сегодня платье. Вскоре мы можем остаться без работы. Спрашивая о кофе, она прищурилась. Это была Алиса. Если я переступлю порог ее квартиры, наши отношения уже не будут прежними, но я рискнул… Я наклонился… Ее губы оказались теплыми и мягкими. Целоваться она умела, пожалуй, лучше меня. И в этом Алиса меня обскакала.
Ее спальня представляла собой мешанину практичности и фантазии. Массивный стол, изготовленный из твердой древесины, стоял у стены. На опрятных полках выстроились в идеальном порядке книги и фотографии в рамках. У окна стояла небольшая абстрактная скульптура из раковин литорин, потолченных раковин лунных улиток и малюсеньких щитов мечехвостов. Только родившаяся на побережье девушка может увидеть красоту в подобного рода творении. Впрочем, скульптура была тут к месту. Кровать была словно из другого мира: гора подушек, разные ткани, разные размеры, разные оттенки розового…
Я рассмеялся, но затем ее руки обвили мои плечи и толкнули меня на кровать. Падать было просто восхитительно. Застежки, кнопки, пуговки, крючки, а потом кожа… Да, веснушки на ее груди были не менее сексуальными, чем на пупке, на шее и между бедрами. А затем учащенное дыхание и прикосновения, исследование тех частей тела, которые мы скрывали друг от друга. Мы теперь общались только шепотом, даже наш смех был приглушенным, скрытным… Ее рука гладила мою спину.
– Привет, – сказала она.
– Привет.
Вкус и страстность наших тел.
Алиса спала на своей стороне кровати, согнув колени так, что они почти касались ее груди. Я помнил, что она засыпала в такой позе, будучи ребенком, когда мы все вместе загорали на пляже. А я лежал без сна, думая о звонке Энолы, о журнале, о доме, о моей работе. Если я потеряю работу, я потеряю дом. Что бы я ни говорил Фрэнку, продавать дом я не собирался. Частичка моих родителей жила в стенах этого дома. Мне нужны деньги. Время. Мне следует позвонить по телефонам, которые пришлет мне Лиза. На столе стояла в рамке фотография Алисы в подростковом возрасте. Девочка держала в руках огромного луфаря. На вид ей было лет тринадцать или около того. В то время она еще носила челку. Снимал, должно быть, Фрэнк. Хотя его и не было на фотографии, я ощущал, как он смотрит на меня, отражаясь в улыбающемся лице Алисы. Мне бы следовало ее обнять, но я чувствовал себя немного не в своей тарелке. Я переспал с дочерью Фрэнка.
– Проснулся? – Ее голос был сонным и счастливым.
– Нет.
– Лгунишка. Я слышала, как ты барабанил пальцами по изголовью кровати. Ты такой недотепа.
– Извини.
– Из-за чего волнуешься?
– Ни из-за чего.
– Тем хуже.
– Я не хотел тебя будить. Ты выглядишь очень красивой, когда спишь.
Алиса и впрямь сейчас казалась мне идеалом красоты.
Она потерлась щекой о подушку и посмотрела на меня своим темно-карим глазом.
– Спасибо. Знаешь, тебе не следует здесь оставаться на ночь.
– Я хочу.
– Не уверена, что хотела бы видеть твое лицо за завтраком. Лучше уезжай. Я пока не готова. Хорошо?
– Уверена?
– Да. Я знаю, где ты живешь.
Я слишком резко крутанул руль, когда поворачивал, проезжая мимо солончакового болота, и шины «форда» взвизгнули. На меня накатило щемящее чувство, с которым я столько времени боролся. А все из-за перспективы потерять работу… и дом. И я переспал с дочерью единственного человека, который с готовностью одолжил бы мне деньги на ремонт и спасение. Вот только я не особо мучился из-за этого. Если честно, угрызения совести вообще меня не мучили, что хуже всего.
Вернувшись домой, я решил, что пытаться заснуть – пустое занятие. Поиски листочка бумаги не заняли много времени. Он лежал в том же выдвижном ящике туалетного столика, что и прежде. Три имени. Первое – имя моей бабушки, второй значилась некая Селина Дувел, а внизу большими буквами с наклоном было выведено: «Бесс Виссер». Это имя было обведено кружком. Алиса была совершенно права: я просто обожаю разгадывать загадки.
Свет, льющийся с крыльца Фрэнка, неплохо освещал гостиную в моем доме. Сосед подвесил к перилам своего крыльца панцирь мечехвоста просохнуть. Теперь он слегка покачивался на ветру. Я думал об Алисе, оставшейся в одиночестве в своей спальне, и жалел, что покинул ее.
Я записал имена в блокнот и положил его на стол. Завтра я постараюсь разузнать о них все, что смогу. Потом я записал все имена маминых родственников, о которых когда-либо слышал. Не густо, а жаль. Я открыл журнал. На развороте я увидел подробный, хотя и грубовато выполненный рисунок карты Таро: высокое белое здание на темном фоне, пронзенном молнией. Под рисунком было тщательно выведено название – «Башня». Из окна башни выпрыгнул человек. Он падал вниз, на скалы, виднеющиеся между бушующими волнами.
Глава 4
Спиной Гермелиус Пибоди вжимался в висевшую на стене полку. Русская старуха с удивительной для пожилого человека силой вцепилась рукой ему в горло. Сперва он ей отказал, но теперь уже был готов пойти мадам Рыжковой навстречу.
– Ученик… – Он закашлялся. – Мадам! Амос – самый прибыльный из всех мальчиков-дикарей, которые у меня перебывали. Я уж не говорю о том, что он нем. Как вы сможете работать в паре?
Мадам Рыжкова издала нечто среднее между хмыканьем и угрожающим ворчанием.
– Мы отлично сработаемся. Так мне сказали карты.
Пибоди возражал. Мадам Рыжкова изрыгала потоки русских слов, которые сами по себе казались ужасными. Он и до этого случая побаивался пожилой женщины. Мадам Рыжкова подошла к нему на нью-йоркской улочке, когда, покинув таверну, мистер Пибоди, пошатываясь, шел к верфям Ист-Ривера. Протянув в его сторону руку, старуха окликнула Пибоди по имени, а затем сообщила, что карты повелели ей отправляться вместе с ним в путь. Хотя доверия эта незнакомка у него не вызвала, Пибоди просто не мог отказать человеку с таким превосходным чутьем на все театральное. Не прошло и нескольких часов, как старуха превратила выделенный ей фургон в весьма экзотическое обиталище, украшенное тканями и мягкими подушечками. От запаха благовоний кружилась голова. Пибоди был уверен, что мадам Рыжкова разбирается в ядах. Однажды старуха попросила повысить ей плату для того, чтобы она смогла приобрести отрез шелка. Пибоди отказал: «Нельзя получить то, чего вы еще не заслужили». После этого мадам Рыжкова просыпала какую-то пыль ему в еду. При этом она улыбалась. В восемь часов вечера острая боль в животе скрутила его, словно мокрицу. Следующие три дня он провел в своем фургоне, потея и дрожа всем телом. На четвертый день явилась старуха.
– К счастью для вас, я знаю, как унять боль, – сказала она и дала ему горсть горькой золы.
К заходу солнца он выздоровел. Пибоди дураком не был, и мадам Рыжкова получила все, что хотела, в тот же вечер.
Не прошло и трех часов с того момента, когда Пибоди стоял, прижатый спиной к стене, а у него с Амосом уже состоялся разговор.
– Мой мальчик! Пришло время заняться тебе кое-чем получше.
Хозяин цирка смотрел на Амоса. Паренек сидел на скамеечке для ног. Узнав новость, Амос нервно заерзал и развернул руку ладонью вверх, показывая, что ему не все понятно.
– Не бойся. Ты ничего дурного не сделал, Амос. Из тебя получился самый лучший мальчик-дикарь из всех, кого я знавал. В этом-то и заключается проблема. Еще не понял?
Амос не понимал.
– Ты уже не мальчик. Оставлять тебе эту роль означает не давать тебе возможности развивать другие свои способности. – Пибоди с задумчивым видом разгладил пальцами бороду.
– Я придумал для тебя кое-что особенное. Вот увидишь! Мадам Рыжкова весьма к тебе расположена. Думаю, ей как раз нужен ученик.
Амос немного знал о том, чем занимается мадам Рыжкова. Ее карты рассказывают истории, а люди согласны платить немалые деньги за то, чтобы эти истории послушать. Вот только существовало непреодолимое препятствие: ученик прорицательницы должен разговаривать. Прижав пальцы к губам, Амос отрицательно замотал головой.
Пибоди мягко отнял руку от его рта.
– Ничего страшного. Я долго думал об этом и теперь понимаю ее мотивы. Ты станешь дополнительной приманкой для публики. Нет ничего более таинственного, чем немой предсказатель судьбы… Невысказанное будущее… Вы вместе чудеснейшим образом сработаетесь. Только подумай о прибылях, мой мальчик!
Пибоди хлопнул ладонью по своему маленькому столу. Чернильница звякнула. Ему трудно было не обращать внимания на выражение ужаса, появившееся на лице его протеже.
– Пошли. Перемены – чудесная вещь. Именно благодаря переменам ты оказался здесь, рядом со мной.
Амос скосил взгляд на матрас, на котором спал ночью, не зная, относится ли он к этим самым пресловутым переменам.
– Я тебя не гоню, – заверил его Пибоди. – Приходи сюда ночевать, когда хочешь. Я буду только рад.
В тот день Пибоди записал в журнале: «19 июня 1794 года. Мальчика-дикаря отдал провидице в ученики».
Когда Амос подошел к фургону мадам Рыжковой, старуха распахнула перед ним дверь прежде, чем он в нее постучал. Волосы пожилой женщины были зачесаны назад и повязаны темно-зеленым платком, с узлом на затылке. Старушка радушно улыбалась. Паренек не помнил, чтобы она когда-либо улыбалась. Он озадаченно заморгал.
– Входи, Амос! Я должна тебе многое сегодня показать. Ты и так задержался.
Мадам Рыжкова взмахом руки пригласила его в свой фургон. Большой палец на руке старухи опух и странно искривился. Амоса не на шутку заинтересовало, что же такое с ним случилось, почему он такой скрюченный? Паренек последовал вслед за сгорбленной старушкой в ее логово, отстраняясь от всего того, к чему успел привыкнуть.
Внутри фургон оказался на удивление невзрачным. На стенах висело несколько небольших портретов, писанных маслом. Чернявый, смуглолицый мужчина. Ангельского вида молодая женщина.
– Это моя семья, – перехватив взгляд паренька, пояснила мадам Рыжкова. – Отец, – сказала она и указала пальцем на мужчину с густой бородой. – Братья…
Двое молодых людей смотрели с портретов так же пронзительно, как и их сестра.
– А это Катерина, моя красавица Катя.
Рука старушки метнулась к портрету молодой женщины.
Больше в фургоне не было ничего особо красивого. Мадам Рыжкова спала на твердом матрасе, постеленном поверх дорожного сундука. Амос подумал, что на таком ложе у старухи наверняка ноют все кости.
Словно прочтя его мысли, Рыжкова сказала:
– Прорицательница подобна лезвию кинжала. Избыток удобств притупляет разум. Шелк и шторы я развешиваю для гостей.
Внезапно старуха расхохоталась диким, словно ветер в высокой траве, смехом. От неожиданности Амос едва не подпрыгнул на месте.
– Пибоди слишком любит комфорт. Это очень хорошо, что ты попал ко мне прежде, чем стал ленивым и тупым. А теперь садись и слушай.
Если лицо Пибоди поражало своей упитанностью, то мадам Рыжкова отличалась ужасной худобой. Все ее лицо избороздили глубокие морщины. Прямой острый нос резко загибался на конце, придавая ее внешности нечто птичье. Из-под платка выбивались жесткие, словно металлическая проволока, волосы, они торчали во все стороны. Темно-серые глаза притягивали неким магнетизмом. Такое выражение глаз Амос раньше видел только у животных, точнее у коз, намеревающихся бодаться.
Выдвинув пустой ящик на середину фургона, старушка жестом приказала Амосу сесть рядом с ним прямо на пол. На ящик мадам Рыжкова поставила черную лакированную шкатулку, украшенную рисунками в красных и ярко-оранжевых тонах. Каждый рисунок был обведен золотой краской. Амоса восхитил рисунок птицы в клетке, чей длинный хвост, загибаясь, тянулся куда-то за край шкатулки.
– Жар-птица, – пояснила Рыжкова. – Нравится? То, что лежит внутри, еще красивее.
Откинув крышку шкатулки, старушка извлекла оттуда то, что вначале показалось мальчику колодой простых игральных карт. Рубашка каждой карты была украшена ярко-оранжевым рисунком.
– Слушай и смотри, – сказала старушка и прикоснулась к мочке уха.
Мадам Рыжкова переставила шкатулку на пол и принялась раскладывать карты на ящике. Каждая из них представляла собой подлинное произведение искусства. Высокая женщина держит в руках острый меч. Солнце заливает потоками света поле. Рука держит звезду. Каждая деталь тщательно выписана. Старуха обращалась с картами очень бережно.
Когда верх ящика покрылся разложенными на нем картами, мадам Рыжкова сказала:
– Я буду называть каждую карту, а ты будешь запоминать, как она выглядит, научишься раскладывать карты. В дальнейшем мы будем с тобой общаться с помощью этих карт.
Старушка принялась показывать ему картинки и объяснять, что на них изображено. Примерно так мистер Пибоди учил Амоса разбираться в зрителе.
– Дурак потому и дурак, что не понимает своего счастья. Он не замечает приближения беды.
На карте счастливо улыбающийся молодой человек бодро шагал с утеса в пустоту пропасти.
– Его распирает гордость за миг до того, как он сорвется вниз. Он похож на ребенка. Такой же, как ты.
Рыжкова улыбнулась. Амос оторвал взгляд от ее гнилых, пожелтевших зубов и посмотрел на маленькую собачонку, которая жалась к щегольскому, с загнутым вверх носком, башмаку Дурака.
– Собака может иметь несколько значений. Это либо защитник, либо враг. Все зависит от конкретной ситуации.
Так она проговорила с ним несколько часов, выкладывая карты крестами и линиями, водя своими скрюченными пальцами поверх таинственных символов. Когда наступила глубокая ночь, старуха похлопала рукой по ящику и тихо рассмеялась.
– Из тебя выйдет превосходный слушатель. Мы сработаемся. Я вижу, что ты зеваешь. Уставший ум – плохой слушатель. Ступай спать, – сказала она и одним кивком выдворила его из фургона. – Приходи завтра. Продолжим твою учебу.
Рыжкова обучала его после представлений при свете свечей. Обычно она слишком уставала, чтобы снимать со стен драпировку сочных, красного и голубого, цветов. «Классная комната» Амоса превращалась таким образом в уютную гостиную. Ему оставалось только смотреть, слушать, а время от времени и растворяться. Плавная, успокаивающая речь мадам Рыжковой убаюкивала Амоса. Иногда он невольно становился частью карты, погружался в нее, теряя ощущение собственного тела. Когда такое случалось, старушка лишь сильно топала своим башмаком по полу, издавая громкий гортанный звук, и Амос возвращался из мира грез. Тогда мадам Рыжкова ему улыбалась, хлопала его по плечу и начинала объяснять заново.
Амос начинал запоминать. Он полюбил разодетого в желтое и оранжевое Дурака, полюбил собаку, которая вполне могла в последний момент выручить своего хозяина из беды. Паренек привык к голосу мадам Рыжковой. Он напоминал Амосу шум ветра в кронах деревьев, когда он бегал дикарем по лесу. Со временем он обнаружил, что, даже если старушки рядом нет, ее голос продолжает пульсировать в нем. По вечерам, когда они переезжали из города в город, Амос наблюдал за тем, как мадам Рыжкова раскладывает карты крестом с вертикальной линией сбоку. Две карты ложились одна напротив другой, затем одна сверху, а другая снизу; одна слева, а другая справа, как ее зеркальное отражение. Четыре карты сбоку сверху вниз. Ответ на вопрос получен. После этого мадам Рыжкова принималась толковать ответы на незаданные вопросы, обращаясь в пустоту.
– Колесница, – кладя карту на импровизированный стол, объявляла старушка.
Мужчину на троне тянули в колеснице животные с человеческими головами. Амос поежился, так как жуткие люди-животные ему совсем не понравились.
– Победа либо путешествие. Триумф. Видишь? Человек управляет животными.
Мадам Рыжкова взъерошила ему волосы и рассмеялась так, словно он был ее внуком.
– Вместе с этой картой означает большую удачу, – кладя рядом карту, говорила старушка. – Мир в свидетели! Не женщина в центре, но все – вокруг женщины.
После этого старушка театрально вскидывала руку, словно взывала к Небесам.
Амос кивал, не отрывая взгляда от танцующей голой женщины и лица, выражающего всезнайство.
До и после уроков Рыжкова окуривала фургон тлеющим пучком трав, который распространял запах конского пота.
– Окуривание, – говорила она, кашляя. – Вот так с помощью огня следует очищать карты.
Старушка изображала в воздухе тлеющим пучком слова.
– Предсказание будущего зависит не только от карт, но и от человека, который держит их в руках. От меня, от тебя, от любого, кто умеет задать картам правильный вопрос.
Рыжкова ударила пучком травы по косяку двери фургона. Вниз полетели, кружась, искры и пепел.
– Люди, прикасаясь к картам, оставляют после себя следы своих надежд и желаний.
Когда в фургоне становилось трудно дышать, она распахивала дверь, впуская ночной воздух.
– Ни тебе, ни мне не нужно, чтобы мечты чужаков нам мешали. Иногда на картах остаются плохие мысли, плохие намерения. Теперь мы с тобой очистили карты. Очищенные карты – это то, что нужно.
Пучок трав она бросала на почерневшее место на полу и гасила каблуком последние тлеющие искры. Потом старушка гладила паренька по голове. Мальчик и зверек, живший внутри него, улыбались.
Рыжкова научила Амоса повязывать голову. Для этого она подарила ему один из своих шелковых платков со сложным золотисто-багряным узором. Она, скрутив его волосы спиралью, сама повязала его голову платком.
– Теперь ты гораздо лучше смотришься.
Сначала голова немилосердно чесалась, но вскоре это прошло. Эффект превзошел все ожидания. Из смуглолицего мальчишки, похожего на дикаря, Амос превратился в молодого элегантного иностранца. Рыжкова, радуясь своему успеху, захлопала в ладоши.
– Теперь ты выглядишь как заслуживающий уважения молодой человек, которому ведомы тайны судьбы и предназначения.
Под взглядом ее прищуренных глаз Амос ощущал, что меняется. Неожиданно воспоминания о маленьком домишке и о женщине, от которой пахло чем-то очень знакомым, посетили его.
Амос был отшельником по натуре. Когда на него смотрело много людей, ему становилось не по себе. Совместные трапезы со всеми членами труппы становились ловушкой в игре, правила которой были ему незнакомы. Он любил сидеть дождливым утром в фургоне и листать журнал Пибоди, водя пальцами по рисункам. Когда Рыжкова, сильно устав, отпускала его из своего фургона, вечера Амос проводил с маленькой лошадкой, красивым животным по кличке Лакомка. Лошадка была рыжей, с белой звездочкой на лбу. Лакомка была идеально сложена, вот только ее размеры не превышали восьмой части размеров обыкновенной лошади. Впрочем, она об этом не догадывалась. Она фыркала и перебирала копытами, как любая лошадь из тех, которых запрягают в телеги. Когда же к ней наведывался Амос, Лакомка вела себя не в пример спокойнее. Удобно расположившись на сене, паренек прижимал свой лоб к ее лбу, чувствуя его тепло. Поглаживая ее по морде, Амос ощущал разливающееся в душе спокойствие. Он приносил ей морковку и яблоки, пряча угощение поглубже в карманы своих бриджей.
По прошествии трех дней после того, как Рыжкова занялась его волосами, старушка, проведя труднейший урок по перевертыванию карт, отпустила паренька.
– Ступай домой, мальчик. Ты меня утомил.
Амос отправился к фургону, в котором Лакомка жила вместе с животным, называемым ламой. Он принялся рыться в карманах в поисках редиски, которую заблаговременно для нее припас. Паренек как раз нащупал угощение, когда едва не столкнулся с Бенно. От неожиданности он беззвучно открыл рот.
Бенно рассмеялся:
– Я что, застал тебя врасплох, Амос? А мне-то казалось, что этого не так уж легко добиться.
Акробат привалился к стенке фургона и выгнулся так, что его ноги, обтянутые короткими полосатыми штанами, казалось, выгнулись коленками назад.
Амос пожал плечами, потом кивнул. Иногда, поглощая вместе со всеми еду, паренек садился рядом с Бенно, несколько раз он смотрел, как акробат выступает, но о нем как о человеке Амос знал мало, разве только то, что он дружелюбен и пользуется расположением женщин труппы.
– Мелина видела, как ты вышел из фургона мадам Рыжковой, – сказал Бенно.
Имя жонглерши акробат произнес с полуулыбкой, так как половине его лица мешал улыбаться шрам в уголке рта.
Амос расслабился, услышав имя Мелины. Он наблюдал за ее выступлениями, когда сидел у походного костра или через щель между портьерами из клетки мальчика-дикаря. Девушка ловко подбрасывала в воздух и ловила ложки, ножи, яйца и заколки для волос. Мелина была очень подвижной, а ее миленькое личико обрамляла копна рыжих вьющихся волос.
– Она говорит, что под влиянием мадам Рыжковой ты сильно изменился. Я полностью с ней согласен.
Бенно потянул за свои каштановые волосы, аккуратно связанные сзади черной лентой.
– Думаю, мне следует носить волосы собранными чуть повыше, как у тебя. Возможно, тогда и Мелина обратит на меня внимание. Что скажешь?
Амос нахмурился. Бенно рассмеялся.
– Не волнуйся, я шучу… Не над тобой, друг мой, а над собой! Мадам Рыжкова предоставила тебе возможность продемонстрировать всему миру, что ты пригож лицом, в то время как я…
Сокрушенно пожав плечами, Бенно прикоснулся к своему шраму.
Амос взглянул на шрам, оставшийся после кое-как зашитой раны. Из-за него лицо акробата до конца жизни будет искривлено в неприятной гримасе. Затем паренек взял Бенно за руку и отвел к фургону, в котором жила Лакомка. Он протянул акробату редиску, и тот скормил ее лошадке, а потом они вместе гладили по мордочке это низкорослое существо, обретая душевный покой.
Около часа прошло в полном молчании.
Наконец Бенно сказал:
– Я думал, что ты чудаковат. Я ошибался. Ты друг.
Акробат легонько похлопал Амоса по спине. Прежде так выказывал ему свое расположение только Пибоди.
Рыжкова начала учить его общению с клиентами. В основном это были женщины.
– История – это мужчина, – говорила она. – Будущее – это женщина. И вот они встречаются.
Когда женщины заходили в фургон, их пышные юбки, целые ярды шелестящей ткани, занимали половину свободного пространства. Под действием тепла, исходящего от трех тел, в тяжелом, спертом воздухе, наполненном дымом от горящих сальных свечей, фургон превращался в подобие сказочного святилища из снов. Амос заметил, что, заговаривая с мадам Рыжковой, люди часто начинали заикаться. Он тоже когда-то робел перед ней, но потом понял, что она добрая. Старушка прикасалась к рукам клиенток, когда гадала им. То и дело она произносила слова поддержки, вселяющие в них надежду.
Она умело задавала наводящие вопросы и выпытывала у женщин неприятные для них подробности:
– Чем правдивее вопрос, тем правдивее ответ.
Мужчины интересовались главным образом своими делами, видами на урожай и хотели знать наверняка, кто умыкнул свинью. Женщин же, за редким исключением, занимала любовь. Амосу больше нравилось работать с женщинами. Мадам Рыжкова их утешала, хвалила, подбадривала… Амос при этом вспоминал круглые щеки Мелины и ее проворные руки. Не мечтает ли и она о любви?
Когда женщина уходила, Рыжкова принималась бранить ее за глупость.
– Разве она сама не видит, что муж спит с женой другого? – Пальцем она упиралась при этом в Туз Кубков, лежащий на месте карты, управляющей настоящим. – Видишь воду?
Фонтанчики били из удерживаемого на весу таинственной рукой кубка.
– Знания. Общение. Реки лжи, которую оно производит.
Старушка рассмеялась. Амосу нравилось, когда выражение ее лица из сочувственного становилось презрительным, а потом его наставница всякий раз разражалась колким смехом.
Так минули месяцы. Амос учился, слушал и наконец стал тасовать колоду для мадам Рыжковой, очищать карты травяным дымом и убирать их в замечательную шкатулку после гадания. Он ел в компании Бенно, бросал украдкой взгляды на Мелину, спал по ночам у Пибоди, слушая, как хозяин возится со своими книгами либо читает нечастые письма, которые ему присылал Захария. Пибоди как-то отметил, что Амос стал больше улыбаться. Парень лишь пожал плечами.
– Ты врос в свою шкуру, – сказал Пибоди, распечатывая письмо.
Амос согласно закивал, но чувствовал, как внутри него разрастается пустота. Его словно бы растянули, сделали большим, но внутри он оставался таким же пустым, как и прежде. Все его сны все еще были пропитаны вонью сохнущих табачных листьев.
Когда минул ровно год с начала его ученичества, бродячий цирк, следуя в Филадельфию, встал лагерем на берегу реки Скулкилл. Над водой висел густой туман. Амос сидел на одной из откидных ступенек фургона Пибоди и наблюдал за тем, как Нат тащит от реки полные воды деревянные ведра. Вдруг скрюченная рука мадам Рыжковой схватила его и потащила к ее фургону. Ее рука больно сжимала его пальцы, и Амосу вдруг вспомнились куриные кости, разбросанные вокруг костра после обильного ужина.
– Ступай за мной. Пришло время узнать, кто ты такой, – заявила старушка.
Амосу ничего не оставалось, кроме как покорно следовать за ней. На противоположной стороне широкого круга, образованного фургонами и повозками, он заметил Бенно. Акробат ему подмигнул.
– Я прочитаю твою судьбу по картам. После этого ты перестанешь быть учеником.
В Кротоне они приобрели два невысоких табурета, но пристальный взгляд Рыжковой подсказал ему, что садиться надо прямо на пол. Старушка, надавив рукой, сжимавшей его плечо, принудила парня усесться на дощатый пол.
– Ближе к земле, – сказала она, а затем, погладив рукой доски пола фургона, добавила: – Для карт – то, что нужно.
Стены были завешены тканями так, словно мадам Рыжкова имела дело с очередным клиентом, вот только между складками ткани проглядывали портреты. Старушка махнула рукой в их сторону:
– Им будет приятно нас видеть. Я рисовала их всех по памяти. Исключение – Катерина. Моя Катя позировала мне. Тогда рука у меня еще не дрожала, а пальцы не были скрюченными.
Каждый портрет был вставлен в золоченую рамку.
Старуха пристально смотрела на Амоса, пока проводила ритуал очищения. Мадам Рыжкова вытащила пучок трав из не бросающегося в глаза кармашка на фартуке, подожгла его от свечи и принялась чертить дымом знаки.
– Сегодня ты расскажешь другим, что значит стать частью судьбы, – сказала она.
Старушка опустилась на пол, грохнувшись задним местом и бедрами о доски. Она вздрогнула, затем сложила ноги и посмотрела на Амоса. Парень подумал о том, что фургон не самое удобное жилище для женщины ее возраста.
– Ты знаешь, что твое будущее можно прочесть по картам, но рассказывать о том, что тебе сейчас станет известно, никому нельзя. Понятно?
Рыжкова хлопнула картой по полу. Паж Пентаклей. Молодой человек, черноволосый и смуглолицый, со звездой в руке будет символизировать собой во время гадания Амоса.
– Симпатичный. Правда? Похож на тебя. Такой же упрямый, но в то же время напуганный. Молодое тело, но старый разум.
Старушка постукала пальцем с острым ногтем по лбу Пажа Пентаклей, прежде чем перевернуть другую карту. Движения ее были столь стремительны, что Амосу трудно было за ней уследить.
– Королева Кубков. Много воды. Перемены. Ты мечтаешь. Я права? Чужая власть над тобою. Светлокожая женщина. Темные волосы. Светлые глаза.
Скрюченные пальцы старухи танцевали, сгибаясь и разгибаясь, пока она говорила. Фургон теперь представлялся Амосу маленьким и тесным. Казалось, их тела с трудом помещались в этих деревянных стенах. Еще немного – и Амос вырвется наружу. Что-то явно происходило… Рыжкова перевернула очередную карту и побледнела. Чернота, прорезанная зигзагом молнии.
Старушка резко выпрямилась. Глаза ее закатились, а потом взгляд устремился вдаль. Амос протянул к ней руку, и мадам Рыжкова вцепилась в нее. Голос старушки звучал как-то странно, приглушенно.
– Прибывает вода. Она погубит все, чего коснется, если оно из плоти. Отец, мать… Все погибнет… Ты будешь терпеть, пока ничего не останется, а потом сломаешься. Вода постепенно сточит камень.
С губ Амоса сорвался едва слышимый шепот. Он отдернул руку. Старушка как-то сжалась и опустилась на пол.
Парень вскочил на ноги, загремел подошвами по доскам и наклонился, желая увидеть карты, но мадам Рыжкова быстренько их заслонила собой и подобрала с пола. При этом она что-то говорила на своем гипнотизирующем языке, казавшемся Амосу мешаниной ударяющих и убаюкивающих звуков. Мадам Рыжкова завернула колоду в кусок материи и положила обратно в шкатулку. Глаза ее закрылись. Она глубоко дышала. Амос не мог точно сказать, сколько времени прошло, прежде чем она пошевелилась.
– Сильное будущее, – произнесла старуха. – Большие перемены. Остерегайся женщин.
Она ушла, оставив Амоса в фургоне наедине с самим собой.
Прошел месяц. Рыжкова больше ни словом не обмолвилась о гадании, только просила Амоса проводить с ней больше времени на закате дня. Сам он интереса к тому гаданию не проявлял.
Летом дороги Нью-Джерси затопило, и фургоны то и дело увязали в грязи. Караван медленно двигался на север, к манящим просторам и процветающим городкам долины реки Гудзон. Нескончаемое толкание фургонов, вытаскивание колес из грязи и перенос груза с места на место окончательно измучили циркачей. Амос и Бенно от усталости едва на ногах держались. Даже силач Нат чувствовал себя смертельно уставшим. Когда они добрались до Гудзона, глаза Амоса сами собой закрывались и он не мог уловить смысла гадания.
Когда его голова в очередной раз упала на грудь, мадам Рыжкова погладила паренька по грязной щеке.
– Я тебя нарисую, – тихо произнесла она. – Будешь висеть рядом с моими родными.
Ночью Амос пошел спать в фургон Пибоди, но уснуть не смог. Ноги ныли и не хотели предаваться отдыху, а матрас, как бы он на нем ни вертелся, казался ужасно твердым. Странно. Прежде он этого не ощущал. В голове роились мысли. Он вспоминал гадание и то, как руки прорицательницы сноровисто управлялись с картами. Он пытался вспомнить темную карту, увиденную им лишь мельком. Амос напрягал память, но не мог вспомнить, как она выглядела. Он много раз присутствовал при гадании, и ни разу мадам Рыжкова не вела себя так странно. Возможно, в тот день она просто приболела. Эти мысли его тревожили. Амос, придерживая дверь, тихо приоткрыл ее так, чтобы не потревожить Пибоди. Хозяин цирка тем временем что-то писал или рисовал в своем журнале, попутно отпуская замечания по поводу «несносных дорог». Улыбка, несмотря на тревогу, тронула губы Амоса.
Молния прочертила небо над головой. Было свежо, и ноги двигались очень медленно. До слуха Амоса долетел треск дров в костре, который поддерживали его товарищи. Он видел тени, отбрасываемые людьми у костра. Сюзанна извивалась, демонстрируя умения девушки-змеи.
В лесу что-то зашелестело.
Вспышка света озарила небо ярким багрянцем, и в лагере стало светло, как днем. Если бы не молния, Амос ни за что не заметил бы девушку, которая, спотыкаясь, брела по лесу. Промокшая до нитки ночная сорочка липла к ее ногам. Девушка дрожала всем телом. На кровоточащих ногах – никакой обуви. Спутанные, слипшиеся волосы были усыпаны листвой и прочим лесным мусором. Ее можно было принять за игру света и тьмы, острых углов и округлостей. Девушка шла прямо на него, а он не слышал звука ее шагов.
Пибоди видел, как Амос, выйдя из фургона, побежал к лесу. Он посмотрел в ту сторону, и его глаза округлились. Окутанная туманом, освещаемая лунным светом и молниями, девушка показалась ему сущим наваждением. Будь Пибоди не столь скептически настроен к проявлениям фантастического, он, чего доброго, решил бы, что перед ним лесной дух. Он видел, с какой прытью бежал к девушке Амос, и не смог сдержать улыбки. «20 мая 1796 года. Проехали Кротон. Весенняя гроза показала все, на что она способна. Нам повстречалась девушка непревзойденной, небесной красоты». Задув свечу, Пибоди встал у двери фургона с довольным видом.
– Да, мой мальчик! Веди ее к нам!
Стоя у двери своего фургона, мадам Рыжкова видела светлокожую, черноволосую девушку, вымокшую до нитки. Гроза бушевала уже вдалеке, в противоположной от реки стороне. Под слоем грязи тело незнакомки дрожало так, словно сделано было из воды. Уже не девочка, но еще не женщина. Подобного создания Рыжкова не видела уже давно, не видела с тех пор, как сгинул ее отец. Она бросила все: ей надо было убраться оттуда подальше. Она не будет произносить ее имя вслух – это придало бы девушке дополнительных сил, однако ничто не могло удержать старушку от того, чтобы мысленно прошептать его.
Глава 5
2 июля
Поиск сведений о Вероне Бонн обернулся, как говорится, охотой на снайпера. Я начал с общедоступных генеалогических сайтов и общественных архивов, занимаясь личными делами в промежутке между запросами на выдачу книг и работой с каталогами. Впрочем, моей находкой стала-таки одна газетная статья с фотографией стройной женщины, стоящей на вышке для прыжков в воду. Для дальнейших поисков следовало либо оплатить доступ к информации, либо иметь отношение к той или иной организации. У меня не было свободных денег, чтобы тратить их на генеалогические изыскания. Как и мама, бабушка, судя по всему, пользовалась несколькими псевдонимами. Верона Бонн – это, скорее всего, ее последняя сценическая инкарнация. Из всего, что я узнал, ничего не давало ответа на вопрос: кому понадобилось писать ее имя на заднем форзаце старинной книги весьма необычного содержания.
Если бы не журнал, то о существовании «Путешествующих чудес и курьезов Пибоди» вообще никто бы не узнал. Я ничего не знал и о существовании современных странствующих трупп. То, чем занимался Гермелиус Пибоди, не приветствовалось во время революции и даже позже – по крайней мере до тех пор, пока Джон Билл Рикетс не организовал в 1792 году в Филадельфии цирк. Однако, судя по записям, Пибоди переезжал с места на место, устраивал представления и получал прибыль начиная по меньшей мере с 1774 года.
Но хуже всего было то, что в этом журнале значились имена реальных людей.
Распечатка отсканированного газетного листа лежала у меня на столе. Выпуск «Кэтскилл Рекордер» от 26 июля 1816 года. У меня ушло три дня на поиски этого документа, но теперь, закрыв глаза, я видел перед собой каждое слово как бы в негативе. Сколько же раз я ее перечитывал!
24 июля 1816 года Бесс Виссер, цирковая актриса, утонула в реке Гудзон, переплывая ее у Фишкилла. Не исключено, что таким образом она решила преждевременно уйти из жизни. Согласно свидетельствам людей, ее знавших, ледистрадала бессонницей и различными маниями. После себя она оставила дочь Клару четырех лет от роду.
Двадцать четвертого июля, и не просто утонула, а покончила жизнь самоубийством, как моя мама. Для случайного совпадения это чересчур. Когда мои поиски Клары Виссер ничего не дали, я вновь обратился к журналу. Здесь, на последних страницах, не испорченных водой, я наткнулся на упоминание о некой Кларе Петровой.
Пришло время снова потревожить Мартина Черчварри.
– Я думаю, вам интересно будет узнать, что мне удалось выяснить.
– Просто замечательно! Так журнал все же принадлежал вашей бабушке?
– Я пока не знаю. В журнале я наткнулся на имена Бесс Виссер и ее дочери Клары. Моей маме имя Бесс тоже было известно, так что вырисовывается какая-то связь. Не думаю, что это такое уж распространенное имя…
Что-то удерживало меня от того, чтобы рассказать букинисту о совпадении дат самоубийств. Это было очень личное.
– В определенном смысле вы вернули мне частичку моей семьи, – все же решился сказать я мистеру Черчварри.
Я мог бы поклясться, что старик улыбался.
– Это очень мило с вашей стороны, Саймон. Спасибо. Я очень рад, что книга нашла себе новый дом.
– Журнал замечательный. Честно. Мне не терпится показать его сестре. Я обнаружил там рисунки карт Таро. Моя сестра гадает на картах. Моя мама тоже гадала. Мне хотелось бы побольше узнать о Таро. Рисунки просто изумительные, не похожие на те, что я видел раньше.
Я думал о том, какой необщительной может быть Энола. Вряд ли я смогу чего-то добиться от сестры.
– Вы не посоветуете какую-нибудь хорошую книгу о картах Таро?
– О картомании, – рассмеявшись, произнес Черчварри. – Наверняка у меня что-нибудь есть. Никогда особо не интересовался этим. Подождите…
Я услышал звук шаркающей походки. Так шлепать могут лишь домашние тапочки без задников. А потом послышался звук скребущих по дереву когтей.
– Лежать, Шейла! – раздался приглушенный голос мистера Черчварри.
Значит, у него в магазине есть собака. Я представил себе гончую. Звук скрипящих деревянных половиц изменился. Теперь букинист спускался по деревянным ступенькам лестницы.
– Давайте посмотрим, что у меня тут есть. У меня не много книг по оккультизму. Отец предпочитал заниматься классикой, но я ничего не имею против парочки хороших изданий на эту тему… Ага! Вот ты где, трусливый негодник! «Принципы прорицания». Это все, что у меня есть на данный момент. Красивое издание 1910 года.
Я нацарапал название на конверте и сунул его в записную книжку.
– Не могли бы вы, если не очень заняты, посмотреть в этой книге значение одной карты?
– С удовольствием. Мари только радуется, когда я подолгу общаюсь с потенциальным клиентом.
Старик хихикнул, а я представил себе его «многострадальную» супругу с редеющими седыми волосами и толстыми щеками. Я описал карту, а потом слушал шелест листаемых страниц.
– А-а-а… Вот! Описанный вами рисунок похож на Башню. В кратком описании говорится, что эта карта предвещает кардинальные перемены, часто насильственного свойства. – После нечленораздельного бурчания себе под нос Черчварри добавил: – Есть и более обширная интерпретация, но, боюсь, я не совсем ее понимаю. Не знаю, чем это может помочь нам. Наш журнал, по крайней мере, на целое столетие древнее «Принципов прорицания». Можете сами посмотреть, так как эту книгу много раз переиздавали… У меня, впрочем, очень красивое издание с золоченым обрезом и тисненым переплетом.
– Боюсь, я не смогу позволить себе приобрести это издание.
– А чем дольше оно у меня остается, тем меньше я могу позволить себе его держать, – вздохнув, произнес Черчварри. – Двухсторонняя проблема.
– Вечная проблема торговцев и банков, которые их кредитуют.
– И ни у кого лишнего цента нет за душой, – весело сказал Черчварри. – В любом случае мне нравится общаться с вами по телефону. Надеюсь, когда вы что-нибудь узнаете, то обязательно мне позвоните.
– Обязательно позвоню, Мартин, – сказал я, несколько удивленный тем, что на самом деле собираюсь ему позвонить.
На размышления, впрочем, не оставалось много времени. Библиотека ждать не будет.
Я принял душ и побрился. Из зеркала на меня смотрело лицо очень уставшего человека. Спутанные темные волосы. На подбородке – порезы и краснота, вызванная старым лезвием бритвы и влажностью. Из-за этой влажности я постоянно потею. А ведь Алиса целовала мое лицо! Сегодня вечером мы едем в «Дубы». Там выступает джазовый квартет. Кажется, они играют в стиле фанк. Музыка и крепкие напитки… Быть может, это свидание, а быть может, двое друзей просто будут сидеть, пить и слушать музыку. Я попытался остановить кровь, сочащуюся из ранки на подбородке. Я всегда по утрам такой?
Я прихватил с собой журнал и конверт. Сев в машину, я оглянулся на свой дом. Сточный желоб на крыше совсем покосился. Когда это случилось? Я бросил взгляд на часы. Нужна пара скреп. Это я и сам смогу легко починить.
Раздумывая о текущей, совсем прогнившей крыше и джазовых квартетах, играющих в стиле фанк, я доехал до библиотеки. Девушки, сидящие за абонементными столами, не подняли на меня глаз, когда я проходил мимо. Единственным объяснением их поведения мог быть стыд.
Значит, меня увольняют.
Уважающий себя человек должен был бы прямо проследовать в кабинет Дженис, но я таковым себя не считал. Надо сесть за свой стол. Это станет моим последним рубежом обороны. За долгие годы кресло, на котором я сидел, стало частью моего естества.
Не прошло и пяти минут, как стук каблуков по потертому ковровому покрытию возвестил о появлении Дженис. Сегодня на ней был темно-розовый костюм. На сгибах он порядком потерся, да и как для июля костюм был чересчур теплым. Сегодня в ушах у нее болтались серебряные раковины береговых улиток.
– Саймон!
– Давайте здесь, Дженис.
Женщине было явно не по себе. Глаза предательски блестели. Она что, плакала?
– Будет лучше, если мы пройдем в мой кабинет.
– Не лучше. Я бы предпочел не проходить мимо всех.
Губы ее чуть приоткрылись, выпустив едва слышный возглас.
– Понимаю. Хорошо вас понимаю…
После этого Дженис принялась во всех деталях описывать мне, как она за меня боролась. Она утверждала, что если бы ей удалось найти хоть какой-то способ свести концы с концами, не увольняя меня, то она обязательно бы его использовала. Мне не хотелось ее слушать. Не помогло даже то, что Дженис принялась расхваливать меня как работника. Она, оказывается, рада была наблюдать за тем, как я расту. Лучше уж делать вид, что слушаешь. Прекрасная маска, которая так мне идет.
– Без вас каталогизация будет уже не той, – заявила она.
Даже если Дженис не кривила душой, что вполне возможно, ее оправдания звучали жалко. А что там за стеллажом с периодическими изданиями? Толстая рыжеватая коса! О черт! Алиса слушает, как меня увольняют.
– Мне очень жаль, но ничего другого не остается.
Я как бы издалека слышу, что соглашаюсь на двухнедельную отсрочку. Дженис говорит, что сделает пару телефонных звонков, рекомендуя своего уволенного работника.
– Хорошо, – соглашаюсь я.
Теперь я только рад тому, что меня увольняют, так как происходящее таит в себе уж слишком много унизительного. Зачем ремонтировать водосточный желоб, если на все остальное просто нет денег? Пройдет совсем немного времени, и оба моих дома пойдут прахом.
Дженис ошибается. Я проработал в библиотеке не десять, а двенадцать лет. Двенадцать лет работы в относительном одиночестве: раскладывание, сортировка, сканирование, каталогизация, поиски, составление писем, клянченье грантов, клянченье финансирования… Я сроднился с бумагами. Они стали частью меня. Двенадцать лет, посвященных томам и страницам. Теперь я сам стал похож на книгу.
Ко мне подошла Алиса. На работе мы старались держаться подальше друг от друга. Библиотеки – это рассадники сплетен. Все знали, что муж Марси пьет, раньше, чем о том узнала сама Марси. Мы с Алисой старались всем показывать, что нас связывает лишь работа. Мы виделись только тогда, когда мне нужно было узнать расписание или когда Алиса приходила ко мне за иллюстрационным материалом к выступлению либо еще за чем-то. Как они будут без меня обходиться? Алиса вышла из-за стеллажей. Ее симпатичные коричневые штаны терлись об огромный том. Во всем ее облике читалась жалость ко мне. Плотно сжатые губы. Слегка опущенные веки. Падающие на щеки тени от длинных ресниц. Весь ее вид соответствовал словам: «Мне так тебя жалко!» Секундная реакция может оказаться убийственной. Разрушительный потенциал подобного выражения лица трудно себе вообразить. Она перехватила мой взгляд. «Ты в порядке?» – беззвучно спросили ее губы. Я пожал плечами. А что я мог ответить? Она стояла за ксероксом, когда пожилой мужчина прикоснулся к ее плечу. Удобные туфли, белые носки, рубашка из тонкой ткани с пуговицами на воротнике, шорты, стариковские колени… Старые люди любят Алису. И слава богу! Я сейчас не могу с ней говорить, по крайней мере до тех пор, пока не сделаю этого… Я поднял трубку и набрал номер Миллерстонской библиотеки.
– Привет, Лесли! Это Саймон Ватсон из Грейнджера…
За сорок пять минут я переговорил по телефону практически со всеми директорами всех библиотек от Вавилона до Маттитака либо оставил им голосовое сообщение. Джина из Комсвоуга была настолько любезна, что сообщила о том, что Дженис уже звонила ей и замолвила обо мне словечко.
– Она очень переживает. Она относится к вам почти так, как к своему родному сыну. Если получится, мы вас к себе возьмем, но наша библиотека находится в таком же затруднительном положении. Лучшее, что я могу сейчас предложить, – волонтерская работа. Когда дети вернутся после летних каникул в школу, я, пожалуй, смогу устроить вас на неполный рабочий день. Не сочтите мое предложение издевкой.
Щипая себя за нос, я не улучшал своего положения, но, когда я испытывал физическую боль, мне легче было вести все эти разговоры. Хуже было с Лаурой из Айтер-Харбор.
– Хотела бы я помочь, но мне самой помощь не помешала бы. Я разговаривала с Дженис две недели назад по телефону, надеялась, что вы не так скованы в ваших действиях. А фонды на архив по китобойному промыслу совсем-совсем получить не удается?
– Удается, но денег все равно недостаточно.
Когда я положил трубку на рычаг, ничего во мне не изменилось. Просто я впустую потратил время. Члены книжного клуба сидели в креслах перед фасадными окнами библиотеки, а стайки детей взбирались вверх по ступенькам лестницы. Книги надо выдавать, расставлять на полках и ремонтировать. Мне еще надо было закончить готовить документацию к заявке на получение фондов для каталогизации. Впрочем, это и без меня сделают. Я принялся лазить по веб-сайту, ссылку на который мне прислала Лиза Рид. Город Нью-Йорк мог предложить много рабочих мест: цифровое архивирование, архитекторы информационных систем… Что это за работа? Даже если бы я знал, все равно не смог бы ездить в Нью-Йорк на работу из дома. На Лонг-Айленде работы по специальности почти не было. Большинству библиотек нужны были студенты-стажеры либо колдуны – умельцы по привлечению дополнительного финансирования. Внизу страницы, в небольшом зеленом окошке виднелось объявление о поисках человека на должность сотрудника отдела рукописей архива Сандерса-Бичера, в частную библиотеку, находящуюся в Саванне, штат Джорджия. Перескакивая с одной ссылки на другую, я перешел на веб-сайт архива. Здание оказалось старинным, с колоннами. Оно было очень красивым. Фотографии интерьера демонстрировали великолепные книжные полки, сделанные из ореха или вишни. Комнаты от пола до потолка были заполнены переплетенными в кожу томами. В кратком комментарии Сандерс-Бичер описывался как архив, имеющий «персональный подход к истории в широком понимании этого слова». Библиотека могла похвастаться книгами, изготовленными на первом в Джорджии печатном станке, дневниками первых переселенцев и располагающимся в ее здании музеем. Я по-другому взглянул на наш архив по китобойному промыслу. Жалкие плоды мании Филиппа Грейнджера сейчас покоятся в двух стерильно чистых комнатах, а вот архив Сандерса-Бичера лучился теплом и жизнью. Впрочем, не исключено, что я смотрю на все издалека и через розовые очки. Возможно, я обладаю излишне романтичным восприятием. Мили, отделяющие меня от Саванны, не делают мои желания более реальными. А если еще вспомнить о доме и о приезде Энолы…
– Привет!
Алиса положила стопку книг с поврежденными переплетами на мой стол. Она оперлась на них, слегка поглаживая корешки. Ногти у нее короткие и ухоженные, мои – обкусанные до такой степени, что и ногтями их уже нельзя назвать. Свое сочувствие она выразила вздохом. Все в порядке. Я не нуждаюсь ни в чьем сочувствии.
– Привет, – ответил я.
– Извини, что это не я.
– Это, конечно, мило с твоей стороны, но не надо врать.
– Ладно, – согласилась она. – Я рада тому, что меня не уволили, но огорчена тем, что уволили тебя. Так лучше?
– Лучше.
– Вечером я угощаю. Договорились? Пей сколько и что твоя душа пожелает. Ты можешь напиться, устроить у меня дебош, я и слова тебе в упрек не скажу.
Я не имел представления, чем я буду напиваться.
– А что ты пьешь, когда тебя увольняют?
– Ржаной виски… Как тебе?
– Гадость.
Алиса улыбнулась:
– Придумай, что тебе по вкусу.
Так мы болтали. Принтеры трещали, ксероксы гудели, пальцы барабанили по клавиатурам.
– Зачем ты повсюду носишься с этой книгой?
Ответа на этот вопрос я и сам не знал. Рисунки казались мне отдаленно знакомыми. Записки также не были чем-то чужеродным. А еще женщины тонут. Мама знала имя Бесс Виссер. Странность, связанная с двадцать четвертым июля. От всего этого меня охватывал исследовательский зуд.
– Человек, приславший мне этот журнал, возможно, прав. Я теперь уверен, что он имеет какое-то отношение к моей семье.
Алиса бросила взгляд на часы, висевшие над длинным компьютерным столом. Одиннадцать часов. Вскоре ей придется встречать очередного докладчика. Дон Бухман будет читать лекцию о болотных птицах. Она расправила плечи.
– Ты не отыщешь свою семью в этой книге, Саймон.
Я пожал плечами:
– Ты не сможешь меня утешить, изрекая всякие банальности, Алиса.
– Нет, ты неисправим! – заявила она.
Мы тихо рассмеялись. Она взяла меня за руки. Наши пальцы сплелись крепче.
– Я могу тебе чем-то помочь?
Возможно, потому что Алиса это сказала, а может, потому что Энола так и не объявилась, я остро захотел найти свою семью в книге или еще где-либо и понять, что же с нами случилось.
– Ты не против разузнать для меня еще кое-что? Меня интересует все, что ты сможешь найти на двух женщин. Верона Бонн и Селина Дувел. Я искал, но всякий раз натыкался на дорожную заставу.
– Я думала о другом, но, если ты хочешь проверить своих будущих подружек, я тебе, так уж и быть, помогу.
– Не в том дело. Они мои родственницы. Я обнаружил кое-что любопытное. Не уверен, но думаю, это прольет свет на многое.
Алиса вопросительно приподняла брови.
– Не хочешь меня просветить?
– Пока еще не могу. Мне просто нужен общий вид. Ты знаешь, что по части оценивания общего вида я совсем неплох.
– Знаю.
Утро я потратил на заклеивание рваных переплетов скотчем и оттачивание языка для выклянчивания грантов. В обед я отослал несколько резюме. Черт все побери, но одно резюме я отправил в архив Сандерса-Бичера, а другое – в один из техасских музеев. Все же электронные устройства – это фантастика! Один щелчок мыши, и тысячи миль преодолены. После этого я помогал маленькой девочке по имени Люсинда найти интересную книжку в отделе фольклора. Она была посвящена селки[4], толстая книга в клеенчатом переплете. Я вспомнил, как несколько лет назад менял у этой книги переплет. Недалеко от нее стояла другая книга с невзрачным на вид переплетом. Русские народные сказки, легенды и стихотворения, записанные в регионе Балтийского моря. Мама когда-то читала мне эту книгу. Я имел на нее не больше прав, чем любой другой человек, но я сунул книгу себе под мышку и принялся ходить между стеллажами. Мне нужна была еще одна книга.
Библиотечные «Принципы прорицания» имели простой матерчатый переплет, а не тисненый, как у издания Черчварри. Это было более новое издание; оно пестрело иллюстрациями, выполненными в стиле модерн, и показалось мне не информационным, а рассчитанным на разжигание мистического трепета. Черчварри был совершенно прав. Рисунок карты Таро в моем журнале представлял собой схематическое отображение Башни, хотя и довольно грубо исполненное по сравнению с иллюстрациями в «Принципах прорицания». А еще в журнале в воды моря падал один человек, а в книге – два. Карта символизирует собой радикальные перемены. Изменения. Они могут означать как начало нового, так и конец. Как раз та карта, которая должна выпасть человеку, потерявшему работу. Около часа я провел в книгохранилище, листая книгу. Хранилище было моим королевством. Здесь в старых книжных шкафах стояло то, что редко спрашивали, и поэтому ставить эти книги на полки для общего пользования смысла не было. История книгопечатания в колониальный период, зоотехника, биографии забытых людей… Теперь всем этим займется кто-нибудь другой. Ко времени, когда я покинул хранилище и вернулся к своему столу, Алиса уже насобирала небольшую стопочку газетных статей, ксерокопий и распечаток. Поверх всего этого лежал читательский абонемент, на котором аккуратным, чуть наклонным почерком было выведено:
Кое-что нашла по твоим именам. Что же до платного доступа к информации, то надо было заранее предупредить, что ты ищешь данные на покойниц.
P. S. Звонил папа. В твоем доме упал водосточный желоб. Тебе определенно надо напиться. Заезжай за мной в восемь вечера.
Я положил бумаги между книгами и ушел. Мне казалось, что я не иду, а плыву. Я с трудом узнал скульптуру, которую установили на лужайке пять лет назад и которую я прежде очень сильно недолюбливал. Украденные книги я положил на пассажирское сиденье рядом с журналом Пибоди. У меня оставалось еще две недели, но на работе я больше не появлюсь. В моей семье не любят долгих прощаний.
Я гнал всю дорогу до дома. Машина подскочила на выбоине, когда я проезжал мимо гавани. Я громко рассмеялся.
Осознание того, что мой дом теперь так близко стоит к краю пропасти, навалилось на меня всей тяжестью, когда машина выехала на подъездную дорожку. Вместо того чтобы засесть с распечатками Алисы или приводить себя в порядок, готовясь к вечеру в «Дубах», я полез на крышу.
Нужно было с помощью молотка вернуть покореженному металлу внешнее сходство с водосточным желобом. Кронштейны и винты остались на месте, словно это не они, а крыша куда-то сдвинулась. Час махания молотком и сгибания металла, порезанные в нескольких местах пальцы. Теперь желоб можно прикреплять к свесу крыши. Дерево треснуло под первым винтом. Я попытался вкрутить винт в другом месте, но древесина вновь треснула. Один немаленький кусок дерева, кружась, упал на землю. Третья и четвертая попытки сорвали с крыши пару кусочков гонта и привели к дальнейшей порче свеса. Желоб рухнул рядом с домом, которому вскоре предстояло последовать его примеру. Крыша прогнила. Мне следовало заняться ею много лет назад, вот только никто мне этого не сказал. На моем попечении остались дом и сестра, но никто мне ничем не помогал, ничего не советовал. А обрыв приближался с каждым годом.
Мы часто спускались по нему к морю, Энола и я. Наши ноги глубоко увязали в песке. Ее рука – в моей руке. Мы тянули друг друга к воде, задыхаясь и вопя. Каждый раз, подпрыгнув, мы считали секунды до того момента, как наши ноги коснутся земли. Мы сгибали колени, приземляясь. Песчаная почва нас принимала, но медленно сползала вниз, к океану. Каждый прыжок разрушал дома, стоящие на побережье, мой дом…
Как бы я хотел, чтобы этих сумасшедших прыжков в прошлом не было!
Я оставил водосточный желоб лежать там, где он упал. Спрыгнув на землю, я поднялся на крыльцо и потянул чертову дверь, которая и прежде нормально не открывалась. Войдя в гостиную, я позвонил по телефону Алисе.
– Это я.
– Ты сбежал с работы, – сказала она.
Трудно было определить по голосу, что Алиса обо мне сейчас думает.
– Извини, – сказал я, не желая ссориться. – Ты не против, если я приеду сегодня пораньше? Не могу сейчас здесь оставаться один.
Глава 6
Прошло много лет с тех пор, как в том доме в селении Кроммескилл рождались дети. В этой обители туч, спрятанной в туманах, поднимающихся над рекой Гудзон, все жили под властью строгой, но справедливой Сары Виссер, бабушки Виссер.
Неприятности у Эвангелины начались задолго до того, как Амос увидел ее ночью, освещенной сполохом молнии. Неприятности начались с самого ее рождения.
– Ты грешна, но я это исправлю, – сказала бабушка Виссер, разглядывая Эвангелину.
Дряблые щеки старухи тряслись. Девочка была странной. Она смотрела на бабушку, державшую ее на руках, глазами своего отца, странного человека, который стучался в окошко ее матери в те ночи, когда туман наползал с реки. Глаза цвета меди и увядших одуванчиков. В них бабушка Виссер увидела падение дочери в пучину греха.
Амалии Виссер было шестнадцать, когда мужчина впервые подошел к окну ее спальни. Он был окутан аурой непохожести на других. Тайный огонь пылал внутри незнакомца. Когда он заговорил, это стало особенно очевидным. Кожа незнакомца имела желтоватый оттенок меди и золота. Волосы отличались угольной чернотой. Черты лица были одновременно мужскими и мальчишечьими. Амалию незнакомец очень заинтересовал.
Раздался негромкий стук. Амалия отдернула занавеску и встретила взгляд глаз, как каленая сталь. Она открыла окно.
Его голос был похож на журчание теплого ручейка.
– Я видел тебя у реки. Можно я посмотрю, как ты плаваешь на рассвете?
Мягкостью голоса и его особым тембром можно загипнотизировать человека. Мужчине это вполне удалось.
Амалия чувствовала его, когда плавала, в высокой траве и в тени деревьев. Вода поблескивала и переливалась, делая ее кожу живой и подвижной. Вернувшись после купания, Амалия обнаружила на подоконнике странное существо – подарок незнакомца. Панцирь был гладким и твердым. На его конце был острый хвост. Шипастые ноги заканчивались когтями, к которым девушка не осмелилась прикоснуться. Она погладила хрупкий на вид панцирь существа. Формой он напоминал лошадиную подкову. Девушка оставила окно приоткрытым, а занавеску отдернутой.
Когда мать поинтересовалась, для чего это, Амалия, сжимая руки в кулаки, ответила:
– Чтобы золотокожий мужчина с медными глазами мог войти.
Теперь дочь отбивалась тыльными сторонами кистей…
После поцелуев в щеки последовали поцелуи в губы. Все продолжалось до тех пор, пока дикость незнакомца не перелилась в Амалию. Глаза ее стали дикими. Она то и дело заливалась смехом и не могла остановиться. Характер у девушки стал просто несносным, а живот округлился.
Ее мать наглухо заколотила окно.
Спустя несколько месяцев резкая боль пронзила живот Амалии. После боли пришла кровь. После крови пришел страх. После страха пришло одиночество. После одиночества пришло удивительное – ее дочь.
Когда девочка начала сосать ее грудь, вместе с молоком матери она высасывала ее жизнь. Эвангелина толстела и набиралась сил, а вот Амалия чахла не по дням, а по часам. Она стала апатичной, бледной и рыдала так часто, что могла бы постирать в своих слезах простыню, на которой спала. Она поднималась с постели не чаще раза в день и ни на минуту не расставалась со своей дочерью. В глазах Эвангелины Амалия видела мужчину, который приходил к ней все лето, а осенью сгинул.
Амалия чахла на глазах, и Сара Виссер видела в этом соразмерную расплату за грех и пренебрежение моралью. Глядя на улыбающуюся малышку, пожилая женщина видела лицо соблазнителя и мысленно клялась искоренить грех из тела этого ребенка и воспитывать его лучше, чем Амалию. Дочь умирала, а глазенки Эвангелины оставались прикрытыми, словно у новорожденного цыпленка, когда бабушка Виссер забрала свою внучку.
– Я смою пятно позора! – переходя на голландский вариант английского, заявила старуха.
Широкую грудь женщины покрывала колючая шерстяная ткань черного цвета. Это платье она решила носить в память о давно почившем Йохане Виссере, человеке добродетельном и справедливом. Грубая ткань колола Эвангелине кожу, но она спала до тех пор, пока бабушка не сунула ее в лохань с ледяной водой.
– Я сама тебя окрещу.
Эвангелина попыталась кричать, но предназначенная для стирки вода заглушила ее крик. Бабушка Виссер, держа головку ребенка под водой, шепотом читала молитвы, раскачиваясь из стороны в сторону. С каждым прочитанным стихом она толчком погружала головку Эвангелины в мутную воду.
– Мы раскаиваемся в наших грехах и боимся греха приближающегося. Мы очищаем себя в благословенной воде.
Она пальцем приоткрыла ротик ребенку, ибо корень греха прячется в сердце и животе. Туда хлынула вода, и этого было достаточно, чтобы малышка захлебнулась.
– Мы – ничто без благодати Господней, и нет нам спасения. Наполним сосуды из освященной реки.
Девочка принялась пить так, словно дышала водой, а затем сомкнула губки вокруг пальца бабушки и начала его сосать. Именно этот жест ребенка растрогал бабушку Виссер. Она вспомнила, как любила когда-то Амалию, прижимала ее к своей груди. Старуха вытащила младенца из воды.
Эвангелина улыбнулась, не выпуская бабушкиного пальца изо рта. Она не понимала, что едва не утонула.
На смертном одре Амалия покрывалась холодным потом. Ее волосы слиплись, обрамив лицо. В темноте Саре Виссер казалось, что от ее дочери исходит сияние, словно от ангела.
– Я воспитаю девочку, как будто она от моей плоти и крови, – пообещала старуха.
А потом Амалия умерла.
Сара Виссер читала девочке потрепанную Библию, пела ей духовные гимны, так что первыми именами, заученными ребенком, были имена апостолов. День начинался с молитвы еще до восхода солнца. Потом Эвангелина шла ухаживать за курами и козами. Часами девочка училась в кухне стряпать, чтобы стать хорошей голландской женой. Она читала молитвы, стирала, убирала и пряла. Каждый день планировался так, чтобы не оставалось места для праздности. Всю жизнь следует стремиться быть праведной женщиной.
Бабушка Виссер полюбила Эвангелину. Хотя она боялась греха, давшего жизнь девочке, упрямая часть ее души воздавала хвалу Господу за то, что он предоставил ей возможность начать все с начала.
Из послушного ребенка Эвангелина превратилась в молодую девушку с лицом, как у кошки, большими, как блюдца, глазами и гривой черных волос, которые доходили ей до колен. Несмотря на неусыпную бдительность бабушки Виссер, река звала, молила девушку убежать и искупаться в ее водах.
Чтобы внучка не сбегала, бабушка Виссер отбирала у нее башмаки и заставляла молиться до тех пор, пока не догорят все свечи. Эвангелина недвижно лежала в постели и ждала, когда бабушка покинет ее комнату, а затем вылезала из дома через окно, спрыгивала на землю и вдыхала ночной воздух. Она бежала через сад, не обращая внимания на камни, ранящие ее ступни. Эвангелина бросалась в воду. Прохлада облегчала щемящее чувство беспокойства, которое гнездилось в девичьей душе. Эвангелина не знала, что прежде ее мама бегала этой тропкой на свидание с ее отцом.
Когда бабушка Виссер увидела засохшую кровь на ногах внучки, она вспомнила Амалию так ясно, словно та умерла лишь несколько дней назад. Тогда она принялась шнуровать платье внучки так туго, что было трудно дышать, не то что бегать.
– Добропорядочные женщины не бегают.
Она стягивала шнуровку до тех пор, пока пластины корсета не стали внучке тюрьмой.
Эвангелина рассекла шнуры ножом для вскрытия конвертов. Ее легкие расправлялись с каждым лопнувшим шнуром. А потом она побежала к реке. Не имело значения, куда течет вода: если она поплывет, вода будет течь туда, куда нужно ей.
Знакомство Эвангелины с Вилли Абеном ускорило перемены, зреющие в ее душе. Вилли, сын мельника, сказал, что мать Эвангелины связалась с пришлым, который похитил ее сердце. Отец Вилли рассказывал, что однажды чужак исчез и тогда ее мать начала худеть, чахнуть и вскоре стала такой же, как пыль, гонимая ветром.
Эвангелина не верила в то, что можно умереть от душевной боли.
Ей было шестнадцать лет, когда они начали вести подобные разговоры. Вилли исполнилось семнадцать. Широкоплечий парень. Волосы такие светлые, что они казались лишенными всякого цвета. Несмотря на сломанный зуб, улыбался он очень мило. Эвангелине интересно было болтать с Вилли. По крайней мере, он не рассуждал о том, как избежать греха и что следует делать добродетельной женщине. Вилли также принялся тайком сбегать из дома. Попав под очарование дикого взгляда младшей Виссер, он ускользал с мельницы и встречался с девушкой. К сожалению, в ловкости он значительно уступал Эвангелине.
Как-то в конце весны Дору Абен разбудил скрип открываемых ворот. Посмотрев в окно, она увидела, как ее сын спускается к реке, направляясь на свидание с девчонкой Виссер. Набросив на ночную сорочку домашний халат из плотной ткани, Дора Абен выскочила из дома. При виде разгневанной матери Вилли трусливо бежал. Схватив Эвангелину за руку и за волосы, женщина отволокла девчонку к дому Виссеров. Она колотила в дверь до тех пор, пока Сара Виссер ей не открыла, а затем, не стесняясь в выражениях, заявила той, что ее шлюха внучка намеревалась соблазнить Вилли.
Бабушка Виссер не стала внимать мольбам своей внучки, не приняла во внимание даже то, что давно недолюбливала Дору Абен, считая ее склонной к праздности и богохульству. Все, о чем она думала, стоя на пороге своего дома, – так это о том, что, несмотря на всю свою любовь к Эвангелине, несмотря на годы, потраченные на ее воспитание и искоренение первородного греха, живот внучки вскоре тоже округлится, как в свое время округлился живот Амалии. Она схватила девочку за волосы так, как прежде ее держала Дора Абен.
Сара потащила внучку в кухню, толкнула ее на стол и навалилась на нее всей тяжестью своего тела. Старушечья рука потянулась за ложкой. Руки Сары до сих пор хранили шрамы, оставленные большой кухонной ложкой на длинном держаке. Покойница мать пребольно била ею свою дочь по костяшкам пальцев, когда девочка роняла яйцо, проявляла строптивость либо нерадение. Она попустительствовала дурным наклонностям Амалии, и это в конце концов привело к ее гибели. Эвангелина билась под ней. Бабушка Виссер схватила тяжелую ложку, висевшую на колышке на стене и как бы ждавшую своего часа, когда вновь придется усмирять плоть во гневе.
– Избави нас от своеволия плоти!
Рука старухи поднялась, уподобившись туго натянутой тетиве, и резко опустилась. Ложка ударила по телу. Эвангелина забилась от боли. На месте удара плоть покраснела. Удары с чмокающим звуком сыпались градом. Ее били за реку, за Вилли Абена, за мать и отца, которых она не знала. Ее били за заколки в ее волосах, за грязь под ногтями, за израненные ноги…
Стараясь защитить руками лицо, девушка не видела бабушкиных слез, не видела страха и горя на ее лице.
Ее били за разрезанную шнуровку; за то, что она так напугала кур, что они перестали нестись; за бегство через окно украдкой; за неряшливый вид… Каждый удар сопровождался взыванием к Господу Богу. Сара просила у Всевышнего прощения за то, что ей не хватило сил сделать из внучки добродетельную женщину.
Саре Виссер было от чего устать. Она рано похоронила мужа и дочь, и ей в одиночку пришлось воспитывать неблагодарную, взбалмошную внучку. В то время как Эвангелина расцветала, Сара Виссер увядала. Ее волосы поседели и поредели. Теперь на голове старушки от двух пышных кос остались крысиные хвостики. Ее лицо вытянулось, а внутренний огонь под морщинами и слоем жира почти погас в ней. Рука ослабела. Старуха тяжело дышала…
Рука Эвангелины взметнулась вверх. Кипя от дикого гнева, внучка вырвала ложку из бабушкиной руки. Силы наполнили ее тело. Во рту девушка почувствовала вкус воды. Тяжелая ложка словно бы срослась с рукой, стала ее продолжением. Эвангелина с силой оттолкнула бабушку, да так, что та рухнула на пол, который они подметали и отскребали утром. Рука девушки снова взметнулась вверх. Удар был сильным и стремительным. Эвангелина не могла поверить, что ударила бабушку, но потом она уже не могла остановиться.
Бабушка Виссер визжала от боли. Ложка ударила ее по губам. Рука внучки взлетала и обрушивала на голову бабушки удар за ударом, словно в душе у Эвангелины бушевал священный огонь.
Девушка не слышала, как бабушка ее молила:
– Остановись! Не надо, родная! Пожалуйста!
Тело девушки звенело. Каждое сухожилие, каждый сустав помнили почерневшие колени после многочасовых стояний на них, синяки на ребрах от тугой шнуровки, душевную боль, вызванную запретом купаться в реке.
Ложка свистела, рассекая воздух, пела, призывая Эвангелину выпустить зверя. Мерзкий звук раздался, когда ложка угодила старушке по горлу. Глаза бабушки Виссер округлились, словно у напуганной крольчихи. Ложка упала на пол. Лицо старухи налилось кровью. Слезы хлынули из глаз внучки, словно она только что разбила глиняный горшок с варевом. Ее охватила паника. Эвангелина отшатнулась от Сары, которая безуспешно пыталась вдохнуть, но не могла. Живот бабушки вздымался и опадал в агонии. Лицо побагровело. Старуха смотрела на внучку полными ужаса глазами.
Эвангелина попыталась поднять бабушку с пола. Извинения извергались из ее рта с таким же жаром, с каким Сара Виссер заставляла свою внучку читать молитвы. Старушка вцепилась в руку Эвангелины. Их сцепленные тела привалились спинами к печи. Из горла старухи вылетал свист. Она безуспешно старалась дышать. Эвангелина гладила ей щеки и умоляла дышать. Голова бабушки Виссер завалилась набок. Одна из тощих косичек упала на грудь.
Обняв бабушку за плечи, Эвангелина принялась ее трясти.
Сара Виссер схватила внучку за руку.
Эвангелина почувствовала, как жизнь покидает старческое тело. То, что недавно на нее нашло, отступило. Когда Эвангелина была маленькой, бабушка научила ее сметочному и обметочному швам, «вспушке» и прочим стежкам. Она вспомнила, как руки бабушки обнимали ее. Костяной наперсток на ее пальце. Игла протыкает муслин. Свежий запах, исходящий от рук после замешивания теста…
Тепло покидало тело бабушки Виссер. Эвангелина, которую бил озноб, попыталась согреться, прислонившись спиной к железной печи. Она плакала. Прежде девушке казалось, что злость почти полностью изжила из ее души любовь к бабушке, но теперь прежняя привязанность билась, словно бушующий прибой, в ее сердце.
Петух прокукарекал, когда рассвет заглянул в кухню через щелку в двери. А затем ею завладела одна-единственная мысль: «Бежать!»
Эвангелина вылезла через окно, пересекла гумно и нырнула в высокую траву, а потом бросилась со всех ног в сосняк. Она бежала по оленьим тропам. Когда живот скрутило, девушка стала надавливать большим пальцем на ссадину на своем теле до тех пор, пока боль не превратилась в пламя, которое выжгло все, за исключением лютой потребности в беге.
«Найди воду, следуй за течением воды, – пронеслось в голове. – Все будет хорошо».
Она побежала к реке Гудзон, чтобы уплыть в ее водах подальше от трупа пожилой женщины, которая вырастила и воспитала ее. Она бежала до тех пор, пока ее ноги не принялись молить об отдыхе. Когда Эвангелина испытывала жажду, она пила из реки и вода наполняла ее тело жизнью.
Она бежала вдоль берега Гудзона на юг. Она не знала, куда бежит… Главное, чтобы подальше…
«Эва… Ангел… Зло… Я убийца», – звучало в ее голове.
Эти мысли преследовали ее.
В это время года бродячему цирку Пибоди вместе с немым помощником прорицательницы следовало двигаться на север. Вечером того же дня Пибоди на полях своего журнала записал, что козы дали кислое молоко.
Глава 7
14 июля
Вот оно! Никаких сомнений не оставалось. Она утонула 24 июля 1937 года.
Тело Селины Дувел, артистки цирка Марво, было найдено в субботу в водах близ побережья Оушен-Сити. Предположительно женщина покончила жизньсамоубийством. Дувел оставила после себя дочь Верону Бонн. Заупокойнаяслужба не запланирована.
Эта небольшая заметка в «Дейли Сентинел-Леджер» имела ошеломляющее продолжение. Рядом с ней лежала распечатка с микрофиши, воспроизводящая некролог Вероне Бонн. Ныряющая королева цирка Литтлс-Лайтфорд, моя бабушка, утонула на пляже Мэриленда 24 июля 1953 года, оставив после себя дочь Паулину. Две даты еще могут быть совпадением, но четыре…
Что-то здесь нечисто.
То, что началось как легкая заинтересованность старинным дневником-журналом, превратилось в мрачную одержимость, подогреваемую осознанием того, что женщины в моей семье не только умирают молодыми, но кончают жизнь самоубийством, топятся, причем в один и тот же день – 24 июля. Первого человека, ведшего журнал, разумеется, больше интересовала получаемая прибыль и маршруты следования цирка, чем родословная утонувших женщин. В книге упоминалось множество людей: Амос, Гермелиус Пибоди, девушка по имени Эвангелина, Бенно Коениг, прорицательница, выступавшая под псевдонимом «мадам Рыжкова», и много других. Вот только об их заработках сказано было куда больше, чем об их родстве. Даты иногда указывались, но, что называется, наобум, а двадцать четвертому июля особого значения не придавалось. Пибоди писал лишь о том, что произвело на него впечатление, и, разумеется, понятия не имел, что спустя два столетия безработный библиотекарь будет использовать его записки в качестве важного первоисточника.
Результат работы, проделанной Алисой, очень мне помог: была расчищена дорога для дальнейших изысканий. Она позволила мне пользоваться ее служебным индикационным кодом университета Стоуни-Брук, действие которого Алисе хватило сообразительности вовремя продлить. Это открывало мне доступ к информации, которая в противном случае оставалась бы для меня закрытой. Имело смысл двигаться от более ранних событий к более поздним, поэтому я начал с матери. Газетная статья, посвященная ей, сопровождалась фотографией в самом верху. Заостренные, правильные черты лица. Иссиня-черные волосы. Холодная красота. Несмотря на то что о матери у меня сохранились самые теплые, радостные воспоминания, судя по фотографии, счастливым человеком она не была. А ведь я никогда не задумывался об этом. Очень больно вдруг осознать, что кто-то может счесть жизнь с тобой нестерпимой. Я был свободен и проводил дни в поисках информации из открытых источников, искал среди подшивок газет и журнальных вырезок. И вот теперь я взирал на заметку в «Дейли Сентинел-Леджер» и очень нервничал.
Одиннадцатый час. Алиса уже должна была мне позвонить и отчитаться о проделанной работе. Как раз в это время она садится за свой стол и перебирает бумаги, складывая их в идеально ровные стопки. Кладет ручки туда, где им и следует лежать… Я позвонил.
– Это я.
– Не могу долго с тобой говорить. Компьютерный глюк. Сейчас никто ничего не может найти. Проверяют книги на полках, и, кажется, кое-каких книг не хватает.
Я взглянул на две, украденные лично мной. Будь я более порядочным человеком, неизбежно ощутил бы угрызения совести.
– Возможно, дело в устройстве считывания штрихкодов.
– Или в каталоге… Зачем ты звонишь?
– Тебе не кажется странным, что я почти ничего не знаю о своей семье?
– Что в этом удивительного? Странности свойственны вашей семье. Чего стоит только то, как родители назвали твою сестру. Разве мыслимо так бесчеловечно поступить с ребенком?
– Согласен.
Узнав об атомной бомбе, я уже не смог относиться к родителям и сестре по-прежнему.[5] Однажды я задал отцу прямой вопрос. Он ответил, что мама всегда старалась возродить красоту из боли. Если что-либо ужасное проистекло из чего-то хорошего, следовало вернуть ему изначальную красоту. Попытка сделать это за счет сестры потерпела неудачу. Я так и не осмелился спросить, в честь кого назвали меня.
– Я обнаружил кое-что странное даже по меркам моей семейки. Ты помнишь тех женщин, информацию о которых искала для меня? Так вот, они умерли двадцать четвертого июля, как и моя мама. Все женщины в моей семье умирают в один и тот же день – двадцать четвертого июля.
Повисло молчание. Алиса приставила телефонную трубку к другому уху. Зашуршали бумаги. Мне показалось, что она наводит порядок в лотке для писем.
– Не знаю, что и сказать, – наконец раздался ее голос. – Депрессия… Депрессия способна разрушить семью. Если же за дело взялось сезонное аффективное расстройство, то один или два совпадения не выглядят такими уж невероятными.
– Не исключено.
Вот только сезонное аффективное расстройство поражает человека зимой, когда дни короткие и мало света.
– Ты собрался сходить с ума?
– Пока нет. Я рассылаю свои резюме и звоню людям…
Правда заключается в том, что, когда ты безработный, твои воля и разум размягчаются, а время превращается в мутный поток. Испытываемая раньше потребность вставать на рассвете сменилась безразличием. Теперь я мог позволить себе валяться на диване хоть до полудня. Когда все время мира принадлежит тебе, ты ничего не успеваешь. Я заслужил отдых. Я работал без отпуска лет с шестнадцати. Две недели отдыха меня не могут убить. Но я чувствовал, что еще немного – и безделье все же меня доконает. Я позвонил либо отправил письма по электронной почте во все библиотеки на восточном побережье, информируя о том, что на рынке труда появился еще один соискатель. Я напомнил им обо всех, пусть даже самых ничтожных услугах, которые я им оказал за минувшие годы. Помощник с опытом оформления документации для получения грантов. Специалист по проведению специфического ремонта. Ничего больше. Молчание тоже может изматывать. Место межбиблиотечного координатора в Коммаке… Не совсем по моему профилю, однако кто знает? На прошлой неделе я отправил свое резюме еще по одному адресу. Сопроводительный звонок запланирован на завтра.
– Пришел компьютерщик, – сказала Алиса. – Должна идти. Сегодня в восемь.
– Хорошо. Пока.
Когда Алиса повесила трубку, я, как ни странно, почувствовал себя никчемным и всеми забытым. Мне нужно чем-то заняться. Я проверил, как дела в Джорджии. Архив Сандерса-Бичера все еще искал человека. Я набрал телефонный номер прежде, чем осознал, что же я делаю. Голос женщины был суховатым и сладким, словно безе. Она назвалась мисс Энн. Я сообщил ей, кто я такой, и спросил, каковы обязанности хранителя.
– У нас совсем небольшая библиотека, мистер Ватсон, – сказала мисс Энн. – Сфера нашей деятельности – то, что мы здесь называем региональной персональной социологией. Себя мы привыкли считать в каком-то смысле художниками. Наш долг состоит в том, чтобы принять переданные нам материалы и вплести их в общую картину. Этим занимаются наши хранители.
– Я не могу ручаться, что у меня есть талант художника, но работать с архивными документами я умею.
Энн рассмеялась.
– Извините, но я предпочитаю цветистые сравнения. Я очень люблю Сандерс-Бичер. Здесь царит особая, совершенно исключительная атмосфера.
– Понятно. – Я сожалел, что не смог сказать что-нибудь остроумнее.
– У нас, между прочим, есть черновик конституции. Не настоящий, но очень талантливо изготовленная подделка. Она попала в наш архив вместе с другими документами из замечательной коллекции, собранной местной знаменитостью, бывшим фальшивомонетчиком. У Исторического общества штата Джорджии есть один из подлинных текстов конституции, но лично мне наш нравится куда больше. – Откашлявшись, Энн продолжила: – Впрочем, работенка у нас не из простых. Слишком многие обращаются к нам со своими документами. Каждый считает, что его семья особенная, а у нас тут по соседству живет много семей с глубокими корнями. Бывает трудно объяснить человеку, что счета его бабушки от Вулворта не такая уж редкость.
И вдруг на меня снизошло вдохновение.
– Если это не первый счет первого магазина компании, открывшегося в штате, либо если вы не собрались задокументировать типичные расходы домохозяйки в этот конкретный период времени.
Я почти слышал, как мисс Энн улыбается на другом конце линии.
– Из вас получится настоящий художник, мистер Ватсон. Напомните, где вы живете?
– Я вам этого еще не говорил.
Мисс Энн приятно удивило, что человека, живущего недалеко от Нью-Йорка, заинтересовала работа в их маленьком архиве. Ее энтузиазм побудил меня немного повысить себя в звании до хранителя архива, посвященного истории китобойного промысла. После этого телефонного разговора в моей голове засела мысль, что Саванна вполне может стать достойной заменой Напаусета и Лонг-Айленда. Вот только там нет Алисы… А еще вскоре должна приехать Энола.
Я уже клал телефон на место, когда треск дерева прозвучал, словно выстрел из дробовика. Я подпрыгнул на месте. Бумаги полетели с моего стола. Я выждал три… четыре… пять секунд, пытаясь успокоиться. Я прошел коридор. Фотографии в рамках теперь висели кривовато на своих гвоздях, но источника страшного треска я пока не обнаружил.
Комната родителей. Трещина на стене, возле которой стоял мамин туалетный столик, тянулась от пола до потолка, прямая, словно резаная рана. Когда я прикоснулся пальцами к трещине, дом словно бы застонал от боли. У меня сохранились туманные воспоминания о том, как я катал по полу в родительской спальне игрушечный поезд, а мама при этом что-то напевала себе под нос на французском. Слов я не помнил, а помнил лишь то, что, сидя перед зеркалом, мама заплетала волосы в косу. Надо посмотреть, что происходит в других спальнях.
Спальня Энолы была такой же, как и прежде: запачканное йодом стеганое одеяло, выбоина в стене над ее кроватью, стол, на котором лежат изгрызенные до грифеля карандаши… Дверь моей спальни приоткрыта. Или дерево разбухло, или раму перекосило? Ничего подобного, но закрываться дверь все равно не желала. Черт побери! Я почти никогда здесь не сплю. Можно будет перенести мои вещи в гостиную, пока дверь не починят.
Три охапки одежды из шифоньера. Стопка книг. Две подушки. Еще простыни и летнее покрывало. Теперь гостиная превратилась в спальню и кабинет одновременно, а я – в беженца в собственном доме. Ничего другого не остается… Придется позвонить Фрэнку. Я бы предпочел не звонить, но Алиса пока ничего не рассказала отцу. А еще я попросил ее не говорить Фрэнку о том, что я теперь безработный. Во-первых, безработный я временно, а во-вторых, я знаю, каким заботливым Фрэнк иногда может быть. Мы с Алисой все это время вели себя крайне осторожно. Мы до сих пор не знаем, куда нас все это заведет.
Фрэнк поднял трубку после пятого звонка и тотчас же начал в своем духе:
– Так долго оставлять дом без сливного желоба нехорошо. Вода, которая льется с крыши, сейчас разрушает фундамент.
Я едва сгоряча не выпалил соседу, что сплю с его дочерью. Чудненько получилось бы. Теперь же, когда я с ним буду говорить, вид ног Алисы, обвивающих мое тело, будет неотступно меня преследовать.
– Да, конечно. Я немного повозился с желобом, но он очень погнулся. Карниз также ремонтировать надо. Мне кажется, дом проседает. В стене спальни моих родителей появилась трещина.
Фрэнк тихо присвистнул.
– Я вскоре кого-нибудь пришлю. Надеюсь, ты знаешь, как заделывать трещины?
– Что-то подсказывает, что лучше мне в это дело не соваться.
– Понятно. Надо будет кого-нибудь нанять.
За фасадным окном дома темные волны с грохотом разбивались о берег, высоко подбрасывая белоснежную пену.
– Саймон! Мне очень неприятно, что дом доведен до такого состояния. Больше мешкать нельзя. Дом слишком близко стоит к воде. Дома сами по себе не ремонтируются.
Меня задели его слова. Как будто я сам не вижу, до какого состояния он доведен! Как будто не я, а кто-нибудь другой лазит по крыше и заделывает слабые места, чтобы меня не заливало. Дома сами по себе не ремонтируются, но для ремонта нужны деньги.
– Я все понимаю.
– С тобой все в порядке? – спросил Фрэнк.
– Да, просто устал. Могли бы вы прислать кого-то? Пусть осмотрит дом. Я не знаю, с чего начинать.
Я взглянул на журнал Пибоди. Развернут он был на подробном, в половину страницы рисунке карты Таро. Дьявол был нарисован светло-коричневыми чернилами. Одет он был как придворный сановник. Копыта выглядывали из-под коротких панталон. Курчавая бородка. Дьявол улыбался. В руках он зажал концы цепей, к которым за шею были прикованы мужчина и женщина.
В «Принципах прорицания» сказано, что эта карта не столько предвещает зло, сколько говорит о тайне, отсутствии необходимых знаний и о неизвестных закономерностях. Дьявол в «Принципах прорицания» мрачен и грозен. Дьявол в моем журнале не выглядит таким уж чудовищем. С этим парнем можно, в принципе, выпить пива. Если Пибоди так изобразил карту мадам Рыжковой, мне бы хотелось знать, что это был за человек, ведь у него такое своеобразное восприятие зла. Было бы не лишним приглядеться к мадам Рыжковой и прочим людям, чьи имена упоминаются в журнале. Коениг, Мейксел… Чем сложнее картина мира, тем легче мне будет отыскать невидимую связь, добраться до самого корня проблемы. Я должен схватить Дьявола за хвост.
– У меня есть такой человек на примете, – сказал Фрэнк. – Надо будет узнать, свободен ли он на этой неделе. Послушай… Извини, что накричал… Просто твои родители очень любили этот дом.
Я ему верил, вот только после смерти мамы папа палец о палец не ударил, чтобы здесь хоть что-то починить.
– Знаю.
Я поблагодарил Фрэнка, а потом услышал шорох шин на гравийной дорожке. Знакомый звук. Шины, как я и предполагал, принадлежали ржавому голубому «олдсмобилю». Энола вернулась домой.
Когда дверца автомобиля распахнулась, я уже стоял рядом. Сестра выпрыгнула из машины. Как она себе еще все кости не переломала? Я раскрыл свои объятия, и Энола бросилась на меня. Несколько секунд, испытывая полное, действительно полное счастье, я держал ее в своих объятиях, высоко поднимая над землей. От нее неприятно пахло долгой дорогой, а еще спиртным. Она пыталась вырваться, махала своими ногами, даже угодила мне головой по подбородку, но эти секунды все равно были просто замечательными.
– Саймон! У тебя убитый видок.
У Энолы слегка заплетался язык.
– От тебя пахнет, как в пивной.
– Иногда попиваю.
Она засмеялась, но как-то неестественно. Наконец ей удалось выскользнуть из моих объятий.
– Ты вела машину в таком состоянии?
– Судя по всему, вела.
Энола медленно поворачивала голову, оглядывая дом. Нос с шумом вобрал морской воздух.
– Ну, вот я и приехала. Можно мне войти или придется весь день здесь проторчать?
– Конечно входи. Это и твой дом, – сказал я так, словно все это время только тем и занимался, что берег его к возвращению сестры. – Есть хочешь?
Я оглядел сестру с ног до головы. Одежда висела на ней мешком. Длинная цветастая юбка в стиле хиппи… Мешковатая толстовка с капюшоном, скорее всего мужская, из-под которой виднелась футболка с маленькими дырочками, словно ее попортила моль. А под всем этим – моя сестра.
Пожав плечами, Энола рывком распахнула сетчатую дверь-ширму, а затем с такой силой захлопнула ее за собой, словно хотела оставить за ней и меня, и машину, и все, что ее тревожило. Я поискал ее вещи. На заднем сиденье лежала куча упаковок из-под еды на вынос, бутылки из-под газированной воды и жестянки из-под пива. Пол устилали спичечные коробки, собранные, казалось, во всех барах, расположенных вдоль побережья. На заднем сиденье, помимо прочего, свалены были электрические лампочки. Дорожных сумок нигде видно не было.
– А где твои вещи? – крикнул я вслед сестре.
– В багажнике. Не волнуйся, я много с собой не взяла, – крикнула мне в ответ Энола.
– Долго здесь не задержишься?
Захлопнув дверцу машины, я зашел в дом.
– Еще не знаю.
Услышав, как сестра ругается, я пошел на ее голос. Послышался звук рвущейся бумаги. Энолу я застал склонившейся над журналом Пибоди. Сестра с остервенением рвала страницу с рисунком, на который я только что смотрел.
– Прекрати! Зачем? – крикнул я.
Сестра увернулась. Обрывки бумаги усыпали пол.
– Ты хоть понимаешь, сколько этой книге лет?
– Зачем ты оставил ее открытой? Нельзя оставлять такие книги лежать открытыми!
Ее глаза сузились.
– Ты не можешь рвать все, что тебе хочется. Книга моя!
– Откуда она у тебя? Кто дал тебе эту пакость?
Сестра в доме всего несколько минут, а мы уже ссоримся. Ничего удивительного в том, что в свое время она отсюда уехала.
– Букинист дал мне ее.
Я сразу же понял, как глупо это прозвучало. Люди ни с того ни с сего не отдают старинные книги.
– Как просто! Это же очевидно!
Сестра со всего маху плюхнулась в серое кресло, подняв в воздух облачко пыли.
– Потрудись объяснить. Ты теперь выманиваешь у людей старинные книги?
– Нет.
– А зря…
Я рассказал сестре о посылке и беседах по телефону с мистером Черчварри. Я упомянул Бесс Виссер и сказал, что мама знала эту женщину.
Сестра смотрела на меня глазами внезапно протрезвевшего человека.
После продолжительного молчания она заявила:
– Не верь ему.
Подтянув колени к груди, Энола обхватила лодыжки руками. На запястье сестры я заметил небольшую голубую татуировку. Ее там прежде не было. Маленькая птичка.
– Он безвредный. Мне интересно с ним общаться.
– Ты ужасно доверчивый. Что ему от тебя нужно?
Я оглядел свое жилище. Ни денег, да и вообще ничего ценного.
– Он просто эксцентричный одинокий старик.
– Одинокий, значит. Ты уверен? Он прокрался к тебе в доверие, используя нашу маму. Ты зациклен на ней, поэтому представляешь собой легкую добычу.
Сестра засунула руки глубоко в карманы толстовки. Ее пальцы двигались, поднимая и опуская ткань.
– Она мертва. Ты не сможешь найти ее в этой книге.
– Не все так просто. Из этой книги я узнал кое-что важное: женщины в нашей семье имеют весьма прискорбную привычку умирать молодыми.
Губы сестры дернулись, едва не сложившись в отвратительную гримасу.
О двадцать четвертом июля я умолчал. Есть ограничительные линии, которые не стоит пересекать, когда имеешь дело с Энолой, а я уже вплотную подошел к одной из них.
– Ты не хочешь узнать, в чем тут дело?
– Не хочу, – сказала сестра. – Я просто живу своей жизнью.
– В цирке… Извини, но я одержим памятью о маме.
Мы смотрели друг другу в глаза. Энола первой отвела взгляд и уставилась на свой рукав. Было непросто общаться с ней после стольких лет разлуки. Она может прямо сейчас встать и уехать. Помешать ей я не смогу.
– Как у тебя вообще дела? – спросил я.
– Я голодная.
Сестра ринулась в кухню. Двигалась она как-то порывисто, суетливо. Послышались шаркающие звуки ее шагов по потрескавшемуся линолеуму. С грохотом открывались и закрывались дверцы шкафов.
– У тебя здесь хотя бы что-нибудь съедобное есть? Чем ты питаешься?
– Посмотри в левом подвесном шкафчике. Там же, где и прежде. Третья полка.
Вновь послышался громкий стук.
– Лапша быстрого приготовления! Господи Иисусе! И зачем я только сюда приехала?
– Я тоже теряюсь в догадках.
– И с какой стати ты перетащил свои шмотки в гостиную? Подожди… Почему ты дома? Разве ты не должен быть сейчас на работе?
– Урезание бюджета.
Два страшных по своей силе слова. До этого момента я не произносил их вслух – по крайней мере, при тех, кто еще не в курсе.
– В будние дни библиотека теперь закрыта?
– Открыта, но без меня. Отпущен на все четыре стороны.
Ее руки обвились вокруг моих плеч. Сестра прижалась к моей груди. Так она поступала в детстве всякий раз, когда хотела, чтобы я поносил ее на руках. Как будто она до сих пор во мне нуждается.
– Они идиоты.
– У них просто нет денег.
– Только ты способен находить оправдание для людей, уволивших тебя.
Может, и так.
– Твоя очередь.
– Моя?
Она побежала в кухню и вернулась с брикетом сухой лапши.
– Ты знаешь, почему я не на работе, а дома. Теперь твоя очередь рассказывать.
– Мне захотелось тебя повидать. Давно не виделись.
Это уж точно. Глядя на сестру, я вспомнил, как она, забросив рюкзак на заднее сиденье «олдсмобиля», сбежала из дому.
– Ты поедешь со мной, – заявила Энола, отламывая кусочек сухой лапши и отправляя его себе в рот. – Ты безработный. Карнавальное шоу Роуза, в котором я сейчас участвую, – то, что нужно. Том Роуз хорошо ко мне относится. Он найдет для тебя какое-нибудь занятие.
– Я библиотекарь.
– Бывший библиотекарь. – Ее слова не должны были бы меня уязвить, но уязвили. – Ты хороший пловец. Бак-ловушка для тебя проще простого.
Как она может серьезно говорить такое? Сестра снова плюхнулась в кресло и захрустела сухой лапшой.
– У них уже есть пловчиха.
– Нет. Этим занимался ты с матерью. Я гадаю на картах.
Как будто я не научил ее всему тому, чему обучила меня мама! Я показал сестре, как выпускать воздух и расправлять грудную клетку, объяснил, когда следует позволять весу тела тащить тебя на дно, когда надо улыбаться… Я помнил ее маленькой. Купальный костюм в горошек. Черные, как у мамы, волосы плывут вокруг нее в воде. Сестра улыбается мне из-под воды, а я считаю: «Восемьдесят девять Миссисипи, девяносто Миссисипи…»
– У меня есть кое-какие наметки. Я разослал свои резюме, а завтра буду звонить охотнику за головами. Я со всем справлюсь.
– Будет лучше, если ты поедешь со мной. Я очень волнуюсь за тебя, когда ты один живешь в этом доме.
Сестра огляделась, останавливая взгляд на каждой трещинке, каждой дырке, образовавшихся за время ее отсутствия.
– Иногда я по тебе скучаю.
Я сел на пол. Энола осталась сидеть в кресле. Первый шаг навстречу друг другу.
– Когда ты мне позвонила, то напугала до чертиков. Нагадала себе что-нибудь страшное?
– Я не хочу об этом говорить.
Сестра сунула мизинец в небольшую дырочку на потертой обивке подлокотника кресла.
– Зачем ты перенес свои вещи в гостиную?
– Так проще, тут компьютер… Проще искать работу.
– Чем-то пахнет… В доме всегда так пахло?
– А как, по-твоему, здесь должно пахнуть?
Дом пропах кофе, приготавливаемой в кухне пищей и немного морем. Сестра, не приложив, казалось, ни малейшего усилия, спрыгнула с кресла и приземлилась возле меня ворохом мешковатой одежды. Она подобрала валяющийся на полу листок бумаги и принялась рассеянно сгибать и разгибать уголок. Цирк «Эфемерный», 1981 год. Небольшой отрывок, посвященный прыгунам с вышки. В нем упомянуто имя моей бабушки. Сестра крутила уголок бумаги, зажав его между большим и указательным пальцами так, как европейка обычно делает с сигаретой.
– Прекрати! Ты же приехала сюда не для того, чтобы портить мои вещи?
– Не смотри на меня так. Это никогда не кончится… – начала она, но затем заговорила о другом. – Я разговаривала с Фрэнком. Он считает, что дом может в любую минуту разрушиться.
– Звонила Фрэнку? Зачем тебе понадобилось звонить ему?
– Хотела предупредить его о своем приезде. Хотелось с ним увидеться… Это правда?
– Ты о доме? Не знаю. Возможно.
– Тебе обязательно надо поехать вместе со мной.
Энола, потянувшись, достала книгу, лежавшую на моем письменном столе. «Легенды и стихотворения Балтийского моря». Книга Петера Болоховскиса. В детстве мама читала ее мне. Сестра порывисто раскрыла ее, едва не разорвав переплет.
– Полегче! Хорошо? Эту книгу трудно найти.
Или украсть…
Энола швырнула книгу на кресло, и она раскрылась на иллюстрации, изображающей стоящего у ствола дерева на берегу реки мужчину. Я вспомнил, о чем эта сказка: мужчину соблазнила водяная женщина. Кажется, их называют русалками. Русалками становятся дети и девственницы, которые умирают некрещенными. Во всех культурах мира есть водяные духи: русалки, селки, никси. В Америке мы не придумали для них имени.
– Извини, что я вот так тогда уехала, – сказала сестра.
– Ничего страшного.
– Я видела, как ты стараешься…
– Спасибо.
Энола, обняв меня, склонила голову мне на плечо. Так мы и застыли, глядя на стены, глядя куда угодно, лишь бы не друг на друга. Сестра мотнула головой в сторону книги.
– Сделай для меня кое-что.
– Да?
– Почитай мне вслух. В детстве я очень любила, когда ты мне читал. Когда я выросла, никто мне уже не читал.
В книге Болоховскиса я отыскал сказку «Орел», которую выбрала сестра. Медленно, как мама, я принялся читать Эноле о крестьянской дочери, которая стала королевой змей, и о ее детях, превратившихся в дрожащие на ветру деревца. Во всех сказках хорошее имеет свою цену. Энола слушала меня молча, прижавшись лбом к моему плечу, позволяя запомнить себя такой, какой она была в эту минуту.
Позже, когда солнце уже село, я встал, разминая ноги, стараясь восстановить кровообращение. В ступни словно кто-то вогнал несколько иголок или булавок.
– Я много часов провела за рулем, – сказала Энола. – Голова раскалывается. Я хочу спать.
Я взъерошил ее волосы костяшками пальцев. Теперь у нее на голове был короткий, торчащий во все стороны ежик. Я хотел спросить, зачем сестра коротко подстриглась, но решил, что не стоит.
– В твоей спальне все осталось так же, как было до твоего отъезда.
Энола шаркающей походкой направилась по коридору к себе. Скрипнув, отворилась дверь.
– Ты хоть бы одеяло поменял.
А кто пожелает мне спокойной ночи?
Прищурившись, я смотрел на плохо отпечатавшуюся ксерокопию документа, когда свет автомобильных фар внезапно осветил комнату. Я взглянул на часы. Половина десятого. Я должен был заехать за Алисой в восемь часов… Да, это ее машина. Я видел, как она идет к дому по гравийной подъездной дорожке. На ней были джинсы и футболка. Волосы распущены. Я огляделся. Повсюду были разбросаны мои вещи, книги, упаковки из-под лапши. Блин!
Я встретил Алису, стоя в проеме двери и опираясь спиной о притолоку. Ребро бруса врезалось мне в спину. По всем правилам полагалось пригласить гостью в дом, но ее квартирка, в отличие от моего дома, опрятная, а на кровати лежит целая гора подушек.
– У меня совершенно вылетело из головы. Прости.
Она вертела в руке связку ключей, а затем хлопнула ладонью себя по бедру.
– Ты извинился. Принято.
– Пять минут – и я буду готов.
– Чья это машина?
Алиса указала на «олдсмобиль».
– Энола сегодня приехала. Мы так заговорились, что я не обратил внимания, который час.
– Она вернулась?
Алиса стояла, скрестив руки на уровне талии, слегка покачиваясь с носков на пятки. Все, что моя подруга знала об Эноле, рассказал ей я, либо это были уж совсем давние воспоминания. Надоедливая, эгоистичная, инфантильная и немного сумасшедшая. Должно быть, я сам говорил это Алисе в свое время.
– Мне следует пойти поздороваться с ней, – глядя на окно дома, произнесла моя гостья.
Я сказал, что Энола спит. Алиса вопросительно приподняла брови:
– Хочешь, чтобы я зашла?
– Нет… Да… Она сейчас спит. Я бы хотел, чтобы ты зашла, но в доме ужасный беспорядок. Мои вещи раскиданы повсюду. Я уже готовился ко сну…
Алиса улыбнулась.
– Я тоже хочу спатки.
– Хорошо.
Женщина проскользнула мимо меня прежде, чем я успел передумать и остановить ее.
Стоя посреди гостиной, Алиса медленно окинула ее взглядом – так, как обычно делают люди, попав в картинную галерею. При каждом шаге с ее резиновых шлепанцев на пол сыпался песок. Клочки бумаги, разбросанная одежда, трещины на стенах, ходящие ходуном под ногами половицы… Я от досады укусил себя за костяшки пальцев.
– Ой-йо-йой! – вырвалось у Алисы.
– Да уж. Я бы предложил тебе где-нибудь присесть, но, думаю, лучше будет пойти в кухню.
– Не надо. Все в порядке.
Алиса заглянула в коридор. В него выходили три двери: спальни сестры, моей спальни, куда уже не положишь ни себя, ни гостью. За третьей дверью находилась спальня покойных родителей. Нам придется обойтись диваном, как-то сдвинув в сторону мою одежду и книги.
– На работе ты всегда был сама аккуратность.
– Эскапизм[6], полагаю.
Алиса рассмеялась. Слава богу! Я предложил поехать к ней.
– Только мне на переодевание нужно минут пять.
Моя гостья сказала, что не стоит беспокоиться.
– К тебе приехала сестра. Вы долго не виделись.
На крыльце она довольно сдержанно чмокнула меня в губы. Из-за чего это? Из-за того, что она увидела мое жилище, или дело в том, что ее родители живут напротив, через улицу? А на крыльце их дома горел фонарь. Я снова перед ней извинился. На этот раз Алиса взяла меня за руку и слегка ее сжала. У нее на коже между указательным и большим пальцами есть местечко, отполированное множеством прикосновений к удочке. Искра страсти пробежала между нами. Мы стояли, не отрываясь друг от друга целую минуту.
– В следующий раз обязательно позвони, – сказала она.
– Позвоню.
Я стоял на крыльце до тех пор, пока ее автомобиль не скрылся за поворотом.
Сев за компьютер, я отправил свое резюме на соискание должности в архив видеозаписей. Не совсем по моему профилю, но попытаться стоит. Через какое-то время резюме вернулось обратно. Место уже занято. Этого следовало ожидать. Я слушал, как волны разбиваются о скалы близ побережья. Мысли мои вертелись вокруг Алисы, сползающего в море дома, в котором я живу, и женщин-утопленниц. Я пытался заснуть, но не смог. Смирившись с этим, я занялся бумагами.
Чуть позже из спальни Энолы до моего слуха донеслось едва уловимое шуршание. Я отложил бумаги в сторону и заглянул в комнату сестры.
– Эй, ты не спишь?
Энола сидела, скрестив ноги, на полу посреди комнаты. Она ссутулилась и слегка покачивалась из стороны в сторону так, словно впала в молитвенный транс. Перед ней были выложены в линии карты Таро. Энола с необыкновенной быстротой, словно карточный шулер, выложила перед собой еще шесть рядов по шесть карт в каждом. Карты мелькали, словно рябь на поверхности воды. Как только последняя карта легла на свое место, Энола тотчас же одной рукой сгребла их все, перетасовала и снова начала раскладывать.
– Энола…
Сестра никак не отреагировала. Она продолжала упражняться, хотя в этом не было никакой необходимости. Каждое ее движение было выверено, словно у балерины. Колода карт была очень потертой. Рубашки потускнели и пожелтели. В прошлом, скорее всего, они были оранжевыми или, возможно, красными, но сейчас об их первоначальном цвете можно было лишь строить предположения. Уголки карт загнулись и пообтрепались. Старый картон. Такой нельзя хранить в сыром месте. Оттуда, где я стоял, видно было плохо, но мне показалось, что лица нарисованы несколько грубовато. Может быть, ручная работа. Сестра с меланхолическим видом вновь собрала карты. Я наблюдал за тем, как она совершает одно и то же действо. Разложить – собрать, разложить – собрать… Она напоминала человека, страдающего маниакальным синдромом. Казалось, она ничего вокруг не замечает.
Я вновь позвал сестру. Она меня не услышала. Она меня не видела.
Я прикрыл за собой дверь. Вернувшись в гостиную, я засел за «Принципы прорицания» и тут неожиданно вспомнил, где уже видел такое. Мама сидела за квадратным, окантованным металлом кухонным столом, а папа молил ее прекратить и идти спать. Мама же, раскачиваясь на стуле, упорно продолжала раскладывать карты. Карты со свистом рассекали воздух. «Паулина, – шептал папа, – пожалуйста».
Что-то явно не так с Энолой.
Я вышел с телефоном из дома. Ночь была теплой и душной. Он ответил после шестого звонка.
– Саймон! Святые небеса! Уже поздно!
– Извините, – произнес я.
– Ничего, минуточку…
Я слышал, что он перед кем-то извиняется. Потом женский голос что-то пробормотал в ответ. Должно быть, это его жена. Приглушенные шаги. Скрип открывающейся и закрывающейся двери.
– Что случилось?
– Я кое-что нашел.
– Что?
– Это касается моей семьи. Мне кажется, в журнале упомянуты имена кое-кого из моих предков. И еще. Они умерли… Ну конечно, все когда-нибудь умирают, но они умерли очень молодыми. На протяжении нескольких поколений все женщины моей семьи тонули.
Повисла тишина. Я слышал плеск волн, стрекотание цикад, шум крови у меня в ушах.
– Мартин! Вы ведь знаете, что моя мама покончила жизнь самоубийством?
– Она утонула, – помолчав, произнес Черчварри.
– Так же, как и ее мама, и мать моей бабушки, и так далее.
– Я… Э-э-э…
Похоже, у старика сбилось дыхание.
– Сегодня ко мне приехала сестра. Она ведет себя точно так же, как мама.
После недолгого молчания Черчварри сказал:
– Полагаю, что под впечатлением прочитанного вы сильно этим обеспокоились. Извините.
Светало. На рассвете даже невозможное кажется возможным. Столько женщин, которые утонули…
– Я предпочитаю верить не в проклятия, а в факты, – произнес я.
Тихий глотательный звук, донесшийся до моего слуха через тысячи миль расстояния.
– Конечно, – быстро отозвался Черчварри. – Однако, если появляются определенные доказательства, расследование не помешает.
– Мне кажется, что во всем повинны сезонная депрессия и низкий уровень серотонина.
– Вполне вероятно, – поддакнул букинист.
– В любом случае мне бы хотелось узнать, с чего все началось, если у этой истории вообще есть начало.
– Да, разумеется.
– Если, конечно, вообще это можно узнать.
Черчварри и на этот раз со мной согласился. Я чувствовал себя так, словно мы оба топчемся на одном месте, ожидая, что другой возьмет инициативу в свои руки.
– Если вы полагаете, что я смогу быть вам полезен… – начал он первым.
– Сколько времени вы занимаетесь книгами?
– Отец открыл магазин, будучи еще совсем молодым, так что мы уже довольно долго в этом деле.
– Значит, вы знаете людей, которые могли бы выяснить для меня кое-что такое, чего я сам выяснить не смогу?
Букинист откашлялся.
– Саймон! Я как раз и есть тот человек, к которому люди обращаются, если хотят добиться невозможного. Я с удовольствием помогу вам в ваших поисках. Для меня это будет сродни приключению. Кисмет[7].
Вот только особой радости в его голосе не было.
Работы предстояло много. Следовало узнать все, что возможно, о Гермелиусе Пибоди, первом владельце журнала. Что его связывало с Бесс Виссер, Рыжковой и картами Таро? Какое отношение имеет ко всему этому мальчик-дикарь?
– Мне кажется, пришло время кое-что узнать о проклятиях, – произнес я.
Где-то на периферии моего слуха шелестели карты, порхая в пальцах сестры… Тихое, едва слышимое шуршание.
Четырнадцатое июля. Осталось десять дней.
Глава 8
Водный номер оказался сродни пытке: ты тонешь, но утонуть не можешь. Однако Эвангелина была согласна на все. Когда немой молодой человек привел ее к Гермелиусу Пибоди, она подозревала, что добром это не кончится, но глаза юноши источали столько тепла, когда он коснулся ее руки, что девушка безропотно за ним последовала.
После Кроммескилла с его скромно одетыми жителями Эвангелина испытала потрясение, столкнувшись с Пибоди и познакомившись с его манерой обхождения. Она не знала, на чем остановить свой взгляд: на пышном наряде пожилого мужчины, на роскошном убранстве фургона либо на молодом человеке, чьи волосы были повязаны темно-красным, почти фиолетовым, платком.
– Какая удача! Что за удивительное создание! – пророкотал Пибоди, осмотрев девушку с макушки до кончиков пальцев ног.
Под пристальным взглядом мужчины ее ноги, казалось, приросли к доскам пола. В конце фургончика молодой человек присел на небольшую замысловатую кровать, которая откидывалась, прикрепленная к стене. Его взгляд тоже ни на миг не отрывался от девушки, вот только юноша вселял в ее сердце успокоение.
– Эвангелина! Так, значит. Красивое имя. Да, его стоит сохранить.
Пибоди схватил перо и поднес его к переплетенной в кожу книге. Его голова качнулась в сторону второго обитателя фургона.
– Ты уже познакомилась с Амосом?
– Да.
Мужчина принялся мерить шагами фургон. Это было не так уж просто. Мистеру Пибоди пришлось немного ссутулиться, а его облаченный в бархат локоть зацепил руку девушки.
– У тебя вид человека, спасающегося от кого-то бегством.
– Нет, сэр, – отозвалась Эвангелина.
– Из тебя никудышная лгунья, – тряся животом, рассмеялся Пибоди. – Даже мне приходится временами пускаться в бега. У тебя есть семья?
– Никого, о ком стоило бы упомянуть.
Пибоди ухмыльнулся в усы.
– Замечательно. Мы все здесь сироты. Возьмем, к примеру, этого молодого человека. – Хозяин цирка указал рукой на Амоса. – Ни одного родственника. К тому же бедолага нем. Что же до меня, то моя матушка отошла в мир иной много лет назад и теперь, надеюсь, пребывает около Всеблагого Господа нашего.
Мужчина заученно раскланялся самым галантным образом.
Оказывается, юноша немой. Эвангелина помнила, как осторожно он к ней прикасался. Ладони его были грубыми, словно у фермера. Он смотрел на нее со сдерживаемым любопытством.
– Что ты умеешь, дорогуша? – спросил Пибоди.
– Я?
– Мы все кое-что да умеем. Хотя мы весьма рады появлению в нашем обществе столь милой девушки, мы, если говорить начистоту, занимаемся здесь бизнесом. – Пибоди запнулся на последнем слове и продолжил, растягивая слова: – Каждый обязан вносить свою лепту. Лично я ежедневно решаю возникающие проблемы, намечаю маршруты следования, обращаюсь с речью к публике, когда в этом возникает потребность, и делаю все возможное для получения максимальной прибыли. Амос – ученик прорицательницы, а временами становится нашим дикарем.
Краска стыда залила лицо молчаливого юноши. Амос опустил глаза на свои босые, покрытые грязью ноги.
– Хотя я человек великодушный, я просто не в состоянии принять кого-либо бесполезного, того, кто не сможет зарабатывать деньги. Итак, дитя мое, что ты умеешь делать?
«Я убиваю. Я убийца».
Девушка закусила губу и вспомнила, что бабушка Виссер рассказывала о ее крещении в холодной воде.
– Я могу долго задерживать дыхание, когда плаваю.
Седые брови взметнулись под изогнутые поля шляпы.
– Многие умеют плавать.
– Но я, сэр, не тону.
Легкая улыбка.
– Замечательно! – записав что-то в книге, заявил Пибоди. – Хорошо, что ты красивая. Непотопляемая красавица. Русалка… Просто замечательно! – мурлыкал он себе под нос. – Отлично. Молодой человек проследит, чтобы тебя здесь устроили как полагается. Мы просто не можем разбрасываться такой редкостью.
Той же ночью Пибоди обдумал множество способов, которые позволили бы эффектно представить русалку публике. Не стоит ограничиваться тем, что девушка станет надолго задерживать дыхание. Нужна вместительная емкость, достаточно большая, но такая, чтобы ее легко было перевозить. Что-то вроде большой бочки объемом в хогсхед[8], но невысокой, не больше тех бочек, в которых бродит вино. А еще эта бочка должна легко разбираться на случай, если девушка окажется не такой сноровистой, как о себе рассказывает. Пибоди что-то писал и рисовал в своем журнале, пока не догорела последняя свеча и фургон не погрузился во тьму.
Пибоди нашел в Тарритауне одного бондаря-шотландца. После приватного выступления Мелины сошлись на приемлемой цене. Сделанная бондарем лохань была незамысловата, но вполне устраивала Пибоди. Бондарь с помощью молотка просто-напросто скрепил несколько клепок обручами так, что внутри можно было свободно плавать, а стоящие сбоку люди видели, что в лохани происходит.
Пока цирк стоял лагерем, дожидаясь, когда заказ будет выполнен, Пибоди поручил Бенно сколотить несколько невысоких лавок, на которые смогли бы усесться до десяти человек. Прибегнув к помощи Амоса, Бенно изменил первоначальное предназначение дорожных сундуков, в которых хранились цирковые костюмы, и корыт для стирки белья, превратив их в надежные подпоры.
После обеда, махая молотком, Бенно заметил Амосу:
– Русалка очень красивая. Я заметил, что она на тебя то и дело посматривает.
Тот согласно закивал.
Бенно ударил молотком по долоту. Полетели мелкие щепки.
– До Мелины ей далеко, но девушка однозначно премиленькая.
Закрепив доску, Амос склонил голову набок. Со времени появления в лагере Эвангелины он и думать перестал о Мелине.
– Тебе повезет, если она у нас задержится.
Что-то сжалось в груди Амоса. Он понятия не имел, как назвать это щемящее чувство. Парень пожал плечами.
– Слишком губу не раскатывай. Еще неизвестно, сколько она у нас пробудет. С другой стороны, только представь, какое у Сюзанны гибкое тело!
Амос не отрываясь смотрел на доску. Ему не хотелось ничего отвечать своему другу. Перестать думать об Эвангелине он просто не мог.
Воду в лохань носили ведрами все члены труппы. Не работали только Пибоди и мадам Рыжкова. Их старые спины и руки просто не выдержали бы такой нагрузки. Пибоди следил за ходом работ, давал указания, руководил, в то же самое время придумывая вступительную речь к новому номеру.
Эвангелина будет русалкой из давно затонувшей Атлантиды. Чудо таинственных океанов и тайна морей. В порыве нетипичного для него хвастовства Пибоди заказал местному живописцу, рисующему вывески, намалевать несколько афиш, изобразив Эвангелину с длинным рыбьим хвостом.
На замечание девушки, что никакого хвоста у нее нет и люди будут разочарованы, Пибоди ответил:
– Ты красива. Все остальное не важно, если ты сможешь подолгу задерживать дыхание и плавать под водой.
Пибоди настоял на том, чтобы Эвангелина надела на себя длинную белую сорочку, которая прилипнет к телу, когда девушка погрузится в воду.
Первая часть номера прошла безукоризненно, девушка главным образом плавала. Впрочем, из-за прилипающих к спине мокрой ткани и волос плавание на спине было затруднено, но Эвангелина справилась. Когда она остановилась, улыбнулась зрителям и помахала им рукой, Пибоди рассказал публике о таинственности ее происхождения.
Взмахнув рукой, хозяин цирка хлопнул ладонью по краю лохани и скомандовал:
– Ныряй!
Выдохнув, девушка опустилась на дно лохани. Подол рубахи развевался в воде. Голос Пибоди долетал до ее слуха сквозь водную толщу. Он предложил собравшимся, если те пожелают, считать, а сам произнес долгую мрачную речь.
– Ужасы и мучения океанской бездны, добрые леди и остальные мягкосердечные зрители! Вот что выпало на долю этой хрупкой девушки! Бедное создание! А вы бы выжили, доведись вам испытать такое? – В этом месте Пибоди указал пальцем на самого маленького мальчика среди зрителей и продолжил: – А ты, добрый малый, выжил бы, окажись на ее месте?
Под водой Эвангелина оказалась один на один со своим страхом. Когда она закрывала глаза, то представляла себе, как разбитые в кровь губы бабушки Виссер вопрошают ее, зачем она это сделала. Вода немилосердно давила ей на живот и грудную клетку. Казалось, что это руки старухи сжимают ее. Старческий голос молил: «Пожалуйста!»
Прошла, кажется, целая вечность. Наконец Пибоди постучал рукой по краешку лохани, давая Эвангелине понять, что номер подошел к концу. Девушка взмахнула своими руками так, чтобы мокрая ткань рукавов стала похожа на крылья. Она всплыла. Ее макушка показалась над поверхностью, глаза медленно раскрылись. Эвангелина улыбнулась улыбкой циркачки, как учил ее Пибоди. Когда ее плечи поднялись из воды, она вздохнула. Воздух проник в ее легкие, а мокрая ткань прилипла к груди. Теперь девушка походила на Венеру, выходящую из пены морской. В первое время мужчины старались не смотреть на нее. Им было стыдно. Но со временем чувство стыда притупилось.
Две пары глаз неотступно наблюдали за Эвангелиной. Одна пара принадлежала мужчине со шрамом, другая – немому.
Когда они переезжали по раскисшим дорогам из города в город, лохань служила ей кроватью. Если поставить ее на бок и положить внутрь матрас, набитый соломой, получалось вполне сносное убежище от непогоды. Холстина, повешенная спереди, защищала от ветра и дождя, а также создавала иллюзию личного пространства. Эвангелина приделала крючки к краю гигантской лохани и повесила на них подаренную Мелиной пропитанную маслом ткань, превратив реквизит своего выступления в довольно уютную «комнату».
Девушка начала ловить себя на том, что против своей воли засматривается на немого предсказателя судьбы. Он обладал грацией и быстротой животного, всегда был готов помочь, а еще девушка часто замечала, что Амос на нее смотрит. Он тотчас отводил взгляд, но Эвангелине все равно казалось, что для него она словно открытая книга, что молодой человек знает все ее тайны. Он принес ей одеяла, чтобы постелить их в тех местах, где солома вылезла в прорехи матраса, а затем принялся проверять, хорошо ли законопачены швы между дощечками, проводя пальцами вдоль стыков. Амос не уходил до тех пор, пока Эвангелина не задернула промасленную ткань и мягким голосом не произнесла: «Спокойной ночи, Амос».
Девушка не знала, что парень стоял снаружи, пока не удостоверился, что она заснула. Каждый раз, зашториваясь на ночь, Эвангелина ощущала тихое довольство и умиротворение. Иногда она строила догадки о том, как бы звучал его голос, если бы он у него был. Пибоди сказал, что Амос немой, но не объяснил причин его немоты. Быть может, он получил серьезную травму. Эвангелину интересовало, может ли он издавать хоть какие-нибудь звуки и как он предсказывает судьбу, если нем.
Амосу снились сны мальчика-дикаря: кишащие диким зверьем болота; мягкий мох, на котором так приятно соснуть; удовольствие от ощущения прохладной речной воды на коже; красивая женщина, купающаяся в реке, ее волосы колышутся вокруг тела, словно вода от ветра… Ночи Эвангелины были куда мрачнее. Ей снилось, как она на четвереньках выбирается из серого дома в Кроммескилле. Колени ее содраны, ранки кровоточат. На них слой грязи и прилипшие к коже сосновые иголки. Как всегда, за ней гналась бабушка с побагровевшим лицом и молила о прощении и спасении: «За что? За что? Я же тебя любила!»
Труппа выехала из Филадельфии, держа путь к Нью-Каслу с его островерхими кирпичными домами, когда небесные хляби разверзлись и потоки дождя вознамерились утопить бродячий цирк. Маленькая лошадка металась и лягалась внутри фургона. Лама ревела, словно раненый ребенок. Опасаясь, что если они продолжат свой путь, то могут основательно застрять в вязкой грязи, Пибоди распорядился остановиться и выждать, пока дождь прекратится.
Ночь выдалась жаркой и душной. Все рано легли спать. Низко висели грозовые облака. Эвангелину сморил сон, как прежде часто бывало с ее бабушкой. Ночью ее мучили кошмары, вызванные чувством вины.
Сначала побег. Окровавленные колени, тяжелое дыхание… Она безуспешно хватает ртом воздух… А потом она оказалась на кухонном полу. Рука бабушки вцепилась ей в горло. Ее рот открыт. Бабушка кувшин за кувшином заливает ей в глотку кипяток. Горячая вода переполняет рот, обжигает внутренности, заполняя те пустоты, которые выело в ней чувство вины.
Ее рыдание во сне разбудило тех, кто спал неподалеку. Амос проснулся и привстал, принюхался, прислушался. Эхо проникало ему под кожу, словно электрический разряд. Амос соскочил со своей постели в фургоне Пибоди, отодвинул бархатный полог и пошел на звук.
Пальцы его ног утопали в размокшей земле. Парень направлялся к поставленной на бок гигантской лохани. Умелые руки отодвинули промасленную ткань занавеси. Широко раскрытые глаза вглядывались во тьму. На досках лохани она металась и дрыгала ногами, не девушка, поднявшаяся из воды, а дикое животное, попавшее в капкан. Амос прислушался. Она часто и тяжело дышала. Нет, она задыхалась, она металась, объятая страхом.
Парень залез внутрь. Пальцы погладили ее по щеке. Он сжал рукой ее плечо. Девушка, вцепившись в него, притянула его к себе. Ложись рядом. Амос стряхнул ее руку, дивясь мягкости ее кожи и холоду, который, несмотря на жару, исходил от Эвангелины.
Ее глаза приоткрылись. Девушка отпрянула, с тяжелым звуком ударившись о доски. Губы ее шевелились, но не издали ни единого звука. Амос понял. Слишком много звуков. Они мешают друг другу. Тело билось, прижимаясь ко дну лохани.
Амос прикоснулся к ее ключице. Ее рука обняла его. Парень заметил фиолетовый синяк, оставшийся на плече от удара о доски. Его очаровал этот след. Он провел кончиками пальцев вдоль его краев. Потемнение на коже, синяк… Почему же этот синяк кажется ему таким милым? Амос попытался вырвать девушку из лап кошмара. Он потянул Эвангелину за руку, но та не сдвинулась с места. Слезы струились из ее глаз. Он не знал, зачем это ему, но чувствовал, что обязан удержать ее. Парень решил успокоить ее, уложить спать, но девушка не двигалась. На ощупь она была теплой и мягкой, порождала забытые воспоминания, которые прятались где-то в закоулках его головы, что-то из тех времен, когда он был совсем маленьким.
Амос решил прилечь рядом. Он свернулся калачиком на матрасе рядом с мягкой девушкой с трясущимися коленями и красивым синяком. Она заснула. Да, Эвангелина смогла заснуть. Амос решил, что он будет бодрствовать, на всякий случай. Она очень напугана и такая мягкая на ощупь, словно утиный пух.
Изнемогая от спертого воздуха и неприятных флюидов, мадам Рыжкова распахнула дверь своего фургона и окинула взглядом напитавшуюся дождевой водой поляну. А потом она услышала крик. Дрожание в затылке… Холод, который ощущает женщина, когда мертвый произносит ее имя. Она слышала этот крик прежде. Она преодолела моря и океаны, лишь бы никогда его больше не услышать. Мадам Рыжкова тотчас зажмурилась, желая воскресить в памяти образ дорогой бледной мужской руки с прямоугольной формы кончиками пальцев, исчезающей в холодных водах реки. Когда старуха вновь открыла глаза, то увидела бегущую тень ее ученика. Он бежал туда, где спала утопленница. Губы Рыжковой скривились. Она сплюнула, чтобы не произнести этого слова вслух, но удержаться было ой как непросто. Русалка.
Встав с первыми лучами солнца, Пибоди увидел их вместе. Два измученных усталостью тела, наполовину зарывшиеся в солому из разорванного матраса. Рука Амоса крепко обнимала Эвангелину за плечи. Пальцы гладили уродливый синяк. Эти двое представляли собой угловатую головоломку, в которой, впрочем, каждая часть была на своем месте. С тех пор как мистер Пибоди в последний раз испытывал желание, юношеское томление, минуло очень много времени, по крайней мере лет десять. Тогда еще жива была его супруга. Ему хотелось пригладить непослушные патлы на голове парня, но Пибоди решил, что лучше их не будить. Старик осторожно опустил холстину и похлопал себя по ноге, поздравляя с удачей. Будущее предвещало рождение замечательных детей – мальчиков-дикарей и русалок, предсказателей и танцоров, приносящих доход красавиц и красавцев.
Глава 9
15 июля
Шелест бумаги разбудил меня. Значит, Энола проснулась и теперь, сидя за столом, листает мою записную книжку. С одной стороны головы волосы смялись, придавленные подушкой. Входная дверь поскрипывает, впуская в дом пахнущий солью ветер с пролива. Я зевнул. Не взглянув в мою сторону, сестра указала рукой на стоящую на полу дымящуюся чашку кофе. Да, мы оба знаем, что, прежде чем говорить, следует выпить кофе.
Кофе просто ужасный, подгоревший, но то, что мне не пришлось его заваривать, делает напиток гораздо вкуснее. Балансируя на задних ножках стула, Энола попивала из своей чашки.
– Спасибо.
– Я заглянула в твою записную книжку, – сказала сестра.
– Я заметил. Я был бы тебе очень признателен, если бы ты не рылась в моих вещах.
– Имена тех женщин… Они что, родственницы?
– Насколько можно судить, да. Ты ведь знаешь людей цирка. Когда имеешь с ними дело, всегда трудно определить, кто есть кто.
Имена имеют свойство меняться, люди исчезают, покинув шоу и сменив фамилию, а уйдя на покой, желают вести спокойную жизнь анонима, носясь по жизни на крыльях попутного ветра.
– Они все утонули.
Что-то в ее голосе заставило меня сказать:
– Мои источники несколько неоднородны.
Сестра слегка прикусила губу.
– Ты думаешь, они покончили жизнь самоубийством?
– Может, так, а может, нет. Алиса так думает.
Объяснить рационально эту череду смертей по-другому просто не получалось, хотя ничего рационального во всем этом и не наблюдалось.
– Возможно, некоторые из них – несчастные случаи, – добавил я.
– Я всегда знаю, когда ты врешь. Тебе это известно? У тебя при этом дергается левая рука.
Энола, приподняв ногу, уперлась ею в стол. Одежда ее измялась после сна, а юбка висела как пожеванная простыня. Она засунула большой палец в рот, прикусила его, а затем ударила себя по руке, словно наказывая за что-то.
– Все из-за этой книги? – спросила сестра.
– Я люблю загадки, а эта не из простых.
Правда ли моя рука подергивается? Ночью Энола вела себя как мама. Осталось девять дней. До чего? Сейчас сестра полна сил и энергии. Я что-то упустил в своих рассуждениях. Не связано ли это с возрастом? Маме было тридцать два, когда она утонула. Ее мать была моложе, как мне кажется. Селина Дувел. Черт побери! Следует все еще раз проверить.
– Ну ладно, продолжай врать, – сказала Энола и потянулась, хрустнув, казалось, всеми позвонками. – Я хочу пойти поплавать. Надевай свои плавки, если боишься, что я могу утонуть. Или ты за себя боишься?
Сестра рассмеялась, а у меня похолодело в животе.
Мы вместе спустились к морю. Мечехвосты со своими дьявольскими шипами, подобно сверкающим на солнце камням, устилали линию прибоя.
– Вода голубая, и медуз нигде не видно, – ступая в воду, сказала сестра. – Хорошо. Только я терпеть не могу этих чертовых мечехвостов.
Она смотрела сквозь прозрачную воду в глубину. Там и впрямь было очень много этих крабов.
– Они безвредные, даже ущипнуть тебя не могут.
– Такое впечатление, что они неспроста здесь собрались.
Энола бегом кинулась в воду. Во все стороны полетели брызги. Я устремился вслед за ней. От холода перехватило дыхание. Мы улыбались друг другу. Затем сестра погрузилась в воду с головой. Над поверхностью остались лишь ее коротко стриженные волосы. Хотя соленая вода жжет глаза, я решил не зажмуриваться. Глаза сестры прикрыты. Лицо напряжено. Я начинаю считать по привычке… Возможно, из любопытства. Сколько времени она сможет оставаться под водой? Одна Миссисипи, две Миссисипи… Энола подгребает под себя и, делая небольшие круги, опускается на глубину. Я следую за ней. Восемь Миссисипи…
Саймон.
Часть ее осталась здесь, в воде. Я услышал мамин шепот и ощутил страх вперемешку с тоской по ней. Теперь, когда Энола вернулась домой, мама тоже здесь. Я схватил сестру за руку. Какая же она холодная и скользкая, словно рыба! Я дернул ее на себя. Глаза сестры раскрылись. Я достаточно тяжелый, чтобы удержать нас обоих у дна, не давая всплыть на поверхность. А то, чего доброго, Энолу может унести течение в открытое море, словно кусок дерева. Сестра увидела, что я отсчитываю на пальцах пятисекундные интервалы пребывания в воде, и отрицательно замотала головой. Сорок Миссисипи…
Саймон.
Энола, извернувшись, дрыгнула изо всех сил ногами, оттолкнула меня, а затем устремилась к поверхности.
– Господи, Саймон! – пролепетала она. – Ты понятия не имеешь, когда я ныряла в последний раз! Черт тебя побери! Ты меня чуть не утопил.
Убийство… Всегда есть подозрение, что смерть насильственная, но только не в случае с моей мамой. Ничего подобного.
– Ты даже не запыхалась, дышишь ровно, – смахивая воду с глаз, возразил я. – Ты всегда умела дольше меня задерживать дыхание.
– Да, но это в прошлом, – помрачнев, произнесла Энола.
Мы оделись, не сняв мокрых купальников. Сестра хотела, чтобы соль, высохнув, осталась на ее коже.
– Летнее ощущение, – сказала она.
Мы направились к Восточному пляжу, что рядом с молом. Я смотрел на бугорки под ее кожей на спине. Слишком тощая. Сестра всегда была худышкой, но это уже чересчур! Когда мы бегом вернулись на наш пляж, я взобрался на защитную дамбу.
– Мне показалось, что я кое-что услышал, когда мы были под водой. А ты что-нибудь слышала? – спросил я.
– Что, черт побери, можно услышать, когда у тебя вода в ушах?
– Ладно, забудь.
Песок сыпался сквозь прогнившие доски в том месте, где дамба начала разрушаться. Сломанные сваи кренились в сторону пролива. Не сговариваясь, мы принялись взбираться по крутому склону. Наши ноги утопали в песке, смешанном с частичками суглинка.
Уже на середине подъема Энола начала задыхаться.
– Папа убил бы нас за такое, – сказала она.
– Не исключено.
Однажды он нас застукал. Мы сбежали по крутому склону и стали подниматься другим путем, когда его фигура возникла над краем обрыва. Он схватил нас с такой силой, что на следующий день у меня на руке остались синяки в тех местах, где его пальцы впивались в нее. По крайней мере, это служило напоминанием, что у меня все же есть отец. Он потащил нас домой, ухватив меня за воротник, а сестру – за штанишки. Ступни Энолы не касались земли. Я тогда его чуть не возненавидел.
Став над обрывом, мы огляделись. Скорлупка нашего дома нависла над пропастью. Кирпичная стена, когда-то отделявшая наш дом от моря, вконец разрушилась, а после минувшего урагана не осталось даже жалкого напоминания о ней.
– Вон там жили Мерфи? Я не перепутала? – спросила Энола.
Да, там и впрямь когда-то жили Мерфи. Если бы сестра присмотрелась повнимательнее, то наверняка заметила бы, что их холодильник привалился к покосившейся внутренней стене дома, а обеденный стол лежит перевернутым, его ножки давно бесследно исчезли.
– То, что еще оставалось от крыльца, смыло больше двух лет назад.
Где-нибудь на противоположном берегу пролива ребятня из Коннектикута сожгла доски крыльца, на котором в прежние времена мы сиживали с Джимми Мерфи, попивая лимонад.
– Значит, с тех пор уже два или три года прошло?
– Вроде того.
Нередко участки земли у моря лишаются до десяти футов в год. Все зависит от силы штормов и своевременности ремонта защитных сооружений для поддержания их в хорошем состоянии. Когда пришел ураган, дом Мерфи не выдержал, и это усугубило мои проблемы. Когда их защитная дамба разрушилась, воды обрушились на мою, подмывая с обоих концов последнюю преграду между моим домом и проливом, между ним и зимними штормами, северо-западными ветрами и следующим ураганом… Кто знает, когда он обрушится.
– У тебя на ремонт денег хватит?
– Сейчас – нет.
Мне нужен кредит, вот только безработному его вряд ли кто предоставит, а поиски новой работы пока ничего не дали. Я мог бы попросить денег у Фрэнка. Мои шансы занять их у него довольно высоки. Деньги на спасение моего дома – это деньги на спасение и его дома. А еще этот дом унаследован мною после смерти отца. Для Фрэнка это многое значит. Вот только Алиса… Одно дело – брать деньги у Фрэнка, но брать деньги у отца Алисы – совсем другое. Мне следует поговорить с ней, но лучше будет попытаться сначала прощупать Историческое общество Напаусета. Все же считается, что мой дом имеет историческое значение.
Оглянувшись на сестру, я увидел, что она слегка покачивается в такт с набегающими на берег волнами.
– Тебе надо поехать со мной.
Это прозвучало неожиданно требовательно.
– Зачем?
– Что тебя здесь удерживает? – спросила она.
– Дом. Я не могу вот так все бросить.
Временами казалось, что души наших родителей до сих пор находятся где-то рядом, что их частички живут в этих стенах и кому-то просто необходимо бороться за дом до самого конца. Я не говорю, что прикипел сердцем к этой земле, но мне хорошо ведомы дороги, которые не заливает, когда поднимается большая вода. Я знаю, кто здесь чем живет, кто приезжает на остров на лето, а кто живет здесь всю свою жизнь. А теперь вот и Энола вернулась.
– Поедешь?
– Я никого там не знаю. И чем я буду заниматься?
– Придумаем. К тому же ты знаешь меня.
– Разве это поможет?
Сестра скривилась, а затем тяжело вздохнула:
– Все будет хорошо. Я тебе помогу.
Ее рука юркнула в карман юбки. Я услышал тихий шелест.
– Я видел тебя прошлой ночью, – сказал я.
Шелест стих.
– Что происходит между тобой и картами?
– Иногда они странно себя ведут.
Когда я попытался разговорить ее, сестра набросилась на меня и взлохматила мне волосы костяшками пальцев. Вышло это у нее довольно грубо, и кожу на голове будто обожгло. Мы рассмеялись. Она принялась щекотать мне бока. Я попытался вырваться. Игра «в крапиву» закончилась тем, что я вывернул Эноле плечо и она вскрикнула от боли. Сестра боднула меня затылком. Наши безумства закончились так же внезапно, как и начались. Мы повалились на траву. Спустя пару секунд мы уже были в норме.
– Вчера вечером к тебе заезжала Алиса, – тяжело дыша, сказала Энола.
– А я думал, что ты спишь.
– Что между вами происходит?
– Не знаю.
Не то чтобы я этого не знал, но мне просто хотелось защитить эти новые отношения между старыми друзьями.
– Мне она нравится. Я считаю, что Алиса тебе подойдет. – Сорвав стебелек береговой травы, она прикусила его зубами и продолжила: – У Роуза тебе понравится. Мы ходили смотреть на этот бродячий карнавал, когда еще были детьми. Карнавальное шоу Роуза – семейный бизнес.
– Как ты к ним прибилась?
– Через приятеля в Атлантик-Сити. Он тоже гадает на картах. Прежде он работал на Роуза, поэтому познакомил меня с ним. Я погадала Тому Роузу, мы поговорили и пришли к обоюдовыгодному соглашению. Это хорошее шоу. На все лето у тебя есть надежный работодатель, да и деньги платят неплохие.
– Ты упоминала о маме?
– Конечно, я же не идиотка! С какой стати мне скрывать, что мама работала в цирке? Возможно, поэтому он и дал мне работу. Он и тебе даст, если ты захочешь.
– И что я там буду делать?
– Не будь идиотом.
До сих пор я воспринимал цирки и карнавальные шоу как-то отстраненно. И вот теперь возле меня сидит сестра с вывернутыми внутрь коленками и диким взглядом и предлагает сбежать вместе в цирк. Впрочем, мне всегда было интересно знать, какой была наша мама до того, как познакомилась с нашим папой.
– Там все так, как и прежде?
– Более-менее, – сказала Энола. – Больше пышности. Больше конных номеров. Больше игр. Вставные номера уже не те. Больше действия и меньше надувательства. – Видя мое замешательство, сестра добавила: – Банки… То, что хранится в банках… Ладно, забудь. Ты этого знать на самом деле не хочешь.
Я вспомнил о хранящихся в формальдегиде диковинках – животных и прочем. Я вспомнил, как когда-то стоял в палатке. Воздух раскалился внутри до такой степени, что трудно было дышать. Пальцы рук слипались от пота. Я смотрел на молочно-белое чучело акулы с двумя головами, по одной голове с каждой стороны туловища.
– Тебе там нравится?
– Да.
– Когда ты мне позвонила, то довольной жизнью не казалась. Ты выглядишь какой-то вымотанной.
– Я и не говорю, что всегда все хорошо, – сказала Энола. – С чего это всегда всему быть хорошо? Иногда съешь что-нибудь несвежее, тебе скрутит живот, а потом бегаешь по туалетам…
Сестра завела руку за спину и потянулась ею к затылку. В плечевом суставе что-то отчетливо хрустнуло.
– В прошлом году я серьезно отравилась, когда была в Филадельфии, и пошла в книжный магазин. Там у них очень чистые туалеты. Мне было так плохо и казалось, что я вот-вот умру. Меня выворачивало наизнанку. Стою я, значит, смотрю в пол, стараюсь не упасть в обморок и вижу, значит, эти желтые туфли в соседней кабинке. Леди, должно быть, догадалась, что я вижу ее ноги, поэтому отодвинула их… Как будто я не должна знать, что она сидит рядом! Как будто, убрав свои ноги подальше, она забудет, как я там испражнялась. Тебе не приходится терпеть такое. У тебя есть дом и свой собственный туалет под рукой.
Сестра почесала затылок. Татуировка птички на запястье запорхала.
– Но в целом все отлично. Ты понравишься Тому.
– Почему ты так настаиваешь на моем отъезде?
– Возможно, я просто по тебе скучаю, – ответила Энола.
– Я тоже по тебе скучаю.
Мне на самом деле ее не хватало и всегда будет не хватать. Могу ли я все бросить и уехать? Погружу свои шмотки в машину. Выеду на автомагистраль. Пристроюсь к каравану трейлеров и домов на колесах. Буду проводить дни и ночи в баке-ловушке, заполненном хлорированной водой. А спустя полгода вернусь обратно – грязный, исхудавший и одинокий. Нет, не сейчас. До 24 июля осталось всего ничего, и Энола вернулась. Уж слишком много совпадений.
– Почему ты приехала?
– Шоу Роуза сейчас неподалеку. Я попросила Тома, чтобы он с тобой встретился. Подумала, что нам есть о чем поговорить.
Мы наблюдали за тем, как волны накатывают на песчаный берег, до тех пор, пока нас не начали донимать комары. Энола прихлопнула одного.
– Я тебя по-своему люблю.
По-своему. Она всегда так выражается, но интонация ее голоса такова, что уж лучше по-своему, чем очень сильно, но без души. Все эти годы мы чувствовали себя одинокими. Возможно, я в конечном счете не так уж и не прав. Мы прокрались сквозь кустарник и заросли ядовитого плюща к тропинке, ведущей к нашему дому. Ее рука снова скользнула в карман юбки. Я услышал, как бумага шелестит о бумагу.
На подъездной дорожке нашего дома я увидел побитый временем желтый автомобиль. Чужой автомобиль. Худой человек стоял, опершись руками о капот. Незнакомец производил пугающее впечатление. Было в его облике нечто змеиное, таящее неизвестные и скрытые угрозы.
Энола издала пронзительный крик прыгуньи с высоты и бросилась со всех ног к чужаку.
– Дойл!
Ничуть не сдерживаемая радость. Сестра прыгнула в объятия мужчины. Ее ноги оплелись вокруг его тела. Плечи Энолы заслонили от меня его лицо. Все, что я видел, – две худые, покрытые татуировками руки, обвившиеся вокруг ее талии.
Развернувшись, незнакомец встал ко мне спиной, а Энолу посадил на капот машины. Я подошел к ним.
– Это мой брат Саймон, – не глядя в мою сторону, представила меня Энола.
– Привет! Я много о тебе слышал. Не бойся. Ничего плохого.
Голос звучал непринужденно и спокойно. Руки сжимали бедра моей сестры. Дойл так и не взглянул в мою сторону, впрочем, позволяя мне любоваться татуировками, которые тянулись по шее, заползали на бритый череп и заканчивались темно-зелеными щупальцами на скуле.
– Саймон! Это Дойл!
Я сказал, что рад знакомству. А что еще я мог сказать? Я стоял и пялился на этого парня. Никто, за исключением законченных фриков, не делает себе подобных татуировок. Когда он двигался, казалось, что и щупальца движутся, извиваются на его коже. Мне стало нехорошо.
Наконец они оторвались друг от друга.
– Долгая поездка, – сказал Дойл, выпрямляя спину.
Рукава рубашки высоко закатаны, открывая еще больше чернил, еще больше щупалец. У него они что, по всему телу?
– Я не думала, что ты приедешь, – сказала Энола.
Дойл уткнулся носом ей в шею, явно игнорируя мое присутствие, потом пробурчал что-то насчет того, что ему срочно надо отлить, и устремился прямиком в мой дом. Энола метнулась вслед за ним. Ей удалось от меня увернуться, но я, догнав, схватил сестру за плечо и резко ее остановил.
– Кто это?
– Я же сказала – Дойл.
– Что за Дойл?
– Дойл – это парень, который проделал долгий путь лишь потому, что я сказала ему, что собираюсь навестить брата. Будь с ним поприветливее, – попросила Энола и направилась к входной двери, бросив напоследок: – Я с ним сплю.
Мало найдется на свете такого, что может затмить собой чудовищную силу, вызванную обнаружением того возмутительного факта, что твоя родная сестра с кем-то спит. Что же до рук, покрытых вытатуированными щупальцами, то этого оказалось более чем достаточно. Мне понадобилось минут пять, чтобы, собравшись с духом, войти внутрь.
Дойл растянулся на диване, на котором я в последнее время спал. Я поставил стул посередине комнаты и уселся на него. Да уж… Щупальца тянулись по его рукам, поднимались к лицу. Я мог различить тонкие линии, очерчивающие каждую присоску овальной формы. Энола гремела кастрюлями в кухне. Какое-то время я и Дойл остались один на один. Черты его лица отличались удивительной заостренностью. Интересно, если я включу свет, он спрячется от него за спинкой дивана или не спрячется?
– Ну и в глухомани же ты живешь, мужик, – сказал Дойл. – Твой дом, что называется, висит над обрывом.
– Эрозия. Здесь это общая головная боль, – сказал я.
«Я с ним сплю», – сказала Энола. Это спит с моей сестрой.
– Да, это точно, – издав приглушенный смешок, просипел Дойл. – Я никогда не запоминаю таких мудреных слов, блин. Продрых на уроках всю науку о Земле.
Он взмахнул кистью. Оказывается, и она была покрыта татуировками щупальцев. Осьминожьи? Кальмаровые?
– Значит, ты и моя сестра…
– Да. Она классная девчонка, очень заводная.
Я смотрел на него во все глаза.
Энола вернулась с коробкой печенья, о которой я позабыл. Она плюхнулась на диван и прижалась к Дойлу так, словно меня в комнате не было. И, скорее всего, их не волнует то, что они сидят на моей постели. Энола кормила своего хахаля черствым печеньем и вслух размышляла, поладим ли мы. Конечно поладим. А что нам еще остается?
– Как вы познакомились?
– В Атлантик-Сити, на Бродвоке, – ответила сестра.
Вот, значит, как.
– Да. Она раскладывала карты, а я сказал себе: «Мужик! Ты глянь, какая малышка!»
Возможно, он и не прочитал свой смертный приговор в моих глазах, но Энола прочитала. Она обняла его за плечи. Бледная кожа на ее запястье контрастировала с вытатуированными присосками.
Я спросил, чем он занимается.
– Я Электрический Парень.
Электрические лампочки на заднем сиденье ее автомобиля теперь приобретали вполне рациональный смысл.
– А что Электрический Парень делает? – спросил я, откинувшись на спинку стула и едва не перевернув его.
Я понимал, к чему идет дело.
Энола вмешалась прежде, чем Дойл успел ответить:
– Ты знаешь, что бывают люди-электролампы?
Я кивнул. Статическое электричество. Вполне заурядное явление, известное с тех времен, как был открыт электрический ток. Иногда для этого трюка используют спрятанную металлическую пластину. Номер с электрическим стулом выполняется таким вот незамысловатым образом. Ничего особенного.
– Дойл может засветить стоваттную лампочку, взяв ее в рот, и еще по три в каждой руке будут светиться, – сказала Энола.
Ну, это совсем другое дело!
– Впечатляет.
– Он может жонглировать лампочками, а они при этом светятся. Удивительно красивое зрелище.
– Ура! – воскликнул покрытый татуировками щупалец жонглер электролампочек. – Я тебе покажу. Маленькая Птичка, а где мои лампочки?
Дойл попытался встать, но Энола отрицательно помотала головой.
– Не гони канитель, – сказала она.
Дойл вопросительно посмотрел на нее.
– Покажешь ему позже. Договорились? Ты, случаем, пива не привез? У Саймона ни черта нет, а я сейчас готова убить за пиво.
– Конечно привез.
Мужчина будто испарился. Энола привстала, обхватив себя руками за колени. Я вновь обратил внимание на татуировку на ее запястье. Маленькая Птичка! Господи Иисусе!
– Перестань быть занудой и притворись, что он тебе нравится. Ради меня. Договорились?
– Я не зануда, я твой брат.
– Что-то новенькое! – хмыкнула Энола.
И то верно. Я ведь заменил ей отца.
– Я просто тревожусь за тебя. Я ничего о нем не знаю.
Я и о сестре-то не много знаю.
– Ты хоть раз можешь быть милым и приветливым?
– Я постараюсь.
Дойл вернулся с упаковкой из шести банок пива.
– Хочешь?
– Спасибо, хочу.
Татуированный палец открыл жестяную банку, а я ни о чем другом думать не мог, кроме как о его ощущениях, когда иглы, наносившие рисунок, кололи его так близко от ногтевого ложа.
Дойл заметил, куда я смотрю, поэтому я спросил:
– Было больно?
– Охренеть как. – Рассмеявшись, он клацнул зубами.
– Хорошее пиво, – произнес я.
На самом деле теплое пиво имело прескверный вкус.
Мы пили практически молча, что мне ужасно нравилось, но после первой банки пива начались разговоры. То и дело мелькали имена друзей, названия больших городов и маленьких городков. Энола тихо смеялась. Совсем другой человек, не та, кем она была прошлой ночью. Я взглянул на журнал. Что-то я упустил из виду.
Никто не будет против, если я немного полистаю журнал?
Позже Энола потащила своего парня к обрыву наблюдать за тем, как солнце садится в воду, а я остался один на один с моими книгами.
Когда в дом проникли громкие звуки музыки, я выглянул из окна и увидел луну и слабый свет, исходящий от автомобиля сестры. Подъездная дорожка купалась в голубоватом сиянии. Энола и Дойл танцевали. Сестра плясала, словно одержимая. Локти бешено метались из стороны в сторону. Бедра вихляли. Пот заливал ей лицо, поблескивая в лунном свете, когда Энола, танцуя, терлась о Дойла бедром. А тот вился возле сестры, словно окруженный чернильным облаком. Машину трясло от громкой музыки. Зазвучала медленная мелодия, и танцоры, сцепив пальцы, прижались друг к другу. Они, похоже, забыли о моем существовании, словно меня здесь никогда не было.
Алиса тихим, сонным голосом ответила, когда я позвонил ей:
– Привет. Что случилось?
– Ты можешь сейчас поехать со мной выпить где-нибудь? Мне это очень нужно.
Она зевнула. Я услышал, как ее челюсть ударяется о телефонную трубку.
– Мне завтра утром на работу. – Запала гнетущая тишина, и Алиса быстро добавила: – Извини. Что-то не так? Что случилось?
– Ничего. Я просто немного завелся, как мне кажется… Объявился парень сестры. Слишком много людей в одном маленьком домике.
О том, что когда-то в нем жили двое взрослых и двое детей, я благоразумно умолчал.
– Я надеялась, ты скажешь, что скучаешь по мне.
Я скучал. Мне хотелось увидеть, как Алиса поднимается по лестнице в библиотеке, как пишет на белой доске программу мероприятия, закругляя маленькую «г». Я скучал по Алисе, которую больше не видел на работе.
– Извини. Мне просто надо отсюда вырваться. Я не могу смотреть, как моя сестра занимается у меня под носом брачными играми.
– Мне не повезло. Я единственный ребенок в семье, – вновь зевнув, произнесла Алиса.
Я понял, что не должен настаивать.
– Завтра. Хорошо? – сказала она. – Я обещаю.
– Конечно, конечно…
Алиса отсоединилась. Следовало сказать ей о деньгах, сколько мне нужно денег, но я еще не готов, почти готов, но не совсем. Я включил компьютер и отправил электронное письмо Лизе Рид, спрашивая, изменилась ли ситуация в Норт-Айсле. Теперь я был согласен и на неполный рабочий день, если ничего большего мне не предложат. Ящик для входящих сообщений был почти пуст. Пришел лишь один ответ на разосланные мною резюме. Должность межбиблиотечного координатора в Коммаке уже занята. Использовали внутренние резервы. Я снова пробежал глазами по списку предлагаемых вакансий, пытаясь увидеть изменения и недавние обновления. Я думал, кем еще мог бы представиться: информационный специалист, информационный техник, менеджер по работе с информационными ресурсами… Я могу называться как угодно, стать кем угодно для того, чтобы заполучить работу. Слова на экране начали сливаться. Поплыли разноцветные пятна.
Я проснулся еще до первых лучей солнца. Хотя оно не взошло, яркий свет, пульсируя почти в такт сердцебиению, лился через окно. Дойл стоял на подъездной дорожке. Движущаяся тень, за исключением его рук, освещенных двумя лампочками, наверное, сороковаттными. Мужчина вертел лампочки, грациозно размахивал ими, прикрывал свет, пряча их в своих ладонях. То меркнущий, то разгорающийся свет ламп накаливания освещал небольшие участки татуировок. Дойл был похож на аквалангиста, светящего фонарем в океанской тьме. Щупальца извивались и расправлялись. Вспышка света, движение… Все растворялось во тьме. Свет полз по его груди, бросая на лицо тусклые отсветы. Белые зубы, а теперь черные… Свет перемещался. Дойл извивался. Он танцевал. Проблески света падали на мою сестру, которая стояла, прислонившись к машине. Она смотрела на него, а Дойл устраивал представление для нее одной.
Я наблюдал за ними до тех пор, пока не почувствовал себя неловко: я все же подглядывал! Я опустил жалюзи. Свет струился сквозь щели. Я вернулся к журналу, моей записной книжке и именам. Давно надо кое в чем разобраться. Верона Бонн родилась в 1935 году. Она утонула в возрасте двадцати семи лет. Ее мать Селина Дувел умерла в 1937 году, когда Вероне исполнилось два года. Эноле тоже было два года, когда утонула мама. Некролог о Селине не содержит даты ее рождения. Небольшие розыски, проведенные с помощью компьютера дали результат: я выудил на свет божий свидетельство о браке, заключенном между Селиной Траммел и Джеком Дувелом. Родилась она 13 февраля 1915 года, то есть в момент смерти ей было двадцать пять лет. Селина умерла молодой, но не в том возрасте, в каком погибли моя мама и бабушка. Нет, дело не в этом.
Зазвонил телефон. Черчварри.
– Надеюсь, я вас не разбудил, – сказал он.
Мы оба знали, что нет, но я в самых вежливых выражениях заверил его, что все в порядке.
– Действительно все в порядке. Что случилось?
– Видите ли, длинные ночи и старая собака. Шейла уже не может дотерпеть до рассвета. Мари считает, что выходить с ней на двор – моя обязанность. Теперь я почти каждую ночь вынужден вставать.
Я прекрасно понимал его чувства.
– Я нашел книгу, которая может оказаться вам полезной. Не знаю, как лучше ее вам переслать. Она довольно тяжелая.
– Отправьте завтра по почте.
Глава 10
Движения русалки вырвали Амоса из сна без сновидений. Щемящее чувство зародилось в его душе, когда парень вспомнил ее переполненные страхом глаза; вспомнил, как держал ее в своих объятиях, и глубочайшее удовольствие, возникшее от прикосновения к ее коже. Эвангелина заморгала затуманенными сном глазами. Амос убрал ее волосы, упавшие девушке на плечо, и улыбнулся. Он не привык улыбаться, поэтому улыбка вышла у него немного натянутой. Парень провел пальцами по изгибу своей ключицы, потом ее.
Эвангелина издала пронзительный крик и выскочила из лохани, отбросив Амоса в сторону так, что он больно ударился о доски. Девушка бросилась наутек, путаясь в складках юбок.
Амос ждал. Она вернется, потому что ей просто некуда бежать. Хотя Пибоди и Рыжкова привили ему какие-то понятия о поведении цивилизованного человека, терпением Амос не отличался. Спустя четверть часа он отправился на поиски. Найти девушку не составило особого труда. Из-за пропитавшей почву влаги каждый шаг Эвангелины отчетливо отпечатался на земле. Бугорок под подъемом ее стопы и лунка, оставляемая пяткой, были четко видны. Парень шел по ее следу, как прежде ходил по оленьим следам.
Девушку он нашел под вязом. Она лежала на земле грудой тряпья и рыдала. Столько воды из одной девицы! Как будто в ней плескалось полноводное озеро. Сердце животного внутри парня чувствовало, что они сделаны из разного теста. Амос приветственно помахал девушке рукой, но опущенная голова Эвангелины так и осталась между коленями. Ему хотелось позвать ее, почувствовать ее имя на своих губах. Для того чтобы показать миролюбивость своих намерений, Амос, прикоснувшись кончиками пальцев к своей голове, слегка тронул Эвангелину за плечо.
– Уходи, пожалуйста, – отмахнулась от него девушка.
Амос присел рядом. Она плакала, качаясь из стороны в сторону, и отказывалась на него смотреть. Он приобнял ее за плечи, очень осторожно, и готов был вовремя отпрянуть, если девушка вознамерится его ударить. Эвангелина дышала с трудом. Ее сиплые вздохи напомнили Амосу шум бурлящей реки.
Мейксел болтал с лошадьми, успокаивая их после городского шума и сутолоки. Пибоди, что-то тихо напевая, делал записи в своей книге. Бенно, насвистывая себе под нос, чинил оси телег. Амосу и самому хотелось иметь возможность петь и болтать. Он прижал голову девушки к своему плечу и соразмерил свои вдохи и выдохи с ее всхлипыванием. Его горло исторгло звук, одновременно напоминающий крик лягушки-быка и скрежет осей фургонов. Нет, совсем не похоже на голос. Испугавшись, он прикрыл рот и отвернулся.
– Это твой голос? – тихо спросила девушка.
Амос отрицательно замотал головой, сжимая губы так сильно, что ему стало больно.
– Ты издал звук. Я слышала.
Парень вновь замотал головой. Он все равно больше ничего не мог сделать.
– Из звуков рождается речь.
Хотелось бы, чтоб так оно и было, но Амос знал, что язык ему не подвластен. Его разум не в состоянии заставить язык издавать звуки, не говоря уже о том, чтобы делать их приятными для слуха. Глаза стало щипать. Парень зажмурился.
Эвангелина начала мягко отстраняться от него.
– Мы не можем вот так сидеть, – сказала она. – Полагаю, будет лучше, если я пойду первой. Не надо, чтобы нас видели вместе. Никто не должен знать о случившемся.
Амос предпочел бы, чтобы девушка задержалась до тех пор, пора его дыхание войдет в привычный ритм, но Эвангелина, смахнув слезы с глаз, поднялась на ноги. Прежде чем уйти, она пытливо уставилась на парня.
– Перестань обо мне заботиться, Амос. Я не нуждаюсь ни в чьей заботе.
Парень провожал ее взглядом, пока Эвангелина пробиралась между стволами деревьев к лагерю. Жгучее чувство в его груди усилилось. Оно было ему знакомо. Стыд. Он постарался замедлить сердцебиение и определить свое место в этом мире, но не смог. Испугавшись, он хотел закричать, но не издал ни единого звука. Он должен научиться разговаривать. Медленно уплывали час за часом, а он трудился над разрешением неразрешимой задачи, пока в качестве ответа не возник в его сознании образ Дурака.
Амос кинулся бегом к фургонам. Иногда его ноги точно попадали в следы, оставленные девичьими ножками, и молодой человек ощущал, как теплота разливается в его теле. Утащить карты было совсем непросто. Приглушенная ругань, доносящаяся из фургона Пибоди, подсказала Амосу, что мадам Рыжкова ссорится с хозяином из-за денег. После того как бродячий цирк покидал очередной город, приходило время подсчитывать все издержки и доходы. Все финансовые вопросы решались в хозяйском фургоне. Рыжкова, как и Пибоди, крепко держалась за то, что считала своим. За картами сейчас никто не приглядывал.
Амос рылся в шарфиках, узелках с шалфеем и прочей дребеденью до тех пор, пока не наткнулся на шкатулку. Однажды, когда за стенами фургона бушевала гроза, Рыжкова рассказала ему, что же нарисовано на крышке шкатулки: об Иване Царевиче, который выдрал перо из хвоста Жар-птицы; о воде, которая восстанавливала тела мертвецов; а также о другой воде, которая возвращала им жизнь. Когда пальцы коснулись карт, его кожа запела.
Амос присел на корточки в уголке. Его пальцы проворно перебирали колоду в поисках нужной карты. Рыжкова учила его улыбаться, когда переворачиваешь карту. Глаза женщин сразу же смягчаются, когда карта указывает на благоприятный исход. Если после этого подольше подержать ее руку в своей руке, женщина чаще всего платит больше. Амос засунул карту за кушак, а остальные положил в карман и отправился на поиски Эвангелины. Но вместо девушки он наткнулся на Пибоди, который, весь взъерошенный, как раз вышел из своего фургона.
– Расширяешь, значит, горизонты, Амос. Перед тобой лежит целое море возможностей, – произнес он так, словно продолжал прерванный разговор, а затем, хлопнув парня по спине, ткнул его кулаком в бок. – Что до этой девчонки, миледи Русалочки, то одобряю твой выбор, очень достойный выбор, мой мальчик.
Пибоди погладил себя по животу и пробормотал что-то под нос. Амос уловил лишь «лакомая штучка». Мадам Рыжкова как раз вышла из хозяйского фургона. Старушка вся напряглась и уставилась на Пибоди.
Хозяин цирка нагнулся и зашептал Амосу на ухо:
– Мой тебе совет: немного рыцарской галантности тебе не помешает. Перестань быть дикарем.
Сделав многозначительный жест в сторону гениталий парня, Пибоди нырнул обратно в свой фургон.
Когда Амос нашел Эвангелину, она как раз прикрывала крышкой чан, в котором циркачи вываривали белье. Рядом с ней на земле сидел Бенно, вытянув ноги и обхватив руками носки своих башмаков. Они о чем-то болтали. Когда акробат смеялся, его шрам не бросался в глаза. Эвангелина улыбалась. Как только Амос подошел к ним, оба умолкли. Потом Эвангелина открыла рот, чтобы что-то сказать, но Амос поднял руку, призывая ее к молчанию. Перестань! Пожалуйста! Парень извлек карту из-за кушака и сунул ее девушке в руку так быстро и осторожно, что даже не коснулся пальцами ее руки.
Небольшая складка образовалась между ее бровями. Неужели он ошибся? С замиранием сердца Амос ждал, когда же девушка перевернет карту и увидит красивый рисунок: ангелоподобное создание, взирающее на голых мужчину и женщину, замерших перед тем, как броситься друг другу в объятия. Амос видел, как лицо девушки заливается румянцем.
Бенно переводил взгляд с одного на другую, а затем, прокашлявшись, сказал:
– Двое всегда скорее поладят между собой, чем трое. Мы с тобой, Амос, об этом позже поболтаем, – произнес он, поклонившись Эвангелине. – Всего наилучшего.
Амос даже не кивнул своему другу. Все его внимание приковала карта, внизу которой рукой Рыжковой было выведено: «Любовники».
Амос был наивен и безграмотен, а вот Эвангелина такой не была. Бабушка Виссер обучила ее чтению и основам арифметики, так что девушка умела считать и читать по слогам, к тому же это не позволяло Пибоди бессовестно ее обкрадывать. Эвангелина все сильнее краснела. Амос прикоснулся рукой к своей груди, прежде чем дотронуться до карты. Его пальцы слегка сжали ее пальцы.
– Уж точно нет, – сказала девушка.
Парень прижал карту к груди. Девушка прикусила губу, но не остановила Амоса, когда он прижал вторую ладонь к ее груди в области сердца.
– Пожалуйста, уходи, – прошептала она. – Извини… Но, пожалуйста, уходи.
Амос забрал у нее карту. Его лицо горело. Он бросился, спотыкаясь, к фургону Лакомки. Образ был яснее ясного. Рыжкова объяснила одно из значений карты – любовь, предначертанная благосклонной судьбой. Он знал, что они предназначены друг для друга. Он просто что-то сделал не так.
Через день бродячий цирк прибыл в Нью-Касл, где большинство домов были не деревянными, а кирпичными. Красную глину добывали в холмах Пенсильвании. Прочные строения входили в некий диссонанс с хлипкими фургонами, но Пибоди заявил, что кирпичные дома означают хорошие деньги, тем более что этот город расположен так близко к Филадельфии. Бенно вволю посмеялся над этим, когда он и Амос выпрягали лошадей из фургонов.
– Кирпичи легко крошатся. И все камни полетят в нашу сторону.
Лошадей накормили и напоили. Мейксел вывел ламу за город, подальше от глаз зевак. Нат взял Лакомку в охапку и понес карликовую лошадку к реке, а Амос и Бенно тем временем прибирались в фургоне животных. Декорации и костюмы были вычищены и вытряхнуты и теперь висели, проветриваясь. Лохань Эвангелины проверили насчет течи и подготовили все необходимое к длительному и трудному процессу наполнения емкости водой. Когда циркачи расправили после трудов свои спины, привели себя в порядок и закончили все, что следовало сделать после долгого переезда, Пибоди обошел всех со своей книгой в руках, спрашивая каждого, каковы его потребности, которые можно удовлетворить в городе. У Сюзанны вконец износились тапочки. Мелине нужны были ножи, чтобы тренировать руку. Нат попросил мешок гречневой крупы, который циркач намеревался подкладывать ночью под свою больную спину. После этого решалось, какая доля кому причитается. Амос получал часть доли мадам Рыжковой, но, поскольку прорицательница его одевала, а Пибоди кормил за свой счет, размер денежного вознаграждения парня не особо интересовал. Его потребности были скромны. То, чего он на самом деле хотел, заполучить было просто невозможно.
Рыжкова суетилась, готовясь к приему клиентов. Она и Амос развесили шелковую ткань на стенах фургона почти сразу же по приезде.
– Быстрее, быстрее, – говорила старушка. – В городе о многом хотят узнать. Мы должны успеть всем дать ответы.
Амос был недоволен. После последней встречи с Эвангелиной он надеялся, что будет помогать ей готовиться к выступлению и сможет извиниться. Выглянув из фургона, он увидел выстроившихся в цепочку циркачей, которые передавали друг другу ведра с водой. Бенно ходил за водой один. В каждой руке – по деревянному ведру. Второй раз за последнее время Амосу захотелось занять его место. Вместо этого впереди маячили долгие часы выслушивания болтовни клиенток и переворачивания карт Таро. Еще до того, как лохань была до краев наполнена водой, парень облачился в свою мантию прорицателя. В это время Пибоди зазывал зрителей, обходя таверны и лавчонки, располагавшиеся на Стрэнде. То и дело в дверь стучали любопытствующие. Вскоре перед фургоном мадам Рыжковой образовалась длинная очередь.
Эти люди оказались куда разговорчивее северян. Приглушенными голосами они рассказывали прорицательнице о тайных свиданиях, ревности, жадности и воровстве. Однако, как и северяне, южане после часа-двух болтовни довели Амоса до крайней степени усталости. Парень пытался вспомнить, не сложились ли губы Эвангелины в легком намеке на улыбку, когда он показал ей карту. Рыжкова болтала с посетительницами, проявляя к ним должное расположение, смеялась, когда было нужно, и гладила их по руке. Когда приходило время отвечать на заданные вопросы, она подавала Амосу знак.
– Молодой человек покажет нам карты. У него дар слышать голос судьбы, – говорила она с материнской заботливостью. – Именно поэтому он не разговаривает. Иногда он слышит об ужасных, просто ужаснейших вещах.
Общаясь с посетительницами, старушка говорила с куда более явным акцентом, чем обычно. Амос понимал, что мадам Рыжкова перед ними рисуется, не так сильно, как это делает мистер Пибоди, но все же.
– Тайны… Они слушаются его руки. Только его рука заставляет карты открывать нам свои тайны.
Посетительницы смотрели на Амоса так, словно он весь состоял из одних только тайн.
– Большие перемены. Видите этого мужчину? Это Паж. Существует препятствие между вами и предметом вашей страсти… Да, вижу…
Если бы не чудовищное смятение в душе, тягучая речь мадам Рыжковой наверняка бы его успокоила, но парень терзался тем, что выбрал не ту карту. Ему следовало бы показать Эвангелине Мир и ждать ее ответа, но образ Мира не был бы столь очевиден. Он не хотел допустить неясности, а теперь вот из-за этого страдал.
– Тройка Мечей в прошлом. Плохо. Сердце было разбито, – говорила тем временем мадам Рыжкова женщине невзрачного вида.
Три меча на карте протыкали ярко-красное сердце. Амос решил, что этот символ весьма близок ему.
Рыжкова успокаивала женщину, прикасалась к ее запястьям своими скрюченными подагрой пальцами, отгоняла страхи, предвещая любовь в будущем. Кто бы ни приходил в ее фургон, всех она уверяла в том, что в будущем их ждет удача. Это не было правдой. Амос видел по картам совсем другое.
Уже ночью, когда последний посетитель покинул их, Рыжкова задернула занавес перед входной дверью и закрыла дверь фургона. Амос поднялся на ноги, собираясь идти, но старуха остановила его.
– Очень важно, Амос, – произнесла она, уставившись на парня светящимися в полумраке глазами; в ее взгляде читалось предостережение, – знать, когда говорить правду, а когда лучше соврать. Иногда большие деньги можно заработать лишь в ущерб правде. – Она тщательно подбирала слова и, передернув плечами, продолжила: – Они хорошо нам платят, а мы немножко искажаем истину. Присядь-ка рядом со мной.
Амос сел в углу, скрестив ноги. Дерево неприятно давило на его голые лодыжки. Он наблюдал за тем, как мадам Рыжкова снимает платок, которым были повязаны ее волосы. Волосы, похожие на грубые бело-серые веревки, волнами упали на спину. Никогда раньше Амос не видел мадам Рыжкову простоволосой. Его удивила длина волос, доходивших старушке почти до талии. Ему стало интересно, какой же она была прежде. Парень украдкой взглянул на портрет ее дочери, пытаясь найти схожесть, которую пощадило время.
– Я тебя кое-чему научу, – сказала Рыжкова. – Но, прежде чем начать, тебе следует усвоить: ты не смеешь меня обманывать. Между нами не может быть места лжи. Только правда. Друг друга прорицатели не обманывают. – Старушка ударила ладонью о сиденье невысокого табурета и спросила: – Ты брал карты?
Амос кивнул.
Рыжкова рассмеялась.
– Уже лучше. Ты понял. Больше так не делай.
Этого Амос обещать не мог, поэтому остался неподвижен.
Рыжкова подошла к стоящему вертикально бочонку, на котором были разложены карты на последнего посетителя. Она склонилась над ними и жестом подозвала Амоса. В это мгновение ему показалось, что фургон уменьшился, а воздух стал более душным, чем минуту назад. Свет давала лишь одна свеча. Висящие над их головами портреты членов семьи прорицательницы отражали блики света, оставаясь, тем не менее, в тени. Изображенные на портретах словно насмехались над ним.
– Я не буду тебя обманывать. Я не буду тебе лгать, – подняв вверх скрюченный палец, произнесла мадам Рыжкова. – Я тебе сейчас кое-что покажу.
До сего момента в жизни Амоса не было места лжи. Когда парень сидел и смотрел, как руки старухи тасуют карты, он и подумать не мог, что вскоре узнает смысл лжи и будет обматывать ту самую женщину, которая научила его искусству обмана.
Рыжкова показала ему, как засовывать карту за отворот рукава, как прятать другую карту в кушак, как переворачивать карты, изменяя тем самым их значение. Все это он должен был научиться делать так ловко и быстро, чтобы взгляд посетителя не смог уловить это и не заметил подвоха. Его первые неуклюжие попытки вызывали у Рыжковой лишь смех. После нескольких часов тасования, быстрого переворачивания, засовывания и доставания карт Рыжкова внезапно схватила его за руку:
– Ты показывал мои карты девчонке?
Легкое подергивание левой руки выдало его. Гнев вспыхнул и погас в глазах женщины. Внезапно Амосу показалось, что сильный ветер может задуть огонек жизни в этом старческом теле так же легко, как погасить уголек.
– Тебе не следует больше с ней видеться.
Он поднял руку, возражая, но старуха продолжала:
– Она красивая, признаю. Она не похожа ни на тебя, ни на меня. Посмотри на нее повнимательнее. У нее пустая душа, и эта девчонка вечно голодна и ищет, кто бы унял ее голод. Если ты не откажешься от нее, она тебя утопит.
Последнее слово Рыжкова словно выплюнула из себя.
Амос решительно замотал головой.
– Она этого не хочет. Сейчас она думает лишь о любви, не задумываясь о цене, которую за нее заплатит. Ей ведомо лишь желание. Такова сущность русалок, девушек-утопленниц. – Голос ее дрогнул. – Русалка соблазняет мужчину, танцует с ним до тех пор, пока не доводит его до гибели. Она затягивает мужчину под воду, не понимая, что тем самым убивает его. Когда мужчина умирает, русалка скорбит над его телом. Поддавшись печали, она ищет того, кто мог бы ее утешить. Когда же находит, история повторяется. Уж лучше пусть она займется кем-то другим. Я не позволю, чтобы русалка погубила моего мальчика.
В животе у Амоса все сжалось. Он не мог поведать Рыжковой, что он видел, когда обнимал Эвангелину, о том, что это она отталкивала его. Он вонзил зубы себе в щеку и впивался в нее до тех пор, пока не почувствовал вкус крови.
– Я рассказала это лишь потому, что пекусь о твоей безопасности. Я все видела… И я тебя люблю, сынок.
Обутая в башмак нога ударила по бочке. Карта подскочила. Паж Кубков. Черноволосый юноша держит в руке наполненный до краев кубок.
– Девочка, возможно, и не знает этого, но она выпьет твою душу до остатка. По-другому она просто не может. Ее пустая душа погубит обе ваши души.
Пожилая женщина с силой хлопнула руками по шкатулке, а затем приподняла свой скрюченный палец и предостерегающе помахала им перед носом Амоса.
– И ты мне врать не будешь. Теперь обходи ее десятой дорогой.
Глава 11
17 июля
У меня оставалась одна неделя. Книга представляла собой красиво обрамленное окно, из которого открывался туманный вид на то, что нас убивает. А нас определенно что-то убивает. Дело совсем не в патологической печали, пожиравшей мою семью. Вчера я наткнулся на газетную фотографию моей бабушки, сделанную за два дня до ее гибели. Молодая женщина ангельского вида в купальном костюме от Эстер Уильямс улыбается так лучезарно, что сжимается сердце. Подлинное счастье, а за ним – пустота. Энола дома впадает в транс над картами Таро.
Но я жив и сейчас стою в воде. Дно кишит мечехвостами. Они здесь уже больше недели – куда дольше, чем обычно продолжается период их размножения. Не исключено, что виной всему глобальное потепление. Этим летом жарче, чем обычно. Там, куда в прошлые годы во время отлива я мог добраться, не замочив ног, теперь плещутся волны. Быть безработным – это значит сидеть в четырех стенах и наблюдать за тем, как с каждым днем на пол с потолка падает все больше штукатурки. Мечехвост быстро пробежал по моей ноге, царапая кожу своими ножками.
Лавиния Коллинз утонула в 1876 году. Случилось это в Бриджпорте, недалеко от Барнума. Если всмотреться в противоположный берег, можно увидеть то место, где она утонула. Она родилась 3 февраля 1846 года. Матерью ее была Клара Петрова, дочь утонувшей Бесс Виссер. Лавинии не стало в возрасте тридцати лет. Все, что касается событий после ее рождения, осталось на испорченных страницах с расплывшимися чернилами. Впрочем, ничего не свидетельствовало о том, что дело здесь нечисто. Вчера вечером Черчварри рассказал мне о Летающих Валленда, цирковой семье канатоходцев, чья родословная уходит корнями в глубь времен по крайней мере на четыре столетия. За это время они пережили столько падений и прочих несчастных случаев, что впору поверить в проклятие.
Посылку принесли утром. От книги исходил приятный запах старой бумаги. Внутри я нашел короткую записку, сунутую туда Черчварри.
Я рассчитываю, что вы вернете книгу, но торопиться не надо. Вы можете подержать ее у себя, но подозреваю, что ни вы, ни я не позволим себе рассматривать это как сделанный мною подарок. Боюсь, Мари, когда узнает, так раскричится, что у меня полопаются барабанные перепонки. Книга эта довольно редкая.
Тяжелый фолиант «Наложение заклятий и проклятий» имел довольно зловещий вид: толстый кожаный переплет черного цвета, название тисненое, но без позолоты, страницы пропитались жиром пальцев тех, кто в течение многих лет интересовался содержимым книги. Я прикоснулся к ней и ощутил душевный трепет, сравнимый с тем, что я испытал, впервые взяв в руки журнал… наш журнал. Я посижу и подожду, пока мои мозги не прочистятся.
Что-то схватило меня за волосы и рвануло так, что чуть было не вырвало их с корнями. Воздух меня ослепил. Я дернулся в сторону, и чья-то рука схватила меня за руку. Я попытался вырваться, но вода замедляла мои движения. Хватка стала крепче. Пальцы отпустили мои волосы и схватили за другую руку. Живот скрутило, и оставшийся воздух вырвался из моего рта пузырями. Руки, проскользнув под мышками, сомкнулись у меня на груди. Я дернулся, но захват не ослабел. Сопротивляясь, я больно укусил себя за язык. Я лягнулся. Свет стал ярче – меня тащили наверх.
Я поперхнулся, стараясь высвободиться. Меня потащили назад, животом к небу, вода хлынула мне в легкие. Руки ухватили меня повыше, сжали шею, лишив возможности дышать. Я царапался. Я задыхался. Я не мог избавиться от попавшей в легкие воды. На меня нахлынула темнота. Неясные тени метались до тех пор, пока весь мир не окутала тьма. Я бился всем телом, стараясь высвободиться. Дышать. Дышать.
Черт! Мы на самом деле прокляты!
Я лежал на спине. Песчаная блоха укусила меня за плечо. Что-то на периферии моего восприятия. Голос. Рука шлепает меня по лицу. Глаза у меня открыты. Голова заслоняет мне солнце. Черты лица скрыты в тени… Это не тень, а татуировки… Дойл.
– Эй, чувак! Ты в порядке? Я сдавил сильнее, чем хотел. Извини.
Я рванулся, желая наброситься на Дойла, но почувствовал легкое головокружение.
Татуированные пальцы парня моей сестры сомкнулись вокруг моего кулака за несколько дюймов от его лица. Он удерживал какое-то время мой кулак, а потом отвел его в сторону с таким видом, словно решил изучить рисунок голубых вен на моей руке.
– Полегче, брат.
Я не уверен, что именно это он сказал, но что-то подобное.
– Ты хотел меня убить?
Я плюнул, замахнулся левой рукой, но Дойл легко блокировал удар.
– Блин! – выругался он. – Ты же тонул!
Дойл был так невозмутим, словно мы вели дружеский разговор под пиво.
Я его толкнул, и тогда он заломил мне руку за спину.
– Приятель! Ты же не хочешь меня ударить? – заключая меня в медвежьи объятия, произнес Дойл. – Охладись немножко. Что на тебя нашло? Это из-за недостатка кислорода. Сейчас в голове прояснится.
Он даже не запыхался.
С высокого берега донесся крик. Энола. Послышался стук ее туфель по деревянным ступенькам лестницы, ведущей на берег. Ей понадобится пять минут, чтобы спуститься на пляж. Я начал вырываться, но тщетно. Какой стыд! Я и разок не смог ударить моего противника.
– Слушай, я видел, как ты с головой ушел под воду. Я кричал, но ты не слышал. Ты долго не всплывал, мужик.
– Я был в полном порядке.
Энола, подбежав к нам, шлепнула Дойла по плечу.
– Отпусти.
Тот ослабил хватку, а сестра крепко меня обняла. Она часто и прерывисто дышала. Ее била мелкая дрожь.
– Ты в порядке? Что случилось?
– Твой парень пытался меня убить.
Она разжала свои объятия так стремительно, что я едва не потерял равновесие, а затем набросилась на меня с кулаками. Била она несильно, но, продлись эта экзекуция подольше, она наверняка повредила бы мне руку.
– Ничего подобного! Он на такое не способен!
Дальше последовали маловразумительные крики. Я прижал руки сестры к ее туловищу. Дойл стоял в нескольких ярдах от нас. Уверен, он улыбался.
– Успокойся, Маленькая Птичка, – сказал он.
Успокаиваться она не собиралась. Она не такая. Я не такой. Мы оба легко заводимся. Когда Энола поняла, что отпускать ее я не собираюсь, она укусила меня за плечо. Я вскрикнул, а сестра, вырвавшись, бросилась к Дойлу – проверять, не сильно ли он пострадал.
– Я в норме, – пробурчал тот.
Я посмотрел на свое плечо и увидел белые отметины в форме полумесяца, оставшиеся от ее зубов.
– Клянусь, он меня душил! – заявил я.
Энола повернулась к Дойлу. Кулаки на всякий случай сжаты.
– Он тонул, а я его вытащил.
Кулаки заметались в воздухе – правда, только для острастки.
– Не будь дураком. Мой брат не может утонуть.
Несмотря на все происходящее, я улыбнулся:
– Именно это я ему только что сказал.
– Он хороший пловец и может надолго задерживать дыхание, – сказала сестра.
– На десять минут? – присвистнув, спросил Дойл.
– Десять минут?
Теперь всеобщее осуждение.
– Он пытался меня задушить.
– Дойл – пацифист. – Большей нелепицы от сестры я никогда не слышал. – Я попросила его пойти привести тебя. Пришел строительный подрядчик. Его прислал Фрэнк. Тебе надо с ним поговорить.
Мы подошли к лестнице. Дойл с обезьяньей легкостью стал подниматься первым. Сестра тронула меня за плечо.
– Это уже слишком.
– Едва не быть задушенным твоим парнем? Отнюдь. Тебе следует чаще приезжать ко мне. Быть почти задушенным – то еще развлечение.
– Десять минут – чересчур даже для тебя, – заметила сестра.
Я сказал, что Дойл преувеличивает, но точно не знал, сколько времени пробыл под водой. Ее руки зашевелились в карманах. Я заметил уголок карты, на котором была изображена нога, заканчивающаяся копытом. Дьявол? Но совсем не такой, как в «Принципах прорицания». Энола засунула карту поглубже в карман.
– Да уж, – произнес я.
Строительного подрядчика звали Пит Пелевский. Грузный мужик с копной седеющих волос. На нем была рубашка в клеточку, а бедра охватывал видавший виды пояс для инструментов. Записи он делал плотницким карандашом. Вся его внешность создавала впечатление надежности и солидности. Впрочем, смягчить удар это не смогло. Каждое произнесенное им слово отдавалось в моей душе болью.
– Сто пятьдесят тысяч, – подвел он итог.
Мой вздох был отчетливо слышен, но он пер напролом, как бульдозер.
– Главную защитную дамбу надо срочно ремонтировать, а еще начинать сооружать террасу. Дом… – Мужчина сокрушенно покачал головой. – Фундамент в ужасном состоянии. Вам придется нанять каменщиков и ландшафтников для того, чтобы укрепить обрыв. Со мной работают парни, но, пока я не переговорю с ними, не смогу сказать, сколько это точно будет стоить, однако рассчитывайте, что понадобится еще сотня тысяч баксов. И это только для того, чтобы все делать по минимуму. – Он постучал карандашом по своему блокноту. – Кроме того, вам стоит поторопиться. Чтобы мы могли заехать грузовиками на пляж, почва должна быть сухой. В противном случае ни о каких земляных работах и речи быть не может.
Я начал задавать конкретные вопросы. Сколько грузовиков? Четыре, если город даст добро. Сколько времени займут земляные работы? От нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от количества грузовиков. Смогу ли я жить и работать в доме? Только до тех пор, пока ни начнут укреплять фундамент. После этого я пожал ему руку, попросив изложить его соображения в письменном виде, и мы, обменявшись любезностями, расстались. Ну разве Фрэнк, старый друг моей семьи, не отличный мужик?
Когда Пит Пелевский ушел, я оперся спиной о стену кухни возле того места, где висят на крючках ключи. Обои пестрели отпечатками пальцев папы, мамы, меня и Энолы. Их оставляли здесь на протяжении долгих лет, когда вешали на крючки ключи.
Четыре, три, два, один…
– Попроси Фрэнка помочь тебе деньгами, – предложила Энола, сидевшая за кухонным столом.
Она заняла мамино место. Из ее чашки торчала веревочка от пакетика с чайной заваркой. Ложка в руке позвякивала о фарфор. Энола раскачивалась на задних ножках стула.
– Я попытаюсь выцыганить что-нибудь у Исторического общества. Вдруг у них окажутся свободные гранты на реставрацию зданий, имеющих историческое значение.
– Мне кажется, на это уйдет уйма времени, – сказала сестра.
– В получении грантов я поднаторел. До недавнего времени я только этим и занимался.
– Лучше попроси у Фрэнка. Он наверняка даст.
– Я бы предпочел у него не просить.
– Почему?
– А тебе какое дело?
Я мог бы высказать ей все, что о ней думаю, – очень горькие и обидные вещи, которые я собирал и каталогизировал на протяжении многих лет.
– Ну, не знаю… Папа жил в этом доме… Я жила…
Жила. Прошедшее время.
– Но больше не живешь.
На полу виднелись следы от моего стула, а вот одеяло в пятнах – это ее дело. Она бросила здесь свою одежду и одноглазого плюшевого мишку.
– Но я все равно считаю этот дом своим.
Сунув руки в карманы, Энола принялась перебирать там карты.
Ладно. Поиграем в открытую.
– Ты ведешь себя странно из-за карт. С одной стороны, ты все время с ними возишься, а с другой – порвала ту картинку в моей книге.
За нее ответил Дойл:
– В последнее время у нее вместо нормального гадания получаются жуткие предсказания разных бед.
– Черт тебя побери, Дойл!
Энола в сердцах топнула ногой. Ножки стула заскрипели на линолеуме.
– Я не говорю об этом, значит, и ты не должен.
Хлопнув кухонной дверью, сестра выскочила на задний двор.
Дойл скривился. На лице дернулся кончик щупальца – тени вперемешку с чернилами.
– Она стала очень обидчивой.
– Давно?
– Месяца два.
Блин! У меня осталась неделя.
– А с чего бы это?
– Говорит, что переживает.
Я уселся на стул, который стоял напротив стула отца. Кухонный стол навсегда останется столом отца, хотя со дня его смерти минуло уже лет десять. Мне не нужно было закрывать глаза, чтобы представить отца сидящим там, где сидит сейчас Дойл, и ожидающим возвращения мамы. Он никогда бы в этом не признался, но я-то все понимал.
Мне было девятнадцать, Эноле – четырнадцать. Отец стал первым мертвецом, которого мы видели в жизни. Налитые кровью глаза уставились в газету, которую он так и не дочитал до конца. Энола, вернувшись из школы, застала отца таким. Удар. Крошечный кровеносный сосуд закупорился, а затем лопнул. Впрочем, отец уже был наполовину мертв после маминой смерти.
Мы не плакали, когда увозили тело.
Энола сидела на диване, скрестив ноги в виде буквы «V», и смотрела через окно на воды пролива. С тех пор сестра оставалась единственным человеком, который знал, как мы жили после его смерти, как готовили стейк по папиному рецепту, вспоминали, как отец отвешивал нам подзатыльники… Только она знала, насколько глубоко наше одиночество.
– Я тебя ненавижу, – сказала мне тогда сестра.
– Знаю.
– Я ненавидела его.
Мы оба уставились на стену, на которой обозначились контуры будущей трещины.
– Я тоже его ненавидел, – сказал я.
– Что происходит? – спросила она.
– Я позабочусь о тебе, – пообещал я.
Дойл и я смотрели в окно, а Энолы и след простыл. Приятель моей сестры покусывал большой палец. Я только сейчас заметил, что его ногти, как и мои, были обгрызены дальше некуда.
– Далеко она не сбежит, – сказал я. – В Напаусете нечего делать в эту пору.
Мне следовало бы ему растолковать, что любые отношения с моей сестрой неизбежно включают в себя вот такие внезапные срывы. Из-за татуировок мне трудно было смотреть на него, не вспоминая о часах добровольной боли.
– Кстати, сколько тебе лет?
– Двадцать четыре.
Мне казалось, что мы ровесники. Я бы дал Дойлу лет тридцать или, возможно, чуть больше.
– Должен спросить, что у тебя с моей сестрой?
Я специально не употребил слово «намерения», тогда это прозвучало бы очень по-отцовски.
– Я согласен на все, чего захочет она. – Вполне честный ответ на такой обтекаемый вопрос. – А чего ты так долго оставался под водой?
– Семейный бизнес. Меня научила мама. Она тоже когда-то работала в цирках и на ярмарках.
– Разве она не утонула?
– Утонула, но то совсем другое.
Дойл покачал головой, и осьминожьи щупальца задвигались у него на шее.
– Мужик! Ну, не знаю… У меня в семье все слесари-водопроводчики.
Он рассмеялся и хрустнул позвонками шеи. Как ни странно, но я начал симпатизировать этому парню.
За окном раздался скрип. Кто-то присел на почти сгнивший столик для пикников. Мы оба посмотрели в ту сторону. Ссутулившись, Энола сидела, скрестив ноги, на столе, сбитом нашим отцом. Она никогда не садилась на скамейку. Энола от нас отвернулась.
– Я за нее переживаю, – тихо произнес Дойл. – Из-за карт она ведет себя несколько странно.
– Я с ней поговорю.
– Хорошо, мужик.
Цемент ступенек крыльца заднего выхода растрескался, поэтому сестра заблаговременно узнала о моем приближении и смахнула со стола лежавшие там карты. Картон пожелтел, рисунки выгорели, уголки истрепались… Карты явно были очень старыми. Я заметил полустертую руку скелета прежде, чем Энола успела собрать все карты и сунуть их в карман толстовки. Развернувшись, она посмотрела на меня. Я присел на одну из лавок. Старые доски просели под моим весом.
– Это марсельская колода? Я видел такие рисунки в «Принципах прорицания». Также я видел колоду Уэйта, созданную в начале ХХ века. Красивые рисунки. На твоих картах не такие.
– Я не хочу об этом говорить, – заявила сестра.
– Я так и понял.
Энола вытянула ноги и оперлась локтями на стол.
– Зачем папа вообще это здесь соорудил? Не помню, чтобы мы хоть раз ели на свежем воздухе.
– Пару раз все же было.
– Но не после маминой смерти.
– Да, – согласился я. Все остановилось, когда мама умерла. – Дойл мне нравится.
Сестра соскребла немного лишайника, росшего на столе.
– Он меня любит. Я знаю, как это иногда трудно.
– Ты не такая ужасная, как тебе кажется, а Дойл, как по мне, чересчур странный даже для тебя.
– Знаю, – улыбнулась она. – Это одна из причин, почему я с ним.
– Где вы путешествуете?
Я хотел разговорить сестру. Прошло слишком много времени с тех пор, как я в последний раз с ней вот так общался. Мне хотелось слушать ее и слушать. Чего я никогда не любил в моей работе в библиотеке, так это тишину. Зимой там иногда целыми днями вообще ничего не происходило, лишь шипели радиаторы, жужжали компьютеры да шелестели переворачиваемые страницы.
Почему я не разговаривал с Алисой по душам на работе? Ума не приложу.
– Прошлой зимой шоу Роуза оказалось в самом сердце Джорджии. Карты в тех местах не в особом почете. Слишком религиозные люди там живут, – закатив глаза, сообщила мне Энола. – А вот дома там красивые. Тебе бы они обязательно понравились. Я ездила на экскурсию по местам, где, как говорят, появляются приведения, видела старинные кирпичные дома, которые стоят на берегу реки, впадающей в океан. У них там устрицы прямо по берегу валяются. Издали они напоминают кружевные оборочки на трусиках. Ничего красивее этого в жизни не видела.
Энола медленно потянулась всем телом.
Старые рукописи не многим отличаются от кружев. И те и другие требуют деликатного обращения. Я подумал о работе, которую могу получить в Саванне. Сегодня утром Лиза прислала мне по электронной почте сообщение о том, что архив Сандерса-Бичера связался с ней и попросил дать мне рекомендации. Она отчитала меня за то, что я так долго мешкаю с ответом, но все же подтвердила мою профпригодность. На ее месте я бы поступил точно так же. Лиза и я всегда отлично понимали друг друга. Я посмотрел на родную сестру, которую никогда не понимал.
– А как твое шоу?
– В целом скукотища. Бродячее карнавальное шоу – это совсем не то, чем его считают люди со стороны. Качели, игровые автоматы и выступления фриков.
– Дойл подпадает под последнюю категорию?
– Да. Там есть лабиринт с одноглазым ягненком-циклопом и прочими уродствами. Из чучел детенышей обезьяны получились вполне убедительно выглядящие сиамские близнецы. Вообще, жить этим – все равно что ходить вокруг большой кучи, наложенной псом. Недоглядишь – и обязательно вляпаешься. Я имею в виду… Как можно законно приобрести трупы обезьян? – Она посмотрела на окно кухни, возможно, выискивая глазами Дойла, и продолжила: – У нас есть шпагоглотатель Лео. Помимо шпаг он глотает еще огонь. С ним все более-менее в порядке. Он самый нормальный из всех нас. Мужик разменял уже четвертый десяток. У него есть жена и дети. А один тип прокалывает себе тело. Полный засранец, но анатомию хорошо знает.
Энола выковыривала из-под ногтя глубоко забившуюся грязь.
– Он вешает себе на соски «пушечные ядра», прокалывает руку иголками и вытворяет тому подобное. На ночных шоу, если заплатить больше, можно увидеть, как он поднимает тяжести своим хозяйством. Толстяк Джордж работает с наличкой. Дойл выступает в основном в ночное время.
В этом был смысл.
– Лампочки эффектнее смотрятся в полной темноте, я прав?
– Да. Днем тоже неплохо получается, но ночью – совсем другое дело. Понимаешь, почему он сделал себе татуировки? В темноте он не похож на человека. Ты видишь лампы, но свет как бы исходит от него. Кажется, что его тело состоит из воды и звезд. Ты воображаешь, что сможешь стать частью его кожи, двигаться вместе с ним, и тогда ты так же будешь светиться. Иногда мне кажется, что его татуировки впитывают в себя свет. Если бы Дойл не хотел, чтобы его увидели, никто бы его не увидел. Просто он хочет, чтобы я – такая девушка, как я, – его заметила.
Сестра провела рукой по волосам. Ногти заскользили по коже, выдернув несколько блестящих, склеенных вместе лаком волосков.
– Он хороший человек, лучше меня, – сказала она.
В моем кармане запищал телефон. Алиса. Тон натянутый.
– Ты мне должен кое-что объяснить.
– Привет! В чем дело?
Я отошел от стола. Энола, прислушиваясь, подалась вперед. Одними губами она прошептала: «Алиса?» Я поднял вверх руку и отвернулся, но сестра нависла у меня за спиной.
– Зачем ты украл книги из библиотеки?
– Извини… Что?
– Извинений не надо. Лучше объясни. Марси видела, как ты брал книги, и сказала Дженис. Я только что выдержала получасовую лекцию на тему библиотечного воровства, словно это я украла эти книги, а не ты. И все из-за того, что мы встречаемся. В этом чертовом городе ни от кого нельзя спрятаться! Черт побери! Как тебе такое в голову пришло?
– Не знаю. Черт! Я их верну.
После минутного молчания я спросил:
– Ты меня слышишь?
– Ты же не сердишься на меня за то, что уволили тебя, а не меня? Если так, то у нас проблемы.
– Нет! Господи, нет! Извини. Мне просто понадобились эти книги, и я не думал… – Энола бросила на меня укоризненный взгляд. – Извини. Если бы я знал, что тебе за это попадет…
– Перестань извиняться и верни книги.
То, что придется возвращать украденные книги в библиотеку, из которой меня недавно уволили, показалось уж слишком унизительным.
– Могу я привезти их сегодня вечером тебе?
– Хуже не придумаешь, – вздохнув, сказала Алиса. – Просто верни их в библиотеку. Договорились? Сделай это ради меня. Кстати, отец пригласил меня сегодня к себе на ужин.
Намек понят. Я буду сидеть напротив Фрэнка и Ли, держать Алису за руку под столом…
Я издал неопределенный звук.
– Да, прекрасно тебя понимаю. Это будет непросто, но мы прорвемся.
Алиса отсоединилась, чему я был только рад. Что бы я ни сказал, было бы только хуже.
Я услышал, как смеется моя сестра.
– Блин! – борясь со смехом, произнесла она. – Что за хрень! Я только теперь поняла, почему ты не просишь у Фрэнка денег. Ты спишь с Алисой.
Глава 12
Пибоди оказался совершенно прав насчет Нью-Касла. Торговая гавань. Купцы и перевозчики приплывали в верховья реки с немалыми деньгами на руках. Скототорговцы вываливались из «Заячьего угла», заполняя собой кривые улочки голландских кварталов. До войны город был столицей колонии, но из-за интервенции Британии и жарких сражений вокруг Филадельфии местное правительство перебралось в Дувр, оставив город пребывающим в меланхолии. Для труппы бродячих циркачей ищущие развлечений горожане были просто подарком судьбы.
Амос и Рыжкова работали с утра и до ночи, и только тогда наплыв посетителей наконец схлынул.
– Те, кто предпочитает жить прошлым, очень интересуются будущим, – сказала Рыжкова, попивая из кружки пенистое пиво, поданное Амосом.
Его наставница имела слабость к горькому пиву.
– Они хотят, чтобы будущее стало похожим на прошлое.
Взгляд старушки смягчился, глаза приобрели стеклянный блеск. Вскоре она уже мирно похрапывала, растянувшись на матрасе.
Амос осторожно укрыл ее одеялом и отставил в сторону кружку так, чтобы не разбудить мадам Рыжкову. Последний посетитель выпровожен. Других дел у него не было. Лохань Эвангелины вычерпана, и все готово к завтрашнему отъезду рано утром. Парень решил, что сейчас у него есть шанс.
Когда Амос искал карты, он не думал, что обманывает свою наставницу или что нарушает данное им обещание. Карта, которую он выбрал, имела не столь явное значение, как Любовники, и Амос надеялся, что она не напугает Эвангелину. Карта Силы. Красивая женщина положила руки на голову льва. Зверь смотрит на нее с обожанием, в то время как женщина одновременно приголубливает его и подчиняет себе. Амос вытащил карту из колоды и уже собирался закрыть крышку шкатулки, но, подумав, прихватил еще и Королеву Мечей. Черноволосая статная женщина была очень похожа на Эвангелину. Так будет лучше. Так она скорее поймет.
С того дня, как он издал режущий слух звук, Амос много раз пытался заговорить, но только окончательно удостоверился в том, что не способен издавать членораздельные звуки. Сначала Пибоди обрадовался и даже предложил свою помощь, когда застал однажды Амоса что-то сипящим за бархатной занавесью у себя в фургоне. Пожилой мужчина уселся напротив парня и попытался объяснить, как следует издавать звуки, используя мышцы живота для выталкивания воздуха.
– Это похоже на кузнечные меха, – сказал он, похлопывая себя по животу.
Живот Пибоди надувался и опадал, но, когда Амос попытался проделать то же самое, с его губ сорвалось лишь противное шипение. Как он ни старался, лучше все равно не выходило. Они пытались жужжать, свистеть, гудеть. Пибоди пришел к выводу, что именно язык – виновник немоты Амоса.
– Язык не пускает звук, рвущийся из груди.
Он показал, как, широко открыв рот, вертеть языком. Амос вспомнил, что точно такие движения проделывает лама перед тем, как плюнуть. Язык парня, впрочем, отказывался подчиняться его воле.
Энтузиазм Пибоди вскоре угас.
– Упражняйся, сынок. Наберись терпения, – сказал он ему перед сном.
Потерев глаза, Пибоди повесил шляпу на медный крючок, вделанный в стену над его кроватью. Бархат уже порядком поистерся на сгибах полей шляпы. Амосу вдруг представилось, что внутри его горло выглядит не лучше – больным и немощным.
– Никто ничему за один день еще не научился. Не стоит падать духом, – сказал старик, а затем открыл свой журнал и принялся записывать в него события минувшего дня.
Карты Рыжковой были наилучшим способом выразить свою мысль. Зажав выбранные карты в руке, парень почувствовал, как решимость, подобно лютому голоду, зарождается в его сердце.
Лохань Эвангелины, никем не охраняемую, выставили просыхать до отхода ко сну ее обитательницы. Амос всунул краешки обеих карт между досками так, чтобы они стояли вертикально, и опустил чуть ниже промасленную ткань, опасаясь, что карты может заметить кто-нибудь посторонний. Сделав это, он направился к фургону, в котором перевозили маленькую лошадку, и уселся в дверном проеме, ожидая возвращения Эвангелины. Он жалел, что не догадался прихватить для Лакомки яблоко, но лошадка, судя по всему, довольна была уже тем, что ей гладят мордочку, и ничего не имела против того, что от Амоса воняет жженым шалфеем. Парень пытался унять нервную дрожь в руках, поглаживая лошадь по гриве.
Через полчаса к его укрытию подошел Бенно. Нью-Касл вымотал акробата. Куда и подевалась пружинящая походка атлета – он теперь шел, шаркая, словно старик. В последнее время Амос часто видел, как его друг работает, вертится колесом, перескакивая с ног на руки и обратно, и так до бесконечности. То и дело ему приходилось ходить на руках либо стоять на одной руке. Хотя со стороны казалось, что для него все это не составляет особого труда, на самом деле он сильно уставал.
Бенно уселся рядом с Амосом, свесив ноги с края фургона, и принялся махать ими.
– Мне кажется, ты слишком много времени проводишь, наблюдая за птичками, – сказал он.
Легкий акцент делал отчетливым каждый звук. Почти все гласные у Бенно оказывались под ударением. Неизувеченный шрамом уголок рта акробата пополз вверх – губы растянулись в улыбке. Амос тоже улыбнулся. Не было никакой возможности объяснить приятелю, что он уже начал общаться с Эвангелиной, вот только девушка об этом пока еще не знает. Указав рукой на натруженные ноги Бенно, Амос попытался повторить его усталую походку.
Акробат тяжело вздохнул:
– Ну, не все мы так молоды, как ты. Что же касается городов, то для тебя все они на одно лицо. А для меня, – он показал покрытые царапинами и ссадинами руки с почерневшими, напоминающими шелуху от семечек подсолнуха ногтями, – улицы, мощенные кирпичом, – совсем не то, что голая земля.
Амос вспомнил об изувеченных пальцах Рыжковой. Профессия Бенно станет его проклятием. Парень изогнул большой палец и показал его акробату.
– У тебя еще много лет впереди, а твоя старушка прожила три твоих жизни. Верь мне… Кстати, о женщинах, – продолжил он. – Мелина о тебе спрашивала. Ступай к ней. Быть может, она захочет разделить с тобой свой фургон. Не робей.
Бенно легонько похлопал парня по плечу.
Амос отрицательно помотал головой.
– Русалка – не для тебя, – мягким тоном сказал Бенно. – Мелина или Сюзанна – достаточно уравновешенные, довольные жизнью девицы. Молчаливому мужчине нужна счастливая женщина. Эвангелина… За ней скорбь тянется так, словно хвост за кошкой.
Амос стремительно дотронулся до руки Бенно и многозначительно посмотрел на приятеля, скосив глаза.
Бенно медленно кивнул.
– Понимаю. В тех краях, где я родился, такие создания зовутся никси. Она наполовину женщина, наполовину рыба. – Амос неодобрительно фыркнул, и тогда акробат продолжил излагать свою мысль еще более мягким тоном: – Я понимаю, что это глупо звучит, но Эвангелина играет со смертью. Амос! Она никогда не говорила, откуда пришла. В этом таится угроза. – Мужчина прочертил на досках фургона линию. – Эта граница проходит между мертвыми и живыми. Она слишком тонка и может быть преодолена в одно мгновение.
Амос сложил руки, давая понять, что больше говорить с Бенно не намерен. Они сидели молча и наблюдали за тем, как Нат грузит сундуки с цирковыми костюмами на телегу. Клубки мышц надувались на его теле. Мелина сидела у костра и отмачивала больные ноги в горшке с соленой водой. Нат вернулся к телеге. Сюзанна присела возле Мелины, они принялись о чем-то болтать. Наконец Бенно спрыгнул на землю.
– Ты хороший малый и мой друг, – тихо произнес он. – Очень хороший парень. Я привык приглядывать за добрыми душами, ибо они сами не могут позаботиться о себе.
На секунду его взгляд стал предельно серьезным, но затем странная полуулыбка мелькнула на его лице.
– Я слишком много болтаю. Извини меня. – Развернувшись, он заковылял к своему фургону. – Будь храбрым. Счастливые женщины – благо для доброй души.
Амос сидел и ждал.
Эвангелина вернулась из города, неся в фартуке несколько маленьких стеклянных бутылочек. Амос помнил, что прежде в этом голубом платье ходила Сюзанна, но на Эвангелине оно выглядело более ярким. После быстрой ходьбы лицо ее порозовело. Локоны вились, обрамляя ее лицо. До этого мгновения, за исключением тех минут, когда девушка погружалась в воду в своем белом платье, Амос не видел ее такой обворожительной, такой красивой. Парень улыбнулся. Эвангелина, пройдя мимо того места, где он стоял, постучала в дверь фургона Ната. Силач отозвался и выглянул наружу. Амос напряг слух, желая услышать, о чем они говорят. Эвангелина передала ему бутылочки. Оказалось, что в них лечебные масла и мази, помогающие от болей в пояснице. Амос помнил, что Нат и раньше такими пользовался. Ментол, травяные масла и еще что-то, сильно пахнущее… Их надо втирать в кожу. Парень видел, как они обмениваются любезностями. В душе его скапливалась горечь. Лакомка терлась мордой о его спину, но успокоения нежность животного ему не принесла.
Он не видел, как Нат закрывал дверь, а Эвангелина направилась к своей лохани. Амос чувствовал себя полным дураком из-за того, что раньше не ушел отсюда, не забрал карты и не вернул их мадам Рыжковой. Согнувшись, он сполз по обшитому досками борту фургона на пол и зажмурился. Амос дышал тихо-тихо, вслушиваясь в звуки вечера. Он замедлил свое сердцебиение и постарался слиться со стеной фургона. Даже с закрытыми глазами молодой человек видел, как она передает черную бутылочку Нату, как ее пальцы касаются его пальцев. Сердце пронзила острая боль.
Он услышал свое имя. Сначала его выкрикнули возле фургона Рыжковой, потом близ Сюзанны… Его звала Эвангелина. Затем послышался голос Мелины, вот только слов он не разобрал. Звуки его имени смешивались с потрескиванием дров в костре. Если он останется с Лакомкой, его могут не найти. Он положит карты обратно. У него проворные пальцы, бесшумная поступь, и если он будет достаточно ловок, то не разбудит старушку.
Но Эвангелина все равно догадается. Лакомка жевала кончик его головного убора. Парень отогнал ее. Он не может больше ходить, повесив голову, и думать, что Эвангелина считает его поведение просто нелепым. Он и так уже болен ею, причем серьезно. Он услышал, как Сюзанна что-то говорит Эвангелине. Теперь голоса раздавались ближе. Если он ничего не предпримет, она увидит карты и сочтет их еще одной дурацкой выходкой сумасшедшего немого. Маленькая лошадка потерлась мордочкой о его ладонь. Если он покажется, если постарается объясниться, то, возможно, она поймет. Он станет львом.
Амос повернулся к двери фургона и ударил кулаком по доскам. Он стучал до тех пор, пока Эвангелина не повернулась, чтобы узнать, кто же это шумит. Он сидел и ждал. Ноги подогнуты под себя. Такую позу он принимал всякий раз во время гадания. Девушка увидела его, но выражение ее лица совсем не походило на те выражения лиц зрителей, разбираться в которых мистер Пибоди в свое время его научил. Парень заметил карты, зажатые в ее руке. Знакомые оранжевые рубашки. Теперь он и сам не понимал, чего всем этим хотел добиться.
– Вот ты где! – воскликнула девушка. – Ты от меня прятался?
Отрицательно помотав головой, Амос махнул рукой в сторону Лакомки.
– Ты заботишься о ней. Вы, можно сказать, друзья.
Парень неловко пожал плечами.
Эвангелина перевела взгляд на зажатые в ее руке карты.
– Это ты мне оставил?
Вопрос прозвучал твердо, но не грубо.
Амос кивнул. Не в силах выдержать ее взгляд, молодой человек уставился на Королеву Мечей. Во рту у него пересохло, а язык стал словно свинцовый.
– Извини, – произнесла девушка. – Они, конечно, красивые, но я не могу их взять. Уверена, что они нужны мадам Рыжковой.
Амос не пошевелился, не взял у нее карты, и Эвангелина сказала:
– Мне не хотелось бы, чтобы мадам Рыжкова на тебя злилась. Иногда она бывает просто ужасна.
Амос оставался неподвижен.
– Ты всегда был добр ко мне…
Девушка нагнулась, чтобы положить перед ним карты.
Амос взглянул на них. Он знал сокрытый в картах смысл. Днем и ночью его пальцы прикасались к ним. Теперь он знал карты даже лучше, чем самого себя. Амос положил руку поверх девичьей руки, похоронив под ними карты. Он отрицательно помотал головой.
– Амос! Я их у себя не оставлю.
Парень осторожно, стараясь вновь не прикоснуться к ее коже, забрал у нее карты – он боялся, что может потерять самообладание. Прежде чем девушка ушла, Амос поднял Королеву Мечей и поднес карту к ее лицу. Он указал пальцем на темные волосы нарисованной женщины, а затем прикоснулся к черным волосам Эвангелины. Хотя он старался сдерживать свои чувства, пальцы его при этом дрожали. Ее волосы на ощупь оказались такими же мягкими, какими он их запомнил.
– Тебе кажется, что я на нее похожа?
Он считал, что более чем похожа, но лишь согласно кивнул.
Амос показал ей вторую карту. Карта Силы. Он провел кончиком пальца по тщательно прорисованной руке женщины, державшей ее на голове покорившегося ей льва. Неплохо. Девушка от него не убежала. Укусив себя за щеку, Амос прикоснулся к руке Эвангелины, дотронулся до костяшек ее пальцев. Он указал на оранжево-коричневую гриву льва, а затем прижал свою руку к ее груди.
– Я не понимаю.
Она от него не убежала. Как он рад был этому!
Амос положил карту на дощатый пол фургона и спрыгнул на землю. Эвангелина отпрянула, испугавшись стремительности его движений. Парень поднял руку ладонью вперед, делая ей знак не уходить. Эвангелина остановилась. Он встал на четвереньки в пыль у ее ног и, подняв голову, встретился с девушкой взглядом. Амос взял ее руки своими и положил их себе на голову.
Они застыли в полном молчании, и сколько времени это продолжалось, никто из них не смог бы сказать.
Когда Эвангелина убрала руки с его макушки, Амос поднялся на ноги.
– Ты лев?
Он уткнулся лбом в ее плечо, и она успокоила его так, как обычно успокаивают мужчин женщины.
– А я… О!
Этот односложный возглас подтверждал, что теперь она все поняла, но это уже не имело особого значения. Своим поведением Эвангелина все ему сказала.
Позже, в темноте пустой лохани русалки, они развязали платок, стягивающий его волосы. Эвангелина восхищалась их мягкостью и цветом. Амос не понимал, что же красивого она находит в его волосах. Мысли в голове путались. Уж слишком занимал его изгиб ее талии и бедер. Кожа на запястье и внутренней стороне руки девушки имела восхитительный сладко-солоноватый привкус – он ощущал его во время поцелуев. Пульс нежно трепетал у нее на шее. Прежде он считал, что тела созданы для утоления голода, для бега и работы. Амос не представлял, что можно испытывать такие глубокие ощущения от близости другого тела. Если раньше он обнимал ее, чтобы утешить и успокоить, то теперь она обнимала его, чтобы утолить и насытить. Амос боялся, что расплачется и издаст ужаснейший звук, один из тех, которыми он оглашал в прошлом лесную чащу. К счастью, он так и не расплакался.
Когда все закончилось, они лежали без сил на постели, словно в люльке, окруженные дощечками лохани. Эвангелина проводила острым ноготком вдоль его ключицы. Как хорошо, что у людей, как и у домов, есть каркасы, и эти каркасы могут быть очень красивыми. То, что они сделали, Вилли Абен хотел сделать с ней. Если бы она тогда не заговорила с Вилли, так никогда бы и не встретилась с человеком, рядом с которым сейчас лежала. Я убийца. Когда она задрожала, его рука крепче ее обняла. Убийца, которая делит ложе со львом. Эвангелина улыбнулась и прижалась щекой к небольшой впадине, образовавшейся между его плечом и грудью.
Амос лежал без сна до тех пор, пока забрезживший рассвет не стал пробиваться в щели под занавесом. Он мог бы поклясться, что его кожа до сих пор пылает в тех местах, где она к ней прикасалась. Наслаждение было столь сильным, что заглушало все иные ощущения… Почти… Он улыбнулся, глядя на волосы девушки. Никогда прежде Амос не испытывал такого удовольствия от жизни. Он нашел способ общаться.
Глава 13
18 июля
– И сколько времени это займет?
На другом конце линии Кэт Каннинг прихлебнула чайку.
– От нескольких месяцев до года. К тому же надо будет заручиться согласием комитетов по землеустройству и зонированию. Вы же знаете, как в нашем городе дела делаются.
Она могла бы мне этого и не говорить.
– Медленно.
– А еще следует сделать оценку воздействия на окружающую среду.
– Лишние траты, – сказал я, прикладывая телефон к другому уху.
– Я хочу быть с вами предельно честной: Историческое общество может помочь с межеванием, но столько денег, сколько вам надо, у нас просто нет. Сейчас, помимо меня, в обществе работают лишь волонтеры – Бетти и Лес. Лучше вам взять кредит.
– Спасибо, Кэт. Извините, что отнял у вас время.
– Желаю всего наилучшего. У Тимоти был очень красивый дом.
Да, был. Я отложил в сторону телефон, пребывая в еще более удрученном состоянии духа, чем десять минут назад.
Энола вошла в гостиную. Она втирала себе в волосы какой-то гель, после которого пряди торчали на голове сосульками. Мы собирались на ужин к Мак-Эвоям. Я предложил ресторан, но Алиса сказала, что ее отец об этом и слышать не хочет. Она сообщила эту новость вчера, когда в «Дубах» жаловалась мне на свою судьбу.
– Папа мне сказал, что сто лет не видел Энолу и будет нехорошо, если ее здесь не угостят настоящим семейным ужином. Он разве потрудился спросить у мамы, чего она хочет? Нет. Он просто решил, что она должна встать за плиту и готовить.
– Вслед за Энолой приехал ее парень. – Глотнув ржаного виски, я поморщился.
Что ни говори, а этот виски обжигал.
Алиса вздохнула.
– Ладно, договорились. А что он за человек? Надеюсь, он немного отвлечет отца.
– От чего?
Алиса приподняла брови.
– Мама говорит, что ей удобнее на половину восьмого. Подойдет?
Я закрутил кончик ее косы вокруг своего пальца и слегка дернул.
– Семь тридцать – то, что нужно.
Когда мы расставались, Алиса сказала:
– Без тебя на работе как-то непривычно.
Запоздалое соображение.
Фрэнк захочет поговорить о доме и Пелевском, а рискует узнать, что безработный сосед спит с его дочерью и крайне нуждается в четверти миллиона долларов.
Мы с сестрой ждали, пока Дойл брился. Энола машинально выковыряла кусочек набивки из кресла и бросила его на одну из моих рубашек. Я так давно не видел сестру, что произошедшие с ней внешние изменения представлялись мне просто чудовищными, начиная с ее прически и заканчивая худобой. Меня пугало ее погружение в транс во время гадания и раздражал парень, приехавший вслед за ней. Когда я прошлым вечером вернулся домой, Энола гадала, а Дойл в это время мирно храпел в ее постели. Нет, эти карты не марсельская колода и не колода Уэйта. Они другие, однако я уже где-то видел похожие рисунки. Я постарался отвлечь сестру, но Энола была слишком поглощена тем, что делала.
– Энола! С тобой все в порядке?
Она выковыряла еще один маленький кусочек поролона.
– Да. А с тобой?
– Могу я тебя кое о чем спросить?
– Нет… Но говори, раз уж начал.
– Твои карты на вид очень старые. В моей книге… Черчварри кое-что знает о присланном им журнале. Он говорит, что приобрел его вместе с другими книгами на аукционе. Но… Между журналом и этими картами есть нечто общее: они такие же ветхие и старинные. Мне интересно, откуда они у тебя.
– Может, он просто не хочет все тебе рассказать, – пробурчала себе под нос сестра. – Карты мамины.
Те самые карты, которые мама держала в руках, когда отец умолял ее остановиться.
– Я не знал, что папа их тебе передал.
– Не он, а Фрэнк.
Сестра продолжала методично потрошить кресло.
– А как они у него оказались?
– Лучше сам у него спроси. Он отдал мне карты незадолго до моего отъезда.
Словом «отъезд» Энола назвала бегство от меня.
– Когда мне следует ждать, что в доме будет вонять так, что не продохнешь?
– Что?
– Ты ведь сжигаешь шалфей, «очищаешь» дымом свои карты?
Сестра закатила глаза.
– Это называется окуривание. Окуривать надо не каждый раз.
– Но все равно придется.
– Это не рабочая, а моя личная колода. Карты впитывают энергию людей и старинных зданий. Ты разговариваешь с картами, и они тебе отвечают. Эти карты я не очищаю, потому что только я с ними разговариваю.
– И о чем ты с ними разговариваешь?
«Беседы» сестры с мамиными картами меня сильно беспокоили.
– О тебе, – улыбнувшись по-акульи, ответила Энола.
Из ванной вышел свежевыбритый Дойл. Хотя лучше он от этого не стал, мне все же удалось заметить под слоями татуировок некий намек на симпатичного молодого человека со Среднего Запада.
– Эй! Мы уже готовы? – спросил Дойл.
Он беспокойно вертел головой – так, словно чувствовал, что чего-то здесь не хватает.
– А как же! – воскликнула Энола и, подскочив к парню, громко чмокнула его в область уха.
– Ты предупредила их, что приведешь меня с собой? – спросил Дойл. – Их следовало бы предупредить.
– О чем? Мак-Эвои – приятные люди, – сказала моя сестра.
Он перевел взгляд на меня. Его челюсть озабоченно задвигалась, а вместе с ней задергались щупальца.
– Многих людей пугают татуировки.
Я представил, о чем Фрэнку придется услышать сегодня вечером, и произнес:
– Уверен, что с этим проблем не будет.
Я последовал за ними по гравийной дорожке. Мы пересекли улицу и подошли к дому Мак-Эвоев. Крыша из крашенного в белый цвет гонта. Ограда из штакетника. Недавно выкрашенное крыльцо. На медной табличке значится, что дом был построен неким Сэмюелем Л. Вабашем в 1763 году. Во дворе я увидел качели, которые помогал сооружать для Алисы мой отец.
– Похоже на дом моей мамы, – заметил Дойл, высовывая кончик языка из уголка рта.
Жалюзи на одном из окон фасада были опущены. У жены Фрэнка есть бинокль. Она наблюдает за всеми, кто появляется на нашей улице. Скорее всего, это Ли сообщила мужу, что с нашего дома упал водосточный желоб.
Энола поджидала нас на крыльце. На секунду в ее глазах промелькнул страх, но, когда рядом с ней встал Дойл, он рассеялся.
– Эй! – окликнул я сестру.
– Что?
Это «что» стало концом неначавшегося разговора.
Дверь распахнулась, и сестра бросилась обнимать Фрэнка.
– Слишком долго ты нас не навещала, слишком долго…. – сказал он.
Я помахал рукой Ли, которая топталась в глубине гостиной. Она улыбнулась и вежливо поздоровалась. Ли, в отличие от Фрэнка, никогда не отличалась особым радушием.
Глаза Фрэнка задержались на Дойле. Пожилой мужчина часто-часто захлопал ресницами, а затем, смешно вытаращив глаза, поздоровался с удивительным гостем. К чести Дойла, надо сказать, что он оставался совершенно невозмутимым. Электрический Парень протянул руку.
– Дойл Барлет.
А я-то думал, что Дойл – его фамилия.
– Фрэнк Мак-Эвой. Рад с вами познакомиться.
Рукопожатие затянулось. Я кашлянул, и Фрэнк отпустил руку Дойла.
– Не вижу причины задерживаться на крыльце. Ли почти закончила свои дела на кухне, – произнес Фрэнк и почесал обгоревший на солнце нос. – Алиса уже здесь.
– Замечательно.
– Хорошо, что вы, ребята, вновь собрались под одной крышей, – сказал он, дружески похлопав меня по плечу.
Я прошел за Фрэнком в дом. Планировка наших домов похожа. Диван – справа, у дальней стены гостиной. Кухня выходит окнами во двор. Слева начинается коридор, из которого можно попасть в три спальни. Вот только дом Фрэнка содержался в идеальном порядке. На бледно-желтых стенах с фотографиями Алисы в рамках нет ни одной трещины. У двери – снимок с выпускного. На нем Алиса стоит в заднем ряду, так как была самой высокой среди девочек. Сейчас она задержалась в кухне: отсрочивает неизбежную неловкость, степень которой даже она не осознает. При виде меня она приветственно взмахнула рукой, а потом заметила Дойла. Ее губы, привыкшие к тишине библиотеки, беззвучно произнесли: «А это что еще такое?»
Ужин прошел вполне сносно. Ли выставила фарфоровый сервиз, что заставило всех чувствовать себя еще более неловко. Энола таращилась на отделанную кружевами скатерть. Хозяева извлекли на свет изящное столовое серебро. Воду из-под крана пили из хрустальных бокалов. В зеленовато-черной руке Дойла хрусталь смотрелся, мягко говоря, очень странно.
Алиса нервничала. Я, пожалуй, тоже. Ли посадила нас рядом, и наши колени невольно соприкасались. Когда я с ней поздоровался, ее губы напряглись, но под столом наши пальцы сплелись в настоящем приветствии. Я вспомнил Алису с фотографии, сделанной на выпускном. В те времена она смеялась по малейшему поводу. Теперь она уже не та хохотушка и даже не улыбчивая женщина из библиотеки. Сегодня Алиса прежде всего дочь. Во время ужина она, заинтригованная, то и дело бросала взгляды на Дойла. Тот заметил ее интерес. Это вызвало краску смущения на щеках Алисы. Какая прелесть!
Я уже давненько не виделся с Ли, но, в отличие от Фрэнка, она оставалась все той же. Даже волосы зачесывала назад и стягивала их в длинный рыжий конский хвост. Должно быть, она их подкрашивает. Быть может, женщина немного располнела, на лице прибавилась пара морщин, но это была та же Ли, что и всегда: она без тени смущения во все глаза пялилась на покрытого татуировками мужчину, сидящего напротив.
– Делать тату было очень больно, – сказал Дойл. – У меня они повсюду. Хуже всего, когда колют иглой над костью, но боль быстро проходит, так что все не так уж плохо.
– Ой! – округлив губы, воскликнула Ли. – Я не хотела смотреть.
– Ничего. Трудно удержаться. Я знаю.
– А почему так много?
– Ну, это вроде хобби, которое перерастает в одержимость. – Голос Дойла дрогнул, когда он мотнул головой. – Вначале ты думаешь, что хватит одного щупальца, но потом выясняется, что щупальце выглядит гораздо красивее в окружении других, и, прежде чем ты успеваешь сообразить, что к чему, все твое тело уже покрыто щупальцами. Жаль, что у меня больше не осталось свободных участков на коже. Некоторые люди не любят свою кожу… Вы об этом раньше слыхали? – Он отправил пальцами в рот кусочек брокколи. – Я изменил свою кожу.
– Я тоже недовольна своей кожей, – призналась Ли. – Если я пять минут посижу на солнце, то подсыхаю, словно чипсы.
– Но парни любят веснушки на коже, – заметил Дойл.
Легкая улыбка коснулась губ Ли.
– Знаю.
Вскоре она уже смеялась и вела приятную беседу с покрытым татуировками Электрическим Парнем. Энола лишь время от времени вставляла фразу-другую. Алиса молчала, но то и дело поглаживала мою руку. Она ничего не рассказала родителям о наших отношениях. Я должен был бы испытывать облегчение, но как бы не так!
– Пелевский приходил? – спросил Фрэнк, отправляя в рот кусочек жаркого. – Он говорил, что зайдет.
Энола стрельнула глазами в мою сторону. Я положил вилку и нож на край тарелки.
– Да. Он все у меня осмотрел.
Алиса на меня взглянула.
– Этот строительный подрядчик – мой приятель, – сказал Фрэнк не то Алисе, не то мне. – Хороший малый. Перекрывал нам крышу в прошлом году. Что он сказал?
Произнести это было очень трудно, но медленно отлеплять бактерицидный пластырь от раны еще хуже, чем быстро его сорвать.
– Сто пятьдесят тысяч… для начала. Скорее всего, окончательная сумма составит двести пятьдесят тысяч.
Алиса напряглась.
На обоях, как раз за левым ухом Фрэнка, красовался голубой цветок. Разговаривая с хозяином дома, я смотрел на его лепестки.
– Сколько?
Я повторил цифру. Ли и Дойл умолкли.
– Это же не ремонт, это похлеще чертовой ипотеки будет!
– Знаю.
– У тебя таких денег просто нет.
– Я связался с Историческим обществом.
Здесь мне следовало бы попросить денег, но я не попросил. Не в присутствии Алисы, которая как раз убрала свою руку с моей руки.
Фрэнк глотнул воды, прожевал то, что было у него во рту, и уставился на свою тарелку.
– Мы не можем позволить, чтобы дом вот так взял и развалился.
Он резко хлопнул ладонями по краю стола, словно подчеркивая, что решение принято.
– Я дам тебе денег. Для начала хватит. Дай мне пару дней, чтобы их собрать.
– Фрэнк! – едва слышно произнесла Ли.
– Папа!
Я никогда прежде не слышал, чтобы голос Алисы был похож на шипение.
– Нельзя позволить, чтобы дом разрушился. Паулина и Дэн любили его.
Он хотел сохранить этот дом в память о моих родителях. Мне следовало отказаться от его денег, но не в том я был положении, чтобы так поступить.
– Я постепенно верну всю сумму.
Алиса, отодвигая свой стул, умудрилась красноречиво пнуть меня ногой. Мое колено, подскочив, ударилось о столешницу так, что расплескалось содержимое соусника.
– Пойду заварю кофе, – сказала Алиса и ушла в кухню.
Энола и Ли, понурившись, изучали свои салфетки.
– Может, ей нужна помощь? – сказал я.
Когда я шел в кухню, Дойл сказал Фрэнку:
– Это очень щедро, мужик. Вы замечательный человек.
Алиса, стоя у раковины, молола кофе в большой ручной кофемолке, сохранившейся в доме с давних времен. Сжатый кулак нервно и энергично делал круговые движения. Подсветка возле стола мягко освещала изящный изгиб ее руки, сжимающей рукоятку кофемолки. Если возможно молоть кофе с видом человека, который испытывает вселенскую скорбь, то именно так это и происходило. Спина Алисы ссутулилась. Движения создавали впечатление обдуманной, болезненной нарочитости. На желтой ткани ее блузки в области подмышек выступили пятна пота. На затылке волосы местами слиплись. Я знал, что ее пот имеет солоновато-сладкий привкус. Я хранил старые воспоминания о ней, тогда еще девчонке, в зеленой юбочке для игры в хоккей на траве, о веснушках на ногах там, где их не закрывали защитные щитки и гетры. Я хранил недавние воспоминания о ней, раскинувшейся на простынях в спальне, о ямочках на ее пояснице.
– Эй! Все в порядке?
– Ты мне ничего не говорил о подрядчике. Ты мне вообще ничего не рассказал. Ты поговорил с отцом, а не со мной, – не переставая крутить ручку кофемолки, сказала Алиса. – Ты собирался просить у него деньги?
– Нет, – ответил я, но, поняв, что вру, уточнил: – По крайней мере, до тех пор, пока не возникнет крайняя необходимость.
– У родителей денег немного. Я не хочу, чтобы ты брал у папы деньги.
– Знаю.
– Я не могу потребовать, чтобы отец не давал тебе денег, как не в состоянии отговорить его от какой-либо глупой выходки, но я прошу тебя не брать их.
– Извини.
– Ты вечно извиняешься.
Алиса отмеряла ложкой кофе грубого помола и высыпала его в мамину кофеварку.
– Я не думал, что он мне предложит.
Я положил руки на стол, ощутив его прохладу, и нагнулся к Алисе. Я пообещал со временем вернуть деньги, но эти обещания мало что стоят, учитывая сумму. Если Фрэнк оплатит все работы, я стану его вечным должником.
– Так не пойдет, – сказала Алиса.
– Ты же видела, в каком состоянии дом, а у меня вообще ничего нет за душой.
С каждой произнесенной мною фразой она от меня отдалялась.
– Ты прекрасно знаешь, что можешь отсюда уехать, – заметила Алиса. – Найди работу в другом штате. В колледжах есть отделы редких книг. В федеральном округе Колумбия архивы и музеи на каждом шагу. Я тебе помогу.
Ее голос под конец смягчился.
– Я уже искал. В Саванне есть должность хранителя архива. Интересная работа в специализированной библиотеке с собственным музеем и прочными связями с Историческим обществом. У них там есть дневник путешествия на каноэ вдоль побережья, которое совершалось в 1654 году. Рукопись почти не пострадала. Саванна далеко, но…
– В Джорджии, – сказала Алиса, сумев вложить в два слова все мили, которые будут нас разделять.
Я не мог просить ее поехать со мной, хотя в своих фантазиях представлял Алису свернувшейся на скомканных простынях и читающей книгу в нашей новой квартире. Я представлял себе, как просыпаюсь, прижавшись к ее спине, и не боюсь, что потолок может в любую минуту на меня рухнуть.
В гостиной приглушенно выругалась Энола. Я быстро заглянул туда: сестра вытирала шваброй пролитую на пол воду. Слишком худая, бледная, нервная…
– Это дом моих родителей.
Спина Алисы напряглась.
– Я могу кое-что рассказать… Ты знаешь… Если я расскажу, отец точно ничего тебе не даст. Я скажу, что ты меня трахаешь и едва не подставил под увольнение. Он тебе и цента не даст.
Она утрамбовала молотый кофе небольшим пестиком, издав при этом тихий, но угрожающий звук.
– Ты на такое способна?
– Нет, – призналась Алиса.
Она налила в кофеварку воду, вставила штепсельную вилку в розетку, а затем, развернувшись спиной к окну, встала рядом со мной.
– Я знаю тебя всю жизнь. Если знаешь человека всю свою жизнь, ты не способен по отношению к нему на многое. Запомни это хорошенько.
Наши кисти соприкоснулись. Мизинцы уперлись друг в друга.
– Ты возьмешь у него деньги, только если я тебе позволю.
– Я не хотел тебя обидеть. Мне очень жаль.
– Я не обиделась, – сказала Алиса. – Зря ты вообще это сказал.
Ее присутствие подобно биению сердца. Я ощущал, как ее кожа соприкасается с моей. Наши молекулы взирали друг на друга до тех пор, пока ее молекулы не стали моими. Теперь, вспоминая тот вечер в «Ла Мер», я намерен был отказаться от предложения Энолы. Теперь я жалел о том, что украл книги. Лучше бы мы вообще никогда не выходили из ее спальни. Лучше бы я объяснился с ней много лет назад.
– На уроках французского ты сидела позади меня, – сказал я. – Каждый раз, когда я чего-то не мог вспомнить, прислушивался. Ты всегда полушепотом спрягала глаголы. Я слушал тебя все время.
У нее было отличное произношение. Мадам Фурнье часто вызывала Алису декламировать что-то у доски перед всем классом. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. Nous sommes.[9]
– Перестань, – покачав головой, произнесла она. – Ты мне нравишься, Саймон, но сейчас я не хочу с тобой разговаривать.
Я убрал руку с краешка стола.
– Извини. Я просто…
– Ты воспользовался расположением моего отца. Он так и не смирился со смертью твоих родителей. Ты даже понятия не имеешь, сколько раз за эту бесконечную череду лет мне приходилось выслушивать рассказы о Паулине и Дэне, о Дэне и Паулине… Ты думаешь, что их смерть преследует тебя всю жизнь, а тебе не приходило в голову, что и мне из-за прошлого покоя не было?
Впервые с начала нашего разговора Алиса посмотрела мне в глаза. Она сохраняла спокойствие и говорила по делу.
– Если ты возьмешь деньги, то знай: ты берешь их у старого человека, который зациклен на памяти о своих умерших друзьях. Ты слишком много у меня просишь.
– У меня просто нет другого выхода.
– Есть. Ты можешь уехать, – глубоко вздохнув, произнесла она. – Мне кажется, тебе лучше уехать. Возможно, я поеду с тобой… Я думала… Забудь…
Жужжание кофеварки заполнило тишину. Я смотрел на колонну ее шеи. Алиса держалась настолько прямо, что мне стало не по себе.
– А сейчас оставь меня в покое, – произнесла она мягко, и от этого мне стало еще хуже.
Я проскользнул обратно в гостиную. Энола как раз рассказывала Ли о выставке животных на ярмарке штата Флорида, а Дойл, слава богу, ел вилкой. Алиса принесла кофе с таким видом, словно ничего не случилось. Остаток ужина прошел без происшествий, если не считать терзавшего меня чувства вины.
Когда ужин закончился, Ли, тяжело вздохнув, пошла мыть кофейные чашки. Алиса встала из-за стола, чтобы помочь маме. Дойл и Энола направились к выходу.
– Саймон! Подожди, – сказал Фрэнк, прежде чем я успел улизнуть. – Выпьешь со мной пива?
– Нет… Мне надо идти, – произнес я. – Я позвоню утром.
Однако вышло так, что я уселся на крыльце с бутылочкой пива в руке. Наши тени падали на панцири мечехвостов, которые развесили сушиться на перилах крыльца.
– Мне кажется, что взять у вас деньги будет неправильно, Фрэнк.
– А что еще ты можешь сделать? Ты же не позволишь дому развалиться, – отпив из бутылки, сказал сосед. – Постепенно ты выплатишь долг. Будем считать это займом.
Мне перехотелось говорить о деньгах.
– Энола сказала, что вы передали ей мамины карты Таро.
– Я? – почесав затылок, с сомнением произнес Фрэнк.
– Перед тем как Энола отсюда уехала, вы отдали ей карты.
– А-а-а… Вспомнил. Ты, насколько я помню, не интересовался такими вещами. Ко мне пришла Энола и сказала, что собирается путешествовать, как когда-то путешествовала ее мать.
Он глотнул пива. Я последовал его примеру.
– Мне показалось, что это все равно что вернуть карты твоей маме.
– А почему карты были не у отца?
– Паулина и я дружили. Она была моим другом не в меньшей мере, чем Дэн. Я был знаком с ней на один день дольше, чем твой отец. Именно я их познакомил, – говорил Фрэнк, пристукивая при этом ногой по дощатому полу крыльца. – В тот год выдалось ужасно жаркое лето. Никто не выходил на лодках в море. Солнце пекло так немилосердно, что, казалось, твоя кожа вот-вот лопнет. Ее шоу приехало в город… Забыл, как оно называлось…
– «Карнавал Ларейля».
– Ларейля, точно… Не торопись стареть. Когда доживешь до моего возраста, забудешь больше, чем знал.
Фрэнк допил свое пиво и посмотрел на мой дом. Сполохи света танцевали в окнах фасада. Дойл устраивал представление.
– Я решил прошвырнуться, прокатиться на каком-нибудь аттракционе, выпить немного и, может, познакомиться с девушкой. Я увидел очередь напротив шатра, в котором сидела прорицательница. Я подумал: «Какого черта!» А потом я увидел ее, самую красивую девушку из всех, кого когда-либо встречал. Это была твоя мать.
Мне, конечно же, отец рассказывал, как Фрэнк отвел его на следующий день посмотреть шоу. Вечером мама выступала в роли русалки. Она ныряла в огромный стеклянный аквариум и не дышала под водой удивительно долго. Папа влюбился в нее с первого взгляда.
– Что она вам нагадала?
– Паулина сказала, что я встречу хорошую женщину и остепенюсь, хотя до этого моя жизнь будет что твоя лодка без руля и парусов. В этом она не ошиблась.
Фрэнк встал, потянулся и поставил пустую бутылку на перила крыльца.
– Твоя мать дала мне карты, прежде чем… – Мужчина махнул рукой в сторону пролива. – Думаю, она таким образом со мной попрощалась. Хотел бы я знать это наперед.
Мама и со мной попрощалась, вот только я тогда этого не понял.
– Она в тот день себя странно вела?
Фрэнк кашлянул.
– Паулина всегда вела себя немного странно. Если бы я или твой отец что-нибудь заподозрили, то непременно постарались бы ей помешать. – Взглянув на недопитую бутылку в моей руке, он проворчал: – Допивай поскорее. Я покажу тебе мою мастерскую, и мы поговорим о том, как ты будешь возвращать мне деньги. Я бы просто подарил их тебе, но моя жена убьет меня, если прежде Алиса не сдерет с меня живого кожу. Что между вами происходит? Она, казалось, сегодня готова была тебя разорвать.
– Сам ума не приложу.
Больше ни слова. Фрэнк, идя впереди, повел меня за дом, к большому амбару, служившему ему теперь мастерской. Я давно посматривал на мастерскую Фрэнка, но никогда в ней не бывал. Подростков хозяин сюда просто не пускал. Вдоль стен расположились стеллажи с инструментами, тиски, токарный станок, пилы и многое такое, о предназначении чего я даже не догадывался. В дальнем конце амбара стояли два кульмана. Фрэнк оперся об один из них. Посередине амбара скелет лодки ждал, когда дойдет черед до обшивки.
– Шлюпка? – спросил я, глядя на незаконченную лодку.
– Мала для шлюпки. Дори[10], точнее, будет дори, когда закончу. – Сделав пометку на чертеже, Фрэнк продолжил: – Со временем ты всему научишься. Будем вместе зарабатывать деньги. Тебе поручу начальную стадию полировки, нанесение первого защитного слоя. Это несложно. Если найдешь работу, будешь у меня трудиться по выходным.
Алиса, должно быть, сказала отцу, что меня уволили. Я ни словом не обмолвился ей о доме и деньгах. Я нарушил больше правил, но все же о потере работы Фрэнку должен был первым сообщить я.
За кульманом, как раз над головой Фрэнка, висело то, чему здесь места не было, – огромный темно-красный занавес, состоящий из двух частей. Он закрывал стену от потолка и до самого пола. С виду бархат. Чем-то это невольно напомнило мне то, о чем я прочитал в журнале Пибоди: портьеры, которыми закрывалась от зрителей клетка, драпировки внутри фургонов циркачей.
– Откуда он у вас?
– Что?
– Этот театральный занавес.
К его нижнему краю крепилась цепь, чтобы занавес не трепыхался, висел прямо и не пропускал свет.
– По-моему, в мастерской ему не место.
Я огляделся и заметил на стенах несколько небольших портретов в овальных рамах. Родственники? В чертах лиц людей на портретах угадывались славянские корни. Все мужчины бородатые. Дугообразная форма бровей молодой женщины.
– Днем я накрываю занавесом мои чертежи, чтобы не выгорели, а зимой – чтобы они не отсырели. Я его нашел в большом ящике, в котором отец хранил всякий хлам. Портреты оттуда же.
– Наследие предков?
Фрэнк пожал плечами:
– Пожалуй, что так.
– Вы знаете, кем они были?
– Нет. Я никогда не интересовался прошлым моей семьи. Картины есть картины. Понимаешь? Они мне нравятся. С картинами здесь немного уютнее.
В дверь амбара постучали. Ли принесла пиво. Я отказался, но бутылка все равно перекочевала мне в руку. Ли поцеловала мужа в щеку и стряхнула древесную стружку. Жесты, ставшие плавными после долгих лет повторений. Из окна я видел пролив до самой гавани. Огни парома бежали иноходью к маяку, установленному на мели посредине фарватера, и далее к Коннектикуту. Некоторые люди всю жизнь провели, разъезжая туда и сюда по одним и тем же водам: постоянно в движении, но все время на одном месте.
Когда моя бутылка глухо стукнула о чертежную доску, звук этот заставил вздрогнуть нас обоих. Большой мокрый отпечаток образовался на чертеже. Чернила местами расплылись. Я вновь взглянул на занавес. Он казался мне удивительным, оригинальным, но в то же время был чем-то знаком. Я посмотрел на портрет бородатого мужчины. Взгляд беспокойный. Надо будет поискать в журнале похожий рисунок… На всякий случай… Хотя бы для того, чтобы убедиться, что мне это показалось.
– А эти люди на портретах, они что, родственники?
– Возможно. Я не знаю. Как я уже говорил, картины лежали в ящике вместе с занавесом. Эти вещи принадлежали отцу, а до этого, вероятно, деду. Я смутно помню, что видел их в доме деда, когда был еще совсем маленьким. Дед никогда ничего не выкидывал, все хранил.
Бородач требовательно смотрел на меня с портрета. Ему явно хотелось, чтобы я занялся его прошлым. Уверен, что я уже видел это лицо, оно смотрело на меня со страницы журнала.
– Извините, Фрэнк, но мне пора.
Энола и Дойл лежали на охапке морской травы на краю обрыва и смотрели на звезды. Сестра положила одну руку себе под голову, а другую запустила в карман. Опять карты! Они даже не заметили, как я прошел мимо них в дом.
Журнал на столе лежал закрытым, как я его и оставил. Я начал с самого начала, методично выискивая рисунки. Вот здесь нарисована маленькая лошадка. А вот это похоже на ламу. Скелет – должно быть, часть недорисованной карты Таро. Запись касательно башмаков и сапог. Костюмы. Рисунок парика. А вот и портьеры, накинутые на клетку для диких животных, в которой, впрочем, сидит мальчик. Через десяток страниц я наткнулся на зарисовку обстановки фургона. Там на стенах висели овальные портреты. А после… ну да… рисунок бородача, сделанный Пибоди. Я видел оригинал. На нем лицо скорее славянское, а на рисунке Пибоди – англосаксонское. Так он воспринимал этот портрет.
Черчварри поднял трубку и попросил подождать, пока он закончит разговор по другой линии.
– Фанатик Данте. Несносный человек. Воображает, что он мой единственный клиент, – сказал букинист. – Вам уже доставили «Наложение заклятий и проклятий»?
– Да, – сказал я и, поблагодарив Черчварри, произнес: – Я звоню вам не из-за книги. Я только что узнал кое-что странное: у моего соседа, которого я знаю всю жизнь, есть вещи, изображенные на рисунках в журнале Пибоди.
– Вы явно взволнованы.
– Немного, я…
Я так и не нашелся, что сказать.
– Какие вещи? – спросил Черчварри.
Я представил, как мой собеседник меряет шагами помещение. Я слышал, как он открывает дверь, чтобы жена, если нужно, могла его позвать. Затем я вообразил, как он направляется в заднюю часть магазина, где полки забиты одними солидными изданиями, как в справочном отделе Грейнджера. Там наш разговор не услышат посторонние.
– Театральный занавес и портреты.
Я слышал, как скрипнул отодвигаемый стул, как Черчварри принялся переставлять книги.
– Занавесы очень похожи один на другой.
– Я видел тот же самый занавес. Мартин, я уверен! А портреты? Лица те же самые!
– Он объяснил, как вещи к нему попали? – после недолгого молчания спросил Черчварри.
– Он сказал, что они достались ему от отца, возможно, от деда. Кому принадлежал журнал до вас?
– Джону Вермиллону, если я не ошибаюсь. У меня плохая память на имена. По тому, что я видел на аукционе, могу сказать, что этот человек страдал манией накопительства. Выставленные лоты подбирались без какой-либо системы. Вместе с ценными книгами продавались истрепанные издания в мягких обложках, самая настоящая макулатура. Просто кошмар какой-то! Мы торговались иногда, что называется, за кота в мешке.
– Я только что узнал, что моя мать перед смертью раздавала вещи, словно знала, что утонет. Сегодня я увидел у соседа занавес и портреты… Именно ему, Фрэнку, моя мама перед смертью отдала кое-какие свои вещи.
Неужели все так просто? Склонность к самоубийству, как и голубые глаза, может передаваться в роду от поколения к поколению? Но это ужасно. В генах Энолы, которая сейчас лежит на траве вместе со своим Электрическим Парнем, есть нечто такое, что я не в силах изменить.
– Извините, – мягко произнес я. – У меня такое чувство, что я потревожил то, что тревожить не следовало.
Я ощутил во рту привкус меди, когда сильно прикусил себе щеку. Вскоре маленькая ранка воспалится и несколько дней я буду ходить с опухшей щекой.
– Для меня это уже слишком. Вначале я узнаю, что мама отдала Фрэнку на хранение свои вещи, затем вижу портреты и занавес из журнала. Это точно-точно те самые портреты! Я хочу… – Мне понадобилось несколько секунд, прежде чем нужные слова не всплыли на поверхность моего сознания. – Я хочу узнать, кто мой сосед.
– Все мы кем-нибудь являемся, – произнес Черчварри.
Он хотел меня успокоить, а я вместо этого ощутил, как меня охватывает холодный гнев.
– Вы знаете, что мы… они умирают двадцать четвертого июля: моя мама, моя бабушка, Селина Дувел, Бесс Виссер… Все они, все эти женщины, утонули. Осталось шесть дней.
– Почему шесть?
– У меня есть сестра, Мартин.
Тихий вздох.
– Вот именно.
– Я могу чем-нибудь помочь?
Голос его изменился. Я бы рискнул сказать, что в нем прозвучали нотки живейшего участия.
– Вам нравится заниматься изысканиями?
Отрицательного ответа не последовало, и я попросил букиниста узнать все, что он сможет, о семье моего соседа.
– Франклин Мак-Эвой. Все о его отце и деде. Мне нужно знать, откуда у него эти вещи.
Я назвал Черчварри фамилии, на которые следует обратить внимание: Пибоди, Коениг, Рыжкова или Рыжков… Чертовы имена! Предстояла нешуточная работа. Что связывает Фрэнка с журналом, с моей мамой, с тем, что нас убивает?
Последующие часы я провел в желтом свете электрических ламп. Особенно беспокоил меня портрет мужчины. Судя по рисунку, когда-то он висел в фургоне мадам Рыжковой. В коротком столбце цифр рядом перечислялись статьи расходов: шелк, лекарственные травы, соль… «Орудия труда» предсказательницы. У меня возникло предчувствие, что если Черчварри начнет разбираться в родословной Фрэнка, а я займусь потомками Рыжковой, то на определенном этапе наши пути пересекутся. Я включил компьютер и стал рыскать по Интернету в поисках сведений о Рыжковых. Результатов в поисковике набралось несколько тысяч. Черт побери! Для русских Рыжков – это все равно что Смит для американцев. Слишком много информации – не лучше, чем вообще никакой. Следует охватить период времени до XVIII столетия. Какой регион? Большинство людей попадали в колонии через Нью-Йорк и Массачусетс, главным образом через Бостон. Филадельфию также исключать не следует. Хотя Алиса сейчас меня и ненавидит, ее служебный университетский код очень мне помог. Я вошел с его помощью в Национальный архив и принялся искать среди списков пассажиров судов.
В конце концов я заснул в тусклом свете экрана. Мне снилось, что я гуляю вдоль Грейт-Саут-Бей, хотя, возможно, это был Джессопс-Нек. Вода такая теплая, словно в ванне. На пляже вдоль кромки прибоя лежат раковины аномий. На песке валяется морская трава, толстая и рыжеватая, цвета волос Алисы. Мечехвост забрался мне на ступню, затем стал взбираться по ноге. За ним на сушу устремились другие. Вскоре я уже не видел воду, ее поглотило половодье мечехвостов.
Я проснулся, задыхаясь.
Энола выключила мой компьютер. В тишине я услышал шелест ее карт.
Глава 14
Свой язык они держали в секрете, ведь для того чтобы общаться, им приходилось воровать у Рыжковой ее карты. Уроки имели место после переездов или вечерних представлений в маленьких городках. Тогда можно было не опасаться, что кто-нибудь им помешает, ибо наступало время дремотного покоя. Также они встречались рано утром или ночью, когда бродячий цирк, за исключением тех немногих, кому не спалось, погружался в глубокий сон. После дня, проведенного в дороге, Рыжкова спала как убитая. Тряска по кочкам и ухабам настолько изматывала старушку, что Амос иногда подносил свою ладонь к ее носу, чтобы удостовериться, что его наставница еще жива. Если холодало, он укрывал спящую старушку еще одной шалью. Это немного притупляло чувство вины, которое терзало молодого человека всякий раз, когда он без спросу брал карты.
Амос давал знать, что сегодня будет урок, оставляя карту в постельных принадлежностях Эвангелины, либо засовывая ее между досками лохани, либо подкладывая к гребешкам. Девушка прятала карту в рукав – так, чтобы она не выскользнула. Они встречались за фургоном со свиньями, который всегда ставили подальше от лагеря. Любовь Амоса к животным служила ему неплохим прикрытием: никого не удивляло, что он столько времени проводит возле свиней. Оттуда молодой человек уводил девушку подальше в лес или к реке, вдоль которой пролегал маршрут бродячего цирка. Они усаживались на нависающую над землей ветку или прятались от нескромных глаз среди камней. Идя на встречу, Эвангелина надевала холщовое платье, чтобы поменьше привлекать к себе внимание. Амос не переодевался. Он не забыл, как неслышно красться и прятаться, становясь неподвижным.
Глядя на холмики и согнутые ветви деревьев, на которые указывал Амос, Эвангелина начинала лучше его понимать. Теперь она знала, что он любил, когда был маленьким и бегал по лесу свободным, какие тайны ему здесь открылись. Она узнала, как из зеленого мха можно сделать мягкую подушку для сна, научилась понимать болтовню речных жаб, сидящих на камешках. Каждая встреча обогащала ее подобного рода знаниями. Карты и свист ветра в высокой траве зародили в ее сердце любовь к этому молчаливому человеку.
Уроки начинались так же, как гадание, – с определения участников. Эвангелина из-за темного цвета волос и светлой кожи была Королевой Мечей. Она с этим соглашалась, не зная, что Королева Мечей водит дружбу с печалью и одиночеством. Амос предпочел не открывать девушке всей правды, хотя чувствовал, что она горюет из-за чудовищной утраты. Как же ему хотелось умалить ее страдания! Амос решил, что будет Дураком. Во-первых, у Дурака был очень дружелюбный вид, а во-вторых, при виде маленькой собачки Эвангелина улыбалась. Вместе Королева и Дурак нашли соответствующие карты для всех членов труппы бродячего цирка.
Пибоди стал Отшельником. Нетрудный выбор. На карте был изображен старик с развевающейся седой бородой, несущий фонарь. Для непосвященного это был одинокий изможденный старик, но Амос понимал, что Отшельник – наставник, покровитель, человек, делящийся с тобой своим жизненным опытом. Все это Амос нашел в Пибоди, заменившем ему отца. Для Мелины они выбрали Двойку Пентаклей. На ней человек жонглировал двумя золотыми звездами. Девушка-змея Сюзанна стала по милости Эвангелины Висящим Человеком. На карте был изображен повисший вниз головой, на одной ноге человек. Свободную ногу он согнул в колене. Амос не мог объяснить Эвангелине, что Висящий Человек означает единение материального и духовного. Карта выпадает тем, кто пребывает в глубокой печали либо не крепок в вере. Возможно, карта подходила Сюзанне – она молчунья. Кто знает, что у нее на душе? Для Бенно он выбрал Четверку Кубков. Сидящий со скрещенными ногами темноволосый мужчина напоминал его друга внешне, а также своей щедростью, готовностью поделиться с другими выпивкой.
Подобрать карту под характер Рыжковой было непросто. Эвангелина разложила на темном плоском сланце старших арканов и принялась выискивать среди них старуху. Внешне мадам Рыжкова чем-то неуловимо напоминала ей бабушку, отчего холодные мурашки бежали у девушки по коже. Хотя в низине близ речного берега они находились в полной безопасности, Эвангелина то и дело бросала взгляды на ближайшие деревья, боясь представить, какое наказание ожидает Амоса, если их здесь застанут. За себя она не опасалась. После бегства из Кроммескилла ее преследовала одна и та же мысль: «Я убийца». Девушка прикоснулась к карте, на которой было написано «Волшебник». Рыжковой она бы подошла. Старуха занимается тем, что многие считают колдовством.
Амос отрицательно замотал головой. Рыжкова называет Волшебника дыханием Бога. Его наставница была выдающимся человеком, вот только к проявлениям воли Всевышнего она не имела ни малейшего отношения.
Заметив складку неодобрения в уголке рта молодого человека и нервную суетливость его рук, Эвангелина, привыкшая лишь к горячему одобрению со стороны своего ухажера, сказала:
– Ладно. Скажи, кто она.
Пальцы Амоса принялись нежно и быстро скользить по картам, как делали до этого тысячи раз. Каждая карта, подобно птице, готова была запеть ему свою песню. Каждая что-нибудь да означала. Когда безымянный палец уперся в нужную карту, Амос схватил ее – Верховную Жрицу.
– Не глупи. Это молодая женщина, с крестом к тому же. Мадам Рыжкова не носит креста. С таким же успехом ты мог бы выбрать Дьявола, – насупившись, задумчиво произнесла Эвангелина. – Твоя наставница меня не любит.
Амос попытался рассмеяться, издал отвратительный скребущийся звук и побледнел.
Улыбнувшись, Эвангелина коснулась его щеки.
– Твой голос не ужасный, просто немного надтреснутый. Не переживай так.
Покраснев, Амос вновь посмотрел на Верховную Жрицу. Он взял две карты из колоды и положил их к носкам ее башмаков – Мир с гирляндой из листьев и небом голубым, словно васильки, и благоволящий лик Солнца. Подержав Верховную Жрицу в своей руке, Амос положил карту сверху, накрыв ею предыдущие.
– Она над небом и землей?
Хотя он имел в виду немного другое, слова девушки были очень близки к этому. Он вспомнил ироничный смех Рыжковой; то, как она над ним подшучивает; как научила его повязывать на голове платок; вспомнил ее больные, скрюченные пальцы. Эти пальцы часто касались его рук. Пибоди заботился о нем, хлопал по спине, учил быть мальчиком-дикарем и мужчиной, но Рыжкова научила его быть человеком и заботиться о других.
Рыжкова была над небом и землей. Она заменила ему мать.
– Ты считаешь ее такой?
Амос, улыбнувшись, кивнул. Он знал, что Эвангелина ее боится до такой степени, что цепенеет от страха. Весь этот страх из-за того, что Эвангелина, в отличие от Амоса, не проводила бесконечно долгих часов в обществе старухи. Она не знает, сколько терпения и любви мадам Рыжкова проявила, добиваясь, чтобы он всего лишь перестал быть мальчиком-дикарем. Эвангелина не знает, что именно Рыжкова нарекла его Амосом. Молодой человек взял карту и приложил ее к своему сердцу.
Девушка положила свою ладонь на его руку.
Со временем Амос совершал «кражи» все более дерзко.
Они направлялись в Берлингтон, когда сильный дождь загнал всех под крышу. Амос прокрался вместе с Эвангелиной в фургон, служивший жильем Лакомке и ламе. Здесь они будут в безопасности. Рыжкова решит, что он остался у Пибоди, а Пибоди решит, что у Рыжковой. Эвангелина плотно завесила промасленной тканью вход в свою лохань, давая знать, что гостям здесь не рады. Вместе они прилегли на соломе, которой был притрушен пол фургона, вслушиваясь в шум дождя и собственное дыхание.
В дверь фургона мадам Рыжковой постучали. По правде говоря, ей не очень хотелось общаться с мужчиной, который стоял у ее двери. Рыжкова испытывала беспокойство, когда приходилось разговаривать с ним, улыбающимся, словно из-под маски.
– Амос здесь? Я хотел сыграть с ним в кости, – сказал он. – У Пибоди его нет, вот я и подумал…
Бенно тряхнул головой, и мадам Рыжкова догадалась по этому движению, что его непринужденность напускная.
– Он не у вас?
– Ты видал девчонку?
– Мелину? Она и Сюзанна латают платья.
Бенно хорошо знал, о ком она спрашивает.
– Русалка! – прищурившись, промолвила Рыжкова.
Акробат переминался с ноги на ногу.
– А-а-а, – произнес он.
Старуха заметила, как черты его лица дрогнули, выдавая тревогу, прежде чем акробат подобрал подходящие слова:
– Ничего страшного. Я лучше найду Ната. Или вы хотите со мной сыграть, мадам?
– Я скажу Амосу, что ты его искал, – проворчала старуха. – А теперь уходи.
Рыжкова знала, что карты пропали, прежде чем открыла шкатулку. Старуха ощутила слабую энергию, оставленную пальцами Амоса на крышке, а также тепло после долгого бдения у ее постели. Она взглянула на шкатулку, в которой должны были лежать карты, и вздрогнула, вспомнив о Башне и давнем гадании. Предательство и женщина. Она не предполагала, что предадут ее. Ноги подогнулись, и Рыжкова тяжело опустилась на пол.
– Елена, ты дура, – прошептала она.
Русалки не покидают своих подводных жилищ. Это знание пришло к ней вместе с горем. Девчонка должна была сгинуть, когда Пибоди распорядился ехать вдоль другой реки, но эта русалка оказалась сильнее и хитрее той. Она выжила.
Еще будучи ребенком, задолго до того, как она стала мадам Рыжковой, Елена ни о чем другом, кроме прядения, и не думала. В окошко избушки она видела, как женщина заманила ее тятю в речку. Ее отец Степан был кряжистым, сильным мужиком. Его густая черная борода напоминала мех медведя, хотя на ощупь была очень мягкой. Рыжкова помнила, как запускала свои маленькие пальчики в бороду тяти. Трое ее братьев выросли и возмужали еще до того, как девочка появилась на свет. Один пошел воевать, другой обзавелся семьей и своим собственным хозяйством, а третий плавал по морям. Отец всегда был рядом, и дочь его обожала. Елене нравилось, когда тятя подхватывал ее на руки и вертел с такой легкостью, словно она была не тяжелее сумы с зерном. Степан звал ее «моя голубка» и говорил, что любит ее больше братьев.
– Ты моя тыковка, – говаривал тятя.
А затем появилась женщина. Бледное лицо в реке.
Месяц Елена наблюдала за тем, как отец чахнет, а поля его желтеют, сжигаемые палящим солнцем. Вместо того чтобы работать, Степан дни напролет проводил на берегу реки. Мать угрожала отравить воду, а отец грозился связать ее и бросить на печь. Однажды Елена попросила тятю взять ее с собой в поле, но Степан уехал на телеге, ничего ей не сказав. А как-то раз девочка положила ему в карман хлеб… Вечером оказалось, что тятя не притронулся к нему.
Мама начала страстно молиться.
Елена видела смерть отца. Сквозь тонюсенькие ветви стройных ольховых деревцев девочка заметила женщину со светящейся кожей и смеющимися глазами. Отец бросился к ней, хотел ее обнять. Его руки, когда-то теплые и сильные, теперь были ужасно худыми, изможденными. Его чернобородое лицо зарылось в черных волосах женщины.
Елена позвала тятю, однако он не услышал. Девочка дернула маму за руку, но та стояла, словно в землю вкопанная. Когда девочка добежала до воды, ее отец уже давно скрылся в ее водах.
После того как Степан утонул, ее мать быстро собрала все свои пожитки, погрузила их на телегу и перебралась в дальнюю деревню, стоящую на краю черного озера. Елена горько плакала. Девочка не хотела покидать тятю, зная, что он там, на дне реки. Мать отшлепала дочь по рукам.
– Если мы останемся здесь ждать твоего тятю, она заберет всех мужчин, которых мы любим. Ты же не хочешь, чтобы она затащила под воду твоих братьев?
Елена задумалась. Что значит потеря одного или двух братьев, если можно будет вернуть отца?
– Если она их убьет, эти смерти будут на твоей совести, – предупредила ее мать.
Елена поняла: вдали от реки будет безопаснее, но другие воды не хранят лица ее тяти. Когда мать умерла, она пересекла страны и океан лишь для того, чтобы оказаться как можно дальше от женщины в реке и отца. В этой безопасной стране она родила дочь и вскоре крестила ее, чтобы спасти ее душу. Теперь же, по прошествии стольких лет, женщина из других вод соблазнила мальчика, ставшего ее приемным сыном.
Она ждала русалку у лохани, в которой та спала ночью и топилась днем. При виде Эвангелины, раскрасневшейся и запыхавшейся, мадам Рыжкова испугалась, что русалка уже украла юность и жизнь Амоса.
Увидев мадам Рыжкову, Эвангелина замерла на месте. Старуха стояла под проливным дождем, промокшая до нитки. Ее лицо исказила злоба. Их разоблачили.
– Мадам! Вам следует вернуться в ваш фургон. Вы так заболеете и умрете.
Девушка подалась вперед, желая взять старуху за руку.
– Не тронь меня! Ты дотронулась до моего Амоса и зачаровала его. Ты заставила его лгать мне. Я знаю, что делают твари из твоего племени. Ты убийца и похитительница душ. Ты русалка.
Мадам Рыжкова поборола в себе желание кричать на девчонку. Годы, проведенные за гаданием, научили ее тому, что слова, произнесенные спокойно, производят на людей большее впечатление.
– Ты уйдешь. Ты оставишь нас и моего мальчика. Ты больше ничего у него не заберешь.
– Мадам! Мне кажется, что вы плохо знаете своего мальчика. – Пройдя мимо старухи, Эвангелина принялась отвязывать край занавеса, закрывавшего вход в ее лохань.
Оглянувшись, она прибавила:
– Я тоже плохо его знаю. Возвращайтесь в свою постель, мадам. Будет нехорошо, если вы заболеете. Амоса это очень расстроит. Я была свидетельницей смерти моей бабушки.
Девушка почувствовала тошноту, но справилась с ней. Ее руки дрожали, но она пересилила и дрожь. Она не позволила себе расплакаться до тех пор, пока, отдернув занавес, не залезла внутрь. Скрутившись клубочком, прижимая колени к груди, она смогла заглушить свой плач. Девушка не знала, какое из испытываемых ею чувств сильнее – страх или злость.
Приподнимая промокшие юбки, Рыжкова по грязи пошлепала к жилищу Пибоди. Когда старуха рывком распахнула дверь фургона, его владелец как раз сидел, склонившись над своим журналом, и тщательно рисовал на листе бумаги нечто, похожее на шатер. Его непомерных объемов живот навис над столом, заслоняя низ страницы. Испуганный неожиданным появлением мадам Рыжковой, хозяин цирка дернулся, и его рука прочертила на рисунке уродливую полосу.
– Черт!
– Девчонка должна нас покинуть, – произнесла надтреснутым голосом Рыжкова.
– Какая?
Пибоди повернулся на трехногом табурете, который называл своим «криптографическим креслом», и удивленно уставился на мадам Рыжкову.
Старуха зло тряхнула головой.
– Русалка. Так ты ее называешь. Эвангелина. Она сбила моего мальчика с пути истинного. Она заставила его обманывать меня.
Старуха хлопнула ладонью по столу хозяина цирка, еще больше испортив его рисунок.
– Эвангелина. – Пибоди накрутил на большой палец кончик своей бороды. – Я согласен, она держит нашего Амоса в кулаке. Такова любовь, мадам. Не стоит из-за этого волноваться. Со временем все само собой рассосется.
Пробурчав себе под нос что-то насчет юношеской любви, он вновь склонился над испорченным рисунком.
– Это нам весьма выгодно, мадам. Большие сборы. К тому же я не вижу в происходящем ничего дурного. Если вы не против, мадам, то я еще хотел бы прочесть кое-какую корреспонденцию.
Глаза старухи сузились. Благодушие Пибоди тотчас же улетучилось.
– Дурак! Ты ведь любишь мальчика. Ты, глядя на Амоса, вспоминаешь своего сына Захарию. – Она повысила голос. – Она его убьет. И что у тебя тогда останется? Деньги? Нет. Девчонка? Она исчезнет в реке. Ни Амоса, ни русалки, ничего…
– Мадам.
– Мы должны держаться подальше от рек, от воды. Ты прогонишь ее и сожжешь все вещи, которые после нее останутся.
Руки старухи вцепились в ткань юбки.
– А теперь послушай меня, – вставая с табурета, произнес Пибоди. – Девчонка имеет грандиозный успех с первого своего выступления. С ее появлением Амос стал более счастливым. Я не собираюсь ее прогонять.
Рыжкова подалась вперед, ткнула своим узловатым пальцем в грудь Пибоди, а потом, вертя им у него под носом, произнесла:
– Я раскрыла ему все свои секреты, я любила его так, словно он мое родное дитя, а он меня обманул. Она высосет из него все силы, а потом утопит. Она уже губит его.
Пибоди отстранил ее палец от своего жилета и поправил галстук. Он попытался воззвать к здравому смыслу мадам Рыжковой.
– Возможно, вам следует установить определенные правила, но и о терпимости не стоит забывать, о терпимости и великодушии, мадам. Не забывайте, что Амос не всегда был цивилизованным мальчиком. Что же касается Эвангелины, – продолжил он, – то вам не мешало бы узнать ее получше. Девушка – весьма кроткое создание. Амос одинок. Уверен, что большинство наших мужчин в нее влюблены.
– Голова не ведает, что язык говорит, – презрительно бросила Рыжкова. – Ты привел ее к нам, тебе же придется нас от нее избавить… Или уйду я. Я вернусь к моей Кате. – Губы старухи растянулись в хищной усмешке. – Я заберу мальчика с собой. Без меня он не сможет работать. Он немой. Без меня он ничто. Он пойдет за мной.
Ярость затуманила взор мадам Рыжковой, и она не заметила, что лицо Пибоди посуровело.
– Дорогая мадам, – начал он. – Полагаю, вы недооцениваете степень моего участия в судьбе Амоса. Я прекрасно осведомлен обо всех его достоинствах и недостатках. Может, вы и дали ему имя, но прав на него у вас никаких нет. Именно я нашел и пригрел мальчика, дал ему одежду собственного сына.
Мужчина навис над старухой всей массой своего тела и наступал на нее до тех пор, пока не прижал спиной к стене фургона.
– Будьте уверены, я весьма высоко ценю мальчика и намерен и впредь отстаивать его интересы, как романтические, так и прочие. Они неразрывно связаны с моими собственными интересами. Мне не хотелось бы с вами расставаться, но за прожитые годы я уверился в том, что со всем справлюсь, какое бы испытание не выпало на мою долю. – Отвернувшись, Пибоди взял в руки выроненное перо. – Мадам! Ваше присутствие здесь более нежелательно.
Рыжкова попятилась и неуклюже выбралась из фургона. Бредя к своему жилищу, где она собиралась дождаться Амоса, старуха вспомнила кое-что из тех времен, когда она еще была просто Еленой. До слуха Пибоди, впрочем, долетело лишь бессмысленное бормотание умалишенной. Он не знал, что старуха повторяет первые слова молитвы, которой шепотом научила ее мать, качая на коленях сразу же после гибели Степана.
Глава 15
20 июля
– Просыпайся.
Я открыл глаза. Моя голова лежала на стопке бумаг, а Энола стояла, глядя на меня сверху вниз.
Я заснул за письменным столом, проведя день за изучением феномена проклятий, а также в поисках следов Рыжковой. Национальный архив не располагал списками пассажиров судов до начала XIX века, но я смог по библиографическим ссылкам перейти в архив Нью-Йоркской публичной библиотеки, где хранились списки пассажиров начиная с XVII века. Доступ только по заявке. Я подал заявку, сделав акцент на профессиональной этике. Я упомянул о своей связи с Грейнджером, при этом не особо погрешил против истины, а также написал, что наша библиотека счастлива будет передать часть своего архива по истории китобойного промысла им в обработку. Теперь я стал заправским лжецом, хотя меня это особо не беспокоило, так как спустя пять часов поисков я наткнулся на упоминание о Елене Рыжковой. Имя выделялось в списке пассажиров, так как в середине XVIII века в одиночку женщины обычно не путешествовали, тем более что это была русская женщина на корабле, полном англичан. Опираясь на полученные данные, я смог разыскать ее дочь Катерину Рыжкову. После этого возникли ожидаемые трудности: революция наверняка заставила иммигрантку поскорее ассимилироваться на новом месте. Когда работаешь с генеалогическими сайтами, глаза устают до такой степени, что кажется, они вот-вот начнут кровоточить, поэтому остаток дня я занимался проклятиями, сглазами и приносящими несчастья вещицами. Читать печатный текст было проще. Книга Черчварри «Наложение заклятий и проклятий» оказалась подробной и очень красиво оформленной. Я даже был бы не прочь оставить книгу себе, но не пойду на это. Черчварри был ко мне так добр… Весь вечер я читал о табличках с проклятиями. Просьбу сгубить недруга высекали на камне, установленном в честь божества. Интересно, но к делу, судя по всему, не относится. Ничего общего с утоплением и проклятием, передающимся из поколения в поколение по материнской линии. Я перешел к проклятым драгоценностям: алмаз Хоупа, Кохинур, Делийский пурпурный сапфир… С ними были связаны убийства, воровство и борьба за власть. В журнале не упоминалось о драгоценностях и воровстве. Также у меня не было оснований считать, что утопленницы были убиты. Более современные проклятия были следствием убийств, ограблений либо были связаны с той или иной священной реликвией. Кажется, ничего подобного в этой истории не было. Уже поздно ночью я добрался до страницы 130, на которой начинался раздел, где рассказывалось о священных и заколдованных местах. Всю жизнь прожил на этом острове, а не знал, что середина озера Ронконкома проклята.
– Саймон!
Энола потянулась и постучала костяшками пальцев по столешнице.
– На озере Ронконкома обитает дух индейской принцессы, которую утопили белые парни, – сиплым после сна голосом сообщил я.
Сестра часто заморгала.
– Что за чушь ты читаешь?
– Честно? Не знаю.
Голова раскалывалась от боли, а глаза жгло так, словно я провел несколько часов на сильнейшем ветру. Если после чтения бывает похмелье, то вот оно! Часы на столе показывали половину восьмого. Для Энолы рановато. Я годами вытаскивал сестру утром из постели, чтобы отвести в школу, а она кричала, отбивалась и лягалась.
– Чего ты встала в такую рань?
– Мечехвосты повылазили на берег. Они повсюду. Просто безумие какое-то!
Энола ощутимо шлепнула обеими ладонями по моей спине. Я упал грудью на стол и свалил на пол книги, те самые, которые мне нужно было вернуть в библиотеку. Я звонил вчера Алисе, но она отказалась со мной разговаривать. Однако вечно она на меня сердиться не сможет.
Энола подпрыгивала на месте так, что половицы нещадно скрипели.
– Я пошла к воде рано утром, хотела застать прилив в его верхней точке, а они – повсюду, как прежде, – сказала она.
– Ты сама спустилась?
– А что? Дойл – лентяй, а ты спал.
Мне не следовало бояться, но противный, докучливый страх все сверлил меня… Довольно ощутимый страх, если начистоту.
– Перестань относиться ко мне так, словно я твоя дочь. Это никогда не шло нам на пользу.
Энола потерла одну ногу о другую, стряхивая на пол песчинки. Она права. Я все время присматривал за ней и заботился о ней, и тогда сестра собрала вещи и уехала.
– Ты звонил Алисе? Извиниться никогда не помешает.
Я пропустил ее замечание мимо ушей.
– Много мечехвостов?
– Несметное количество. Странное дело. Я уже решила, что они все вымерли, а тут такое…
Послышался шелест. Опять эти карты! Сестра посмотрела мне в глаза. От этого ее взгляда мне стало не по себе. Я знал, что она пытается найти меня прежнего – такого, каким я был до того, как папа умер, а она нас оставила. Я прежний – где-то здесь.
– Я помню тебя, когда вокруг была тьма-тьмущая мечехвостов, – сказала Энола.
– Я тоже помню, – отозвался я, чтобы не молчать.
Папе оставалось жить всего ничего. Последнее лето его жизни. Я первым заметил мечехвостов, когда смотрел вниз с обрыва. Мне захотелось показать их сестре. Я ждал Энолу в ее спальне. Даже тогда сестра тайком сбегала из дома, сбегала от отца и, как мне казалось теперь, от меня. Она ходила воровать монеты из телефонов-автоматов, и четвертаки постоянно звякали в ее карманах.
Было уже слишком поздно, и я не рискнул пройти мимо спальни отца. Я вылез через окно, навалившись на подоконник и медленно, по дюйму, опуская ноги, пока они не коснулись земли. Энола последовала моему примеру. Когда-то возле дома росла сосна, а потом, в одну из зим, дерево упало на лужайку, вплотную к окну, так, что скрывало от глаз отца наш преступный побег.
Мы шли к обрыву, продираясь сквозь высокий кустарник. Я крепко держал сестру за руку. Мы шли, прижимаясь друг к другу. Я был без обуви. Помню, как ступни кололи веточки и жесткая береговая трава. Заглянув в черноту обрыва, мы решили спускаться по лестнице. Я предложил сестре отнести ее на себе. Тогда она была еще маленькой, мне это не составляло труда. Я спустился с крутого берега, а Энола подпрыгивала у меня на руках всякий раз, когда мои ступни проваливались в песок.
На берегу мы позволили волнам похоронить наши ступни в песке. Прошло несколько минут. Что-то начало царапаться о наши ноги. Энола нагнулась, чтобы узнать то, что я уже и так знал: холодный, твердый, гладкий панцирь с шероховатостями по краям и с двумя бугорками. Мечехвосты. Я посоветовал ей приглядеться: на пляже, вдоль кромки прибоя, лежали сотни поблескивающих в слабом ночном свете «камней». Дальше в море, под водой, двигались, всплывая и опускаясь на дно, темные тени. До этого я редко встречал живых мечехвостов, а на пляже натыкался лишь на пустые, как оболочки цикад, панцири этих существ. Сейчас перед нами были сотни, нет, тысячи мечехвостов. Они наталкивались друг на друга, их хвосты вертелись, словно палочки в руках слепцов.
Энола улыбнулась. Ее нос сморщился. Мне всегда так не хватает этого ее сморщенного носика!
– Ты сказал, что они очень древние, древнейшие из животных. Я задумалась о том, знают ли эти существа, что все вокруг них так сильно изменилось?
– Должны бы знать.
Из-за того, что многие их инстинкты стали теперь бесполезными… Из-за того, что на дне попадаются куски асфальта и битый кирпич… Из-за того, что гигантские морские чудовища исчезли, а остались только они, мечехвосты.
– Я хотела достучаться до папы, – сказала Энола.
– А в результате он только расстраивался.
Незадолго до своей смерти папа дни напролет проводил в кухне, уставившись на пустой стул, на котором когда-то сидела его жена.
– Знаю, – сказала Энола.
Она уселась в кресло и тотчас же принялась пощипывать обивку подлокотника.
– Я осталась стоять на берегу, а ты зашел поглубже в воду. Когда ты вышел из воды, мечехвосты барахтались вокруг твоих ног, а ты хохотал, как идиот.
– Разве ты не зашла со мной в воду?
Сестра удивленно приподняла брови.
– Я думала, что ты все помнишь. Меня эти твари очень напугали, а вот ты бесстрашно шагнул в воду. Они пытались взобраться по твоим ногам, словно по стволам деревьев. Не думаю, что тогда тебе пришло в голову, что если ты не удержишь равновесие, то эти твари просто накроют тебя с головой. – Теперь Энола вела себя как четырнадцатилетний подросток. – Пока ты стоял и смеялся, я на берегу думала, что буду делать, если ты не удержишься на ногах.
Тени воспоминаний: сестра, стоя на берегу, кричит и умоляет меня вернуться. Но мне было приятно стоять в воде, кишащей этими древними созданиями. Они ползали по моим ногам. Их твердые щупальца небольно скреблись по моей коже, щекотали меня. Вот только никто по мне не взбирался. Ничего подобного просто не было.
– Тебя до середины бедер облепили эти твари. Ты сам на себя не был похож в ту минуту.
Тихий шелест карт, оживших в кармане ее юбки. Я представил себе, как сестра проводит пальцами по их краям.
– Мне показалось, что мечехвосты собираются тебя утащить. Как будто мама позвала тебя к себе.
Мост. Осень. Колода карт в руке матери. На верхней карте – голые мужчина и женщина. Мама быстро прячет карты. Любовники.
– Они спаривались. Такое происходит каждый год.
– Теперь я это знаю, глупыш, – заявила сестра. – Я просто хочу сказать, что боялась за тебя… Тот, кто разговаривает с мечехвостами!
Папа умер, и мечехвосты сразу же пропали. Теперь по ночам на пляже не было никого, кроме нас. А потом, гораздо позже, уехала и Энола, уехала, как только смогла.
– Почему ты уехала?
Я не думал, что задам этот вопрос, и немного испугался, даже расстроился. Хотя и до смерти отца мы жили только вдвоем – я и она.
– Наш дом похож на гробницу, – призналась сестра, глядя из окна на подъездную дорожку перед домом Фрэнка, – на памятник людям, которые, если и любили меня, то недостаточно сильно, чтобы потрудиться продолжать жить. – Она перевела на меня взгляд. – Знаю, знаю… Ты остался здесь, все еще живешь в этих стенах. Если за это полагаются награды, ты точно получишь медальку. Маме было наплевать. Она уплыла в открытое море, не дав себе труда узнать меня получше. Папа повел себя еще хуже. После ее смерти он и секунды своего времени не уделил детям. Он просто притворялся, что живет, до тех пор, пока не умер по-настоящему.
– Я понимаю, почему ты на них зла.
– Ты хоть помнишь, каким изможденным тогда был? Как обслуживал столы, перемывал горы посуды… А сколько времени ты проводил в школе и библиотеке! И все это ради меня!
– Мы оба хотели есть, так что я работал не только ради тебя. Неужели все выглядело настолько ужасно?
Я помнил, как уставал тогда, помнил долгие дни бесконечных трудов. У меня не было выбора, поэтому я вставал утром и шел работать.
– Без меня тебе стало легче, – сказала сестра. – Только не надо со мной спорить! Я думала, что, если я уеду, ты продашь дом и тоже уедешь, куда душа пожелает. Если бы я осталась, ты и дальше настаивал бы на продолжении моей учебы.
– Пожалуй, что так.
А она умна! Ей и впрямь нужно было тогда уехать.
– Если бы я осталась, ты бы продолжал вкалывать, как тягловая лошадь. Я уже не могла спокойно смотреть на тебя, зная, что ты ради меня надрываешься. – Пока сестра говорила, ее ногти скребли обивку кресла, вгрызаясь в нее все глубже. – Мне было морально тяжело, Саймон. Возможно, тебе неприятно об этом думать, но так оно и было. Я стала для тебя обузой, а быть кому-то обузой совсем не весело. Я думала, что ты уедешь после того, как я уеду. Я на самом деле на это рассчитывала.
Нелегко было признаться в том, что я берег дом не только в память об отце и матери, но и на случай, если сестра вернется. Теперь я понимал, как сильно желал ее возвращения. Куда она вернется, если я продам дом?
– Если ты ненавидишь дом, зачем настаиваешь на его ремонте?
– Потому что ты его любишь. Я не настолько эгоистична, как ты думаешь.
Я почувствовал себя виноватым – ведь я на самом деле считал сестру ужасной эгоисткой, особенно тогда, во время ужина с Алисой. Я заварил кофе, а наши призраки тем временем бродили по кухне. Я и сам в юности, опершись на стол от усталости, чувствовал себя ходячим мертвецом. Энола, настороженная и молчаливая, свернулась калачиком в кресле, стараясь слиться с обивкой. Я наполнил две кружки кофе. Я пью черный кофе, а Энола – со сливками. Еще я пью его очень горячим.
– Почему, по-твоему, отец так запустил дом? – спросила Энола.
– Мне кажется, всему виной горе.
– Удобное оправдание.
Мы сидели, уставившись на свои кружки так, как делал когда-то отец.
– Иногда он мне рассказывал о маме, когда у него хватало духу.
Прошел год, прежде чем отец смог произносить имя матери вслух. А еще через какое-то время он говорил о ней, глядя на нас уже не покрасневшими, полными горя глазами.
– Отец рассказывал, что, когда он впервые увидел маму, она была с расшитым блестками русалочьим хвостом. Она плавала в большом стеклянном аквариуме. Папа приложил свою ладонь к стеклу и улыбнулся ей. Он уже тогда знал, что они поженятся.
Было еще кое-что. Я запомнил каждое его слово и кисловатый запах дыхания, смешивающийся с ароматом кофе.
Я увидел ее в воде и поверил ей. Я поверил в то, что она русалка, хотя хвост у нее не был настоящим. Вся моя жизнь до того момента показалась мне прозябанием в закрытом чулане, и только при виде нее я ощутил, что дверь отворили и выпустили меня на волю.
А Фрэнк стоял рядом и понимал, что его приятель влюбился по уши. Папа приходил смотреть шоу каждый вечер в течение недели.
– Она много чем занималась: гадала на картах, играла роль русалки. Папа видел, как ее распиливает пополам старик, настолько дряхлый, что пила тряслась в его руке. Она залезала в ящик. Руки высовывались наружу. Она помогала старику двигать пилой.
Энола передернула плечами:
– Во время переездов ящики подпрыгивают, а пилы гнутся, поэтому пила вполне может застрять.
– Как я понял, номер не удался, что-то не заладилось, но мама с улыбкой пилила саму себя.
Отец рассказывал мне о маме до самого рассвета, рассказывал о том, какими были ее волосы ночью и как она краснела. Как зрелый персик. Рассказывал, как он отделался от Фрэнка и еще пары приятелей и несколько часов ждал, пока шоу закончится. Он стоял у шатра фокусника. Наконец Паулина вышла, на ней были шорты и кроссовки. Волосы собраны сзади в конский хвост. Она выглядела как обычная девушка.
– Он сказал, что каждый вечер приходит только ради нее. Если она не согласится с ним прогуляться, то всю оставшуюся жизнь его будет мучить мысль: настоящая она или нет?
– На папу совсем не похоже.
На того, каким его знала Энола, совсем не похоже. Эти воспоминания принадлежали другому человеку, тому, кто ловил рыб настолько огромных, что они могли бы проглотить маленького мальчика. Мама согласилась с ним пройтись. Папа повел ее к гавани, к причалам. Я сам так поступал. В отлив пахнет морской свежестью и слышен стук пришвартованных яхт о причалы. Парни Напаусета часто водили своих подружек в гавань. Это стало своеобразным ритуалом. Пары стоят, опираясь об ограждения, а парни обнимают девчонок за талию. Мама любила такое постоянство, то, что передается из поколения в поколение и не подвластно времени. Она до этого жила в трейлерах, жилых автофургонах, и гостиничных номерах. Отец надеялся, что соблазн обзавестись собственным домом будет достаточно силен.
– Он пообещал маме дом, – сообщил я сестре.
– Ну, он мог все же не доводить его до такого состояния.
Пожав плечами, я допил кофе.
– Наверное, после ее смерти дом перестал его интересовать.
Энола ухмыльнулась. Ей не нужно было произносить вслух, что мы должны были стать смыслом его жизни. Сестра покачала головой:
– Что касается Алисы, то ты все испортил.
– Сам знаю.
Сестра разбалтывала оставшуюся на дне кружки кофейную гущу.
– Со временем она тебя простит.
– Думаешь?
Во время ужина Алису прямо распирала злость на меня. Трудно справиться с настолько сильным чувством.
Энола пожала плечами:
– Да, если ты предпочтешь ее деньгам Фрэнка.
– У меня нет выбора.
– Есть. Просто ты не привык принимать радикальные решения. Тебе надо минут сорок, чтобы решить, какую рубашку надеть.
– Дом – это не рубашка.
– Вот именно! Поехали со мной и Дойлом, забудь о доме и дай Алисе время остыть.
– Я не смогу так поступить.
– Ладно. Поступай, как считаешь нужным, – сказала сестра. – Кстати, я заглянула в эту твою книжку.
– Надеюсь, ты больше не вырывала оттуда страниц?
Ее глаза округлились.
– Готова поспорить, ты понятия не имеешь, что тебе досталось.
В каком-то смысле она была права.
– Я знаю, что журнал очень старый. Первая запись сделана в 1774 году. Журнал ездил вместе с цирком, вернее не с цирком, так как настоящих цирков в Америке тогда не было. У журнала было несколько владельцев, сколько – не знаю. Часть записей испорчена.
– Это расходно-приходная книга владельца. Том мне такую показывал. У всех владельцев цирков и передвижных ярмарок есть такие. Хозяин заносит в нее все данные, имеющие отношение к шоу: кого наняли, кого уволили, какова прибыль, в каких местах побывало шоу. Все заносится по датам. Такая книга принадлежит не конкретному человеку, а шоу. Книга Тома перешла к нему от отца. У него есть несколько таких книг. Первые записи сделаны в шестидесятых. Его отец купил шоу, когда предыдущий владелец ушел на покой и перебрался в Сарасоту. С помощью этих записей можно отслеживать все важные события.
– Я так и понял, что это своеобразная история шоу.
– Такая книга похожа на семейную библию, хотя твоя, – Энола слегка сдвинула журнал с места, – какая-то странная. Расходно-приходная книга – это ведь не личный дневник. У Тома, к примеру, никаких рисунков нет.
– Она очень старая. Тогда, полагаю, еще не знали, как их следует вести.
Сестра барабанила по столу двумя пальцами – мизинцем и указательным, а потом средним и безымянным. Эту привычку она унаследовала от отца.
– В любом случае эта книга – не для тебя. Посмотри, в каком она состоянии. Похоже, она пережила наводнение. Не удивлюсь, если именно наводнение стало причиной конца шоу, а книга не осталась в семье владельца.
– О чем ты? Поясни.
– Расходно-приходные книги передаются вместе с шоу. В них содержится ценная информация для внутреннего пользования, история шоу и все такое прочее. Если случился пожар или, скажем, наводнение, книгу могли бросить.
Сестра скривила губы, и я догадался, что не было произнесено вслух: либо владелец спасался бегством, либо он погиб.
– Она имеет отношение к нашей семье. В ней упоминается кое-кто из маминых предков.
– Странно, что она к тебе попала. Лучше верни ее тому, кто тебе ее послал… Знаю, ты не хочешь. А еще тебе следует забыть о доме и уехать отсюда. Этого ты тоже не хочешь.
Рука сестры резко дернулась. Этот жест означал то ли покорность судьбе, то ли угрозу.
– Не понимаю, зачем я с тобой разговариваю. Каждый раз наш разговор заканчивается тем, что ты меня отшиваешь. Пойду лучше к Дойлу. Сегодня нам надо сгонять на работу, а тебе, – остановившись посреди коридора, добавила сестра, – надо поговорить с Алисой.
Дойл сидел на ее кровати, скрестив ноги, и медитировал. Щупальца на его шее шевелились с каждым вдохом и выдохом. Энола позвала его по имени. Дойл открыл глаза.
– Привет, Маленькая Птичка! Я слышал, как вы разговариваете, – втянув шею в плечи, произнес он. – Вам надо больше разговаривать. Когда люди общаются, это хорошо, в особенности если это брат и сестра.
Произнесено это было так, словно парень изрек невероятно глубокую мысль.
– Да, конечно… – согласилась Энола. – Том хочет, чтобы мы приехали. Надо собираться.
– Хорошо. Посмотрим, какова там, на новом месте, ситуация с работой, – растягивая слова, произнес Дойл.
Особенно протяжно прозвучало слово «ситуация». Мужчина потянулся и принял позу человека, готового ринуться в бой.
– Мы должны поговорить с Томом о твоем брате?
Энола кивнула.
– А мне кое с чем надо разобраться. Не бойтесь, со мной все будет в порядке, – сказал я.
То, что архив Сандерса-Бичера заинтересовался моими рекомендациями, – хороший знак, а работа с Фрэнком, пусть даже по выходным, станет мне подспорьем, если, конечно, Алиса меня простит.
– Как хочешь, – сказала сестра.
Наблюдая за Энолой и Дойлом, я только сейчас осознал, какая же спальня моей сестры крошечная. Энола порылась под кроватью. Одна кожа да кости, выпирающие из-под джинсов, поверх которых сестра зачем-то натянула грязную плиссированную юбку. Никогда не понимал женщин, которые одновременно надевают юбку и штаны. Энола сунула ногу в туфлю и принялась яростно заталкивать ее поверх скомканного заднего ремешка. Я уставился на ее вторую, босую ногу. Ее пальцы на ногах слегка загибались вверх. Привычка эта выработалась вследствие того, что Энола хотела скрыть незначительный дефект – между пальцами ее ног образовались небольшие складки.
– Когда вы вернетесь?
– Не знаю. Можешь поехать с нами, если хочешь прошвырнуться. – Оглядевшись, сестра воскликнула: – Блин! Не понимаю, как ты можешь жить в этом доме! – Энола указала Дойлу на глубокую выбоину в стене. – Это моя работа.
Она начала ковырять стену сразу же после смерти отца.
– Правда?
Парень наморщил лоб, а вместе с кожей сморщились татуировки на его скальпе.
– Я любила ковыряться в чем-то твердом, – сказала Энола. – Когда я сильно сердилась, то ковыряла стену четвертаком.
Я не стал мешать сестре врать. Когда-то она любила есть штукатурку. Придя домой поздно вечером, я обнаруживал Энолу сидящей возле стены. Девочка терла мизинцем стену, а потом облизывала его.
Жилось нам несладко, впрочем, по-другому и быть не могло.
– Хочешь, мы привезем тебе пончиков? – спросила Энола, когда мы вернулись в гостиную.
– Откуда?
– С карнавала. Когда-то они тебе очень нравились… Лучше бы ты поехал с нами. Если сегодняшний день пройдет без напряга и Джордж заскучает, он поделится с нами своей травкой. У толстяка хорошая трава. Хочешь?
– Нет, спасибо.
– Как хочешь. Приезжай, если передумаешь.
Энола, уперев ногу в стену, со всей силы потянула дверь на себя. Та распахнулась.
– Думаешь, Том согласится поговорить со мной о его книге? – спросил я.
Дойл обнял мою сестру за талию. Возможно, это всего лишь игра света, но мне показалось, что Энола настолько исхудала, что скоро совсем испарится. Вид у нее был явно нездоровый.
– Перестань возиться с этой книгой, – заявила сестра. – Я понимаю, тебе кажется, будто бы во всем этом что-то есть, но я думаю, что во всем виновата тоска. У нас довольно тоскливая жизнь. Мама жила безрадостно. Как по мне, этого вполне достаточно.
Сестра вышла из комнаты. Дойл оглянулся и поспешил за Энолой. Секунду мне казалось, что он хотел что-то сказать мне на прощание, но вместо этого положил руку ей на бедро, и они ушли.
Когда машина отъезжала, он высунулся из окна и крикнул:
– Приятель! Приезжай.
…До моего письменного стола осталось не более двух шагов, когда раздался резкий треск. Лодыжка левой ноги подвернулась, а колено согнулось. Блин! Блин! Блин! Падая, я кричал. Пол провалился подо мной, и часть левой ноги угодила в зияющий пролом. Я упал на спину, стукнувшись головой о доски пола. В голове промелькнуло воспоминание: мама целует мою шишку, которую я набил, ударившись об угол кофейного столика.
Я упал достаточно близко к креслу, чтобы, упершись в него плечами, перенести на них тяжесть своего тела. Я очень медленно вытащил ногу из ловушки. Мне показалось, что лодыжка уже начинает распухать, а ступня неестественно вывернута. Кровь. В воздухе, не оседая, висело облако поднявшейся при моем падении пыли. Повсюду, словно опавшие листья, были разбросаны мои бумаги, слетевшие со стола.
Я могу просто полежать, хотя бы немножко? Я посмотрел на дыру в полу. Большая. Чертовски большая, если на то пошло. Меня насторожил тихий звук, доносившийся из-под пола. Неужели песок двигается? Не может этого быть! Там вообще не должно быть песка. Прилегши на пол, я заглянул в пролом. Нет, определенно, это не песок. Я сунул голову во тьму пролома, хотя полной тьмой это все же не было. Немного света сюда просачивалось.
Так как Энола и Дойл уехали, мне пришлось звонить Алисе, надеясь, что моя беда смягчит ее сердце.
– Пожалуйста, не бросай трубку!
– Назови причину, по которой мне не следует этого делать, – сказала мне Алиса.
– У меня в доме провалился пол, лодыжка, возможно, сломана, а я сейчас сижу без сил у кресла. Извини.
Я услышал, как Алиса задвигает ящик стола, и почему-то вспомнил, что записи она предпочитает делать разноцветными ручками.
– Ты ведь смог добраться до телефона.
– Это потому, что он лежал на полу.
– Хорошо, – согласилась Алиса, после чего испустила вздох мученицы, чье терпение слишком долго испытывают.
Если я рассчитывал, что ее сердце смягчится, то Алисе, отворившей дверь, было далеко до этого. С видом заправской медсестры она, ухватив меня под мышки, помогла мне перебраться в кресло.
– Извини, – произнес я.
– Тебе за многое следует просить прощения.
Прежде чем меня покинуть, она перебросила сумку с библиотечными книгами через плечо.
– Я их забираю.
– Ты говорила, что тебе будет неудобно возвращать их. Дай мне день. Обещаю, что отвезу книги сам.
Алиса прикусила нижнюю губу. Хотя она сейчас ужасно злилась, движение ее губ показалось мне очень милым, к тому же оно привлекало внимание к симпатичной темной родинке в ямочке между губой и подбородком.
– Что происходит, Саймон? У нас с тобой уже давно нет контакта.
Я рассказал об Эноле.
Алиса тяжело вздохнула:
– Вечно эти ее фокусы!
– Сестра высокого мнения о тебе. Она считает, что ты хорошо на меня влияешь.
Алиса прислонилась к дверному косяку и с несколько отстраненным видом сказала:
– Было бы лучше, если бы ты хорошо на меня влиял.
– Я хочу отсюда съехать, – сказал я. – Я не хочу брать у твоего отца деньги.
– Хорошо, – с рассеянным видом произнесла Алиса. – Держи ногу повыше.
А потом она ушла. Приподнявшись на руках, я провожал ее взглядом.
Уже у машины Алиса на прощание крикнула мне:
– Я со временем успокоюсь!
Не поговорила ли с ней Энола?
А если сестра права и это никакое не проклятие? Вдруг мы патологически безрадостная семья, члены которой в силу химического дисбаланса просто не в состоянии долго жить? Если Энола права, если мы топимся именно вследствие этой самой тоски, то я ничем ей помочь не смогу.
Возле стола лежала цветная распечатка рисунка из «Путеводителя по развлечениям для знающего себе цену джентльмена» Х. В. Кальвина. Это рекламное издание представляло собой путеводитель по клубам, заведениям, незаконно торгующим спиртными напитками, и борделям. Оно появилось в те времена, когда Селина Дувел еще выступала в бурлеске, а не была русалкой в цирке Марво. Рисунок был выполнен очень умелой рукой. Не вызывало сомнения, что Селина Дувел – одна из нас: темные волосы, светлая кожа, глаза, как у Энолы.
Вновь взявшись за журнал, я натолкнулся на еще одну небольшую, но оттого не менее странную тайну: Энола вырвала все рисунки карт Таро, вырвала очень аккуратно, предварительно проводя ногтем глубокие линии на бумаге, а потом отрывая листы по ним. Она лгала мне, глядя в глаза. Кто способен на такое варварство по отношению к книге? Впрочем, моя сестра и раньше систематически портила вещи, не объясняя, зачем это делает. Следовало бы мне с самого начала сделать ксерокопию всего журнала. Уже после того, как Энола разорвала первый рисунок, надо было прятать от нее журнал. Я же не думал… Возможно, у нее тоскливое настроение, как она это называет.
Всегда женщины. Из сведений об утонувших женщинах у меня на столе образовалась настоящая бумажная река. Ни одного упоминания о сыне. Любовники… Убитые горем мужья… Безутешные отцы… А где же сыновья? А братья? Я такой один. Я аномалия. Почему сестра не расстается с картами? Зачем она порвала мою и без того испорченную книгу? Как же все сложно!
Зазвонил телефон. Это был старик, пославший мне журнал, который мне не следовало принимать, а ему отправлять… Если, конечно, не случилось бы чего-нибудь ужасного… То, что все женщины утонули 24 июля, – не совпадение. Слишком много имен для совпадений. Я поднял трубку.
– Саймон! Вы мне не звоните. Как продвигается чтение «Наложений заклятий и проклятий»? Книга вам помогла?
– Да, в каком-то смысле. Увлекательное чтение.
– Да уж, – пробормотал он в ответ. – А ведь я не смог эту книгу продать. Издание чудесное, но излишняя дотошность автора все портит. Ну… Я помню, что просил ее вернуть, но если книга вам действительно нужна, то можете ее себе оставить.
Возможно, именно боль в ноге помогла мне увидеть это в ином свете, но внезапно все прочитанное в «Наложении заклятий и проклятий» и услышанное от Энолы сложилось в ясную картину.
– Мартин! Мне только сейчас кое-что пришло в голову. Что-то плохое случилось с людьми, которым принадлежал журнал. Скорее всего, это было наводнение или еще какое-нибудь стихийное бедствие. – Я провел пальцем по испорченной водой странице. – Это, вероятно, было настолько ужасным, что инфицировало (полагаю, «инфицировало» – подходящее слово) любую вещь, любого человека, пережившего трагедию. Эта книга наверняка попала в жуткий переплет, после чего на ней навсегда остались следы трагедии. Подозреваю, что последствия этой трагедии коснулись и моей семьи. Именно это нас убивает.
Черчварри, помолчав, сказал:
– Я вот о чем сейчас подумал. От книг исходит опасность. Любой текст страдает синдромом непогрешимости. Очень легко и мне, и вам запутаться, воспринять те или иные идеи в качестве непреложных фактов, если нет возможности провести соответствующие изыскания. Мне кажется, мы оба этим немного грешим.
– Двенадцать лет я ничем не занимался, помимо справочно-информационного обслуживания, а значит, имел дело с одними лишь фактами. У меня тут несколько некрологов – маме, бабушке, прабабушке… Я добрался в своих изысканиях до 1816 года. Я собрал достаточно фактов из надежных первоисточников, чтобы призадуматься, если не ради себя, то ради блага сестры.
На заднем плане послышался женский голос. Та самая пресловутая Мари. Черчварри ответил ей, что освободится через минуту. В его голосе чувствовалась теплота, что наводило на мысль: следы этой женщины остаются повсюду – в доме, в магазине, в нем самом. После Алисы осталось несколько песчинок, упавших с ее сандалий у порога. И все…
– Простите меня, – произнес Черчварри. – Я надеялся, что моя затея принесет больше радости. В прошлом, когда я дарил книги незнакомцам, это вызывало у них лишь позитивные эмоции. Я таким образом даже обзавелся парой новых заказчиков. Я надеялся на добрую волю Провидения, но, боюсь, вместо этого открыл ларец Пандоры[11].
И я, против своей воли, ощутил, что расстроил очень хорошего и добродушного человека, который прежде понятия не имел об утопленницах и трагедии Ватсонов.
– У моей семьи мрачное прошлое, – сказал я, – но даже в ларце Пандоры можно отыскать надежду.
Глава 16
Хотя Берлингтон, расположенный близ Нью-Джерси, и был оживленным городком, идеальным местом для пополнения запасов, на хорошие сборы здесь рассчитывать не приходилось.
– Друзья, – произнес Пибоди себе под нос, что-то записывая. – Добропорядочные трезвенники представляют собой большую трудность для любого артиста.
Брови Амоса вопросительно приподнялись.
– Квакеры, мой мальчик. Превосходные люди, когда ведешь с ними торговлю, но праздным искушениям они не поддаются. Как бы мне хотелось, чтобы крепость завязок кошеля не зависела столь сильно от количества выпитого. На этот раз вы с мадам Рыжковой не будете перегружены работой. Возможно, ты найдешь свободную минутку и пообщаешься со своей русалкой.
В своем журнале напротив названия города Пибоди написал: «До войны здесь судили ведьм. Надо будет приглядеть за Амосом».
Прогноз Пибоди оправдался. Впервые за несколько месяцев Амосу нечем было заняться. Впрочем, нашлась другая работа. Надо было запастись съестным, перековать лошадей, заменить воняющую и испачканную в древесном угле одежду на новую. Берлингтон давал такую возможность. Город Амосу понравился. По обе стороны главной улицы тянулись ряды домов. Одни были кирпичными, с заостренными, как в Нью-Касле, крышами, другие – деревянными, с крышами, как у амбаров. А еще в городе была пожарная каланча, издалека похожая на церковь. Множество разных людей сновало по улицам. Чернокожие ходили здесь, где им вздумается. Один негр, как заметил Амос, работал в пекарне. Разгуливая по городу, молодой человек мечтал о маленьком кирпичном домике с кроватью, которая не будет скрипеть на дорожных ухабах, – доме, в котором можно жить вместе с ней.
Амос как раз помогал Мейкселу перетаскивать мешки с провизией, а краешек белой ленты, подарок Эвангелине, высунулся у него из кармана, когда мадам Рыжкова схватила парня за ухо и больно его сжала.
– Ступай за мной! – зло приказала она.
Мейксел расхохотался, а Амос покраснел. Провидица тянула его в свой фургон с такой силой, что парень порвал штанину о выпирающий гвоздь. Пока мадам Рыжкова его бранила, Амос теребил пальцами нитки вокруг образовавшейся дырки и сравнивал их с мягкостью волос Эвангелины.
Чем больше сердилась старушка, тем труднее было ее понять. Она то и дело переходила на незнакомый язык или тараторила так, что слоги сливались, словно катящиеся вниз камни. Он знал, что наставница негодует из-за Эвангелины. Рыжкова махала у него под носом своими картами. Лицо ее исказила гримаса недовольства. Находиться рядом с девушкой и не прикасаться к ней, не общаться с ней было для Амоса невыносимо, но молодой человек начал подозревать, что в последнее время они стали чересчур беспечными. Вполне возможно, что кто-нибудь видел, как они целуются. Да, Рыжкова, без сомнения, знала об их отношениях. Лицо старушки побагровело и покрылось пятнами. Амос начал опасаться не за себя, а за свою наставницу. Человек может не выдержать такой нагрузки. Он взял Рыжкову за руку. Скрюченные, коричневые пальцы, держащие карты.
Когда он к ней прикоснулся, старушка перешла на шепот. Амос чувствовал взгляды висящих на стенах портретов – они умоляли его внять ее словам. Когда он посмотрел наставнице в глаза, то увидел в них усталость и печаль.
От Эвангелины он узнал, что улыбка не всегда проявление радости, а плач может означать не только печаль, но и радость. Женщин лучше успокаивать, обнимая. Он обнял мадам Рыжкову и прижался щекой к ее груди, к тому месту, к которому матери обычно прижимают своих детей, когда несут их на руках.
У него над головой плакала старушка. Она, словно заклинание, повторяла: «Мой сын, мой сын, мой сын…» Рыжкова говорила, что тревожится и что не переживет еще одной утраты. Она знает, что Эвангелина – русалка. Если он хороший мальчик, если он достаточно умен, в чем она не сомневается, он ее выслушает. Мой сын… Мой сын… Рыжкова говорила ему, что не в обиде за то, что он ее обманывал, главное, чтобы ему ничего не угрожало. Она простит ему все, но он не должен губить свою жизнь. Мой сын… Она, гадая на картах, заранее знала, что он появится. Она подарила ему имя. Он для нее все равно что родной сын.
Когда старушка стала дышать ровнее, она взяла голову Амоса в свои руки.
– Ты должен оставить ее. Моего родного отца погубила одна из ее племени. Она чудовище. Она тебя погубит.
Когда Амос нахмурился, старушка зажмурилась, не желая видеть, что он с ней не согласен.
– Ты можешь смеяться надо мной, Амос, но твоя душа невинна, и русалка это чувствует и тянется к тебе. Если ты останешься с ней, она утопит тебя в реке. А потом она найдет другого и будет вести себя с ним так, словно никогда тебя не знала. Если ты ее не бросишь, то умрешь. Она уже убивала и убьет снова. Я вижу это.
Ее ладони были неестественно горячими, и это тепло проистекало из того самого источника, который позволял мадам Рыжковой, прикоснувшись к картам, читать людские судьбы.
– Твоей картой была Башня, – хриплым голосом произнесла она. – Я предвидела все это задолго до появления девчонки. Она погубит тебя. То же самое относится к Дьяволу. Тебе эта карта нравится, но она также сулит несчастье. Я гадала тебе множество раз. Всегда выходило одно и то же. Девчонка всякий раз посередине.
Рыжкова взяла в руку колоду. Потертый уголок карты воззвал к ней. Рыжкова протянула Амосу карту Королевы Мечей. Глаза черноволосой женщины уставились на парня. Эта женщина, Эвангелина, приносит несчастья.
Амос недоверчиво покачал головой. Наставница не видела, какой испуганной Эвангелина была той ночью, когда вышла из леса, и в каком отчаянии пребывала, когда прижималась к нему.
Рыжкова насупилась. Она, не глядя, вытащила из колоды еще одну карту. Дьявол, перевернутый вверх ногами, улыбался ему. Без заминки наставница вытащила последнюю карту. Скелет на спине коня. Смерть.
– Это то, что я увидела в первый раз. Появление девчонки и то, что нам следует держаться от нее подальше, – произнесла Рыжкова, прикоснувшись к запястью Амоса. – Мы можем поехать к моей дочери. Я отвезу тебя к ней. Она красавица и цельная натура.
Холодный пот выступил у парня на лбу при мысли, что придется расстаться с Эвангелиной. Он вырвал карты из рук старушки, чувствуя на себе осуждающие взгляды ее нарисованной родни. Даже красивая девушка смотрела на него с негодованием. Амос стал перетасовывать карты. Он продолжал делать это до тех пор, пока не почувствовал холодное покалывание в кончиках пальцев. Он вытащил карту из колоды. Широкое улыбающееся лицо. Солнце.
– Счастье! Свет! – выкрикнула Рыжкова. – Ты говоришь мне о счастье? А я говорю, что эта девчонка тебя погубит. Счастье, ты мне говоришь?
Амос продолжил тасовать колоду, пока очередная карта не заговорила с его пальцами. Верховный Жрец. Могущественная фигура, в чьей власти браки. Он правит, сидя на троне меж двух колонн. Супружество.
– Как бы не так! – хмыкнула Рыжкова. – Бездушные замуж не выходят.
Амос продолжил внимательно перебирать карты, переворачивая одну за другой, мысленно рисуя в своем воображении такую жизнь, какой он ее себе представлял, – жизнь в маленьком домике вместе с Эвангелиной. Колесо Фортуны. Десятка Пентаклей. Туз Кубков. Любовники. Двойка Кубков. Все вместе они говорили о браке, о любви, которая, подобно воде, разливается повсюду.
Последнее изображение затронуло его за живое: мужчина и женщина, взявшиеся за руки над чашей, символизирующей верность.
Рыжкова скривилась и указала скрюченным пальцем на грудь Амоса.
– Ты видишь то, что хочешь увидеть. Ты затмил карты своими надеждами. Ты читаешь не будущее, а свои надежды.
Ее рука, отяжеленная кольцами, с изогнутым большим пальцем, собрала карты в колоду. Старуха двигала лишь кончиками пальцев с пожелтевшими ногтями. С того момента, когда Амос впервые увидел, как мадам Рыжкова заставляет карты танцевать, прошло довольно много времени. Зрелище это зачаровывало и пугало в равной мере. Остановившись, старушка прижала рукой колоду к ящику. Костяшки ее пальцев побелели от напряжения. Мадам Рыжкова прикрыла веки. Ее лицо сморщилось до такой степени, что изменилось до неузнаваемости. Три раза тяжело вздохнув, старуха начала бормотать что-то себе под нос, раскачиваясь, как пламя свечи.
Что-то разладилось между ними, что-то настолько тонкое, что Амос и не уловил этого.
Рыжкова разложила карты на ящике. Богатство красок на фоне дерева. Четыре карты смотрели на него своими жуткими ликами: Башня, Тройка Мечей, Смерть и Дьявол.
– Как раньше, так и сейчас. Сам видел? Она измочалит и обескровит тебя. Она будет действовать медленно, как вода, точащая камень. – В голосе старушки звучала боль.
Она повторила свой ритуал. Девятка Мечей. Человек стенает, мучимый душевной болью, а над его головой висят мечи. Десятка Мечей. Лежащее возле реки лицом вниз тело проткнуто мечами. Башня. Дьявол. Прежде чем наставница собрала карты и продолжила, Амос схватил ее за руки. Он отрицательно помотал головой.
– Всякий раз одно и то же, – сказала она.
Молодой человек терзался, видя ее мучения, но наставница просила невозможного. Он держал руки старушки в своих и вспоминал тонкие пальчики девушки. Он не знал, как попросить у нее прощения, но готов был исправить все, что только можно исправить. Он надеялся, что со временем женщины свыкнутся с существованием друг друга. Надеяться на это было наивно и глупо, но Амосу всегда нравился Дурак.
Молодой человек выпрямился, стоя на коленях. Доски больно давили на них. Он отпустил руки Рыжковой и медленно нагнулся вперед. Грудь коснулась досок пола между коленями, а лоб – потертых коричневых башмаков. Подчинение? Возможно… Прощение? Он надеялся… Он умолял. Он не издавал ни единого звука. Голова касалась ее ног. Рыжкова, сильно дернув Амоса за воротник, заставила его подняться.
– Мне это не нужно. Ты мой сын, а не слуга и не собака.
Старушка улыбнулась и стала прежней – доброй пожилой женщиной, в обществе которой он проводил много времени.
– Пожалуйста. Я тебя прощаю, но ты должен ее покинуть.
Его пальцы сильнее вжались в пол.
За три года, что прошли с момента его вступления в труппу, Амос сильно вытянулся. В этот миг он жалел, что стал таким высоким. Ему хотелось стоять прямо, гордо расправив плечи, перед этой женщиной, но низкий потолок заставил парня пригнуться, когда он поднялся с колен. Он отрицательно покачал головой, однако ссутуленные плечи смягчили неистовость его отказа. Когда он выскочил из двери фургона и его ноги коснулись травы, ему показалось, что распрямлять плечи уже нет особой необходимости.
Он пустился на поиски Эвангелины. «Я похож на пса», – подумалось ему. Девушку он застал за подготовкой к дневному представлению. Эвангелина плавала в лохани. Волосы ее струились в воде. Платье вздымалось над ней, подобно кувшинке. При его приближении Эвангелина, ухватившись за край лохани, поднялась из воды.
– Почему ты плачешь?
У Рыжковой не было сил бежать вслед за Амосом. Гнев исчез так же быстро, как и возник, и теперь она чувствовала себя пустым мешком. Старуха вновь погадала на картах, надеясь, что на этот раз что-то изменится. На Пибоди не стоит рассчитывать. Он видит только деньги. Мальчик видит одну лишь красоту. Она перевернула карты. Все чаще перед ее внутренним взором возникало лицо ее отца, он смотрел на нее из реки. Амос был рядом. Она переворачивала карты до тех пор, пока пальцы не отказались ей повиноваться.
Она не могла здесь более оставаться. Смерть отца закалила Елену, превратив в суровую женщину, которая рассталась с дочерью только потому, что знала: излишняя привязанность вредит. Амосу все же удалось залезть ей под кожу. У нее осталось не так много жизненных сил. Если она будет видеть, как гибнет ее приемный сын, это ее убьет.
Рыжкова заперла дверь и подождала, пока на землю опустится ночь. Постепенно стихли голоса и тех, кто ложился спать позже всех, – Мелины, Сюзанны и Мейксела. Старуха сняла с головы платок и завернула в него свои пожитки: письма от братьев, портреты, монеты и маленький медный маятник на шелковой нитке, с помощью которого она искала воду и предсказывала будущее. Ее седые волосы отросли и теперь напоминали конскую гриву. От их черноты и шелковистости в те дни, когда ее звали Еленой, ничего не осталось. Если она посмотрит на свое отражение в зеркале, оттуда на нее будет взирать незнакомка.
Лагерь затих. Только Бенно возле костра отрабатывал короткий проход. Акробат был настолько поглощен этим занятием, что, похоже, ее не заметил. Рыжкова, стараясь не шуметь, направилась к подводе, на которой перевозили лохань русалки. Амос должен быть с ней. Он просто не в состоянии противостоять искушению.
Ее мальчик спал. Он лежал, обняв девчонку, укрытый ветхим одеялом. Платок на его голове сдвинулся, из-под него выбились волосы. Его вид напомнил старушке о диком мальчике, которого она видела впервые в своей жизни. Она хотела поцеловать его в лоб, провести рукой по щеке, но это его разбудит… Его или девчонку… А она не желала смотреть в глаза этому существу.
Рыжкова шепотом попрощалась с Амосом, называя его по имени.
Она вернулась в свой фургон, чтобы забрать вещи. Старушка зажгла новую сальную свечу, так как оставленная ею в фургоне почти догорела. Она взяла в руки шкатулку с картами, которые столько всего ей поведали. Если она заберет и их, то ничего не оставит Амосу. Рыжкова хотела, чтобы он ее помнил и любил, хотя бы немножко. Приоткрыв крышку, старушка еще раз взглянула на карты, которые она с такой тщательностью рисовала в свое время, справедливо гордясь их яркими красками. Возможно, наступит время, когда русалка совсем завладеет его душой, и тогда Амос вспомнит, что она его любит, и этого будет достаточно.
Рыжкова коснулась колоды, ощущая частичку Амоса в этих картах. Она шепотом помолилась за него. Те же слова она произносила бы, молясь за отца.
– Сбереги его. Даруй ему семью. Даруй ему дом. Отгони от него русалку. Пусть она утонет, пребывая в столь сильном отчаянии, что кровь будет дрожать в ее теле. Пусть воды смоют эту кровь и сотрут ее и ей подобных с лика земного. Пусть она больше никого не утопит. Сбереги его.
Рыжкова свыклась с мистицизмом карт Таро и их многозначностью, трудно поддающейся толкованию. Картинка с известным ей смыслом для непосвященного может иметь иное, даже противоположное значение. Привыкнув к своему немому ученику, Рыжкова позабыла, что и язык многозначен и содержит в себе противоречия, как и ее карты. Зерна скрытого в словах смысла прорастают вместе с потаенными чаяниями говорящего. Желание защитить – ничто, если подспудно зреет жажда убивать. Хотя она говорила о любви и защите, страх, горе и злоба просачивались в ее слова. Каждое слово, слетающее с ее языка, заключало в себе частичку ее души, которая впитывалась в картон карт. Вот только Рыжкова исторгала из своей души не любовь, как ей казалось, а злые чары, порожденные страхом. Лежащий в колоде Дурак зажмурился.
Старушка захлопнула крышку шкатулки.
Узелок, сделанный из головного платка, перекочевал в заплечный мешок, который ей легко будет нести. Задув свечу, Рыжкова вышла из фургона. Она осторожно пробиралась через лагерь, опасаясь, как бы не звякнули монеты в ее поклаже.
Бенно видел, как она прошла мимо его фургона. Старуха не понимала, почему он то шутит, то становится серьезным. Но Бенно приглядывал за Амосом так, словно парень был его младшим братом. Он был силен, как ее братья, и всегда готов был прийти на помощь, чего за ее братьями не водилось. Рыжкова кивнула ему. Акробат слегка поклонился.
– У тебя острый глаз? – спросила его старуха.
– Да, мадам.
– Это хорошо. Это тебе пригодится. Приглядывай за ним. Огради от опасностей.
Озадаченность промелькнула на лице Бенно, но мадам Рыжкова больше ничего ему не сказала, а пошла своей дорогой. Вскоре до ее слуха долетел мягкий хлопок ладоней акробата по земле. Бенно упражнялся в своем искусстве. Рыжкова вышла за круг фургонов бродячего цирка и растворилась в темноте улиц Берлингтона.
Глава 17
21 июля
Фрэнк стоял на крыльце моего дома, ожидая, чтобы я его впустил. Он пришел обговорить денежный вопрос. Водонепроницаемые мокасины, шорты цвета хаки, немного потертая спортивная рубашка с короткими рукавами… Будничная одежда человека, который зарабатывает деньги тяжелым трудом.
Когда я спросил его, нельзя ли с этим повременить, Фрэнк ответил:
– Надо спешить. Мне кажется, времени на всякую чепуху уже не осталось.
Впустив его, я прислонился спиной к двери. Лодыжка приобрела гротескный вид. Я отделался растяжением, но боль была сильная.
Взгляд Фрэнка сразу же метнулся к дыре в полу.
– Господи, Саймон! Что случилось?
– Дом атакует.
На затылке, в том месте, которым я ударился об пол, вскочила шишка. Когда я касался ее рукой, острая боль пронизывала голову. Когда я прикрывал глаза, перед ними начиналось мельтешение, сопровождающееся пульсирующей болью. Фрэнк что-то произнес, но я не расслышал, будто бы он стоял от меня на расстоянии в добрых две мили.
– Похоже на то, – обходя вокруг дыры, сказал Фрэнк. – Блин.
Не помню, чтобы я раньше слышал от соседа ругательства. Странно. Мы должны обговорить денежный вопрос, но меня еще кое-что интересовало.
– А этот занавес и картины в мастерской… Мама о них знала? Она к ним прикасалась?
Непросто узнать, что приводит проклятие в действие, но должно быть что-то вроде спускового механизма. Есть шанс развеять проклятие, а вот тоску никак не развеешь. Она просачивается у тебя между пальцами.
Фрэнк не ответил. Сосед простукивал костяшками сжатой в кулак руки пол в разных местах.
– Что здесь не так? – бормотал он себе под нос. – Снаружи все плохо, но здесь…
Он со всей осторожностью стал проверять крепость досок пола.
– Сухая гниль повсюду.
– Это всего лишь пол… Была ли моя мама в мастерской, когда она отдавала вам карты?
– Это не просто пол! Плохо дело, паршиво.
По углам его рта образовались бульдожьи складки. Он обошел комнату, постукивая по стенам и прислушиваясь. Осторожно обойдя пролом в полу, Фрэнк остановился у стола, взглянул на журнал, небрежно полистал его и принялся перебирать сваленные в кучу бумаги.
– Прошу быть осторожнее, – сказал я. – Документы очень старые и хрупкие.
– Хрупкие! – гаркнул он. – Полу конец, Саймон! Капец! Почему ты ничего не делал? Почему ты не попросил помочь тебе?
– Я просил.
– Мне надо кое-что привезти, – нервно взмахнув рукой, проворчал Фрэнк. – Скоро вернусь. Ни к чему не прикасайся. Ради Христа! Никуда не лезь.
За ним захлопнулась дверь. Осыпалась штукатурка, повиснув в воздухе облачком пыли. Медленно возвращаться к столу, стараясь сохранить равновесие, было совсем непросто. Когда я все же добрался до стула, у меня возникло ощущение, что мне еще долго придется на нем сидеть. Лицо немилосердно чесалось. Я помассировал его. Сказывалось недосыпание.
Последующие полтора часа я лазил по генеалогическим веб-сайтам. Наконец имя всплыло в записях брачных церемоний, проводимых в одной из церквей Филадельфии. В колонке имен одно было выделено желтым цветом. Я едва не вскрикнул, увидев его. Рыжкова. Катерина Рыжкова вышла замуж за Бенно Коенига. Дочь мадам Рыжковой и Коениг из журнала. Если я что-либо и узнал во время моих изысканий, так это то, что мои родители были исключением: циркачи обычно выбирают себе пару из людей своей профессии. Я слышал, как Фрэнк загружает и разгружает свой ржавый грузовичок без бортов. Вскоре он отъехал от моего дома, дав мне возможность работать в тишине. Узнав о женитьбе Катерины и Бенно, я принялся искать их детей. И здесь мне повезло. Спустя два года у них родилась дочь Грета. Последняя запись о Грете Коениг относилась к 1824 году. Дальнейших сведений о ней не было. Род Коенигов, похоже, прекратил свое существование. Я отослал по электронной почте запрос Раине, библиографу-консультанту из Шорхема, на поиск записи о браке или смерти Греты Коениг. Раина прекрасно разбиралась в генеалогии. Ее семья считалась одной из самых старых в восточных штатах. Внезапно меня осенило, и я попросил ее поискать также Грету Рыжкову. Циркачи легко меняют фамилии. Если Рыжкова имела больший успех, чем Коениг, Грета вполне могла взять фамилию своей бабушки.
Я вернулся к журналу. Если в том, что портреты принадлежали прорицательнице Рыжковой, сомнений не возникало, о покупке занавеса в журнале ничего не говорилось. Рисунки занавеса и упоминания о нем появлялись только на тех страницах, где речь шла о мальчике-дикаре. Ничто в журнале не проливало свет на то, как занавес мог попасть к Фрэнку, не говоря уже о том, что привело сам журнал в столь плачевное состояние. Я кое-что упустил, отчасти по вине Энолы. Все эти карты… «Принципы прорицания» могут освежить мою память. Я должен вспомнить, что же сестра порвала. Вот только рисунки в «Принципах прорицания» другие – смягченные, что ли, менее грозные. Они напоминают витражное стекло, тогда как порванные сестрой рисунки – это разбитое вдребезги зеркало.
Вернулся Фрэнк. Его машина, громыхая и скрежеща, заехала на гравийную подъездную дорожку. Прежде чем я дохромал до него, он уже сгрузил пильные ко́злы на прибрежную траву, которой заросла лужайка перед моим домом. Подойдя ближе, я услышал череду ругательств. При виде меня Фрэнк тотчас умолк. Видно, стаскивать с машины козлы было совсем не просто.
– Я залатаю пролом, так что никакой опасности не будет.
– Спасибо, – сказал я. – Это может показаться несколько странным… У вас были в семье русские? Картины в вашем…
– Перестань. Вот прямо сейчас возьми и перестань, – хватая лист фанеры, сказал Фрэнк. – Ты ведешь себя как пес с костью. Я ничего об этом не знаю. Просто эти вещи были в нашей семье.
Я предложил свою помощь. Фрэнк скептически взглянул на мою лодыжку. Я похромал обратно в дом, а сосед остался снаружи. Я рад был этому обстоятельству. Фрэнк лягнул козлы и вновь выругался. Потом он принялся ходить вокруг машины, берясь за какие-то инструменты, а затем кладя их обратно. Остановившись, он еще раз окинул взглядом дом, оценивая, насколько он скособочился. Невольно я находил в нем черты и повадки Алисы. Она вот так же задирает голову, когда силится рассмотреть что-нибудь вверху на стеллажах. Если я не возьму деньги, то имею шанс сохранить отношения с Алисой, но тогда я потеряю дом, мамин смех в древесных плитах, единственное место в мире, где я могу представить себе отца. Куда я уеду? К Алисе? Или в Саванну, к величественным домам и рекам с заросшими берегами?
Фрэнк опустился на колени, едва не прижимаясь лицом к траве. Он явно заинтересовался фундаментом. И без уровня было видно, что происходит. Ни одна дверь не висела на своих петлях прямо. Ни одно окно не открывалось. Все столы ходили ходуном. Если ничего не предпринимать, дом скоро развалится. Он прогнил до самого основания.
Мне следует пуститься странствовать с Энолой, с этим ее карнавалом. Мне надо за ней присматривать. Прошлой ночью она и Дойл вернулись ближе к рассвету. Я слышал, как он шептал хриплым голосом, отчего получалось только громче: «С ним все в порядке, Маленькая Птичка. Просто у него выдался трудный день. Пусть выспится. Хорошо?» Прежде чем я окончательно проснулся, они уехали. Энола оставила мне записку, в которой просила приехать на шоу. Том Роуз хочет со мной поговорить.
Фрэнк вошел в дом с таким видом, словно это была его собственность. Он оперся руками о косяк двери там, где остались следы от прикосновений рук отца. Во всем этом было что-то очень неправильное.
– Как ты довел дом до такого состояния? – гаркнул он.
– Он давно в таком состоянии. Отец ничего не ремонтировал в доме.
Он ухватился за свои волосы на затылке и дернул их, высвобождая из-под рыбацкой шляпы.
– Я думал, что ты хоть как-то поддерживаешь дом, но тут… Вся основа дома, весь чертов фундамент… Ты ничего не делал!
Далее Фрэнк принялся распространяться насчет стропил, фундамента и подмывания берега. Цвет его лица изменялся, пока оно не стало похоже на спелую сливу.
– Я звонил в город. Они пришлют инспектора.
Меня будто по темечку слегка стукнуло.
– Что? Вы разобрались, что случилось?
– Кажется да, – кивнув, сказал Фрэнк.
Дом объявят непригодным для жизни и меня принудительно выселят.
– Почему вы так со мной поступили?
– У тебя нет денег. Ты займешь у меня нужную сумму, но мешкать нельзя, иначе ты потеряешь дом. Я понятия не имею, сколько осталось до непоправимого. Каждый день промедления только усугубляет ситуацию. Город наложит на дом арест и вынесет решение о принудительном капитальном ремонте. Тебе придется уехать отсюда, а после этого Пелевский сразу же начнет работать. – Фрэнк оглядел комнату, едва заметную невооруженным глазом выпуклость стен, просевшие половицы. – Здесь опасно. Здесь тебе не место.
При этом он смотрел мимо меня. Ничего не было сказано по поводу того, когда я смогу вернуться, если вообще смогу. Его глаза увлажнились… Святой Боже! Он что, плачет?
– Я не возьму у вас денег. Я так решил.
– Уезжай поскорее, – произнес сосед спокойным, почти будничным тоном.
– Что?
– Ты меня слышал. Если надо, Энола и Дойл могут погостить у меня пару дней.
Фрэнк провел рукой по лбу. Он плакал, на самом деле плакал.
– Я хочу, чтобы вы все отсюда выехали. Никто не должен остаться. Здесь небезопасно.
– Кто, блин, дал вам право?..
Должна была бы повиснуть тишина, а затем наступить время для извинений, но оно так и не пришло.
– У меня есть право, – почесав покрытую старческими пятнами шею, произнес Фрэнк. – У меня есть такое право.
Взгляд его метался между потолком, дверью в кухню и полом.
– Этот дом такой же твой, как и мой. Я купил этот дом для Паулины.
– Что? – воскликнул я, преодолевая толщу воды в тысячу футов.
– Я купил этот дом для твоей матери.
Это неправда. Зачем он лжет? Отец обещал маме, что у них будет свой дом, этот дом, поэтому мы отсюда не уехали, не продали его. Дом был его любовным посланием.
– Зачем?
Фрэнк сел в кресло, один подлокотник которого Энола успела сильно общипать.
– Я ее любил.
Мерзко. Ужасно. Все равно что мне вновь сообщили о ее смерти.
Фрэнк прикрыл глаза руками.
– Что?
– Я ее любил. Ты не поймешь. Ты был еще так мал… Паулина была такой красивой.
– Прекрати.
Я ее хорошо помнил.
– Ничего ты не понимаешь, – откашлявшись, произнес Фрэнк. – Я первый встретил ее.
– Какое это имеет значение?
Я не узнал собственного голоса.
– Я привел моего друга на нее посмотреть. Знал бы я тогда… – Фрэнк невесело рассмеялся. – Если бы я только знал… В ту ночь Паулина гадала мне на картах. А еще она гадала мне по руке. Она держала мою руку…
Мамины тонкие пальчики сжимали грубую лапу этого столяра. Ее пальцы, которые трепали мои волосы. Она водила ноготком по его линии жизни…
– Замолчи!
– Возможно, ты не знаешь, так как еще почти мальчишка, но, когда женщина берет твою руку в свою так, как это сделала Паулина, и смотрит тебе прямо в глаза, что-то в тебе меняется. Я привел Дэна для того, чтобы показать ему девушку, с которой собирался прожить всю жизнь.
Моя ступня дергалась, распространяя волны боли вверх по ноге, но я не мог унять этот нервный тик.
– Я попросил ее прийти к офису начальника порта рано утром. Там она сможет меня найти. Я всегда встаю рано. Она пришла утром… И на следующее утро… Она продолжала приходить и после того, как познакомилась с Дэном. Даже после того, как он сказал, что любит ее, Паулина продолжала ко мне приходить. Ты не представляешь, что чувствуешь, когда стоишь в толпе, а твой лучший друг влюбляется в нее.
Фрэнк рассказывал все это полу и своим ногам, не в силах посмотреть мне в глаза.
– Она знала?
– Что я в нее влюблен? – потерев свою бульдожью челюсть, произнес опечаленный старик. – Да.
– Отец купил ей этот дом. Он ей обещал его купить.
– Мой дед оставил мне кое-какие деньжата. Паулине хотелось осесть в каком-нибудь месте. Ей уже осточертело все время переезжать. Она всю свою жизнь провела в дороге, никогда не жила в обычном доме. Возможно, тогда она меня не хотела, но я мог дать ей то, чего хотелось ей, поэтому я дал Дэну деньги.
– А он согласился…
– Я не хотел потерять их обоих. Дэн в любом случае пустился бы вслед за Паулиной. Она была из тех, кто способен заставить мужчину выделывать и не такие коленца.
Я вспомнил, как отец устанавливал раскладной мангал, а Ли и наша мама сидели в шезлонгах. Фрэнк рассказывал историю о подростках, которые сели на своем суденышке на мель. Не мог же никто не замечать, на кого он все время косится?
– Нет, нельзя вот так просто взять и купить дом другу.
– Да, нельзя, – согласился он.
Была и вторая часть рассказа. Фрэнк говорил так, словно был пьян. После встреч утром у офиса начальника порта начался период прикосновений, поцелуев, но потом они решили остановиться и остановились.
– Спустя некоторое время, – рассказывал Фрэнк, к счастью, не вдаваясь в подробности, – стало ясно, что она любит твоего отца. Я знаю, что Паулина его любила. Я тоже считал его своим другом…
Фрэнк начал встречаться с Ли, которая в то время училась в колледже Сент-Джозеф на учительницу. Потом они поженились. С Ватсонами они дружили, вроде как…
– И ты спал с моей мамой.
– Если ты ждешь от меня извинений, то не дождешься. Я не жалею о том, что знал ее.
Фрэнк встал и принялся изучать трещины, бегущие по стенам. Он остановился напротив фотографии Энолы в воде на руках у матери.
– Я снимал их.
Старик принялся рассказывать, что тогда был конец июня. Вода уже прогрелась, но медузы еще не появились вблизи берега.
– Паулина не хотела, чтобы Энолу ужалила медуза. Я вошел в воду первым. Хотел проверить. Я ни о чем не жалею.
– Не веди себя так, словно ты мне отец, – сказал я, а Фрэнк вздрогнул. – Ты с ней спал.
– Спал.
– Сколько это у вас продолжалось? Сколько вы трахались у отца под носом?
– Не выражайся так.
Половица скрипнула.
– До моего рождения? После? После рождения Энолы? Как долго?
– Довольно долго, – тихо произнес Фрэнк.
– А я?
Мы оба знали, о чем я спросил.
– Нет.
– А Энола?
– Она не моя.
– Назови точные даты! – Мне хотелось ясности. – Хочу удостовериться.
– Мы прекратили встречаться, когда Дэн захотел иметь детей. Мы уже год не встречались, когда Паулина забеременела, так что ты не мой. – Щека его нервно дернулась. – Было иногда очень трудно смотреть на нее и думать, что мы были вместе, а теперь она захотела от него детей. Я разрывался на части, но все равно сделал так, как ей хотелось. Когда тебе исполнилось два года, мы снова начали встречаться. Это продолжалось еще около двух лет. Потом Паулине захотелось родить девочку. Думаю, она увидела Алису и полюбила ее. Она больше не хотела со мной встречаться, сказала, что с нее довольно. Мы уже полтора года как не встречались, когда родилась Энола.
Было еще кое-что мерзкое в его рассказе. Он хотел мою маму, хотя был женат. У него была дочь Алиса, чудесный, спокойный ребенок. Они свели нас. Зачем? Чтобы отвлечь Ли? В животе у меня все похолодело. Я… Она…
Фрэнк снова присел, потянулся ко мне, словно хотел меня коснуться, но так и не коснулся.
– Я хочу знать точные даты, – сказал я.
– Откуда у меня точные даты? – Фрэнк повысил голос почти до крика. – Я же их не записывал! Я же не думал, что когда-то придется что-то объяснять ее сыну. Ты – его! Блин! Ты всегда грыз себе ногти, как твой отец. Так вопрос никогда не стоял. Твоя мать ни за что бы этого не допустила. Мне очень хотелось, чтобы ты был моим, но нет…
– Перестань мне лгать.
Моя лодыжка болела, но эта боль потонула в волне охватившей меня другой боли. У меня болели зубы… У меня болели вены…
– Я о таком лгать не буду. Ты не мой, но я бы хотел, чтобы было наоборот.
– Она знала, что ты дал ему деньги? – Он не ответил. – Она знала?
– Да, – наконец сказал Фрэнк. – Только это я мог ей дать, но все обернулось черт знает чем, Саймон.
– Сколько ты ему дал? – Сосед уставился на меня пустыми глазами. – Сколько стоил дом?
Мы были, можно сказать, одной семьей: Фрэнк, который вместе с моим отцом ходил под парусом и спал с его женой; я, который ел за его столом, а теперь сплю с его дочерью.
– Двести пятьдесят тысяч.
Не было ни следа сожаления в его голосе, что вызвало у меня сильнейшее отвращение.
– И сколько лет? Как долго вы были вместе?
– Всего лет пять, – ответил Фрэнк.
Пять лет, 1826 дней.
– Если рассуждать логически, это получается по пятьдесят тысяч за то, чтобы спать с ней. Сколько раз в год у вас выходило?
Челюсти его плотно сжались, кадык заходил вверх-вниз, но ни тени раскаяния не появилось на его лице.
– Если раз в месяц, это будет где-то около четырех тысяч, если раз в неделю – около тысячи. Значит, моя мама в неделю обходилась тебе в целую тысячу. Это все равно что иметь еще одну семью, содержать ее ради секса.
Фрэнк с размаху ударил по стене, образовав в ней пролом размером с яблоко. Сосед вытащил руку, осторожно пошевелил пальцами, а затем принялся внимательно изучать стену. Он трогал края дыры, бормоча себе под нос извинения. Он извинялся перед домом и перед моей мамой.
– Отец знал?
– Мы ему ничего не говорили.
Ответ весьма двусмысленный.
– Значит, он знал.
– Я наблюдал за ней, когда Паулина шла купаться, – произнес он, избегая смотреть мне в глаза, – даже после того, как все закончилось. Тогда он обо всем и догадался. Случилось это через год после рождения Энолы или чуть позже. Он спускался по ступенькам лестницы, а я поднимался. Он поравнялся со мной и спросил, знает ли об этом Ли. Я сказал, что нет. Я не врал. К тому времени уже больше двух лет мы не делали этого. А потом Паулина сказала мне, что Дэн собирается переехать в северную часть штата.
Туда, где человеку, делающему лодки, нечем заняться.
– Я любил ее, – мягким тоном произнес Фрэнк. – Даже когда понял, что продолжаться так дальше не может, я продолжал ее любить. Мы прекратили, потому что я ее любил, и его тоже… А затем Паулины не стало. – Стянув свою рыбацкую шляпу с головы, он сжал ее в руке. – Если ты поживешь какое-то время в другом месте, я все здесь отремонтирую. Я позову Пита, и мы сразу приступим к работе. Сейчас в доме небезопасно. Ты можешь пострадать. Я люблю тебя и Энолу. Я не переживу, если дом тебя убьет.
Былое проносилось перед моим мысленным взором. Иногда я мечтал о том, чтобы Фрэнк был моим отцом, а моя семья – чужаками. Эти люди иногда по ошибке брали бы нашу почту. Мы их видели бы, выходя на лодке в море. А Алиса? В этой фантазии не нашлось места Алисе.
Мама погибла. Отец продал лодку. Мы редко видели Фрэнка, разве что когда я сидел на пляже с Алисой, и тогда Ли за нами наблюдала. Я думал, что горе заставило отца отвернуться от Фрэнка, но правда оказалась куда непригляднее. Моя мама утонула, и он разорвал отношения со своим лучшим другом. Все логично.
– Твои деньги ничего починить здесь не смогут. Пока что они несли лишь разрушения. Дом разваливается, потому что отец и палец о палец не ударил, чтобы здесь что-нибудь починить. Он и цента в него не вложил. Отца не заботило, развалится этот дом к чертям собачьим или нет. Он знал, что ты купил его лишь затем, чтобы удержать возле себя Паулину.
Дом стал извращенным символом любви одного мужчины к жене другого. Папа это знал. Не исключено, что, сидя за кухонным столом, он молился о том, чтобы дом поскорее просел.
– Ты и его убил, только заняло это больше времени, – добавил я напоследок.
– Саймон! – взмолился Фрэнк.
– Не смей произносить мое имя.
Я не мог оставаться в этом месте, пахнущем олифой, стружкой, столярным клеем и Фрэнком. Я пошел к машине. Будь моя воля, я бы пустился бегом, но нога не позволяла. Фрэнк увязался следом. Он что-то говорил, но я не слышал, отгороженный от него дверцей моего автомобиля. Меня это не касалось. Я едва ощущал под своими ладонями руль. Я несколько раз сжал и разжал пальцы, гоня к ним кровь по венам. Сильный стресс может вызвать как сужение кровеносных сосудов, так и их расширение. Это я узнал, помогая одному студенту писать курсовую. В моем случае стресс вызвал сужение сосудов. Три сжимания и разжимания. Фрэнк стоял у моей машины. Он надломлен, но пока держится. Я опустил стекло. Фрэнк положил руки на крышу автомобиля. Его большие пальцы проникли внутрь салона.
– Извини, – произнес он. – Ты не представляешь, как бы мне хотелось, чтобы ты был моим сыном.
– Ты перестал заходить к нам после смерти отца, – сказал я. – Нам пришлось самим к тебе обратиться.
Стыдно признаться, но я мог бы его простить, несмотря ни на что, если бы только он постарался добиться моего прощения.
– Просто для меня это было уже слишком. Твой отец и ваш дом, а еще оставались Ли и Алиса.
Почему-то раньше Алиса и Ли его не останавливали… Нет, они лишь предлог. Скорее всего, Энола и я стали со временем далеко не идеальными детьми – такими, кого трудно полюбить, в отличие от удобных во всех отношениях Алисы и его жены Ли. Перезревший плод с земли не подбирают. Я улыбнулся. Знаю, я был похож на умалишенного. Фрэнк стоял на подъездной дорожке, прикрываясь рукой так, словно был голый.
Да, Алиса очень рассердится на меня, но она и так очень-очень сердита.
– Я трахаю твою дочь! – высунувшись из окна, прокричал я. – А теперь ступай и ремонтируй мой проклятый дом!
Глава 18
Амос проснулся на рассвете. Ноги болели. Во сне он за кем-то гнался. Эвангелина, теплая и мягкая, спала рядом. Он посмотрел на округлую крышу фургона мадам Рыжковой. На душе стало беспокойно. Однажды Амос видел, как умер мужчина, подняв тяжелый ящик. У него лицо стало свекольного цвета, и он, словно камень, рухнул наземь, даже не захрипев. Прошлой ночью лицо у наставницы было того же оттенка. Все ее увещевания казались ему безосновательными и надуманными, но он знал, что Рыжкова переживает за него. Его судьба мало кого волновала, поэтому с легкостью отнестись к случившемуся ночью Амос не мог.
Он слез со своего ложа, двигаясь осторожно, чтобы не разбудить Эвангелину. Подойдя к фургону прорицательницы, Амос постоял, выжидая. Она всегда знала, когда он приближается, и частенько встречала его шутливыми словами: «Я всегда могу учуять твои немытые руки». Когда он нюхал себя, Рыжкова, улыбаясь, говорила: «Думаешь, я не знаю, как пахну сама? Хорошо, что я всегда знаю, когда ты меня ищешь».
Амос, обуреваемый нетерпением, постучал. Когда ответа не последовало, он повернул ручку. Дверь оказалась запертой. Тугой комок возник у него в груди. Рыжкова мертва, и это он повинен в ее смерти. Он ринулся к фургону Бенно и принялся колотить в дверь кулаком так, что отбитые кусочки желтой краски пристали к коже. Изумленный акробат приоткрыл дверь. Позади него на матрасе кто-то лежал. Бенно вышел наружу и поспешно притворил за собой дверь.
– Что случилось? – пробурчал он, потирая заспанное лицо.
Амос, схватив Бенно за руку, потащил его к жилищу мадам Рыжковой. Он дернул за дверную ручку, чтобы показать ему, что дверь закрыта.
– Еще рано, Амос. Только-только рассвело.
Амос со всей силы саданул рукой по двери. Та заходила ходуном, задребезжали петли, но изнутри не донеслось ни звука. Молодой человек продолжал стучать, с отчаянием глядя на Бенно.
– Перестань! Ты не сможешь работать, если разобьешь в кровь пальцы. – Акробат схватил парня за плечи и крепко сжимал их, пока тот не унялся. – Я тебе помогу. Жди меня.
Бенно умчался, чтобы вскоре вернуться с небольшой кожаной сумкой в руках. Он велел Амосу посторониться, а сам извлек из сумки несколько тонких полосок меди. Амос наблюдал за тем, как Бенно осторожно толкает дверь, пока замок не встал на место.
– В тех местах, откуда я родом, мужчине полагается уметь подчас такое, что со стороны может показаться весьма предосудительным. Иногда такие навыки выручают.
Бенно внимательно рассмотрел щель между дверью и косяком, просунул туда две медные полоски и принялся двигать ими. Похоже, Бенно – вор или в прошлом был вором. Хотя они путешествовали вместе не один год, Амос мало знал о прошлом и настоящем акробата. Бенно всегда был неподалеку и часто улыбался. Вот, пожалуй, и все. Амос наблюдал за тем, как он изогнул одну из медных пластин и вновь сунул ее в щель. Одно движение запястьем – и замок открыт.
– Только ради тебя, – сказал Бенно, кладя свои хитроумные «ключи» обратно в сумку. – Извини, но я пойду. У меня неотложные дела.
Бенно поспешил обратно к своему фургону. Сумка била его по бедру.
Одним толчком, без малейшего усилия Амос распахнул дверь. То, что он увидел, привело его в полнейшее замешательство. Из фургона пропали вещи. На стенах остались невыгоревшие места, где висели портреты. Рыжкова ушла.
Амос, споткнувшись, выпрыгнул из фургона и пустился бегом в направлении города. Берлингтон. Она, должно быть, пошла в Берлингтон. Других городков поблизости нет, а идти одной по дороге, что тянется вдоль реки, она не отважилась бы. Парень прикусил язык, и вкус крови лишь усилил его тревогу. Дорога в город начиналась недалеко от фургона Пибоди. Оттуда парень видел дым, поднимающийся из печных труб в небо. Он бежал к этому дыму, пронесся мимо кузницы, бойни и оказался на улице. Лавки еще не открылись. В окнах постоялого двора не горел свет. На улице никого не было видно за исключением худющей дворняжки. Здесь днем ходит столько человек, что искать отпечатки ног наставницы будет бессмысленно. Мадам Рыжкова исчезла, словно ее никогда и не было. Живот у него скрутило, но эта жгучая боль не имела ничего общего с голодом. Он пошел обратно к лагерю, к фургону Пибоди…
Хозяин открыл задвижку и, прищурившись, выглянул наружу. На голове у него не было шляпы, и в лучах утреннего солнца кожа на лысине казалась розовой. Пробурчав извинения, Пибоди неуклюже повернулся к пристенному столику и нахлобучил на голову свою ворсистую шляпу с полями.
– Какого черта ты проснулся так рано? Еще никто не встал.
Амос указал в сторону пустого фургона мадам Рыжковой, но Пибоди его не понял.
– От меня не укроется ничего из происходящего здесь. Ты поссорился с мадам Рыжковой. – Он фыркнул. – Она весьма темпераментная особа. Уверен, не случилось ничего такого, что отдых и новый город не смогут поправить.
Улыбнувшись, старик зевнул.
Амос схватил Пибоди за рубаху и потащил из фургона, не обращая внимания на его протесты. Из дверей жилищ на колесах высунулись головы Мейксела, Ната и Сюзанны. Проснулась Эвангелина. Бенно стоял на подножке своего фургона, а за спиной у него, протирая заспанные глаза, возникла Мелина. Пока Амос и Пибоди добрались до фургона мадам Рыжковой, им удалось собрать немало зрителей. Парень распахнул дверь, демонстрируя голые стены.
Лицо Пибоди посерело.
– Дорогой мой Амос! Приношу свои глубочайшие извинения. Я просто… – Он запнулся. – Черт побери! Она это сделала. Худо дело. Ах, Амос! Извини…
Сорвав с головы шляпу, Пибоди прижал ее к своей груди и поспешил зачем-то обратно к своему фургону. У Амоса не было сил последовать его примеру. Усевшись на подножке фургона своей наставницы, он принялся болтать ногами. В воздухе витал запах старых засушенных цветов, запах мадам Рыжковой. Он рассматривал потертости на дереве подножки, мысленно очерчивая контуры каблуков башмаков своей наставницы.
Мейксел подошел к нему первым, несколько грубовато потрепал по плечу и отправился разводить костер. Силач Нат положил руку ему на голову, а Мелина похлопала по колену. Их прикосновения его не утешили. Они были скорее «прощальными дарами».
Бенно прикоснулся к его плечу.
– Понятия не имею, почему она ушла, но наверняка не потому, что ей на тебя наплевать.
Амос вздрогнул.
Эвангелина ждала, уверенная, что он к ней со временем вернется. Он узнает об их с Рыжковой ссоре. Именно она спровадила старуху отсюда. Неужели все, к чему бы она ни прикоснулась, обречено на увядание и смерть? Я убийца.
В тот день они должны были отправиться в путь по дороге, тянущейся вдоль берега реки Ранкокас, но так и не отправились. Это было сделано в надежде, что Рыжкова вернется, либо из уважения к его душевным страданиям? Ответа Амос не знал.
– Один день не имеет никакого значения для тех, кто нас не знает и о нас скучать не будет, – сказал Пибоди.
Амос оставался в ее фургоне, проводил пальцами по стенам, касаясь мест, где висели портреты и ткань, искал пятна копоти, оставшиеся после сжигания пучочков шалфея. Он взбил ногами мешок с соломой, служивший Рыжковой постелью, и бухнулся на него, пребольно ударившись головой обо что-то твердое. Сюда, под мешковину, как оказалось, была засунута шкатулка с картами Таро.
Рыжкова оставила ему свои карты.
Он приподнял крышку, и оранжевые рубашки ему улыбнулись. Он прижал карты к своей груди, ощущая их гладкую поверхность, чувствуя заключенную в картоне частицу Рыжковой – бормочущей, насмешливой, бранящей, целующей его в щеку, когда он все делал правильно, и наставляющей… Сердце его разбилось и склеилось вновь. Он не покинут. Амос сунул карты под рубаху и пошел искать Пибоди.
Хозяин труппы сидел за своей книгой и чертил длинные черные линии, разделяя ими колонки имен и цифр. Внизу страницы было что-то нарисовано – возможно, фургон, хотя пока еще трудно было сказать. При виде Амоса старик откашлялся.
– Приношу свои извинения. Это просто ужасно. В случившемся нет твоей вины. Я недавно имел разговор с этой женщиной. – Пибоди взмахнул зажатым в руке пером. – Разговор был не из приятных. Мы постараемся как-то все уладить. Я обещаю.
Амос заключил Пибоди в свои объятия.
Старик раскашлялся.
– Да… Ну, хорошо…
Амос вытащил из распахнутого ворота рубахи колоду карт и принялся проворно их тасовать. Одна ложилась поверх другой. Парень показывал Пибоди Кубки, символизирующие общение, Пажей, означавших долгую дорогу, Верховную Жрицу – Рыжкову и Дурака – его самого. Это его вина, что Рыжкова от них сбежала.
Черты лица Пибоди дрогнули. Он присел на свое «криптографическое кресло» с видом немощного старика и печально усмехнулся:
– Дорогой мальчик! Я понятия не имею, что ты хочешь мне сказать.
Амос хотел закричать. Из его горла вырвалось неестественное для него ворчание. Отыскав Отшельника, он протянул его Пибоди, ткнув его в живот там, где пуговицы жилета с трудом удерживали рвущийся бархат.
– Извини, – произнес Пибоди тише, чем обычно. – Весьма прискорбно, но я понятия не имею, что ты хочешь мне сказать.
Отложив перо, старик захлопнул крышку чернильницы и сложил руки на своем непомерном пузе.
– Я постараюсь, однако я старый и это займет некоторое время, – пообещал он мягким тоном. – Видя, как расстроен Амос, старик добавил: – Мы и сами неплохо справимся. Право же…
Амос расплакался. Пибоди похлопал его по плечу, но бодрости это парню не прибавило. Старик позволил ему прилечь на полу, свернувшись калачиком. Дрожь сотрясала парня, но Пибоди был не в состоянии помочь ему.
– Быть может, она вернется. У нас еще ночь впереди, разложим за это время припасы. Если она не вернется, то придется с этим смириться.
Он бросил взгляд на свой журнал. Без Рыжковой их доход уменьшится. Он не сможет позволить себе возить за собой человека без дела, как бы хорошо он к нему ни относился. Пибоди поскреб подбородок. Для Амоса будет лучше всего, если он останется с труппой. Придется найти ему другое занятие. Конечно, Рыжкова ушла, но там, где ты теряешь деньги, всегда появляется возможность заработать другим способом. Пибоди уставился на небольшой рисунок лошади, выполненный им раньше.
– Знаешь, Амос, в прошлом я был учеником самого Филипа Астлея[12]. Тогда я еще не был таким грузным, как сейчас, и занимался верховой ездой. Тогда я жил в Лондоне, хотя это название, уверен, тебе ни о чем не говорит. Я прочно сидел в седле. Астлей был замечательным человеком. У него, помнится, был весьма зычный голос. Он учил вольтижировке, как стоять на седле, когда лошадь несется галопом по арене, и как во время скачки удерживать тарелки и чайные чашки на кончиках пальцев. Хорошее было время. – Пибоди замолчал и записал в журнале несколько строчек. – Но вольтижировкой до старости заниматься сложно. Одна норовистая гнедая кобыла перебросила меня через свою голову посреди амфитеатра на глазах у половины Лондона. Помнится, ее звали Прекрасная Роза, но на самом деле она была той еще сукой. Напоследок она еще хорошенько огрела меня своими копытами по животу и спине, так что с лошадьми было покончено навсегда. Это едва не погубило меня, но я справился. Я переплыл океан на корабле и ступил на землю, где никто не видел никого похожего ни на Астлея, ни на меня. Я не говорю, что не скучаю по вольтижировке, но в основном моя новая жизнь лучше прежней. Здесь я могу быть Астлеем, а не его бледной тенью. Видишь, мой мальчик, я приспособился, и ты приспособишься.
Когда Амос успокоился, Пибоди помог ему подняться на ноги. Он разгладил его смятую рубашку, вытащил из волос соломинки и стряхнул пыль с его плеч. Старик оглядел парня с головы до ног. На рубашке – пятна пота, на штанинах – потертости… Не джентльмен, но сойдет. Он улыбнулся. Улыбка осветила его усы.
– Ну вот, молодой мастер. Парик и пудра поправят дело, но шелк изо льна все равно не получится. Сам я давно понял, что представительнице прекрасного пола куда легче утешить мужчину. Ступай к своей леди. Я всегда говорил, что от горя расставания лучшее средство – новая встреча, желательно романтического свойства.
Пибоди распахнул дверь, выпроводил Амоса из фургона и не спускал с него глаз, пока тот, пошатываясь, шел прочь. Немой предсказатель был прибыльной задумкой, когда работал в паре со своей наставницей. Одному ему будет несподручно. Без Рыжковой расходы превысят доходы. Они потеряли не одного, а сразу двух членов труппы. Можно, конечно, вновь завесить клетку для мальчика-дикаря, но эта мысль не понравилась Пибоди. Он не мог точно сказать, когда начал относиться к Амосу как к своему сыну, но так оно теперь и было. Пибоди принялся вспоминать о том времени, когда выступал у Астлея. Если бы не спина, которая часто болела… Впервые в жизни Гермелиус Пибоди ощутил себя стариком.
В фургоне, в котором перевозили маленькую лошадку, его ждала Эвангелина.
– Значит, Рыжкова все же ушла, – произнесла девушка, когда Амос забрался внутрь.
Парень заметил, что она плакала: девушку выдали покрасневшие глаза и розовые пятна на щеках. Когда Эвангелина попыталась его обнять, Амос отстранился и вытащил колоду карт.
– По крайней мере, она их тебе оставила.
Амос ее не слушал. Ему осточертело слушать. Ему самому хотелось «говорить». Перетасовывая карты, парень показывал их Эвангелине в определенном порядке, пытаясь передать девушке свою мысль. То и дело появлялись Дурак, Верховная Жрица… Затем пошли карты с более мрачным смыслом. Амос разложил их все перед Эвангелиной. Эта мозаика представляла собой выжимку его жизни, его мыслей и его страхов – в большей мере, чем раньше. Эвангелина пыталась не отставать, озвучивая то, что она видела и понимала, но руки Амоса двигались уж слишком быстро. Картинки мелькали, исчезали, сливались друг с другом… Наконец его руки стали мельтешить не так быстро. Амос принялся повторять последовательный расклад карт, один из тех, что Эвангелина запомнила из предыдущих уроков. Обычно он использовал две карты: одна обозначала его, другая – ее. На этот раз он использовал одного лишь Дурака. Рядом он положил одинокого путника, старого Отшельника. Нет, это не был Пибоди. Каким же многозначным был их язык! Во время предыдущих уроков с помощью Отшельника он задавал вопрос: «Мы одиноки?» Теперь вопрос несколько видоизменился.
Она его поняла. «Я одинок?»
Он повторил. Я одинок? Я одинок?
Девушка прикоснулась своими пальчиками к его руке и легонько поцеловала Амоса в лоб.
– Я с тобой, – сказала она.
Эвангелина повторила эти слова, но Амос, казалось, ее не слышал. Она отыскала Королеву Мечей, затем другую карту, означающую дом, пристанище, место отдохновения. Шестерка Кубков. Дети играют перед своим домом. Эвангелина положила карты на доски пола, прикасаясь к ним, отвечая ему.
Я одинок?
Я здесь.
Я одинок?
Я твой дом.
Глава 19
21 июля
На автостоянке напротив входа на территорию странствующего цирка-карнавала я принялся перебирать в уме все, что знал, пока факты и домыслы не сложились в логическую цепочку. Отец любил мать. Мне он сам это говорил. Полюбил ее с первого взгляда. Энола не больна. С ней все в порядке. Мы не умрем, если, конечно…
Красно-белые навесы и шатры карнавального шоу Роуза располагались рядом с кирпичным коробком пожарной охраны Напаусета. Шоу – это скачки, жокеи, договорные матчи, дом смеха с движущимися полами и кривыми зеркалами, цирковые репризы, и там моя сестра. Я припарковал свой автомобиль возле порванного транспаранта, гласящего: «Сорок пятый ежегодный карнавал и ярмарка пожарных». Когда мы были детьми, то ходили вместе с Энолой на эту ярмарку. Однажды я потратил все свои деньги, стараясь выиграть золотую рыбку, которая сдохла на следующий день. Теперь моя сестра и Дойл сами участвуют в подобного рода увеселениях.
Прихрамывая, я шел вдоль широкой главной аллеи. Под ногами у меня была примятая трава, а по бокам тянулись киоски, в которых торговали жареной пищей, мерцали огоньки. Я искал шатер прорицательницы. Мужчина зазывал через мегафон публику смотреть забег карликовых лошадей. Возле шатров и навесов с игровыми автоматами, тиром и кольцебросом тусовались подростки и тощие мужчины особого склада ума с запавшими щеками, покрытыми оспинами, вечно голодные и склонные к жульничеству. Повсюду продавали попкорн и сладкую вату, звучала поп-музыка. И это новый дом Энолы! Работники с потными лицами и дети, шныряющие под ногами у родителей. Я почти ощутил на своем плече руку отца, когда вспомнил, как хотел поставить все деньги на кон, чтобы выиграть живую лягушку. Я оступился и подвернул больную ногу. Боль полоснула меня стальным клинком.
Над всем этим возвышалась карусель – классическая модель «кресло пилота», окрашенная, словно леденец, в желтые и ярко-красные полоски. Наверху размещались зеркальные панели, отражающие солнечный свет. Я помнил, как отец пристегивал Энолу. Я помнил, что сидел в соседнем кресле. Ветер трепал отцу волосы, и они падали ему на лоб и глаза. Даже тогда отец не улыбался. Он, должно быть, вспоминал о маме, вспоминал, что именно в таком месте они познакомились. На следующий год я и Энола отправились туда одни. Смех летел от карусели. Цепи натягивались, а сиденья относило все дальше и дальше под действием центробежной силы. Я дохромал до конца аллеи. С высоты я смогу отыскать Энолу.
Сиденье оказалось маленьким. Колени чуть ли не упирались мне в грудь… Но потом мы взлетели в вышину. Я поднимался, вращаясь по кругу. Я видел дома, вглядывающиеся в то, что происходит за пределами города. Здесь соседи крадут чужих мам и топят их в море. Когда я взлетел еще выше, то увидел пролив за рядами крыш домов и смог даже различить свой дом. «Вернее, дом Фрэнка», – поправил я себя. Вода казалась пресной и скучной; не гладкая, как стекло, но и не сердитая и бурлящая, как описывается в книгах. Вода спокойная, серая и мертвая. Я ненавижу ее. Моя ненависть тверда, как панцирь. Мама утопила себя в этих скучных водах.
Я пошевелил ступней. То покалывание, что я ощутил, лишь отдаленно напоминало боль. Со стороны эта ярмарка-карнавал похожа на игрушку с заведенным пружинным механизмом. Вон там торгуют розовым лимонадом. А там колесо фортуны. Многие принимают участие в лотерее, хотя и знают, что все это – чистой воды надувательство. Нечленораздельные выкрики, визг, смех. Вопли восторга.
Наконец я заметил ярко-красный шатер и выстроившихся в очередь людей перед входом. Да, это к ней.
Когда мы, описывая большие круги, опустились к земле, все изменилось. Уже не было ощущения грандиозности зрелища, но с этим я как-то смирюсь. Мне нужна Энола. Осталось всего три дня. Мне нужно срочно ее увидеть.
Грузный мужик в гавайской рубашке прошествовал мимо. Ему на спину свисала неряшливого вида коса, похожая на хвост опоссума. Подойдя к полосатому шатру, мужик нырнул внутрь между завешивающими вход полосами брезента. Шоу фриков. Это, должно быть, Толстяк Джордж, тот самый, с травкой. Я поискал глазами Дойла, но его нигде не было видно.
Я шагал к небольшому ярко-красному шатру мимо зазывал, мимо тортов «Муравейник», картошки фри и пончиков. От каждого из этих угощений пахло жареным подсолнечным маслом, но по-разному. В конце территории ярмарки-карнавала стоял «зиппер» – этакая горизонтальная закольцованная конвейерная лента, на которой сидящие во вращающихся вокруг своей оси клетках люди поднимаются вверх, к небу. Я водил Энолу на этот аттракцион, когда сестра была еще слишком мала для него. Пояс страховки защелкнулся не совсем правильно, в результате сестренка сильно ударилась. Несколько недель она ходила с фиолетовым синяком размером с гусиное яйцо, имеющим очертания цепи.
К аттракциону Дункана Психа выстроилась небольшая очередь тех, кто желал покидать мяч в корзину. Псих был костлявым парнем в грязной майке, и он как раз орал, что так только девчонки кидают. За ним находился шатер Энолы. Багряный велюр и похожая на бархат ткань, разрисованная от руки золотыми лунами и звездами. Трехмерная вывеска на углу шатра. На ней изображена рука, парящая над хрустальным шаром, рядом выведено готическим шрифтом имя: «Мадам Эсмеральда».
Эсмеральда. И сказать нечего.
Внутри шатер освещался лампой, на которую была накинута красная шелковая шаль. За карточным столом, накрытым скатертью с узором «пейсли»[13], сидела Энола, воплотившая в своем наряде детские представления о том, как должна выглядеть прорицательница: голова повязана ярко-красной косынкой, большие золотые серьги в виде тонких колец. Перед ней сидели две девушки подросткового возраста. Два одинаковых конских хвостика. Блондинка и шатенка. Рядом с моей сестрой расположился Дойл. Покрытые татуировками руки скользили по столу.
Когда я приподнял полог шатра, внутрь проник свет. Девушки повернули головы. Дойл прищурился. Энола взглянула на меня жирно подведенными глазами.
– Прочь! Эсмеральда примет вас потом! – крикнула она с сильным иностранным акцентом.
– Энола! Я…
– Ты… Прочь!
Сестра хлопнула ладонью по столу. Дойл, вскочив со стула, выпроводил меня из шатра.
– Пять минут, ладно? Не сердись.
Он опустил за собой полог. Я немного сдвинул его в сторону – ровно настолько, чтобы можно было видеть, что происходит внутри. Энола, раскачиваясь на стуле, вещала низким голосом девушкам, которые придвинулись к ней поближе.
– Вы хотите узнать о любви? Я знаю, – произнесла она.
Блондинка начала что-то говорить, но сестра движением руки заставила ее замолчать.
– Не мне, да-ра-гая. Расскажи Крашеному Человеку. Крашеный Человек сохранит твою тайну. Он станет ее хранителем. Я знаю, что говорю. Будущее имеет две двери. Одна дверь открытая, другая – закрытая. Крашеный Человек открывает дверь. – Энола прикоснулась ногтем к присоске на руке Дойла, а затем ткнула себя в грудь. – Эсмеральда закрывает дверь.
Все это чушь, но что-то в ее глазах… Теперь они стали какими-то другими, не светло-коричневыми, как у мамы, а куда темнее. Блондинка нагнулась и что-то зашептала Дойлу на ухо. Ее конский хвостик соприкоснулся с его рукой. Щупальце встретилось со щупальцем. Дойл кивнул и положил руку поверх руки моей сестры. Было в этом что-то тревожное. Я вспомнил фразу из журнала Пибоди: «Мальчик-дикарь стал помощником прорицательницы». Я смотрел на Энолу, а видел мадам Рыжкову и нашу маму, вошедших в ее тело.
Глаза сестры закатились, спина избавилась от своей вечной сутулости, стала прямой, словно столб. Видно было плохо. Энола принялась очень быстро раскладывать карты на столе. Картон шлепался о скатерть. Карты ложились кельтским крестом. Я знал этот расклад из «Принципов прорицания». Десять карт. Две в центре положены крест-накрест. Одна вверху, одна внизу, одна слева, одна справа. Затем Энола быстро выложила четыре в столбик сбоку. Мне видны были карты. Они не похожи на те, что изображены в «Принципах прорицания», но колода распространенная. Колода Уэйта. Тонкая работа. Даже я ее узнал. Девушки наклонили свои головки. Конские хвосты раскачивались, словно маятники. Когда сестра положила на стол последнюю карту, ее голова резко откинулась назад, словно ее дернули за волосы. С идеальной синхронностью Дойл подхватил ее голову и нежно вернул в исходное положение. Веки Энолы приоткрылись. Она склонилась над картами.
– Да, да… – произнесла сестра. – Вы обе влюблены в одного и того же человека.
Энола рассмеялась. Если бы на ее месте сидела другая девушка, смех прозвучал бы даже сексуально, но в смехе сестры ничего, кроме хищных ноток, я не уловил.
– Ты, – сказала Энола и указала пальцем на блондинку, – девушка силы. Ты всегда гонишься за успехом. А парню нравятся сильные девушки. – Конский хвост шатенки мотался вверх-вниз. – Видите? Мечи. Он любит решительных, тех, кто может за себя постоять. – Сестра как сумасшедшая взмахнула руками. – А ты, – взгляд ее метнулся к шатенке, – всегда подбираешь то, что осталось. Вторая во всем. – Девушки хихикнули, но как-то безрадостно. – Видите Кубки? Вода. Состояние течения и перемен. Общение. Ты с ним разговариваешь, а она – нет.
Девушки сдвинули головы и стали смотреть на карты, как куры на зерно. Внезапно голос Энолы дрогнул, а челюсть отвисла. Она уставилась как бы сквозь девушек куда-то за шатер, увидав нечто, чего я разглядеть не смог. Руки ее двигались. Незрячие птицы порхали. Новый расклад лег поверх предыдущего. Шесть рядов по шесть карт, одна над другой. Энола клала карту за картой; когда же она заговорила, то в ее голосе не было даже намека на акцент. Она не смотрела на карты. Голос стал отстраненным, казалось, он словно струится из груди моей сестры. Я видел на столе Смерть, Дьявола, Башню и сердце, пронзенное мечами.
– Вас ждут утраты. Смерть воспрянет. Бесплодие. Пустые поля. Детей не будет.
Шатер заполнило приглушенное жужжание. Тело сестры покрывалось «гусиной кожей». Девушки заерзали на своих стульях. Одна из них дрожала. Шелк метнулся в воздухе. Энола схватила одну из девчонок за запястье.
– Все, кто вокруг тебя, все, кого ты любишь, умрут: твоя мама, твой папа, все…
Слова будто сами слетали с ее языка. Дойл стремительно, словно искра, вскочил со своего стула и, схватив Энолу, принялся ее трясти, но моя сестра продолжала:
– Твое имя умрет вместе с тобой и никогда не будет произнесено другими губами. Как вода точит камень, так и с тобой будет. Ты будешь сходить на нет, пока ничего от тебя не останется.
Дойл сжал ей плечо, но Энола этого, похоже, не заметила.
Вода точит камень.
Шатенка вырвала руку своей подруги из пальцев моей сестры. Спазм сдавил Эноле горло. Песок сочился из мешка. Она сложилась чуть ли не пополам. Ее лицо побелело… Опять передо мной была Энола, вот только вся измученная. Взгляд ее метнулся к тому месту, где я прятался. Мы смотрели друг на друга. Я стал задыхаться.
– Не та карта, – вернув в голос акцент, произнесла Энола. – Иногда такое случается. Много духов ходит в этих краях. – Сестра поправила выбившуюся из-под косынки прядь и взглянула на меня. – Убирайся.
Я задернул полог. Сильная боль гнездилась у меня в голове.
Дойл высунул голову наружу. Это было похоже на голову убитого животного, повешенную охотником дома на стене. Он рассмеялся нервно и заговорщицки.
– Мужик! Дай ей немного свободы действий.
– Хм…
– Ты появился, когда она гадала. Ты чересчур во все вмешиваешься. Дай ей, – помедлив, он закончил: – пять минут.
– Мне и здесь неплохо.
– Нет, приятель. – Дойл отрицательно помотал головой. – Тебе здесь не место. Ты можешь все испортить.
– Я ее брат. Позволь…
– В том-то и дело! Вы слишком близки. Ты все портишь. – Он насупился. – Дай ей самой во всем разобраться. – Рука, высунувшись из шатра, похлопала меня по плечу. – Ступай, поговори с Томом. Мы ему о тебе рассказали, и он хочет с тобой переговорить. Дай нам пять-десять минут. Договорились? Он сейчас в большом автофургоне с птицами, там, на задворках.
Рука Дойла исчезла, а затем вновь появилась с зажатыми в ней несколькими мятыми банкнотами. Сунув деньги мне в руку, он слегка оттолкнул меня от шатра.
– Купи поесть.
Когда я захромал прочь, Дойл спросил, что случилось с моей ногой.
– Рытвина, – сказал я в ответ.
– Эй! – крикнул мне Дойл. – Если махать правой рукой, это уменьшит нагрузку на лодыжку. Иди по диагонали, мужик, по диагонали.
Я не хотел это делать, но, подходя к месту, откуда вкусно пахло жареными ячменными лепешками, поймал себя на том, что машу рукой.
Лицо Энолы, когда она на меня смотрела, выглядело очень странно. Ее запрокинутая голова… Она собой не владела… Никакого притворства, и этот ее голос… Голос утопленницы. Что-то очень неправильное происходит. Я должен поговорить с сестрой, но, возможно, мне следует сперва поговорить с Томом Роузом.
Как Дойл и говорил, огромный автофургон, обклеенный белыми силуэтами уток в полете, находился в самом конце аллеи, позади аттракционов. Я прислонился к его стенке, уменьшая нагрузку на ногу, и постучал. Дверь открыл лысоватый пожилой мужчина небольшого роста. На нем были рубашка в клеточку, шорты и сандалии. Глубокие морщины очерчивали его рот. От уголков глаз разбегались лучики морщин, появляющиеся у тех, кто часто водит машину в ясную, солнечную погоду. Я не пытался представить себе владельца карнавального шоу, но Том выглядел как типичный дядюшка.
– Это вы Том Роуз?
– А вы кто?
Глаза его сузились. Казалось, вот-вот я получу захлопывающейся дверью по носу. Но потом мужчина улыбнулся и широко распахнул дверь.
– Вы Саймон Ватсон? Вам уже говорили, что вы очень похожи на вашу сестру?
В автофургоне было полным-полно книг, газет, кипы каких-то квитанций и счетов громоздились одна на другой. Незастеленная кровать. Маленькая кухонька, на удивление чистая.
– Садитесь, садитесь, – сказал он, указав мне на стул, стоявший у откидного стола. – Энола сказала, что вам нужна работа.
Я ищу работу, но работу в библиотеке.
– Да.
– Она говорит, что вы хорошо плаваете. – Открыв бутылку с газированной водой, Том Роуз налил себе стакан и предложил мне. – Много о вас рассказывала. Говорит, что вы можете задерживать дыхание до десяти минут.
– Где-то так.
Том отпил воды, задумался. Пожелтевший палец барабанил по столу, словно что-то там искал – карандаш или сигарету.
– У нас давно не было настоящего атлета, но пловца, умеющего надолго задерживать дыхание, продать не так уж просто. Не говорю, что нам это не удастся, но обычно этим занимаются женщины… русалки. Берешь симпатичную девчонку, надеваешь на нее откровенный купальный костюм, чтобы кое-что было видно, – и дело в шляпе.
– Знаю, – сказал я, умолчав о том, что моя мама занималась таким карнавальным стриптизом. – Энола говорила мне, что вас, возможно, это заинтересует, но я сказал сестре, что вряд ли.
– Нет, я как раз заинтересовался, только надо подумать, как все лучше обставить. Ваша сестра – хорошая девочка. Если ей хочется, чтобы вы были у нее под боком, а мне это не будет стоить ни цента, не понимаю, почему бы не пойти ей навстречу. Уже прошло очень много времени с тех пор, как я видел хорошего пловца. Есть девочки Вики Вачи из Флориды, но это совсем не то. Вам же не нужен воздухопровод?
– Нет, сэр.
Возможно, я попытаюсь. Ненадолго, чтобы всего лишь понять, что значит жить в дороге, колеся по стране.
– Хорошо. Лучше не прибегать к обману, если это возможно. Мы сможем переоборудовать бак-ловушку, хотя этот номер – та еще головная боль, вне зависимости от того, кто выступает, – сказал Том и, причмокнув, продолжил: – Самая лучшая русалка из тех, что я видал, выступала еще в моем детстве. Она была просто восхитительна! – Мужчина обрисовал руками в воздухе ее фигуру. – Она еще ныряла с вышки в воду. Вы так можете?
Я не знал. Возможно, но я не пробовал. Я сказал, что нет.
– Очень жаль. Это было что-то с чем-то. – Том на секунду задумался. – Она прыгала в стеклянный бассейн. Девушка входила в воду без брызг. Она оставалась под водой так долго, что зрители задавались вопросом: жива ли она, а если жива, не отрастила ли она себе жабры? В белом купальнике русалка рассекала воду, словно нос корабля. – Присвистнув, он продолжил: – Мои родители не позволяли мне вешать на стены плакаты со смазливыми девчонками, но Верона Бонн была куда симпатичнее их.
Я и бровью не повел.
– Я о ней кое-что слышал. Что с ней случилось, кстати?
– Связалась с укротителем львов и забеременела. Так что русалка вскоре стала бывшей русалкой.
Верона влюбилась, родила мою маму и утопилась. Нет никаких существенных различий с судьбой моей матери, с судьбами других женщин из нашего рода. Каждая оставила после себя ребенка. В случае с мамой нас оказалось двое.
– Это может показаться несколько странным, но Энола сказала, что вы позволили ей взглянуть на старые расходно-приходные книги. Недавно один человек прислал мне старинный рукописный журнал, принадлежавший в прошлом бродячему цирку. Я хотел бы взглянуть на ваши книги, чтобы сравнить.
Том отодвинулся вместе со стулом. Его лицо посуровело, рука принялась вертеть пустую пепельницу.
– Мы не показываем такие вещи тем, кто не является членом семьи, – наконец сказал он.
Значит, Энола – «член семьи».
– Я вас понимаю. Извините. Это обычное любопытство.
Мы возобновили приятную беседу. Он берет меня на работу, но до того, как мы придумаем мне номер, я буду заниматься другой работой. Можно принимать ставки во время скачек либо просто быть на подхвате… Мне хотелось поскорее вернуться к Эноле.
Я уже направлялся к выходу, когда Том спросил:
– А вы, часом, не сын Паулины Теннен?
Я замер.
– Что?
– Да так, подумалось. Ваша сестра сказала, что ее мать работала в шоу-бизнесе, но профессионалкой не была. Вы с сестрой очень на нее похожи. Странно. Я был знаком с Паулиной много лет назад. Тогда всем этим заправлял мой отец. Помнится, она была ассистенткой фокусника. Очень милая девушка, и красивая к тому же. Трудно забыть такое лицо. Вы говорили, что кто-то прислал вам журнал, имеющий отношение к шоу?
Я кивнул.
– Странно, если, конечно, это не имеет отношения к одному из цирков, в которых выступала ваша мама. Это часом не книга Ларейля?
Я отрицательно помотал головой.
– Да, конечно. Насколько я знаю, Майкл до сих пор в деле, – почесав шею, произнес Том. – А вы как думаете, зачем вам прислали эту книгу?
– Этот человек решил, что в прошлом книга, возможно, принадлежала одному из членов моей семьи.
Том пожевал губу, продемонстрировав мне желтые зубы курильщика.
– Такие книги остаются при шоу. Если книга не при шоу, значит, скорее всего, самому шоу пришел конец.
Испорченные водой страницы подтверждали правоту его слов. Если существованию шоу положило конец наводнение, это может также объяснить исчезновение Коенигов.
– Книга очень старая, – сказал я. – Там много рисунков, некоторые изображают карты Таро.
Том Роуз улыбнулся:
– И, как я предполагаю, ваша сестра не захотела что-либо о них рассказывать?
Я засунул руки глубоко в карманы.
– Вот именно.
Том сухо рассмеялся.
– Да, она молчунья. Извините, но в этом вам со мной не повезло. Я ничего не знаю о картах, кроме того, что ваша сестра умеет на них гадать. Мне она нравится. С ней Электрический Парень радуется жизни, значит, и я радуюсь. Этот парень – золотая жила. – Том отворил дверь, и я вышел из автофургона. – Передайте ей, что я подумаю, какую работенку вам дать.
Хромая обратно к Эноле, я задавался вопросом: как бы отреагировал Том, скажи я ему, что Верона Бонн – моя бабушка? А еще я мог бы сообщить ему, что и она, и моя мама утонули. Но молчаливость – наша семейная черта, помимо всего прочего.
Когда я собирался зайти в шатер, оттуда выскочили девушки с конскими хвостами. Они растворились в море людей в цветастых одеждах и с загорелыми лицами.
– И что это было? – поднимая полог шатра, поинтересовался я.
Энола резко развернулась в мою сторону.
– О чем, блин, ты думал, когда лез сюда во время гадания? Я же не прихожу к тебе на работу и не порчу тебе все! Блин! У тебя же теперь и работы нет… Что с твоей ногой?
– Пол подвел.
Я вошел. В шатре было ужасно душно. В воздухе висел легкий дымок от ароматизированных сигарет. Дойл сидел в позе лотоса на земле возле стола. Он вертел в руке светящуюся лампочку. Единственным доказательством того, что это дается ему с трудом, были слегка нахмуренный лоб и непроизвольные движения мышц, в результате чего кончики щупалец на его щеках шевелились. Энола схватила пакет, стоявший под столом, сунула туда руку и извлекла из него сочащийся жиром и сахарным сиропом пончик. Сестра принялась жадно его поглощать.
Съев половину пончика, она спросила:
– Я думала, что ты не приедешь. Почему ты передумал?
– Ты напугала этих девчонок до полусмерти. И что это у тебя, кстати, за акцент? – спросил я.
– Перестань отвечать вопросом на вопрос, – сказала Энола, вытирая мокрый от пота затылок. – Ужасно жарко сегодня. Позже я обязательно пойду окунусь. Акцент – это для пользы дела.
– А он? – кивнув на Дойла, поинтересовался я.
– Это наше нововведение, – ответила сестра.
– Больше денег дают, – не открывая глаз, объяснил Дойл.
– Добавляет таинственности, – подхватила сестра.
– А то, что ты сказала девчонкам, тоже ради таинственности?
– Понятия не имею, о чем ты.
Рассердившись, она замолчала.
– Фрэнк спал с мамой.
Лампочка в руке Дойла перестала вертеться.
– Блин! – воскликнула Энола.
Я пересказал сестре то, что услышал от Фрэнка: о том, как они познакомились, как встречались, сколько времени были вместе, рассказал и о доме. Энола царапала ногтем большого пальца торец карты. Висящий Человек – висит вниз головой на кресте, подобно святому Петру, на вытянутой ноге. Это не те карты, которые сестра носит в кармане своей юбки. Эти карты новые, а на рубашках изображены геральдические лилии.
– Блин! Теперь твои с Алисой дела совсем плохи. Блин! Она же нам не сестра?
– Нет, слава богу, нет, – ответил я. – Мама вовремя его отшила.
– Ну, по крайней мере, хоть что-то она сделала в своей жизни правильно.
Энола презрительно фыркнула, и маленькая капелька пота слетела с ее губы.
– Маленькая Птичка, – начал Дойл.
– Минутку. Дай подумать, – буркнула сестра.
– Он вышвырнул нас из нашего дома, – сказал я.
– С нами поедешь. Ты разговаривал с Томом? – положив ноги на стол, спросила она.
Сестра была босая. Пыль пристала к большим пальцам.
В шатер вторглась снаружи полоска света.
– Эсмеральда занята! – заорала сестра.
Полог вновь опустился. Дойл, вскочив на ноги, ринулся вдогонку за потенциальной клиенткой. Его шлепанцы исчезли за краем полога. Оставшись с сестрой наедине, мы уставились друг на друга.
– Хрень…
Энола прикусила кончик большого пальца. Карта едва не касалась ее губ.
– Я догадывалась, что Фрэнк имеет какое-то отношение к дому, но понятия не имела, какое. Ну и ну. Что за дела!
Сестра была вся на нервах. Отложив Висящего Человека, она схватила со стола колоду и принялась раскладывать карты веером, перетасовывать, шлепать себя ими по костяшкам пальцев.
– Мне жаль, что все так запуталось с Алисой. Ты собираешься ей рассказать?
Я об этом не подумал. Ни она, ни я не хотели бы, чтобы так все обернулось. В последний раз она видела меня всего в синяках в моем разваливающемся доме. Алиса не расплачется, если я все ей расскажу. Это не в ее правилах. Захочет ли она после этого со мной встречаться? Скорее всего нет. Как мы будем после этого смотреть друг другу в глаза?
– Не уверен, что стоит. Надо сперва кое в чем разобраться.
– Ладно. Блин! Где ты теперь будешь жить? Можно бы у меня, но там и так тесно. – Сестра пожала плечами.
– А у тебя что, жилье есть?
Что-то новенькое.
– У нас с Дойлом трейлер, который мы цепляем к его машине и едем вслед за Роузом.
– А-а-а…
Энола разложила колоду веером.
– В машине непросто хранить его вещи. Лампочки часто бьются. – Сестра прочертила в воздухе прямую линию. – Мы живем кочевой жизнью, может, и для тебя что-нибудь придумаем.
Я и не подозревал, что у Энолы есть свое жилище, дом – вернее, уже не у нее, а у них. Прежде я думал, что сестра – одиночка, но она нашла себе подходящую пару. Я видел, как, передавая карты, они общались между собой. Я не владел этим тайным языком, хотя, будучи библиотекарем, умел все классифицировать, оперируя десятичными цифрами. И что же это были за цифры? С четырех сотен начиналась нумерация книг, посвященных языкам, с трех сотен – социологии, с девяти – истории… Меня больше интересовали издания, нумерация которых начиналась с двух сотен… Религия.
– Эй! – окликнула меня сестра. – С тобой все в порядке?
– Я выяснил кое-что странное. Мама утонула двадцать четвертого июля. Ее мать тоже. Еще Том сказал мне, что видел выступление нашей бабушки, но на этом странности только начинаются. – Я говорил сбивчиво, но мне было наплевать на это. – Я прочел присланный мне Черчварри журнал, а потом книги и статьи, которые раскопала для меня Алиса. В газетах я находил все более давние некрологи. В конце концов я занялся именами из журнала. Все мамины предки, все женщины умирали двадцать четвертого числа. Все они тонули, и тонули именно двадцать четвертого июля.
Энола перестала вертеть в руках карты.
– И это все? Ты решил, что все мы утонем? – Покачав головой, она сказала: – Это безумие. Тебе просто хочется в это верить. Ты слишком долго жил в одиночестве в этом проклятом доме. – Сестра посмотрела на стол, на свои руки, на карты. – Думаешь, мы такие же, как она?
– Нет, – сказал я, очень надеясь, что сестра мне все же поверит.
– Ты несешь полную чушь, – вздохнув и подавшись вперед, сказала Энола. – Она просто очень расстроилась из-за всего, что с ней случилось. Больше так жить она просто не могла. Я тебе уже говорила, что этот журнал – полная чушь. Забудь о нем. Собирай вещи, перебирайся к нам. Мы как-нибудь устроим тебя на ночь. Убирайся поскорее из этого чертового дома. Если Фрэнку он нужен, пусть забирает. Там было слишком много смертей. Дом в любом случае скоро развалится. – Потянувшись ко мне, она сжала мою руку. – Послушай! Извини, что так долго не приезжала. Извини, ладно? Собирай вещи и переезжай сюда. Не привози с собой журнал. Договорились?
Энола смотрела на меня с убийственной серьезностью, словно это я представлял собой жуткую проблему, словно это не она недавно испугала до смерти двух девчонок.
– Что не так с твоим гаданием?
– А что в этом такого? – быстро отозвалась сестра. – Такое иногда случается, если кто-то вмешивается. Если затемняется атмосфера, можно все перепутать. – Энола отмахнулась. – Мне надо все здесь очистить.
– Я видел журнал и знаю, что ты натворила.
– И что же я натворила?
– Испортила его. Вырвала все страницы с рисунками карт Таро. Мне бы хотелось знать, зачем ты это сделала.
– Я на твоей стороне.
Сестра поправила на голове косынку и вытерла под глазами расплывшуюся черную тушь, отчего стало ни лучше, ни хуже. Мы смотрели друг на друга.
Дойл проскользнул обратно в шатер. Посмотрев на нас, он мягкой поступью подошел к Эноле.
– Мужик! Оставь ее в покое.
Его рука, покрытая темными извивающимися щупальцами, обвила ее плечо. Казалось, эта рука собралась удушить сестру. Энола взяла его за локоть. Этот простой жест сказал мне, что его выступления, преодоленные мили и все, что он ради нее сделал, не пропали даром. Что бы Энола ни говорила, она его любит.
– Ладно, – согласился я.
– Собери вещи и приезжай. Хорошо? Избавься от Фрэнка, – сказала сестра.
– Переночуешь в своей машине. Я так часто делал. Проще простого, – заявил Дойл.
Они принялись, перебивая друг друга, обсуждать, где и как меня разместить, а я смотрел на Энолу и видел перед собой дрожащий призрак страха. Она может лгать себе, лгать Дойлу, но я понимал, что меня она услышала и испугалась.
– Я приеду, но позже, – пообещал я и вышел из шатра.
Надо подумать, как поступить с Алисой.
А еще следует позвонить Черчварри.
Глава 20
Пророчица сбежала. Возможно, она уже мертва. Изменение дальнейших планов пребывания в Берлингтоне.
Трудно было представить, насколько сильно расстроился Пибоди в связи с бегством Рыжковой. Чего только стоило горе Амоса!
Не желая покидать фургон наставницы, парень сделал его своим домом. Он не хотел проводить дни в обществе Пибоди, который носился с жалостью, словно с одним из своих жилетов. Хуже всего было ночью. Во снах Амоса были только мадам Рыжкова и карты.
Поняв, что поиски бесполезны, они покинули Берлингтон и провели день среди грязи, камней, колей, проложенных колесами телег, и одиночества. Той ночью парень просто лежал, обнимая Эвангелину. Утром она перенесла все свои вещи в фургон Амоса. Когда объятия девушки не успокаивали, он старался уловить слабый запах горелого шалфея и представлял себе, как Рыжкова спорит относительно причитающихся ей денег с Пибоди или обсуждает вышивание крестиком с Сюзанной. Постепенно до сознания Амоса дошло, что же означает проткнутое насквозь сердце Тройки Мечей. Рыжкова разбила ему сердце.
Он проводил еще больше времени с Лакомкой, которой было все равно, может ли он говорить, работает ли он или просто предается горю. Доброта и пища были тем, что понимала Лакомка и чем можно было подкупить ее сердце.
Однажды, поздно вечером, Амос пошел проведать маленькую лошадку, собираясь побаловать ее диким луком, и застал там Бенно. Акробат гладил животное по лбу. От неожиданности Амос едва не вывалился из двери фургона, но Бенно его удержал.
– Извини, я не хотел тебя напугать. Мне надо с тобой поговорить. Я чувствую на душе груз и хочу его снять с себя.
Голос его был чуть громче шепота. Глаза блестели из тени. Лакомка фыркнула и принялась нервно перебирать копытами. Амос скормил ей лук и присел на корточки возле Бенно, вопросительно приподняв голову.
– Я видел кое-что, чего мне не следовало видеть. Эвангелина и мадам Рыжкова. Незадолго до ухода прорицательницы они ссорились. Тогда я не придал этому значения, но когда Рыжкова ушла, я начал задумываться.
Амос вздрогнул.
– Я решил рассказать об этом из предосторожности и потому, что ты всегда был ко мне добр. Ты никогда не задумывался о том, где прежде жила Эвангелина? Она меня пугает. Теперь ты обо мне все знаешь. Я открыл тебе, кем был прежде. Надеюсь, ты мне доверяешь. Можешь ли ты сказать то же самое в отношении Эвангелины?
Бенно положил свою руку Амосу на плечо, словно хотел опять его поддержать, не дать упасть. Во рту у парня стало горько от подступившей желчи. Он сплюнул на солому. Бенно подался вперед и замер у двери.
– Иногда трудно как следует позаботиться о самом себе, – задумчиво произнес акробат. – В таких случаях надо обращаться к друзьям. Впрочем, я могу ошибаться. Я хотел просто предупредить тебя и снять бремя со своей души. С моей стороны это весьма эгоистично. Ну вот, что сказано, то сказано. Я хочу только, чтобы ты задался вопросом: «Почему она себя топит?»
Бенно провел большим пальцем по сбитым костяшкам левой руки.
– И еще: почему Рыжкова нас покинула?
Акробат спрыгнул на землю и оставил Амоса наедине с его мыслями.
Прошел час, прежде чем парень почувствовал себя в состоянии покинуть свое пристанище.
Пибоди дал Амосу достаточно времени, чтобы он мог прийти в себя, но после того как в двух городах парень лишь слонялся без дела да чистил стойла животных, хозяин увлек его в сторонку для серьезного разговора.
– Надо работать, Амос.
Пибоди усадил парня у своего стола и потрепал ему волосы, которые без платка начали сваливаться и теперь висели грязными сосульками.
– Лень – наш враг. Никогда еще лень не наполняла мужчине кошелек.
Амос воззрился на него с несказанным удивлением, тогда Пибоди пояснил свою мысль:
– Деньги имеют свойство изменять мировосприятие. Мы найдем, чем тебе заняться, мальчик мой. Ничто не поднимает в такой мере дух, как работа.
Глаза Пибоди, несмотря на то что они прятались в тени, которую отбрасывали поля шляпы, выдавали его смертельную усталость. Амос уже догадался, о чем пойдет речь.
Клетку мальчика-дикаря извлекли из забвения. Эвангелина стояла рядом с ним, когда бархатный занавес водружали на место, цепляя за прутья. До этого девушка знала его как прорицателя. Амос предпочел бы ничего не менять. Он обнял ее.
Пибоди коснулся перчаткой плеча парня.
– Это временно, до тех пор, пока мы не придумаем, в чем тебя еще задействовать.
– Точно ничего другого не остается? – спросила Эвангелина.
– Твое водное действо не подходит для двоих, – кашлянув, произнес Пибоди. – В прошлом Амос был непревзойденным мальчиком-дикарем. Он был просто великолепен. Возможно, тебе будет небезынтересно увидеть Амоса в расцвете его таланта. Это весьма захватывающее зрелище.
Но отчаяние сделало выступление Амоса жутковатым. Женщины визжали и падали в обморок куда чаще, чем прежде. Другие члены труппы стали обходить парня десятой дорогой. Деньги, как и обещал Пибоди, зазвякали в его кармане, хотя сборы были совсем не те, что прежде.
– Исчезла радость, – сказал Пибоди после очередного представления. – Без нее, мой дорогой друг, увеселений не бывает.
Амос был с ним полностью согласен. Исчезание оставалось единственной частью номера, которая воспринималась зрителем благожелательно. В те драгоценные моменты, когда молодой человек позволял своему телу вслушиваться в дыхание мира и исчезать, душевная боль его оставляла. Боль возвращалась во тьме, когда он, сжимая Эвангелину в своих объятиях, вспоминал слова Бенно.
В Уэллстоне Амоса закидали гнилыми фруктами, и Пибоди, когда парень еще сидел в клетке, приказал ему немедленно натянуть рубаху, чтобы прикрыть свою наготу. После этого на душе у Амоса стало легче. То, что прежде вызывало удовольствие, например холод железных прутьев и прикосновение соломинок к голой коже, теперь казалось досадным неудобством. Амос предпочел бы прорицать вдали от глаз толпы. Ему не хватало общения со своей наставницей на известном только им двоим языке. Парню хотелось, чтобы на него смотрели без страха и омерзения.
Пибоди присел рядом с ним. На лице старика застыла гримаса жалости. Хозяина цирка совсем не заботило, что теперь его одежда измазана в грязи и к ней пристали древесные опилки.
– Я тоже по ней скучаю. Здесь у меня – пустота. – Пибоди постучал себя по груди в области сердца. – Мадам Рыжкова умела производить впечатление на людей, но… – Сделав паузу, он указал на потолок клетки. – Двигаемся дальше. Мы просто должны.
Амос скривился, но согласно кивнул. Вид у Пибоди был такой, что создавалось впечатление, будто этот человек вот-вот взорвется изнутри. Амосу же казалось, что у него внутри все постоянно сжимается. Он прижался щекой к плечу Пибоди, а затем через люк в полу выбрался из фургона так же, как проделывал это еще ребенком.
Той ночью он лежал, уткнувшись лицом в волосы Эвангелины, а девушка обнимала его, думая о том, что она виновата в бегстве Рыжковой не меньше, чем в убийстве своей бабушки.
Живот Эвангелины начал округляться. Они делали вид, что ничего не происходит, пока игнорировать это уже стало невозможно.
– Ты должен меня научить, – сказала она ему, когда странствующий цирк направился на юг.
Голова Эвангелины покоилась на его плече. Одной рукой Амос правил лошадью, тянувшей их фургон, другой он гладил шею девушки. Услышав ее слова, молодой человек оторвал взгляд от дороги.
– Гадать на картах Таро, – пояснила Эвангелина. – Вместе мы будем красивой парой.
Камушек, отлетев от колеса, упал в кустах. Дороги, за исключением оживленных путей вокруг Нью-Йорка и Филадельфии, оставляли желать лучшего, но Амос теперь обращал внимание на каждую рытвину, каждый корень, ибо любая тряска отзывалась болью в набухшем животе Эвангелины. Он отрицательно помотал головой. В картах жила Рыжкова, они хранили ее последнее прикосновение. Он не мог допустить, чтобы оно стерлось. Каждый раз, держа карты в руке, Амос вспоминал старушечьи шуточки своей наставницы, прикосновение ее большого скрюченного пальца к его руке. Они были слишком дороги его сердцу, чтобы гадать по ним.
– Я не могу больше смотреть на то, как ты строишь из себя дикаря. – Эвангелина, подвинувшись, принялась перебирать карты, лежащие между ними на козлах, ища нужную. – Это не твое. Когда ты был мальчиком – еще куда ни шло, но не теперь. Я вижу, что это тебя убивает, – сказала она, показывая Амосу карту с пронзенным мечом человеком. – И меня тоже.
Он вновь уставился на дорогу, размышляя о том, что хотел бы ей сказать. Амос подумывал о том, чтобы уйти вместе с ней из цирка. Он построит дом. Они заведут кур и, быть может, собаку. Амос любил собак. С другой стороны, его мучил страх, что Эвангелина однажды ночью может исчезнуть так же неожиданно, как появилась. Возможно, будет лучше, если они продолжат путешествовать вместе с Пибоди. Амос часто задумывался над словами Бенно, но ничего не говорил Эвангелине по этому поводу. Он не должен расспрашивать любимую о ее прошлом, раз сам ничего не знает о своем.
Собрав карты в колоду, Эвангелина хлопнула ею Амоса по ноге, требуя ответа. Молодой человек натянул вожжи, сплетенные из кусочков кожи. Лошадь остановилась. Амос принялся перебирать карты в колоде. Желтая дверь едущего впереди фургона Бенно исчезла за деревьями. На секунду ему захотелось добавить к выбранной карте другую, но покалывание в области позвоночника подсказало: этого довольно. Амос положил Эвангелине на ладонь карту Сила.
Немного подумав, молодая женщина произнесла:
– Я уже не могу плавать. Никто не захочет смотреть на русалку с огромным животом.
Он сжал ей руку. Теперь тепло их рук передавалось карте.
– Пибоди сказал мне, что я должна найти себе иное занятие. В противном случае он не будет меня кормить.
Амос с трудом сглотнул. Пибоди не может позволить себе потерять два источника дохода за один сезон, а вскоре им придется кормить еще один рот. Он взмахнул вожжами. Лошадь, хотя и с неохотой, пошла дальше.
– Будет гораздо лучше, если работа не будет для тебя такой невыносимой, – мягким тоном продолжала уговаривать его Эвангелина. – Мне кажется, что, вновь став прорицателем, ты не будешь скучать по улюлюканью, бесстыжим взглядам, насекомым и дождю.
Она провела рукой по следам укусов комаров на его запястье, которые немилосердно чесались.
– До этого ты был весьма пригожим молодым человеком. Я хочу, чтобы прошлое вернулось.
Он уловил тоску в ее голосе и вспомнил, как женщины вздыхали во время гадания. Рыжкова говорила, что это их дух рвется на свободу.
– Мне кажется, у меня все получится. Признаюсь, плескаться в воде мне порядком надоело. Вода подтачивает меня, как речка подмывает свои берега.
Амос согласно кивнул, но выражение его лица оставалось мрачным. Выработанный ими язык общения имел один недостаток, присущий картам, – двусмысленность толкований. Протянув ей Силу, молодой человек хотел успокоить свою подругу, сказать ей, что сможет ее защитить. Надо потерпеть, и со временем все образуется. Он успокоится и будет о ней заботиться. Но Эвангелина его не поняла, решив, что он имеет в виду то единственное, известное только им двоим толкование, вспомнив, как он стоял перед ней на коленях, прижавшись головой к ее рукам, – лев покоряется леди.
Колеса подпрыгнули, и Эвангелину качнуло к краю козел. Амос, обхватив рукой любимую за талию, привлек ее к себе. Молодая женщина удобно умостилась на его плече. Вскоре веки ее опустились. Голубоватые вены проступали сквозь кожу. Он научит Эвангелину гадать на картах Таро хотя бы затем, чтобы удержать ее возле себя. Вскоре они остановятся на ночевку, и он приступит к обучению. В свое время такие уроки подарили ему Эвангелину, но лишили со временем Рыжковой. Где-то под ребрами у него затянулся тугой узел. Амос боялся того момента, когда, сидя в фургоне Рыжковой, он начнет учить свою любимую лгать людям.
Глава 21
21–22 июля
– Вы узнали что-нибудь о семье Фрэнка Мак-Эвоя?
– Саймон, это вы? Откуда вы звоните? Такой шум, словно вы на фронте.
– С парковки напротив ярмарки.
– А-а-а, – только и сказал Черчварри.
– Может, у вас не было на это времени? Я пытался проследить за потомками гадалки Рыжковой. Не исключено, что Фрэнк – ее потомок. Портреты в журнале – это те самые, что сейчас хранятся у Фрэнка, и я уверен, что они когда-то принадлежали Рыжковой. Я полазил по генеалогическим сайтам. У Рыжковой была дочь Катерина. Она вышла замуж за циркача Бенно Коенига. Разыскать их потомство не так-то просто, но я уверен, что, если вы начнете с Фрэнка и его предков, а я – с потомков Рыжковой, мы встретимся где-то посередине.
Компания подростков, громко крича, вывалилась на парковку. Я прикрыл ладонью ухо. Хотя до моего слуха долетало еще и приглушенное гудение аттракционов вдали, я смог расслышать дыхание Черчварри.
– Боюсь, я пока мало успел. Один клиент занял у меня уйму времени. Ему хотелось, чтобы я разыскал ему «Грин Джейд желает веселиться». Ближайший экземпляр книги находится в штате Вашингтон, в одной из библиотек. Руководство ни за что не хотело расставаться с этим изданием.
– Мы очень бережно относимся к нашим архивам, ибо от их сохранности напрямую зависит наше финансирование.
Где-то раздался приглушенный собачий лай.
– Фу, Шейла!
Шаркающий звук.
– Да… Теперь финансирование этой библиотеки несколько улучшилось, вот только вся эта канитель отняла у меня уйму времени.
Рядом прошли мужчина и маленький мальчик, весь испачканный сладостями и надсадно ревущий. Я нырнул в свой автомобиль, надеясь, что там будет потише. И действительно, подняв боковые стекла, я лучше слышал Черчварри, но в салоне было нестерпимо жарко, и телефон прилип к моей потной щеке.
– У меня заканчивается время.
– Думаете, вы вплотную подошли к этому? – спросил Черчварри.
– Не я, а сестра.
Букинист откашлялся.
– Я обратил внимание на то, что вы стали звонить мне чаще и в дневное время. Меня распирает любопытство. Извините, но по-другому я не могу сформулировать вопрос: вы не остались, часом, без работы?
Я ничего не ответил, тогда Черчварри продолжил:
– Я не хочу вас обидеть. У меня самого бывали в жизни черные полосы. Долгие часы напряженной работы и финансовые трудности мешают человеку объективно взглянуть на вещи.
Я ощутил сухость в горле.
– Моей объективности мешает то, что я только что видел, как моя сестра, войдя в транс, прокляла двух девушек подросткового возраста на жизнь, полную лишений, бед и смертей. А еще мне предложили работу в качестве диковинки в бродячем балагане. Так что спасибо, но со мной все в порядке.
Черчварри кашлянул. Я услышал звук, характерный для ложки, помешивающей чай. Да, букинист наверняка относится к племени любителей чая.
– Я…
– Я пловец, могу долго не дышать под водой.
Говорить это ему – совсем не то, что говорить Тому Роузу. Я словно сорвал со своих плеч мантию библиотекаря и предстал в своем настоящем виде.
– Это умела моя мама, а теперь умеет сестра. Все женщины по маминой линии могли не дышать под водой до десяти минут.
– Десять минут? – переспросил Черчварри.
– Да, десять минут. Именно поэтому я уверен, что во всем этом что-то не так. Мы вообще не должны тонуть, тем более в таком количестве.
Он хотел мне что-то сказать, но запнулся на полуслове. Наконец он спросил:
– Мне, как я понимаю, не стоило присылать вам журнал?
– Почему же? – возразил я, хотя на душе у меня было неспокойно. – Я только что разговаривал с владельцем одного странствующего цирка-карнавала. Он считает, что если журнал выставили на аукцион, то значит, цирк прекратил свое существование. Я обнаружил, что после 1824 года нигде в официальных документах не упоминаются имена некоторых циркачей, например Коенига и его семьи.
Повисла тишина. Черчварри обдумывал то, что я ему только что сказал. Я терпеливо ждал, отлепив руку от сиденья, поскольку она успела прилипнуть к винилу.
– Не думаю, что должен вас поощрять двигаться по этому пути, – произнес он, явно стараясь подбирать самые мягкие выражения, – но журнал поврежден. Если Коениги переезжали с цирком…
Меня обрадовало то, что он пришел к тому же выводу, к какому ранее пришел я.
– Мне кажется, что случилось наводнение. С этого наводнения все и началось.
– Возможно. Если вы точно знаете, в каком году это произошло, то искать будет намного проще. Вы и впрямь считаете, что во всем виновато наводнение?
– Не знаю, – признался я. – Сестра уверена, что мне вообще не следовало читать этот журнал. Я хотел расспросить ее о рисунках карт Таро, но она вырвала все страницы с рисунками.
– Вы не шутите? Интересно. Символы обладают огромной силой.
Он замолчал. Я заткнул ухо пальцем, вслушиваясь. Нет, Черчварри не замолчал, это оборвалась связь. На экране всплыло краткое напоминание о том, что надо отремонтировать окно. Я ввел его в календарь телефона в апреле. У меня закончились деньги на счете. Какая ирония! Ремонтировать окно в доме, который вот-вот упадет с обрыва в воду, в доме, куда я возвращаюсь, чтобы позвонить оттуда Черчварри.
Автомобиль, подскочив, перепрыгнул яму на Бак-Харбор-роуд. Несколько секунд он парил в воздухе. Помню, когда Энола только училась водить машину, она в этом месте угробила выхлопную систему. Сворачивая на подъездную дорожку у моего дома, я увидел на ней машину Фрэнка, отбрасывающую длинную тень. Еще немного, и я бы на нее налетел. Пришлось резко дернуть вверх рукоять ручного тормоза. Я выключил двигатель, но из машины выходить не стал. Фрэнк в доме. Я увидел его силуэт в окне.
Я ждал. Выскочившая пружина в спинке сиденья больно упиралась мне под лопатку. Я вспомнил… Тройка Мечей. Проткнутое тремя клинками сердце. Восьмерка Мечей. Мужчина с вонзенными в спину мечами. Я не помнил всех карт, рисунки которых были в журнале (сестра лишила меня возможности освежить их в памяти), но я точно помнил, что некоторые карты видел сегодня, когда Энола гадала девчонкам. Как все сложно! Мать разрывалась между моим отцом и Фрэнком. У Фрэнка есть вещи, которые я видел на страницах журнала, имеющих непосредственное отношение к истории моей семьи. Энола и Дойл гадают на картах, предрекая судьбу. Расплывшиеся чернила на последних страницах журнала Пибоди.
В лобовое стекло постучали. Маленькие розовые ноготки овальной формы, веснушчатая кожа кисти. Алиса.
– Что произошло между тобой и отцом?
Пряди волос, выбившиеся из косы, создавали иллюзию, будто ее голова охвачена языками пламени.
– Я просила тебя держаться подальше от него. Именно поэтому я настаивала на том, чтобы ты не брал у папы деньги. Он уже там несколько часов и говорит, что не выйдет из дома, пока не поговорит с тобой. Что ты ему наговорил?
Голос напряженный, излишне громкий.
Я ничего такого не говорил. Он начал первым, впрочем, это ложь. Я сказал Фрэнку, что трахаю его дочь, но из всех признаний в содеянных грехах мое было наименее ужасным. Мне не в чем себя винить. Я решил ничего не рассказывать Алисе о состоявшемся между нами разговоре. Это станет для нее сильным потрясением.
Она сложила руки на животе.
– Ты все ему рассказал? Ты сказал моему отцу, что я с тобой сплю?
Я посмотрел на противоположную сторону улицы: Ли следила за нами, раздвинув пластинки жалюзи. Наши взгляды встретились. Жалюзи сошлись, скрыв ее глаза. Алиса восприняла мое молчание как признание вины.
– Господи Иисусе! Зачем? Ты не имел права это делать. – На ее лице отразилась смесь гнева и тревоги, но потом она уже мягче произнесла: – Ступай, поговори с ним. Я после со всем этим разберусь, но сейчас вытащи его из дома. У отца высокое давление. Волноваться ему вредно.
Алиса знает о высоком давлении Фрэнка, об уровне его холестерина, об артрите – обо всем том, о чем я понятия не имел в отношении моего отца и о чем не узнал и после его смерти.
– Я не возьму у него деньги. Я ему это сказал.
– Что?
– Я не хочу. Ты права. Он слишком близкий моей семье человек. Деньги все только усложнят, а я этого не хочу. Пускай дом разрушается. – Только произнеся данные слова вслух, я осознал, что на самом деле этого хочу. – Пожалуйста, больше не злись на меня.
– Я не хочу на тебя злиться, но ты продолжаешь совершать глупости.
Она отступила от дверцы машины, позволив мне выбраться наружу.
– Куда ты поедешь?
– Не знаю. Наверное, попутешествую немного с Энолой. Ее босс вроде нормальный мужик. Еще есть место хранителя архива в Саванне. Там уже запросили мои рекомендации. Лиза может любого уговорить, так что у меня неплохие шансы.
– А-а-а… – протянула Алиса.
Хотелось бы мне порадовать ее чем-то более существенным. Она посмотрела на мою опухшую лодыжку.
– Нога как? Меньше болит?
– Бывало и получше.
Алиса рассмеялась. Никогда раньше ее смех не был таким горьким.
– Сможешь вытащить отца, прежде чем он там поранится?
Она оперлась о бок моего автомобиля. Летние шорты цвета хаки облегали ее бедра.
– Фрэнк – хороший отец?
– Что?
Брови ее насупились, а веснушки поцеловались.
Я повторил вопрос.
– Да, хороший, иногда слишком упрямый, но хороший.
– Когда ты разбивала себе коленку, лечил ли он ее, заклеивал ли ранки бактерицидным пластырем?
Эноле я перевязывал ранки, вытаскивал щепки, а не отец. У меня остались шрамы и на голенях, и на коленях, и на руках. Отец никогда не промывал мои раны, не лечил их.
– Да уж. – Алиса перенесла тяжесть своего тела с одной ноги на другую с той грацией, что присуща только женщинам. – Он не хочет выходить. Мама напугана. Не знаю, что между вами произошло, но мы с ней здесь ни при чем.
– Он был на твоем выпускном?
– Да.
Казалось, Алиса вот-вот расплачется. У меня возник вопрос: насколько хорошо я ее знаю?
– Да, он бывает груб и упрям, иногда на него находит, но папа помогал мне продавать печенье, когда я была скаутом. Он водил меня в цирк. Фрэнк – хороший отец. Ты жил рядом, ты знаешь.
Я жил рядом. Я смотрел на них. Я хотел, чтобы они меня усыновили. Мак-Эвои были моей воображаемой семьей.
Алиса взглянула на мой дом.
– Не знаю, что он тебе сделал, почему ты на него так разозлился, но отец отказывается со мной разговаривать, и это меня очень тревожит. Вытащи его из дома. Пожалуйста! Не обижай меня сегодня. Я уже на грани.
Светлые брови, выделяющиеся на фоне розоватой кожи. Вздернутый носик. Маленькие губы. Квадратная челюсть. Внешность – нечто среднее между внешностями Фрэнка и Ли.
И я заставил ее плакать… Я прикоснулся к ее руке. Алиса не отстранилась.
– Извини. Я не могу обещать, что он все же не попытается спасти дом, но клянусь: я тут ни при чем.
– Хорошо.
– Извини, – снова сказал я.
– Хорошо.
Она крепко сжала мою руку, потом отпустила. И этого было достаточно. В любом случае мне надо идти. Фрэнк в моем доме с моими книгами – это все равно, как если бы он забрался ко мне под кожу. Я его оттуда вытащу, но только ради Алисы.
Она пошла было вслед за мной, но я ее остановил:
– Ты не должна заходить.
– Только не говори ему никаких гадостей! – попросила она.
Я испытал укол зависти. Хотел бы я, чтобы обо мне так беспокоились. Она разбудит меня, если ночью мне приснится кошмар. Она такой человек. Она не будет ужасаться при виде моего заспанного лица утром. Она научится любить мою сестру, потому что я ее люблю. Ради этого я поговорю с Фрэнком.
– Если честно, скорее это он наговорит мне гадостей… И вообще, в этом доме сейчас находиться небезопасно.
– Что он сделал? – тихо спросила у меня Алиса.
Если я расскажу, то обелю себя в ее глазах или нанесу смертельную рану?
– Он тебя недостоин.
Она посмотрела на свой дом, на окно, за которым стояла, наблюдая за нами, ее мать.
– Возможно, но это мне решать.
Входную дверь перекосило, и мне пришлось ударом ноги открывать ее, перенеся тяжесть всего тела на больную ногу. Алиса схватила меня за руку, и я сохранил равновесие. Ее рука была теплее моей. Мне показалось, что я ощущаю следы от порезов о бумагу, щербинку на ногте, но в следующий момент она отпустила меня и зашагала к дому Мак-Эвоев, к Ли.
Фрэнк сидел за моим столом. Перед ним лежал раскрытый журнал.
– Ты вернулся. Хорошо. Я подумал… – сказал Фрэнк и покачал головой. – Не важно, что я подумал. Я тебе должен кое-что показать.
Он встал с моего стула. Я захлопнул журнал.
– Иди домой, Фрэнк. Алиса волнуется.
Он нахмурился.
– Давай не будем говорить об Алисе.
– Зачем ты тут сидишь?
– Я хочу кое-что тебе показать.
Фрэнк, пройдя мимо меня, направился к выходу. Преодолев две ступеньки крыльца, он двинулся прямиком к обрыву. Алиса и Ли, стоя на крыльце своего дома, не сводили с него глаз. Моя лодыжка казалась сейчас не легче якоря, но я старался от него не отставать. Когда я нагнал Фрэнка, он уже стоял над обрывом в том месте, где трава уступает место осыпающейся земле.
– Посмотри!
Он указал мне на берег внизу.
– Что за черт!
– Вот именно. Нам надо немного остыть, нам обоим. Мы наговорили друг другу много такого, о чем стоило помалкивать. – Фрэнк копнул носком ботинка землю. – Я вышел под парусом на «Рыбе-луне», доплыл до скалы и увидел их. Что за чертовщина!
Не сотни, а тысячи гладких коричневых мечехвостов возились на берегу. Это не то, о чем говорила мне Энола. Совсем не похоже на наши детские воспоминания. Я бы сказал, масштабнее… Они плыли по поверхности пролива, похожие на камни мостовой. Мечехвосты никогда так себя не ведут, тем более днем и в таком количестве. Они не лезут друг на друга, не образуют наслоения, как устрицы. И еще кое-что не так…
– Буйки.
– Что за чертовщина! – повторил Фрэнк.
Буйки, ограждающие безопасную для купания зону, вынесло к востоку, к электростанции.
– Они тянут их в открытое море.
Я уже собрался спускаться по ступенькам лестницы, но Фрэнк схватил меня за воротник.
– Не спеши. Пока я сидел у тебя дома, полистал кое-какие из твоих книг.
Увидев мою реакцию, Фрэнк скривился.
– Ты спал с моей дочерью, так что не будем о нарушении приватности.
– Туше.
Я бы ободрал весь его дом до фундамента в поисках волоска моей матери, если бы это только могло ее вернуть.
– Я видел тот список с именами и датами, прочел кое-что из того, что ты читал. Лично я здравого смысла в этом не вижу, но я понял, что ты переживаешь за Энолу. Ты думаешь, что она похожа на вашу маму. Ты боишься, что и она утонет.
– Не уверен, что это может произойти. – Учитывая, что я узнал от Фрэнка сегодня утром, стоило признать, что мне известно куда меньше, чем я предполагал. – Да, я боюсь.
Фрэнк глубоко вдохнул и медленно выдохнул.
– Твоя сестра не похожа на Паулину. Уж поверь мне. Она добрее, хотя временами бывает несносной. Не знаю… Сперва я увидел тот список имен, а потом это. – Он указал рукой в сторону воды. – Мечехвосты заполонили берег за пару дней до ее смерти. Их были тысячи. После того как Паулины не стало, красный прибой убил все живое: крабов, рыбу, улиток. Весь пролив словно покрылся ржавчиной. С того времени я больше не видел мечехвостов в таком количестве.
Вот, значит, почему он собирает их панцири, сушит на солнце и развешивает у себя на крыльце. Вот почему он, возможно невольно, привил Алисе любовь к мечехвостам.
– Зачем ты мне все это рассказываешь?
– Ты что-то ищешь, как я понял. По крайней мере, это следует из того, что я прочел. Не знаю, поможет ли тебе это, но тот случай с мечехвостами был настолько странным, что мне его ни за что не забыть. Когда сегодня я вновь увидел столько этих тварей, мне стало не по себе.
Мы смотрели сверху вниз на копошащуюся массу.
– Алиса… – начал я, не удержавшись.
– Она сама за себя решает, – глухо произнес Фрэнк.
– Она волнуется. Ступай домой, Фрэнк.
– Ладно, ладно, ладно…
Он повторял это слово столько раз, что, возможно, выбил им колею. Фрэнк неспешным шагом направился к поджидающим его на крыльце двум женщинам. Мне следовало сказать ему о том, что я ничего не рассказал Алисе, но я хотел, чтобы Фрэнк страдал. Я вновь посмотрел вниз.
На берегу я заметил не только мечехвостов, но и других обитателей домов над обрывом. Вот Элени Тракос. Я узнал ее по собранным на затылке в пучок седым волосам и выдубленной за десятилетия загорания топлес коже. А вон там – ее внуки, одного из них зовут Такис. Рядом с Элени я заметил Джерри Лутца, который живет выше по улице, Вика и живущих в тупике Шэрон и семью Пайнеттис. Тихо переговариваясь друг с другом, они сгрудились так, словно это было место преступления.
Элени с внуками стояла у самой кромки прибоя. Один из детей схватил мечехвоста за хвост и принялся размахивать им. Существо извивалось, слепо ища ножками опору. С каждым новым кругом оно сжимало и разжимало сегменты своего хвоста. Я посмотрел на Элени, потом перевел взгляд на Джерри, Вика и Мэгги Симмс, на Терри, Шэрон и остальных людей из тупика. Редко когда удается увидеть их вместе, разве что на свадьбе. Последняя свадьба у нас была три или четыре года назад. Женился Уайатт, сын Джерри. А еще похороны. Все приходят на похороны. Я помнил их, облаченных во все черное: в костюмы, платья, подходящие случаю куртки, блестящую черную обувь. Элени, идя на похороны, ограничивалась кольцами. Никаких ожерелий.
На похоронах мамы по обе стороны от папы стояли Фрэнк и Джерри. Фрэнк и отец оплакивали ее кончину. Ли стояла рядом со мной и Энолой. Она раздобыла слишком большой для меня костюм в местном приходе пресвитерианской церкви. Энола была в черном, слегка поношенном платье Алисы.
Джон Стедбек прошел мимо валуна, упав с которого сестра ободрала себе ноги. Нервный и долговязый, он что-то кричал в свой мобильный телефон, то наклоняясь, то выпрямляясь, размахивая свободной рукой, ища у собеседника понимания. Мне пришлось взять взаймы у него костюм, когда хоронили отца. Серый костюм отца оказался слишком широк мне в плечах, а штанины были коротковатыми. В гроб его положили в черном костюме.
Фей и Шэрон снимали происходящее на фотоаппараты. Фей нагибалась к земле так низко, как только могла. Оба раза они приходили на похороны с фруктовыми пирогами. Тед Мельник принес корзину апельсинов и, вручая ее мне, извинялся. Джерри и его жена принесли лазанью, которую Энола съела всю без остатка, как только наш дом опустел. Элени принесла пахлаву. «Хочу немного подсластить вам горе», – сказала она. Хотя еда чуть ли не вываливалась из нашего дома через двери и окна, хотя все эти люди, обнимая нас, говорили, чтобы мы ели, ели и ели, я даже ничего не попробовал.
Воздух рассекал извивающийся хвост мечехвоста. На берег размеренно накатывали волны, а вместе с ними ползли эти существа. Ветер, приносящий мечехвостов, и пляж, заполненный теми, кто ходил на похороны.
Вернувшись в дом, я позвонил Черчварри, но никто не взял трубку. Рядом с клавиатурой лежали «Легенды и стихотворения Балтийского моря» – одна из книг, которые мне надо вернуть. Почему мама забивала мою голову сказками о морских королях и женщинах, которые, танцуя, завлекают мужчин в воды рек? Я включил компьютер и прочитал короткое сообщение, присланное мне Энн Лендри по электронной почте. Они все еще рассматривают заявки желающих, но с радостью назначат мне время собеседования, когда мне будет удобно. Еще был вопрос, касающийся моего переезда. Меня предупреждали, что денег на мое обустройство на новом месте у них просто нет. Я написал, что позвоню ей днем двадцать пятого. Было еще одно сообщение из Блу-Пойнт. Поблагодарив меня за проявленный интерес, мне сообщали, что в связи с урезанием бюджета должность, на которую я мог бы претендовать, сокращается.
Где-то в глубинах моего электронного ящика, погребенное под спамом, покоилось сообщение от Раины из Шорхема. Она отыскала Грету Коениг, вернее Грету Рыжкову. Мое предположение оказалось верным, хотя Грета не так долго носила фамилию своей матери. Кажется, ее мать повторно вышла замуж, и дочь взяла фамилию отчима. Виктор Маллинс из Нового Орлеана. 1826 год. Это стало отправной точкой для дальнейших поисков, однако возникал вопрос: как так получилось, что Катерина Рыжкова второй раз вышла замуж? Значит, до этого она овдовела. Я принялся листать журнал, осторожно касаясь пальцами покоробленных страниц. Ближе к середине, прежде чем журнал начала вести другая рука, я наткнулся на тщательно выполненный рисунок судна, являвшегося, судя по всему, прототипом тех пароходов, что когда-то бороздили воды больших рек нашей страны.
Я посмотрел в окно. В окнах дома Мак-Эвоев горел свет. Я увидел силуэты Фрэнка и Ли, сидящих на диване в гостиной. Все как всегда. Я думал, что Ли за нами следит, а на самом деле просто мне так хотелось думать.
Я приступил к поискам. В промежутке между 1824 и 1826 годами нужно было отыскать наводнение – достаточно сильное, чтобы оно могло погубить труппу бродячих циркачей, а быть может, весь цирк, передвигающийся на судне. Трагедия должна быть весьма кровавой, со многими человеческими жертвами, чтобы вещи, случайно избежавшие уничтожения, были наделены таким горем, что стали носителями проклятия. В глубине души я понимал, что все делаю неправильно. Спешка – враг исследовательской работы, а дикие идеи – тем более, но журнал попал ко мне вопреки всем законам логики.
Я потратил несколько часов, прежде чем наткнулся на нужную информацию: в 1825 году Миссисипи разлилась, затопив Новый Орлеан. Катерина Рыжкова повторно вышла замуж тоже в Новом Орлеане. Место и время совпадали.
Я взглянул на маленький рисунок на странице, соседствующей с изображением парохода. Я и прежде его видел, но не обратил особого внимания, сочтя очередной причудой рассеянного оригинала, который, размышляя, рисовал разные картинки. В уголке страницы, над краткой записью об адской жаре и тумане, располагался тщательно сделанный рисунок мечехвоста, выполненный рыжими чернилами.
Закрыв журнал, я покинул дом так быстро, как только позволяла моя больная лодыжка. Мне срочно понадобилось постоять у воды, проветрить голову. Из-за полученной травмы по ступенькам лестницы я спускался крайне медленно. Последние две ступеньки смыло во время шторма, но кто-то притащил лестницу из бассейна и приставил ее к основанию защитной дамбы, так что прыгать мне не пришлось. Мечехвосты громоздились друг на друге на песке у моих ног. Днем начался прилив, и вода скрыла от глаз тысячи мечехвостов. Когда я вошел в воду, мне показалось, что эти твари расползаются в стороны, уступая мне дорогу.
Три глубоких вдоха и выдоха. Один последний глубокий вдох. Грудная клетка расширена до предела. Все мускулы напряжены. Наполнив легкие воздухом, я погрузился в черноту умиротворения ночного купания. Внизу кипела жизнь. Хвосты, изгибаясь, скребли по панцирям. Надо мной – вода, а выше – небо. А между всем этим, посредине, я плыву все дальше и дальше во тьму.
Я на мгновение приоткрыл рот – только для того, чтобы почувствовать вкус соленой воды.
Существует некая цикличность происходящего. Паулина знала, что ее мама утонула. Моя бабушка также обо всем этом прекрасно знала. Все они, должно быть, испытывали страх, как испытывают страх члены семейства Валленда каждый раз, становясь на канат. Любой порыв ветра может стать для них роковым. Канат стал их проклятием. Горькие думы и прошлые трагедии способствовали этому. В «Наложении заклятий и проклятий» – объемистой книге, присланной мне Черчварри, – говорится, что источником проклятий является записанное слово, преднамеренно озвученное. Внизу хвосты мечехвостов стучали по панцирям. Я вспомнил рисунок Пибоди, изображающий эту тварь. Рисунок парохода появился в журнале незадолго до того, как вода залила и покоробила его страницы. Словно сам этот рисунок призвал наводнение… От попадания в холодное подповерхностное течение у меня что-то сжалось в области живота.
На табличках с проклятиями писали имена жертв, редко что-нибудь еще. Назвав человека по имени, ты либо насыщаешь его силой, либо ведешь к гибели. Это же относится и к вещам. Бесс Виссер. Амос. Эвангелина. Таблички с проклятиями прятали, зарывали в землю там, где их никто не мог найти до тех пор, пока по прошествии многих лет проклятие не сбудется. Найдя табличку, можно разбить ее вдребезги и тем самым разрушить чары – так же, как сожжение писем освобождает от чар бывших возлюбленных. Журнал сам себя сберег, пережил наводнение, нашел пристанище у людей, любящих антикварные книги, людей, которые ни за что не посмеют уничтожить такой интересный артефакт из прошлого. А потом журнал нашел путь ко мне.
Пришло время покончить с проклятием.
Я выпустил из легких немного воздуха и достиг песчаного дна. Ступня коснулась твердого панциря, и я отдернул ногу. Существо тотчас же попыталось сбежать – скользкое и невероятно древнее. Впервые за много дней мне захотелось улыбнуться. Я едва не хватанул ртом соленой воды. Когда я выбрался на берег, то дрожал всем телом.
Горизонт светлел. Теперь я знал, что делать.
Глава 22
Пибоди обрадовала перспектива сделать из Эвангелины прорицательницу. Это решало проблему занятости Амоса и позволяло парню раскрыть свои творческие задатки. Пибоди проводил дни и ночи, рисуя, перетряхивая вещи в дорожных сундуках и конфискуя всякий завалявшийся кусок ткани либо прочие украшательства из других фургонов. К примеру, он позарился на выкованную из железа замысловатую завитушку, украшавшую двери фургона Мелины. Сюзанна лишилась отреза муслина, который она припрятала. У Ната завалялась жестянка «серебряной пыли» еще с тех пор, когда он работал кузнецом. Пибоди выпрашивал, уговаривал, брал в долг. Он заново обставил фургон мадам Рыжковой. Как ему казалось, теперь это был высший шик. Снаружи фургон выкрасили голубой, желтой и белой красками, нарисовав на стенах цветы и геральдические лилии. Внутри стены были обтянуты тканями, а голые доски покрасили в синевато-зеленый цвет, привычный для женских юбок. Пибоди нарисовал розы ветров и звезды на стенах, а из своего фургона пожертвовал мягкие подушечки. Когда работа подошла к концу, хозяин решил, что следует придать берлоге Рыжковой вид претензионной гостиной во французском стиле. Эти преобразования нашли отражение в его журнале. Он зачеркнул строчку «мадам Рыжкова, оккультист» и написал под ней «месье и мадам Ферез, оракулы». Эвангелина стала «ученицей прорицателя». Надпись напротив имени Амоса «мальчик-дикарь» была тщательно зачеркнута, а рядом выведено «прорицатель». Эти, казалось бы, небольшие изменения коренным образом переменили жизнь Амоса и Эвангелины. Теперь они стали Этьеном и Сесиль Ферез.
– Русские – это passé[14], – объяснял Пибоди, даря Амосу сундук, полный нарядов. – Les vetements[15].
Старик разжал пальцы, и сундук грохнулся наземь, подняв в воздух облачко пыли.
– Подумать только, Амос, все это время ты спал на своем будущем. Эту одежду я привез из последнего моего путешествия в Европу. – Поскольку Амос и Эвангелина явно ничего не понимали, Пибоди пояснил, поправив на шее видавший виды цветастый шейный платок. – Франция, дети мои. La France. Вершина цивилизации, столица моды и искусств.
Амос немного заартачился, когда увидел сундук, до краев набитый белоснежной одеждой, обшитой кружевами и оборочками, но Пибоди, откашлявшись, произнес:
– Перемены трудно принять, но или трудности, или déshabillé[16]. Я понимаю, что быть дикарем тебе не по душе. – Пибоди набросил Эвангелине на плечи плащ-накидку, прикрывая ее объемистый живот, и пробормотал себе под нос: – Побольше скрыть, побольше скрыть… По-французски… Как там по-французски? Сопровождать леди в интересном положении…
Просторный наряд представительницы французской богемы скрывал выпирающий живот, когда Эвангелина сидела, а сидела она большую часть времени. Если бы не внезапные приступы боли и тошноты, молодая женщина в полной мере наслаждалась бы переменами, связанными с изменением своего амплуа. Беременность оказалась не столь неприятным делом, как ей представлялось.
Пибоди разглагольствовал об аристократических нарядах и тщательно уложенных волосах, париках и пудрах.
– Вши! – Он хихикнул. – Здесь полным-полно вшей!
Эвангелина не пожалела труда, чтобы завить волосы Амоса в крупные букли, так как Пибоди заявил, что это соответствует моде. Каждый вечер она тонкой деревянной расческой разделяла его волосы на пряди, а затем завивала их в букли, которые связывала для придания формы полосками материи. Расчесывая Амосу волосы, она упражнялась в акценте, надувая свои губки. К концу этой процедуры ее лицо выражало крайнюю усталость, а Амос напоминал одуванчик. Хотя вначале все это несколько смущало молодого человека, неделю спустя Эвангелина заметила, что ее любимый с нетерпением ожидает тех спокойных и приятных минут, когда она расчесывает ему волосы. Она сидела на сундуке, а он, скрестив ноги, на полу, отдавая себя ее заботам. Эвангелина видела, что дыхание его замедляется с каждый движением расчески. Хорошо, когда есть возможность заботиться о другом человеке.
При первом же осмотре Амоса и Эвангелины в полном облачении Пибоди остался очень доволен.
– Эвангелина! Дорогая! Ты станешь драгоценным украшением нашей труппы. Месье и мадам Ферез! Мы научим низких и убогих светской утонченности, стилю, а также просветим их касательно будущего.
Но первым делом следовало обучить Эвангелину гаданию на картах. Она оказалась смышленой ученицей. Амос нисколько не раздражался, хотя это требовало бесконечной пантомимы, а Эвангелину приходилось осторожно подводить к вопросам, на которые ему легко было давать однозначные ответы. Показав расклады и значение карт, Амос имел обыкновение, не уведомив Эвангелину, сразу же переходить к «беседам». Молодая женщина подозревала, что он от нее кое-что скрывает. Она заметила, что Амос старается прятать некоторые карты либо меняет их положение, когда они должны появиться в раскладе. Проделывалось это столь быстро, что заметить подтасовку было очень трудно. Загорелая кожа и неясные цветные пятна. Она замечала, что он прячет от нее темные карты: Башню, Дьявола, Смерть, но также некоторые Мечи и Кубки. У Амоса были от нее тайны, но, учитывая то обстоятельство, что и она с ним была не вполне откровенна, жаловаться ей не пристало.
Если он ей не полностью доверяет, то и она не будет открывать свои секреты. Так, ранним утром, когда Амос еще спал, Эвангелина ходила купаться. Нельзя сказать, чтобы она скучала по водному действу либо сальным глазкам зрителей, просто молодой женщине нравилась вода. Пока Амосу снились сохнущие листья табака и кроличьи норы, Эвангелина тихо выскальзывала из фургона, заходила в реку и стояла в воде, обнимая себя руками за плечи.
Сняв с себя тяжелое одеяние Сесиль Ферез, она вновь становилась тем, кем была прежде. Эвангелина плавала и пробиралась сквозь камыши, ныряла до самого дна, чтобы ощутить сладковатый, земляной аромат свежей воды. Если они забирались близко к океану, речная вода становилась немного солоноватой, тогда Эвангелина плавала на спине, изучая округлость своего живота, наблюдая за тем, как вода, хлюпая, накатывается на него. Когда луна стояла высоко в небе, она высматривала в воде серебристый отблеск на чешуе плывущей рыбы и плыла в том же направлении по течению. Новая жизнь расцветала в ней. Вода отвечала на все ее вопросы тихим «да», и часть Эвангелины понимала, что это и есть ее дом. В приливной реке на побережье Вирджинии молодая женщина встретила странное существо, которое ползало по речному дну. Она взяла его и, держа в руке, внимательно осмотрела округлости панциря, аккуратное заострение хвоста и паучьи ножки, которые дрыгались и семенили в воздухе, когда Эвангелина перевернула существо на спину. Молодой женщине очень понравилось это чудо природы. Ребенок внутри нее смеялся.
Первое выступление Эвангелины и Амоса в новом амплуа состоялось в городке Таннерс-Ферри, когда бродячий цирк переезжал от одного городка Северной Каролины до другого, направляясь в Шарлотт.
– Многоуважаемые леди и джентльмены! – вещал Пибоди, обращаясь к толпе. – По вашим многочисленным просьбам я привез из-за дальних морей, из элегантных салонов Парижа, сих представителей высшего общества, советчиков королей. – Сделав широкий жест рукой, хозяин цирка продолжил: – Вот они, те, кто возводит на престол королей, прорицатели судеб и предсказатели будущего, месье и мадам Ферез!
Амос и Эвангелина стояли на ступеньках фургона, туго затянутые в пышные кружевные одеяния. Толпа рассматривала их с удивлением и некоторым недоверием. Таннерс-Ферри представлял собой не более чем поселение на месте рынка. Сюда местные фермеры свозили свой урожай. Отсюда его увозили дальше, в большой мир. Дома были небольшими. Их легко было строить и ломать, когда случалась очередная революция и жителям приходилось спасаться бегством. Женщины – жены и дочери местных торговцев – с восторгом взирали на костюмы «французов». Судя по всему, предстояла тяжелая работенка. Девушек поражала экстравагантность невиданных нарядов. Амос вполне понимал их. От клиенток не будет отбоя.
– Советники всех влиятельных французских домов, – восхищаясь собой, вещал Пибоди. – Им золотили ручки сильные мира сего. Дорогие друзья! Я привез эту роскошь в ваш город. Это большая честь!
Блеск вернулся в глаза Пибоди. Он был в отличной форме. Старик жестикулировал, произнося рокочущее «р». Амос посмотрел на Эвангелину. Тяжелый корсаж стягивал ее большой живот. В роскошном платье, с завитыми и уложенными в изысканную прическу волосами его любимая уже не походила на русалку либо девушку-птичку, которая когда-то вышла к нему из леса. Теперь Эвангелина стала утонченной дамой, одной из кричавших и терявших сознание при виде мальчика-дикаря. И эта женщина расчесывала ему волосы, поправляла кружева и, в конце концов, превратила его в элегантного джентльмена. Теперь никто бы не подумал, что в прошлом он играл роль дикаря. Вот только Амос почему-то скучал по прежней Эвангелине.
– Тебе не кажется странным, – прошептала ему на ухо Эвангелина, – что Пибоди уже не печалится из-за того, что Рыжкова нас покинула? Они вместе путешествовали долгие годы, но у него сейчас такой довольный вид!
Прислушиваясь к словам Пибоди, Амос понимал, что она права. Следовало бы радоваться приподнятому настроению старика, но молодой человек не мог забыть большой подагрический палец старушки и то, как она грела в кострах кирпичи и с их помощью унимала боль в суставах. Он крепко сжал пальчики Эвангелины.
– Он так радуется тому, что мы вместе… Конечно, это было бы ужасно, но что, если Пибоди придумал способ отделаться от Рыжковой? Я не удивлюсь, если так оно в действительности и было.
С полудня и до позднего вечера молодые женщины и мужчины задавали вопросы о любви, богатстве, доверяли прорицателям свои тайные чаяния. Эвангелина очаровывала посетителей своим мелодичным голосом и французским акцентом. Ему трудно было сконцентрировать свое внимание на чем-то одном. Все вокруг него двигалось. Малейшее шевеление беспокоило Амоса. Он решил сосредоточиться на картах. Когда появлялись карты, которые Эвангелине не стоило видеть, он проворно смахивал их со стола и прятал за манжеты.
Дорога была трудной. Приходилось то и дело выталкивать застрявшие фургоны из грязи. Лагерь разбили на берегу реки Катоба, недалеко от Шарлотта. Амос в присутствии Эвангелины упражнялся в раскладывании карт шестью рядами, используя те карты, которые были не задействованы в предыдущем раскладе крестом. В конце четвертой линии левая рука Амоса, метнувшись, попыталась убрать только что положенную карту. Эвангелина схватила его за руку.
– Зачем ты их от меня прячешь? – спросила она. – Как я смогу предсказывать судьбу должным образом, если ты прячешь от меня все интересные карты?
Эвангелина видела, что Амос не на шутку встревожен. Покраснев, молодой человек уставился в пол.
– Прошу тебя!
Она повернула его руку ладонью вверх. Дьявол.
Амос понятия не имел, что секреты точат человеку душу. Он не догадывался, что, прижимаясь своим округлившимся животом к его спине, Эвангелина пытается отогнать одолевающие ее мрачные мысли. Иногда он задумывался над тем, не живут ли в картах гнев и злость Рыжковой. Быть может, именно они искажают смысл того, что он хотел бы передать Эвангелине.
Его рука, зажатая в руке Эвангелины, показалась ему не лучше грязной лапы животного.
Амос сгреб карты и попытался объясниться со своей подругой. Он показал Эвангелине Верховную Жрицу. Это Рыжкова. После этого молодой человек принялся дрожать, шаркать по полу ногами, беспокойно ерзать, желая передать встревоженность его наставницы, ее страх, который, вполне возможно, впитали в себя карты. Он положил Эвангелине на ладонь Дурака, то есть самого себя, желая, чтобы любимая поняла: он хочет оградить ее от того, чего боялась Рыжкова.
– Это же Дьявол!
Эвангелина забрала у Амоса колоду и принялась раскладывать карты шестью рядами. Дьявол лег точно так же, в конце четвертого ряда. Менее благоприятное место трудно было себе представить. По опущенным уголкам ее рта было понятно, что это известно даже Эвангелине.
– Одна старушка считала, что я одержима дьяволом. Я ее любила, а она пыталась изгнать дьявола деревянной ложкой, – громко, но невесело рассмеявшись, произнесла Эвангелина. – Того, кого можно прогнать деревянной ложкой, не стоит бояться. Не стоит больше прятать от меня карты.
Она так и не рассказала, что сталось с ложкой и дьявольской одержимостью.
Амос кивнул, но в душе не был с этим согласен.
Посреди ночи их разбудил стук в дверь фургона. Приоткрыв дверь, Амос увидел Бенно. В руке акробат держал зажженную масляную лампу. На Бенно лица не было. В колышущемся свете обычная безмятежность на лице акробата сменилась страхом. Губы его были плотно сжаты, из-за чего шрам казался еще более уродливым.
– Буди Эвангелину. Поторопись! – сказал Бенно.
Амос не двинулся с места, и его друг пустился в объяснения:
– Дело в реке. Вода там стала мертвой и вонючей. Вся живность умерла. Твоя женщина искупалась в ней, пока ты спал.
Амос часто заморгал. Эвангелина втихомолку от него ускользнула, а Бенно, значит, за ней следил.
– Я больше ничего не скажу. Не хочу тебя расстраивать. Пожалуйста, разбуди свою женщину.
Из-за спины Амоса выглянула Эвангелина. Волосы ее спутались после сна.
– Тише. Я иду.
Они последовали за дрожащим светом лампы сквозь заросли камыша, рогозы и полевого хвоща. Амос поддерживал свою спутницу, следил за тем, куда она ступает. Свет лампы Бенно нырнул в камыши, исчез, а затем появился вновь. Как же плохо он ее знает! Когда они добрались до воды, Бенно замер на месте.
– Я видел, как ты купалась, – сказал он. – Тебе ведомо, что здесь стряслось?
В воздухе пахло гниением и разложением. Дышать стало трудно. Еще совсем недавно Эвангелина купалась в этих водах, упиваясь их чистотой и свежестью воздуха. В свете лампы что-то засверкало в том месте, где вода встречалась с землей. Серебристый свет луны освещал тучи мошкары у берега. Она кружилась над мертвой и умирающей рыбой, чьи жабры еще судорожно двигались. Глаза рыб были покрыты мутной, зловещей пленкой. Эвангелина зажала нос, желая защититься от невыносимого зловония.
– А это? Ты прежде такое видела?
Опустившись на корточки, Бенно поднял что-то с земли. Существо имело темно-коричневый цвет и походило на камень. Жесткий панцирь и хвост, похожий на хлыст. Оно махало этим своим хвостом, словно собиралось само себя отхлестать.
– Похоже на мерзкого дьявола. Правда же?
В животе у нее все сжалось. Хотя эта тварь была больше и отвратительнее той, которую она видела в соленых вирджинских водах, сомнений в том, что это одни и те же существа, не было.
– Никогда прежде ничего подобного не видела, – соврала Эвангелина.
Амос обнял ее за плечи. Интересно, может ли он ощущать холод, гнездящийся в ее костях? Понимает ли Амос, что она лжет?
– Конечно не видела, – с горечью произнес Бенно. – Но сейчас эти твари усеяли оба берега. Видишь? Они похожи на водяных дьяволят. Ты купалась в этих водах. Я видел тебя сегодня ночью, – бросая странное создание на песок, сказал акробат.
Сотни этих существ лежали на берегу, погребенные под умирающей рыбой, спрятавшиеся между камнями.
– Вода была чистой, когда я здесь плавала, – сказала Эвангелина.
Бенно внимательно оглядел молодую женщину, словно составлял перечень всех частей ее тела. Нахмуренный лоб осветила улыбка.
– Разумеется. Разве могло быть по-другому? Я просто думал, что, возможно, ты что-нибудь видела. Извините, что вас разбудил, – произнес он, снова оглядываясь на реку. – Как бы то ни было, нам следует уехать отсюда, да поскорее.
Амос смотрел на дохлую рыбу на песке. Он понятия не имел, с какой стати столько рыбы могло выброситься на берег. В любом случае это знамение. Неистово расширяющиеся и опадающие жабры, замирающие сердца… Он чувствовал, как они все тише бьются. В Шарлотте их ожидает нечто воистину ужасное, настолько ужасное, что оно отравило воды реки. Им непременно надо отсюда уезжать, но если они поедут в Шарлотт, то будут двигаться навстречу тьме. А еще что-то произошло между Эвангелиной и Бенно. Теперь ему придется защищать любимую от человека, который был его другом. Он вспомнил о пронзенном человеке на Десятке Мечей.
Бенно назвал маленькое колючее создание дьяволом. Эвангелина понимала, зачем акробат ей это показал. Молодая женщина сжала руку Амоса и ощутила, что кожа на суставах его пальцев необычно нежная. Это она виновата в том, что река стала мертвой. Эвангелина думала о спрятанных Амосом картах и своем купании тайком. Постепенно они станут задыхаться под тяжестью своих тайн и будут хватать ртами воздух, словно эти рыбы на берегу. Она прячет убийство внутри себя, и это отравляет все вокруг.
Я убийца.
Глава 23
23 июля
– Это, конечно, несколько странный запрос, но я буду рад любой помощи.
Повисла непродолжительная пауза. Лиза Рид – замечательный библиотекарь и знает, в чем разница между другом и просто знакомым.
– Я пытался сам поискать, но меня отрезали от систем Грейнджера, а Дженис аннулировала мой индикационный номер, – признался я.
– Зачем это Купферман?
– Я ушел с работы на две недели раньше и задержал дома кое-какие материалы, которые следовало вернуть в срок.
Лизу мои слова особо не шокировали.
– Все равно с ее стороны это не очень вежливо. Что тебе нужно?
– Мне нужна информация о крушении речного судна. Возможно, это был плавучий цирк или что-нибудь в этом роде. Меня интересует 1825 год. Район Нового Орлеана, когда Миссисипи разлилась. Мне нужно знать название судна, цирка и имена выживших. Все, что ты сможешь найти.
– Да, но это несколько специфическая информация. А какой у тебя к этому интерес?
– Пытаюсь произвести впечатление на потенциального работодателя, – ответил я.
– В Сандерсе-Бичере решили немножко тебя погонять?
– Вроде того. – Я заранее приготовил отмазку на тот случай, если она спросит. – Возможно, я отправлюсь с сестрой в небольшое путешествие. Пока я не уехал, если что-нибудь понадобится, звони мне домой. Мой мобильник будет отключен.
Я был весьма признателен Лизе, когда она поинтересовалась:
– Что-то случилось с Алисой Мак-Эвой?
– Нет. А почему ты так решила?
– Я с ней вчера разговаривала. У Алисы был ужасно расстроенный голос. Я знаю, что вы близки. Она тебе что-нибудь говорила?
– Ничего такого, – ответил я.
Ложь плохо давалась мне, застревала на языке. Я снова поблагодарил Лизу Рид, повесил трубку и вычеркнул ее из своего списка. Двигаемся дальше. Раина из Шорхема и Елизавета Букер из Центральной библиотеки закрывали список из пяти человек, которым я в свое время помог отыскать нужные книги, или же сидел рядом на конференциях, вместе с которыми стенал над скудностью финансирования либо выражал соболезнования по поводу ухода в небытие картотечной системы. Их порадовало то, что я не спрашиваю у них о вакансиях. Раз я не ищу работу, у людей нашей профессии еще остается надежда. Спустя час я рекрутировал небольшую армию, которая принялась выискивать потомков Пибоди, Греты Маллинс, внучки мадам Рыжковой… Теннен, Бонн, Дувел, Траммел, Петрова, Виссер… В конце-то концов, выследить мою сумасшедшую семейку было не так уж сложно. Даже в море имен отыскать имя русалки-утопленницы – проще простого.
Вскоре я узнаю много нового, но пока меня больше интересовало то, что Алиса ужасно расстроена, и, судя по всему, из-за меня.
В доме Фрэнка, как всегда, горел свет. Они вообще никогда не выключают свет в своем доме. В окне мелькнул силуэт Ли, потом Фрэнка. Часть меня желала, чтобы жена разбила то, что осталось от его сердца. Никто не выходил из дома и не входил в него, хотя было уже около девяти. Возможно, там с ними сейчас Алиса. Уже тогда, когда она касалась моей руки, стоя у машины, я почувствовал в ней усталость и грусть.
Я позвонил Черчварри, но услышал лишь сильные помехи на линии.
Журнал раскрывали так, что треснул корешок. Ни один человек, уважительно относящийся к книгам, так с ними не обращается. Это, конечно, не Библия Гутенберга, но старинные книги требуют бережного к себе отношения. Такую книгу следует держать на особой подставке, хорошо прошитую и проклеенную. Картон, кожа и бумага в прошлом подвергались воздействию кончика гусиного либо металлического пера, а иногда и ногтей. Хотя разобраться в нашем прошлом исходя из того немногого, что было записано от руки в этом журнале, было совсем непросто, я все же получил хоть какой-то ответ на вопрос, который мне хотелось задать все эти годы. Журнал переходил из рук в руки, от отца к сыну, как мне кажется, а потом он был потерян и всплыл на аукционе, где его приобрел Черчварри.
Члены моей семьи молча топили себя на протяжении нескольких поколений. Оказывало ли влияние на это то обстоятельство, что все они вели кочевой образ жизни? Может быть, поэтому наши следы смывала вода? Уже после первых нескольких часов, проведенных в холодной воде на глубине, где мы задерживали дыхание, я и Энола осознали, что мы другие. Пребывание под водой – смысл нашего существования. Наша мама знала, что она другая. Она узнала о Бесс Виссер и о том, что ее мамой число утопленниц не ограничивается. В тот момент она прикоснулась к проклятому прошлому рода. Знала ли она, каким будет ее конец, что она утонет, как и все они?
Чтобы разрушить проклятие, надо уничтожить его источник. Журнал лишь преуменьшил ценность истории нашей семьи, того, что я и Энола – наследники экстраординарного. Журнал – единственный сохранившийся документ, рассказывающий о семье, о которой я ничего больше не узнаю. Немой парень, русалка, прорицатели… Часть меня будет потеряна, если журнал уничтожить. Впрочем, история семьи неполная. На этих страницах ничего не говорится о Селине Дувел и Вероне Бонн. Моя мать тоже часть этой истории. Здесь ничего не сказано о нескольких поколениях утонувших женщин и исчезнувших гадалок. Этот поврежденный журнал, эта проклятая вещь является лишь частью нашей истории, самым ее началом.
А она похожа на географическую карту.
Я записал все, что смог, страница за страницей, писал до тех пор, пока у меня рука не заболела. Я потряс ею, размял мышцы и продолжил. Имена, даты, места, фразы, которые Пибоди считал забавными. «Простак – это ягненок, который спешит исповедаться волку». Города, которые посетила бродячая труппа: Нью-Йорк, Филадельфия, Нью-Касл, Берлингтон, Таннерс-Ферри, Шарлотт. Виссер, Рыжкова, Коениг и те имена без фамилий, проследить родословную которых не представляется возможным. Опасения, которые могли у меня возникнуть из-за переписывания информации, делали беспочвенными то, что я прочел в «Наложении заклятий и проклятий». Проклятия не налагаются одними лишь словами. Для этого нужна злая воля, желание прочно связать воедино чернила и трагедию. Волдырь, образовавшийся у меня между большим и указательным пальцами, лопнул. Жидкость брызнула на бумагу. Слово расплылось. Я смогу освободить наш род от проклятия, не уничтожив его истории.
Машина въехала на подъездную дорожку. В дверь со знакомой настойчивостью заколотили.
– Открыто.
Энола ворвалась в гостиную. За ней с апатичным видом шел Дойл.
– Я же просила тебя вернуться! Где ты, блин, пропадаешь? Я звонила тебе по мобильнику, но там автоответчик.
– Меня отключили. Смотрите, куда ступаете, – указав на пролом в полу, предупредил я.
– Этого в прошлый раз не было. Что здесь, черт побери, случилось?
– Люк в полу, – улыбнувшись, пошутил Дойл.
Энола, осторожно двигаясь вдоль стен, обошла гостиную, внимательно разглядывая пол и стены.
– Я думала, что ты не хочешь сюда возвращаться. Мы же договорились! Том сказал, что сможет найти тебе занятие, как только ты созреешь. – Энола остановилась у своей фотографии с матерью, снятой Фрэнком. – Ты не можешь здесь больше жить. Собирай вещи и поехали с нами. Будет весело.
– Маленькая Птичка! Один день ничего не решает. Он сможет нас догнать, – сказал Дойл. – Мы поедем в Кротон и будем там часть августа, потом двинемся на юг. Часть осени проведем в Атлантик-Сити, а затем поедем дальше на юг.
Он прислонился к двери, а ногой уперся в дверную раму. Судя по состоянию каблука, это была его любимая поза.
Энола бросила на Дойла убийственный взгляд.
– Я поеду с вами, – сказал я. – Есть место хранителя архива в Саванне. Меня эта работа интересует. Но вначале мне надо кое-что сделать.
– Если это имеет отношение к той книге, пришло время остановиться, Саймон. Ты меня уже пугаешь. Забудь о том, что касается Фрэнка и мамы. Она мертва, а он все равно не сможет повернуть время вспять.
Как будто услышав нас, Фрэнк завел свой грузовик. Мы видели, как он, выехав с подъездной дорожки, укатил в направлении гавани, бара – всех тех мест, куда может умчаться мужчина, пребывающий в депрессии, мужчина, который спал с женой своего лучшего друга.
– Думаю, нам надо развести последний прощальный костер…
Идея пришла мне в голову внезапно и оказалась на удивление к месту.
– Помнишь, когда мы были детьми, часто готовили на костре?
– Нет, – ответила сестра.
Дойл покинул свой пост у двери и обнял Энолу за плечи.
– Было классно. Кукуруза, хот-доги, гамбургеры и лобстеры. Папа и Фрэнк разводили костер, а мы подрумянивали на огне маршмэллоу[17].
Под мы подразумевались я и Алиса. Даже тогда мы жили параллельными, но в чем-то общими жизнями. Мы смотрели друг на друга, пока снежинки сгоревшего сахара и кукурузного крахмала взлетали в небо.
– Я хочу развести последний костер. Я хочу, чтобы об этом месте у меня остались светлые воспоминания. Я это заслужил.
– Не думаю, что костер что-нибудь исправит, – заметила Энола.
Я представил Алису по другую сторону костра; потом Алису рассерженную, стоящую на крыльце; Алису в ресторане, ждущую, пока я закончу разговаривать по телефону с Энолой; Алису на свидании со мной; Алису без меня.
– Я всегда был здесь и отвечал на звонки. Было ли хоть раз так, чтобы я не ответил на твой звонок? Когда ты звонила мне в три часа ночи и просила, чтобы я ехал сломя голову черт знает куда, разве я хоть раз отказался? Я выхаживал тебя, когда у тебя шла кровь. Я ставил тебя на ноги и ждал, когда же ты вернешься. Ты не знаешь, почему я здесь остался? Я просто думал, что ты решишься когда-нибудь вернуться, но ты так и не вернулась.
Это не ее, а меня все здесь бросили. Это я имею право обвинять.
– Я хочу развести костер в последний раз.
Энола стряхнула с плеч руку своего парня и буквально рухнула в кресло. Пол заскрипел. Сестра, затаив дыхание, ждала, не провалится ли он под ней. Не провалился. Я ее зацепил за живое. Энола расстроена, едва сдерживает слезы, думает, что бы крикнуть мне в ответ. Да, я ее достал. Она посмотрела на Дойла, потом на меня.
– А потом ты поедешь с нами?
– Потом поеду.
– Хорошо.
– Прикольно, прикольно! – буркнул себе под нос Дойл.
– Хорошо. Спасибо, – сказал я и поднялся, проверяя, как там поживает моя лодыжка.
Боль никуда не делась, хотя она уже не так сильно меня донимала по сравнению со вчерашним днем.
– Я хочу, чтобы все было сделано по правилам, – поворачиваясь к Дойлу, сказал я. – Помоги мне кое-что вытащить.
Дойл и я стояли перед дверью мастерской Фрэнка. Энола осталась в доме с женой соседа, отказавшись принимать во всем этом участие. Сестре хотелось убедиться, что Ли стойко выносит выпавшие на ее долю неприятности. Когда Ли впустила ее в дом, я и Дойл направились к бывшему амбару. Он предложил мне свое плечо, поскольку моя лодыжка в любой момент могла меня подвести. Дойл не имел ничего против задуманного мною плана.
– Я понял тебя, мужик. Сосед сделал большую гадость твоей семье, а ты собрался сжечь кое-что из его барахла. Это в порядке вещей. Я на твоей стороне.
А вот дверь мастерской думала по-другому. Большой ржавый замок пугающего вида стал для нас препятствием. Конечно, мастерская заперта. С какой стати я решил, что дверь будет открыта?
– Мне нужен болторез, – неуверенно произнес я.
Дойл склонил голову набок, отвел руку за спину и с хрустом повел плечом в отталкивающей манере головоногих.
– Не, – сказал он. – Мы и так справимся. У меня есть… Секунду…
Он покинул меня минут на пять. Я ощущал легкое головокружение. Возможно, так чувствует себя каждый, замышляющий дерзкую кражу. Наконец, размашисто шагая, Дойл вернулся с пустыми руками.
– Тачка, – сказал он, словно это все объясняло.
Увидев мое недоумение, он добавил:
– Скрепки для бумаг. Всегда держу в тачке несколько.
Он извлек из кармана своих мешковатых штанов серебристую скрепку. Прежде чем я удосужился как-то на это отреагировать, Дойл разогнул скрепку, выровнял один кончик, а на другом оставил большой крючок. Явно такое он проделывал не раз. Опустившись на корточки перед замком, Дойл принялся осторожно вертеть прямым кончиком в замочной скважине, высунув язык из уголка рта. Он потянул за дужку замка, проверяя, двигается ли она. Вдруг запястье его повернулось и замок со щелчком открылся. Дойл загнул кончик скрепки с помощью своего пальца, а затем сунул ее обратно в карман штанов.
– Давно такого не делал, но, однажды научившись, уже не разучишься.
– Дойл! И откуда эти умения?
Парень пожал плечами. Присоски на его лбу слегка пошевелились.
– Я немного этим занимался, когда был подростком, – хотел проверить, на что способен. А началось все с того, что я вечно забывал ключи. Я решил, что если научусь сам делать ключи, то они мне больше нужны не будут.
Дойл открыл дверь.
– А мелочь из телефона-автомата ты воровал?
Часто заморгав, парень широко улыбнулся, достаточно открыто, чтобы произвести положительное впечатление.
– С какой стати мне это сейчас делать?
Как ни странно, сестра нашла себе достойного ее спутника жизни.
В мастерской Фрэнка всюду валялись пустые пивные бутылки. В прошлый раз их здесь не было.
– Я заберу портреты, а ты займись занавесом.
Мы свалили портреты и ткань в остов дори, над которой Фрэнк работал. Нужно все это уничтожить, все, что нарисовано в журнале, потому что эти вещи несут на себе отметину трагедии, пусть и невольно. Я двигался медленно, неуклюже, а вот Дойл проявил сноровку акробата: он подпрыгивал и тянул на себя занавес, а потом взвалил его себе на плечи.
– Ты очень пугаешь Энолу. Ты об этом знаешь? – спросил он, набрасывая занавес на скелет лодки.
– Я не хочу этого.
– Знаю. Но… Послушай, я переживаю за нее. Энола рассказывала, что в прошлом вы были очень близки. Я думал, что, когда она сюда приедет, ты хорошо на нее повлияешь, но оказалось, что вы совсем не близки, да и с тобой не все в порядке. Теперь ей стало только хуже.
– И насколько хуже? – спросил я, складывая портреты один на другой, бородача славянской наружности поверх еще одного бородача.
– Ты сам все видел, – сказал Дойл. – Она такого прежде никогда не делала, по крайней мере с детьми. Иногда Энола позволяет себе проучить полного засранца, но напугать девчонок – это на нее не похоже. Я не помню, чтобы она когда-то говорила такое.
Я сказал ему, что волноваться не стоит. А что еще я мог сделать? Не уверен, что смог бы ему объяснить, как сжигание вещей принесет нам избавление. Тем более что полагался я на призрачную надежду.
– Перетащим все это на пляж. Сестра, возможно, не помнит этого, но прежде она очень любила костры. Они благотворно влияют на душу.
Дойл отнес вещи вниз, на песчаный пляж, а там свалил в кучу на ровном месте в начале дамбы, подальше от полчищ ползающих повсюду мечехвостов. Мы наблюдали сверху за этой копошащейся массой.
– Не волнуйся, – сказал Дойл. – Я найду растопку и дрова. Посмотрим, как это у меня получится. Ты иди за Энолой, а я займусь остальным.
– Спасибо.
– Поторопись. Пахнет грозой.
Дойл вытащил из-под дамбы кусок плавуна, пригнанного волнами и застрявшего между столбами и досками. Электрический Парень умел не только жонглировать электрическими лампочками, он еще открывал скрепками замки и чуял запах грозы. Я едва не расхохотался.
Энола была очень благодарна мне за спасение. Фрэнк обо всем рассказал своей жене, в том числе о доме, гадании ему по руке и ежеутреннем кофе, который моя мама ему приносила. Когда Ли открыла дверь и увидела меня, ее лицо посерело. Секунду мне казалось, что ее вот-вот стошнит.
– Извините, – сказал я.
– За что? – спросила Ли. – Ты же ни в чем не виноват.
– С вами все в порядке? – поинтересовался я, потому что так положено говорить, а еще изображать приличествующие случаю эмоции.
Она рассмеялась, громко и зло.
– Со мной все будет в порядке, – сказала Ли, опершись о дверной косяк. – А что мне еще остается? Разве у меня есть другой выход? Я могу на нем отыграться по полной. Я могу выгнать его из дома – пусть катится на все четыре стороны, но мне хочется посмотреть, как он будет себя чувствовать после недельного сна в мастерской. А потом видно будет… Никто так не любит, как тот, кто раскаялся. – Она улыбнулась, но ее взгляд оставался жестким. – Видно будет.
На секунду я представил себе прямую спину Алисы, мелющей кофе, а потом Фрэнка, лежащего, скрючившись, в мастерской на дне будущей дори.
Потом из-за ее спины выглянула моя сестра и мы оставили Ли в одиночестве.
– Ночью и сегодня утром она расправлялась с запасами вина, – сказала Энола, когда мы шли по подъездной дорожке. – И это была не одна бутылка, а все вино, что нашлось в доме. Удивительно, что она еще жива.
– Думаю, Фрэнк также принимал в этом участие. В мастерской полным-полно пустых бутылок. А Алисы в доме нет?
– Нет.
– Вот и хорошо.
– Мерзко на душе, – мягким тоном сказала Энола. – Я любила их. Ты, будучи ребенком, не фантазировал насчет того, что они твои родители? Хотя бы разок?
– Иногда бывало, – признался я. – Невольно как-то получалось.
Но если бы не Фрэнк, наша жизнь, вполне возможно, не была бы настолько ужасной.
– С Ли все будет хорошо, – сказал я.
– Она крепкая, – согласилась Энола, а потом добавила: – Вы добрались до тех вещей, за которыми пришли?
Я кивнул.
– Дойл взломал замок на амбаре Фрэнка. Ты знала, что твой приятель – вор?
– Мы все кем-то являемся.
Сгустились сумерки. Дойл был прав: с запада надвигался грозовой фронт. Нам следовало поторапливаться. Я сказал Эноле, чтобы она шла на пляж. Мне надо было еще зайти в дом.
Спускаться по лестнице с журналом и бутылкой жидкости для зажигалок в руках было не так-то легко. Проще было бы сбросить все это вниз, но тогда на журнал наползут мокрые мечехвосты, а мне совсем не улыбалось, чтобы листы напитались влагой и не горели.
А возможно, мне просто хотелось подольше подержать в руках единственную частичку нашей истории.
Когда книга по-настоящему зацепит тебя за живое, ты навсегда сохранишь в памяти текстуру ее обложки, ее вес, то, как она лежит у тебя в руке. Мой палец помнил все шероховатости кожи переплета, сухую пыль красной гнили, которая ползла по корешку. Я помнил текстуру каждой страницы, хранящей тот или иной секрет процветания Пибоди. Библиотекари помнят запахи клея и пыли, а также, если повезет (а я был везунчиком), запах пергамента, куда более резкий, но в то же время более приятный, чем запахи целлюлозы и хлопчатобумажной ткани. Мы можем погрузиться в книгу и оставаться там до тех пор, пока краска шрифта и кровь не перемешаются. Возможно, я слишком цеплялся за этот журнал. Быть может, мне уже никогда не попадется в руки настолько старая книга или книга, которая так западет мне в душу.
На берегу стояла моя сестра. Ее нет в этой книге. Когда я нес сестру, раны на ее ногах кровоточили и часть ее вливалась в меня. Кем бы я стал, если бы расстался с тем прекрасным, что составляло мою сущность? «Я буду о тебе заботиться», – всегда говорил я ей, пусть даже это приносило мне одни неприятности.
Я перенес всю тяжесть своего тела на здоровую ногу, и она глубоко ушла в песок.
Дойл сложил из плавника шалашик. Под ним грудой лежали занавес и портреты. Энола насовала всюду, где только можно, сухой травы. Я поблагодарил Дойла, а он лишь пожал плечами:
– Не уверен, что загорится. Тот край, где цепи, я положил вниз. Думаю, так влага из песка не сразу намочит ткань.
Я потряс бутылкой с жидкостью для зажигалок.
– Надеюсь, это проблемой не станет.
Его глаза сверкнули.
Вокруг нас копошились мечехвосты. Энола, ругаясь, ногами отшвыривала их подальше. Да, я помнил, как заходил в воду, а они пытались взобраться на меня. Из-за этого моя кожа зудела. А еще я помнил, как сестра сидела на берегу, поджав колени к груди и опустив на них подбородок с каменным выражением лица.
Я все исправлю.
Я поливал дерево и ткань горючей жидкостью, сдавливая пластиковую бутылку до тех пор, пока в ней не осталось ни капли. Запах жидкости для зажигалок оказался настолько резким, что мечехвосты поползли прочь, образовав около нас круг. Вырвав из журнала лист, я положил его на занавес, под сложенные шалашиком деревяшки. Лист был испорчен водой, рыжие и синие чернила расплылись кляксами. Прочитать имена просто невозможно. Свернув лист в трубочку, я поднес его к зажигалке Энолы.
Стоило мне лишь прикоснуться горящей бумагой к ткани занавеса, как он полыхнул. Стена жара заставила меня отпрянуть, а на месте шалашика возник яркий, словно цвета пленок «Техниколор», огненный цветок. Мне опалило ресницы и брови, и, потеряв равновесие, я упал. Энола и Дойл, подхватив меня под мышки, оттащили от огненного ада. От костра одновременно воняло дымом и гнильем. Жар опалил мне и волоски на предплечье. На кожу опускался вонючий пепел.
– Блин! – воскликнула сестра.
Она продолжала повторять это слово, как мантру, но потом внезапно рассмеялась.
Когда вся жидкость выгорела, огонь поутих. Теперь это был обычный костер из сухой гнилой древесины. Я наблюдал за тем, как проклятие превращается в золу и пепел.
Мечехвосты отползали подальше от огня и ближе к воде. Энола и Дойл уселись на песок рядом со мной. Теперь костер мало чем отличался от тех, что разжигали Фрэнк и мой отец. Если я переберусь на противоположную сторону, то, чего доброго, увижу лицо Алисы, а отсветы пламени будут высвечивать ее веснушки. Если я зайду в воду, то, вполне возможно, увижу там плавающую маму или услышу, как она зовет меня по имени: «Саймон!»
– Ты сжег книгу, – сказала Энола.
Сестра в знак благодарности слегка прикоснулась лбом к моему плечу. Ей всегда было непросто выразить свою мысль словами.
– Я все сжег. Думаю, я увлекся всем этим из-за того, что потерял работу.
– Ну и как, полегчало?
– Да.
Лодыжка ныла. Голова до сих пор болела в том месте, которым я ударился. Глаза налились кровью. У меня было мерзко на душе оттого, что я уничтожил бесценную книгу. Я едва сам себя не сжег… И все же я испытывал облегчение.
Мы наблюдали за тем, как огонь пожирает занавес, оставляя нетронутыми лишь цепи, свернувшиеся змейками на песке. Ветер, подхватив искры, понес их в сторону океана. Остатки журнала Пибоди превращались в пепел.
Дойл шмыгнул носом. Небо прочертила голубоватая вспышка, предвестница грозы. А потом пошел дождь.
Глава 24
Колесо наехало на камень, и фургон тряхнуло. Пибоди подпрыгнул, а полученные им письма, разлетевшись, упали на пол. Хозяин цирка не желал быть извозчиком, он отдавал предпочтение чтению книг, разработке дальнейшего маршрута следования труппы и обдумыванию новых номеров. Но из-за таких предпочтений приходилось страдать от лихачества Ната. Вчера силач заехал колесом на большой корень, в результате чего содержимое чернильницы пролилось на единственную подушку, которую он не пожертвовал для номера «четы Ферез».
Он двигался от простого к сложному и все более утонченному. Чтобы осознать этот прогресс, стоило лишь взглянуть на Амоса: от дикаря – до мистика, щеголя, женатого на красавице, настоящей леди. Удивительное превращение! Следующим его шагом будет убрать труппу с дороги. Пибоди покусывал кончик пера чайки. Он предпочитал перья чаек гусиным. Эти птицы, конечно, неприятные, но их перьями сподручнее писать. Они твердые и в то же время гибкие, так что ими хорошо рисовать.
Количество дней, проведенных в городах, было ничтожно по сравнению со временем, затраченным на дорогу. У него не было денег ни на что, хотя бы отдаленно похожее на арену, на которой он упражнялся в верховой езде. «Судно», – решил он. Когда у них будет судно, они смогут плыть на нем от города к городу, сходить на сушу, давать представления, а ночи будут проводить на борту. Фургон подпрыгнул: колесо попало в выбоину. На судне он забудет о непроходимых дорогах и невнимательности Ната.
Пибоди вернулся к чтению полученного от сына письма. Захария знал маршруты следования отца и имел обыкновение отправлять письма в города, в которые Пибоди часто заезжал. В меблированных комнатах в Таннерс-Ферри его ждала корреспонденция за несколько месяцев. Последнее письмо от сына пришло из Филадельфии. Июнь 1798 года. Пибоди скривился. Если бы он только знал, что Захария будет в Филадельфии, то не поехал бы в Нью-Касл, а встретился с мальчиком… с мужчиной, поправил он себя. Захария уже не тот юнец, которого он заставлял тренировать ловкость рук. Он уже вырос.
Дорогой отец!
Я уверен, что тебя дождется это письмо в Таннерс-Ферри. Раз ты в городе, купи просмоленную ткань. Помнится, крыша твоего фургона течет. Береги себя. Ты уже не в том возрасте, чтобы рисковать своим здоровьем.
Я сейчас работаю под руководством замечательного человека – мистера Джона Билла Рикетса. Уверен, что тебе также понравилось бы его общество. Он веселый малый и самый искусный наездник из всех, кого мне посчастливилось встретить в своей жизни. Я стал свидетелем того, как он танцевал хорнпайп[18] на спине лошади. Не исключено, что вы встречались в прошлом. Мистер Рикетс говорит, что он обучался верховой езде у Джоунсов в Лондоне. Я знаю, что ты все время работал у Астлея, но мне кажется, что мир довольно тесен. Зрелища, организовываемые мистером Рикетсом, выше всяких похвал. У него есть две арены – в Филадельфии и Нью-Йорке. Обе вполне подходят для зрелищных конных представлений. Между номерами выступают прочие циркачи. Мужчина, которого все зовут Спинакута, ужасный молчун, стал моим наставником. Мистер Спинакута выступает на натянутом канате. На нем он чувствует себя столь же непринужденно, как мистер Рикетс на спине лошади. Отец, я видел, как Спинакута танцует на канате с корзинами, привязанными к его ногам!
Я выступаю в перерывах между главными номерами в комедийной сценке. Мне приходится падать после того, как меня бьют мешком с мукой. До мастерства мистера Спинакуты мне еще далеко, но, учитывая то обстоятельство, что я до сих пор не сломал себе руки, я уверен, что со временем наберусь опыта.
Мистер Рикетс – именно тот человек, у которого следует учиться, как вести дела, отец. Полагаю, единственное, чего тебе не хватает, – своей собственной арены. Я также считаю, что мистер Рикетс может извлечь выгоду из знаний, которыми ты обладаешь. У него неплохо подвешен язык, но он даже наполовину так не красноречив, как ты. Хотя мистер Рикетс самоуверен и опытен, если, не дай бог, он упадет с лошади, его дело некому будет продолжить. Ты достаточно мудр, чтобы оставлять лицедейство другим, а самому заниматься деловой стороной предприятия.
Не могу сказать, что меня сильно расстроило известие о бегстве мадам Рыжковой. Хотя тебя наверняка удручает то, что ты несешь убытки из-за утраты ее доходов, должен чистосердечно признаться, что всегда считал эту особу несносной. Хотя с моей стороны глупо об этом писать, но я уверен, что когда-то именно мадам Рыжкова убила маленькую лягушку, которая у меня была. Не жалей о ее уходе.
Мне надо заканчивать. Мистер Спинакута говорит, что пора репетировать. Бесконечные репетиции. Я буду проживать по этому адресу до осени. Потом я перееду в Нью-Йорк, где находится вторая арена мистера Рикетса. Я остановлюсь в пансионате Ларстена. У меня остались самые лучшие воспоминания о нашем пребывании там. Желаю тебе здравствовать, папа.
Твой любящий сын ЗахарияПибоди осторожно засунул письмо в карман камзола. Он скучал по сыну, но зависть уколола его прямо в сердце. Рикетс был тем, кем он не смог стать из-за того злосчастного падения, когда работал у Астлея. Осторожно, чтобы ничего не забрызгать чернилами, Пибоди обмакнул перо в чернильницу и нарисовал сначала кривую и несколько пупырышков, а затем резко провел прямую линию. Прошло некоторое время, прежде чем он понял, что рисует мерзкое создание, которое Бенно вытащил из мертвой реки. Он с легкостью мог бы назвать его морским дьяволом и показывать в качестве диковинки. Пибоди обдумывал подобную возможность, но решил, что не воспользуется ею. Уж слишком неприятны были воспоминания об умирающей на берегу рыбе. Плохо дело.
Пибоди подул на рисунок. Пусть быстрее высыхают чернила. Мир меняется. К счастью, он с успехом производил всяческие преобразования.
«Новый потенциал, – думал Пибоди. – Все новое делает нас моложе».
Затея с «четой Ферез» оказалась удачной. Найдя в журнале свободное место, старик принялся чертить довольно подробный план речного судна. На нем должно всем хватать кают, также необходимо место для сцены. При этом у судна должна быть небольшая осадка, чтобы иметь возможность плавать по неглубоким рекам.
Пока Пибоди рисовал и мечтал, вереница фургонов ехала по извилистой дороге, которая тянулась вдоль реки Катоба. Оси скрипели, едва выдерживая такие нагрузки. Двери фургонов набухли, их часто заедало. Необычная влажность висела в воздухе туманом, а фургоны все двигались слепо вперед.
Глава 25
23 июля
О штормах в Напаусете особо распространяться не стоит. Достаточно лишь сказать, что неопасными и немощными они просто быть не могут. Даже поклонник театральщины, грома и молнии здесь будет бояться стать жертвой наводнения либо быть раздавленным рухнувшим деревом.
Ругаясь и скрежеща зубами, мы под проливным дождем взбирались по лестнице. Ручьи воды начали стекать с обрыва вниз, вымывая на своем пути прибрежную траву. Энола тащила меня за руку. Дойл бежал за нами.
– Замечательно, мужик! Просто замечательно! – крикнул он мне вдогонку.
Шторм такой мощи означает, что Халл-роуд уже затоплена, а поворот у школы стал непроходим для обычного транспорта. Все, кто не успел вовремя выбраться из порта, застряли там надолго. Если кто-то настолько смел, что рискнет прорваться, море плавающих на Мейн-стрит автомобилей, без сомнения, охладит его пыл.
Мы заскочили в дом.
– Здесь сидеть во время шторма нельзя, – сказал я.
Энола скрылась в кухне.
– Где у тебя штормовые свечи?
– Посмотри в шкафчике над холодильником.
Вторую половину моего ответа заглушил громкий треск. Дойл и я подняли головы. Энола выглянула из кухни. На потолке в гостиной образовалось темное пятно, штукатурка прогнулась, словно живот беременной женщины, с потолка закапало.
– Блин! – простонала Энола.
Пару секунд спустя струя дождевой воды ударила в пол с такой силой, что все мы подпрыгнули от неожиданности. А затем последовал безумный танец горшков, кастрюль, мисок, ведер – всего того, чем я уже много лет не пользовался и о существовании чего даже успел позабыть. Мы опорожняли емкости по мере их наполнения и ждали, когда польется в других местах. Это выбегание с полными и возвращение с пустыми емкостями продолжалось больше часа. Кожа на руках у нас сморщилась, мокрые волосы прилипли к головам.
– Мы не можем здесь дольше оставаться, – взглянув на меня, сказала Энола. – Потолок вот-вот рухнет. Саймон! Надо уезжать.
Раньше я бы пошел к Мак-Эвоям и попросился переждать шторм у них, лежа на диване. Теперь об этом и речи не могло быть. Можно было бы поехать в библиотеку, но у меня теперь нет ключей. Искать убежище в порту бессмысленно.
– Поедем к Роузу, – прикоснувшись к руке моей сестры, предложил Дойл.
Энола отдернула руку с таким видом, словно ее ужалили, и отрицательно замотала головой.
– Мы туда не доберемся, если Халл-роуд затопило.
Крыша жалобно скрипнула.
– Собираем вещи – и в машину, – распорядился я. – Думаю, я знаю, куда мы поедем.
Я надеялся, что принял правильное решение.
Дойл и Энола выбрались наружу. Я захватил свою записную книжку и украденные библиотечные книги. Из стенного шкафчика извлек сумку, в которую все это и сложил. Мамино пальто до сих пор там висело. Маленьким я смотрел на его темно-коричневую шерстяную ткань, пока мама натягивала на меня тугой красный зимний комбинезон, застегивая молнии и пуговицы. Я плакал. В комбинезоне было очень жарко. Он был на меня мал, а еще ткань была не голубого, «не того» цвета. Вытащив из кармана скомканное бумажное полотенце, Паулина грубо вытерла мой нос, а затем нахлобучила колючую шапку мне на уши. «Нельзя, чтобы ты замерз. Если ты не перестанешь плакать и не успокоишься, твои ресницы примерзнут к коже». Я почти… почти помню выражение ее лица в тот миг. Пальто отца рядом, грудь к груди.
Я прикрыл дверь и услышал барабанную дробь капель изнутри. Не буду смотреть. Завтра все увижу. А теперь надо срочно отсюда уезжать.
Энола и Дойл ждали меня в машине. На сестре была темно-синяя толстовка с капюшоном. Руки глубоко засунуты в карманы. Дойл уселся сзади. Рядом с ним на сиденье – брезентовая сумка. Я спросил, что в ней.
– Вещи, лампочки. Без них – никуда.
– А куда мы едем? – спросила Энола.
– К Алисе.
Они оба присвистнули.
– Думаешь, Фрэнк ей рассказал?
– Не знаю. Надеюсь, что нет.
Добраться до Вудленд-Хайтса оказалось совсем непросто. Путь преграждали упавшие ветви деревьев, а из-за потоков воды, стекающих по лобовому стеклу, ничего не было видно. Никто и слова не проронил, пока мы не припарковались перед домом, где жила Алиса.
– Мы легко могли попасть в аварию, – сказала Энола.
Сестра смотрела на окна, в которых горел свет, на опрятные маленькие балкончики, на стеклянные двери, на светящие на крыльце лампы… Я понятия не имел, о чем она думала.
– Если мы пойдем с тобой, больше шансов, что она нас впустит.
Алиса может меня не впустить, если подумает, что я что-то замыслил (а я, часом, ничего не замыслил?), но она уж точно не оставит трех человек стоять под ливнем во время шторма. Я позвонил, но никакой реакции не последовало. Мы прождали несколько минут под проливным дождем. Дойл покачивался вперед-назад, с носка на каблук. Щупальца на его коже дергались.
– Ее нет дома, – предположила Энола.
Дойл пожал плечами:
– Она может не открывать нам, потому что видит странного парня, всего в татуировках, который посреди ночи звонит ей в дверь. Лучше бы я остался в машине. Я вообще всегда так делаю.
– Она не такая, – возразила Энола.
– Подождем. Наберитесь терпения.
На этот раз я постучал в дверь кулаком.
Засов отодвинули. Замок щелкнул. Алиса слегка приоткрыла дверь. Глаза ее опухли, нос покраснел. На лице – следы долгих рыданий.
Значит, Фрэнк все ей рассказал. Напрасно мы сюда приехали. Хуже всего то, что Алиса не привыкла плакать. Вообще-то учиться этому лучше не начинать.
– А-а-а… Саймон! – воскликнула она. – Что ты здесь делаешь?
Я сообщил ей о протекающей крыше и о том, что нам негде укрыться. Алиса открыла дверь чуть шире. Теперь она стояла перед нами в поношенном банном халате голубого цвета, пижамных штанах и уродливого вида серых носках, один из них был с дыркой. Из дырки высовывался ее палец. Алиса перевела взгляд на Энолу, затем на Дойла. Электрический Парень в знак приветствия помахал рукой. Моя сестра пробормотала что-то невразумительное.
– Я заварю кофе, – предложила Алиса.
– Не стоит беспокоиться.
– Мне просто надо чем-то себя занять. Заварить кофе – то, что нужно.
Мы ввалились в прихожую. Алиса попросила нас разуться. Мы свалили обувь у порога в кучу. Земля встретилась с землей, а песок – с грязью, принесенной с карнавального шоу. Разувался ли я, когда был здесь последний раз? Хотя я бывал у Алисы много раз, саму квартиру я почти не запомнил. Я помнил лишь ее, стоящую, опершись о кухонный стол; ее, падающую на кровать… А еще я помнил свет, льющийся из холодильника. Пожалуй, Алиса была единственной в мире женщиной, которую не портил этот мертвенный свет. Энола и Дойл как-то ухитрились усесться на заваленный подушечками диванчик для двоих. Коричневые птички на обивке скукожились, прижавшись друг к дружке. Серо-коричневые и персиковые тона, преобладающие в квартире, делали вещи плоскими. Я уселся в кресло, стоявшее рядом.
– А здесь мило! – произнесла Энола.
– Если тебе нравится подобная обстановка, – сказал Дойл.
– Мне особо не с чем сравнивать.
– Мне тоже. Я больше люблю жить на колесах.
– И я… тоже люблю, – заявила моя сестра.
Вернулась Алиса, неся на белом подносе три чашки с кофе. Она ссутулилась, словно внутри нее что-то надломилось. Поставив поднос на кофейный столик, хозяйка плюхнулась в мягкое кресло персикового цвета и поджала под себя ноги.
– Оставайтесь у меня до тех пор, когда по дорогам можно будет проехать, но на ночь, боюсь, я вас у себя оставить не смогу, – сказала она. – Сегодня ночью я должна побыть наедине с собой. Договорились? Дело не в вас.
– Ты разговаривала с отцом? – спросил я.
– Скотина! – взорвалась Алиса, уставившись на мое плечо, на что-то, видимое только ей. – Он словно рана, которая не перестает кровоточить. Сейчас, когда все раскрылось, он говорит без остановки. Все эти годы он и словом не обмолвился о том, что натворил, а теперь изливает душу, рассказывая в мельчайших подробностях. Эгоистичный ублюдок!
Голос ее сорвался. Она шмыгнула носом, издав неприятный звук.
– Почему некоторые люди не понимают, что есть такие вещи, о которых вообще не стоит рассказывать? Если держать их в секрете, меньше боли принесешь близким. Конечно, тогда мучают угрызения совести, но это плата за подлые поступки.
Справа донесся едва слышный шелест. Это Энола тасовала свои карты. Дойл отпил кофе, держа чашку так, словно это было хрупкое хрустальное изделие.
– Извини, – произнес я.
– Это я должна извиняться, – возразила Алиса. – Он разрушил твою семью, да и мою, пожалуй, тоже.
Ее подбородок задрожал.
– Э-э-э… – начал я и замолк, уставившись на свою чашку.
Я не знал, что на это сказать. Кофе представлял собой слегка подогретое пойло, но Дойл осилил всю чашку. Ни у кого не хватило смелости отказаться.
– Я привез книги, которые взял в библиотеке.
– А-а-а, – едва слышно произнесла Алиса. – Пустяки. Купферман – дура. Она зациклена на порче материальных фондов. Недавно Купферман поймала Марси за тем, что та пила кока-колу не в комнате для персонала. Теперь Марси наказана: ей придется три недели расставлять книги на полках.
– Не может быть!
– Я серьезно.
Алиса шмыгнула носом и принялась мять кончики своих волос между пальцами. Я помнил, как в детстве она высасывала соленую воду из кончиков своих косичек.
– Зачем ты их вообще брал?
– Мама читала мне одну из этих книг в детстве, – пожав плечами, сказал я. – Случалось ли так, что в прошлом тебе нравилось что-то очень сильно, настолько сильно, что начинало казаться, что оно твое?
– Хорошо иметь то, что любишь. Оставь себе.
Алиса зажмурилась и сцепила пальцы рук у себя на коленях. Я уже начинал сомневаться в том, что речь идет о книгах. Алиса вновь шмыгнула носом, но больше ничего не сказала. Повисла гнетущая тишина. Я поймал взгляд Энолы. Надо уходить. Я поставил чашку на столик.
– Я дам тебе ключи от библиотеки, – вдруг заявила Алиса.
– Что?
Она потерла глаза и встала.
– Возвращаться домой тебе нельзя, и дело не только в том, что крыша протекает. Лучше провести ночь в библиотеке.
Она направилась по коридору в свою спальню, где стоит абстрактная скульптура из панцирей мечехвостов. Алиса так и не знает, с какой стати ей полюбились эти твари, если, конечно, Фрэнк ей и об этом не рассказал.
– Она пьяна, – сказала Энола.
– Вполне возможно, – согласился я. – Ей простительно.
Алиса вернулась и сразу же привалилась к стене. Точно, пьяна. Господи! Как же я этого сам не заметил?
– Я хотела тебе что-то сказать, но забыла…
Женщина махнула в мою сторону связкой ключей, а со второго раза бросила их мне.
– Код не изменился. Купферман грозилась его сменить, но пока руки у нее не дошли.
– Спасибо.
Мы все встали. За окном бушевал шторм. Дождь хлестал по окнам и двери.
– А-а-а… – Алиса ущипнула себя за кончик носа, после чего слова потекли из нее потоком. – Лиза Рид из Норт-Айсла звонила мне и сказала, что не смогла дозвониться до тебя. Телефон отключен. – Она перевела дух. – Лиза проверила информацию о том несчастном случае и выслала то, что узнала, тебе по электронной почте. Черт! Забыла название… немного странное… «Морские развлечения. Пибоди и сыновья». – Алиса наморщила лоб. – Это тебе о чем-нибудь говорит?
– Да.
– Ну и ну! Лиза Рид. Ты задействовал тяжелую артиллерию. Лиза также просила передать, что Раина узнала кое-что о Маллинсах.
– Ну и?
– Последний из известных их потомков – некий Черчварри. Он живет на Среднем Западе.
Я слышал ее голос, но мне казалось, что он долетает из соседней комнаты.
– Постой! А это не твой?..
– Он самый, – ответил я.
Черчварри – из рода Рыжковых. Тысячи мыслей зарождались и умирали в моей голове. Алиса могла не так понять либо не расслышать. Это простительно. Она слишком измучена. Надо самому позвонить Раине. Двойная проверка. Все дальнейшее происходило как во сне. Зачем Энола и Дойл стоят возле машины под дождем, раз дверь открыта? Как так получилось, что я остался наедине с Алисой на пороге ее квартиры?
Она подалась вперед. Волосы упали ей на лоб, она их смахнула.
– Извини… Извини, но я не могу позволить тебе сейчас остаться. Я ужасно выгляжу. Я пьяна, и мне надо побыть наедине с собой. Я просто гляжу на тебя…
– И видишь мою маму.
– Это пройдет, – пообещала Алиса. – Мне нужно время, чтобы немного успокоиться.
– Дело не в тебе, а во мне.
Люди часто это говорят, но на этот раз я говорил именно то, что думал. Если бы не я, Фрэнк ни за что бы не рассказал правду дочери.
– Ладно. По утрам у меня обычно бывает ужасно заспанное лицо, – сказал я.
Слабая улыбка.
– Нет. Я знаю все твои лица. Мои ключи оставишь в ящике для возвращаемых книг. Я попрошу Марси впустить меня утром.
Я мог бы нагнуться и чмокнуть ее в щеку, но я чувствовал, что сейчас этого делать не нужно. Алиса потерла лицо. Я прикоснулся к ее руке. Мы обнялись, это произошло само собой. Я держал ее в объятиях некоторое время, ничего не говоря. Она прижалась щекой к моему плечу. Ее тело содрогалось от неслышного плача. Губы неуклюже коснулись моей шеи, а затем она отстранилась.
– О’кей, – произнесла Алиса.
– О’кей.
Она взглядом провожала меня, бредущего под дождем к машине. Даже сквозь потоки воды, заливающие ветровое стекло, я видел ее в дверном проеме. Алиса стояла там, пока наша машина не выехала со стоянки.
– Господи! – прошептала Энола. – Алиса Мак-Эвой в тебя влюбилась.
Я надеялся, что так оно и есть.
Пока мы ехали, наш автомобиль кренился и ходил ходуном. То и дело приходилось объезжать огромные лужи, упавшие ветви деревьев и много других препятствий.
– Останови. Лучше я сяду за руль, – сказала Энола, кладя руку поверх моей.
– Нет.
Хемлок-лейн была затоплена. Лужайки перед летними домиками превратились в настоящее озеро. Крутой поворот налево – и мы стали отдаляться от океана. Автомобиль взбирался по холму, на котором стоял монастырь, где святая братия сейчас наверняка читала молитвы, которые полагается произносить во время шторма.
– Черчварри – потомок Рыжковой. Именно он меня разыскал. Он должен был знать.
– О чем?
– Ни о чем.
– Тот книжник? – не унималась сестра.
– Да. Ты разорвала рисунки карт Таро, которые принадлежали его предку.
– Блин! – произнесла она, но как-то вяло.
А у меня не было сил все ей объяснить. Раньше я думал, что найду в конце пути Фрэнка, поскольку портреты хранились в его семье. То, что моя мама передала ему перед смертью свои карты, я считал романтическим порывом или проявлением сентиментальности. Что может быть проще?
– Возможно, ты права, – сказал я. – Возможно, ему с самого начала что-то было от меня нужно, вот только черт меня побери, если верны мои догадки относительно того, что именно.
Дорога делала крутой поворот. Мое почтение Роберту Мозесу[19]! Сумка Дойла, скользнув по сиденью, ударилась о дверцу.
– Он может зациклиться на вас, – тихим голосом произнес Дойл. – Вы имеете талант притягивать людей.
Я посмотрел на отражение парня в зеркале заднего вида.
– О чем ты?
– Я слыхал о вашей семье еще до того, как попал к Роузу. Сначала я не знал, что это вы, но потом Энола кое-что рассказала, я увидел, как она плавает, и все стало на свои места. В вашу мать по уши влюбились и ваш отец, и мистер Эвой.
Фамилию Фрэнка он произнес почему-то с уважением, что совсем не вязалось с тем, что мы недавно жгли его вещи. Дойл кашлянул.
– То же со мной. Энола запала мне в душу. Понимаешь? Том, похоже, в нее влюблен. У вас, ребята, есть талант привлекать к себе людей.
Энола шлепнула рукой по обивке сиденья и визгливым голосом воскликнула:
– А не пошел бы ты с этим своим «запала в душу»! Что ты слышал о нас и от кого?
Дойл вытянул руку вдоль спинки заднего сиденья и нервно забарабанил по ней пальцами. На концах его пальцев вспыхивали крошечные искорки.
– Я некоторое время работал в шоу, колесившем по обеим Каролинам. У нас там был парень по имени Дейв. Он прыгал с вышки в бассейн. Крутой мужик. Так вот, в перерывах он любил рассказывать старые цирковые байки. Он первым рассказал мне о семье, женщины которой называли себя русалками, потому что могли очень долго оставаться под водой. Вот только каждая из них рано или поздно тонула. – Дойл пожал плечами. – Он говорил, что это как с Летающими Валленда. Долгая история и много несчастных случаев… Как-то так.
Энола резко повернулась на своем сиденье.
– Какого черта ты мне раньше об этом не рассказывал? Или считал, что мне знать не следует?
Свет фар высветил нечто, перегораживающее дорогу, – очень большое, но плохо различимое из-за дождя. Объехать преграду было невозможно, так как с одной стороны возвышался холм, а с другой был склон, полого спускавшийся в долину. Я ударил по тормозам. Вспышка молнии. Олень. Колеса заскользили. Черт! Вода. Зад машины занесло. Я крутанул руль. Энола завизжала. Дойл выругался. Ремень безопасности впился мне в живот, а нас продолжало разворачивать. Вдалеке призывно сверкали огни города. С заднего сиденья донесся громкий хруст. Из рук Энолы что-то вылетело. Карты! Они, разлетевшись, попадали на приборную доску и нам под ноги. Наконец колеса нашли за что зацепиться, тормоза сработали и машина остановилась.
Мы тяжело дышали, хватая ртами воздух. «Никто не ранен? Все в порядке? Блин! Блин! Все хорошо. Руки-ноги целы», – говорили мы друг другу приглушенными голосами. Оставшийся отрезок пути, спуск с холма, мы преодолевали очень медленно. Трупа оленя мы больше не видели. На следующем пологом участке, перед очередным склоном, я остановил машину. Осколки лампочек Дойла покрывали заднее сиденье. Он сметал их в кучу, а Энола тем временем подбирала карты. Что-то прилипло изнутри к лобовому стеклу, к мокрому пятну, которым стала капля, проникшая в салон автомобиля. Карта. Ногтем большого пальца я поддел ее. Темный фон, возможно черный… Трудно сказать. Высокое здание. Вспышка молнии. Я узнал карту. Она стала ветхой, но это была все та же карта, которую Пибоди перерисовал в свой журнал. Не марсельская колода. Не колода Уэйта. Я провел пальцем по нарисованным скалам.
– Отдай!
Энола вырвала у меня Башню.
Глава 26
Шарлотт заволокло густым дымом: горели мох и валежник. Хотя по слухам город быстро развивался и процветал, на поверку оказалось, что Шарлотт не очень отличается от большой деревни. Он стоял на пересечении двух дорог – Трайонской и Трейдской. Как раз на перекрестке было возведено величественное здание суда с восемью кирпичными колоннами вдоль фасада, вздымавшимися на добрых десять футов. Перед зданием суда шумел рынок, огороженный невысокой каменной стеной. Люди здесь отличались упрямством и стойкостью. Они пережили войну и ничего не забыли.
Пибоди называл таких людей мужланами. Надеясь попасть в многонациональный город с развитой промышленностью, он был очень разочарован неказистостью и малыми размерами Шарлотта.
– Мне сказали, что здесь находится сердце местной промышленности. Самые светлые умы Юга родились в Шарлотте. Так мне сказали. И вот мы здесь, а перед нами – тихое болото. Попомни меня, Амос: если поверишь россказням завсегдатаев таверн Нью-Касла, ни к чему хорошему это не приведет. Надо было направляться прямиком в Чарльстон, а здесь только время зря потеряем.
Раздосадованный, Пибоди стукнул затянутой в кожаную перчатку рукой по стене фургона.
Утром у костра он сказал членам труппы следующее:
– Сделаем все от нас зависящее. Культура – это целительный бальзам для души. А рядом, друзья мои, – поглаживая себя по бортам камзола, произнес он, – находится город, который обделен культурой, носителями коей мы являемся.
Пибоди решил, что Амос и Эвангелина станут символами прогресса и просвещения.
– Вы есть свет мира, дети мои. Уверен, что, ежели кто-то из вас и допустит досадный промах, никто в городе этого не заметит.
Преследуемые воспоминаниями о дохлой рыбе, Амос и Эвангелина предпочли бы остаться в фургоне, а не перебираться в город, но Пибоди не хотел слушать никаких возражений. Месье и мадам Ферез поселятся в таверне, владельцами которой были капитан Кук (вероятнее всего, самозванец) и его супруга. Они должны садиться за стол разодетыми в пух и прах и вести себя так, как приличествует, по мнению Пибоди, самым утонченным особам. Его затея удалась. В шляпных магазинчиках, у портных и в таверне – где бы ни появлялись супруги Ферез, они вызывали живейший интерес. В конце дня, когда Амос и Эвангелина наконец уединились в своем номере в таверне Кука, они впервые смогли вздохнуть с величайшим облегчением.
Капитан и миссис Кук отправились в Чарльстон, поручив таверну заботам Луизы Тигхе, ее сына и вечно куда-то спешащей посудомойки. Миссис Тигхе уж слишком часто стучала в их дверь, а ее сын ходил за Амосом по пятам, поскольку никогда прежде не встречал мужчину с такой прической.
– Мы обеспечим вам самый лучший уход, сэр, – заверила его миссис Тигхе, поправляя складки на накрахмаленном красном переднике. – В вашем номере когда-то останавливался сам Вашингтон. Ему здесь так понравилось, что он подарил нам свою пудру для париков. Если вам понадобится пудра, мы окажем вам честь, предоставив возможность попользоваться пудрой великого человека.
Вообще-то Амос считал, что не пристало чистоплотному человеку пользоваться чужой пудрой, но Эвангелина, покраснев, поблагодарила миссис Тигхе, прежде чем захлопнуть дверь перед ее носом. Амос растер Эвангелине спину, унимая боль, после чего они принялись укладывать волосы. Наконец они улеглись на кровать, измученные навязчивой любезностью жителей городка – любезностью, вызывавшей недоумение, учитывая состав населения Шарлотта. Эвангелина быстро заснула, но Амос долго лежал без сна. Он, приложив голову к ее животу, слушал.
На следующий день пошел дождь.
Туман окутал весь Шарлотт. Пибоди приказал возвести сцену напротив огромного здания железнодорожного вокзала, однако земля размокла, и сцена начала разваливаться под собственной тяжестью. Руки и ноги Бенно застревали в вязкой красной земле. Инвентарь выпадал из рук Мелины, а глотать огонь вообще не представлялось возможным. Лакомка и лама упирались, когда их пытались вывести из фургона. Пришлось Нату выносить маленькую лошадку на руках.
Только к месье и мадам Ферез выстроилась длинная очередь. Весть о бродячем цирке расползлась по округе. Люди приезжали со всего округа Мекленберг, готовые тратить деньги на зрелища.
Лавочки не открывались. Молодые женщины падали в обморок. Дети… Никогда раньше они не видели столько детей. Маленькие девочки просили позволения прикоснуться к рукаву платья Эвангелины либо к прядке волос. Мальчиков интересовало не только ее платье, но и одежда Амоса, столь разительно отличавшаяся от того, в чем имели обыкновение ходить местные мужчины. На них спешили поглазеть молодые возлюбленные, старые девы и пожилые люди. К ним в фургон заглянула миссис Тигхе и была поражена увиденным.
– Боюсь, что вы привыкли к более утонченным вещам, чем те, которые сможете отыскать в Шарлотте, – шепотом сказала она.
Амос лишь улыбнулся. Она бы так не думала, если бы видела клетку мальчика-дикаря.
Измученные за день, они попадали на кровать и заснули, не сказав друг другу ни слова.
На третью ночь небо над Шарлоттом разверзлось. Дождевые потоки принесли с собой грязь с холмов и труху из-под корней, все это хлынуло на город, и Шарлотт стал захлебываться в нечистотах. Бенно и Мелина не выходили из своих фургонов. Мейксел оставался с животными. Воды Катобы залили Шуге-Крик, Брайер-Крик и окрестности города. Пибоди настаивал на том, чтобы Ферезы продолжали работать.
– Замечательное место! – говорил он. – Многие политики и люди большой учености родом отсюда. Однако городок лишь аванпост прогресса. Недостатки следует чем-то компенсировать. Если люди хотят отдавать свои денежки прорицателям, значит, прорицатели должны продолжать работать.
Амос тасовал карты до тех пор, пока пальцы его не стали болеть. Эвангелина вещала, пока не охрипла. Когда она совсем не смогла говорить, Амос пустил карты в пляс, развлекая таким образом посетителей. При этом он спрятал у себя в кармане те карты, на которые после реки и дождя Эвангелине вообще не следовало смотреть.
На четвертый день Эвангелина проснулась от острой боли. Ее вопль был безмолвным.
Амос и Эвангелина не спустились из своего номера к завтраку. Пибоди потребовал от миссис Тигхе, чтобы она их разбудила. Женщина звала постояльцев, стучала в дверь, пока у нее не разболелась рука. Наконец на пороге возник Амос. При виде его, полуодетого, с торчащими во все стороны волосами, с судорожно хватающим воздух ртом, миссис Тигхе завопила. Амос преградил ей вход в номер и потянулся за картой. Когда все его попытки объясниться с женщиной не увенчались успехом, он позволил ей войти.
Шторы были задернуты. Одежда из сундуков разбросана повсюду: сапоги, башмаки, щетки для укладки волос, гребешки. В центре всего этого беспорядка, на огромной дубовой кровати, которую знавал сам Джордж Вашингтон, лежала, обхватив руками свой огромный живот, Эвангелина.
Миссис Тигхе, родившая нескольких детей, как вполне здоровых, так и мертвых, сразу же поняла, в чем дело, и сказала:
– Месье, скоро роды. Не нужно вам здесь находиться. Я пошлю мальчика за врачом.
Несмотря на все уговоры, Амос не ушел, а уселся на пол у кровати. Он потянулся к руке любимой, но та ударом отбросила его руку. Когда Эвангелину не мучили схватки, они слушали шум дождя. Гроза все усиливалась, но роженицу звуки за окном лишь успокаивали, напоминая о существовании окружающего мира.
Услышав о предстоящих родах, Пибоди прищелкнул каблуками и велел всем членам труппы следовать в таверну Мейсона, чтобы отпраздновать это событие. Вот только таверна оказалась закрытой из-за того, что воды залили винный подвальчик. Пибоди решил обосноваться в большом зале таверны Кука, стоявшей на возвышении. Выбеленные стены и мощные коричневые балки под потолком придавали комнате уюта. Эль лился рекой. Циркачи расселись на стульях, для удобства подложив под себя мягкие подушечки, и наблюдали, как улицы превращаются в болото, а потом заливаются потоками воды. Они ждали. Ребенок Эвангелины не спешил увидеть свет дня.
Послали за врачом. Сын миссис Тигхе побежал вниз по течению реки по направлению к Вэксхоз, где стоял дом врача. Мальчик застал доктора за работой: тот обкладывал свой дом мешками с песком. Его супруга лоханью выливала из окон речную воду. Мальчик передал просьбу матери.
– Женщины испокон веков рожают без чьей-либо помощи, сынок, – смахивая дождевые капли с лица, произнес врач. – А вот обложить дом мешками с песком – другое дело. Домам нужна мужская забота. Всего хорошего!
Уровень реки продолжал повышаться. Днем большие бочонки из таверны Мейсона проплыли мимо окон таверны Кука. Сквозь щели в полу начала просачиваться вода. Циркачи заткнули щель под дверью тряпками, навалили сверху мешки с песком, подперли дверь столами. Пибоди, полулежа на тахте, наблюдал, находясь в относительной безопасности, за ливнем. Бенно и Мелина сидели на стульях, а пол под ними заливала вода. Мелина попросила акробата сходить проверить, как там Амос.
– Подозреваю, рад мне он не будет, – отозвался Бенно. – И что мне ему сказать?
Акробат старался держать равновесие, стоя на пятках и мрачно взирая на все прибывающую воду.
Ближе к вечеру утонул Орен Мапотер, сын местного шляпника. Течение снесло его тело на десять миль и прибило к берегу у Пайнвилла.
Вечерело. Эвангелина безвольно распласталась на матрасе, вся покрытая потом, который имел запах железа и соли. Она до крови искусала себе губы. Амос, забравшись на кровать, гладил пальцами ее по щекам. Губы женщины двигались. По-видимому, она хотела его поблагодарить, но не смогла. Лицо Эвангелины исказилось. Одиночество проникло в нее вместе с тревогой. Амос скрипел зубами от бессилия. Если она умрет и заберет с собой их ребенка, как он будет жить? Если она умрет, оставит ему младенца, сможет ли он вырастить их дитя? У ребенка, возможно, будут ее глаза. Ребенок, быть может, будет немым. Сможет ли он полюбить дитя, убившее Эвангелину?
Ночью погиб скот на ферме Ставишей. Коровы и свиньи сгрудились в углу хлева, пытаясь вырваться на свободу и спастись. Под напором воды и животных хлев развалился, похоронив под собой своих обитателей. Те, кто выжил, представляли собой любопытное зрелище. То и дело по Шуге-Крик проплывали телки, держа морды над водой в отчаянной попытке не захлебнуться.
В речке, рядом с трупами скота, плавало тело Юстаса Вайлдера, местного пьянчужки, который накануне своей гибели коснулся губами руки Эвангелины. Он вышел на крыльцо своего дома, прокричал что-то грозе, сделал шаг и упал в воду. Его лысая голова выглядывала из воды, посверкивая в лунном свете, пока река несла его, словно бревно. Пресвитерианская церковь, не выдержав, рухнула. Церковные скамьи ударялись о стены здания суда так, словно были не тяжелее спичек. По улицам Шарлотта поплыли церковные книги.
На второй день затяжных родов Эвангелина ничего не ела, даже не пила. Мелину послали наверх с хлебом, но еду не приняли. Посудомойка, опасаясь, что неподмокшей муки скоро не останется, принялась выдавать всего по несколько галет на руки. Циркачи перебрались теперь на столы. Пибоди занял барную стойку.
Амос, сидя на кровати подле Эвангелины, гадал на картах. То, что он видел, мир его душе не приносило, но молодой человек не мог побороть в себе желание создать иллюзию того, что все будет хорошо, поэтому стал выбирать из колоды те карты, что предвещали удачу. Карта, символизирующая собой счастье, легла рядом с головой Эвангелины, а с изображением дома – у ее ног. Он думал о том, как жил до нее, – о годах, проведенных в лесу.
Ночью гроза утихла. Вода в Катобе и прочих речушках схлынула так же стремительно, как и прибывала. Последняя молния на небе сверкнула как раз в тот момент, когда родилась девочка – маленькая, молча моргающая глазенками. Отец смотрел на малышку с красным сморщенным личиком, с волосиками, такими же темными, как у ее матери. Широко поставленные, словно у животного, глаза смотрели на него. Амос ощущал тяжесть воздуха, чувствовал, как его сердце замедляет удары, входя в унисон с сердцебиением новорожденной. На темечке у девочки пульсировала жилка, и Амос подумал, как замечательна и в то же самое время хрупка жизнь. Если бы Эвангелина оставалась в сознании, она бы заметила, как Амос исчезает, сливаясь с обоями на стене, растворяясь во взгляде ребенка, у которого еще не было имени. Впервые он исчезал, переполняемый радостью.
Ночевавшие в большом зале таверны Кука проснулись. Стулья, которые прежде таскала туда-сюда вода, теперь лежали на полу. Бенно слез со своего убежища, располагавшегося почти под балками потолка. Пибоди ступил обутой в сапог ногой на разбухшую от влаги доску пола. С помощью Мейксела миссис Тигхе вытащила из-под двери тряпки, убрала мешки с песком и столы, прежде помогавшие двери противостоять напору постоянно прибывавшей воды.
В зал, осторожно ступая, чтобы не потревожить лежащую у нее на руке малышку, спустилась Эвангелина. За ней шагал Амос. Один за другим все повернулись и смотрели на них. Амос принял малышку из рук Эвангелины и передал ее Пибоди. Нежные руки Пибоди осторожно прикоснулись к ее тельцу. Девчушка зевнула. Улыбка расцвела под усами хозяина цирка. Со времени рождения сына он не держал на руках младенца.
– Дорогая маленькая наша тыковка, – принялся сюсюкать старик. – Миленькая, хорошенькая девчушка. – Он посмотрел на Амоса и спросил: – Можно?
Молодой человек кивнул. Пибоди высоко поднял малышку над головой. Все глаза устремились на хнычущего младенца.
– Друзья! – начал он. – Дети мои! Товарищи! Чувствуете прикосновение вечности? В награду за все лишения, которые мы недавно перенесли, боги, смилостивившись, даровали нам дите наших детей. Она станет дочерью нашего цирка. Такого прежде не случалось. Мои дорогие друзья! Пришло время даровать ей имя.
Амос смотрел на свою дочь и вспоминал ту ночь, когда стоял на пеньке, а Рыжкова даровала ему имя. Он ощутил невероятную усталость.
– Рут, – первым предложил имя ребенку Мейксел.
Все лица были обращены на извивающегося младенца.
– Доркас, – назвала Сюзанна имя своей любимой тетушки.
– Вероника.
– Мэрайя, – предложил Нат.
– Даниэла.
– Люсинда.
Имена назывались и отвергались, пока из кухни не вышла миссис Тигхе.
– Бесс, – предложила она.
Малышка издала пронзительный крик.
– Так звали мою мать.
– Кажется, она сама за нас решила, – сказал Пибоди, возвращая девочку матери и погладив напоследок ее по спинке. – Да будет она Бесс! К тому же мы обязаны чем-то отблагодарить добрую женщину, давшую нам пристанище.
Улыбка осветила лицо миссис Тигхе. В душах циркачей затеплилась надежда на лучшее. И с этой надеждой люди встречали новый день. Миссис Тигхе вернулась к своим временным обязанностям хозяйки гостиницы. Дверь отворилась. Снаружи полился холодный, колючий свет мира, пережившего наводнение. Небольшая волна с плеском хлюпнула через порог.
Шарлотт смыло наводнением.
– Святые небеса! – прошептал Пибоди.
Вода унесла лавчонки портных и кузницы. Мельница лежала в руинах. Здание суда развалилось, оставив после себя устремляющиеся в небо колонны, сложенные из кирпичей. Деревья, подобно мертвецки пьяным людям, валялись на холмах и вдоль берега реки. В неглубоких лужах были заметны оспины кирпичей. Там виднелась вывеска, сорванная с таверны Мейсона, а тут из жидкой грязи выглядывала погребенная в ней детская деревянная лошадка-качалка. Все было покрыто толстым слоем красноватого ила. Тот тут, то там среди обломков виднелись те же самые странные твари, которых им уже довелось видеть на реке. Паучьи лапы были безжизненно подняты к небу, колючие хвосты торчали из грязи, словно пики. Хотя океан находился далеко на востоке, в воздухе пахло морской солью.
Шарлотт исчез с лица земли. Таверна Кука осталась единственным неповрежденным зданием во всем городе.
Миссис Тигхе вцепилась пальцами в свой передник.
– А мой сын…
Посудомойка обняла и похлопала ее по плечу.
– Тише, Луиза. Он, может, еще вернется.
Миссис Тигхе, подняв голову, еще раз оглядела руины. Она искала своего сына. Взгляд ее упал на лежащий у остатков несущей стены предмет. Это оказалась филигранной работы металлическая вязь флюгера, еще недавно украшавшего крышу дома доктора. Ничтожно малую надежду вытеснил страх.
– Вы его убили, – произнесла женщина. – Вы убили его с тем же хладнокровием, с каким сейчас стоите передо мной. Никогда я не видела людей, над которыми нависает столь сильное проклятие. Это ты принесла беду! – Миссис Тигхе повернулась лицом к Эвангелине. – Ты, приехав сюда, сказала, что ведаешь будущее, то, что ведомо только Господу Богу, а потом разлеглась на кровати, отдав наш город на растерзание наводнению. Ты лишила меня сына! – закричала она и повернулась к Амосу. – Ты дьявол! Забирай ее и ребенка. Убирайтесь отсюда, а то я найду всех, кто выжил, и они вас перестреляют. Убирайтесь!
Эвангелина прижала к себе Бесс.
На окраине того, что некогда было Шарлоттом, стояли размокшие, но вполне исправные фургоны. Утонули лама и свинья, а вот до лошадей, оставленных на вершине холма близ Шуге-Крик, вода не добралась. Циркачи собирались в большой спешке. Пибоди говорил, что расстояние и время исцелят их души от перенесенных несчастий, вот только особой уверенности в его тоне не было. Прежде чем солнце достигло своей высшей точки на небосводе, караван двинулся в путь.
– Едем на север, – заявил Пибоди. – Лично я сыт по горло Югом. Филадельфия… Нас ждет Филадельфия.
Эвангелина знала, что его слова – пустое. Смотря на разруху повсюду, на странное умиротворение на лице новорожденной, она понимала, что миссис Тигхе права. Никогда на свете не было двух настолько проклятых созданий.
Глава 27
23–24 июля
Мы бежали под дождем, держась поближе к стене библиотеки. Голубое охранное освещение делало нас плоскими, словно на фотографии, вытравливая из нашей внешности всякое подобие жизни. Дойл – чернила и кожа. Энола – кожа и кости и голодный взгляд. После того как мы вышли из машины, она мне и слова не сказала. Ключ Алисы, вставленный в замок, повернулся с приятным слуху щелчком. Сирена завыла в тот же миг, как открылась дверь. Я набрал на кнопочной панели цифровой код. Мои пальцы делали это с той же непринужденностью, с какой держали ручку либо переворачивали страницу. В воздухе пахло бумагой и пылью, а еще здесь витал присущий лишь Грейнджеру уникальный запах разложения и ветхости. Я пошел к выключателям.
– Не волнуйся, мужик. Я справлюсь, – заявил Дойл.
Он подошел к столу выдачи литературы и положил руку на настольную лампу. Одна за другой, издавая характерное шипение и мигая, начали зажигаться лампы дневного света, заливая все вокруг холодным зеленоватым светом. Зрелище было жутковатым, но Дойл, когда закончил, лишь тряхнул руками с таким видом, словно это для него обычное дело, все равно что надеть на ноги туфли.
Энола шла впереди. Она заметно дрожала.
– Маленькая Птичка! – позвал ее Дойл.
Она показала ему средний палец и устремилась наверх, направляясь к китобойному архиву. Дойл решил было последовать за ней, но я схватил парня за локоть:
– Не надо. Пусть себе идет.
Энола может сердиться на кого-нибудь несколько дней подряд. Однажды она отказалась со мной разговаривать после того, как я привез к нам домой Лизу Тамсен после конца смены в «Памп Хауз». Она кричала, что от Лизы воняет старым прогорклым маслом. Понадобилось семь дней тишины и терпения, чтобы Энола призналась, что сестра Лизы подбросила ей в шкафчик в школе препарированных саранчу и кузнечиков из биологической лаборатории. Сестра смотрела на меня так, словно я с самого начала знал, что натворил. Я понимал, в чем была вина Дойла.
– Что ты о нас знаешь? – спросил я его.
– Довольно много, как я уже сказал.
Пожав плечами, Дойл огляделся, ища, куда бы присесть. Усевшись в секции периодической литературы в одно из кресел для отдыха, парень положил ноги на другое кресло.
– Мой приятель собирал цирковые байки. Он любил их рассказывать, особенно о всяких там несчастных случаях. Готов поспорить, ты не знал, что в Теннесси однажды линчевали слона.
Нет, я не знал. Ветер принялся стучать в окна. Замигал свет.
– Так вот, тот цирковой слон убил человека – то ли затоптал, то ли задушил. Я уже не помню. Город постановил казнить слона, но только никто не знал, как это сделать лучше. В конце концов решили повесить его на подъемном кране… Приятель рассказывал о крушениях на железной дороге, о пожарах, о людях, которые сломали себе шею, упав с каната или трапеции. Иногда мне казалось, что ему просто хочется увидеть, как я сам себя убью электрическим током. Я ему сказал, что в основе моего дара лежит другой принцип.
Объяснять, что это за принцип, Дойл не стал.
– Мы тогда были где-то под Атлантой. Стояла жуткая жара. Мы весь день ставили шатры. Помню, я сказал что-то вроде: «А неплохо бы иметь бак-ловушку». Тогда приятель начал травить байки о русалках. Он рассказал о том, что время от времени в цирках появляются девушки, которые могут невероятно долго не дышать под водой и плавают так, словно они полурыбы. Они появлялись в цирках с незапамятных времен. Все девушки происходят из одной семьи. Внешне они очень похожи друг на друга: черные волосы и такие худые, что кажется, их легко можно переломить пополам. Они без труда находят себе работу, потому что всегда приносят большой доход, независимо от того, где и как выступают. Люди просто с ума сходят, потому что они делают то, что, в принципе, невозможно.
Он посмотрел на меня. Невозможное встретилось с невозможным.
– Как в каждой из его историй, в этой тоже была своя изюминка.
– Все они умирают.
– Да, – подтвердил Дойл. – Все они тонут. Практически никто из русалок не дожил до тридцатилетнего возраста.
– Ты его спрашивал, откуда он о них узнал?
– Нет. У Дейва были свои способы собирания цирковых баек. Подозреваю, что большинство из них – чушь собачья. Трудно поверить в тонущих русалок…
– Но теперь-то ты веришь?
– В то, что ты можешь долго задерживать дыхание под водой? Я сам видел, как ты плаваешь. – Он усмехнулся, обнажив кривоватый зуб. – Что еще? Через пару лет после этого разговора я перешел работать к Роузу. В первый раз, когда я предстал перед глазами Тома с Энолой, старик, клянусь тебе, едва не обделался. Он спросил, знаю ли я, с кем к нему пришел. Я сказал, что она самая лучшая гадалка на картах Таро из всех, кого я встречал. Том тогда спросил, выступает ли Энола в водных номерах, а я ответил, что знаю лишь то, что она гадает на картах. Вскоре он рассказал мне ту же историю, которую в свое время я услышал от Дейва.
– Значит, ты знал, что они тонули?
Я не сказал мы. Вопрос повис в воздухе. Наконец Дойл кивнул.
– Энола не плавает, она только гадает на картах, – тихо произнес он.
Сестра ничего не рассказала ему об уроках по задержке дыхания под водой; о том, что я потратил не один час, чтобы научить ее, плывя на животе, освобождать грудь от воздуха, а затем наполнять им живот; как нырять и слушать воду. Она не рассказала ему, что мы считаем, будто наша мама до сих пор обитает где-то на глубине. «Она – там, за скалами, собирает мидий на подводных камнях. Она питается морскими гребешками. Она чувствует, когда мы задерживаем дыхание». Черный цвет купальника делал Энолу похожей на маленького тюленя, девочку-селки, которая всецело мне доверяла, позволяла держать ее голову под водой. Доверие испарилось. Энола имеет тайны как от меня, так и от Дойла.
– Я за нее волнуюсь.
– Почему мы сожгли вещи? Дело, как я полагаю, не во Фрэнке?
– Нет.
Послышался топот ног спускающейся по лестнице Энолы. Возможно, на этот раз она не станет долго на нас дуться.
– Ну и холодище! Мне бы не помешало одеяло или еще что-нибудь теплое.
Сестра крепко обнимала себя за плечи. С толстовки капало. В архиве царит холод. Холод полезен для книг.
– В комнате, где хранятся забытые вещи, всегда найдется пара курток. Это за отделом детской литературы, вниз по лестнице.
– Я схожу, – вызвался Дойл.
Он направился к лестнице, прикасаясь по пути к каждому разъему и штепсельной вилке.
– Он что, подзаряжается так?
– Понятия не имею, – сказала Энола, сжавшаяся в кресле рядом со мной. – Дойл говорит, что это здорово.
– Странный парень.
– Он в порядке.
– Ты ему не сказала, что можешь задерживать под водой дыхание.
– А с какой стати я должна была ему это говорить?
Она уставилась на свои ноги. Красные теннисные туфли были такими же мокрыми, как и все остальное. Энола сбросила их на пол. Она вся дрожала. Ноги сестра поджала под себя.
– Ты от кого-нибудь слышала о нашей семье? Если Дойл знает, то и тебе кто-то наверняка говорил. Том Роуз тотчас же узнал меня, хотя никогда прежде не видел. Я не успел его порасспрашивать. Он тебе что-нибудь рассказывал?
– Нет.
Едва заметно дернулась ее верхняя губа – нервный тик.
– А что он вообще говорил?
– Он и у меня спросил, плаваю ли я. Я ему сказала, что мама работала в цирке. Вот и все!
Вытащив карты из кармана, Энола принялась раскладывать их на подлокотнике кресла. Линия из шести карт, которую сестра быстро смахнула. Еще раз. Ее пальцы шевелились, словно ножки мечехвоста.
– Том тебе бы сказал…
Быстрый расклад из шести карт. Вновь они сметены одним движением.
– Я сказала Тому, что гадаю на картах Таро, а не плаваю. Я говорила ему то же самое, что и Дойлу, а еще предупредила, что если он будет досаждать мне подобными вопросами, то я уйду и Дойл уйдет вместе со мной.
Шелест карт. Тасование… И все сначала.
– Дойл ушел бы, а он из тех, кого терять никто не захочет. Он особенный, – сказала сестра. – Я не догадывалась, что он о нас знает.
Карты вновь зашелестели одна о другую, обмениваясь молекулами. Картон настолько старый, что карты уже давно должны были стать одним целым, единым разумом.
– Он должен был все мне рассказать.
– А зачем?
Ее руки перестали двигаться.
– А затем, что никто мне ничего не говорит. Он не говорит. Ты не говоришь. Ты думаешь, что я ничего не знаю, а я все прекрасно знаю. – Тасование карт возобновилось. – У тебя есть тайны от меня и от Дойла. – Энола бросила на меня укоризненный взгляд. – Или ты хочешь, чтобы он решил, что я способна, подобно матери, утопить себя в море?
Дойл чуть не убил меня, вытаскивая из воды. Возможно, будет лучше, если он об этом не узнает.
– Пожалуй, ты права.
– Мне интересно, как долго она это планировала. Что, если, вставая каждое утро с постели, мама думала о том, что ее смерть приблизилась еще на один день? Возможно, если живешь в ожидании смерти, жизнь кажется более драгоценной.
Развернув карты веером, Энола вновь сложила их в аккуратную стопку.
– Не думаю, что все происходило именно так, – сказал я.
– Откуда ты знаешь? Или ты от меня что-то скрываешь?
– Нет.
Повисла тишина, если не считать шелеста карт. Сестра выглядела ужасно уставшей и какой-то вылинявшей, если так можно выразиться.
– Тебе грустно?
– Я не похожа на маму, – тихо сказала Энола. – Я очень осторожна. Я гадаю на картах и не плаваю. Я не искушаю судьбу. Если ты будешь с нами, ничего не рассказывай Тому и Дойлу.
Сестра выложила аккуратный ряд карт на подлокотнике. Дурак, Восьмерка и Королева Мечей показались мне удивительно знакомыми. Карты потрепаны, рисунки выцвели. Да, я уже видел раньше эти изображения. Колода ручной работы. Возможно, трудность узнавания в том, что я видел эти рисунки выполненными светло-коричневыми чернилами. Но я хорошо запомнил задранные вверх носки обуви Дурака и искаженное страданием лицо на Восьмерке Мечей.
– Нашел тебе куртку.
Дойл взбежал по лестнице, сжимая в руках огромную черную парку. Издали казалось, что ее сшили из пакетов для мусора. Энола засунула карты в карман. Когда Дойл подошел к ней, она вскочила с кресла и позволила ему накинуть ей на плечи уродливую куртку.
– Саймон! – позвала она.
– Что?
– Под дверь затекает вода.
Под резиновым уплотнением внизу стеклянных дверей образовалось темное пятно, медленно расползающееся по зеленому ковровому покрытию.
– Блин! Дойл! А там еще куртки есть?
– Есть.
– Неси все, что найдешь: куртки, свитера, рубашки…
В Грейнджере было четыре входа: главный, два пожарных и служебный. Два вели в цокольный этаж. В комнате забытых вещей оказалось всего лишь несколько курток и прочая одежда. И на один вход не хватит. Дойл принес их, перекинув через плечо. Не человек, а живая вешалка.
– Остальное – сумки, зонтики и всякая мелочь.
Внизу находился отдел детской литературы, газеты, исторические документы и книги, которыми никто не пользовался, за исключением тех, кто писал диссертации, либо меня. Цокольный этаж быстро затопит. Не имело смысла спасать то, что внизу, поскольку вскоре вода сверху обрушится вниз. Спокойно. Но ведь все пропадет! Все на нижних полках, все эти папки – все пропадет! Я до сих пор помнил ощущения при прикосновении к каждому листку бумаги.
– Саймон!
– К главному входу! Мы заткнем там все внизу, а потом уж придумаем, что делать дальше.
Красная зимняя куртка какого-то мальчика, синяя безрукавка, шерстяное пальто (все в кошачьей шерсти), свитер в пятнах, чудесный розовый кардиган… Кажется, я видел его на миссис Уоллес. Вещи быстро напитались дождевой водой. Дойл пододвинул два кресла, чтобы удержать вещи на месте.
После этого наступило время болезненных решений.
Отделом справочно-информационного обслуживания пришлось пожертвовать ради пожарного выхода. Нижняя полка. Энциклопедии – раскрытые, с помятыми страницами – ложились одна поверх другой возле малейшей щели в двери. Мы вырывали страницы и заделывали ими щели. Надо остановить воду. Об уничтожаемых книгах сейчас лучше не думать. В любом случае они обречены. Не думать о том, как высоко поднялись ставки с тех пор, как я впервые открыл для себя Грейнджер. Не думать о том, что на этих полках можно найти ответы на все вопросы, которые могут у меня возникнуть. Не думать о том, что они являются моим собственным десятичным кодом.
Я почувствовал, что Энола на меня смотрит.
– Тебя уволили, а ты спасаешь книги, – сказала она.
Дойл выдрал из книги страницу, покрытую какими-то каракулями.
– Кто-то нарисовал тут разную хреновину.
От этого легче на душе не стало.
Когда мы уже не могли никуда засунуть и листика бумаги, когда больше ничего уже сделать было нельзя, мы поднялись по лестнице на второй этаж.
В архиве китобойного промысла было холодно и чисто. В плексигласовых витринах были выставлены оригинальные изделия: резьба по китовому усу, наконечники гарпунов и лопаты, которыми черпали ворвань. На полках стояли вахтенные журналы, грузовые манифесты, рисунки и письма в архивных коробках. Полная стерильность. Портрет молодого Филиппа Грейнджера висел у двери. Его очки с круглыми стеклами в проволочной оправе, его коротко подстриженная бородка выдавали человека ученого, но и богатого. В комнате не было уголка, не попадающего в поле его зрения. Алиса любила отвешивать шутовские поклоны, проходя мимо его портрета. Кресла здесь были мягче, чем в отделе периодики. В это место стекались деньги, оно же их и потребляло. Если мы не хотим окончательно вымокнуть, надо оставаться в архиве. Энола свернулась калачиком в одном из кресел. Дойл придвинул к ней другое кресло и сел в него. Сестра положила голову ему на плечо. Покрытая татуировками рука обняла ее за плечи. Его простили где-то между ситуациями с машиной и курткой, до подтопления библиотеки.
– Ты когда-либо задумывался над тем, что вода тебя преследует? – спросила она меня. – Сначала дом, теперь твои книги.
– Здесь мы в безопасности, – глядя на сестру, заверил я ее.
Голова Дойла начала клониться набок, как у засыпающего ребенка. Взгляд Энолы метнулся к потолку. Я решил, что она смотрит, не течет ли и здесь крыша.
– Когда я впервые начал расставлять буйки, Фрэнк сказал мне, что в моменты нашего рождения, оба раза, случались сильнейшие приливы. Волны были такими высокими, что накрывали защитные дамбы, вздымаясь выше свай. Многие боялись, что причалы не выдержат, но они выдержали. Хорошее иногда приходит вместе с высокой водой.
Сестра натянула на голову капюшон и уткнула подбородок в колени.
– Фрэнк – лгун.
Она права. Я подошел к перилам лестницы и посмотрел вниз. Темное пятно растеклось вокруг энциклопедий, сдерживающих воду у заднего выхода.
Энола заснула, прижавшись к Дойлу. Его щупальца ее обнимали. Объятия чернил и кожи. Мне некуда отсюда идти. Вода все у меня отобрала. Шторм заглушил радость, вызванную сожжением тех проклятых вещей. Получается, что я смог всего лишь сжечь вещи, имеющие историческую ценность, и уничтожил старинный журнал. Сразу после этого начался дождь. Где-то я допустил ошибку.
Я встал. Книги внизу, пожалуй, уже не спасти, но будет неправильно позволить им пропадать, не попытавшись хоть что-нибудь сделать. А еще надо посмотреть, что там нашла для меня Лиза Рид.
Дойл приоткрыл веки.
– Куда ты?
– Вниз. Хочу проверить, как там дела.
Парень едва заметно кивнул. Энола зашевелилась во сне. Одна из ее рук метнулась вперед.
– Она о тебе волнуется, – сказал Дойл. – Именно поэтому она сюда приехала.
– Ей не нужно обо мне волноваться.
Дойл огляделся. Лампочки замигали. Было непонятно, это из-за него или виноват шторм?
– Не знаю, мужик… Вокруг тебя все время происходит что-то плохое. Лучше иди работать к Роузу. Работа хорошая. Лично я себе другой не ищу.
В его голосе прозвучали едва уловимые нотки угрозы. Лицо оставалось спокойным. Один глаз наполовину открыт. Это отцу следовало позаботиться о том, чтобы плохие парни к ней не приближались. Теперь Энола оградила себя забором под напряжением.
– Я иду на цокольный этаж. Долго там не задержусь.
Мокрый пол. Тонкий слой воды поверх темно-зеленого покрытия придавал последнему красивый блеск. При каждом моем шаге раздавался чмокающий звук. В лодыжке гнездилась тупая боль. Я передвинул книги, разложил их на столах, но этого было недостаточно. Мне трудно было дышать. В воздухе стоял неприятный запах мокрой бумаги. Я перенес все, что смог, из отдела детской литературы. Я спас книги Торнтона Бургесса, сказки, «Гарри Поттера», убрал с нижних полок все, что я любил. Мне невыносимо было смотреть на то, как они тонут. Лампочка зашипела и взорвалась. Темнота окутала хранилище микрофишей. Столы слишком быстро заполнялись книгами. Уже трудно было выбирать.
Я прошелся между рядами картотечных ящичков и шкафов для бумаг. Газеты и журналы, сберегаемые на пленке, микрофиши, бумажные издания, которые еще предстоит перенести на пленку. Я не знал, что ищу, пока не нашел. «Бакен» за неделю, в один из дней которой я появился на свет. Потом я нашел издание, вышедшее сразу же после рождения Энолы. Раздел «Товарищ лодочника» знакомил с таблицами приливов и отливов, а также с прогнозами погоды. Высокие приливы, наблюдавшиеся в дни нашего рождения, схлынули без шторма. Виновным в катаклизме сочли полнолуние. После отлива дно оба раза обнажалось почти до самого Коннектикута. В еженедельнике, вышедшем после рождения Энолы, я нашел фотографию мужчины, стоявшего на песчаном дне посреди бывшей гавани. Лодки выбросило на берег. Рыба умерла. Сотни луфарей и камбал задохнулись, «утонули» в воздухе. Высокие приливы принесли не только нас, но и смерть. В голубоватом, мерцающем свете ламп я искал маму, а нашел ее шторм. Тот день, когда она умерла, оставил о себе воспоминания: я помнил, как мы ели яйца, как я провожал маму взглядом в ее последний путь. Но было еще кое-что… Внезапно налетел шквал, принеся с собой красный прилив, и берег заполонили мечехвосты.
Я подошел к моему столу – вернее, к столу, который еще несколько недель назад был моим. Он стоял на старом месте, но кое-что все же изменилось. Инструменты, с помощью которых я ремонтировал книги, исчезли, а банковскую лампу заменила лампа дневного света. Следы моего пребывания здесь планомерно стирали. Все, что осталось, – компьютер.
Я включил его, опасаясь, что может коротнуть, но обошлось. К счастью, я смог войти в свой почтовый ящик. Конечно, во время такой бури пользоваться электроникой небезопасно, но мне надо было торопиться. Сегодня двадцать третье число. Облегчения, которое я испытал после сожжения вещей на берегу, как и не бывало.
В присланном Лизой сообщении содержалась исчерпывающая информация о кораблекрушении, имевшем место во время новоорлеанского наводнения 1825 года. После нескольких дней непрекращающихся дождей целый плавучий театр пошел на дно. Нужную информацию Лиза отыскала в «Луизиана Стейт Газетт». Большинство артистов и животных погибло. Среди пяти выживших оказались Катерина Рыжкова и ее дочь Грета. Отец ребенка утонул. Владелец плавучего театра Захария Пибоди выжил, но был госпитализирован. Впоследствии он занялся менее респектабельным бизнесом – стал владельцем дансингов. Все, как я и предполагал. В конце Лиза написала: «Архив Сандерса-Бичера пытался с тобой связаться. У тебя отключен телефон. Разберись с этим. По-моему, у тебя появилась работа».
Следующим я прочел сообщение, пришедшее от Раины. Ей не хватало Лизиной выразительности. Раина просто прислала мне список имен и сокращений. Грета Маллинс, ее муж Джонатан Парсонс. Трое детей: Джонатан Парсонс млад., Ньютон Парсонс, Тереза Парсонс. Джонатан млад. умер в младенчестве. Ньютон остался холостым. Тереза Парсонс вышла замуж. Я прочел имя. Нервничая, я ударил по кнопке, дав команду распечатать текст. Спустя пару секунд зажужжал принтер. Я уставился на экран. Тереза Парсонс, муж – Лоуренс Черчварри. Один ребенок, Мартин. Остальное я мог представить. Мартин Черчварри жил ничем не примечательной жизнью букиниста, пока ему в руки не попал интересный старинный журнал. Мартин Черчварри – потомок мадам Рыжковой. Раина была лаконична, но всегда отличалась скрупулезностью.
Экран компьютера мигнул и погас. Я ощутил внутри странную пустоту. Мартину Черчварри попал в руки журнал, а потом он нашел меня. Он – Рыжков. Не поэтому ли я так много с ним общаюсь? Не это ли называется зовом крови? Нет, я просто ему позвонил… Нет, он просто прислал мне журнал, но я все продолжал ему звонить. Что-то меня к этому побуждало.
Я пошел за своей записной книжкой наверх. Энола спала, положив голову Дойлу на колени. Она лежала на двух креслах. Я схватил свою сумку. Дойл вопросительно приподнял бровь.
– Записная книжка нужна, – пояснил я.
Он ничего на это не сказал. Я решил позвонить с рабочего места Алисы. Там кресло помягче, к тому же ее стол стоит дальше от китобойного архива, чем мой. А еще там пахло ею – пахло солью и лимоном. В выдвижном ящичке ее стола, как всегда, лежало много красных ручек со слегка пожеванными колпачками. Ими она пишет во время деловых встреч. От телефона тоже пахло Алисой. Дойл стоял у перил и наблюдал за мной сверху.
Я не потрудился поздороваться.
– Вы – потомок Рыжковой.
– Саймон? Я пытался вам дозвониться. Куда вы пропали?
– У меня телефон не работает. Вы – Рыжков. Вы разве не знали? Карты, нарисованные в журнале, принадлежали вашей семье.
Старик кашлянул.
– Извините… Что?
– Мне нужно знать, зачем вы прислали мне журнал, – сказал я. – Это очень важно.
– Все было так, как я вам и рассказывал. Журнал произвел на меня огромное впечатление, но продать его я бы просто не смог… Рыжков, значит… Это точно?
– Уверен, что журнал могла бы приобрести библиотека, музей цирка, быть может. Всегда есть спрос на старые документы. Надо только знать, к кому обратиться. Вы букинист, и кому, как не вам, знать все это.
Черчварри вздохнул.
– Есть музей цирка в Сарасоте. Пожалуй, они могли бы заинтересоваться… Но вы когда-нибудь прикипали душой к какой-нибудь книге? У моей жены есть издание «Острова сокровищ». Оно все в жирных пятнах, кое-каких страниц не хватает, короче говоря, состояние ужасное, но Мари ни за что с книгой не расстанется. Я показывал ей другие издания, куда красивее, но ни одно ее не заинтересовало. Это ее книга. – Я услышал, как он придвинул стул, присаживаясь. – На аукцион я отправился за «Моби Диком». Этот журнал был выставлен на торги вместе с ним. Мне захотелось повнимательнее его изучить. Я, конечно, слишком поднял цену, но я боялся его упустить. Это, конечно же, наитие… Никому до начала торгов не позволено брать книгу в руки, но мне показалось, что этот журнал может стать моей книгой, как «Остров сокровищ» стал книгой Мари. Но когда я прикоснулся к обложке, то понял, что ошибся. Я знал, что продать его нельзя, по крайней мере в «Черчварри и сын». Я не знаю, как это объяснить, но я решил, что пришло время дарить. Я начал читать, надеясь установить, кому же можно подарить журнал… А потом я увидел имя: Верона Бонн.
– Моя бабушка, – сказал я. – Мартин! Это был ваш журнал. Ваша прапрабабушка была гадалкой в бродячей цирковой труппе. Звали ее мадам Рыжкова.
– Вы вполне уверены? – Он раскашлялся, явно не из-за болезни или старости, а только чтобы собраться с мыслями. – Удивительно. Шансы на такое совпадение ничтожно малы.
– Не думаю, что это совпадение. Такие журналы обычно хранятся в семье либо передаются вместе с шоу, но тут было иначе. Энола говорит, что не видела таких книг прежде. Журнал сначала нашел дорогу к вам, а потом ко мне. Как будто он специально нас искал.
– Удивительно! – почти радостно произнес Черчварри.
Было ясно, что он больше меня не слушает, поглощенный своими мыслями.
– Сколько лет я провел, выискивая нужные книги, а теперь книга нашла меня. Фантастика… Хотелось бы снова взглянуть на журнал. Могли бы вы переслать его мне? Хотя нет, лучше сами приезжайте. Мне бы хотелось с вами встретиться лично. Думаю, нам есть о чем поговорить. У меня такое чувство, что нас притягивает друг к другу.
– Не получится. Я сжег журнал.
– Что-о?
Под напором воды затряслась дверь пожарного выхода, которую подпирали энциклопедии.
– Что это было? – спросил Черчварри.
– Библиотеку заливает. Наводнение.
Старик издал восклицание, а затем поинтересовался, не угрожает ли это моей жизни.
– Пока нет. Я сжег журнал и вещи Фрэнка. Я подумал, что это все равно что разбить табличку с написанным на ней проклятием. Что-то вроде экзорцизма огнем, но потом разразился шторм. Мартин! Что-то пошло не так. Это меня очень тревожит.
– Думаете, вы что-нибудь упустили? – спросил он.
Вода напирала. Пришло время пожертвовать очередной энциклопедией, разорвать в клочья еще одну частичку меня.
– Мне пора закругляться, но я хочу, чтобы вы знали и не забывали, кем были ваши родные. А теперь мне надо останавливать потоп.
Я взглянул на спящую на креслах Энолу и на сидящего рядом с ней Дойла.
– Саймон, – произнес Черчварри надтреснутым, незнакомым голосом. – Пожалуйста, берегите себя!
Его слова были отяжелены тревогой и неопределенностью.
Глава 28
Труппа уехала из Шарлотта с непривычной поспешностью после того, как местный священник пригрозил облить Пибоди смолой и вывалять его в перьях. Они направились на северо-восток, стараясь по пути нигде не задерживаться. На ночь они останавливались у обочины дороги, подальше от городов. В города не заезжали, а посылали туда Бенно и Ната, если надо было что-нибудь купить. Наконец они добрались до побережья Атлантического океана. Пибоди говорил, что им надо отдохнуть и немного прийти в себя, но все знали правду: они несли на себе клеймо разрушенного паводком городка.
После рождения Бесс живот Эвангелины возвратился к первоначальной форме. Стали видны ребра. Создавалось впечатление, что младенец постепенно высасывает из нее жизнь. После Шарлотта она и Амос почти не говорили друг с другом. Карты использовались лишь для гадания.
Только Пибоди сохранял присутствие духа. Он укладывал спеленатую Бесс на свой объемистый живот и с довольным видом ворковал с малышкой.
– Маленькая ласточка, милая Бесс! И кого мне из тебя воспитать? Русалку, как твоя мама, или кого-то вроде цыганки? Ведь твой папа когда-то жил как цыган. Я думаю, ты вырастешь красавицей, моя дорогуша.
Если бы все помыслы Амоса не занимала мать ребенка, он бы заметил алчные огоньки в глазах Пибоди. Но Эвангелина продолжала худеть. Когда он надевал на нее корсаж, тот висел на ней тряпкой, как бы сильно Амос ни затягивал в него тело матери своего ребенка.
– Я скажу Пибоди, что снова буду плавать, – заявила Эвангелина однажды утром, когда они заканчивали свой туалет.
Амос дернулся и порвал шнуровку. Тяжело вздохнув, Эвангелина принялась искать, чем же заменить порванный шнурок.
– В противном случае я вскоре превращусь в ходячий скелет. Как русалка я заработаю больше денег. Девочке много чего надо купить.
Завернутая в бархатную ткань, оставшуюся от номера с мальчиком-дикарем, Бесс мирно посапывала, лежа на сундуке с костюмами. Девочка, чье рождение смыло с лица земли целый городок. Амос смирился. Ему затея Эвангелины была не по душе, но, раз она так хочет, мешать ей он не будет.
– Мы продолжим гадать на картах, – сказала она, – так что о клетке и речи быть не может. Вообще-то мне бы хотелось, чтобы мы придумали другой номер.
Амос не стал ей перечить. В свете всего, что случилось, он не доверял больше воде. От него не укрылось, что Сюзанна перестала разговаривать с Эвангелиной, а Мелина ограничивалась лишь краткими приветствиями с угрюмым видом. На губах Бенно при ее появлении появлялась странная ухмылка. Однажды Амос хотел на него наброситься, но Эвангелина его удержала, уперев ладонь ему в грудь.
– Стой! – тихо произнесла она. – Он боится. Если мы не будет давать повода нас бояться, он успокоится.
Бесс, которую она держала на руках, расплакалась. Эвангелина посмотрела Бенно прямо в глаза.
– Я знавала таких людей, как ты.
Я убила женщину, похожую на тебя.
Бенно ушел, а Эвангелина чувствовала, что его сковывает страх.
После наводнения она почти не спала. В свете свечи Эвангелина наблюдала за тем, как вздымается и опадает грудь Амоса, прислушивалась к сопению дочери, размышляя, какое же несчастье она на всех накликала. Пока они спали, Эвангелина на протяжении долгих часов гадала на картах, задавая вопросы и пытаясь разобраться с полученными ответами. Что нас ожидает? Что ждет ее? Ответы пугали.
Карты повествовали о старых грехах: о том, что заставило Эвангелину пуститься в бега, и о том, что случилось после. Скоропостижная смерть ее матери. Смерть бабушки Виссер. Исчезновение Рыжковой. Горе Амоса. Дохлая рыба в отравленной реке. Разрушенный Шарлотт. Она ничего не боялась, когда боролась с Рыжковой за любовь Амоса. Она и для себя хотела хоть толику простого человеческого счастья. Того же самого она хотела, когда встречалась с Вилли Абеном на берегу реки. Рыжкова была права. Жизнь Амоса до появления Эвангелины протекала без тревог и невзгод. Со времени их знакомства лицо молодого человека посуровело, а лоб избороздили морщины печали. Она прикоснулась к колоде. Ужасы прошлого перейдут в будущее. Эти карты явно испытывают к ней несказанное отвращение. Амосу не стоит об этом знать.
После второй недели гадания Эвангелина попросила Амоса тасовать и раскладывать карты. Он нахмурился, но согласился. Именно карты подвигли Эвангелину на возрождение водного действа.
Пибоди был только рад возвращению русалки. Потери, вызванные уходом Рыжковой, обещали быть с лихвой возмещены джентльменами, которые ринутся смотреть водное представление. Лохань починили, проконопатили и покрасили. Пибоди посоветовал Эвангелине во время предварительных погружений брать с собой Бесс.
– Уже всем понятно, кем станет наша милая ласточка, когда вырастет.
Пибоди пощекотал ребенку животик. Бесс взирала на разговорчивого дедушку. Ее желтоватые глазки тупо смотрели на него, не мигая, словно глаза крольчихи.
– Расширяй ее горизонты. Учи ее гадать на картах, плавать, жонглировать, учи акробатике – всему, чему она сможет научиться.
Амос молча терпел воскрешение из небытия лохани. Сидя в дверном проеме фургона Ферезов, он наблюдал за тем, как ее конопатят и красят, но помогать не спешил. Он винил себя в том, что Эвангелина теперь боится гадать на картах. Он понимал ее страх и был против обучения Бесс гаданию, так как подозревал, что ее рождение стало непосредственной причиной наводнения, а его гадания предвещали, что вода еще наделает в их жизни немало бед. Шарлотт, подобно болезни, крепко угнездился в его сознании.
Так минуло три месяца. Пибоди вел цирк по кругу, поближе к Филадельфии и Нью-Йорку, поближе к своему сыну. Вечером, накануне приезда цирка в Миллерстоун, Эвангелина пришла к Амосу за Бесс.
– Ну, маленькая рыбка, пришло время научить тебя плавать.
Мать погладила дочь по ее тонким темным волосикам. Амос покрепче завернул Бесс в длинную полу своего камзола – так, чтобы Эвангелина не смогла до нее дотянуться. Страх сделал его очень неуступчивым.
– Ты не хуже меня знаешь, что Пибоди нужно, чтобы и она работала. Мы должны ее обучать. Если мы начнем сейчас, она не будет бояться, как я боялась в свое время. Я сделаю так, чтобы дочь была в полной безопасности.
Амос завернул дочь еще основательнее. Эвангелина вцепилась в кружево на его одежде. Амос отрицательно помотал головой, досадуя на то, что не может сейчас взять в руки карты и все ей объяснить.
– Пройдут годы, прежде чем она сможет гадать на картах, – продолжала уговаривать его Эвангелина. – Кто будет доверять ребенку свои тайны? Большинство наших не захотят, чтобы ребенок прикасался к картам.
Он все прекрасно понимал. Эвангелина и сама не захочет, чтобы ее дочь прикасалась к картам, и он не сможет общаться с Бесс посредством карт.
Амос, убаюкивая младенца одной рукой, другой вытащил карты из шкатулки и изо всех сил хлопнул колодой по маленькому столику, так сильно, что он пошатнулся. Он хотел сказать, что не согласен, что напуган после реки и Шарлотта. Амос разложил карты на столике. Они шуршали под его пальцами.
Эвангелина потянулась к картам. Вдруг порыв ветра сдул карты, разложенные Амосом, разбросал их по столу и полу. Новые карты, легшие на их место, рассказывали о насилии, об убитой старухе, о страшных паводках, о горе и опустошениях, в центре которых были они – Королева Мечей и Дурак. Эвангелина нагнулась, чтобы собрать карты, но Амос ее остановил. Он изучал расклад и перебирал в уме возможные толкования. Бесс пронзительно закричала, но крик ее приглушала одежда отца. Он защитил Эвангелину от угроз Рыжковой и того будущего, которое старуха ему напророчила, но карты говорили совсем другое. Он защитил самого себя, а Эвангелина хранит от него свои тайны.
Хрупкая водяная девушка, которую он повстречал, – убийца. Амос понял это по Мечам и тому, как они лежали. Смерть лежала поверх Суда. Убийство – страшный грех. Всякий раз, когда Эвангелина искала утешения, неупокоенный дух насылал на нее беду. Амос не увидел удивления на ее лице. Молодой человек вспомнил расклады, которые ей не показывал. Значит, не было необходимости скрывать их? Амос вспомнил багровую отметину на плече девушки, когда он в первый раз увидел ее плечо обнаженным. Тот синяк зачаровал, околдовал его, заставил возжелать и прикоснуться к нему пальцами.
– Прошу тебя! – взмолилась Эвангелина.
Амос крепче прижал к себе ребенка. Тогда молодая женщина поцеловала его в лоб.
– Я ее верну.
Амос зажмурился, но не отдал ей дочурку.
Бесс расплакалась через какое-то время после того, как Эвангелина покинула фургон.
Остаток дня Амос провел в размышлениях. Он водил пальцами по постели, которую делил с Эвангелиной, ощущая отпечаток ее тела. Во сне она сворачивалась калачиком. Эта привычка осталась с тех пор, когда лохань была ее домом. Малышка беспокойно ворочалась и дергала ножками – точь-в-точь как ее мама. Хорошо, что Бесс не немая, как он. Он думал о решимости Эвангелины. Она решила плавать и разыскала Пибоди. А та мертвая женщина на карте… Ее убила Эвангелина.
Он был не таким. С тех пор как он повстречал Пибоди, его жизнь больше ему не принадлежала. Его имя на самом деле не принадлежит ему. То, что он когда-то жил в доме, напрочь стерлось из памяти Амоса. Запеленав малышку, он положил ее на дорожный сундук. Бесс завопила. Ее личико исказилось и покраснело от натуги. Они смогут начать все сначала, но только без карт и Пибоди, в домике в Берлингтоне. Там они будут жить уединенной жизнью. Он скажет Эвангелине, что не верит тому, что говорила Рыжкова, или, по крайней мере, что постарается не верить. Именно из-за этого синяка он в нее влюбился. Она нуждалась в его защите. Эвангелина позволила ему о ней заботиться, выбрала его. Она тоже о нем заботилась, училась ради него, избавила от клетки. Обыкновенный синяк…
Бесс так расплакалась, словно была ранена и истекала кровью. А что, если она умрет? Амос делал все, что мог, чтобы успокоить дочь. Он укачивал ее, гладил по головке, а окончательно сдавшись, обратился за помощью к Сюзанне, так как не смог придумать ничего лучшего. Девушка-змея, покачав ребенка на руках, позвала Мелину, и та почесала Бесс животик. Нат надул щеки и дал малышке пососать сладкий корень, но девочка продолжала орать, пока не охрипла. Ей нужна была мать.
Амос ждал.
Настал вечер, а Эвангелина все не возвращалась.
Она шла к океану. Деревья сменила трава, а траву – песчаная полоса, которая призывно улыбалась, приглашая зайти в воду. В прошлом купания в расслабленном состоянии в реке всегда приносили мир в ее душу. Но на этот раз ничего подобного не произошло. Ее дыхание стало более глубоким после рождения ребенка. Все эти перемены были для нее полной неожиданностью. Теперь труппа ее ненавидит. Она-то сможет снести их неприязнь, но недоверие Амоса глубоко ранило ее душу. Тело ее изменило не только рождение Бесс, оно изменилось ради него. Углубление между шеей и плечом стало местом отдохновения для его головы, позвоночник изогнулся, чтобы ей было удобнее лежать подле него. Ее сердце медленнее стучало, когда замедлялось биение его сердца.
Они могут уйти. Она уйдет и уведет его с собой.
Вода пахла солью, а не гниющим торфом, как река. Она окунулась в воду с головой, и знакомая тяжесть навалилась на нее, оживляя давным-давно забытые воспоминания о том, как бабушка Виссер ее топила. В воде она не слышала криков Бесс.
Эвангелина встала ногами на океанское дно. Под ступней оказалось что-то гладкое, похожее на камень, но оно, выскользнув, отползло в сторону. Что-то острое кольнуло молодую женщину в ногу, словно ударило. Эвангелина передвинулась, и тогда на нее обрушилось с дюжину подобных ударов. Она выпустила из груди немного воздуха. Вода на вкус была соленой.
В холодной воде у дна Эвангелина не могла видеть, как шевелящиеся ножки и хвосты запутываются в складках ее платья, взбираются по ступням и лодыжкам, цепляются за чулки. Она почувствовала себя свободной и умиротворенной. Такого облегчения Эвангелина не испытывала с самого младенчества. Когда бабушка держала ее голову под водой в лохани, она не чувствовала страха. Сердечко ее билось чаще не из-за страха, а из-за ощущения того, что все идет своим чередом. Подол ее платья увяз в песке под тяжестью ползущих по нему существ.
Я принадлежу этой стихии.
Когда ее лишают воды, она убивает. Она убивала бабушек и сыновей, отравляла реки. Она смывала города с лица земли. Но в воде она становилась цельным человеком. В воде она никому не причиняла никакого вреда.
Эвангелина позволила существам взбираться вверх по ее одежде, заползать на руки, и в конце концов всю ее окутала живая мантилья. Покрытые панцирями тела облепили молодую женщину со всех сторон. Когда тяжесть стала непереносимой, она села на дно. Пузыри воздуха поднимались на поверхность и терялись среди волн.
Когда и сидеть стало трудно, Эвангелина легла. Ножки и хвосты запутывались в ее волосах, пока она не стала ими, а они – ею. Спина плотно вжалась в песок. Тельца тварей похитили последний воздух из ее легких.
Карты были во всем правы. Она несла беду всюду, где ступала ее нога. Она убийца, хоть и поневоле. Эвангелина подумала о дочери, чье рождение принесло столько бед. Амос, ее Амос с добрыми глазами и проворными руками, не подпустит ребенка к воде. Эвангелина подумала, что ее смерть послужит добру. Когда желание дышать стало подобно лютому голоду, она открыла рот. В него хлынули песок и океан. Внутри нее воды теперь оказалось не меньше, чем снаружи. «Странно, – подумалось ей. – Даже русалки могут утонуть».
Амос так и не заснул. Он качал ребенка до тех пор, пока утро не проникло в фургон сквозь щели между досками. Он пошел к воде поискать Эвангелину, но ее нигде не было. Он качал Бесс, прижимая ее к своей груди, а та вопила, требуя маму и молока. Амос искал следы ног, искал платье, но на берегу его встретили лишь странные создания, похожие на крабов. Своими хвостами они замели все следы ее пребывания здесь.
Бенно нашел Амоса бродящим по берегу. Из его груди вырывался глухой отрывистый звук, похожий на лай. Акробат потряс его за плечо, неприятно удивленный и этим звуком, и внешним видом Амоса.
– Что она сделала? Ты не ранен? Она причинила вред ребенку?
Амос вырвался. Глаза его сузились. Он окидывал взглядом Бенно, начиная со стоптанных башмаков и прорехи на рубахе и заканчивая шрамом, затем издал рыкающий звук и бросился искать Пибоди.
Не заговаривая о том, что им пора отправляться в путь, ибо вечером у них выступление, Пибоди послал Мейксела и Ната верхом на лошадях на поиски Эвангелины. Каждому он дал фонарь на случай, если они не вернутся до темноты. Мелина и Бенно отправились искать пропавшую на своих двоих, а Амос остался на берегу. Пибоди пришел к полосе песка с двумя мягкими подушками из своего фургона. Он бросил одну рядом с Амосом, а сам сел на другую. Колени старика хрустнули, словно сухое дерево.
– Мы будем ждать.
Они смотрели на океан. Когда крики Бесс стали нестерпимыми, Пибоди сходил в лагерь и принес чашку козьего молока. Он окунул палец в теплую жидкость и, не забирая младенца у Амоса, накормил Бесс, давая ей слизывать молоко с пальца.
Уже когда на землю опустилась ночь, мечехвосты вернулись в воду. Луна испускала белый свет, отражающийся от поверхности океана, и Амос увидел нечто светлое, танцующее среди волн. Он вскочил на ноги и толкнул задремавшего Пибоди. Старик закашлялся, брызгая слюной. Амос протянул ему ребенка. Убедившись, что Бесс не проснулась, Амос снова стал всматриваться в воду. Он устремился вперед. Вода оказалась очень холодной и темной. Сокрытое во тьме дно как будто хотело засосать его, когда он входил в царство, прежде принадлежавшее только ей. Он покачнулся, попав в зону быстрого течения. Ему и в голову не пришло снять камзол и рубашку, прежде чем войти в воду. Она всегда в одежде входила в воду. Одежда замедляла его движения. Когда Амос добрался до сверкающей вещицы, ноги его болели, а вода доходила ему до губ. Он практически вслепую пытался найти то место, где видел сверкание. На ощупь это было нечто знакомое, но Амос запретил себе об этом думать до тех пор, пока не сможет разглядеть предмет как следует. Он уже почти добрался до берега, когда наконец отважился на это взглянуть.
Белая лента, которая когда-то была пришита к платью Эвангелины на талии. Амос не мог ошибиться. Края ленты обтрепались вследствие бесконечных залезаний и вылезаний из лохани. В его груди что-то взорвалось. Эвангелина – в океане.
– Позволь мне взглянуть, что там у тебя, – крикнул ему с берега Пибоди.
Амос уставился на ленту, а потом нежно прикоснулся к ее краям, которые трогал каждый раз, когда вешал платье сушиться. Он отвернулся от берега и сжал в руке ленту. Он сжимал ее до тех пор, пока не ощутил боль. Амос направился в пучину вод – туда, где течение было сильным. Пибоди что-то кричал ему с берега, но он не слушал. Костюм Фереза настолько пропитался водой, что он едва мог в нем передвигаться. Амос не обращал внимания на крики и не услышал всплеска за спиной.
Амос был уже под водой, когда Пибоди до него добрался. Рука в хлопчатобумажном рукаве схватила его сзади и потащила к берегу. Амос сопротивлялся и даже лягался, но одежда ему мешала. Пибоди обхватил его за плечи и с силой, какой он в себе не подозревал, стал тащить парня на берег.
– Не сопротивляйся! – хватая ртом воздух, произнес Пибоди, борясь с Амосом. – Если будешь упираться, мы оба потонем. Ты слышишь меня? Ты меня утопишь, мой мальчик.
Амос сдался и позволил тащить себя к берегу. Накатившая волна прижала ленту к его лицу. От нее пахло солью. Так часто пахло от ее волос. Когда они выбрались на песок, Пибоди отпустил его. Амос упал на спину.
– Я не смогу… Не надо… – тяжело дыша, произнес Пибоди. – Если вы оба умрете, я этого не переживу.
Когда Амос поднялся с песка, старик похлопал его по спине. Молодой человек закашлялся, выплевывая воду.
– Я тебя кормил, одевал, дал тебе все, чем ты владеешь. А ты меня хочешь бросить.
С песка послышался кошачий плач.
– Я не считаю тебя дурачком. Ты нем, но отнюдь не дурак.
Пибоди протянул Амосу руку, ожидая, что тот в нее вцепится. Плач не смолкал. Амос ухватился за руку. Пибоди провел его к тому месту, где лежала Бесс, завернутая в бордового цвета атласный камзол. Волосы Амоса слиплись от соленой воды и набившегося в них песка, а одежда на Пибоди висела, словно мокрая мешковина. При виде взрослых Бесс издала довольный крик. Амос посмотрел на маленькую, пухленькую дочурку с глазами Эвангелины. Смотреть на нее было невыносимо больно.
На секунду Амос пожалел, что не утонул, подобно Шарлотту. Если бы Эвангелина не родила ребенка, была бы она сейчас рядом с ним, жива и здорова? От этой мысли ему стало дурно, и он взял ребенка на руки.
– Хорошо, мальчик, – сказал Пибоди. – Мы сделаем из тебя достойного отца.
Только через два дня бродячий цирк тронулся в путь. Пибоди, видя безмерную скорбь Амоса, забыл о грозящих ему убытках. Он не стал разбираться в своих чувствах, не стал стучаться в дверь к Амосу. Старик распорядился, чтобы еду и козье молоко оставляли у двери фургона Ферезов, и следил из своего фургона, забрали еду или нет.
Амос заботился о дочери, кормил ее, укачивал по ночам, если она плакала.
Время шло. Решено было поговорить с ним. Послали Бенно. Амос отказался открывать, и акробату пришлось прибегнуть к металлическим пластинкам. Когда дверь открылась, внешний вид Амоса произвел на Бенно ошеломляющее впечатление. Он тихо выругался.
Обрывки ткани, прежде украшавшей стены фургона, валялись на полу. Амос сидел на корточках, склонившись над Бесс. Волосы спутаны. Глаза запали. На руках остались красные царапины в тех местах, где он расчесывал кожу.
– А-а-а… Извини, – пробормотал Бенно. – Извини.
Он протянул Амосу руку, но тот ее оттолкнул. Бенно прислонился к стене, а затем медленно сполз по ней и уселся на пол. Амос повернулся к нему спиной.
Почти час они просидели в полном молчании. Наконец Бенно нарушил тишину:
– Ты не помнишь, каким был, когда только прибился к нам. Мы тебя почти не замечали, а потом ты стал появляться и – взмахнув рукой, акробат издал свистящий звук – исчезать. Ты был как пустой стакан. Я подумал, что ты не жилец на этом свете, а потом стал замечать тебя с маленькой лошадкой. Ты напоминал мне моего младшего брата. А еще ты всегда хорошо ко мне относился. Люди редко хорошо относятся ко мне. Я решил, что буду за тобой присматривать. Когда Рыжкова сделала тебя своим учеником, я не сомневался в том, что это очень хорошо. – Бенно, почесав затылок, уперся им в стену. – А потом появилась Эвангелина. – Амос так на него посмотрел, что озноб пробежал по коже акробата. – Рыжкова ее боялась. Она попросила меня за тобой приглядывать, защитить, если что.
Изо рта Бенно вырвался сухой смешок. Амос склонил голову набок.
– Я вот тогда думал, что же могло настолько напугать Рыжкову, что она от нас сбежала. Ну, я, значит, наблюдал за Эвангелиной, а потом я увидел, как она улизнула и река стала мертвой… А потом еще город… Извини.
Вновь запала тишина. Амос взял свою дочь на руки. Они сидели так несколько часов, пока узкие полосы света, проникающие сквозь щели в досках, окончательно не померкли. Бесс кашлянула, а потом чихнула.
– Ребенок слишком многого лишился, – проговорил Бенно, поднимаясь на ноги и открывая дверь фургона. – Слишком много лжи, а я невольно стал ее частью. Извини, дружище. Я разыщу ради тебя Рыжкову – вернее, ее дочь Катерину – и расскажу, что стряслось. Она вернется. Вы вновь будете работать вместе, а ты обучишь свою девочку. Я так и поступлю. Ты не будешь одинок.
Уходя, он прикрыл за собой дверь.
Бенно отправился в путь на рассвете.
Время Амоса было заполнено тайной работой. Бесс больше не плакала – более того, она не издала ни единого звука после той ночи, когда они вернулись с берега океана. Часами Амос сидел перед дочерью, стараясь вспомнить, как звучал голос Эвангелины, когда он прижимался ухом к ее груди. Когда же он пытался что-то сказать, изо рта у него вылетал лишь неприятный скрежет. Амос прижимал дочь к своей груди, надеясь, что стук его сердца возродит в ней звук, но ничего не помогало.
Карты лежали в шкатулке. Никто к ним не прикасался. Они были обременены всем тем, что случилось между ними – Рыжковой, Амосом и Эвангелиной. Ему следовало срочно очистить карты. Как часто надо очищать карты, он точно не знал. Когда он очистит карты, последняя частица Эвангелины, живущая в них, будет утрачена. Он допустил большую ошибку, не очистив их после бегства Рыжковой. Он всего лишь хотел сохранить частичку старушки, которая его обучала, а Рыжкова оставила после себя страх, который пропитал карты и превратился в проклятие, проникшее в его судьбу, словно чужая волосинка в косу. Амос поцеловал девочку в макушку. Так он не научит ее разговаривать.
Клетка мальчика-дикаря вновь была выужена из небытия. Пришла осень. Они двинулись на север, надеясь добраться до Нью-Йорка прежде, чем погода вконец испортится. Фургон Ферезов перекрасили в зеленый цвет и разрисовали гротескными изображениями парня-дикаря.
На месте вырубки, к северу от Берлингтона, они разбили лагерь под сенью древних дубов. Привал не был запланирован, но люди чувствовали себя до крайности измотанными. Не хватало рук, а это делало путешествие еще более трудным. Пибоди подошел к двери фургона Амоса. Она чуть-чуть приоткрылась. В щелку смотрел темный глаз.
– Мальчик мой! Пришло время поработать. Это укрепит твой дух, а твоей малышке лучше видеть своего папочку счастливым. Действо старое. – Пибоди прокашлялся. – Все будет так же, как и прежде. Полагаю, ты со всем прекрасно справишься.
Дверь приоткрылась чуть шире. Пибоди покусывал нижнюю губу. Его борода щетинилась.
– Мы всегда хорошо друг друга понимали. Пожалуйста, пусть все будет по-прежнему. Мы начнем все сызнова.
Дверь с грохотом затворилась.
Спустя несколько часов после этого Амос вышел из фургона, держа на руках свою дочь. Он был худым, как бездомный пес, одежда едва не спадала с его плеч. Амос шел по лагерю, все с любопытством уставились на него, ловя каждое его движение. Амос постучал в дверь фургона Пибоди, и та сразу же распахнулась. Шляпа с загнутыми вверх полями была нахлобучена на голову набекрень. Старик улыбнулся.
– Хорошо, что ты пришел, добрый молодец. А наша маленькая красавица стала еще краше. Я…
Амос сунул Бесс Пибоди в руки. Он бросил последний взгляд на свою дочь, а затем развернулся на стоптанных каблуках башмаков и зашагал обратно через лагерь. Пибоди, держа малышку на руках, смотрел, как Амос, минув последний фургон, скрылся в лесной чаще. К тому времени, когда старик додумался послать ему вдогонку Мейксела, Амос углубился в лес настолько, что Пибоди потерял его из виду. Малышка посмотрела в его прищуренные голубые глаза, зажала кончик бороды старика в своем кулачке и что-то пролепетала.
– Да, маленькая красавица, – сказал он настолько мягко, насколько мог. – И что мы здесь имеем?
В лесу Амос сбросил с ног башмаки. Его босые ноги с радостью коснулись мягкой лесной земли. Пальцы вдавились в нее. Потом с плеч был сброшен камзол, он повис на колючем кустарнике. Затем Амос сорвал с шеи изодранное жабо, снял сорочку. Он раздевался, чтобы кожей ощутить лес. Было забавно видеть, какой бледной стала его кожа за те годы, что он носил одежду. Загорелые руки, казалось, принадлежали другому человеку. Амос шел, карабкался и продирался сквозь заросли несколько часов. Он не расставался с лентой, которую обернул вокруг большого пальца руки, ласково поглаживая ее. Он перелазил через стволы упавших деревьев и камни, мягко ступая, не издавая ни малейшего звука. Там, где три высокие скалы стояли, тесно прижимаясь друг к другу, он остановился. Журчание свидетельствовало, что где-то поблизости протекает ручей. В этом звуке он услышал шепот Эвангелины: «Ты дома. Я твой дом».
Он принялся взбираться на скалу, выискивая неровности на ее поверхности. Пальцы цеплялись за малейшие выступы. Амос взбирался до тех пор, пока не оказался на вершине самой высокой скалы. Его дыхание замедлилось. Пора отдохнуть. Он уселся так, как сидел задолго до Эвангелины, Рыжковой и Пибоди. Он ощущал себя маленьким мальчиком, забравшимся в лачугу, в которой родился.
Солнце начало садиться. Тени удлинялись. Уханье совы отразилось эхом от скал. Он не двигался. Тень Амоса накладывалась на тени, отбрасываемые деревьями и кустарниками, такие же темные, как его волосы. Дыхание его все замедлялось, пока не слилось с дыханием окружающего мира. Всего лишь легкое дуновение. Он стал частью леса и воздуха. Морщины на его лице разгладились. Печаль отступила. Вот молодой человек, сидящий на вершине, еще виден, а вот он исчез.
На следующий день Мелина нашла одежду Амоса и ленту с платья Эвангелины. Она принесла их Пибоди. Хозяин тотчас же распорядился их сжечь. Хотя Мелина сказала, что выполнила приказ, на самом деле она сунула их в свой дорожный сундук. Это для Бесс, когда девочка вырастет. Нельзя, чтобы они пропали. Каждый ребенок должен знать своих родителей.
Пибоди заботился о Бесс так, словно она была его внучкой. Он окружил девочку любовью и заботой и считал ее своим лучшим достижением за все те годы, что возил свой цирк по дорогам. Он распорядился, чтобы ее научили плавать. Бесс плавала так, словно вода была ее родной стихией. Пибоди был ужасно рад тому, что ребенок на удивление долго может задерживать дыхание под водой. По вечерам он строил планы на будущее. Рядом с колонками цифр Пибоди нарисовал рыжими чернилами плавательный бассейн из стекла… Если он, конечно, сможет позволить себе стекло. Черные волосы Бесс стали длинными, как у матери, а вот глаза у ребенка были большими, как у Амоса.
На ее пятый день рождения Пибоди подарил девочке лакированную шкатулку, украшенную изображениями царевича и Жар-птицы.
– Бесс! Моя маленькая ласточка, – пророкотал он, когда девочка открыла шкатулку. – Эти карты особенные. Они принадлежали твоему отцу, чудесному человеку. В этих картах сокрыт ключ от всех тайн мира. Пришло время обучить тебя этому искусству. Мой сын Захария пишет, что наш друг Бенно нашел тебе наставницу. Ее зовут Катя. Она дочь наставницы твоего отца.
Нежные пальчики девочки прикоснулись к оранжевой колоде и перевернули первую карту. Молния и пламя. Разорванное небо. Башня.
Глава 29
24 июля
Утром в дверь постучали. Мы пережили эту ночь. Алиса стояла у главного входа и барабанила рукой в стеклянную дверь. На ногах у нее были зеленые резиновые сапоги. Как всегда, сама практичность.
Энола проснулась, когда я легонько потряс ее за плечо. Дойла она разбудила звонким поцелуем.
– Пошли, – сказал я. – Поможете мне оттащить куртки, а то Алиса зайти не может.
– Она здесь? А я-то думала, что мы завезем ей ключи!
– Наверное, она просто хочет посмотреть, как здесь обстоят дела.
Отодвинув кресла, мы расшвыряли куртки и свитера в стороны. Каждая падала на пол с чвакающим звуком мокрого половичка. Снаружи Алиса нервно вертелась, приподнимаясь на носках. Что-то не так. Мы отперли дверь.
– Господи! – воскликнула она. – И здесь потоп! Много книг пропало?
Книги. Она, конечно же, пришла сюда из-за книг. Я и не знал, что хочу, чтобы Алиса обо мне волновалась, до той минуты, когда понял, что ее больше волнует сохранность книг.
– Внизу хуже всего. Я спас все, что смог. Щель под задней дверью заткнули, но многого сделать мы все равно не могли. Извини… Китовый архив остался в целости и сохранности.
– Само собой. Мы верим в наш архив, – без тени веселости в голосе произнесла Алиса и, оглядев меня с ног до головы, поинтересовалась: – С тобой хоть все в порядке?
– Да.
Алиса меня обняла, тепло и с любовью. Я заметил, что она до сих пор в пижамных штанах.
– А ты-то в порядке?
Она глубоко вдохнула и задержала дыхание. В средней школе девочки, помнится, соревновались, кто дольше всех сможет не дышать. Алиса однажды не дышала, пока не упала в обморок. На этот раз она выпалила все разом, на одном дыхании.
– Тебе надо поехать со мной. Твой дом вот-вот обрушится. Тебе надо вытащить оттуда все, что сможешь, прямо сейчас.
Алиса продолжала, но я уже не мог расслышать, что она говорит, потому что Энола выкрикивала:
– Блин! Блин! Блин!
– Совсем дело плохо? – спросил я.
– Совсем. Дороги затоплены. Отец попросил меня до вас добраться. Он все звонил и звонил, но я не брала трубку, а потом подумала, что это может быть мама.
Алиса провела рукой по волосам, выжимая из них влагу.
– Мне очень жаль. Послушай! Я приехала на грузовичке. Если вы поедете за мной, то я смогу на буксире перетаскивать вашу машину через непроходимые места. В кузов можно сложить все, что захочешь забрать из своего дома.
Уровень воды был выше лодыжки. Мы залезли в мой автомобиль и медленно двинулись по залитой водой дороге. Алиса ехала впереди в грузовичке Фрэнка. Она, должно быть, заезжала за машиной к отцу и, следовательно, видела, что стало с моим домом. Она свернула на дорогу, ведущую к центру острова. Пожалуй, сейчас порт отрезан.
Энола продолжала тихо ругаться себе под нос.
– Хорошо, что хоть вещи удастся спасти, – заметил Дойл.
Следуя за грузовичком, мы выехали на Мидл-Кантри-роуд. По обе стороны дороги на обочинах стояли автомобили. Настоящий призрачный город машин. Потом Алиса поехала на север, сворачивая на объездные дороги, когда путь преграждали поваленные стволы деревьев. Когда мы достигли Тилл-роуд, Энола расплакалась.
Алиса свернула на подъездную дорожку, ведущую к дому ее родителей. Я поставил свою машину рядом. Я приказал себе не смотреть на свой дом до тех пор, пока не вылезу из автомобиля и не смогу взглянуть беде в глаза.
Дом нависал над обрывом – скособоченный, словно надетая набекрень ирландцем кепка. А мы стояли рядом с домом, четыре крошечные фигурки, скорее похожие на бумажных кукол, чем на живых людей. Двое стояли, крепко обнявшись. Крошечные искры танцевали между их телами. Дети у ворот нашей истории.
– Складываем все, что сможем вытащить, в грузовик и едем ко мне, – предложила Алиса. – Можете у меня пока пожить.
– Спасибо, – сказал я. – Это ненадолго.
– Там разберемся, – сжав мне руку, сказала она. – Мне надо поговорить с мамой.
Алиса направилась к дому, в котором выросла. Минуту я сомневался в том, кому из нас больше досталось, а потом понял: Алисе.
Энола велела Дойлу ждать у машины.
– На раскопки допускаются только Ватсоны.
Хотя в голосе Дойла звучала его всегдашняя разухабистость, видно было, что на самом деле он хотел сказать: «Береги себя».
Дверь слетела с петель, а дырка в полу гостиной превратилась в настоящую яму. Широкая трещина рассекала стену между кухней и гостиной. Я вспомнил, как мама схватилась за этот угол, когда она, заливаясь смехом, бежала по коридору. Мы свернули за угол, прижимаясь к мебели, к креслу (я помнил, как хихикающая Энола пряталась за ним), к моему столу – ко всему тяжелому. Энола заметила, что я хромаю, и предложила опереться на нее.
– Возьми ту фотографию, – указав пальцем, сказала сестра. – На ней я и мама.
– Вас снимал Фрэнк.
– Успокойся! – Сорвав фотографию со стены, моя взрослая сестра передала свою детскую копию мне. – Зачем это тебе?
– А тебе?
Энола отрицательно помотала головой.
– Ты знаешь, что я не просила тебя здесь оставаться. Теперь дома не стало. Мне кажется, ты должен обо всем забыть. Живи счастливо. Договорились?
Резкий, пронзительный скрип донесся из дальнего конца коридора. Мы напряглись. Пальцы сестры вцепились мне в плечо. Звук все усиливался, пока не превратился в оглушительный треск. Я заткнул уши руками. Губы сестры произносили ругательства. С потолка на нас посыпалась штукатурка.
– Бежим! – завопил я.
Пол под нами заходил ходуном. Я пригнул голову. Меня швырнуло спиной на переднюю стену дома. Я ударился о стол. Засасывающий спазм, опустошительный и разрушительный. Страшный звук разрушения. Стул опрокинулся. Стекло разлетелось вдребезги. На меня полетели бумаги и книги. Из-под пола вырвался поток воздуха.
Звук стих, и пол перестал дрожать. В ушах звенело. В комнате висело облако пыли. Энола забилась в угол возле дивана, засыпанная бумагами. Она дрожала.
– Блин! Вы не ранены? Все целы?
Дойл стоял в дверном проеме, нервно тараторя. Дневной свет пробивался из коридора сквозь пелену пыли. Повсюду валялись куски штукатурки. Подхватив меня и Энолу своими покрытыми щупальцами руками, он выволок нас на то, что осталось от нашей лужайки перед домом. Высокая трава хлестала по ногам. Его рука била слабыми электрическими разрядами.
Мы уселись на капот моей машины. Масштаб разрушений поражал. Часть дома полностью обвалилась. Мебель из спальни моих родителей теперь валялась внизу вместе с остатками стен и камнями фундамента. Кровать отлетела дальше всего остального. Матрас был наполовину завален прибрежными водорослями. Изголовье кровати поцеловалось с остатками защитной дамбы. Обувь отца плавала в воде. Я давно собирался выбросить ее, но все не хватало духу.
Мечехвосты до сих пор копошились на берегу, а им следовало бы убраться отсюда после того, как мы сожгли журнал и вещи из амбара Фрэнка. Или их должен был смыть шторм с такой же легкостью, с какой он разрушил мой дом. Предчувствие, что я что-то упустил из виду, только усилилось. Повсюду, словно снежинки, летали листы бумаги: прошлое моей семьи гонял по берегу ветер. Почему мечехвосты остались? Разве сожжения недостаточно?
– Это, кажется, пишущая машинка мамы? – сказала Энола.
Искореженная машинка лежала у ствола виргинской сосны вместе с тем, что могло быть руководством по эксплуатации. Часть печной трубы упала вниз. Там же оказались и инструменты отца, они глубоко вошли в песок. Все пропало.
Энола вытащила из кармана карты. В свете дня я увидел, что они коричневые, замусоленные, а края обтрепаны до невозможности. Мусор, а не карты. Картон насквозь пропитан жиром рук моей сестры, матери, других людей. От карт пахло пылью, бумагой и женщинами. Энола положила их рядом с собой на капот. Дойл вскочил на ноги и принялся нервно прохаживаться туда-сюда.
– Спрячь их, Маленькая Птичка.
– Нет. – Мне же она сказала: – Разложи.
– Чудно! – воскликнул Дойл. – Пожалуй, я пройдусь. Мне надо прогуляться.
Взмахнув рукой, он зашагал по нашей улице.
Я прикоснулся к маминым картам, стараясь ощутить ее присутствие в них, но не почувствовал ничего, за исключением мягкости картона. Карты износились так, что спасти их было уже невозможно. Я сжал в пальцах бо́льшую часть колоды. Мысль имеет корни. Но это невозможно. Это не могут быть те же самые карты.
– Три стопки, – сказала сестра.
Она, напрягшись, словно ожидала подвоха, наблюдала за тем, как я раскладываю карты, потом быстро задвигала руками, шелестя картами, заново раскладывая их на капоте.
Я никогда не видел прежде такого расклада – ни крестом, ни шестью рядами. Семь карт были выложены буквой «V». Энола раскашлялась и смахнула карты с капота прежде, чем я успел как следует их рассмотреть.
– Плохо. Еще раз разложи.
Она снова шелестела картами, тасовала их, раскладывала даже быстрее, чем в первый раз. Еще до того, как сестра вновь сгребла их все в кучу, я успел заметить много Мечей и, скорее всего, изображение женщины. Собрав карты, Энола стукнула пальцами по колоде, при этом она нервно дернулась.
– Еще раз.
Я разложил карты на три стопки. Она, перетасовав их, сделала расклад, а затем опять смахнула его с капота. На этот раз я заметил среди прочих когда-то черную карту. Дьявол либо Башня?
– Каждый раз одно и то же, – пожаловалась мне сестра.
Она перетасовала карты и протянула мне. Я попросил ее остановиться, но Энола крепко взяла меня за запястье и, можно сказать, заставила разделить колоду на три стопки. Когда сестра снова хотела собрать карты, я схватил ее за руку.
– Перестань, – сказал я ей.
– Блин!
Буква «V» из семи карт: Дьявол, Башня, Королева Мечей, Тройка Мечей, Висящий Человек… Следующая карта уж слишком обтрепалась, но Энола сказала мне, что это Король Мечей. Когда я спросил, что предрекают карты, сестра лишь замотала головой, собрала их, присовокупила к колоде, а ее сунула в карман юбки. Энола откинулась на спину и распласталась на капоте, словно мертвец.
– Это наши карты, – едва слышно проговорила она.
– Что ты сказала?
– Один и тот же расклад каждый раз. – Сестра ткнула себя в лоб указательным пальцем. – Они появляются снова и снова там, где им совсем не место. Гадаешь какой-нибудь женщине насчет детей… Бац! А они тут как тут. Башня. Дьявол. Смерть… А еще вода. Блин! Куда ни глянь – всюду вода.
Неприятное чувство, как будто нас накрыла тень прошлого. Да, эти карты очень старые. Это именно то, что мы с Черчварри упустили из виду.
– Что Фрэнк сказал тебе, передавая карты?
– Сказал, что они принадлежали маме, а до того моей бабушке. Я точно не помню. Уже более шести лет с тех пор прошло. У меня не такая хорошая память, как у тебя.
Удовлетворение, полученное от нахождения ответа на трудную загадку благодаря моей проницательности, вызвало бурю дофамина[20]… Нет, это невозможно. На рисунках в книге были изображены карты Рыжковой, а потом они стали картами Амоса и Эвангелины. Энола порвала рисунки потому, что они изображали карты из маминой колоды. Журнал нашел Черчварри, потомок Рыжковой. Судьба свела потомков старой гадалки с потомками Амоса. И тогда я решил положить конец проклятию и сжег журнал.
– Ты вырывала из журнала рисунки этих карт, именно этих. Зачем ты это сделала?
– Так было надо. Не будем об этом.
Я снова поинтересовался причиной, но сестра упорно молчала.
– Энола! Избавься от карт.
– Нет, – даже не взглянув на меня, сказала сестра.
– Дай их мне.
– Нет.
Она вскочила на ноги. Энола, море, песок и побережье. Она напряжена и ожесточена. Все ее мышцы, сухожилия, кости пылают ярким пламенем, подобно тигру Блейка.[21] Она знает. В глубине души сестра знает, что должна умереть.
Комод соскользнул с обрыва и разбился о край дамбы. В этом комоде лежали механические часы отца. Он с ними не расставался, хотя все вокруг уже давно перешли на кварцевые часы на батарейках.
– Я все улажу. Я уже работаю над этим, – сказал я.
– Нечего улаживать. Это просто случается, и все тут.
Плохо. Плохо. Плохо. Кисловатый привкус во рту. Я обнял ее. Сестра уже взрослая. Нельзя унести ее на спине подальше от всего этого.
– Мы уедем отсюда. Я поеду с тобой туда, куда ты захочешь. Мне все равно. Поедем все вместе – ты, я, Дойл и Алиса.
– Братец! Я тебя люблю, но врунишка из тебя никудышный.
– Я обещаю.
Мама, должно быть, пыталась избавиться от карт, а Фрэнк ее неправильно понял. Книжная полка съехала с крутого берега вниз. Энола смотрела на воду.
– А здесь красиво. Я успела позабыть, как здесь бывает красиво.
– Можно взглянуть на карты?
– Нет.
– Нам не обязательно умирать, – сказал я сестре. – Ни я, ни ты больше не плаваем.
Я снова сказал, что мы уедем в другое место – туда, где ей понравится. Везде есть библиотеки. Я повсюду найду себе работу. Мы снова будем жить вместе, и я не собираюсь впредь играть роль ее родителя. Я обещаю. Я сказал, что научу ее любить книги, и она рассмеялась.
Где-то в наших мечтах мы так и сделали: уехали и жили счастливо. Мы сели в наш автомобиль и укатили, считая встречавшиеся нам одноглазые машины. Мы выбросили карты в реку. Как и говорила Энола, устрицы на берегу были похожи на кружевные оборки. Мы арендовали дом, новый, свежевыкрашенный. Мы начали все с нуля.
Но ничего подобного не случилось.
Раздался оглушительный треск, когда фундамент под коридором не выдержал. А потом вниз обрушилась кухня вместе с холодильником, шкафчиками для посуды и всем прочим. Из своего дома, громко крича, выбежал Фрэнк. Обломки гонта полетели вниз с обрыва. Все кончено. Дома больше нет.
Дойл бежал к нам по улице. Добежав до нас, он заключил Энолу в крепкие объятия, оторвал от земли и принялся раскачивать. Лишь когда моя сестра хлопнула его рукой по спине, Дойл отпустил ее.
Фрэнк подбежал к обрыву, потеряв по дороге свою шляпу. Теперь он казался мне меньше ростом и выглядел каким-то опустошенным.
– Она любила этот дом, – сказал сосед, когда я к нему подошел.
Казалось, что это его жизнь, а не моя обрушилась в море с обрыва. Что-то заскрипело, а затем громко затрещало. Фрэнк оттащил меня подальше от края обрыва. Кровать Энолы, от которой летели в стороны поломанные доски, остановилась у частично обрушившейся стены.
– Это моя вина.
– Я должен все знать о картах, которые ты отдал моей сестре. Мама что-нибудь говорила о них, когда отдавала?
– Ваш отец собирался отсюда съезжать. Я сказал, что это меня убьет. Я бы не вынес разлуки. Тогда Паулина дала мне эти карты и велела беречь их как зеницу ока. Они принадлежали ее матери, а до этого бабушке. Я решил, что, раз она дает мне их, значит, намеревается вернуться.
Оторвав взгляд от руин, Фрэнк посмотрел на меня. Глаза налиты кровью, напоминают свеклу. Такими были мертвые глаза моего отца.
– Они передавались от матери к дочери, словно драгоценности.
Я почувствовал, что меня распирает изнутри, да так, что я мог вот-вот лопнуть. Мама, должно быть, узнала из карт о своем близком конце. Теперь вот Энола узнала. А еще раньше свой приговор прочла в раскладе карт Таро Верона Бонн… И так далее – до самой Рыжковой. Они передавали карты друг другу, создавая историю, прикасались к ним пальцами, наполняя их своими надеждами и страхами. Из страхов рождается проклятие. Они не проводили обряда очищения своих карт, так как хотели общаться со своими матерями, быть к ним ближе. Разве не ради этого я и остался жить в нашем доме? В журнале рассказывалось о разрыве, произошедшем между Рыжковой и ее учеником из-за русалки. Энола как-то сказала, что карты живут своей собственной жизнью. Они идеальное средство погубить человека. Вначале карты принадлежали Рыжковой, а потом перешли к Амосу и Эвангелине, затем достались их потомкам. Каждая гадалка оставляла частичку себя в этих картах, заражаясь, подобно яду, страхом, который гнездился в этой колоде.
Ветер пригнал листок бумаги, и он застрял в треснувшей доске. Единственная важная для нас бумага принадлежит не мне, а Эноле, и я не имею к ней доступа.
– Жаль, – произнес Фрэнк.
Он ждал, что я скажу.
– Жаль дом, – сказал я ему, хотя так не думал.
Я оставил соседа стоять над обрывом и оплакивать мой дом. Я слышал, как он роется в обломках, пытаясь разыскать в них частичку ее. Теперь он утратил ее второй раз. Я же ограничился одним разом.
Я видел, как Энола перетасовывает в кармане карты. Каждое прикосновение к ним наводило на нее порчу. Дойл, нависая над своей подругой, внимательно за мной наблюдал. Он спросил меня, как там Фрэнк, но при этом выглядел парень уж слишком встревоженным. И он прикасался к этим картам. Моя сестра соврала Дойлу, потому что она слишком напугана и любит его.
Выйдя из дома своих родителей, Алиса медленно подошла к отцу. Было печально видеть, как она кладет руку ему на плечо. Она бы предпочла этого не делать, но Алиса – это Алиса, ответственная дочь и чрезвычайно рациональная женщина. Было мучительно больно наблюдать за тем, как она уводит его от того, что прежде было моим домом, в дом, в котором я когда-то хотел жить.
Я спросил у Энолы, хочет ли она поговорить с Фрэнком.
– Алисе будет проще, если в доме будет кто-то еще, а Ли не решится при тебе его убивать.
Сестра бросила на меня мрачный взгляд.
– Я думала, что ты будешь счастлив, если Фрэнк умрет.
– Зато Алиса не будет. Сейчас она очень на него сердита, но долго это не продлится.
Энола бросила взгляд на покрытого татуировками парня, что стоял рядом с ней, а потом снова на меня.
– Что, черт побери, я должна ему сказать?
Дойл с видом собственника погладил ее по волосам, успокаивая. Сестра закусила нижнюю губу.
– Пожалуйста, сделай это ради меня! – сказал я.
– Хорошо.
Когда Дойл увязался было за ней, я попросил его остаться. Он пожал плечами. Мы оба смотрели, как она идет к дому Фрэнка. С каждым ее шагом я повторял про себя: «Будь хорошей девочкой. Будь хорошей девочкой. Пожалуйста, будь хорошей девочкой».
– Ты слишком много на нее взвалил, – сказал мне Дойл.
– Пожалуй.
Слегка прихрамывая, я направился к обрыву. Дойл пошел за мной. Я поймал его недоверчивый взгляд.
– С ними все будет хорошо. С Энолой тоже.
Мы подошли к месту, где в песке образовалась глубокая выемка. Здесь ночной столик отца лишился своего содержимого. Пузырьки из-под лекарств, журналы, ключи от уже не существующих замков… Донесшийся с запада тихий звук горна возвестил, что паром отправился в путь.
– Откуда родом твоя семья, кстати? – спросил я.
– Мама из Огайо.
Огайо – это хорошо, в это место я никогда не поеду. Слишком много в названии этого штата засушливости.
– Почему вы приехали сюда? Что она тебе сказала?
Дойл глубже засунул руки в карманы своих штанов карго. Штанины как бы надулись. Набрав в грудь побольше воздуха, он с тихим шипением выпустил его оттуда.
– Она сказала мне, что ты болен. Энола боится, что ты что-нибудь учудишь, возможно, повторишь судьбу мамы. Я подумал, что одну ее отпускать нельзя. Мужик, я не знаю… Я слышал о русалках и видел, как ты задерживаешь дыхание, но теперь я ни в чем не уверен.
– Она тебе солгала.
Дойл недоверчиво посмотрел на меня.
– Энола никогда мне не врет.
– Врет. Я сам учил Энолу задерживать дыхание под водой. В этом она превзошла меня. Во всяком случае когда-то так было. Скажи мне, что хуже, чем болезнь брата, по крайней мере, для тебя? Из-за чего она могла тебе солгать?
Над ответом он долго не думал:
– Если больна она, а не ты.
Я ничего не сказал ему на это.
Издав рык, Дойл запрокинул голову и пнул голой ногой камень. Тот, срикошетив от разбитого зеркала, упал в гущу копошащихся внизу мечехвостов. Щупальца, извиваясь вокруг его лодыжки, дотягивались до пальцев ног.
– Блин!
– Ты кое-что знаешь о моей семье. А теперь я расскажу кое-что о картах, о тех самых картах.
Солнце высоко поднялось над горизонтом. Золотая пуля над водой. Я рассказал ему о труппе бродячих циркачей; о русской женщине и принадлежавшей ей колоде оранжевых карт; о том, что, прикоснувшись к ним, ты оставляешь в них частицу самого себя; о том, что эти карты действуют на человека, подобно проклятию; о том, что мысли, в них погребенные, проникают в тебя, подобно яду; о том, что человек прикипает душой к некоторым вещам, если ищет в них любимого человека; о том, что лучшие намерения могут нас убить.
Мы наблюдали за тем, как Энола и Алиса ведут Фрэнка в дом. Начался отлив, и на берегу оказалось несметное количество мечехвостов.
Наконец Дойл заговорил:
– Ты хочешь, чтобы я стащил эти карты?
– Лучше это сделаю я. Тебе не обязательно вмешиваться. Мне кажется, если их уничтожить, ничего плохого с нами больше не случится.
– Я могу незаметно залезть ей в карман, – тихо произнес Дойл. – Я уже такое проделывал.
А почему бы нет?
– У нее есть шкатулка для этих карт. Ее тоже прихватить?
– Да.
Я посмотрел на парня. Дойл прищелкивал пальцами в такт воображаемой музыке.
– Можно кое о чем тебя спросить?
Он пожал плечами.
– Зачем эти щупальца?
Дойл покраснел. Всего лишь темные пятна под кожей.
– Мой батя служил на флоте. Это старое моряцкое суеверие. Отгоняет нечисть.
– Можно еще кое о чем спросить?
– Об электричестве?
Я кивнул.
Дойл скривился.
– Врач сказал мне, что это из-за переизбытка солей. Из-за них я стал суперпроводником. Думаю, он и сам ни черта не понимает. Возможно, я просто прикоснулся рукой к выключателю, а он вместо лампочки засветил меня. Тебе на самом деле важно знать, как это происходит?
– Ты любишь мою сестру.
– Я украду у нее карты и отдам тебе.
Паром как раз проплывал мимо маяка, установленного на мели посередине фарватера. Отлив достиг своего максимума, и теперь, когда вода сошла, были видны верхушки подводных скал. Дойл взглянул на меня. Глаза прищурены. Голова чуть наклонена набок. Затем он, развернувшись, потрусил к дому Фрэнка. Я проводил его взглядом. Бежал он на удивление легко, при этом щупальца на его теле причудливо двигались. У двери он позвал мою сестру по имени, а затем скрылся в доме.
Я стоял и ждал, созерцая руины своего дома. Вся его жизнь теперь сводилась к падению пластов штукатурки и полетам бумажек. Он стоял на этом месте задолго до того, как мы появились на свет. Когда мы умрем, ничего не останется после нас, даже дома. Мы словно растворимся в воде. Но все это случится позже, гораздо позже, не сегодня.
Сейчас рука Дойла лезет в ее карман. Возможно, другой он гладит Энолу по спине. Возможно, он прижимает ее к себе. Когда Дойл извлечет карты из кармана, присоски, чего доброго, начнут впитывать в себя все плохое. Я чувствовал, как в душе крепнет надежда. Если карты уничтожить, проклятию придет конец.
Меньше чем через четверть часа Дойл вышел из дома и направился ко мне, продираясь сквозь высокую прибрежную траву. В руках он держал небольшую шкатулку. Я спросил, заметила ли сестра. Парень отрицательно помотал головой.
– Она очень рассердится, – сказал он.
– Извини, что тебе пришлось к ним прикасаться.
Он должен был вернуться к Эноле прежде, чем она заметит его отсутствие. Дойл похрустел своими шейными позвонками. Чувство вины, как еще одна татуировка, не сходило с его лица. Спустя минуту он скрылся в дверях дома на противоположной стороне улицы.
Шкатулка оказалась меньше, чем я ее себе представлял. Я смог удержать ее одной рукой. Округлые края не врезались мне в ладонь. Темно-красное дерево проглядывало сквозь местами облезшую краску. На крышке можно было разглядеть выцветшее изображение усатого мужчины и птицы с хвостом, состоящим из языков пламени. Ой, а я тебя помню! Я приподнял крышку. Меня словно бы ударило током. Нечто подобное, должно быть, ощущает Дойл, когда прикасается к лампочке. Прежде оранжевые рубашки карт утратили яркость и теперь показались мне желтыми. Карты истерлись от многочисленных прикосновений членов моей семьи. Я захлопнул крышку.
Моя правая нога ступила на песок пляжа. Мечехвост переполз через ступню. Из-за этих ползающих повсюду существ мне с трудом удавалось продвигаться вперед.
Саймон.
Мечехвосты оттащили подальше от берега буйки, которые к тому же под их весом затонули. Даже якорных буйков нигде видно не было. Мне придется часами бродить под водой, чтобы их отыскать. Я сунул шкатулку под мышку. Мне понадобится что-нибудь тяжелое. Галька или песок вполне сгодятся. Галька и отшлифованные океаном куски кирпичей остались лежать на линии отступившего прибоя. Словно понимая, чего я от них хочу, мечехвосты начали расползаться в стороны с моего пути. Я положил в шкатулку столько камешков, сколько смогло в нее поместиться, но этого было мало. Я должен похоронить карты навсегда, чтобы они никогда не вернулись в нашу жизнь. Надо, чтобы воды пролива серьезно ими занялись.
Вода холодная, почти ледяная. Такой она бывает в апреле, но никак не в июле. Однако даже в воде шкатулка оставалась горячей, словно пламя. Царапающие ножки и скользкие панцири замедляли мое передвижение до черепашьего. Мечехвосты кружились на одном месте, поднимая со дна песок, извивались и били меня хвостами по ступням. Каждый раз, когда я переставлял ногу, они принимались, толкаясь, гнать меня из воды. Колючие ножки тварей цеплялись за штанины моих брюк, и мечехвосты начали взбираться по мне, повисая, словно младенцы на своих родителях, цепляясь так сильно, словно в любую секунду я могу броситься от них наутек. Я сдернул с себя одного, но его место тотчас же занял другой.
Когда я добрался до якорей, то передвигался уже крайне медленно. С каждым шагом твари взбирались все выше, своим весом сгибая меня. Когда вода дошла мне до груди, мечехвосты уже добрались до моей рубашки. Я крепко прижал шкатулку к боку. Пора. Выдох. Живот втянут. Диафрагма вверх, натянута, словно кожа на барабане. Пуп едва не касается позвонка. Один. Два. Три. Затем глубокий вдох. Ребра грудной клетки максимально расходятся в стороны. Самое трудное – вдохнув, не выпускать воздух. Надо вдохнуть так, как человек, умирающий от жажды, глотает воду. Мечехвост, не удержавшись, упал с моей рубашки на песчаное дно, а я оказался над ним.
Саймон.
Голос моей матери, как всегда, звучал в волнах. Он всегда жил и будет жить в них. Каждый последующий шаг давался мне с трудом. Свет, пробивающийся сквозь водную толщу, померк, перекрываемый водорослями и все увеличивающимся числом мечехвостов. Если я посмотрю вверх, то увижу, как слабый свет преломляется в соленой воде как бы спиралями. Я должен зайти глубже. Я не могу рисковать. Вдруг их выбросит на берег? Острый хвост ударил меня по руке, которой я прижимал к боку шкатулку. Я минул наполовину похороненный под песком и камнями велосипед. Теперь он оброс ракушками, по нему ползали мечехвосты – короче говоря, он стал частью пролива. Живот скрутило. Я выпустил немного воздуха, но упорно продолжал идти дальше.
Колючая ножка коснулась моей шеи, а затем вцепилась в волосы. Через меня словно электрический разряд пропустили. Стоять. Сбрось его. Я резко пригнулся, но сразу же столкнулся с другими тварями. Несколько ножек вцепились в мою одежду. Я начал извиваться, стараясь сбросить с себя мечехвостов.
Саймон.
Тихо! Я должен освободиться от них. Вновь цепляния и уколы колючих ножек. Тяжесть одежды. Выпущенный зря воздух. Я стал срывать с себя мечехвостов, но шкатулка при этом выпала и нарочито медленно опустилась на дно. При падении крышка открылась, и карты, вращаясь, расплывались во все стороны. Мечехвосты набросились на шкатулку. Жар-птица утоплена. В Ивана Царевича вцепились ножки твари. Я выдохнул еще немного воздуха и потянулся было за шкатулкой, но не смог поднять руку: мечехвосты повисли на рукаве. Они набрасывались на меня сверху, громоздились на плечах. Проплыла Башня. Затем ее отогнал от меня мечехвост. Я лягнул его и принялся стаскивать с себя этих тварей. Нога с поврежденной лодыжкой оступилась. Я упал на дно. Мечехвосты накинулись на меня со всех сторон. Господи! Тысячи ног. Сотни хвостов. Они ползли по моему животу, по моей груди, по спине. Я посмотрел вверх. Слабый лучик света пробивался сквозь кишащие в воде микроскопические водоросли.
Саймон.
Ее голос приятен. Она зовет меня домой… Я слышал, как она называет меня хорошим мальчиком. Пальцы вновь ощущали яичную скорлупу, как в то последнее лето.
Ноги меня не слушались, грудь опадала: под тяжестью воды я снова выпустил из легких воздух. На берегу, пожалуй, меня уже ищут. Мои пальцы прикоснулись к чему-то гладкому. Карта. Маленькая простенькая вещица. Вода и соль уже разъели краску, и было непонятно, что это за карта. Хорошо. Сожжение произошло слишком быстро. Медленно действующее проклятие требует такого же медленного от него освобождения. Оранжевая краска смешается с водами пролива. Жир, оставленный человеческими пальцами, вымоется. Картон разбухнет, размокнет, лежа на песке, и исчезнет. Карты так же смертны, как и мы.
Осьминоги – на счастье. Просто замечательно. Они отправятся на трейлере в Огайо. Энола высунет руку из окна, ловя кистью ветер. Ее семья будет большой и счастливой. Я ее спас.
Женщина с глазами моей сестры. Длинные, черные, словно чернила, волосы… Как у мамы, но нет… Немой мужчина рядом с ней, русалки, ныряющие королевы, прорицательницы, гадалки, помощницы фокусника… Море черноволосых женщин со странными взглядами и широкой грудью, способной вобрать в себя много воздуха. Их смех подобен звону бьющихся тарелок. Маленькие ручки девочки и израненные ножки, которые я перевязывал; костлявые коленки на моих плечах, когда я нес ее вниз по крутому обрыву. Эта девочка меня покинула, потому что хотела жить.
И вот посреди черных волос и русалок, гадалок и утопленниц мелькнула длинная рыжая коса. Рядом со мной две веснушчатые руки зарываются в песок пляжа. Спряжения французских слов. Проклятие моей семьи. Сладчайший запах у основания ее шеи. Соблазнительный изгиб руки, тянущейся к верхней полке в библиотеке. Жизнь подле меня. Я не был одинок. Я чувствовал ее и сейчас. Я никогда не был одинок.
Последний воздух. Всплеск воды рядом. Я утонул. Я чувствовал, что меня тянут вверх. Руки неба на мне. Меня вытаскивают из моря, которое меня поглотило. Свет. Соленая вода. Голос.
Ты дома.
Горячие пальцы, вцепившиеся в мои запястья, обжигали. А может, мне просто казалось, что горит моя заледеневшая кожа. Что-то сзади разорвалось. Булавочный укол света. Свет был более обжигающим, чем прикосновение.
Мое имя в тысяче голосов.
Электрический разряд. Холодный. Яркий.
Судорожное хватание ртом воздуха.
Дыхание.
Тихий голос. Два голоса. Размытые пятна приблизились. Спина у меня болела, чесалась и никак не могла согреться. Вновь произнесли мое имя – на этот раз громче. Два звука. Шипение. Бормотание. Один голос.
Саймон.
Мои легкие, мои внутренности извергли из себя воду. Я не просто прокашливался, меня выворачивало наизнанку. Сухой, я хочу быть сухим! Руки, которые сомкнулись у меня за спиной. Они надавливали на плечи, ломали позвоночник, сжимали и стискивали. Мокрые, сочащиеся влагой руки.
Гладкое место на коже от рыболовной удочки. Когда свет вернулся, он представлял собой нечто давно забытое. Какие-то точки, которые мельтешили перед глазами, меняя цвет. Затем эти точки начали принимать вид песчинок. Снова точки. Коричневато-розовый цвет… Руки Алисы, пестрые, словно побережье… Меня вырвало на песок соленой водой. Однажды, будучи еще ребенком и учась в начальной школе, я свалился с детского игрового городка, и от удара из меня чуть не вышибло дух. Я лежал и отчаянно хватал ртом воздух, ожидая, когда же пустые легкие заполнятся и я снова смогу свободно дышать. Чуть не утонув, я испытал нечто противоположное: заполненное следовало срочно опорожнить, чтобы поддержать в себе жизнь.
Пошевелив губами, я произнес скрипучим голосом:
– Эй!
– Засранец, – сказала Алиса.
Такой маленькой и злой я ее никогда прежде не видел.
И я улыбнулся.
Лежа на диване в гостиной дома Мак-Эвоев, я провел пальцем по большому пальцу Алисы, хотя прекрасно знал, что это сведет меня с ума. В ногтях чувствуется основательность. Они подобны раковине, прикрывающей наше нежное «я». Я постучал по кончику ее пальчика. Алиса вздрогнула. Вместо того чтобы отдернуть руку, она лишь усилила хватку. Я разглядывал царапины, оставшиеся от ног мечехвостов. Свежие бордовые синяки тянулись цепочками на внутренних сторонах моих рук. Вытаскивать меня из воды было совсем непросто. Я мог бы рассказать Алисе о ее руках, обо всех тех женщинах, круживших вокруг меня, о воде, утоплении и голосах. То были ее руки. Всегда. Но мне больно было говорить. После купания в проливе у меня болело горло.
Дойл, расхаживая из угла в угол, рассказывал Эноле и Алисе то, что услышал от меня. Сдабривая свою речь полунамеками и соответствующими фразочками, он придавал моим словам потусторонний смысл. Я смотрел на его чуть согнутые пальцы ног, ступающих по полу гостиной, и вспоминал укол искры на моей коже. Должно быть, когда меня только-только вытащили из воды, Дойл ко мне прикоснулся.
– Я не думал, что он способен такое отчебучить, Маленькая Птичка, – сказал он. – Клянусь, я думал, что он собирается сжечь карты. Знай я, чем это закончится, вообще бы к ним не прикоснулся.
– Это не твоя вина, – возразила Энола. – Брат всегда был таким.
Я позволил им обсуждать меня так, словно меня здесь вообще не было. Я слишком устал. Я оглядел комнату из-за плеча Алисы. Едва заметный бугорок на ее позвоночнике. Тяжесть ее до сих пор не высохшей косы. В кухне я увидел ссутулившуюся фигуру Фрэнка. Ли тоже была в кухне. Она двигалась вполне целенаправленно, заварила чай и сунула чашку в руки моей сестры с таким невозмутимым видом, словно ее мир недавно не разбился вдребезги. Энола, возможно, даже не поняла, откуда взялась чашка в ее руках, однако начала пить чай. Я еще раз посмотрел на мать Алисы. В уголке ее губ играла едва заметная улыбка. У нее было такое выражение лица, словно она хотела сказать: «Пусть выговорятся».
Голос Алисы был мягок, но в нем ощущалась сила. Рассерженная библиотекарша.
– Он трудился не покладая рук все эти годы. Ты это знала? Он волновался о тебе, не знал, вернешься ли ты когда-нибудь. Саймон на протяжении многих лет медленно себя убивал.
– Думаешь, я о чем-либо догадывалась? – тихо отозвалась Энола.
– Блин! Что он будет делать? – спросил Дойл. – В шоу Роуза он точно плавать не сможет.
– Блин! – вторила ему Энола.
Глубочайший стыд испытываешь тогда, когда умер, потом воскрес и приходится смотреть в глаза членам своей семьи. Теперь они думали, что я буду тонуть по три раза за ночь в баке-ловушке у Роуза. Я воображал, как они обсуждают, что со мной делать, нужно ли за мной присматривать. Я не привык, чтобы обо мне заботились, но есть определенные обязательства перед членами семьи. Пусть уж заботятся обо мне, если им так хочется. Никто из них, похоже, не заметил, что руки Энолы перестали дергаться, а Дойл уже не следит за ней украдкой. Нервозность ее покинула, и теперь сестра в большей мере напоминала мне ту маленькую девочку, какой была когда-то. Эта мысль отогнала стыд. Я победил. Пусть немного поволнуются. Заботясь обо мне, они не сразу заметят изменения в окружающем мире, в том, как пахнет солью воздух, не обратят внимания на перемены, произошедшие в нас.
– Он может жить со мной, – предложила Алиса.
Энола поинтересовалась, что я буду делать, где работать. Я перестал их слушать. Я представил себе спальню Алисы с абстрактной скульптурой из панцирей мечехвостов и с ее фотографией, сделанной Фрэнком.
Наши семьи – это наши якоря, удерживающие нас во время шторма. Они гарантируют, что нас не унесет от того места, где мы родились, что мы не забудем, кто мы такие. Мы несем наши семьи внутри нас подобно тому, как набираем воздух, ныряя. Они держат нас на плаву. Они поддерживают в нас жизнь. Я плаваю, прикованный к якорю с восемнадцати лет. Мне приходилось задерживать дыхание с самого моего рождения.
– Нет.
Никто меня не услышал, поэтому мне пришлось повторить.
Когда стало тихо, я сказал:
– Я не останусь здесь. Я хочу уехать отсюда.
Глаза Энолы округлились. Алиса выпустила из рук мою голову.
Глава 30
27 июля и далее
Песок оказался горячим, усыпанным камнями. Для старика такое не подходит. Надо прожить всю жизнь на берегу и иметь огрубевшие ступни, чтобы безбоязненно ходить по такому песку. Ощущение одиночества стало для него неожиданностью, впрочем, минуло уже немало времени с тех пор, как он ездил куда-либо без жены. Мари со снисходительным видом вызвалась присмотреть в его отсутствие за их букинистическим магазинчиком. Жена видела, как сильно он расстроен. Он был ей благодарен за то, что она его отпустила. Если бы не ее снисхождение ко всем его причудам и фантазиям, он бы ни за что сюда не приехал. Ему повезло. Настоящее взаимопонимание супругов – редкая бабочка. Он ступил ногой в воду. Господи! Какая же она холодная! Он уже успел соскучиться по своей жене и теплому одеялу лета в штате Айова. Это же Северо-восток, думал он, холодный и неприветливый. Старик не мог понять, как люди вообще здесь живут.
Ветхая лестница вела вниз с края обрыва. Сверху вслед за ним кто-то спускался. Судя по поступи, пожилой человек, хотя и не такой старый, как он. Тот, кто спускался, был крепким на вид, на голове носил рыбацкую шляпу, а одет был как типичный столяр. Незнакомец прошел мимо груды камней: это было все, что осталось от дома.
– Пляж – частная собственность. Вы чей-то гость? – спросил старик в рыбацкой шляпе.
– Вы, случайно, не Франклин Мак-Эвой? – поинтересовался незнакомец.
Недоумение отразилось на лице старика в шляпе. Он сдержанно кивнул.
– Я Мартин Черчварри, друг Саймона Ватсона. Он хорошо о вас отзывался. Вы не знаете, где он?
При упоминании имени Саймона лицо Фрэнка исказилось.
У Черчварри едва не подогнулись колени, но он устоял на ногах.
– С ним все в порядке? Я видел, что произошло с домом, – махнув рукой в сторону обрыва, произнес он.
– С ним все в порядке. Он уехал, – покачав головой, сказал Фрэнк. – Чертова ночка! Этот дом стоял здесь с XVIII века, а развалился за одну ночь. Саймону повезло, что его не было дома.
– Очень повезло.
Черчварри испытал огромное облегчение. Странно быть настолько озабоченным судьбой человека, которого в глаза не видел. Правда, он привязался к Саймону, пусть и беспричинно.
Оба старика зашли в воду и теперь стояли рядом, стойко перенося холод.
– Черчварри, вы сказали?
– Он обо мне рассказывал? – Брови старика поползли вверх.
– Пару раз упомянул в разговоре ваше имя.
Фрэнк разглядывал стоявшего рядом с ним старика: весь какой-то взъерошенный; штаны закатаны до колен; волосы цвета оружейной стали; кривоватый, давным-давно сломанный нос.
– Как вы познакомились с Саймоном?
Черчварри сунул руки в карманы своих поношенных штанов. Ветер дул ему в спину, а старик мучился вопросом, что Саймон мог рассказать о нем соседу. Он решил пойти окольным путем.
– Наши семьи когда-то были близки.
– Вы букинист, насколько я понял. Вы прислали ему ту книгу, – сказал Фрэнк.
– Я думал, ему понравится, – промолвил Черчварри. – В журнале много информации о его предках. Вы были знакомы с родителями Саймона?
– Да.
При упоминании Даниэля и Паулины он часто заморгал.
Я убил ее. Я убийца.
– А Саймон скоро вернется, как вы думаете?
– Сомневаюсь. Он написал вам письмо и оставил его мне. Теперь мне не придется бежать на почту.
– Письмо! Просто замечательно!
Волна хлестнула его по голеням. Он едва не упал. Вода очень холодная, а он уже не молод.
– Я его прочел, – сказал Фрэнк.
– Понятно, – произнес Черчварри. – Нельзя оставить письмо нераспечатанным.
Из воды выпрыгнул луфарь, взмахнул хвостом и плюхнулся обратно.
– В письме он в основном благодарит вас и извиняется за то, что не сберег ваши книги. А еще он просит вас кое в чем ему помочь. Лично я мало что понял, но думаю, и не должен был. – Он пожал плечами, судя по всему, нисколько не стесняясь своего поступка. – Письмо у меня дома. Можем подняться, если вы готовы взбираться по этим ступенькам.
Фрэнку подумалось, что ему следовало бы предупредить Ли. В прошлом он и подумать о таком не мог, но теперь ему пришлось много нового узнать о ее характере.
Опыт не из приятных. Это все равно что ходить босиком по скалам.
– Хорошо, – согласился Черчварри.
Ему хотелось бы поговорить с Фрэнком Мак-Эвоем. Что-то в лице этого человека показалось ему неуловимо родным и хорошо знакомым, словно это был старый приятель, с которым он часто веселился в одной компании. Вот такое дежавю!
– Сейчас у Саймона нет телефона, но он сказал, что свяжется с вами, как только они обустроятся на новом месте. Он уехал вместе со своей сестрой.
Слово они отдавало горечью.
– Ну да. Конечно… Он переехал. Я должен был догадаться, когда увидел, что осталось от дома. – Старик почесал себе затылок. – Начать все с нуля на новом месте – неплохая идея.
Черчварри еще раз взглянул на руины дома. Значит, сестра Саймона жива. Старик глубоко вздохнул. А он понятия не имел, что они собираются сбежать с острова. Он почувствовал на себе пристальный взгляд Фрэнка. Тот явно пытался его «раскусить».
– У вас же дочь? Кажется, Саймон мне говорил об этом…
Фрэнк кивнул.
– Она уехала с ним. Алиса, Саймон, Энола уехали все вместе.
Черчварри улыбнулся.
«Все сходится», – пронеслось у него в голове.
Что-то белое всплыло на гребень волны. Слишком далеко, чтобы дотянуться. Старик ждал, когда предмет пригонит к берегу.
– Семья Саймона, ваша семья, моя… Все мы связаны одной историей, – произнес Черчварри, не зная, как лучше выразить свою мысль. – В определенном смысле мы давно знакомы, мистер Мак-Эвой. Ваши предки несколько поколений назад носили фамилию Пибоди.
– Носили, ну и что? – Фрэнк хмыкнул.
– Я надеялся поговорить с Саймоном, думал, что ему это покажется важным. Фамилия Рыжков вам знакома? Возможно, Рыжкова…
Фрэнк отрицательно помотал головой.
– Ничего… Вас никогда не удивляло, что есть люди, к которым вы интуитивно испытываете симпатию?
– Особо не задумывался над этим, – солгал Фрэнк.
Черчварри глубоко вздохнул. Он никогда не понимал людей нелюбознательных. Впрочем, Фрэнк Мак-Эвой строит лодки, так что искра творческого горения у него должна быть. Маленький белый прямоугольник качался на волнах прилива. Черчварри наклонился, пытаясь его рассмотреть. Волна еще ближе подогнала к нему белый прямоугольник. Старик схватил его. Картон мягкий, размокший. Дальше в воде плавал такой же самый. Рука Черчварри задрожала. Острая боль пронзила ему грудь, но тотчас ее прогнало осознание того, что в руки к нему попал кусочек истории, его истории.
– Что это? – спросил Фрэнк.
– Карта Таро, мне кажется.
Старик распознал размытое изображение человеческой ноги с маленькой собачонкой. Дурак. Он наблюдал, как чернила расползаются возле его пальца, пока последнее свидетельство того, чем это было раньше, не исчезло.
– А-а-а… Блин… Это карты Паулины, – пробормотал Фрэнк.
Черчварри смотрел на волны, силясь разглядеть другие карты. Он вспомнил все, что ему рассказывал Саймон, и то немногое, что помнил из записанного в журнале. Конечно. Это были карты Таро. Что-то все же было в них, помимо очарования старой бумаги и выцветших чернил. То, что семья русалок уничтожила довлеющее над ними проклятие не огнем, а водой, показалось ему вполне логичным и поэтичным. Черчварри взглянул на стоящего рядом пожилого мужчину и подумал о молодом человеке, которого никогда не видел. Старик понимал, что его мнение мало что значит, главное – что думает обо всем этом Саймон. Из-за огромной водной преграды городок показался ему чересчур удаленным от большого мира. Быть может, книга распахнула в него дверь. Книги имеют свойство оставлять после себя круги на воде. Черчварри наблюдал за тем, как картонный прямоугольник опускается на глубину и исчезает там. В переливах воды на солнце он увидел надежду.
У самой кромки воды копошился какой-то темный силуэт. Черчварри разглядел, что существо слегка двигает острым хвостом. Он наклонился к воде.
– Мечехвост, – тихо произнес он.
Старик повернулся к Фрэнку и улыбнулся потомку первого владельца журнала.
– Замечательные создания.
Он думал о том, как они растут, сбрасывая время от времени панцири, под которыми оказывается новая, мягкая и блестящая кожа. Тысячелетия ползания, плавания, терпеливого заметания своих следов на песке хвостом. Старик улыбнулся.
– Мистер Мак-Эвой! Мне бы хотелось прочесть это письмо, а затем, полагаю, мы выпьем чего-либо этакого, если вы, конечно, не против. Мне кажется, что мы станем друзьями.
Единственное, что они слышали, – это шум движущегося автомобиля. Даже когда они проезжали через город, им казалось, что мир вокруг погрузился в дрему. Сборщик дорожной пошлины ничего не сказал по поводу помятого желтого трейлера, который тащил за собой ржавый автомобиль, каким-то чудом не рассыпающийся при езде.
– Видок, конечно, тот еще, но двигатель в порядке, – сказала Энола.
Алиса не знала, верить ли ей этому. А какая, в сущности, разница? Сломаться в Делавэре все же предпочтительнее, чем в Напаусете. Оставлять маму ей было тяжело, но если бы она не уехала, то было бы только хуже, просто невыносимо. «Не стоит детям видеть позор своих родителей, – сказала ей мать при расставании. – Это не навсегда. Приезжай, когда ты позвонишь, а мы оба ответим тебе по телефону». Алиса хорошо знала свою мать, знала, как Ли может пристыдить человека одним своим взглядом. Это отец испытает всю горечь позора. Алисе стало его жалко, но потом она решила вообще об этом не думать. Так легче.
Когда они проезжали мимо поросших камышом солончаков, затопленных морской водой, и собирателей съедобных моллюсков, которые, сидя на корточках, рылись в жиже, Алиса знала, что она в последний раз видит все это и будет скучать по знакомым пейзажам.
Теперь девушка смотрела на дорогу, прекрасно осознавая, что ей будет не хватать размеренного ритма ее прежнего существования. Она будет скучать по рассветам, которые встречала, стоя на пирсе с удочкой в руке и глядя на дом драматурга. Ее часто занимали мысли о бурном романе, который разворачивался в этом доме у нее на глазах. Алиса посмотрела в зеркало заднего вида. В нем отражались двое спящих на заднем сиденье мужчин. Голова Саймона покоилась на виниловой обивке. Он спал так, словно стремился восполнить все недосыпания за долгие годы. Не красавец, но ее. Дойл тихо похрапывал во сне. Временами крошечная искорка голубого света слетала с кончика его пальца, когда тот прикасался к стеклу.
Сидевшая рядом, на пассажирском месте, Энола повернулась к ней лицом и прошептала:
– Это все равно что лизать одноцентовик.
Алиса ничего ей не ответила, и Энола развила свою мысль:
– Многие спрашивают, как это – целоваться с ним. Он похож на новенькую монетку в один цент.
Алиса хранила молчание.
Через тридцать или сорок миль Энола тихим голосом сказала:
– Спасибо. Я не смогла бы до него добраться, просто не смогла бы.
Убрав руку с руля, Алиса нашла тонкие пальцы Энолы и пожала их. Выразить словами свои чувства ей было бы трудно. Есть вещи, которые ты делаешь для тех, кого знаешь всю жизнь. А вытаскивание человека из воды – сущие пустяки.
Они остановились в Мэриленде. В магазине продавалась особая бумага под старину с обрезанными вручную краями. На такой пишут перьевыми ручками, но и гусиным пером тоже неплохо писать. Саймону хотелось бы купить тетрадь в кожаном переплете, но денег не было. Они расплачивались наличными. Деньги принадлежали Эноле. Дойл извлек из одной из своих спортивных сумок мятые двадцатки, припасенные на черный день. У Алисы также были деньги, к тому же Фрэнку все же удалось всучить ей сотню долларов, когда он узнал, что дочь уезжает. У продавщицы округлились глаза, когда она увидела общую сумму, а Дойлу пришлось попотеть, перетаскивая пачки бумаги.
Ночью, сидя на скрипучей кровати в мотеле, в котором они остановились на пути в Саванну, Саймон что-то писал. Когда его голова начала клониться набок, Алиса, нагнувшись над ним, поцеловала его руки, на которых остались синяки в тех местах, где она хваталась за него, вытаскивая из воды. Алиса называла их отметинами жизни. У нее были сильные руки благодаря годам, проведенным за подниманием тяжелых томов и за рыбной ловлей. Она всегда была практичной девушкой, и это сделало ее хватку на удивление крепкой.
Позже, когда Саймон лежал, прижавшись животом к ее спине, он тихо прошептал:
– Извини, извини, извини… Спасибо.
Он писал книгу. Когда они добрались до усыпанных колючками деревьев, а значит, оказались на настоящем Дальнем Юге, Алиса начала беспокоиться, не признак ли это очередной одержимости. Она спросила, зачем это ему, если они все начинают сначала.
– Эта рукопись живет во мне, – ответил Саймон.
Слова повисли в воздухе, а спустя какое-то время Алиса заметила, что он рисует темноволосого ребенка, отдаленно похожего на Энолу в детстве. Он сочинял свою собственную историю. Начиналась она с рассказа о бродячей труппе циркачей, далее следовал материал, основанный на его заметках о забытых женщинах, о Рыжковых, потомках Пибоди, о ней самой.
– А что ты будешь делать, если информации не хватит?
– Черчварри мне поможет, – ответил Саймон и пожал плечами. – Со временем мы прекрасно сработаемся. Когда имеешь дело с мрачной таинственной историей, без построения собственных гипотез не обойтись. Мы заполним лакуны. Впрочем, они и сами заполнятся.
Он собирался писать не только о мертвых женщинах, которые завладели его мыслями, но и о самом себе. Саймон так и сказал: о нас – что раньше было для него нехарактерно.
Алиса знала, что ее имя найдет место в этом сочинении вместе с его собственным. Есть вещи, которые ты делаешь для тех, кого знаешь всю жизнь. Ты позволяешь им тебя спасти, ты переселяешь их в свои книги и ты готов начать с ними совместную жизнь с чистого листа.
Примечания
1
Мечехвосты – морские членистоногие, получившие свое название за длинный шип, расположенный в задней части туловища. (Здесь и далее прим. пер., если не указано иное.)
(обратно)2
Форзац – обычно сложенный пополам лист бумаги, помещаемый между переплетной крышкой и книжным блоком. По характеру оформления бывают простые, тематические и декоративно-орнаментальные форзацы.
(обратно)3
Хроматография – здесь: процесс многократного перераспределения веществ.
(обратно)4
Селки (шелки) – мифические существа из шотландского и ирландского фольклора, морской народ, прекрасные люди-тюлени; могут превращаться из тюленей в людей и обратно.
(обратно)5
«Энола Гэй» – собственное имя стратегического бомбардировщика армии США, сбросившего 6 августа 1945 года атомную бомбу «Малыш» на японский город Хиросима.
(обратно)6
Желание уйти, убежать от действительности.
(обратно)7
Судьба, предопределение (араб.).
(обратно)8
Хогсхед – единица измерения объема жидкости, 1 хогсхед равняется примерно 250 литрам.
(обратно)9
Я. Ты. Он. Она. Мы (фр.).
(обратно)10
Дори – рыбачья плоскодонная лодка.
(обратно)11
Пандора – в древнегреческой мифологии: женщина, открывшая полученный от Зевса ларец (ящик, сосуд), из которого тут же по миру разлетелись все несчастья и бедствия, а под захлопнутой крышкой осталась на донышке лишь надежда.
(обратно)12
Филип Астлей (1742–1814) – английский наездник, владелец цирка, предприниматель и изобретатель, иногда называемый отцом современного цирка.
(обратно)13
Так называемый «огуречный» орнамент.
(обратно)14
Прошлое (фр.).
(обратно)15
Одежда (фр.).
(обратно)16
Здесь: домашняя одежда (фр.).
(обратно)17
Маршмэллоу – зефироподобные конфеты, состоящие из сахара или кукурузного сиропа, желатина, глюкозы и ароматизаторов, взбитых до состояния губки.
(обратно)18
Хорнпайп – британский танец, напоминающий джигу.
(обратно)19
Роберт Мозес (1888–1981) – известный американский градостроитель, во многом сформировавший современный облик Нью-Йорка и его пригородов.
(обратно)20
Дофамин – нейромедиатор, вырабатываемый в мозге людей и животных. Биохимический предшественник адреналина.
(обратно)21
Аллюзия на стихотворение «Тигр» английского поэта Уильяма Блейка (1757–1827).
(обратно)



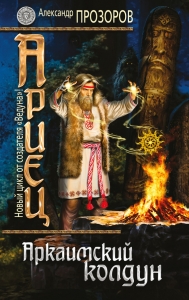


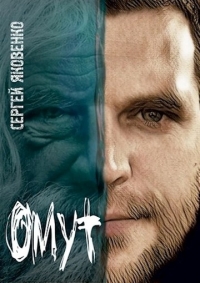
Комментарии к книге «Книга домыслов», Эрика Свайлер
Всего 0 комментариев