Немцы в городе Алексей Оутерицкий
© Алексей Оутерицкий, 2015
© «AO Project», дизайн обложки, 2015
Корректор Лариса Шикина
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
Генератор Митчелла
Никогда не может быть так плохо, чтобы не могло стать еще хуже. До определенного дня я этой истины не знал, хотя незнание не снимало с меня ответственности.
Но вот пришел день, когда я остался без денег. Более того. Хотя я уже обладал некоторым жизненным опытом и знал, что дензнаки имеют свойство заканчиваться неожиданно, это стало для меня именно неожиданностью.
Обстоятельство, до определенного момента сбивавшее меня с толку: денег было много. Именно поэтому мне казалось, что их хватит надолго. Что такой постулат был ошибочным, я понял с запозданием, вдруг обнаружив, что мне нечего жрать.
С другой стороны, все в жизни относительно и такую формулировку не следовало бы воспринимать буквально. Конечно, жратва была, даже немало. Но какая жратва. К примеру, картошка, которую следовало чистить и потом что-то с ней делать. Макароны, которые следовало варить. Пакетные супы, с которыми тоже нужно возиться, и так далее. Другими словами, не стало колбасы, кусок которой можно отрезать и сожрать с хлебом, предварительно намазав его маслом. Также не было масла, которым можно мазать тот хлеб, и не было самого хлеба. И еще не было чая, которым следовало все это запивать. Для изготовления такового не хватало всего пары ингредиентов, таких, как сахар и заварка.
Конечно, колбасу можно было купить, но для этого нужны были деньги, а они-то как раз и закончились. И у меня, по сути, оставался только один выход – попробовать самостоятельно их добыть. А добыть – означало заработать.
Я захлопнул холодильник и поплелся в коридор. На тумбочке возле телефона лежала телефонная книжка – длинный узкий блокнот в красном пластиковом переплете. Соприкоснувшись с его ребристой поверхностью, пальцы подарили организму тревожное ощущение. Наверное, это было связано с предстоящим звонком. Он не то чтобы был неприятен, но нес в себе некоторый элемент напряжения. А кому охота напрягаться.
– Семен Валентинович, здравствуйте.
– Здравствуйте.
– Это Саша… – Пауза. Человек на том конце провода ожидал продолжения, и я, спохватившись, торопливо сказал: – Простите… Александр Кузин.
– А-а-а, Саша.
В голосе появились интонационно мягкие нотки. Все-таки сын его друга. Или хорошего знакомого. Или приятеля. Коллеги. Или как там принято у людей зрелого возраста. Это в мои восемнадцать все друг другу кореша, а у взрослых, конечно, свои правила игры.
– Да. Я хотел бы… – Теперь паузу взял я, пытаясь собраться с мыслями. Как там у них принято обращаться с просьбами. – Я… э-э-э… – Пальцы свободной руки начали сами собой теребить упругую спираль телефонного провода.
– Саша, говори прямо. У тебя какие-то проблемы?
– Видите ли… – промямлил я, посмотрел на себя в настенное зеркало и внезапно перешагнул этот дурацкий, скорее надуманный, порог. Какого черта. Говори как есть и меньше думай о словесном оформлении своей просьбы. В конце концов, тебе простительно. Тебе восемнадцать и ты сын его друга. Или приятеля. Или коллеги. – Я попал в… э-э-э… несколько затруднительное положение, Семен Валентинович.
– Что-то случилось? – В его голос вернулась настороженность. – Надеюсь, это не связано с милицией или…
– Нет, что вы! Я просто остался без денег.
– Ага… – Он несколько секунд помолчал, что-то про себя прикидывая. – Сколько тебе нужно?
Я сообразил, что сделал промашку.
– Вы неправильно поняли, – поспешно сказал я, – я вовсе не то имел в виду. Я не к тому, чтобы попросить у вас взаймы. Мне бы устроиться на работу. Отец говорил, что в случае чего…
– Я помню о договоренностях с твоими родителями, Саша, – мягко оборвал меня Семен Валентинович. И опять взял небольшую паузу. На сей раз его молчание было деловитым, это чувствовалось даже на расстоянии, через провода. Такое молчание возникает, когда человек прикидывает про себя что-то конкретное – имена, даты, цифры. – Тебе когда в армию?
– Осенью. У меня отсрочка на полгода.
– Это не есть хорошо, – сказал Семен Валентинович. – Все заинтересованы в постоянных работниках, поэтому всегда проще, когда человек отслужил в армии.
– То есть… – начал я, но меня опять перебили:
– Впрочем, у меня неплохие завязки на ткацкой фабрике, поэтому, уверен, вопрос решаемый. Фабрика, кстати, находится…
– Я знаю. Это две остановки от моего дома, – сказал я.
– Хорошо. Давай договоримся так… Через час-другой я тебе перезвоню. Идет?
– Идет, – сказал я.
– Саша, родители звонят, пишут?
– Звонят. Примерно раз в неделю.
– И как они?
– Да нормально, Семен Валентинович. Командировка уже к концу подходит. Кажется, меньше месяца осталось.
– Вот и хорошо. При случае передавай им привет.
И Семен Валентинович положил трубку
Я вспомнил, что видел где-то пару упаковок с рафинадом, какие выдают в поездах, и побрел на кухню, искать. Если приплюсовать к этому рафинаду завалявшийся кулек с закаменевшими сухарями, наклевывался вполне сносный ужин.
Валентин Семенович позвонил утром. Затем позвонил Виталь и сообщил, что наши собрались ехать на озеро. Я отказался, сославшись на срочные дела, и весь день провалялся дома, пытаясь представить, какую мне предложат работу, но периодически сбивался на мысли о симпатичных девчонках – много ли их на этой фабрике. По идее, поскольку фабрика ткацкая, их там должно быть до хрена и больше.
В обед я отварил макароны, обыскал всю кухню, нашел банку с рыбой и, разбив молотком полбатона черствого хлеба, закатил настоящий пир, хотя макароны слиплись в однородную бугристую массу. А к вечеру вдруг поймал себя на легком мандраже перед предстоящим и понял, что наверняка полночи проваляюсь без сна – все же устраиваться на работу мне предстояло впервые. И вроде бы ничего особенного, но, одновременно, присутствовало какое-то напряжение, все-таки шаг был ответственным. Как-то это было по-настоящему, что ли…
В поисках подходящего чтива я забрел в кабинет отца. Уезжая, он почему-то не запер его, хотя наверняка опасался, что я стану таскать домой компании. Возможно, забыл, а возможно, сделал это нарочно, как бы показывая, что доверяет мне, считая взрослым. Честно говоря, такая версия мне нравилась, и только благодаря ей у меня возник соответствующий настрой, позволивший мне целый месяц непреклонно отбивать атаки дружбанов, неоднократно предлагавших закатить на моей квартире хорошую пьянку.
Интересно, что он не запер даже свой сейф, хотя это уже наверняка было сделано по элементарной рассеянности. Сейф я обыскал в первый же день и ничего полезного или интересного в нем не нашел. Какие-то папки с предостерегающими надписями «секретно», журналы с грифами «для служебного пользования», в основном на иностранных языках – в общем, всякая макулатура.
Я взял плотную папку, набитую машинописными страницами, прошитыми толстой красной нитью, и завалился на кожаный диван для отдыха, который обеспечивал отцу дополнительную автономность существования. Когда у отца была напряженная работа, он мог позволить себе выходить из кабинета только в туалет и для принятия пищи, поскольку есть предпочитал на кухне. Я подозревал, что это со стороны отца было вынужденной мерой, поскольку кажущееся преимущество принятия пищи в кабинете могло обернуться противоположностью – потребовалось бы периодически впускать мать для уборки посуды, крошек, еще каких-то хозяйственных работ, что помешало бы его уединению.
Интересно, что у матери своего кабинета не было и дома она не работала. Они с отцом даже не вели дома служебных разговоров, хотя были коллегами и, кажется, даже работали по одной теме.
Пробежав глазами по грифам, я убедился, что особой секретности в документах наугад выбранной мной папки нет, в данном случае дело ограничилось «служебным пользованием», а значит, какого-то особо злостного преступления мной совершено не будет. То есть, в случае чего меня не расстреляют, а ограничатся тем, что впаяют пожизненный срок.
Пролистнув пару страниц, я убедился, что сделал неудачный выбор. Речь шла о каком-то генераторе, причем словесная описательная часть была минимальной, зато всяческих мудреных формул и схем было столько, что у меня зарябило в глазах. Вставать, однако, было лень, да и вряд ли в сейфе были документы иного рода. Уж по крайней мере беллетристика отсутствовала точно.
Генератор, насколько я понял, не представлял собой мудреный агрегат типа какого-нибудь усложненного дизель-генератора, который мы проходили на уроке военного дела, он был чем-то неосязаемым, вроде случайно обнаруженного побочного эффекта при работе других, уже настоящих электрических и механических агрегатов, используемых на военном заводе, занимающимся производством какой-то сложной электронной аппаратуры. Эффект был обнаружен случайно и возникал только при определенной последовательности включения производственных мощностей одного из цехов этого завода.
Все было настолько непонятно, что я с грехом пополам уловил лишь общий смысл. Как я понял, выходило примерно так. Когда включался какой-то станок, обеспечивающий калибровку каких-то сверхточных и сверхсекретных деталей, причем включался он в силовом поле другого аппарата в этом же цехе, включенного ранее и настроенного особым образом, то при этих условиях и начинал работать этот чертов генератор, которого, по сути, не существовало и который был назван так условно. Причем искусственным образом воспроизвести возникновение такого эффекта пока не удавалось, силовое поле генератора возникало непредсказуемо.
С возросшим любопытством я пролистал еще пару десятков страниц и, наконец, наткнулся на самое интересное, а главное, хоть мало-мальски понятное. По крайней мере, здесь было меньше всяческих цифр и формул, а некоторые фразы были написаны даже относительно человеческим языком. Выходило, что этот чертов генератор, которого на самом деле не было, но природу возникновения которого необходимо было тщательно изучить, для чего отцу и были выданы эти документы с техническими характеристиками генератора – являясь побочным эффектом работающей аппаратуры, излучал какие-то волны с чрезвычайно любопытными характеристиками, которые, в свою очередь, также создавали необычный эффект. У людей, попавших в зону излучения генератора, менялось восприятие действительности, физические свойства организма и психическое состояние. Считалось, что при воздействии на биологический объект волн генератора повышается агрессивность объекта; также волны способствуют быстрой – практически мгновенной – регенерации тканей, могут спровоцировать на неадекватные поступки, а по окончании воздействия на организм волнового эффекта индивидуум забывает, что творилось с ним во время попадания в сектор воздействия загадочных волн. Иногда, правда, попавшие в зону действия работающего генератора могут частично сохранить память, но от чего это зависит, выяснить пока не удалось. Предполагалось, что это может быть связано с длительностью воздействия генератора или зависеть от особенностей подвергшегося облучению организма.
Также предполагалось, что волны генератора могут искусственно старить или молодить, но это ставилось под сомнение из-за недостатка данных для таких выводов. Высказывались также версии, что старение или омоложение имеет временный эффект или фиксируется только определенными группами людей, имеющими нестандартное восприятие окружающей среды, или самим попавшим под облучение индивидуумом – то есть является ложным.
К сожалению, к изучению воздействия волн генератора на живые организмы ученые только приступили, и изучение это представляло немалые трудности, поскольку условно называемый наблюдателем человек и сам попадал под воздействие генератора. Обычные методы видеосъемки не представлялись возможными, поскольку при включении генератора и возникновении волнового эффекта аппаратура переставала фиксировать происходящее, что также являлось на данный момент столь же необъяснимым, сколь и невероятным. По крайней мере, ничего подобного науке до сих пор известно не было.
Да и сами волны генератора не фиксировались приборами, то есть не являлись известными науке волнами – вообще само их существование было исключительно предположительным, на основе косвенных признаков.
Преодолевая сонливость, я листал прошитые и дополнительно скрепленные скоросшивателем листы как увлекательный детектив, хотя продраться сквозь формулы и специальные термины было делом нелегким. Оказывается, загадочные волны, которые то ли были, то ли нет, распространялись очень интересным образом. В описании следовали ссылки на всевозможные мудреные статьи типа «Распространение нелинейных волн в неоднородных движущихся средах», «Исследования развития волновых структур на неустойчивой границе каверны с помощью скоростной видеокамеры», «Нелинейные волны и солитоны», и прочую научную заумь. Короче, как я понял или мне показалось, что я понял, эти чертовы волны чертового генератора могли проявиться в произвольной точке, независимо от ее удаленности от источника. То есть волны проникали в окружающую среду произвольным образом, проходя через материю подобно воде, просачивающейся сквозь преграду по пути наименьшего сопротивления.
И одной из ближайших точек, в которой, как предполагали специалисты ведомства моего отца, проявлялись волны, периодически возникающие в одном из цехов секретного военного завода, расположенного в нескольких десятках километров от нашего города, был район фабрики «Текстиль». И с таким же успехом созданная этим генератором волна могла проявиться – и, возможно, проявлялась – где-нибудь в штате Алабама, на киргизском озере Иссык-Куль или возле индийского Тадж-Махала. Равно как и волны генератора в условной Алабаме могли проявиться или, возможно, проявлялись где-нибудь у нас, в СССР, или в том же Китае. Кстати, именно на одном из военных заводов США проявил себя впервые этот неуловимый генератор, и потому носил название «генератора Митчелла», по имени случайно обнаружившего необычное явление ученого. Точнее, возможно, подобные генераторы включались где-то и раньше, но именно в США был зафиксирован и описан эффект, возникающий при их работе.
Наверняка данные об американском генераторе выкрал наш разведчик, – подумалось мне, когда я закурил, не вставая, прямо в кабинете некурящего отца, что было строжайше запрещено домашними правилами.
А к тому моменту, когда меня окончательно сморил сон, я уже подковался во всевозможных генераторах и излучаемых ими волнах настолько, что чувствовал себя научным работником высочайшей квалификации, такой, которая могла бы позволить мне работать в ведомстве отца на руководящих должностях…
Выйдя из трамвая, я помчался к фабрике рысью, потому что, естественно, слегка проспал. Проспал же из-за того, что, естественно, забыл завести будильник. Завтрак состоял из горячей воды с сахаром и пары сухарей, поэтому еще следовало придумать, где достать деньги на обед.
Отдел кадров оказался метрах в пятидесяти от проходной. Двухэтажное здание белого кирпича было встроено в забор предприятия и имело вход с улицы. Это было удобно. Виталь говорил, что когда он ходил устраиваться на завод полупроводников, приходилось каждый раз выписывать пропуск, поскольку отдел кадров находился на заводской территории.
Наручные часы показывали девять ноль пять, а назначено мне было на девять. Кажется, ничего страшного.
Я поднялся по трехступенчатой лестнице крыльца, посторонился, пропуская работягу в серой робе, поколебался секунду, и спрашивать у него ничего не стал. Здание было небольшим и найти кабинет начальника отдела кадров не должно было составить труда.
Так и произошло. Через полминуты я стоял на втором этаже перед дверью с прямоугольной табличкой из полупрозрачной темной пластмассы, на которой путем гравировки с внутренней стороны была нанесена надпись в виде двух строчек из крупных светлых букв: «Начальник отдела кадров. Редькин П. А.».
Пригладив короткие волосы, я негромко постучал.
– Войдите.
Я потянул на себя ручку и зашел в довольно большой, стандартно обставленный кабинет. Было просто удивительным, насколько все эти кабинеты походили друг на друга. Военкоматы, отделы кадров, паспортные отделы, короче любые кабинеты любых казенных учреждений – все были оформлены словно под копирку. Почему-то государственные дизайнеры взяли за правило обивать стены деревом до полутораметровой примерно высоты.
– Садитесь.
Стул подо мной скрипнул и я принялся разглядывать явно небольшого роста мужчину лет под сорок, сидящего за столом. Он имел классический бухгалтерский вид, вид человека, незнакомого с физическим трудом. Залысины, роговые очки, рыхловатое тело округлых очертаний, с небольшим, выступающим из створок распахнутого пиджака животом. Закатать такому разок в лобешник, он и с копыт долой, – снисходительно подумал я. Против человека, которого видел впервые, я, разумеется, ничего не имел. Я вообще был парнем мирным и всю сознательную жизнь старался по возможности избегать физического рода конфликтов. Но последнее время, примерно с полгода, любого незнакомца первым делом оценивал на физические возможности, это происходило как-то само собой, автоматически. Возможно, потому, что после недавнего сближения с Виталем, который учился в параллельном классе и считался одним из первых драчунов в школе, пришлось поучаствовать с ним в нескольких уличных переделках – он просто не способен был жить без приключений.
Прошло около полуминуты, а начальник кадров все молчал. Он даже не взглянул на меня, изучая разложенные на столе бумаги. Слышалось только его пыхтение – кажется, он страдал одышкой или у него был заложен нос.
Я негромко покашлял.
– Что у вас?
Он, наконец, соизволил поднять голову и посмотреть на меня.
– Я это… ну, на работу к вам устраиваться.
– И на какую работу вы бы хотели устроиться?
– Я… насчет меня звонили. Ну, должны были позвонить. Вчера. Валентин Семенович.
– А-а-а… – Это прозвучало разочарованно. Начальник снял очки, посмотрел на стекла, словно решая, стоит ли их протереть, потом опять водрузил очки на нос и опять уставился на меня. – Вы тот молодой человек, которому в армию скоро, кажется.
– Через полгода.
– Вообще-то мы заинтересованы в специалистах, которые настроены работать у нас постоянно и…
– Неужели вы совсем ничего не можете мне предложить?
– Ну почему же. Предложить я, конечно, могу. К примеру, нам требуются токари и ученики токарей. Это, как вы понимаете, долговременная работа.
– Подождите, – сказал я, – не может быть, чтобы на большом производстве не нашлось чего-нибудь такого… ну, грузчики там, или…
– Может, вам все-таки стоило бы попробовать поработать учеником токаря? – вяло сказал начальник. – Присмотреться к профессии, пощупать все своими руками… Ученики у нас получают около ста рублей. Потом, сдав на разряд, станете зарабатывать больше. Возможно, вам бы понравилось и вы после армии… Кстати, вы, кажется, и живете неподалеку?
– Ну да.
– Вот видите. Вернетесь из армии и продолжите. Токари пятого разряда у нас вполне прилично зарабатывают. К тому же, вы сможете встать в очередь на квартиру, если, конечно, вы к тому времени…
– Спасибо, – сказал я и вздохнул. Этот разговор меня тяготил. По учреждениям я ходил редко и исключительно по необходимости, стараясь по возможности всего этого избегать, ну, за исключением таких случаев, как получение паспорта или поход в военкомат по повестке, к примеру. Поэтому опыта общения со всяческого рода чиновниками у меня было мало и я чувствовал себя не в своей тарелке… Я вздохнул еще раз и сказал: – После армии будет видно. На данный момент мне не до выбора профессии и всего такого. Это все слишком серьезно, тут думать надо. Сейчас мне бы просто денег заработать. Родители в командировке, вернутся не раньше чем недели через две, а я уже все растранжирил. Понимаете, даже пожрать купить не на что. Ну, то есть, поесть. Извините.
– Подождите. Так вы хотите устроиться на две недели, до приезда родителей?
– Да нет, что вы. На все полгода, пока не призовут. Про две недели, это я так сказал, просто. Для прояснения ситуации как бы.
– Ладно, – сказал начальник и по его тону я понял, что уговаривали меня по обязанности, не особенно надеясь на результат. – У вас со здоровьем все в порядке?
– Абсолютно.
– Тогда можно попробовать определить вас на склад, отгружать готовую продукцию. Будете зарабатывать примерно сто восемьдесят рублей в месяц. Устраивает?
– Вполне, – сказал я и вздохнул уже с облегчением. Пустопорожние переговоры остались позади и теперь, как я понимал, должна была последовать конкретика.
Так и оказалось.
– Хорошо, – сказал начальник. – Сейчас я перечислю справки, которые вам потребуются при оформлении. Будете записывать или запомните?
– Запомню.
Перечислив документы, начальник сказал:
– А зовут меня Павел Аркадьевич.
– Рад знакомству, – машинально сказал я и только потом подумал с сомнением, стоило ли говорить подобное в деловом учреждении. И добавил: – Если поликлинику сегодня пройду, все эти справки будут у меня к завтрашнему дню.
– Отлично. Подходите в это же время, – сказал Павел Аркадьевич и опять уткнулся в свои бумаги. Я встал. – До завтра, – сказал он, не глядя на меня.
Небольшое белое радио на подоконнике тихо выдавало очередную песню. «Прощай, на всех вокзалах поезда уходят в дальние края-а-а», – пел Лев Лещенко.
Документы начальник отдела кадров просмотрел быстро, но внимательно, как настоящий профессионал.
– Все в порядке. Сейчас оформлю вас должным образом и объясню, как пройти на рабочее место, в ремонтно-механический цех.
Несколько секунд я сидел молча, разглядывая портрет Брежнева за спиной кадровика, потом вдруг до меня дошло.
– Постойте. Мы же договорились, что я буду работать на складе.
Начальник прекратил заполнять какой-то бланк, поднял голову.
– Это ненадолго. Буквально на неделю, не больше. Ситуация так сложилась, у них сейчас катастрофическая нехватка рабочих рук. Лето, народ в отпусках.
– Но… – Я нахмурился, пытаясь подобрать аргументы. В принципе, ничего страшного, неделю можно отработать и в ремонтно-механическом. Другое дело, как бы это временное в итоге не превратилось в постоянное. – Я ведь и не умею ничего такого.
– Ничего такого от вас и не потребуется, – сказал кадровик. Он не вернулся к заполнению бланка, продолжая смотреть на меня, и я понял, что если сейчас откажусь, могу вообще пролететь с работой. – Поработаете на подхвате. Что такое наждачный станок, знаете?
– Знаю, конечно.
– Помочь сварщику способны? Ну, пока он варит, придержать детали, к примеру. – Я выразительно фыркнул. – На сверлильном станке работали?
– Ясное дело. У меня по труду всегда пятерка стояла.
– Ну и все тогда, – сказал кадровик. – Так что, продолжаем оформлять?
Я вздохнул.
– Продолжаем…
Я стал смотреть в пыльное окно за спиной начальника. Крашеная белым решетка на окне, с его внешней стороны, была стандартной для подобных кабинетов – четвертинка солнца в нижнем углу с расходящимися от нее лучами, а сквозь них мне в глаза били лучи настоящие. В одном из лучей пронизывающего кабинет солнца барражировали блестящие пылинки.
Лев Лещенко пел из радио на подоконнике: «Прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января-а-а»…
Кадровик покончил с бланком, сделал какую-то запись в толстенном журнале, отдал мне паспорт, потом раскрыл пустую папку, чтобы положить в нее заполненные на меня бумаги, взял медицинскую справку и…
И тут что-то началось. Я не понял, что это, но почувствовал, что все вдруг изменилось. Воздух стал каким-то… Хотя нет, воздух оставался прежним. В окно по-прежнему светило солнце. За окном по-прежнему тарахтел старенький движок стоящей возле отдела кадров грузовой автомашины – я проходил мимо нее минут двадцать назад. В общем, вроде ничего не изменилось, но все стало как-то не так. Мое тело стало каким-то не таким, или мне это показалось. Потом все звуки стали совсем-совсем тихими или и это мне показалось. Потом все вокруг раздвоилось и через мгновение опять обрело резкость. Потом…
Потом начальник поднял голову, стал смотреть на меня, и мне почему-то стало жутко. В правой руке он продолжал держать медицинскую справку. Левой он, не отрывая от меня взгляда, выдвинул ящик стола и что-то достал оттуда. Раздался металлический щелчок, я сместил взгляд и увидел, что это выкидной нож с примерно десятисантиметровым лезвием.
Лев Лещенко проникновенно продолжал: «И ничего не говори, а чтоб понять мою печаль, в пустое небо па-а-асматри-и-и-и»…
Начальник вскочил. Его ощерившиеся зубы отчетливо скрипнули, а за спиной с деревянным стуком упал стул. Он не глядя высвободил плечи и скинул пиджак на пол.
– Что, баклан, допрыгался?
Я вскочил и попятился, чувствуя, что кто-то из нас сошел с ума, потому что того, что происходило, происходить не могло.
– Деньжат, значит, решил по легкому срубить…
Я молча сглотнул. Кадровик медленно поднял руку и несколько секунд смотрел на мою медицинскую справку, словно не понимая, что это такое и как оно оказалось у него в руке. Затем резким движением проткнул эту справку ножом точно по центру и не глядя отбросил ее в сторону.
– Павел Аркадьевич…
Я сам не ожидал, что вспомню его имя и отчество, которые забыл еще вчера, не более чем через минуту после того, как они были произнесены. Я смотрел на плавно кружащуюся бумагу и мне казалось, что она падает бесконечно долго, как в замедленной съемке.
– Сейчас я вырежу тебе аппендикс, босота…
«Лай-ла, ла-ла-ла ла-ла-ла ла-ла-а-а, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-а-а-а», – начал припев Лещенко.
Опершись освободившейся ладонью о стол, кадровик мощно оттолкнулся ногами и перемахнул его как профессиональный спортсмен, с одним-единственным касанием. Его рыхлое доселе тело уже не было таковым. Конечно, оно оставалось все таким же округлым, но теперь это не была безвольная жировая масса – при каждом резком движении ткань рубашки кадровика громко трещала, распираемая налившимися стальными мышцами.
– Павел Аркадьевич…
Он замер на несколько секунд, а я, не отрывая от него глаз и медленно, сантиметр за сантиметром отступая, вдруг уперся спиной в стену.
Кадровик тоже смотрел на меня и тяжело дышал, потом неожиданно перебросил нож из левой руки в правую. Он сделал это не глядя, очень точно, нож ударился о ладонь и остался там, словно приклеившись, а потом Павел Аркадьевич стал быстро перебрасывать нож из руки в руку, вращать его поочередно каждой кистью, делая это и так, и сяк – он подбрасывал, ловил, опять подбрасывал, опять ловил, опять перебрасывал из руки в руку, делая все так ловко и непринужденно, словно тренировался всю жизнь, а я смотрел на его фокусы не отрываясь, не смея моргнуть. Такое я видел только в фильме про головорезов из французского легиона, мы с пацанами ходили смотреть его раз пять, в основном как раз из-за этой сцены и нескольких подобных. Но у кадровика все получалось куда ловчее, чем в кино. Еще я обратил внимание, что очки кадровика куда-то подевались – наверное, в какой-то момент упали на пол, – но он прекрасно обходился без своих линз. Возможно, передо мной стоял зомби или что-то вроде того.
– Молись, с-с-сука…
Он сделал ко мне два шажка, сократив расстояние примерно до трех метров, и я уже буквально вжался спиной в стену. Шажки были мягкими, такие называют кошачьими, и такими еще подступают к жертве уверенные в своей силе звери.
– Павел Аркадьевич!
Я не узнал свой голос. Он прозвучал пискляво, сдавленно, вообще по-дурацки. Так в моем дворе не пищали даже мелкие девчонки в песочнице, с подобными интонациями разве что блеяли овцы.
– Что, поиграем?
Он сделал еще один мелкий шажок, одновременно выбросив вперед правую руку, но, ясное дело, все это было только для того, чтобы попугать, потому что расстояние между нами было пока великовато. Я непроизвольно дернулся. Через долю секунды последовал быстрый переброс ножа в левую руку – еще шажок, еще выпад, лезвие в очередной раз ослепительно сверкнуло на солнце…
Я чувствовал, что давно покрылся испариной – весь, с головы до пяток. С ножом на меня нападали впервые. Конечно, переделки, в которые мы несколько раз за последнее время попадали с пацанами под предводительством Виталя, не прошли для меня даром, на улице я чувствовал себя довольно уверенно, но все же нож – это было чересчур. Я реально испугался. А если уж быть совсем точным – конкретно перессал. А главное, того, что сейчас происходило, на самом деле попросту не могло быть. Не могло быть, потому что быть не могло, и это усиливало мандраж и ощущение нереальности до крайности. Но ведь все это было…
– Павел Аркадьевич! Я просто пришел устроиться на работу!
Опять переброс, еще раз, еще, расстояние сократилось уже до двух метров, а кадровик, упруго качаясь из стороны в сторону, как делают специально обученные бойцы специальных ведомств, чтобы в них не попала пуля, все топтался передо мной, выписывая полукруги, явно выбирая момент для решающего броска – это было видно по его сузившимся и холодным, как у змеи, глазам.
Я уже уверился, что мне настал конец, когда произошли еще кое-какие изменения. Меня внезапно одолела такая ярость, что количество испарины удвоилось. И это уже не была прежняя испарина труса, это была испарина зверя, такого, каким вдруг стал этот чертов кадровик или кто он там на самом деле – вампир, зомби, или просто сумасшедший, или…
– Значит, пожрать, говоришь, не на что…
Он прыгнул на меня, как рапирист, выбросив вперед руку с ножом, но я молниеносно отскочил в сторону и замер, набираясь решимости на рывок к стулу. Зло скалясь, кадровик повернулся за мной, как ракета с головкой самонаведения. Судя по взгляду, его ничуть не удивила моя неожиданная проворность, он просто воспринял это как данность и, возможно, произвел в голове какие-то поправки, учитывая изменившиеся обстоятельства.
– Куда, с-с-сука! – Конечно, как профессионал он сразу просек, что я решил пробиться к столу. Это было трудно, почти невозможно, потому что мне предстояло обогнуть адскую боевую машину, в которую превратился кадровик. С другой стороны, я чувствовал, что появившиеся во мне сила и ярость столь велики, что наши шансы уравнялись. – Стоять, с-с-сказал!
Дальше я сделал нечто невообразимое и неожиданное для меня самого. Я резко присел, уперся руками в пол и совершил несколько круговых движений ногами, пронося их под поочередно поднимаемыми руками, как это делают гимнасты на коне. На втором махе я сумел сшибить не успевшего подпрыгнуть кадровика, но он вскочил, едва коснувшись пола, словно мячик, оттолкнувшийся от земли, тут же бросился на меня сверху, но я тоже сумел среагировать, перекатился всем телом, и его нож, пробив линолеум, с треском вонзился в дерево пола. Мы вскочили одновременно и бросились в одну сторону – я к стулу, а он ко мне, причем нож по-прежнему был в его руке.
В следующем раунде никто не имел явного преимущества – я размахивал стулом и ему приходилось уклоняться, а мне приходилось уклоняться от ножа, которым размахивал он. С того момента как рассосалась моя растерянность, я четко контролировал процесс, в том числе и течение времени, и ясно осознавал, что схватка продолжалась не более пары минут. Лев Лещенко даже не успел допеть свою песню.
«Ты помнишь, плыли в вышине-е-е, и вдруг погасли две звезды»…
– Ты не жилец, с-с-сука…
– Ни хрена… сам сдохнешь первым, падла…
За все время никто не смог нанести сопернику результативного удара. Я ловко избегал ножа, а кадровик не менее ловко увертывался от стула. Я хладнокровно справлялся с порывом запустить его в кадровика, понимая, что, если промахнусь, второй раз он меня к моему увесистому оружию не подпустит.
В какой-то момент полноценным участником процесса стал стол – мы прыгали на него, с него и через него, как мушкетеры в кино, используя его как укрытие, трамплин или вышку для прыжков вниз. В какой-то момент мы оказались по разные стороны стола, он на своем рабочем месте, я на месте посетителя, и тут…
Я очнулся. То есть, так мне почему-то подумалось, что я очнулся. На самом деле я просто вдруг оказался в каком-то месте, и пришлось доли секунды вспоминать, что это за место и почему я здесь. Кажется, так бывает с эпилептиками; рассказ одного такого мне как-то довелось слышать. Парень говорил, что несколько раз очухивался на асфальте, вокруг толпился народ с испуганными лицами, а он чувствовал слабость и не мог понять, что произошло. Объяснениям, что он неожиданно упал и забился в конвульсиях, парень не верил.
Но я точно не падал, я был уверен в этом. Просто, наверное, на секунду потерял над собой контроль. И наверняка виной тому чертова жара. Точно, как-то раз в детстве мне довелось испытать подобное ощущение, когда мне напекло голову на пляже.
Я обнаружил, что стою перед столом кадровика и зачем-то держу стул. Сам кадровик возился где-то за своим столом, его не было видно, только слышалось частое тяжелое дыхание. Я быстро, пока он не заметил, поставил свой стул, присел и попытался изобразить невозмутимость, хотя пребывал в изрядной растерянности. И она усилилась, когда я ощутил, что и сам дышу как паровоз и почему-то весь мокрый от пота. И еще, оказывается, у меня на боку лопнула рубашка и отлетела пара верхних пуговиц, а я не заметил этого, когда выходил из дома. Интересно, заметил ли это кадровик? Черт, неудобно как-то получилось. Еще подумает, что я приплелся сюда после грандиозной попойки.
– Очки, кажется, упали… – пробормотал начальник, выпрямляясь.
Он выглядел слегка растерянным и избегал смотреть мне в глаза. Я заметил, что у него разошелся шов левой брючины под самой ширинкой, а мокрая насквозь рубашка сзади вылезла из штанов, но ничего не сказал, конечно. Мне показалось неудобным указывать ему на это.
«Но лишь теперь понятно мне, что это были я и ты…», – пропел Лев Лещенко.
Кадровик аккуратно поставил стул на место, присел и какое-то время, опустив голову, смотрел в стол, словно вспоминая что-то или пытаясь что-то сообразить. В течение двух десятков секунд мы сидели, стараясь скрыть друг от друга тяжелое дыхание, потом кадровик поднял голову.
– Жарко… – сипло сказал он.
Я поколебался, стоит ли что-то отвечать, потом коротко сказал:
– Да.
– Открою-ка я окно.
Он с кряхтеньем поднялся, повернулся ко мне задом и я увидел, что его штаны разошлись и сзади. Точнехонько по центральному шву. И опять я постеснялся ему об этом сказать.
Он открыл форточку и стук грузового движка с улицы стал громче. Кадровик постоял секунд десять, глядя в окно, затем вернулся на место и сказал:
– Значит, договорились. Сначала отработаете в ремонтно-механическом. Недолго, около недели.
– Да.
Кадровик принялся складывать всевозможные бумаги, которые почему-то оказались беспорядочно разбросанными по столу, словно по кабинету прошел ураган, затем спросил:
– Где справка из поликлиники?
Я пожал плечами. Затем заметил краешек белеющей под столом бумаги и наклонился.
– Вот она.
– Ага. Наверное, сдуло сквозняком. – Он принял у меня медицинскую справку и нахмурился. – А это еще что такое?
Я увидел прорезь ровно по центру бланка и опять пожал плечами.
– Ну, знаете, – недовольно сказал начальник кадров, а я спохватился, что не запомнил его имени-отчества. Ну да ладно, можно просто обращаться к нему на «вы», этого вполне достаточно. – С документами так обращаться не принято. Другой на моем месте отправил бы вас за новой справкой. Хотя бы для того, чтобы приучить вас к аккуратности.
Он спрятал медицинскую бумагу в папку с моими документами, побарабанил по столешнице пальцами, как человек, собирающийся с мыслями, а я вдруг заметил на его столе раскрытый нож. Это был отличнейший нож с выкидным лезвием и стильной пластмассовой рукояткой – белые пластины, чередующиеся с черными.
Кадровик перехватил мой взгляд, посмотрел на нож и сказал:
– Да, кстати. Специально достал этот нож, чтобы вам показать. Не вздумайте, работая в ремонтно-механическом цеху, пробовать изготавливать подобные штуки. Такие ножи относятся к холодному оружию, и изготовление или ношение таких предметов является нарушением закона… Этот был отобран у одного рабочего, как раз из ремонтно-механического. С тех пор держу его здесь, чтобы предупреждать устраивающихся туда работать.
– Да я и не умею такие штуковины делать, – сказал я, даже не скрывая сожаления. И с этим сожалением проводил замечательный нож взглядом – кадровик сложил его и спрятал в выдвижной ящик стола.
Затем он достал из того же ящика флакончик и небольшую кисточку. Смазав клеем принесенную мной фотографию размером три на четыре, он аккуратно пристроил ее на временном пропуске из серого картона, сильно прижал и разгладил большим пальцем.
– Значит, так, – сказал кадровик, поставив штамп и продвигая пропуск ко мне, – сейчас через проходную, затем прямо, вдоль длинного трехэтажного здания. Это ткацкий. За ним направо и через полсотни метров утыкаетесь в ремонтно-механический. Двухэтажный, из белого кирпича. Он там такой один, не ошибетесь. Поднимаетесь на второй этаж, находите кабинет начальника цеха, представляетесь. Дальше начальник вам все объяснит. Насчет нового работника я ему уже позвонил.
Несколько секунд я еще сидел, выжидая, вдруг мне скажут что-то еще. Потом встал, сунул пропуск в нагрудный карман. При этом старался держаться к кадровику левым боком, чтобы он не заметил разошедшейся по шву рубашки.
– Спасибо, – сказал я и вышел из кабинета.
Тетка в стеклянной будке внутри просторной проходной кивнула. Я опять спрятал пропуск в карман, миновал вертушку и оказался на территории фабрики. Сориентироваться не представляло сложности – кадровик достаточно ясно все описал.
Я двинулся по асфальтовой пешеходной дорожке вдоль трехэтажного цеха, из которого доносился мощный гул машин и частый железный стук. Наверное, это бились об ограничители ткацкие челноки или что-то в этом роде. Вокруг было пусто, только вдалеке навстречу друг другу ехали два автопогрузчика. Кажется, на фабрике была строгая дисциплина и просто так никто не болтался.
Из высоких дверей цеха на дорожку вышли две тетки в синих рабочих халатах ниже колена и цветастых косынках, и пошли передо мной. На меня они взглянули мельком и сразу отвернулись, очевидно я не вызвал у них интереса. Они у меня, впрочем, тоже. Теткам было лет по тридцать с хвостиком, но не в возрасте было дело, потому что мне нравились всякие, лишь бы симпатичные. Просто эти были какие-то бесформенные, одинаково приземистые, а ноги обеих походили на тумбы. Ступни той, что слева, украшали синие мужские носки.
Меня заинтересовала их обувь, поэтому я прибавил ходу, вглядываясь во что-то коричневое, похожее на кеды. Возможно, это так и называлось, только кеды были своеобразными: коричневая тряпичная основа без резиновых частей – на носках и сзади – с обычными, как и полагается у кедов, шнурками.
Тетка слева, в носках, похоже, засекла мое приближение. Она быстро обернулась, потом продолжила болтать с подругой. Направлялись они, по всей видимости, к двухэтажному зданию метрах в тридцати – кажется, это была столовая.
Нам оставалось пройти еще с десяток метров вдоль длиннющего, аккуратно подстриженного прямоугольного куста, высотой по пояс, после чего наши пути, очевидно, расходились. И тут вдруг что-то началось… Я не понял, что это, но почувствовал, что все изменилось. Воздух стал каким-то… Хотя нет, воздух оставался прежним. Да нет, ничего вроде не изменилось, только все стало как-то не так. Мое тело тоже стало каким-то не таким или мне это показалось. Оно словно очутилось в какой-то поглотившей или пронизавшей его среде. Потом все вокруг раздвоилось и через мгновение опять обрело резкость. А потом…
Потом тетка в носках обернулась и толкнула подругу локтем. Обе остановились и развернулись ко мне. Я тоже остановился и застыл метрах в трех от них. Мы молча смотрели друг на друга около десятка секунд, потом тетки переглянулись и растянули губы в улыбках.
– Что-то я тебя здесь не видела, – сказала та, что была в носках. – Светк, а ничего малец, а?
– А то! – сказала вторая и они громко заржали.
Я заметил, что у обеих были дурные зубы. У Светки отсутствовали два верхних передних, у подруги вместо одного верхнего переднего был темный обломок, а два, по бокам, тоже были темными, больными.
– Че, застеснялся? – спросила эта, в носках. – Светк, а покажем ему чего?
Я стоял, не понимая, что происходит. В голове что-то стучало, совсем как эти предполагаемые челноки в ткацком цеху, не так часто, но увесистее.
– Смотри, че у меня есть! – сказала Светка. Не отрывая от меня взгляда, она извернулась тазом в три четверти оборота, задрала халат и показала мне большущий зад с большими светлыми трусами. Когда-то белые, они потемнели от стирок, сильно вылиняли, а по центру, ближе к промежности, выделялось светлое желтое пятно. – Во, видал такую штуку? – Она дважды, со звонким сочным звуком шлепнула широкой ладонью себя по заднице, отчего та пошла быстрыми жидкими волнами, и загоготала. Ее задница и ляжки были в многочисленных бугорках и впадинках, как это бывает у женщин.
– А такое вот видал? – заходясь гоготом, сказала вторая, в носках. Она распахнула верх халата и вывалила наружу огромные груди в тоже застиранном, когда-то белом, лифчике.
Внезапно мой столбняк прошел – так же резко, как и возник. В пару скачков я преодолел разделяющие нас метры и выписал по оголенной заднице такого пинка, что эта дура едва не упала, а вторая, в носках, не потрудившись спрятать свое вислое молочное хозяйство, кинулась на меня как орлица, мазнула нестрижеными когтями по щеке и вцепилась в волосы с такой силой, что, когда я мотнул головой, в ее скрюченных пальцах остался изрядный клок.
Как ни странно, боли я не почувствовал. То есть совершенно не почувствовал, без малейшего преувеличения – просто не почувствовал и все. Испытал только безумную злость, сопровождающуюся шумом в голове. Я выписал пинка и этой, в носках, потом опять первой, потом они кинулись на меня разом, а я так же разом оттолкнул обеих двумя руками, а потом принялся гнать прекративших ржать теток увесистыми пинками и толчками, под треск расползающихся по швам халатов, невзирая на яростные попытки этих дебилок оказать сопротивление…
Я очнулся. То есть, так мне показалось. Просто я вдруг обнаружил себя на пешеходной дорожке, запыхавшимся, мокрым от пота, бредущим за двумя тетками в изодранных синих халатах, а что было минутой раньше, вылетело из головы. Кажется, такое ощущение испытывают эпилептики, я смутно помнил, что слышал от кого-то об этом. Да и сам, вроде, едва не получил когда-то солнечный удар – кажется, тогда я испытал похожие ощущения.
На миг меня все это испугало, но я тут же вспомнил, что только что сдал кадровику справку о состоянии своего здоровья, которое было признано врачами поликлиники по месту моего жительства вполне удовлетворяющим существующие медицинские нормы. Единственное, что не поддавалось объяснению, это тяжелое хриплое дыхание, словно я только что проделал труднейшую физическую работу. Впрочем, дыхание уже успокаивалось.
Две тетки передо мной почти синхронно оглянулись, скользнули по мне равнодушными взглядами, затем та, что слева, в синих носках, заметила:
– У тебя кровь на щеке, парень.
Обе, кстати, тоже были изрядно запыхавшимися. Наверное, из-за жары.
Я прижал к правой щеке ладонь, ощутил что-то липкое и пожалел, что за целый месяц так и не удосужился постирать носовые платки – чистых в доме не осталось и последнюю неделю я ходил без платка.
– Спасибо…
Я хотел обратить внимание теток на то, что у обеих изодрались халаты, но они уже свернули к двухэтажному зданию, кажется, это была столовая. Поплевав на ладонь, я протер щеку, но, похоже, только размазал неизвестно откуда взявшуюся кровь. Черт с ним, в цеху должна быть вода, надо только постараться привести себя в порядок до появления перед очами начальника.
– Подожди, – сказал начальник цеха. Таковым оказался долговязый мужик лет тридцати с небольшим, в очках и темном костюме. – Тебе точно не дали направление?
Я пожал плечами, кивнул. Потом, поскольку пауза затянулась, подтвердил на всякий случай голосом:
– Ну да, не дали.
– Ну, Аркадьич… Чем он там только думает.
Начальник вышел из-за стола, сделал ко мне шаг, протянул руку:
– Смирнов Иван Сергеевич… Ладно, в конце концов, не дальний свет, тут всего пять минут ходьбы. Сходишь, раз уж так получилось. Формальность, конечно, но…
– Конечно.
Он отпустил мою руку и я поплелся к выходу.
Я опять поднялся по ступенькам, опять столкнулся в дверях с очередным работягой в робе и посторонился, давая ему выйти. Это был уже другой парень. Я обернулся, посмотрел ему вслед, и вдруг обомлел, увидев в боку его спецовки прорезь, из которой текла кровь.
– Слышь… – тихо позвал я, но он не отреагировал.
Медленно спустившись, он побрел к проходной, а я на ватных ногах спустился за ним. Сердце часто билось, а в голове перемешались все мысли. Я хотел позвать парня еще раз, но не стал этого делать. Просто подумал: а что я ему скажу? Словно он сам не знает, что у него идет кровь. И раз не просит помощи, значит, в ней не нуждается.
Около минуты я стоял возле крыльца и смотрел ему вслед, пока парень не добрел до проходной и не скрылся за дверью. На улице было пустынно. Предприятие находилось на отшибе и здесь почти никогда не было людей. Я знал, что за фабрикой был небольшой поселок, но народ из него, чтобы попасть к общественному транспорту, пользовался другой дорогой, а на этой, пролегающей мимо проходной и отдела кадров, можно было встретить только девчонок с фабрики, живших неподалеку в общаге, и случайных редких прохожих.
Я развернулся и потащился на второй этаж, размышляя, что бы все это значило. Хотя, какая разница. К примеру, зацепился парень за гвоздь и сейчас заскочит в фабричный медпункт, только и всего. Ничего страшного.
По лестнице тянулся кровавый след, который продолжался в коридоре и вел к кабинету начальника отдела кадров. Внезапно из соседнего кабинета выпорхнула девица лет двадцати, в юбке «мини», красивая, в черных «лодочках» на высоких каблуках. Она стрельнула в меня подведенными глазками, потом опустила взгляд и негромко вскрикнула:
– О, господи… опять кровь.
Я стоял и смотрел на ее ноги, потому что они было гораздо занимательней, чем разбрызганная по коридору кровь, которую я уже видел. Она подняла голову, перехватила мой взгляд и нахмурилась, изображая недовольство, оттого что я ее разглядываю.
– Это не вы поранились?
– Да я только что вошел, – сказал я и опять непроизвольно перевел взгляд вниз.
– Ну-ну, – буркнула девица. Она задрала подбородок и, покачивая бедрами, быстро пошла к лестнице, а я стоял и рассматривал ее, пока она не скрылась за углом.
Потом постучал и секунд десять выжидал, приблизив ухо к двери. Ответа не последовало и я потянул за дверную ручку.
По радио опять крутили Лещенко.
«Прощай, от всех вокзалов поезда уходят в дальние края-а»…
– Можно?
Начальник отдела кадров возился где-то под столом, кажется, искал что-то туда закатившееся. Стул для посетителей, на котором я недавно сидел, был почему-то опрокинут. Я прошел по кабинету, поднял стул, и тут кадровик разогнулся. В руке он держал шариковую ручку.
«Прощай, мы расстаемся навсегда, под белым небом января»…
– А, это опять вы… – Голос прозвучал устало. Он уселся на свое место, ткнул пальцем в дужку очков на переносице, затем принялся поправлять лежащие на столе папки, которые почему-то были в беспорядке. – Вы что-то забыли?
– Вы не дали мне направление в цех, – сообщил я.
– А-а-а… точно, – кадровик хлопнул себя по лбу, – моя вина, признаю. Ну да ничего, – он уже рылся среди папок, наверное, разыскивая заведенную на меня, а я только сейчас заметил, что пол в кабинете тоже забрызган кровью, а в центре даже натекла небольшая лужица, – вы человек молодой, здоровый… ну, сходили лишний раз туда-обратно…
– У вас в кабинете кровь, – сообщил я, чувствуя, что в желудке слегка похолодело.
– Что вы сказали?
– Тут на полу кровь.
– А-а-а… – кадровик наконец нашел мою папку, вытащил из нее какую-то бумагу, положил передо мной, – да-да, я знаю. Тут только что был молодой человек. Он переводится в другой цех и пришел оформить необходимые документы… Кажется, парень где-то поцарапался. По крайней мере, так он мне сказал. Я предлагал вызвать «скорую», но он отказался, сказал, что ничего страшного. Тогда я посоветовал ему быстрее идти в наш медпункт.
– Да, я его встретил, – сказал я.
Тут кадровик сдвинул на столе какую-то очередную папку, и я увидел тот самый нож, предназначенный для демонстрации работникам, устраивающимся в ремонтно-механический цех. Он опять был раскрыт, и его лезвие было окровавлено. В моем желудке пробежала вторая волна холодка. Я посмотрел на кадровика, а тот, видимо озаботившись выражением моего лица, опустил глаза, чтобы рассмотреть, что меня разволновало.
– Черт! – воскликнул он с удивлением. – Так вот обо что он… Ну надо же! Как только он умудрился… Я ведь ему этот нож не давал. Просто достал, чтобы показать… кажется.
Он принялся искать что-то в ящике стола – наверное, тряпку или что-то подобное, чтобы протереть лезвие, а я встал, забрал свое направление и двинулся к выходу со своим холодком в желудке.
«Прощай и ничего не обещай, и ничего не говори; а чтоб понять мою печаль, в пустое небо па-а-асма-атри-и-и»…
В этот день я к работе так и не приступил. Когда я вернулся в цех, оказалось, начальник уехал куда-то по срочному делу, и я не меньше двух часов просидел на скамейке в курилке под лестницей, куда периодически приходили подымить работяги, пока один из них не посоветовал мне идти домой, поскольку уже закончился обед, а начальника все не было. Это, кажется, был мастер, здоровенный парень лет двадцати пяти, в узковатой в мощных плечах спецовке, которую украшали несколько прорезей на груди и дырка с обуглившимися рваными краями в районе живота. Ткань спецовки была в буроватых пятнах, словно ее застирывали от крови. Впрочем, здесь почти все были в подобных спецовках и я не обращал на подобные мелочи внимания, поскольку уже отупел от бесполезного ожидания и урчания в пустом желудке.
И я двинулся домой, голодный и злой, думая, где бы занять хоть немного денег, чтобы купить какой-нибудь жратвы. Кажется, придется попросить пару рублей у Петровича, соседа-пенсионера…
Едва я зашел в квартиру, зазвонил телефон. Виталь сходу обругал меня за то, что я не изволю брать трубку и он вынужден вхолостую трезвонить мне целый день, а потом сообщил, что завтра намечается грандиозное увеселительное мероприятие на садово-огородном участке родителей Серого и моя явка обязательна.
– Не могу, – сказал я без малейшего сожаления, потому что на него попросту не было сил, – мне завтра на работу. Я на «Текстиль» пахать устроился.
И, не слушая возмущенные вопли Виталя, дал отбой.
Я почему-то чувствовал такую усталость, что не пошел бы к телефону, зазвони он чуть позже, не в момент, когда я находился в прихожей. А еще у меня было чувство, что я смог бы сожрать слона.
Я как зомби доковылял до кабинета отца и рухнул на диван.
Виталь не перезвонил. Кажется, на мое счастье, он израсходовал последнюю двухкопеечную монету.
– На неделю? – разочарованно переспросил вчерашний здоровяк из курилки. – Мне вообще-то постоянные работники нужны.
– «Мне», – передразнил его начальник цеха. – А мне, будто, не нужны. На сколько дали, на столько дали, одним словом… – Он посмотрел на наручные часы. – Ладно, объясни молодому человеку, что тут у нас к чему, а мне пора.
Мы стояли у серого верстака, где парень моих лет точил напильником зажатую в тисках железяку, периодически высвобождая ее и замеряя штангенциркулем. Пару раз он поднимал голову, смотрел на меня и опять возвращался к своей болванке. Смотрел он без особого любопытства.
Я еще вчера обратил внимание, что работяги здесь выглядят изрядно заторможенными, слово они месяцами работают без выходных. Пожалуй, только этот здоровяк мастер держался довольно бодро.
Играла музыка. Лев Лещенко пел: «Прощай, от всех вокзалов поезда уходят в дальние края-а; прощай, мы расстаемся навсегда, под белым небом января-а».
– Ладно, на неделю так на неделю, – буркнул здоровяк в спину удаляющемуся начальнику и хлопнул меня по плечу. – Я мастер цеха. Зовут Александр Степанович, фамилия Викентьев. Но ты можешь звать меня Викентьичем, меня тут все так зовут, я привык.
– Александр Кузин, – представился я и поморщился, потому что рука здоровяка теперь сжала мою кисть словно тиски, которые стояли здесь везде, куда ни кинь взгляд.
– Тезка! – обрадовался мастер и хлопнул меня по плечу еще раз, а я еще раз поморщился, потому что удар у него был неслабым, под стать спортивной фигуре. Кажется, этот Викентьич был из породы жизнерадостных непосед, какие, наверное, имеются в каждом коллективе. Да вот хотя бы Виталь был точь-в-точь таким же. – Ну, пойдем, тезка, покажу наше хозяйство.
Он провел меня по проходу, с каждой стороны которого стояло по десятку верстаков с работающими мужиками разных возрастов, толкнул двойные пружинистые створки крашеной серым двери из дерева, с прозрачными плексигласовыми окнами, и мы вышли в еще один зал. Освещен он был, как и все помещения этого цеха, лампами дневного света. Верстаков тут не было, зато стояли всяческие интересные агрегаты. Наждачный станок в отдельном закутке с прозрачными плексигласовыми стенами, ручной пресс, ударная часть которого поднималась и опускалась путем раскручивания большого горизонтального колеса с ручками, сверлильные станки и прочие штуковины для обработки металла. В углу стоял аппарат с газированной водой.
Лев Лещенко настиг нас и здесь: «Прощай, и ничего не обещай, и ничего не говори; а чтоб понять мою печаль, в пустое небо па-а-асма-а-атри-и»… Похоже, в цеху везде были понатыканы радиоточки, которые никто не слушал. Так, стояли для фона и создания настроения.
– Газировка бесплатная, – сказал мне здоровяк и подмигнул. – Пей сколько влезет, на халяву.
Я натужно улыбнулся из вежливости, а Викентьич выпил залпом стакан и тут же опять нажал кнопку – похоже, на него действовала жара или он был с неслабого бодуна.
Зал был угловым и имел большие двери-ворота с небольшими плексигласовыми окошками, запираемые изнутри на засов. Наверное, через эти ворота и втаскивали сюда когда-то все эти громоздкие железные штуковины. Засов был открыт – похоже, одной створкой ворот пользовались при надобности как дверью, чтобы сократить путь, не ходить по всем этим залам, образовывающим букву «Г». Я обратил внимание, что из стены возле ворот кусками обвалилась штукатурка, а сами они покрыты свежей серой краской.
Заметив, куда я смотрю, Викентьич, осушивший за минуту стаканов пять, не меньше, засмеялся.
– О, это было что-то! – сказал он и пояснил: – Сюда недавно автопогрузчик со склада готовой продукции врезался. Так долбанул своими вилами, что вынес ворота на хрен, словно тех и не было. Мы их подправили, на всякий случай укрепили металлом, а вот стену пока не залатали, руки не дошли… Хорошо, что не покалечило никого. Здесь постоянно никто не работает, сюда на станки приходят, которые у слесарей и токарей не стоят.
– Пьяный, что ли? – спросил я.
– Водила? – уточнил Викентьич и я кивнул. – Да вроде нет. Водили его потом в медпункт, проверить, ничего такого не обнаружили. Может, просто задремал за рулем.
Викентьич с сожалением расстался со стаканом, провел меня дальше и открыл еще одну двустворчатую дверь, с традиционными для этого цеха плексигласовыми окнами.
– Здесь у нас токари и слесари-инструментальщики, – сообщил он то, что я и сам уже видел.
Этот зал был значительно больше двух первых – скорее, целый залище с высоченными потолками. Тут было около двух десятков токарных и фрезеровочных станков, опять около десятка верстаков, станки сверлильные и еще много чего по мелочи. Наверняка и здесь пел Лещенко, но здесь, похоже, его песню заглушали работающие станки.
Мы пересекли зал, вышли в небольшой коридорчик и оказались перед обычной одностворчатой дверью без окна.
– Сейчас покажу, где кузница, – пояснил Викентьич, открывая эту дверь.
Мы вышли на улицу и подождали, пока по асфальтовой дороге проедет целый поезд из полутора десятка дюралевых тележек, нагруженных рулонами ткани. Вел этот поезд мужик, стоя на небольшом электрическом каре. Мы перешли дорогу и оказались перед одноэтажным строением белого кирпича.
Опять разделенный надвое зал, только теперь узкий, длинный, опять станки. Здесь Лещенко ничто не мешало. «Ты помнишь, плыли в вышине, и вдруг погасли две звезды; но лишь теперь понятно мне, что это были я и ты»…
– Слева сварщики, справа кузнец, – пояснил мастер, пока я разглядывал агрегаты, их тут было с десяток. Скученно, впритык друг к другу, стояли большой пневматический молот, сваривающий точками электрический аппарат, еще всякие штуковины, отдельно стояла механическая пила, а в углу расположились горн и наковальня с раскаленной полосой металла, по которой стучал большим молотом голый по пояс кряжистый парень лет двадцати семи. В левой части, куда мы заходить не стали, раздавались треск и шипение, и оттуда же тянуло характерным запахом сварки. – В принципе, вот и все наше хозяйство, – сказал Викентьич. – Для беглого знакомства достаточно. Ну так, чтобы не заблудиться. К примеру, если скажут идти в кузницу, уже найдешь. Найдешь ведь?
– Ясное дело, – сказал я. – А сколько здесь всего… ну, всяких цехов.
– Именно цехов или вообще строений?
– Вообще.
– Цехов, кажется, пять, а строений… – мастер замялся, – до хрена, короче. Да и к чему, к примеру, причислить тот же склад готовой продукции. Цех он, или не цех… А почему ты спрашиваешь?
– Да так… – Я пожал плечами. – Просто не подозревал, что тут всего так много. И что территория такая большая.
Викентьич тоже пожал плечами.
– У нас еще и бомбоубежище имеется, и пожарный городок, и библиотека, и небольшой сад, и еще всякое… Ладно, пойдем, выдам тебе робу.
Мы вернулись в токарный цех, он завел меня в каптерку и принялся рыться в длинном стенном шкафу с заваленными всяческим барахлом полками. Еще здесь стояли канцелярский стол, два больших деревянных короба, один из которых был пустым, а второй набит, кажется, испачканными робами, и стеллажи с какими-то ящиками.
– Вот, кажись, твой размер. Ну, плюс-минус.
Я принял чистые, но изрядно потрепанные шмотки. Штаны оказались целыми, а в куртке, в районе груди, было несколько лохматых прорезей и на спине прожжена неровная дыра диаметром сантиметров в десять.
– Чего? – спросил Викентьич, заметив, что я скуксился.
– Да ничего.
– Нового тебе не положено, извини. Какой смысл, если ты к нам всего на неделю. Главное, что все чистое. К тому же, твоя новая роба была бы твоей до первой стирки. Понимаешь, здесь перед стиркой бирки не пришивают, как это делают клиенты перед сдачей белья в платную прачечную. У нас в цеху все просто складывается в общую кучу, а кто из чана что выбрал – то и его. Поэтому народ каждую неделю в другом прикиде ходит.
– Да ничего, – повторил я.
– Ботинки дать?
Я подумал секунду. Нового не выделят, а в чужое обуваться не хотелось, это тебе не спецовка. Ничего, за неделю с моими любимыми импортными кроссовками вряд ли произойдет что-то страшное, если работать аккуратно.
– Не надо.
– Ну, тогда все, – сказал Викентьич. – Сейчас пройдешь инструктаж по технике безопасности, это на втором этаже, возле кабинета начальника цеха, там инспектор сидит, а потом… Потом я тебе скажу, чем заняться. Короче, иди пока, переодевайся, и возвращайся сюда. – И опять спросил: – Чего?
– А это, ну… где раздевалка-то.
Викентьич чертыхнулся.
– Точно, – сказал он, жестом предложив мне двигаться на выход, – про раздевалку-то я и забыл. Тебе ж еще шкафчик свободный надо показать… Иди пока туда, где я тебя принял у начальника, – заперев каптерку, крикнул Викентьич и направился к окликнувшему его мужику, работающему за токарным станком. – А я через минуту подскочу!..
Я стоял в той самой прозрачной с двух сторон угловой плексигласовой комнате, у наждака, и затачивал прутки. Меня не приписали к какой-то из слесарных бригад, которых здесь оказалось две, и я пока не понял, хорошо это или плохо. С одной стороны, то, что мной решили затыкать дыры, означало, что я буду на подхвате у всех и без работы скучать не придется. С другой – никто не будет точно знать, по чьему поручению и где я работаю, поэтому при случае можно будет и сачкануть. Ну, а с третьей стороны все это не имело никакого значения, поскольку отработать здесь мне предстояло всего одну неделю. За неделю не уработаюсь, даже если бы меня вздумали нагружать по полной программе, не давая толком перекурить.
Задание бригадира Александра Николаевича, долговязого сутулого мужика лет сорока, было простым как три рубля. Я получил прозрачные очки, без которых согласно правилам техники безопасности на наждачном станке работать было нельзя, сто увесистых стальных прутков, примерно сорока сантиметров длиной и около двух сантиметров толщины, и должен был у каждого заточить один конец в четырехгранный конус. Прутки в массе оказались слишком тяжелыми, хотя в ящике визуально таковыми не казались, и я перетаскал их к наждаку в несколько заходов. Зачем эти прутки нужны, я не спросил, поскольку меня это нисколько не интересовало. Может, их будут втыкать в бетонную верхушку какого-нибудь строящегося забора, чтобы сделать его неприступным, а может, такие прутки зачем-то были нужны в ткацком цеху.
Я просто стоял и точил. Работа не была сложной, ее мог делать любой, мало-мальски имеющий руки, зато она была нудной, однообразной. Ну да, наверное именно такими работами мне и предстояло заниматься тут неделю, все логично. Не поручат же случайному работнику что-то ответственное.
Периодически я поднимал голову и поглядывал в большое окно, с которым нас разделял станок. К сожалению девицы массово тут не ходили, наверное, этот участок возле механического цеха не являлся частью оживленного пути от какого-нибудь, к примеру, ткацкого цеха в столовую. Кстати, насчет столовой… Я опять чувствовал зверский голод, потому что плохо позавтракал. Мне вчера удалось перехватить у соседа три рубля, но они моментально закончились, потому что все ушло на колбасу, хлеб и масло, которые я в тот же вечер сожрал почти подчистую. Ясное дело, надо было купить, к примеру, ту же картошку или макароны с дешевыми рыбными консервами. Кстати, подсолнечное масло для поджаривания картошки как раз было, и если бы я не ленился готовить, этой трешки могло бы хватить на несколько дней.
Когда я отрывал пруток от наждачного круга, становилось тише, и Лев Лещенко пел из небольшого радио на настенной полочке: «Прощай, среди снегов среди зимы, никто нам лето не вернет… прощай, вернуть назад не можем мы, в июльских звездах небосвод»…
Интересно, кстати, как часто тут разрешается курить. Я посмотрел на наручные часы и выяснил, что работаю уже где-то сорок минут и за это время успел заточить прутков пятнадцать, которые складывал во второй ящик. Ну вот сейчас, допустим, пойду и сяду в курилке. Это не будет слишком наглым? Через сколько тут полагается делать перекуры?
Так я и думал обо всем и ни о чем, пока не увидел проезжающий вдалеке автопогрузчик. Насколько я уже ориентировался на территории, он ехал со стороны первого ткацкого цеха к складу готовой продукции, где сейчас работал бы и я, не засунь меня кадровик к ремонтникам. Кстати, интересно, не этот ли погрузчик долбанулся недавно в ворота рядом с моей прозрачной каморкой.
Я бросил в ящик готовый пруток, наклонился к другому, чтобы достать очередной, и вдруг…
«Прощай и ничего не обещай, и ничего не говори; а чтоб понять мою печаль, в пустое небо па-а-асма-а-атри-и-и»…
И вдруг что-то началось. Я не понял, что это, только почувствовал, что все изменилось. Воздух стал каким-то… Хотя нет, воздух остался тем же. В окно все так же светило солнце. Да, ничего, кажется, не изменилось, но все стало как-то по-другому. Мое тело стало чужим, или мне это казалось. Потом все звуки ненадолго исчезли и тут же опять обрели силу. Потом все вокруг раздвоилось и через секунду опять стало как прежде. Потом…
Потом погрузчик совершил резкий поворот и помчался к нашему цеху. Наверное, он собирался проехать между цехом и кузницей, там, где я недавно видел поезд с рулонами ткани – после экскурсии Викентьича я уже неплохо представлял, где тут что. Но вместо того чтобы принять влево, автопогрузчик сделал прямо противоположное. Он вильнул направо, добавил скорости, и из моих рук едва не выпал пруток – чертова машина на всех парах мчалась на мою каморку и явно не собиралась сворачивать!
Я рванул к выходу из наждачной комнатухи, но остановился. Несмотря на панику, у меня хватило ума сообразить, что так я угожу прямехонько под погрузчик, а в каморке, под прикрытием толстенной стены, я как раз в безопасности. Дверь наждачной под прямым углом выходила к воротам, и когда эта махина опять их пробьет… Я метнулся обратно, обогнул наждак, чтобы посмотреть в окно, но засек только стремительно промелькнувшую тень, а через долю секунды раздался треск ломаемых досок и цех потряс такой силы удар, что со стены отвалился здоровенный кусок штукатурки, а плафон с двумя лампами дневного света сорвался с потолка и повис, мигая и раскачиваясь на проводе. Это равномерное мигание словно привело меня в чувство. Я решил выбраться из наждачной, чтобы оценить произошедшие разрушения.
Дверь приоткрылась только до половины – дальше она уперлась в огромные железные вилы. Кругом воцарилась тишина. Я выскользнул наружу и стоял, подобно парализованному, случайно попавшему под бомбежку гражданскому, пока до меня медленно доходило, что ошибки не было, произошло именно то, о чем я подумал. Погрузчик вилами пробил ворота, но из-за своих габаритов не вписался в проем. Он попросту долбанулся всей своей махиной в проем в толстенной стене цеха и застрял.
В следующий миг я сквозь заложившую уши вату услышал смутно знакомый скрежещущий звук и не сразу сообразил, что это заработал стартер. Кажется, водила пытался запустить заглохший двигатель. А еще через миг все кругом ожило. Все наполнилось звуками, пришло в движение, словно цех находился в телевизоре и кто-то нажал кнопку включения, чтобы досмотреть интересный сериал.
Внутренние ворота, ведущие к токарям, распахнулись и шибанулись о стены, одновременно с таким же грохотом разлетелись дверные створки слесарей, и с двух сторон в пустой зал со станками повалил возбужденный народ. Ни один не прибежал пустым, в руках каждого было что-то увесистое.
– Чего стоишь! – рявкнул ворвавшийся первым Викентьич. Он в несколько неровных скачков преодолел разделяющее нас расстояние и оказался рядом.
– А… чего я должен… – ничего не понимая, промямлил я.
– Сколько прутков успел наточить? – все так же громко проорал Викентьич едва ли не мне в ухо, и не успел я не только ответить, но даже осмыслить вопрос, как он заорал теперь на набежавших за ним работяг: – А вы чего рты раскрыли! Он же уйдет сейчас!
Погрузчик наконец завелся. Взревел движок и цех опять несколько раз тряхнуло – железная махина пыталась высвободиться из плена путем движения туда-сюда, враскачку. Опять поднялась бетонная пыль.
– Быстрей, кому говорят!
Я понял, к кому он обращается, когда два мужика в светло-зеленых брезентовых робах подкатили к нам тележку с баллонами и каким-то тяжелым аппаратом. Я догадался, что это сварщики со своим оборудованием. Еще два мужика быстро протащили мимо меня увесистый кусок швеллера или чего-то в этом роде, и уже пытались пристроить его таким образом, чтобы он оказался перпендикулярно вилам и при этом доставал до чего-нибудь железного. По-крайней мере я так понял. И понял, оказывается, правильно, потому что один из сварщиков запустил аппарат, который уже подключил к сети кто-то из мужиков, натянул маску и принялся быстро тыкать электродом в швеллер. Раздался треск, посыпались искры, и бригадир слесарей-ремонтников, суровый долговязый мужик с растрепанными волосами, закричал, пританцовывая от возбуждения на месте:
– Правую сначала прихватывай, правую! Да вари, тебе говорят!
Второй сварщик уже зажег ацетиленовую горелку и примеривался шипящим синим огнем к левому рогу вовсю рычащего и дергающегося погрузчика.
– Че-е-ерт! – простонал Викентьич, когда машина с треском выдрала вилы, которые так и не успели надежно прихватить, и, натужно ревя мотором, отскочила на несколько метров назад. Швеллер брякнулся на пол. – Сколько наточил, спрашиваю?
Я опять не сразу понял, кому адресован вопрос. А когда понял, быстро метнулся в наждачную и с легкостью подхватил ящик с прутками, который час назад был для меня неподъемным. Сообразив, что ошибся, я бросил его на пол и под звон раскатывающихся железяк схватил второй, с прутками заточенными.
– Штук пятнадцать – двадцать!
Все происходило в каком-то невероятно убыстренном темпе или мне так казалось, но в моих глазах натурально мельтешило, а в голове бил пневматический молот, который я видел в кузнице. Работяги суетились словно муравьи, а я никак не мог понять, что все это мне напоминает, пока до меня не дошло – подобное я видел в фильмах про оборону средневековых крепостей. Создавалось впечатление, что происходящее никому не в диковинку, что каждый четко знает свой маневр.
Погрузчик задним ходом с ревом унесся восвояси. Мне показалось, у него что-то случилось с колесами, потому что он здорово вилял, словно за рулем сидел пьяный. Сварщики разложили на искореженном входе баллоны с ацетиленом и кислородом и, судя по решительному виду, с которым они соединяли шланги, оборудование готовилось ими к подрыву. Остальные натащили в зал всякой железной всячины в виде инструментов и тяжеленных, грозного вида штуковин, и я понял, что цех готовится к нешуточному бою. Каждый занял определенное место, словно все заранее договорились, кому какой участок защищать, и на какое-то время наступило относительное затишье, если не считать коротких деловых реплик. У работяг были суровые сосредоточенные лица, какие обычно бывают на плакатах у нарисованных строителей коммунизма.
– Бегут! – внезапно заорал волосатый парень с длинным шнобелем, занявший место наблюдателя у окна в наждачной комнате. – Сейчас начнется!
– Опять ворон ловишь… – прошипел Викентьич, не глядя на меня. Присев, он тревожно вглядывался в образовавшийся в воротах пролом. – Тащи заточенные прутки и будь готов кидать их, когда начнется.
– В кого кидать… – сглотнув, спросил я, тоже присел и увидел, что со стороны склада готовой продукции в нашу сторону бежит толпа из человек примерно двадцати, каждый из которых держал какое-нибудь оружие. Точнее, в прямом смысле слова оружием это не являлось. Это были палки, стальные арматурины и прочие, обычные для производств штуковины, но было ясно, что использовать их будут не совсем по назначению. В руках некоторых блестели ножи, а плотный мужик с небольшой аккуратной бородкой, бежавший в числе первых, пристроил на крепком плече самое настоящее копье, состоящее из увесистого древка и примотанного к нему изолентой длинного остроконечного тесака. Мне показалось, что копье сделано из древка для флага, какие обычно носят на первомайских демонстрациях. Большинство бегущих прикрывались самодельными щитами из фанеры или стальных листов.
– Раскрой глаза, – сказал Викентьич напряженно. – Вон в тех уродов кидать, среди которых мог бы сейчас быть и ты, если бы Аркадьич из отдела кадров…
Договорить он не успел. В пролом нырнул тот самый мужик с копьем, кто-то из слесарей тут же с неприятным хрустом раскроил ему голову тяжелой металлической болванкой, и бедолага упал, не успев и пикнуть, разбрызгивая по бетону пола какую-то серую массу. А через десяток секунд до меня дошло, что это мозги. И это не вызвало у меня особенных эмоций, кроме радости маленькой победы над врагом и ярости, оттого что какие-то уроды нагло посягнули на наш цех.
Атака тут же захлебнулась, потому что дураков лезть в пролом больше не нашлось. Разгоряченная толпа затормозила на входе. Послышались злобные выкрики. Работяги со склада крыли кого-то матом, и я понял, что ругают они водителя погрузчика, который медлит с оказанием им поддержки тяжелой бронированной техникой.
– Нашел время колесами заниматься! – зло проорал чей-то хриплый голос, и такой же злой голос ответил:
– А что, если шина лопнула! Как он тебе без шины!
Тут же, словно в ответ на их перепалку, вдалеке послышался уже знакомый мне рев. И с такой же знакомой стремительностью этот рев стал нарастать, приближаясь к нашему цеху, а наблюдатель возле окна знакомо проорал:
– Сейчас начнется!
Едва он выкрикнул это, тяжеленная разогнавшаяся масса долбанула в ворота так, что они с оглушительным треском вылетели с косяком напрочь, придавив пару не успевших отскочить работяг, а автопогрузчик, выломав и обрушив часть стены, смел приготовленные для подрыва баллоны и размазал о стену еще двух подвернувшихся мужиков. В следующий миг механический таран проскочил мимо меня и едва успевшего отпрянуть Викентьича, опрокинул сверлильный станок, ударился вилами в стену токарного зала, подпрыгнул и опять заглох. Теперь, судя по всему, уже окончательно.
Все пространство в очередной раз заполнилось бетонной пылью.
– Бей складских! – заорал сзади кто-то, и я узнал по голосу неизвестно в какой момент появившегося начальника цеха. Оборачиваться, чтобы проверить, так ли это, времени не было. Да и незачем это было делать.
Все разом заорали, так, что у меня опять заложило уши, и так же разом бросились навстречу уже ворвавшимся в цех складским. Завязалась ожесточенная рубка. Левой рукой я прижимал к себе целую охапку своих прутков, а правой хватал их по одному, широко размахивался и изо всех сил бросал в наседающую неприятельскую массу, колол, если кто-то оказывался близко, опять бросал… Удачное попадание произошло на седьмом или восьмом броске. Стремительно крутящийся в воздухе пруток угодил острым концом точнехонько в глаз примерно сорокалетнему мужику в обожженной спецовке, дерущемуся с рыхлым токарем на ножах, насквозь пробил пришельцу голову и вышел острием со стороны затылка. Мужик упал от удара, затем вскочил и, яростно ревя, принялся выдергивать пруток из черепа, но его тут же шарахнули сзади раскрученной на цепи чугунной заготовкой, хрустнул позвоночник, он опять упал и пополз в сторону ручного пресса, надеясь найти там укрытие.
Удивительным образом я пока не получил никаких повреждений, хотя воздух был густо наполнен пролетающими во всех направлениях железными предметами самых разных весов и конфигураций.
– Поднажали! – заорал Викентьич, предчувствуя скорую победу. Действительно, складских оставалось уже совсем мало, большинство потеряло боеспособность по причине переломов конечностей, хребтов и размозжений голов. Одного из слесарей пришлые пытались запихнуть под пресс, чтобы сплющить парня в блин, но он не пролазил под ударную головку по габаритам, а потом к нему на выручку пришли три токаря, и сразу двое складских упали с проломленными черепами. – Еще чуток и они наши!
Повинуясь жесту крепыша из кузницы, я вцепился в примерно полутораметровый швеллер, и мы вдвоем с короткого разбега пригвоздили этим швеллером к стене тощего парня в кепке с длинным козырьком.
«Лай-ла, ла-ла-ла ла-ла-ла ла-ла-а-а, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-а-а-а», – воспользовавшись неожиданно воцарившейся на десяток секунд тишиной, принялись подпевать Лещенко девицы из бэк-вокала.
Не успели мы порадоваться своей маленькой победе, как здоровенный мужик с расплющенным в блин лицом схватил за вентиль один из сварочных баллонов, и двумя широкими взмахами переломал кости сразу двум нашим, а потом кинул баллон в прыгнувшего на него третьего. Тот отлетел, упал, перекувыркнулся назад, и двое складских, приподняв аппарат газированной воды, размазали парня по полу, расплющив ему грудную клетку.
В какой-то момент я увидел непонятную картину. Один из наших, щуплый мужичок лет тридцати пяти с неприметной внешностью, забежал в наждачную комнату, где я недавно работал, достал из кармана спецовки листок бумаги, пристроил его на наждачном станке и принялся быстро что-то писать обломком карандаша. Видно было, что мужичка распирает от ярости, ему хочется вернуться в гущу схватки, но он усилием воли зачем-то заставляет себя заниматься непонятной писаниной. Кончилось все через десяток секунд. Сдавшись, он задрал лицо к потолку, словно собирался завыть на раскачивающийся на проводах плафон с лампами дневного света, мигающими, подобно огням маяка, ровно и коротко, и зарычал так громко, что я сумел услышать его отчаянный рев сквозь шум продолжающейся битвы. Затем он скомкал листок, отбросил его не глядя куда-то за наждак и побежал обратно, в гущу боя, на бегу наклонившись и подхватив один из моих рассыпанных по полу прутков.
Кузнеца тем временем саданули сзади саблей, сделанной из остро заточенного полотна механической пилы с обмотанной изолентой рукоятью, и он осел на пол с аккуратно разделенной на две половинки головой.
Все кругом было скользким от крови, многие не могли продолжать бой из-за травм, но даже не имея физической возможности подняться, упорно тянулись израненными конечностями, пытаясь зацепить кого-нибудь, чтобы вырвать ему сухожилия или хотя бы сбить на землю, а потом дотянуться до шеи врага изломанными пальцами.
– Загоняй его в угол! – через пару минут хрипло выкрикнул Викентьич, и я вдруг обнаружил, что из всего цеха мы остались одни. Все наши, кто принимал участие в схватке, были мертвы, по крайней мере, никто не шевелился. Зато мы с мастером каким-то чудом оставались совершенно невредимыми. Ну, относительно невредимыми. Я чувствовал, что у меня вывихнуто плечо, голова, кажется, была пробита в районе затылка, имелись еще какие-то повреждения, но по сравнению с тем, что досталось нашим товарищам, это были пустяки. – Заходи слева!
Я наконец понял, о чем и о ком он говорит. Из складских остался последний. Парень, с раздробленными кистями рук, у которого непонятно как до сих пор удерживались на носу заляпанные кровяными брызгами очки, пытался отползти за сверлильный станок. Похоже, у него были перебиты предплечья и сломан позвоночник, потому что полз он, будучи неестественно прямым и неловко опираясь на локти.
Я недобро ощерился и зашел слева, выискивая взглядом что-нибудь, чем можно было бы размозжить этому подонку голову, а еще лучше перерубить его пополам, и тут резко подскочивший Викентьич прикончил его вырванными из верстака тисками, с силой опустив их на пытающегося улизнуть врага сверху вниз и попав точно в район поясницы. Раздался короткий хруст, изо рта очкарика бурным потоком хлынула и тут же остановилась кровь.
– Все. Кончено…
Около минуты мы стояли с Викентьичем неподвижно, глядя на затихшего очкаря и выжидая, пока придет в норму дыхание, затем одновременно подняли головы, переглянулись.
– Что дальше? – каркнул я хрипло и с трудом поверил, что это мой голос.
– Убираться будем, вот что, – помолчав, сказал Викентьич. – А то завтра начальник по головке не погладит. Смотри, что эти суки тут нам устроили…
Действительно, все, что здесь можно было выдрать, было выдрано с корнем. Все что можно было разбить – разбито. Все что можно изодрать – изодрано. И только стекла в окнах непостижимым образом оставались целы, за исключением двух – трех. Возможно, потому, что находились слишком высоко. Мертвяки валялись так плотно, что нельзя было сделать и шагу, чтобы на кого-нибудь не наступить. По моим прикидкам, в довольно тесном пространстве между всяческими агрегатами и застывшим возле стены токарного зала погрузчиком полегло около сорока человек.
– Да вон же он… – поискав глазами, сказал я и кивнул на начальника цеха, повисшего на сверлильном станке. Его замочили почти сразу, еще в самом начале рубки, насквозь проткнув чем-то острым. Сейчас он висел, нанизанный на состоящую из трех металлических рогов с пластмассовыми набалдашниками крутящуюся ручку, которой опускают и поднимают сверло, напоминая наколотого на булавку жука.
– Ах, да… – скользнув по нему взглядом, равнодушно сказал Викентьич. – Ивана Сергеевича же сразу пришили, я и забыл совсем… Но все равно, хоть какой-то порядок навести надо. Да и рабочее время, между прочим, еще не закончилось.
Я посмотрел на наручные часы, стекло которых раскололось точно надвое и одной половинки не хватало, и обнаружил, что они идут. И до окончания рабочего дня действительно оставалось еще два часа. Выходило, что схватка заняла не больше десяти – пятнадцати минут.
– Давай хоть покурим, – предложил я.
– Это можно, – согласился Викентьич, и мы, покрутив головами, просто присели на одного из складских, оказавшегося поближе. Это был лежащий на боку долговязый лысоватый мужчина с распоротым брюхом, из которого бело-красным месивом вылезла кишечная масса.
– Смотри, – сказал я, затянувшись.
Викентьич посмотрел сквозь пустой проем, где когда-то стояли ворота, и хмыкнул, увидев метрах в ста группу понуро бредущих баб. Их было около тридцати, многие едва-едва ковыляли, некоторые поддерживали друг дружку. Халаты большинства были окровавлены, а от многих остались одни синие лоскуты.
– Похоже, ткачихи цех на цех махались, – сказал он и выпустил густой клуб дыма. – Ладно, хорош курить, давай прибираться… Первым делом надо выгнать погрузчик. Короче, я попробую его завести, а ты поищи пока тележку.
– А как… ну, как его выгонишь, если тут… – Я кивнул на скопище тел.
Викентьич отмахнулся.
– Да прямо по ним и поеду, – сказал он, вставая, – чего им теперь сделается.
С десяток секунд я стоял неподвижно, наблюдая, как забравшийся в кабину автопогрузчика Викентьич пытается оживить движок. Потом запоздало кивнул и побрел на улицу, вспоминая, где совсем недавно видел тележку с рулонами ткани…
Минут через десять мы с Викентьичем забрасывали в дюралевую тележку дохлых работяг, первым делом выбирая наших и располагая их поперек движения, между двумя высокими рамами. Уместилось семь человек. Их ноги и руки свешивались, но движению помешать были не должны.
– Куда их? – спросил я, пытаясь унять тяжелое от физической нагрузки дыхание.
Викентьич постоял, прикидывая. Он тоже тяжело и хрипло дышал, а лоб был блестящим от пота.
– Давай в кузницу.
– Почему в кузницу?
– А что ты предлагаешь?
Я пожал плечами.
– Может, сообщить в милицию?
Мастер опять задумался.
– Успеется, – наконец сказал он. – Сначала наведем порядок, потом будем думать, что дальше… Все. Покатили.
– Покатили…
Мы вцепились в дюралевую раму, плотно уперлись ногами в пол и, поднажав, кое-как стронули тележку с места. Вес оказался порядочным. Толкать было трудно, но вполне осуществимо, только сильно скользили ноги.
– Ничего, – прохрипел Викентьич, – на улице крови нет, там нормально пойдет. Давай, поднажали еще…
Вышло семь рейсов, и в итоге тесноватое для такого количества трупов пространство в кузнице, между входом и горном, оказалось заваленным на высоту половины человеческого роста. Тела никак не хотели аккуратно штабелироваться, норовили расползтись по всем щелям, и к концу укладки студнеобразная масса заполонила собой все пространство между станками.
– Перекур, – объявил Викентьич и мы стали пробираться к специальной скамейке для отдыха возле остывшего горна, чтобы хоть пяток минут посидеть по-человечески.
Для этого пришлось забраться на груду и топать прямо по телам, которым теперь действительно было уже все равно.
«Прощай, от всех вокзалов поезда уходят в дальние края… прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января», – негромко пел Лещенко из пластмассовой коробочки радио на шкафчике кузнеца. Тот валялся сейчас между аппаратом точечной сварки и пневматическим молотом, поверх переломанного очкастого токаря.
– Хорошая песня, – сказал Викентьич.
– Угу… – сказал я.
Около минуты мы сидели молча, расслабленные, с наслаждением откинувшись спинами на стенку, обитую в этом месте мягким.
– Тяжеленные, – сказал я.
– А то, – сказал Викентьич.
– Может, складских надо было отдельно? – сказал я.
– Да ладно, – сказал Викентьич.
Мы опять на минуту замолчали, наслаждаясь отдыхом.
Потом я осторожно пощупал затылок. Мне все время казалось, что что-то там не так. Палец ощутил провал, словно в черепе образовалась дырка, а в провале было что-то мягкое, теплое и слегка влажное, что пружинило под нажимом подушечки большого пальца. Вокруг провала загустела кровь.
– Чего? – спросил Викентьич, заметив, что я ковыряюсь в голове.
– Да так, – сказал я.
Мы посидели еще минуту.
– Пошли, – сказал Викентьич и щелчком отправил окурок в горн.
Мы двинулись через токарный зал, а когда почти дошли до места, я решился:
– Слушай… ты не мог бы дать взаймы. Я бы с аванса вернул.
– Сколько тебе?
– Да пятерки бы, наверное, хватило. Жратвы какой прикупить, а то дома совсем пусто.
– Ладно, идем ко мне. – Мы с Викентьичем прошли в угол, к конторке, где он выдавал мне робу. – Черт, – сказал он, порывшись в ящике стола, – вот только что есть. – Он помахал двадцатипятирублевой бумажкой. Потом опять пошарил в ящике, но нашел еще только железный рубль. – Ладно, держи. Двадцатку завтра принесешь, когда разменяешь. А пятерку с аванса отдашь.
– Конечно, – сказал я…
Около двух часов мы копошились в цеху, приводя все хоть в какой-то порядок, и в итоге вышло довольно неплохо. Такого свинства, как сразу после махаловки, уже не было. Нам даже удалось вернуть на место аппарат газированной воды. Единственное, что мы не смогли сделать – это поставить ворота и поправить слишком тяжелые для двух человек махины покосившихся станков.
В самом конце Викентьич приволок длинный кусок черного резинового шланга, подсоединил его к специальному разъему проходящей по стене цеха трубы, открыл вентиль и около десятка минут поливал бетонный пол, напором холодной воды выгоняя не успевшую свернуться кровь на улицу, в створ ворот.
– Все, окончена смена, – наконец сказал Викентьич, выключая воду. Стало тихо и я услышал доносящийся из наждачной комнатухи голос Лещенко: «Прощай и ничего не обещай, и ничего не говори; а чтоб понять мою печаль, в пустое небо па-а-асма-а-атрии-и»… Викентьич не стал уносить шланг, просто свернул его кольцами и бросил возле пресса. – Пусть лежит. Завтра с утра пройдемся еще разок, начисто.
– Пройдемся, – сказал я.
– В душ пойдешь? – спросил Викентьич. – У нас есть. Возле раздевалки.
– У меня полотенца нет.
– Ничего, я тебе какую-нибудь чистую тряпку найду.
– Тогда можно, – сказал я.
– Ну, двинули.
– Чего? – спросил я, заметив, что Викентьич не торопится уходить, все оглядывается на зияющий в стене проем.
– Да ворота, мать их… – с досадой пробормотал он. – Негоже цех открытым оставлять… Но вдвоем не управимся, точно. – Он почесал затылок. – Ладно, как есть, так есть. Пошли…
Я очнулся. Ну, по крайней мере, так мне показалось. Просто я вдруг оказался в каком-то месте и не сразу сообразил, что это за место и почему я здесь. Подобные ощущения, вроде, испытывают эпилептики, где-то я это слышал. Кто-то говорил, что такой может очнуться на асфальте, увидеть столпившийся вокруг народ с любопытными и испуганными лицами, и лежать, не понимая, что произошло и почему он валяется на улице.
Я стоял в дверях раздевалки с мокрыми волосами, чувствуя запредельную усталость и одновременно свежесть в теле, как бывает после тяжелой физической работы и последующего душа, и смотрел на запирающего шкафчик мастера. Походило на то, что я переоделся первым и ждал его.
Викентьич вдруг замер на несколько секунд, словно потерял ориентацию в пространстве или пытался что-то сообразить, потом повернул голову, посмотрел на меня и неуверенно подмигнул. Мне показалось, что вышло у него слегка неестественно, как бывает, когда человек не знает, что сказать или сделать.
– Замком не обзавелся? – спросил Викентьич и теперь мне показалось, что он только что это у меня спрашивал. Только я не был в этом стопроцентно уверен.
– Нет пока. Поищу дома.
– Купи, если не найдешь, – сказал Викентьич и двинулся в мою сторону, – все равно понадобится. Хоть здесь, хоть на складе, коль ты на полгода на фабрику устроился.
– Ну да, – сказал я, а Викентьич остановился возле зеркала и поправил рукой волосы.
Я заметил, что они у него тоже мокрые.
Я ощупал затылок. Мне вдруг показалось, что там что-то не так. Пальцы ощутили, что небольшой участок черепа как будто лысый, с выдранными волосами. Кожа на этом участке зудела, как бывает, если заживает рана. И еще это место, кажется, слегка кровоточило. Хотя, возможно, я плохо вытер голову и это была просто вода.
– Чего? – спросил Викентьич.
– Да так, – сказал я и опустил руку.
– Что-то мы припозднились, – сказал Викентьич и опять мне показалось, что мастера словно заботит что-то. – Все разбежались, а мы…
Я посмотрел на наручные часы и обнаружил, что у них отлетела половинка стекла, а когда они разбились, я даже не заметил. И еще у меня было ощущение, что я не жрал сто лет и сейчас мог бы сожрать слона со всеми его потрохами.
– Ну так смена-то час назад кончилась.
– Ага, – сказал Викентьич, а я, поколебавшись, спросил:
– Слушай… ты не мог бы дать взаймы. Я бы с аванса вернул.
– Сколько тебе?
– Да пятерки бы, наверное, хватило. Жратвы какой прикупить, а то дома совсем пусто.
Викентьич порылся в карманах, но нашел только железный рубль.
– Слушай, – сказал он, – у меня в конторке есть, но не возвращаться же в цех. Давай завтра, а? Что-то я здорово устал.
– Конечно, – сказал я, – давай завтра.
– Продержишься?
– Конечно, – сказал я.
– На вот тебе рубль пока. Хоть булочек каких купишь.
– Спасибо, – сказал я. – Мне только до аванса…
Я заскочил в магазин недалеко от дома, прошелся по почти пустому залу, выискивая что-нибудь дешевое, и остановился в мясном отделе перед плексигласовой витриной, внутри которой сиротливо лежала на белом пластмассовом подносе полупрозрачная масса, внутри которой просматривались всяческие шкурки, неаппетитные на вид твердые кусочки чего-то непонятного, жилы и что-то еще. Кажется, эта штуковина была разновидностью холодца и называлась зельцем. Я знал, что такой из-за его дешевизны брали на закусь алкоголики, и еще наш сосед Петрович покупал зельц для своего песика, дворняги по кличке Боцман. Наверное, я пришел слишком поздно, все приличное разобрали днем.
Я пялился на этот зельц и с каждой секундой он казался мне все вкуснее и вкуснее, хотя я никогда его не пробовал. Слышал только, что есть его можно исключительно с голодухи, за неимением чего-то лучшего. Но, по крайней мере, одно в нем было хорошо совершенно точно – цена. Холодец стоил меньше рубля за кило.
– А из чего он? – спросил я сидящую на стуле дородную продавщицу лет тридцати пяти. В белом халате, она листала журнал «Огонек», наверное, досиживая смену. Края халата разошлись и с моего места видны были бока ее толстенных ляжек, усеянных бугорками и впадинками.
– Субпродукты, – коротко сказала она, не поднимая головы.
– А что это, субпродукты, – зачем-то спросил я, хотя все равно твердо решил взять эту штуковину на весь рубль, тем более что ничего другого в продаже не было. Разве что надо было бы еще оставить копеек хотя бы на полбуханки черного хлеба.
– Ухо-горло-нос, сиська-писька-хвост, вот что, – насмешливо сказал кто-то за спиной, и я, обернувшись, увидел седоволосого старика в светлой, в мелкую клетку, рубашке.
Кажется, он ожидал развития разговора или решил подразнить продавщицу, но мне было не до шуток. Я чувствовал, что мог бы умять такого зельца весь этот шмат, что лежал на подносе, сколько бы он ни весил.
– Мне килограмм, – сказал я, запуская руку в задний карман джинсов, и внезапно помимо железного рубля нащупал там бумажку. Достав двадцать пять рублей, я недоверчиво смотрел на них около десятка секунд, затем сказал грузно поднявшейся со стула продавщице: – Нет, лучше на все, пожалуйста.
Она тоже смотрела на выложенную мной бумажку не менее десятка секунд, потом перевела взгляд на меня и уточнила:
– На все?
– Да.
– Зельца осталась одна упаковка, – после паузы сказала она. – И еще то, что вы видите на прилавке.
Старик, отошедший на пару метров, притормозил, развернулся и стал с интересом следить за неожиданным развитием событий.
– А сколько это всего будет? – спросил я.
– В упаковке десять кило и тут около четырех.
– Дайте, сколько есть, – попросил я и женщина удалилась в подсобные помещения.
– Куда тебе столько, – с любопытством спросил старик.
– Для песика, – неохотно сказал я, хотя сначала хотел его вопрос проигнорировать.
– А-а-а… – сказал старик.
– А завтра зельц еще будет? – спросил я вернувшуюся продавщицу.
– Утром должны привезти.
Она с натугой приподняла двумя руками картонную коробку и шмякнула ее на прилавок. Затем внимательно на меня посмотрела и полезла в витрину. Старик стоял метрах в пяти и пялился на меня во все глаза.
Из магазина я вышел, неся в одной руке десятикилограммовую картонную коробку, перехваченную узкими пластмассовыми лентами, и увесистый, перевязанный веревочкой сверток в другой. Про хлеб я, конечно, забыл. По дороге еще некоторое время размышлял, откуда у меня столько денег, а потом подумал – да какая разница. Надо только будет завтра первым делом отдать Викентьичу рубль, потому что теперь у меня был полный карман выданной монетами сдачи, около десяти рублей.
– Молодой человек!
Я обернулся. На пороге магазина стояла тетушка в синем платье, с увесистой кошелкой в руке, которую я минуту назад видел в кондитерском отделе.
– Вам, наверное, нужна помощь… Я могу позвонить в «скорую».
– А-а-а… что за помощь…
– У вас, кажется, пробита голова.
Я машинально поднял руку, почувствовал в ней тяжесть и поставил картонную упаковку на асфальт. Несколько прохожих остановились, принялись глазеть на происходящее. Освободившейся рукой я осторожно ощупал голову и обнаружил на затылке что-то, по ощущениям похожее на запекшуюся кровь. Но ничего не болело и все волосы были на месте. А если бы у меня была пробита голова, то волос бы не было.
Тетушка все стояла на пороге, глядя на меня испуганно. Я посмотрел на любопытных зевак, потом опять перевел взгляд на нее и пожал плечами.
– Наверное, просто налипло что-то.
Потом подхватил коробку и двинулся восвояси. А пройдя с десяток метров, запоздало подумал, что тетушку следовало бы поблагодарить за заботу. Я не оборачивался, но спиной чувствовал, что она и прохожие пялятся мне вслед…
Впрочем, хлеб оказался без надобности. Я порезал кусок с витрины на такие части, чтобы они пролезали в рот, уселся за кухонный стол и принялся поглощать зельц, показавшийся мне просто невероятно вкусным, шмат за шматом, пока не сожрал половину четырехкилограммового куска. Потом разогрел чайник, выпил два стакана горячей воды, потом покурил и сожрал еще около килограмма зельца. И только тогда, наконец, почувствовал, что голод слегка утолен, да и больше в меня все равно не влезло бы.
Потом вдруг вспомнил про тетку и поплелся в ванную, к зеркалу. Там опять ощупал голову, подумал и сходил за небольшим зеркальцем на тумбочке в прихожей, чтобы с помощью двух отражений рассмотреть себя со всех сторон. В волосах действительно оказалась что-то, похожее на запекшуюся кровь. Сунув голову под душ, под струю прохладной воды, я принялся тереть волосы мочалкой, пока не удалось избавиться от налипшей на них непонятной массы. Разумеется, голова оказалась целой, как я и думал, потому что неприятных ощущений не было. Кажется, я просто случайно где-то испачкался.
Почистив ванную, я побрел в отцовский кабинет. Мне понравилось спать там диване, на его прохладной кожаной поверхности. Перед сном я еще хотел полистать что-нибудь из отцовских секретных бумаг, к примеру, те записи о каком-то генераторе, но почти моментально уснул.
Ночью я несколько раз просыпался и шел на кухню, где зажигал свет и все жрал, жрал, жрал, запивая жирную вкуснятину горячей водой, а потом шел в туалет. А когда зазвонил будильник, первым делом пошел проверить, сколько еще осталось зельца, и обнаружил, что на столе лежит примерно трехкилограммовый кусок. И подумал, что правильно сделал, поленившись запихивать вчерашнюю коробку в холодильник – все равно ничего не успеет пропасть. И что надо будет не забыть купить сегодня хлеба.
На работу я чуток опоздал, но на это никто не обратил внимания. Кажется, в цеху что-то произошло, потому что возбужденный народ сидел в курилке под лестницей. А когда я зашел туда поздороваться, по лестнице быстро спустился начальник цеха.
– Передайте всем, через час собрание, – деловито сказал он и тут же умчался обратно наверх, наверное, в свой кабинет.
Я тоже стал подниматься в раздевалку и тут меня окликнул вышедший от слесарей мастер. Он выглядел бледным и каким-то не выспавшимся.
– Тезка!
Я остановился и свесился через перила.
– Привет, Викентьич.
– Ты сегодня где ночевал?
– Дома, – сказал я после короткой паузы, вызванной неожиданностью вопроса. – А чего?
– Ничего, переодевайся скорей.
Я продолжил подъем в раздевалку и услышал, как он говорит кому-то:
– Вот видишь, и у него все нормально. А ты говоришь, что будто бы все…
– Но я тоже не помню, где ночевал, – сказал кто-то…
Я открыл шкафчик и около полуминуты с недоумением рассматривал свою робу. Она была изодрана и сплошь покрыта похожими на кровь потеками и пятнами, да и запах, шибанувший из шкафчика, тоже напоминал запах крови.
Не решившись переодеваться в перепачканную неизвестно чем одежду, я аккуратно, стараясь не касаться пятен, снял с крючка куртку и штаны, свернул все в рулон и опять пошел вниз.
– Ага, еще один пострадавший, – заметив мой сверток в подмышке, радостно сказал парень с длинным шнобелем и волосами до плеч. – Иди к Викентьичу, он тебе выдаст чистое. Знаешь, где его каптерка?
– Знаю.
Через слесарей я вышел в зал, в котором точил вчера прутки, и обомлел. Ворот не было, сверлильный станок перекосился, наполовину выдранный из своего фундамента, у аппарата газированной воды образовалась внушительная вмятина в левом боку, а пол был заляпан похожей на наспех замытую кровь липкой гадостью, совсем как на моей спецовке. Еще была выбита пара окон, дверь прозрачной будки наждачного станка перекосилась, не хватало куска плексигласовой стены, а плафон в этой будке висел, покачиваясь, на проводе, озаряя пространство короткими равномерными вспышками. Наверное, было еще много чего по мелочи, но и увиденного хватило, чтобы понять – вчера здесь произошло что-то из разряда экстраординарного.
– Привет.
Я кивнул и посторонился, пропуская мужика средних лет, имени которого не знал, и пошел к токарям.
«Прощай, среди снегов среди зимы никто нам лето не вернет; прощай, вернуть назад не можем мы в июльских звездах небосвод», – встретил меня в токарном зале голос Лещенко, которого было хорошо слышно, потому что из двадцати примерно станков работали всего два или три. Мужиков было мало и выглядели они какими-то вялыми. Половина, очевидно, торчала в курилке сразу за дверью в туалет, в его предбаннике.
– Туда бросай, – ничуть не удивившись моему появлению, сказал Викентьич. Он сидел за столом и вид у него был озабоченный. Один за другим он вытягивал ящики стола, смотрел внутрь, иногда что-то там ворошил, задвигал очередной ящик, потом опять выдвигал, опять с раздражением задвигал обратно.
Зайдя мастеру за спину, я заглянул в деревянный короб и увидел, что он почти доверху наполнен грязной рабочей одеждой. Все робы были подобны моей, в разводах подсохшей крови или чем там была эта бурая фигня.
Бросив туда свой сверток, я повернулся к Викентьичу, посмотрел в его напряженную спину.
– А из второго бери, – сказал он, словно у него между лопаток были зрительные рецепторы.
– А-а-а… это, ну…
– Просто поройся и выбери подходящий размер, – сказал Викентьич. Он выругался, с громким стуком задвинул очередной ящик и повернулся ко мне. – Чего?
– Да так… – сказал я, перебирая чистую одежду. – Ты из-за ворот такой злой?
– И из-за ворот тоже, – мрачно сказал Викентьич. Он поднялся, подошел и стал смотреть, как я роюсь в тряпье. – Смирнов на собрании рычать будет, а чего на нас рычать. Рычать на тех надо, кто уже второй раз нам эти ворота высаживает.
– Смирнов – это начальник цеха?
– Ну да. Нормальный мужик.
– Опять погрузчик? – поинтересовался я и, наконец, выудил из чана почти не застиранные штаны из светло-зеленой плотной ткани. – Пьяный, что ли, был? – Я вытянул вперед руки, прикидывая штаны по росту, и счел, что они мне придутся в самый раз. – Так ты ж не виноват, чего тебе переживать.
Я перекинул штаны через плечо и стал искать куртку. Вообще-то, мне показалось, что я резко пополнел. Плечи как-то раздались, а и без того узкие джинсы едва не лопались на заднице. Возможно, это было как-то связано с зельцем.
– Да если б только погрузчик, – сказал Викентьич, продолжая стоять рядом. – Тут все одно к одному… Вон, видишь, полный короб грязи набрался. Только вчера стиранное получил, так вот на тебе… Это ж теперь опять бумаги нужно заполнять, да еще попробуй, договорись с прачечной, чтоб они там побыстрей, вне очереди.
– А что за ерунда такая творится? Ну, с одеждой, – спросил я, найдя нормальную, почти не пострадавшую куртку. У нее только было несколько сквозных пробоин в районе грудной клетки и оторван правый накладной карман; на его месте было темное прямоугольное пятно. На всякий случай я выбрал куртку пообъемистей, на пару размеров больше, чем старую.
– Так в том-то и дело! – с раздражением сказал Викентьич. – Всем хотелось бы знать, что у нас за шутник такой завелся. Как ворота снесут, так непременно кто-то всю одежду каким-то похожим на кровь дерьмом перепачкает.
– Ну, это не из наших, наверное, – предположил я. – Просто кто-то пользуется, что цех не закрыт.
Викентьич кивнул.
– Все так и думают, – сказал он. – Ночная смена, похоже, развлекается. Может, кто-то из ткацкого, может, еще кто. Только вот как они замки открывать умудряются? Без малейших, заметь, повреждений, как профессиональные медвежатники. А главное, потом же еще закрыть надо.
Я пожал плечами.
– Ну, я пошел?
– Иди, – сказал Викентьич и через секунду бросил мне вслед: – Плюс ко всему у меня еще двадцатьпятку скоммуниздили. Прямо отсюда, из конторки, увели.
– Кстати… – я быстро пошарил в левом заднем кармане. – Вот. Спасибо тебе.
– Что, удалось где-то перехватить?
– Удалось.
Викентьич не глядя сунул рубль в нагрудный карман.
– Вот суки.
– А зачем здесь оставлял, – сказал я.
– Зачем, зачем, – буркнул Викентьич. – Заначка это была, вот зачем.
– А-а-а. Чтобы жена не конфисковала?
– Да нет, я не женат. Брат у меня, младший, мастер по карманам шарить. Пива каждый день хочется, а работать религия не позволяет. Так что, если мне надо на что-нибудь отложить, оставляю здесь. Так сохраннее.
– Верующий?
Викентьич отмахнулся.
– Да это я так, фигурально. Верит, что можно жить на халяву… Ничего, через год в армию, там, может, мозги вправят.
– А раньше такое было? – после паузы спросил я.
Викентьич помотал головой.
– А самое главное, я же все время специальные контрольки ставлю. И на дверь, и на ящик стола, где деньги храню. – Викентьич заметил мой недоверчивый взгляд и сказал: – Чего удивляешься… Были раньше случаи. Инструменты дорогие воровали, которые сбыть можно… ну, еще там всякое, по мелочи. Того парня вычислили, его уволили давно, но я на всякий пожарный… Так вот сегодня все контрольки нетронуты, а квартальный все равно исчез.
Я опять пожал плечами. Потом постоял и сказал:
– Ладно.
И вышел.
Цеховое собрание устроили у слесарей-ремонтников, по-свойски, без официоза в виде стульев – работяги, не мудрствуя, просто расселись на верстаках. Я тоже запрыгнул на свободное место и сидел, прислонившись спиной к прозрачной плексигласовой перегородке между двумя верстаками.
Смирнов стоял метрах в трех от моего места, в дверях, ведущих в покореженный зал с ручным прессом. Ругался он не особо, потому что ругать, получалось, было некого.
– Так мы-то тут при чем, если это складской автопогрузчик дел натворил, – сказал кузнец, выражая общее настроение. Я уже знал, что его прозвали Вакулой, как кузнеца из какой-то книги какого-то классика – Толстого или кого-то вроде него.
– А одежда, – сказал Смирнов. – Рабочую одежду вам тоже складские попортили?
У работяг эта реплика только вызвала раздражение.
– Вот вы бы, Иван Сергеевич, и выяснили, кто этим балуется, – хмуро сказал мужик лет пятидесяти, в очках с треснутыми стеклами и перемотанной черной изолентой дужкой. Он сидел на соседнем, через проход, двойном верстаке, и мне потребовалось податься вперед и повернуть голову, чтобы увидеть его. – Я утром в шкафчик свой полез, так меня чуть наизнанку не вывернуло. Все в каком-то… какой-то… даже не знаю, как это назвать. Кровь, не кровь… Да еще изодрали все в клочья.
Зал загудел.
– Точно! – громко сказал кто-то за моей спиной, но мне уже было лень повернуться, чтобы посмотреть, кто это. Да и незачем.
– И не в первый раз уже такое, – поддакнул еще кто-то сзади.
Видимо, Смирнов, наконец, получил зацепку для небольшого разноса, потому что заметно оживился и повысил голос.
– Кстати, насчет изнанки, – многозначительно сказал он, глядя на очкарика. – А может, наших работников выворачивает совсем по другой причине? – Работяги перестали переговариваться, наступила полная тишина. – Вот взять хотя бы вас, Степан Константинович… Вы при каких обстоятельствах очки повредили? Кажется, вчера они были у вас целы.
– А при чем здесь мои… – мужик машинально снял очки и принялся протирать их несвежим носовым платком, один из уголков которого был перепачкан отработанным машинным маслом.
– А при том. – Начальник прошел пару метров, остановился в проходе между нашими верстаками и повернулся к мужику, встав ко мне спиной. – Сегодня в мой кабинет звонила некая женщина, интересовалась, вышел ли ее муж на работу. Догадываетесь, чья это была жена? – Мужик промолчал. – Жаловалась, что ее супруг не ночевал дома, – сказал Смирнов, – и что она хотела бы знать, где он в данный момент находится… – Не дождавшись ответа, он удовлетворенно хмыкнул и с видом победителя вернулся назад, на свое первоначальное место.
– Да я просто это… ну… – наконец пробормотал покрасневший как бурак мужик и опять нацепил битые очки на нос, а по залу пронеслись негромкие смешки.
– Сдается мне, некоторые просто изволят приходить на работу с похмелья, оттого их и выворачивает по утрам наизнанку, – сказал начальник. Мужик опять раскрыл было рот, но Смирнов остановил его взмахом ладони. – Все, помолчи, Степа… Это многих касается! – повысил он голос и обвел взглядом опять притихших работяг. – Звонила, между прочим, не только жена Васильева… Что, ребятки, опять имела место массовая попойка?
Кто-то сзади начал что-то говорить, но начальник опять вскинул руку.
– Нет, я все понимаю, – сказал он. – Мы тут все люди взрослые, можем говорить откровенно. Ну, решили выпить после смены по сто грамм, ну, скинулись, зашли в магазин… Напиваться-то зачем. Надеюсь, хоть в вытрезвитель попасть никого не угораздило?
Никто не ответил.
– Он, между прочим, сам дома не ночевал, – прошептал сидящий слева от меня мужик с блестящими залысинами другому мужику, по правую мою сторону.
– А ты откуда знаешь? – прошептал тот.
– Да я утром по поводу зарплаты спросить к нему пошел, слышу, он в кабинете по телефону говорит. Ну, я перед дверью постоял, чтобы не мешать, слышал, как он перед женой оправдывается.
Они так и шептались через меня, на меня не обращая внимания. Лысоватый хотел сказать что-то еще, но тут Смирнов посмотрел на него и многозначительно кашлянул.
– Потом расскажу, – шепнул мужик.
– Ладно, давайте решать, как будем приводить все в порядок, – вздохнув, сказал Смирнов.
По-видимому, разносы закончились, не начавшись, и пошло обсуждение рабочих вопросов. Мужики расслабились.
– А чего тут решать, – сказал парень с длинным шнобелем, с верстака сзади моего, через проход. – Пусть складские и ремонтируют. Они ведь уже не первый раз нам такую подляну устраивают.
– Все сказал? – сказал Смирнов. Он погонял челюстные желваки туда-сюда. – Хорошо. Засчитаем эту реплику как шутку… Александр Николаевич?
– Не-е-ет, Сергеич, извини, – сказали сзади и я на сей раз оглянулся, чтобы посмотреть. Это был бригадир, хмурый сорокалетний мужик, который давал мне задание наточить прутки. – Сам прекрасно знаешь, мы до конца смены станок в первом ткацком запустить должны, кровь из носу. Иначе весь их план накроется, а крайними мы окажемся.
– Хорошо… Инструментальщики, – сказал Смирнов.
– А у нас как будто работы меньше, – отозвался тоже сзади второй бригадир, полная противоположность первого – низенький крепыш с тяжелыми надбровными дугами.
Начальник нахмурился.
– В ваше распоряжение поступит дополнительный работник, – подумав секунду, сказал он.
Крепыш скептически хмыкнул и наигранно бодряческим тоном сказал:
– Ну, тогда я спокоен. Считайте, ворота уже стоят.
Многие засмеялись, а я вдруг понял, что речь идет обо мне.
– Ладно, хватит из пустого в порожнее гонять, – подытожил Смирнов. – Будет так, как я сказал. – Он вскинул руку, посмотрел на часы. – Так, кузница… Волков, бросаешь все и помогаешь сегодня слесарям разобраться с воротами. И один из сварщиков – туда же. Викентьев все контролирует… Все, собрание закончено. Вольно, разойдись.
Народ начал разбредаться по курилкам. Ремонтники повалили под лестницу, токаря и инструментальщики пошли к себе, в тамбур перед сортиром. Я подумал и пристроился к первым, потому что с ними пошел Викентьич.
– Нет, все же это полная фигня, – сказал в курилке неприметный мужичок примерно тридцати пяти лет. – Как можно напиться и не помнить, как.
– Да запросто, – сказал кто-то.
– Может, пойло некачественное? – предположил еще кто-то, и я понял, что мужики, наверное, вернулись к теме, которую обсуждали с утра.
– Да чепуха, – сказал мужичок. – Вот скажите. Кто помнит, чтобы мы вчера собирались после смены выпить?
– Никто не помнит, – сказал бригадир. – Говорили уже об этом. Только вот дома из наших никто не ночевал, это тоже факт. И где были, никто вспомнить не может. Очнулись кто в трамвае, кто на улице, кто еще где. Я вот, к примеру, прямо здесь, в раздевалке утром очухался… А как сюда доехал и откуда – напрочь отрезало. Просто стою перед раскрытым шкафчиком с ключом в руке и пытаюсь сообразить – это я уже отпахал смену или только что пришел.
– Может, пойло виновато, – повторил кто-то. – Так врезало по мозгам, что всю память отрубило. Такое бывает.
– А я все помню, – сказал Викентьич и посмотрел на меня. – И дома ночевал.
– И я помню, – сказал я.
Все стали таращиться на меня, а я, смутившись, подался вперед и погасил сигарету о край высокого жестяного сосуда для сигаретных бычков и мусора, типа вазы с раструбом на горлышке.
– Вот так, – сказал Викентьич. – Закончили смену и разошлись. Все как всегда и никакой мистики. Короче, пить меньше надо, вот что я вам скажу.
– Ну-ну, – сказал неприметный мужичок.
– Ладно, пошли пахать, – сказал Викентьич. Он тоже погасил сигарету и встал. – До конца смены ворота должны стоять… Тезка, дуй в кузницу за Вакулой и сварщиком, поторопи их. Скажи, пусть берут инструмент и подтягиваются к воротам.
– Ага, – сказал я.
И поплелся в кузницу, размышляя, понравилось бы мне, если бы меня прозвали Вакулой…
Я стоял в прозрачной с двух сторон плексигласовой комнате, у наждака, и затачивал прутки. За вчерашний день нам удалось навести в угловом зале полный порядок. Мы поставили ворота, выровняли покосившиеся станки, вставили выпавшую прозрачную стену наждачной и сделали еще кучу всяких мелочей. Даже у аппарата газированной воды был отрихтован бок и теперь он нуждался лишь в легкой подкраске, а плафон в наждачной был опять, как положено, закреплен на потолке.
Я прикладывал конец прутка к вертящемуся каменному диску, раздавался скрежет, на меня густым разноцветным потоком летели искры, а я думал, где бы достать денег, чтобы купить зельца. Попробовать, что ли, как-то пробить аванс…
Когда я отодвигал пруток, становилось тише и я слышал голос Льва Лещенко. «Прощай, от всех вокзалов поезда уходят в дальние края; прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января»…
Узрев, что мимо нашего цеха идут ткачихи, я обогнул станок и встал перед окном. Их было шестеро, разных возрастов, а симпатичной была всего одна, лет тридцати. Проводив ее взглядом, я развернулся и вдруг увидел белеющую за наждаком скомканную бумажку. Странно. Сам здесь утром подметал, а бумажки не заметил.
Я нагнулся и из любопытства развернул неровный оборванный листок, на котором было что-то накарябано карандашом.
«Полковнику Авдееву… заместителю начальника управления… докладываю, что сегодня… ровно в 13–10 началось очередное воздействие… не имею возможности повлиять… не могу даже дописать, потому что… непреодолимая сила»…
Это все, что удалось мне разобрать, потому что написано все было, словно курица поработала лапой. Я опять скомкал найденную бредятину, огляделся, ища, куда бы деть этот дурацкий бумажный клочок, а потом пожал плечами и просто бросил его туда, откуда поднял…
Я как раз обмакивал очередной пруток в специальную емкость с водой, закрепленную на наждаке, когда дверь открылась и в наждачку упруго зашел Викентьич.
– Выруби станок! – Я нажал кнопку «Выкл», снял очки и уставился на него вопросительно. – Сколько тебе у нас осталось? – спросил Викентьич, когда стало тихо.
– Пару дней. А что?
– Да планирую кое-какие работы на следующую неделю, поэтому хочу точно знать, на сколько работников могу рассчитывать… А остаться у нас не думаешь?
Я отрицательно покачал головой и спросил:
– Слушай, а через какое время работник получает первые деньги?
– Обычно через две недели.
– А со мной как будет?
– Не понял, – сказал Викентьич.
– Ну, смотри… Я должен отработать тут неделю. Значит, деньги за это время мне начисляют здесь?
– Ну, наверное.
– А потом перевожусь на склад, и там считают отработанное у них, на складе. А что с деньгами, которые я заработал здесь? Тогда же все запутается.
Викентьич пожал плечами.
– В бухгалтерии разберутся.
– Ну а можно как-то попросить аванс до того, как ты его заработал?
– Ну и вопросики, – сказал Викентьич и почесал затылок. – Не знаю, честно говоря. Просто не сталкивался с таким вариантом. Теоретически, наверное, как-то можно, если экстренные обстоятельства или еще чего.
– Или вот, к примеру, мог бы я получить ровно те деньги, которые заработал за эти дни? Ну, в порядке исключения, даже если там совсем мало.
– А-а-а, – сказал Викентьич, – понял, чего ты паришься. Ты, кажется, говорил, жратву не на что купить. Слушай, я б тебе сам дал, да ты знаешь, стащили мою заначку.
– Ну а все-таки, – спросил я.
– Тебе бы в отдел кадров с этим, – сказал Викентьич. – Там мужик толковый, объяснит. Да и вообще он нормальный, должен, если что, пойти навстречу. Да вот хотя бы прямо сейчас, возьми да сходи.
– А можно? Я вообще-то прутки еще не доточил.
– Ничего. Если что, скажешь бригадиру, что я разрешил.
Он не спешил выходить и откровенно меня разглядывал.
– Что-то не так? – спросил я и повертел головой, тоже себя оглядывая.
– Ты в качалку, что ли, ходишь?
– Да нет, вроде. А чего?
– Да ты за эти дни у нас килограммов пять-семь набрал, не меньше.
Я неопределенно дернул плечами и нажал кнопку «Вкл».
– Викентьич, спасибо! – крикнул я, но он, уже на выходе, только отмахнулся, не оборачиваясь.
Я доточил начатый пруток и остановил наждак. Хотел помыть руки, но внезапно подумал, что лучше идти так. Пусть кадровик видит, что я реально впахиваю, совсем как Папа Карло, и такому замечательному труженику просто грех не пойти навстречу, не удовлетворив его совсем маленькую и совсем необременительную для фабрики просьбу…
Когда я остановился перед знакомой дверью, из соседнего кабинета вышла черноволосая девица, которую я видел здесь в прошлый раз. Она опять была в короткой юбке, опять виртуозно крутила бедрами, я опять уставился на ее ноги, а она опять заметила это и фыркнула. Затем, всем своим видом изображая недовольство, обошла меня со спины и вышла на лестничную площадку, где на подоконнике, над двухместной серой скамейкой, стояла жестяная пепельница. Я опять провожал красотку взглядом, пока она не скрылась за углом, и был уверен, что она чувствует это.
Затем из этого же кабинета вышла блондинка, тоже на каблуках и симпатичная, но не такая классная, как та, первая. Она скользнула по мне любопытным взглядом, тоже обошла меня со спины и удалилась на лестницу.
Я постучал.
– Войдите, – послышалось из-за двери приглушенно.
Я прошел к столу, поздоровался, и кадровик жестом усадил меня на стул. Он сидел, сосредоточенно изучая какие-то бумаги и, по мере просмотра, делал на них пометки карандашом. А я в это время лихорадочно вспоминал его имя-отчество.
«Прощай, уже вдали встает заря и день приходит в города-а… прощай, под белым небом января мы расстаемся навсегда-а», – пел Лещенко из радио.
Я негромко покашлял и кадровик, все так же не глядя на меня, кивнул.
– Павел Аркадьевич, я к вам вот по какому вопросу…
– Ну, не знаю, – сказал он, выслушав меня. – Вообще-то так не положено. Я вообще впервые сталкиваюсь с такой просьбой.
– Павел Аркадьевич, – сказал я, – мне очень надо, правда.
Кадровик выдвинул из стола ящик, достал из него нож и, с четким щелчком выбросив лезвие, принялся затачивать карандаш.
– Имейте в виду, что бухгалтерия, скорее всего, откажется этим заниматься, – сказал он и я с облегчением перевел дух, потому что полдела было сделано. По крайней мере, за меня замолвят словечко, а уж там как получится.
– Спасибо, – сказал я.
– Но одно могу сказать уже сейчас, совершенно определенно – в восторге от такой просьбы они точно не будут. Хотя попросить, конечно, можно.
– Спасибо, – повторил я.
«Прощай и ничего не обещай, и ничего не говори; а чтоб понять мою печаль, в пустое небо па-а-асма-атри-и-и-и»…
Я еще несколько секунд сидел неподвижно, не зная, уходить или сказать что-то еще, когда вдруг что-то началось. Я не понял, что это, но почувствовал, что все изменилось. Воздух стал каким-то… Или нет, воздух оставался прежним. В окно по-прежнему светило солнце. Даже в его луче, пронзающем кабинет, по-прежнему кружились невесомые пылинки. В общем, ничего как будто не изменилось, но все стало как-то по-другому. Мое тело стало каким-то не таким или мне это показалось. Потом на мгновение наступила полная тишина или мне это показалось. Потом все вокруг раздвоилось и через мгновение опять обрело резкость.
«Лай-ла, ла-ла-ла ла-ла-ла ла-ла-а-а, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-а-а-а», – запел Лещенко припев.
Кадровик внезапно вскочил и я увидел, что его глаза налились кровью. В правой руке он держал нож. Я тоже вскочил и попятился. Левой кистью он оперся о стол, мощно оттолкнулся ногами и, одним махом перелетев на мою сторону, мягко и почти бесшумно приземлился на пол. В уголках губ кадровика появилась пена, а взгляд затуманился.
– Что, баклан, авансика захотелось?
Я почувствовал, что волосы на моей голове встали дыбом. Кто-то из нас явно сошел с ума, потому что того, что происходило, происходить никак не могло.
– Павел Аркадьевич…
Он замер на несколько секунд, а я, не отрывая от него глаз, медленно, сантиметр за сантиметром, отступал, пока не уперся спиной в стену. Кадровик смотрел на меня и тяжело дышал, потом перебросил нож из правой руки в левую. Он сделал это не глядя, но нож точно лег в ладонь и остался там, словно приклеившись, а потом Павел Аркадьевич стал быстро перебрасывать нож из руки в руку, крутить его поочередно каждой кистью, делая это и так, и сяк, под разными углами, подбрасывал, ловил, опять подбрасывал, опять ловил, опять перебрасывал из руки в руку, делая все так ловко, словно тренировался всю жизнь, а я смотрел на его фокусы не отрываясь. Подобное я видел только в фильме про головорезов из французского легиона, мы с пацанами ходили смотреть его несколько раз, в основном как раз из-за этой сцены. Но у кадровика все получалось даже ловчее, чем в кино.
– Сейчас я вырежу тебе аппендикс, баклан…
Внезапно мое тело обдало раскаленной волной и я почувствовал прилив ярости. У меня появилось чувство, что я могу запросто, голыми руками изломать весь этот кабинет. А главное, возникла убежденность, что это надо сделать. Но прежде стоило бы свернуть кадровику шею, потому что он меня достал, и вообще, такие люди не имели права на существование.
– Сам сдохнешь первым!
Я упал на ладони и, сгруппировавшись, стал совершать круговые движения ногами, пронося их под поочередно поднимаемыми руками, как это делают гимнасты на коне. На третьем махе я сумел сшибить зазевавшегося на мгновение кадровика, но едва он успел коснуться пола, как в следующий миг опять оказался на ногах и бросился на меня сверху. Я успел среагировать, перекатился в сторону, вскочил, опять увернулся, потому что кадровик бросился на меня вновь, опять ускользнул и, пятясь, какое-то время отбивал выпады ножа, пока кадровик не подставился, и тогда я быстро дважды ударил его кулаками в корпус, но это не остановило чертову боевую машину, он продолжал наступать, а потом…
Потом я кинулся к стулу, чтобы переломать им кадровику все кости, но он сыграл на опережение, ринулся вперед как торпеда, сверкнул нож, я почувствовал сильный удар в бок и лицо кадровика исказила радостная гримаса.
– Молись, с-сука… сейчас нарежу из тебя лоскуты…
Я отскочил, потом предпринял еще одну попытку пробиться к стулу, но кадровик поставил подножку, я упал, он коршуном бросился на меня, но я успел подставить ногу и так толкнул его ступней, что он перелетел через стол, будто выброшенный из катапульты, упал где-то на той стороне, а потом…
Я очнулся. То есть, так мне почему-то подумалось. На самом деле я просто вдруг оказался в каком-то месте и не сразу сообразил, что это за место и зачем я здесь. Кажется, кто-то говорил, что так чувствуют себя эпилептики, очухавшись где-нибудь на асфальте и увидев столпившихся вокруг прохожих.
Но я точно не падал, я был уверен в этом. Просто, наверное, на долю секунды потерял над собой контроль. И наверняка виной тому была чертова жара. Когда-то в детстве мне довелось испытать подобное ощущение на пляже, когда солнце напекло мне голову.
Я обнаружил, что стою перед столом кадровика, а в ногах валяется упавший стул. Сам кадровик возился где-то за своим столом, его не было видно, слышалось только тяжелое хриплое дыхание. Кажется, у него тоже почему-то упал стул.
Я поставил свой стул, присел и постарался изобразить невозмутимость, хотя пребывал в растерянности. И растерянность усилилась, когда я обнаружил, что и сам дышу как паровоз и весь промок от пота.
– Стул упал… – пробормотал Павел Аркадьевич, выпрямляясь. – Кажется, я неудачно поднялся.
Он выглядел неуверенным и не смотрел мне в глаза. Я заметил, что у него треснула по шву правая штанина под ширинкой, а потемневшая от пота рубашка вылезла сбоку из штанов. Поколебался, но не стал говорить ему об этом.
«Прощай, уже вдали встает заря и день приходит в города; прощай, под белым небом января мы расстаемся навсегда», – пел Лещенко.
Кадровик поставил стул, присел, и несколько секунд смотрел на меня, словно что-то вспоминая.
– Насчет аванса, – на всякий случай сказал я.
– Я помню…
Он опять замолчал и около полуминуты сидел, тяжело дыша, а потом я сказал:
– Так может, вы скажете в бухгалтерии, чтобы они…
– Жарко, – сказал кадровик, – открою-ка я форточку.
Он поднялся, развернулся к окну, и я увидел, что его штаны и сзади слегка разошлись по шву. И опять я ничего ему не сказал.
Кадровик вернулся на место и аккуратно поправил почему-то разлетевшиеся по столу бумаги.
– Ладно, – наконец сказал он, – я позвоню в бухгалтерию, попрошу, чтобы они насчитали вам за отработанные дни. Но гарантии никакой. Они не обязаны это делать.
– Спасибо, – сказал я.
– И еще. Если они и пойдут вам навстречу, то сегодня все равно не получится. Самое раннее – завтра. А вероятней всего, в день зарплаты. Как раз на этой неделе всем будут выдавать.
– Спасибо, – повторил я. Потом поднялся и пошел к выходу.
А обернувшись, чтобы попрощаться, заметил, что пол кабинета измазан кровью. Это как-то сбило меня с толку и я вышел молча.
На лестнице, на скамеечке, до сих пор сидели девицы из технического кабинета. Это обрадовало меня, потому что хотелось еще хоть немного поглазеть на ту черненькую. За те десять минут, что я провел в кабинете их начальника, девчонки изрядно надымили. Увидев меня, они замолчали. Мне показалось, что выглядели они растерянно.
Проходя мимо них, я традиционно покосился на ноги черненькой, а она традиционно это засекла и изобразила недовольство. Внезапно я рассмотрел, что под ногами девиц валяются пряди выдранных черных волос, а у моей красотки здорово распухло вокруг правого глаза. Потом поднял взгляд и обнаружил, что левую щеку блондинки пересекают четыре параллельных кровоточащих царапины, словно ей только что заехали по лицу ногтями.
Спустившись по лестнице, я не удержался, поднял голову и напоследок посмотрел на девиц снизу вверх. Они синхронно отвернулись…
– Эй, парень!
Я оглянулся и увидел полноватую женщину лет сорока, в светлом платье до колен. Ее лицо было испуганным, а смотрела она, похоже, куда-то в район моего живота.
Я остановился, развернулся к ней, и несколько секунд стоял молча, ожидая продолжения.
– Тебя что, порезали?
Я опустил глаза и обнаружил на левом боку куртки красное пятно. Чуть повыше талии оказалась прорезь, из которой сочилась кровь. Она уже успела пропитать штанину, а я только сейчас почувствовал, что мое левое бедро мокрое до самого колена. Я потрогал куртку пальцами, они окрасились красным, а потом зачем-то поднес их к лицу, словно был безнадежно близоруким.
– Да нет, вроде, – неуверенно сказал я.
– Как нет? – Женщина приблизилась и я увидел, что ее лицо белое как мел. – Посмотри, вон…
Я посмотрел и увидел, что дорогу от меня до крыльца здания отдела кадров густо усеивают красные капли, местами даже образуя целые потеки.
– Да ничего, – сказал я.
– К-как… ничего…
Я увидел, что женщине стало уже по-настоящему дурно, и испугался, что сейчас она брякнется прямо передо мной на асфальт, а я всегда в подобных случаях терялся, не зная, что делать.
– Может, вам вызвать «скорую»? – предложил я и огляделся. Конечно, на этой чертовой улице как всегда оказалось пустынно, и свалить заботу об этой дамочке было не на кого. Угораздило же ее сюда забрести. Я стал думать, откуда в случае чего можно позвонить, и успокоился, вспомнив, что внутри проходной на стене висят сразу три телефона. Пробежать двадцать метров, и все. А еще лучше подключить к этому делу тетку-вахтершу, а самому улизнуть в цех.
– М-мне?
Я посмотрел на ее выгнувшиеся в каком-то нездоровом удивлении брови и неуверенно пожал плечами.
– Извините, мне на работу надо, – пробормотал я…
Вырулив к ремонтно-механическому, я еще издалека увидел столпотворение возле ворот в угловой зал. Точнее, в том-то и дело, что самих ворот как раз не было. Наши возбужденно размахивали руками и матерились, периодически оглядываясь на стоящий метрах в тридцати зелено-серый автопогрузчик.
– Что случилось? – зачем-то спросил я, словно что-то тут могло быть непонятным.
Викентьич посмотрел на меня как на идиота и ничего не ответил, просто сплюнул.
– Как я понимаю, точить прутки мне сегодня больше не надо, – сказал я.
– Правильно понимаешь, – буркнул Викентьич. – Сейчас пойдешь в кузницу, за Вакулой и сварным. Они там сидят и, похоже, не знают ничего… А что это у тебя?
Я перехватил его взгляд и пожал плечами.
– Хрен его знает. Наверное зацепился за что-нибудь.
– Ну так посмотри, – с раздражением сказал Викентьич. – Мне еще только разборок с инспектором по технике безопасности не хватало. Все остальные удовольствия – вот они… – Он кивнул на проем в стене, за которым валялись искореженные ворота, и опять сплюнул.
Я распахнул куртку, расстегнул рубашку, осмотрел бок. Там был свежий розовый шрам, а вокруг запеклась кровь.
– И то хорошо, что не у нас схлопотал, – сказал Викентьич. В его голосе прозвучало явное облегчение. – Это двухнедельной давности, не меньше. Наверное, разбередил не до конца зажившую рану, вот она и начала кровоточить.
– Наверное, – сказал я. И почесал шрам, потому что он здорово зудел.
– Ты ж не расчесывай! – прикрикнул на меня Викентьич и я отдернул руку. – Потому и кровоточит, что ты расчесываешь. Так оно у тебя никогда не заживет.
– Ну да, – сказал я.
– А что хоть было-то? – с любопытством поинтересовался Викентьич. – На ножевую здорово смахивает.
– Да на гвоздь напоролся, – сказал я.
– Ясно.
Я стал застегиваться, а Викентьич продолжал меня разглядывать. Его взгляд был странным, словно он не верил собственным глазам.
– Чего?
– Да мышцы у тебя, словно совковые лопаты… Ну, эти, грудные. А говорил, в качалку не ходишь.
– Да я это, ну… дома отжимаюсь, в общем.
Мне здорово надоели все эти разглядывания и расспросы. Сначала тетка, теперь Викентьич.
– Ясно… Только другой робы все равно не получишь, будешь до завтра с этой своей кровью ходить. Я уже все прачечникам сдал, нового не получил еще.
– Ладно, похожу, – сказал я.
– Ну что там Аркадьич?
– Да обещал помочь.
– Я же говорил, нормальный мужик.
– Ну да. Только не раньше, чем завтра.
– Ясно… До завтра-то дотянешь?
– Да должен, вроде.
– Если что, скажешь. Попробую тебе что-нибудь найти.
– Договорились, – сказал я и побрел в кузницу…
Вечером позвонил Виталь.
– Может, хотя бы на выходные соизволишь оторвать зад от дивана? – без предисловий, даже не поздоровавшись, спросил он.
– На озеро? – вздохнув, спросил я.
– Ну да. Затаримся пивом, поплаваем… Ты там много заработал, на этом своем «Текстиле»?
– Целую кучу, аж не унести, – сказал я. И поскольку Виталь молчал, ожидая продолжения, сказал: – Не знаю, получится ли. Там у нас сплошные авралы… Боюсь, как бы не припахали поработать в субботу, внепланово. Ты бы позвонил в субботу, а?
– «У нас»… «внепланово»… – проворчал Виталь. – Работяга хренов. Ладно, договорились. Отбой…
Я пошел на кухню и сожрал где-то два кило зельца. Мог бы оприходовать и больше, но надо было оставить что-то на ночь и на завтрак, поэтому приходилось экономить. От неожиданной двадцатьпятки осталось всего около трояка – особо не разгуляешься.
Я выпил стакан кипятка и только тогда вспомнил, что опять не купил хлеба. А потом подумал, что на хрен этот хлеб вообще нужен, от мучного только разжиреешь, и пошел в отцовский кабинет, дрыхнуть.
– Так до сих пор и точишь? – спросил Викентьич.
Я выключил наждак и снял очки.
«Прощай, от всех вокзалов поезда уходят в дальние края; прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января», – пел Лещенко.
– Ну так не дают же. То ворота, то еще чего.
– Сколько их всего?
– Сто.
– А сделал сколько?
Я посмотрел на ящики.
– Половину примерно. Сейчас сосчитаю.
– Да ладно, – сказал Викентьич, – это я так.
Он уже выходил, когда я спросил:
– Слушай, можно я по-быстрому на склад сгоняю?
– Зачем тебе?
– Да хочу посмотреть. Ну, будущее место работы… – И добавил на всякий случай: – Вдруг мне там не понравится, так я тогда лучше у вас останусь.
– Ну посмотри, – сказал Викентьич. – Да, слышь… Вернешься, давай сразу в кузницу, там Вакуле подсобить нужно. – Он заметил, что я посмотрел на ящики, и махнул рукой: – Подождут прутки, потом доточишь…
Я с усилием и скрипом открыл упругую, на мощной пружине, дверь, и попал в темный коридор. Постоял с десяток секунд, ожидая, пока глаза привыкнут после яркого солнечного света.
По лестнице быстро спустился мужик в костюме и очках. Я посторонился, давая ему пройти, но он остановился передо мной и спросил:
– Вы к кому?
– Да просто посмотреть. Я, наверное, работать у вас буду.
Он осмотрел меня с головы до ног.
– Кем?
– Грузчиком, наверное.
– А-а-а… тогда вам не сюда надо. Обойдите здание, там с торца есть еще одна дверь. Это вход на склад. Или идите на автомобильную рампу, она с противоположной стороны. Найдете мужчину с бородкой, он вам все покажет и объяснит. Он начальник смены.
– А здесь…
– А здесь у нас администрация.
– Спасибо, – сказал я. Потом пропустил мужика и вышел вслед за ним.
Работяги сидели на невысокой стопке поддонов, курили. Выглядели они разгоряченными – наверное, недавно что-то грузили. Поддонов на рампе вообще было до хрена и больше, наверное, сотни, а еще было множество тележек – пустых и с рулонами ткани. Машин возле рампы не стояло. Невдалеке застыл автопогрузчик. В кабине никого не было. Покрытие рампы состояло из крупных стальных листов, отшлифованных колесами погрузчиков.
«Прощай, среди снегов среди зимы никто нам лето не вернет… прощай, вернуть назад не можем мы в июльских звездах небосвод»… – пел Лев Лещенко. Наверное, где-то была установлена радиоточка.
Я подошел, на меня уставились три пары глаз.
– Привет, – сказал я.
Один кивнул, второй что-то буркнул, третий не отреагировал никак.
– Я это… ну, наверное, работать у вас буду.
– А сейчас ты где?
– В ремонтно-механическом. – Я зачем-то кивнул в сторону невидимого отсюда ремонтно-механического, словно они не знали, где он находится. – Попросили неделю там отпахать, прежде чем сюда оформить.
– И чего ты от нас хочешь? – спросил самый старший, ему было где-то под тридцатник.
– Да так… посмотреть просто. Ну, как тут у вас чего.
– Ну, смотри, – равнодушно сказал второй, чуть старше двадцати, в желтой майке без рукавов, открывающей неплохие бицепсы. На его плече был выколот парашют, крупные буквы «ВДВ» и еще что-то расплывчатое, шрифтом помельче.
Они потеряли ко мне интерес и просто сидели, затягиваясь дымом. Я помолчал, потом вспомнил:
– Мне сказали, тут такой мужик должен быть. С бородой.
– Это Сансаныч, – сказал тот, что постарше, – он на складе сейчас. Ну, там, внутри. – Он неопределенно мотнул головой.
– А туда свободно можно?
– Валяй, – сказал десантник. – Можешь с торца зайти, а можешь отсюда, с рампы. Если только в коридорах не заблудишься… Вон, в те ворота иди.
Я посмотрел на распахнутые ворота, через которые, наверное, электропогрузчики вывозили на рампу ткани для погрузки, или работяги вручную выталкивали тележки. Рядом была серая, в тон воротам, дверь. Наверное, там был закуток кладовщиков или что-то в этом роде. Я хотел двинуться к воротам и тут в их проеме внезапно появился мужик с небольшой аккуратной бородкой.
– Опять сидим, – сказал он.
Трое переглянулись и третий наконец подал голос. Это был усатый парень примерно возраста десантника, с лицом, густо усеянным неглубокими оспинами.
– Задолбал уже, – сквозь зубы процедил он.
– Саныч, тут к тебе, – сказал десантник.
Кажется, своим появлением я им помог, дав возможность переключить внимание начальника на меня.
Бородатый подошел, смерил троицу недовольным взглядом, затем уставился на меня вопросительно.
Я прокашлялся.
– Я к вам… ну, это. Устраиваться.
– А сейчас где?
– В ремонтно-механическом. – Я опять мотнул головой в сторону ремонтно-механического. – Временно. Попросили неделю отработать.
– А-а-а… – сказал бородатый.
Я думал, что он скажет или спросит что-то еще, но он молчал, ожидая, что скажу я. Я опять прокашлялся.
– А у вас это… ну, правда, что у вас сто восемьдесят можно заработать?
Кто-то из работяг хмыкнул.
– Можно и больше, – сказал бородатый. – Это если выходить по субботам, на срочные погрузки. Тогда за ту же работу платится вдвойне… Тебе уже есть восемнадцать?
– Ну да, – сказал я.
– Вот и хорошо. Значит, при желании сможешь работать по субботам. Иначе со стороны инспекции по охране труда могли бы возникнуть претензии, потому что это идет сверх недельной часовой нормы.
– Да мне и так пока хватит, – сказал я и тут что-то произошло.
Что-то произошло или мне показалось, что что-то произошло. Во всяком случае вокруг все изменилось. Ну, или вроде бы так. Воздух стал каким-то не таким. Ну, или как будто не таким. Зато солнце точно светило по-прежнему. Потом на секунду все вокруг раздвоилось и опять обрело резкость. А может, мне так показалось.
Лев Лещенко пел: «И ничего не говори, а чтоб понять мою печаль, в пустое небо па-а-асматри-и-и-и»…
Потом… потом бородатый посмотрел на меня и я увидел, что у него налились кровью глаза. Трое вскочили и мне показалось, что они сейчас бросятся на меня. Я попятился. Десантник хрипло сказал:
– Сто восемьдесят, говоришь, захотелось…
Он надвигался на меня, поигрывая налитыми бицепсами, а я пятился, пока не уперся спиной в высоченную стопку поддонов. Двое его дружков и бородатый тоже приблизились и я оказался в полукольце.
Внезапно я почувствовал невероятную ярость и желание переломать им кости. И еще у меня появилась уверенность, что я смогу это сделать, и, главное, так надо. Даже удивительно было, почему я до сих пор медлил. Я быстро огляделся, нагнулся и схватил обломок поддона. Это была нижняя его доска с увесистым деревянным кубиком на одном конце и торчащими крупными гвоздями на месте двух отсутствующих – идеальная палица, чтобы вправить мозги любому.
Четверо напружинились, готовые броситься на меня одновременно, и тут снизу кто-то закричал:
– Эй, где вы там! Давайте быстрее, иначе не застанем ремонтников врасплох!
Четверо, потеряв ко мне интерес, бросились к краю рампы.
– Савельич, заводи скорей! – закричал бородатый вслед кряжистому мужику, который мчался неровными скачками к автопогрузчику. И, обернувшись, прорычал: – Приготовиться к бою!
Все разбежались кто куда, но тут же появились снова, и в руках каждого было какое-то оружие. Десантник вооружился длинным тесаком из заточенного полотна механической пилы, ручка которого была обозначена синей изолентой. У усатого и третьего были здоровенные самодельные ножи – наверное, используемые при работе; к примеру, для разрезания упаковок рулонов ткани или чего-то подобного. А бородатый, убежавший в дверь предположительно кладовщиков, выскочил на рампу с копьем из древка флага, в качестве острия к концу которого был примотан длинный, остро заточенный тесак. Кажется, тоже из полотна пилы.
Четверо почти одновременно спрыгнули с полутораметровой рампы и помчались к только что заведенному автопогрузчику – тот вовсю рычал, изрыгая из вертикально установленной выхлопной трубы клубы черного дыма, и словно подпрыгивал от нетерпения на месте, дребезжа своими металлическими сочленениями.
– Чего застыл! – крикнул, остановившись на секунду и повернувшись ко мне, десантник. – Давай на броню, быстро! Ты же без пяти минут наш, складской!
Очнувшись, я без размышлений рванул к краю рампы, спрыгнул и помчался со своей палицей вслед за ним к уже тронувшемуся с места автопогрузчику. Запрыгнувший первым, десантник протянул мне руку, я тоже на ходу запрыгнул на горячий от солнца корпус, и через десяток секунд, набрав скорость, мы мчались к ремонтно-механическому цеху с такой прытью, что полы моей робы развевалась по ветру, как взбесившийся флаг.
«Прощай, от всех вокзалов поезда уходят в дальние края, прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января», – доносился из кабины голос Льва Лещенко.
Сзади бежали еще человек пятнадцать складских, не успевшие оседлать погрузчик, и каждый был чем-нибудь вооружен и каждый кричал что-то грозное.
Когда до ремонтников оставалось метров тридцать, водила распахнул дверь.
– Десантируйтесь! – заорал он и мы слаженно соскочили с погрузчика.
Бородатый и рябой упали, но тут же вскочили, а мы с десантником кое-как удержались на ногах и все, не сбавляя скорости, помчались за железным тараном. Водила, подправляя курс, быстро вильнул вправо-влево, направил свой агрегат точно на ворота ремонтно-механического, и протяжно проревел хриплым басом клаксона.
– А-а-а-а! – проорал бородатый, вырываясь вперед, а стальная махина так долбанула в ворота ремонтников, что под ногами дрогнула земля.
Погрузчик подпрыгнул и заглох, окутанный бетонной пылью, и тут к цеху подбежали мы.
– Вперед! – прокричал бородатый, и, пока окровавленный водила, который головой высадил лобовое стекло, заводил свой агрегат, ловко нырнул в зазор между автопогрузчиком и разбитой стеной, выставив перед собой копье. Еще двое наших нырнули за ним, и в этот момент автопогрузчик завелся. Водила сноровисто дал вперед-назад, повторил маневр, бешено вращающиеся колеса извлекли из асфальта черный дым, и под жестяной грохот опадающих на стальной корпус кирпичей автопогрузчик вырвался из пролома, с треском выдирая вилы из пробитых, покореженных ударом ворот. Мы радостно взревели и не глядя бросились в самую гущу окутавшей вход бетонной пыли.
Я сходу саданул палицей выскочившего из-за сверлильного станка Викентьича и удачно раскроил ему башку, ловко отбил удар бригадира слесарей-ремонтников и крикнул оказавшемуся рядом десантнику:
– Там, в наждачке, заточенные прутья, штук пятьдесят! Ими можно бросаться!
Десантник кивнул.
– Прикрой меня! – прокричал он и мы стали прорываться сквозь плотный вражеский заслон. Я держался чуть сзади, прикрывая ему спину.
Бородатый со зверским видом насадил на свое копье начальника ремонтно-механического цеха, пригвоздил его к аппарату газированной воды, пробив жесть корпуса, кто-то из складских упал, переломившись надвое от удара раскрученных на цепи тисков, а десантник, лихо крякнув, разрубил голову Александра Николаевича, поручившего мне точить прутки, ровнехонько по центру, на две части.
Через секунду мы, продавив плексигласовую стену, оказались в наждачке и жадно выхватили из ящика по охапке острых прутков.
– Занимаем оборону! – крикнул десантник и мы стали швырять прутки через пустой проем в наседающих на нас токарей. – С-суки, сколько же их тут…
«Ты помнишь, плыли в вышине и вдруг погасли две звезды… но лишь теперь понятно мне, что это были я и ты», – пел Лещенко в наждачной.
Полегло уже с десяток наших и около пятнадцати ремонтников, и тут с обеих сторон прибежало подкрепление. Вакула, размахивая огромной кувалдой, мгновенно уложил двух складских, а незнакомый мне мужик из наших разбил головы двум токарям обычной металлической трубой.
Я совершил два точных попадания и двое слесарей упали, пронзенные моими прутками, причем одному я очень удачно пробил голову насквозь. А потом, разгоряченный успехом, выскочил из наждачки, размахнулся, чтобы бросить пруток в выбежавшего из токарного зала сварщика, и неожиданно получил откуда-то сбоку такой удар в грудь, что завалился назад, ударился головой о станину ручного пресса, и еще в падении понял, что не встану – то, что с треском прорвав ткань спецовки, вонзилось мне в грудь, в ее правую сторону, уже давно вышло из спины, слева, пронзив грудную клетку наискосок.
«Лай-ла, ла-ла-ла ла-ла-ла ла-ла-а-а, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-а-а-а»…
Своим собственным прутком… – еще успел с горечью подумать я, когда сообразил, чем это меня так ловко проткнули. А потом наступили полная темнота и тишина…
Я проснулся от духоты и жажды. Было ощущение, что организм иссох без жидкости, как мумия в древнем саркофаге. Несколько секунд я пытался включить голову, чтобы сообразить, где нахожусь, но ничего не получалось, были только телесные ощущения неудобства. Постепенно возникло какое-то соображение, глаза адаптировались к тусклому свету и пришло понимание, что я нахожусь в кузнице. Свет от наружного фонаря проникал сквозь ее пыльные окна, рассеивался, теряя и без того слабую силу, и позволял разглядеть окружающее пространство отдельными фрагментами, как на темной, безнадежно передержанной в проявителе, черно-белой фотографии.
Кажется, я лежал в груде чьих-то разгоряченных тел, на боку, зажатый со всех сторон, почти лишенный возможности движения. Отовсюду слышались хрипы и тяжелое дыхание. Я скинул с плеча чью-то ногу, попытался перевернуться на спину, чтобы сесть, но что-то не позволило мне это сделать. Я повторил попытку и получил тот же результат – что-то цеплялось за меня, не давая перевернуться, или я цеплялся чем-то за что-то. Я пошарил рукой по груди и обнаружил, что из нее торчит какая-то штуковина. Я обхватил ее ладонью, потянул, но штуковина засела плотно, словно ее забили кувалдой. Меня охватило раздражение. Я с такой силой рванул эту чертову штуковину, что она выскочила из меня с громким чавкающим звуком, и не менее полуминуты с недоумением смотрел на чертов пруток, один из тех, которые я точил вот уже три или четыре дня подряд.
Отбросив эту гадость куда-то в темноту, где она звонко ударилась обо что-то железное и покатилась по полу, я с кряхтением слез с груды тел, а точнее, съехал с них на заднице, и несколько секунд стоял, пошатываясь от слабости, пытаясь сориентироваться среди нагромождения тел и агрегатов. Потом, повертев головой, увидел темнеющий купол вытяжки горна, развернулся, и осторожно, чтобы не споткнуться, побрел к сварщикам. Там у них была раковина и кран с водой.
Дверь к сварщикам оказалась запертой, а сил высадить ее у меня не было, поэтому я стал бродить в поиске питья по кузнице. Возможно, кузнец держал где-нибудь бутылку с водой. Пробраться к горну, неподалеку от которого стоял шкафчик с личными вещами Вакулы, было затруднительно из-за груды этих чертовых наваленных в проходе тел, и я стал шарить между станками. Все кругом было скользким и приходилось передвигаться как конькобежцу, не отрывая ступни от пола. Судя по всему, это была кровь, которой натекли целые лужи, как будто здесь недавно прошел ливень из эритроцитов.
Когда между аппаратом точечной сварки и пневматическим молотом мне удалось нашарить десятилитровую металлическую канистру, я обрадовался, словно лось, выскочивший из горящего леса к водопою. Судя по тяжести, емкость была полной под завязку. Быстро откинув крышку, я поднял канистру, припал губами к горлышку и после внушительного глотка понял, что внутри солярка. Почему-то нос не чувствовал запахов, иначе я обнаружил бы это раньше.
Да и черт с ним, – подумал я и стоял, задрав голову, не меньше минуты, и все хлебал, хлебал, хлебал, и никак не мог остановиться, потому что жажда действительно была поистине зверской. Солярка оказалась вполне удобоваримой и даже вкусной, только показалась какой-то жирноватой, лучше бы это был бензин… Выпив где-то половину канистры одним махом, я еще около минуты стоял неподвижно, тяжело дыша, пытаясь выправить сбитое дыхание. Потом опять приложился к горлышку, отпил еще пару литров, рыгнул и вернул канистру на место. Опять продышавшись, я стал думать, что делать дальше, и не придумал ничего лучше, как вернуться туда, где недавно лежал – там хотя бы было тепло. Почему-то я почувствовал внезапный озноб, хотя разбудила меня невыносимая жара.
Я дошел до груды и забрался на самый верх, опираясь ступнями на чьи-то руки, ноги, головы, и не особенно по этому поводу переживая. Точнее, я вообще не брал это в голову. Все равно все крепко спали и никто ничего не чувствовал. Теперь, когда глаза окончательно привыкли к скудному освещению, я разобрал, что тут были навалены и складские, и наши. Забравшись примерно на свое старое место, я свернулся калачиком и попытался согреться.
– Еб твою мать… – вдруг хрипло выругался кто-то над самым ухом.
Я открыл глаза и обнаружил лежащего рядом начальника цеха. Он пытался перевернуться на бок и не мог этого сделать, потому что мешал торчащий из глаза электрод. Этот электрод не давал ему уложить как надо голову, упираясь концом в чью-то спину.
– Иван Сергеевич… – тихо позвал я. Он перестал кряхтеть, затих, словно прислушиваясь. – Иван Сергеевич, вам помочь?
Он ничего не ответил, только лежал с десяток секунд не шевелясь, и шумно дышал. Потом с раздраженным бурчанием вырвал из головы электрод и швырнул его за спину. Тот, кажется, угодил в корпус вытяжки над горном, потому что послышался глухой жестяной звук, потом опять настала относительная тишина.
Начальнику наконец удалось перевернуться на бок, и через секунду он громко захрапел, а я еще около минуты лежал, слушая хрипы и стоны беспокойно шевелящихся мужиков, пока не уснул…
Я проснулся и обнаружил, что уже светло. Я лежал на полу среди пяти или шести вольно раскинувшихся тел – видимо, остальные мужики разбрелись. Я встал и сразу, прямым ходом направился к своей заначке, потому что опять чувствовал зверскую жажду. Нашарив канистру, я понял, что она совершенно пуста и выругался в адрес неизвестного, опередившего меня умника. А потом подумал: да и хрен с ним. Уже ведь светло, да и чувствовал я себя довольно бодро, поэтому найти попить не должно было составить труда. И побрел в цех, к аппарату газированной воды.
Возле аппарата толпился народ. Викентьич, начальник цеха, двое ремонтников и сварщик. Чужих не было; наверное, складские ушли к себе. На всех было два стакана, стояли молча. Викентьич допил и длинноволосый ремонтник нетерпеливо протянул руку за стаканом.
– Пятый, – сказал он и я догадался, что они договорились пить по пять стаканов, не больше.
Длинноволосый наполнил стакан, выпил его залпом, тут же поставил его под короткую выходную трубку, опять наполнил, и свой стакан тут же подставил Иван Сергеевич. Он нажал кнопку, с шипением хлынула газировка, а длинноволосый уже нетерпеливо протягивал руку, чтобы наполнить свой опустевший стакан.
Мы молча топтались возле аппарата около получаса, по очереди выпивая по пять стаканов, пока не кончился газ.
– Пошли в сортир, – сказал патлатый и мы побрели к токарям, в тамбур перед сортиром, который использовался в качестве курилки и где было три умывальных раковины. Раз кончилась вкусная вода с газом, значит, нечего было ждать друг друга и пить стаканами.
Там мы пили еще около получаса, по очереди нагибаясь и прикладываясь к кранам. Ожидающие засекали время, чтобы пьющие присасывались к воде не больше чем на минуту, потом сменяли пьющих. Все опять происходило молча.
– Нормально, – наконец сказал Викентьич. – Напился?
– Сейчас, мне бы еще разок…
Викентьич дождался, пока я напьюсь, потом сказал:
– Ладно, тогда и я еще разок.
И мы зависли возле кранов еще минут на двадцать.
– Сколько натикало? – спросил Викентьич.
Я взглянул на часы. Вторая половинка стекла отлетела и теперь циферблат был полностью открыт. Впрочем, стрелки двигались, а это было главное.
– Половина пятого.
– Утра или вечера?
– А хрен его знает.
– Утра, – сказал кто-то.
– Надо навести порядок, – сказал Викентьич.
Мужики неохотно оторвались от воды и мы всей гурьбой побрели в угловой зал с ручным прессом.
– Я к себе, у меня там бумаг скопилось, – сказал начальник цеха и Викентьич молча кивнул. – Ты знаешь, что делать. – Викентьич опять кивнул.
Начальник хотел что-то добавить, но, похоже, забыл, что, потому что в итоге только махнул рукой и ушел.
Ворота поставить не удалось, потому что они не хотели вставать на место, их нужно было рихтовать. Викентьич открыл воду и стал поливать пол из шланга, выгоняя кровь на улицу. Он периодически прикладывался к этому шлангу губами, а мы завистливо на него поглядывали, занимаясь покореженными станками.
– Серега, там, в кузнице, тоже кровищи до хрена, надо помыть, – сказал Викентьич. – Открой свою половину, у вас там тоже шланг есть.
Сварщик молча кивнул и ушел, а мы продолжили убираться.
– Нормалек, – наконец сказал Викентьич. – Сколько на твоих?
– Шесть, – сказал я.
– Нормалек, – повторил мастер. – Еще успеем сгонять быстро по домам, переодеться и пожрать. Фабричная столовка все равно закрыта… Даже в душ здесь успеем.
Мы побрели в раздевалку…
– Чего-то мы припозднились, – сказал Викентьич, обнаружив, что слесаря ушли. Я пожал плечами и прикрыл шкафчик. – Замок так и не поставил?
Я опять пожал плечами и прошел к зеркалу. Достал из заднего кармана джинсов расческу, причесался, потом стал смотреть на Викентьича.
– Чего? – спросил он.
– Слушай… – начал я.
– Можешь не продолжать. – Викентьич похлопал себя по карманам брюк и достал из левого железный рубль. Вот, больше ничем не могу, только рубль есть… Сегодня, кстати, зарплата будет.
– Не знаю, получу ли чего, – сказал я. – Кадровик обещал похлопотать, но без гарантий.
– Ясно, – сказал, причесываясь перед зеркалом, Викентьич. – Ну, двинули…
Мы вышли с проходной и остановились.
– На трамвай? – Я кивнул. – Тогда давай. Мне тут еще в одно место нужно заскочить.
Я пожал Викентьичу руку и взял направление на остановку. Дорога до фабрики была пустынной, первая смена начиналась только через час.
Пройдя пару метров, я вдруг очнулся. Ну, так мне показалось. На самом деле я вдруг оказался в каком-то месте, и только через пару секунд сообразил, где я. Кажется, подобное ощущение испытывают эпилептики, от кого-то я слышал об этом. Но ничего общего с эпилептиками у меня не было, стопроцентно. Просто, вероятно, на какую-то секунду я потерял над собой контроль. Возможно, не выспался или перетрудился, хотя ничего физически тяжелого вроде не делал. Подумаешь, точил прутки…
Я посмотрел на часы и чертыхнулся, обнаружив, что вылетела и вторая половинка стекла, но две стрелки, минутная и часовая, двигались исправно, а это было главным. До смены оставался почти час, и было непонятно, на кой черт мне понадобилось вскакивать в такую рань, если я настолько сильно не высыпаюсь, что временами испытываю помутнения в голове. И еще я не помнил, как только что ехал в трамвае и как почти дошел до фабрики. И уж совсем непонятно, почему сейчас иду от нее.
Я чертыхнулся еще разок, развернулся и двинул через проходную, пытаясь вспомнить, как прошла вчерашняя смена и почему я не помню, что делал после работы. Наверное, пришел домой и сразу отрубился, иных вариантов на ум не приходило. А еще я вчера собирался на склад, посмотреть, как там что. Да, точно. Я вспомнил, что был на складской рампе, а вот что было дальше, отрезало напрочь. Да и черт с ним. Главное, что сегодня день зарплаты и я, возможно, получу хоть сколько-нибудь, и этого, будем надеяться, хватит на зельц.
Стоило подумать про зельц, как желудок судорожно запульсировал и я почувствовал, что могу сожрать слона. Нет, зарплату, кажется, выдают после работы, а я не был уверен, что смогу продержаться до обеда, на который, кстати, все равно тоже не было денег. Ну да ничего, попробую одолжить у кого-нибудь рубль на столовую, а там видно будет.
– Тезка!
Я обернулся и увидел стремительно нагоняющего меня мастера.
– Привет, Викентьич.
Мы пожали друг другу руки и неспешно двинулись к цеху.
– Чего в такую рань примчался? – спросил Викентьич.
Я пожал плечами.
– А ты?
– А вот спроси дурака, – с раздражением пробурчал Викентьич. Он выглядел как-то неуверенно, словно не решался что-то сказать.
– Чего? – спросил я.
– Ты это… не знаешь, мы с мужиками не собирались после работы… ну, это…
– Выпить? – помог я.
– Ну да. Может, слышал, как мы договаривались.
– Да нет вроде, – сказал я. – Хотя, может, я просто пропустил. Я же на склад уходил, посмотреть, что там чего.
– Ну и как там тебе, кстати?
– Да так, – сказал я.
Теперь, наверное, я выглядел неуверенно, как Викентьич минуту назад, потому что теперь он подбадривающее сказал:
– Чего.
– Слушай… ты бы не подкинул мне рубль на обед? Если кадровик договорился с бухгалтерией, мне сегодня хоть что-нибудь да выпишут. И я сразу тебе…
– Да нет проблем, – сказал Викентьич. – У меня рубль где-то железный… – Он стал шарить в карманах, бормоча: – В случае чего просто перехвачу у кого-нибудь, ты ведь пока мало кого знаешь… Ч-черт!
– Что такое?
– Рубль куда-то задевался, – озадаченно пробормотал Викентьич. Потом хлопнул меня по плечу и бодро сказал: – Да ты не боись, до обеда что-нибудь придумаем! Ладно, пошли.
– Пошли, – сказал я.
Потом запустил руки в карманы и внезапно нащупал в левом нечто круглое, железное. Мне не требовалось доставать находку, чтобы убедиться в очевидном – это был обычный юбилейный рубль. Да и неудобно получилось бы. Ведь я только что сказал Викентьичу, что у меня нет ни копейки. Еще подумает, что этот рубль я у него и умыкнул.
– Чего? – спросил, покосившись на меня, Викентьич.
– Да так, – сказал я…
– Твою мать! – зло сказал Викентьич, когда мы дошли до цеха.
– Чего? – спросил я, чувствуя, что помимо зверского аппетита меня так же зверски клонит в сон и еще здорово хочется пить.
– Да вон! – Викентьич кивнул. – Опять нам ворота высадили!
Мы не стали заходить в цех, по улице дошли до углового зала и остановились, рассматривая зияющий проем.
– Ночью, наверное, – зевнув, сказал я. – Вон, смотри, стена наждачной тоже выдавлена.
– Да стена-то хрен с ней… – пробормотал Викентьич, присев на корточки и изучая развороченную кирпичную кладку под углом, снизу вверх. – Плексиглас, что ему будет… за десять минут на место поставим. А вот ворота… – Он с кряхтением поднялся, зачем-то потрогал стену рукой. – Ну да, похоже, ночная смена постаралась.
– А складские разве и в ночь работают? – спросил я.
Викентьич хмыкнул.
– А тебе что, не сказали? Вот видишь. Не все там так вкусно, на этом складе, как тебе кажется.
– Да я ничего, – пробормотал я. – Слушай, я попью схожу…
Я протопал прямо по покореженным, лежащим на полу воротам, добрался к аппарату с газировкой, нажал на кнопку, но вода пошла обычная, без газа. А на втором стакане аппарат и вообще выдал громкие клокочущие звуки и затих. Его корпус был пробит чем-то острым, продольным, наподобие широкого лезвия ножа.
– Не понял… – Подошедший со спины Викентьич вытащил провод из розетки, опять подключил, нажал кнопку, но аппарат отреагировал лишь тем же клокотанием. Потом с усилием приподнял стоящий в углу баллон. – Твою мать… – сказал он, с глухим увесистым звуком возвращая баллон на место. – Недавно же только его привез. Может, с протечкой попался, вот газ и улетучился?
– Может, – сказал я.
– И корпус еще кто-то покалечил…
– А это тоже твоя работа, газ менять?
– А ты думал! – с раздражением сказал Викентьич. – Тут все на мне… – И добавил вполголоса: – Та-а-ак… теперь еще не забыть позвонить, заказать газ. Словно не хватает мне всего остального… Ладно, пошли в раздевалку…
– Ни фига себе! – вырвалось у меня.
– Чего? – спросил Викентьич.
Я вытащил из шкафчика перепачканную в засохшей крови робу, вытянул ее на руках, показывая Викентьичу.
– Твою мать! – выругался он, открыв свой шкафчик. И показал мне свою робу.
– Тут грудь пробита, – сказал я, повертев куртку так и сяк. – Видишь, дыра. И спина тоже… Ну да, точно. Сквозная.
– Все пакостит кто-то, – проворчал Викентьич. – Ну конечно… ворота-то высадили, входи, кто хочет… Ладно, пошли каптерку, я вчера чистое получил.
Мы прошли к токарям.
– Викентьич, я сейчас, – сказал я, направляясь к сортиру. – На минутку кое-куда заскочу…
Струя была какой-то чрезмерно желтой, яркой, а еще в туалете пахло соляркой. Запах был острым, словно кто-то вылил в унитаз целую канистру. Возможно, так и было, потому что поверхность воды была затянута жирной масляной пленкой. Я дернул спусковую ручку, из высоко закрепленного бачка с шумом ударила вода, а когда она прошла, пленка восстановилась.
– Сам там поройся, – сказал Викентьич. Он сидел за своим столом, заполняя какие-то бумаги.
– Угу, – сказал я и пошел к чану, на приятный запах химической свежести, наверное, какого-то стирального порошка.
На этот раз выбрать робу оказалось еще труднее, потому что я раздался в плечах уже до размера пятьдесят второго – пятьдесят четвертого, а робы в большинстве были маломерными, севшими от множественных стирок.
Дверь с шумом распахнулась и в конторку ввалился патлатый слесарь из ремонтников.
– Вон, не успел новое получить, так ведь опять какие-то суки испачкали и продрали…
Он закинул окровавленную робу в чан с грязной одеждой и подошел ко мне.
– И тебе тоже «здравствуйте», – буркнул, не поднимая головы, Викентьич.
Слесарь дождался, когда я забракую из-за узости в плечах вполне приличную, почти новую куртку, и поспешно ее схватил, потому что в конторку вошел кузнец с аккуратным бурым свертком в левой подмышке.
– Трудно слонам с одеждой, – с наигранным сочувствием бросил мне ремонтник и хохотнул, а прекративший заполнять какой-то бланк Викентьич повернулся на стуле и сказал:
– Что-то ты тезка, действительно, того… разнесло тебя, короче, не по-детски. Со вчерашнего дня кило пять прибавил. Как такое может быть, не представляю. Люди годами качаются, а ты…
– Могу в ученики взять, – сказал, оценивающе пробежав по мне глазами, Вакула. – Кузнец профессия штучная, их нынче нигде специально не готовят. Ты как?
– Да не знаю… Смотря, сколько там платят.
Я почувствовал себя слегка не в своей тарелке, как всегда, когда на меня было обращено общее внимание, и нарочито беззаботно сказал:
– Чего смурной-то такой?
– Да солярку увели, – хмуро сказал кузнец, – целую канистру.
– Вместе с канистрой? – спросил Викентьич.
Он отбросил шариковую ручку, встал, с кряхтеньем потянулся и подошел к нам.
– Да в том-то и дело, что нет, – сказал Вакула. Он уже рылся в чане с чистой одеждой. – Все лучшее уже, конечно, выгребли, черти… А что?
– Да так, – сказал Викентьич. – Крыса у нас завелась, вот что. У меня недавно квартальный прямо отсюда, из конторки, поперли.
– Ни хрена себе, – буркнул кузнец, а мне показалось, что слесарь смотрит на меня подозрительно и я поспешно сказал:
– Да не уводил твою солярку никто. Ее в сортире в очко вылили.
– А ты почем знаешь? – спросил Вакула.
Он прекратил копаться в чане и тоже стал смотреть на меня.
– Да там запах такой, что сразу ясно… Сам сходи, понюхай.
– Это точно? – спросил Викентьич. Я кивнул и он сквозь зубы выругался. – Ну вот что со всем этим делать!
– Так ничего же страшного, – сказал патлатый. – Ну, вылили, и что? Что унитазу от солярки сделается.
– Может, ее поджечь собирались, да не успели, потому что вспугнул кто-нибудь, – сказал Викентьич. – А то что робы кто-то каким-то дерьмом мажет, да так, что мне каждый день прачечникам челобитные строчить приходится – тоже ничего страшного? А то что ворота через день выносят – это нормально? А то что газа для газировочного аппарата не напасешься – это как? А теперь еще солярка в сортире.
– Ну ты разошелся, – сказал Вакула. – Лучше пошли, мужики, покурим. Заодно и попьем, а то что-то сушняк одолел.
– Так ведь сейчас за робами набегут, – сказал Викентьич.
– Да и хрен с ним, – сказал патлатый. – Оставь дверь открытой, чего тут у тебя выносить.
– Это точно, – буркнул Викентьич, – давно уже все вынесли. Ладно, пошли…
Точить прутки мне, разумеется, опять не дали. Все утро мы с кузнецом, сварщиком и двумя слесарями – ремонтником и инструментальщиком – занимались воротами и восстановлением порядка в угловом отсеке. Но сделали все на совесть, теперь и не сказать было, что вчера тут побывали неизвестные пакостники. Конечно, до цементирования разнесенного воротного проема дело как всегда не дошло, но сами ворота стояли прочно, отрихтованные и приваренные к специально для этого заложенной в кирпичной кладке арматуре.
Потом мы с патлатым слесарем на позаимствованной у сварщиков небольшой тележке привезли с технического склада баллон с газом и, подсоединив к аппарату, тут же проверили его работоспособность, выдув по десятку стаканов газированной воды. Было просто удивительно, до чего меня замучила жажда и что в меня вообще столько влезло. Такого, насколько я помнил, со мной еще не бывало.
– Молодцы, – сказал забежавший на минутку посмотреть, как мы управляемся, начальник цеха. Он выглядел здорово не выспавшимся, под его глазами темнели набрякшие мешки. – Ого, даже аппарат успели наладить… Выпью-ка я стаканчик.
– Так ведь все действия отработаны давно, – сказал слесарь. – Все привычно.
– Вот то-то и оно, что привычно. Именно об этом и надо бы поговорить… – Осушивший с десяток стаканов Иван Сергеевич стоял, тяжело дыша, и хмурился. Потом вскинул руку, посмотрел на часы. – Ладно, собрание сегодня устраивать поздно, обед скоро.
– Да что на собраниях штаны протирать, – вступил в разговор подошедший Викентьич. – Вам бы складским мозги вправить надо, а то что это за дела… – Он кивнул в сторону ворот.
– Спасибо, что подсказал… – пробурчал начальник, – только с этим я как-нибудь сам разберусь. Лучше скажи, почему в моем кабинете телефон с утра разрывается! Опять полцеха дома не ночевало. Дисциплинка, мать вашу…
Викентьич промолчал. Он отвел взгляд, потом, когда молчание затянулось, нажал кнопку и аппарат принялся заполнять стакан газировкой.
«Прощай, от всех вокзалов поезда уходят в дальние края; прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января»… – запел у токарей Лещенко.
– После обеда подскочи ко мне на полчасика, – сказал начальник, с завистью глядя на запрокинувшего голову Викентьича. Тот, не отрываясь от стакана, кивнул, и начальник пошел к себе через ремонтников.
– Он и сам дома не ночевал, – сказал, подойдя, низенький лысоватый токарь.
– А ты почем знаешь? – спросил, крякнув, Викентьич.
Он поставил стакан под кранец и нажал кнопку.
– Да пошел утром к нему насчет зарплаты спросить, подхожу к кабинету, слышу, он там с женой по телефону разговаривает… Эй, воду-то всю не выдуй, оставь другим хоть чуть-чуть!
– Да пей, сколько влезет, – сказал Викентьич, с сожалением возвращая стакан на место. Потом спросил: – Сколько на твоих натикало?
Я с трудом оттянул плотно обхвативший запястье рукав, чтобы посмотреть на свои часы без стекла.
– Обед уже.
И только сейчас ощутил, что ремешок часов больно впился в руку. Следовало бы его ослабить, но, надевая часы в последний раз, я и без того задействовал крайнюю дырочку, хотя совсем недавно свободных было целых три.
– Вот и пошли, тезка, – сказал повеселевший Викентьич и хлопнул меня по плечу. И, вспомнив, добавил: – Найдем тебе рубль, не боись. В очереди мужиков спрошу. А в крайнем случае поварихи так дадут. Просто в долг на меня запишут, и все дела. Меня там все знают.
– Пошли, – тоже повеселев, сказал я. – Только еще стаканчик перехвачу.
И мы с Викентьичем выпили еще по пять стаканов воды, а ушли только потому, что на нас стали рычать образовавшие очередь токаря.
– Этак завтра придется выписывать еще один баллон, – озабоченно сказал напоследок Викентьич и мы двинулись в столовую.
Мы стояли в очереди, между витриной выдачи и стальным хромированным барьером, и думали, чего бы такого набрать на пятерку, чтобы вышло побольше, потому что Викентьичу удалось настрелять у работяг трояк и два раза по рублю. Верх примерно метровой высоты настольной витрины, в которую выкладывалась жратва, был металлическим, а обращенный к нам бок был наполовину открытым, состоя из перемещающихся по пазам выпуклых, полукругом, фрагментов из прозрачного плексигласа с ручками. Наши подносы стояли на подставке перед витриной и были пока пустыми. Мы решали, как бы на занятые Викентьичем деньги отовариться по максимуму, потому что оба чувствовали зверский аппетит и жажду.
В зале играло радио.
«Прощай и ничего не обещай, и ничего не говори; а чтоб понять мою печаль, в пустое небо па-а-асма-а-атри-и», – пел Лев Лещенко.
– Может, винегрет? – предложил я, – он вон какой дешевый, можно целую кастрюлю на двоих взять.
– Нет, – не поворачивая головы, сказал Викентьич; он жадно высматривал что-то за салатами, – винегрет – пустая трата денег, им не насытишься. Жаль, сегодня не рыбный день, тогда на пятерку можно было бы столько рыбы с пюре набрать, что треснули б…
– Слушай, а здесь всегда так много народу? – спросил я.
В зале было около пятидесяти столиков, и свободных мест за ними не было совсем. Кто-то даже ел стоя, разложив тарелки на одном из подоконников, а столики были буквально завалены тарелками со жратвой. Каждый брал порцию или две первого, два или три вторых, пару тарелок десерта и не меньше пяти стаканов компота. От кассы народ отходил осторожно, походками цирковых канатоходцев, с трудом сохраняя горизонтальное положение переполненных подносов. У каждого на тарелках со вторым были навалены целые горы черного хлеба – его, кажется, можно было брать здесь то ли бесплатно, то ли по символической цене, по паре кусков на копейку.
– Да нет, – не сразу отозвался Викентьич. Он выглядел слегка озадаченным. Кажется, только мой вопрос заставил его оглядеться и обратить внимание на столпотворение. – Странно даже… Кажется, сегодня всех одновременно на хавчик пробило. Это хорошо, что нам так удачно удалось воткнуться. Пришли бы на десять минут позже, сейчас бы вон там, возле входа стояли.
Внезапно объемистая тетка на кассе, с химической завивкой и блестящим от пота лицом, визгливо закричала и все вытянули шеи, пытаясь рассмотреть, на кого она там орет.
– Так чего тогда набираешь, если денег нет! Чего тогда столько набираешь!
Я, наконец, рассмотрел – перед кассой стоял мужик из нашего цеха, здоровенный широкозадый сварщик, набравший на поднос столько, что тарелки образовали что-то наподобие египетской пирамиды. Его я видел всего пару раз, в кузнице, а чинить ворота обычно выделяли второго, щупловатого Серегу.
– Сказано же, сегодня зарплата! – закричал сварной в ответ. – Запиши просто на листочке, на сколько я набрал, и…
– А кассу я тебе как вечером сдавать буду! – заорала тетка. – Мне что, деньги тоже цифрами на листочках написать, или ты мне из своих докладывать прикажешь!
– Тебе же русским языком говорят, через полчаса получу и принесу! Бери пока, сколько есть, тут всего-то рубля какого не хватает.
– Эй, на кассе! – заорал сзади высокий тощий мужик с морщинистым лицом заядлого выпивохи, – хорош базарить! Тут люди жрать хотят!
– Небось не помрешь! – бросила объемистая, как и все здесь, тетка по другую сторону витрины. Она стояла возле огромной дымящейся кастрюли и шустро орудовала черпаком, раскладывая картофельное пюре по тарелкам. На алюминиевом боку кастрюли зеленой масляной краской было неровно выведено какое-то слово, заканчивающееся на «т… шка». Буква после «т» была стерта.
– А если помру? – не унимался мужик.
– Сами, небось, молотят без остановки! – поддержал тощего чей-то хриплый голос, но я не разглядел, кто это, потому что мужик был скрыт за многочисленными, выстроившимися в очередь рабочими организмами. – Вон, посмотрите, как они все в три горла наворачивают!
Раздатчица действительно безостановочно что-то жевала, доставая это ложкой из стоящей возле кастрюли миски, и при этом успевала накладывать пюре, делать в нем фигурное углубление, выливать туда ложку подсолнечного масла, бросать рядом шницель, добавлять по соленому огурцу и выставлять тарелки на витрину.
Рядом стояла еще одна раздатчица, разливающая по стаканам компот, кисель, сооружающая сладкие блюда из того же киселя и разрезанной на ровные плоские квадраты крутой манной каши, и у этой раздатчицы тоже была индивидуальная миска, из которой она периодически доставала что-то столовой ложкой и забрасывала в рот.
Третья тетка, выносившая из смежного помещения бачки со жратвой, тоже беспрестанно что-то жевала, как и четвертая, видневшаяся в дверном проеме, склоненная над огромной раковиной с грязной посудой.
– Да они тут все обжираются! – закричала стоящая перед нами с Викентьичем тетка в халате ткачихи. У нее не хватало двух передних верхних зубов, а рябое лицо показалось мне знакомым.
– Не ваше дело! – заорала завитая как пудель Артемон кассирша и на сей раз слова прозвучали невнятно, потому что у нее был забит рот. – Хотим и едим! У нас тоже обед! – Я вытянул шею и сумел рассмотреть, что рядом с кассовым аппаратом стоит большая алюминиевая миска, а сама тетка быстро что-то жует. – Или плати, или…
Тетка орала что-то еще, а сварной неожиданно схватил ложку и стал жрать прямо со своего подноса, из верхней тарелки, где лежал, кажется, шницель с чем-то светлым, рассыпчатым, то ли макаронами, то ли рисом. Кассирша при виде такой наглости заглохла, кажется у нее от возмущения перехватило дыхание или она подавилась, а все вокруг вдруг пришло в бурное движение. Действия сварного словно послужили сигналом, явились спусковым крючком для голодной толпы, которая и без того нетерпеливо переминалась в очереди, мечтая быстрее оказаться за столом.
Народ стал хватать с витрины все подряд и жрать тут же, на месте, почти не пережевывая, заглатывая второе и салаты ложку за ложкой или поднося тарелки с супом к губам и опустошая их прямо так, как пьют воду. Вилками никто не пользовался, потому что вилкой много было не взять. А кто не захватил сразу столовые приборы, хватали и запихивали жратву в рот просто руками.
Мы с Викентьичем сразу заграбастали по паре тарелок со шницелями и картофельным пюре, мгновенно все проглотили, потом я попробовал пролезть сквозь витрину, чтобы добраться до объемистого бачка, из которого тетка в белом халате черпала половником макароны, раскладывая их по порциям, но застрял. Кто-то вцепился в мою лодыжку, попытался вытянуть назад, но я не глядя лягнул раз, другой, на третий попал во что-то мягкое, кто-то охнул и моя лодыжка освободилась. Викентьич некоторое время пытался протолкнуть меня, упершись руками в мой зад, потом махнул рукой и принялся сгребать тарелки, все, что попадется под руку. Я скосил глаза, увидел, что он пьет мусс из глубокой тарелки, и позавидовал, потому что мне тут же жутко захотелось этого мусса. В следующий момент мне удалось дотянуться до бачка со шницелями, я не глядя зачерпнул пятерней обжигающих кожу горячих мясных кусков, набил ими рот и почувствовал, как по подбородку потек жир…
Мне удалось сдать назад и вылезти только благодаря своей массе, потому что со всех сторон навалилась толпа, которая погнула железный никелированный барьер, отделяющий стоящих в очереди перед витриной от находящихся в зале, и едва я успел подумать, что надо было перелезать витрину поверху, как начался полный бардак.
«Ты помнишь, плыли в вышине и вдруг погасли две звезды; но лишь теперь понятно мне, что это были я и ты»…
Тетки-раздатчицы орали в голос, половина из них убежала куда-то на кухню и забаррикадировалась за дверью, тетку на кассе напором толпы выдавило из этой ее кассы, а саму кассу перевернуло, отчего кассовый аппарат с грохотом брякнулся о пол, его ящички распахнулись и из них во все стороны со звоном раскатилась мелочь. Кассирша на четвереньках ползала в ногах обезумевших от голода мужиков, пытаясь выскользнуть хотя бы куда-нибудь, а все продолжали буйствовать, пока не было сожрано все находящееся в пределах доступности.
Те, кто не сумел урвать что-то с витрины или раздаточных столов, просто кинулись отбирать тарелки у обедающих за столиками, которые, видя как обернулось дело, торопливо запихивали добросовестно оплаченную жратву в глотки, чтобы она не досталась халявщикам; в некоторых местах завязались легкие потасовки, а кто-то, доев свое, законное, присоединился к осаждающим кухню.
Все это заняло буквально каких-то две-три минуты, не больше, а потом все как-то разом угомонились и шустро разбежались по залу подобно нашкодившим гопникам, осознавшим, что на сей раз они слегка переборщили и только что избитый прохожий может и не встать.
– Ничего, ничего… – бормотал Иван Сергеевич, который, оказывается, тоже стоял в очереди, и сейчас озирался с диким видом, держа в руке оторванный левый рукав своей белой рубашки; его подбородок лоснился от жира, а губы были перепачканы томатной пастой, – ничего, ничего… сегодня зарплата, вам непременно все возместят…
Непонятно было, к кому он обращается, потому что почти все тетки попрятались на кухне, за витриной с кряхтеньем и оханьем поднималась на ноги прятавшаяся под столом раздатчица, а кассиршу, почти успевшую доползти до выхода из зала, сейчас поднимали под локотки и отряхивали двое незнакомых мне работяг. По ее лицу была размазана кровь, текшая из разбитого носа, она рыдала в голос, а ее пытались успокоить две ткачихи, халат одной из которых был облит муссом, а у второй перепачкан в густой коричневой подливе.
– Правда, товарищи? – крикнул, обретя голос, Иван Сергеевич.
– Да конечно…
– Да ясное дело…
– Да какой базар, – раздалось со всех сторон.
Голоса звучали виновато. Народ уже полностью пришел в себя и никто, кажется, не понимал, с какого хрена они все так себя повели.
– Просто жрать сильно хотелось, – как бы за всех повинился наш сварной, с которого все началось, и этим словно подвел произошедшему итог.
Наш начальник быстро прошел к выходу и встал в дверях.
– Спасибо за понимание, товарищи, – сказал он, рукой подзывая сварного к себе. – И, тем не менее, давайте договоримся, что каждый покинет столовую, только отметившись в списке, который мы сейчас составим совместными усилиями. Потом разделим деньги на всех поровну и возместим работникам столовой за… – он замялся на мгновение, – за съеденное в долг. Думаю, это будет справедливо… Возражения имеются?
– Нет…
– Нет, конечно…
– Да какие там возражения…
Голоса прозвучали без особого энтузиазма, но и без особого недовольства. В принципе, все понимали, что были неправы. И, в конце концов, наш начальник озвучил вполне приемлемое для всех решение. Ведь, по сути, столовские тетки могли и обратиться в милицию, а случись все это в столовой обычной, городской, так бы наверняка и было, после чего всех как минимум замели бы на пятнадцать суток.
– Давай попробуем первыми, – сказал Викентьич, потянув меня за рукав, а я только сейчас обнаружил, что на моей спецовке не осталось ни единой пуговицы, – и сразу рванем наверх, займем очередь за зарплатой.
– А-а-а, это… а пожрать?
– Да какой там пожрать, – сказал Викентьич. – Этим… ну, столовским, тут еще до вечера прибираться.
– Ну давай, – согласился я, и мы стали протискиваться сквозь негромко переговаривающуюся толпу.
Я заметил, что у многих порвана одежда или разбиты лица, и едва сдержал смех, до того все произошедшее сейчас казалось нелепым. И остро почувствовал, что ничуть не насытился и по-прежнему готов сожрать слона, хотя запихал в себя около трех тарелок второго и зачерпнул из кастрюли не менее десятка пригоршней винегрета.
– Кузин, – сказал я стоящему с листком в руке начальнику, и задастый сварной отступил на шаг, давая мне пройти.
– Викентьев, – сказал сзади Викентьич.
И опять нам с Викентьичем повезло занять очередь в передних рядах. Это из-за того, что касса находилась на втором этаже, фактически прямо над столовой, поэтому далеко идти не пришлось.
Квадратное помещение метров примерно десять на десять было облицовано полированными деревянными плитками до высоты груди, как кабинеты начальника ремонтно-механического или кадровика – по всей видимости, таковой была местная мода. Хотя, не только местная. Такими же были кабинеты в военкомате, в паспортном столе и прочих официальных учреждениях, где мне довелось побывать. В стене напротив входа было зарешеченное окно, к которому, прижимаясь к стенам, выстроилась по периметру комнаты очередь, человек тридцать.
«Прощай, уже вдали встает заря и день приходит в города… прощай, под белым небом января мы расстаемся навсегда», – раздавалось приглушенно из закутка кассы.
– А я думал, у вас зарплату прямо в цехах раздают, – чтобы не молчать, сказал я. – Если сюда вся фабрика припрется, хвост очереди небось на улицу вылезет.
– Всегда в цеху и выдавали, – сказал Викентьич. – Это временно, всего на один раз, у них там в бухгалтерии какая-то реорганизация. Я даже в подробности не вдавался, потому что пустое это. Следующую зарплату опять на месте выдавать будут.
– А другие почему здесь стоят?
Викентьич пожал плечами.
– На месте только в крупных цехах получают, остальные обычно здесь. Библиотека, например. Там у них человека два всего. Отдел кадров тоже. Ну, еще там разные. Малярка, к примеру, тоже маленькая, у них там с десяток человек.
Услышав про отдел кадров, я сразу вспомнил ту черненькую, в короткой юбке, и стал крутить головой, но из знакомых увидел только наших. Они были рассеяны в очереди, стояли, чередуясь с чужими, и никто не пытался скучковаться. Похоже, здесь все было строго, народ следил, чтобы никто не пристраивался по знакомству.
– А если мне не выписали? – сказал я.
– Да не дергайся ты. Одолжу тебе какой червонец, и дело с концом.
– Спасибо, – сказал я.
– Пока не за что… – сказал Викентьич. – Ага, кассирша пришла.
За решеткой появилась женщина лет тридцати пяти, в темном пиджаке. Она посмотрела сквозь стекло, оценивая количество собравшихся, затем открыла в общем большом окне небольшое квадратное окошечко.
До нас стояло человек десять. Первым был наш, слесарь из инструментальщиков, имени которого я не знал. Он склонился к окошечку, сказал фамилию, и кассирша сунула ему журнал выдачи. Слесарь, ознакомившись с суммой, стал расписываться шариковой ручкой, привязанной веревочкой к подоконнику. Полминуты, и слесарь, на ходу пряча деньги в карман спецовки, отошел, подмигнув нам с Викентьичем, а к окошечку склонилась женщина в забрызганном краской комбинезоне.
– Быстро тут, – сказал я.
Викентьич усмехнулся.
– Не накаркай.
– А что может произойти.
– Что может? К примеру, начнет кто-нибудь права качать, что ему неправильно насчитали, вот что может. Тут некоторые и по пять минут препираются, пока их не прогонят взашей.
– Так здесь же касса, здесь же просто выдают, а таким в бухгалтерию надо разбираться идти.
Викентьич опять усмехнулся, хлопнул меня по плечу.
– Молодец, соображаешь… Только вот некоторым, кому показалось, что им маловато начислили, это порой трудно бывает объяснить. Представь, человек уже все спланировал, все до копейки рассчитал, сколько жене отдаст, сколько себе в заначку оставит… уже договорился с корешами после работы за рюмочкой посидеть, а тут такой облом.
Я обернулся и в самом конце очереди увидел здоровенного сварщика и патлатого слесаря. Патлатый прислонил к стене лом, в ногах сварщика стояла кувалда с длинной, примерно метровой, ручкой. Я ткнул Викентьича локтем.
– Смотри.
Он тоже обернулся и поманил наших пальцем. Они так и подошли со своими ломом и кувалдой.
– Вы чего с инструментом? – спросил Викентьич.
– Сергеич велел столовку отремонтировать. Иначе эти… ну, столовские… обещали у руководства фабрики бучу поднять. Ну, а мы сначала за зарплатой, конечно. Столовая подождет.
– Ну а сюда-то с инструментом зачем.
– А куда его, – сказал сварщик. – Сам знаешь, у нас на фабрике только оставь где-нибудь что-нибудь на минутку. Моментом попрут.
– Так вам без очереди бы надо… – Викентьич обернулся и наткнулся на взгляд невысокой сухой тетки с лицом скандалистки.
– Даже не мечтайте, – процедила она сквозь поджатые губы. – Если пустите их сюда, сами сразу отправляйтесь на их место, в конец очереди.
Викентьич, кажется, хотел ответить в таком же тоне, но не рискнул. Видно было, что он откровенно не хочет с этой теткой связываться. Он перевел взгляд на стоящего за ней мужика лет тридцати в костюме, но тот, не говоря ни слова, отрицательно покачал головой.
– Вот такой на нашей фабрике отзывчивый народ… – пробормотал Викентьич и развел руками. – Увы, ребята. Мне бы тоже в цех побыстрей.
– Да ладно, – сказал сварной, – нам не особо-то к спеху. Деньги получим, а там как получится. Сергеич сказал, если сегодня не успеем, завтра докончить можно. Он так со столовскими договорился. Главное, до завтрашнего обеда порядок там навести, а то весь график им сорвем. У них же продукты… сроки годности там, и все такое.
– А ведь все с тебя началось. – Викентьич хохотнул и ткнул сварного кулаком в бок. – Ты как с подноса перед кассой рубать начал, так всех сразу и прорвало… Мы с Саней видели. Правда, тезка?
– А то, – сказал я.
Сварной со смущенным видом подхватил с пола кувалду.
– Да ну вас. Серега, пошли…
Пока мы базарили, очередь продвинулась и сейчас перед нами оставалось всего три человека. Я уже начал прикидывать, как действовать, если деньги на меня все-таки не выписали. Стоит отпрашиваться у Викентьича, чтобы сбегать в отдел кадров еще разок, или это бесполезно. Наверное, бесполезно, потому что и в этом случае денег мне сегодня все равно не получить. Пока то да се, пока в бухгалтерии все рассчитают…
– Сейчас, тезка, получишь первую в своей трудовой жизни зарплату, – весело сказал Викентьич, и тут что-то началось. Я не понял, что, но почувствовал, что все вокруг изменилось. Работяги все так же стояли в очереди. Из кассы все так же пел Лещенко. В общем, ничего вроде не произошло, но все стало как-то не так. Звуки вдруг стали совсем тихими, а все вокруг раздвоилось. Но это длилось не дольше секунды, а потом все стало как обычно. Потом…
Потом тетка сзади, та самая, что отказала Викентьичу в просьбе приютить наших в очереди, вдруг визгливо закричала:
– Да можно там, в конце концов, побыстрее или нет! Мне деньги нужны!
– А другим как будто не нужны! – заорал мужик в костюме, за ней, который тоже проигнорировал просьбу Викентьича.
И в следующий миг заорала вся толпа разом, и так же разом рванула к окну, разрушив очередь, толкаясь и отпихивая друг друга, чтобы пролезть вперед.
– Деньги давай! – орала ткачиха, пытаясь за волосы оттащить в сторону мешающего ей мужика в малярной робе.
– Деньги! – рычал сварной, прорвавшись к нам с Викентьичем за счет своей нехилой, за центнер, массы.
– Деньги!
– Деньги!
– Деньги! – кричали все вразнобой.
– Деньги! – кричал Викентьич.
– Деньги! – кричал я, с радостью обнаружив, что мой возросший вес позволяет мне расталкивать народ не хуже, чем здоровяку сварному. – Я их честно заработал, можете спросить у кадровика!
– Тихо, я сказала! – заорала за стеклом кассирша. – Быстро заткнулись все, кому говорят!
Все неожиданно послушались. На несколько секунд воцарилась такая тишина, что опять стало слышно, как из кассы поет Лещенко: «Прощай и ничего не обещай, и ничего не говори… а чтоб понять мою печаль, в пустое небо па-а-асма-а-атри-и-и»…
– Денег, говорите, захотелось? – прокричала кассирша.
Она поднялась и только сейчас я смог получше ее разглядеть. Довольно миловидная, только слегка рыхловатая, с лишним весом. И у нее оказались золотые зубы, кажется, два или три, из верхних, левее центральных резцов.
Тетка отодвинула от окна узкий столик, на котором вела учетные записи, переставила на его место табуретку, на которой только что сидела, тут же запросто, как профессиональная гимнастка, одним прыжком вскочила на нее без помощи рук, и я увидел, что на ней темный, с юбкой, костюм.
– Вот вам деньги! – выкрикнула тетка, поворачиваясь к нам задом и задирая юбку.
А чтобы мы могли лучше все разглядеть, нагнулась, выпятив здоровенную, всю в мелких и крупных бугорках и ямочках, задницу. На ней были большие трусы с желтоватым, как у той ткачихи, застиранным пятном, ровно по центру, ближе к промежности.
– Во! Видали! – Она смачно шлепнула себя ладонью и задница заколыхалась мелкой рябью быстро прокатившихся по ней волн. – Получите и распишитесь!
«Ты помнишь, плыли в вышине и вдруг погасли две звезды; но лишь теперь понятно мне, что это были я и ты»…
– Это что за хуйня такая! – заорал наш сварной, расталкивая разинувших рты работяг. – Да подвиньтесь вы, кому сказано!
Он размахнулся и так долбанул кувалдой в окно, что осколки стекла брызнули во все стороны, а в следующий миг железная колотушка саданула прямо по одной из центральных арматурин решетки и та затрещала, подалась назад, а сверху посыпалась штукатурка. В меня угодило несколько стеклянных брызг, кажется, рассекло кожу на лбу и левую щеку, но мне было не до таких мелочей. Тетку словно взрывной волной скинуло с табуретки – наверное, не устояла от неожиданности. Она неуклюже брякнулась на пол и так и осталась лежать с задранной юбкой, глядя на нас бессмысленными глазами.
– Серега, чего рот раззявил! Держи, чтобы не амортизировало.
К решетке подскочил слесарь, растолкал двух-трех бездельников, просунул лом между прутьями, уперся им в стену, подвигал туда-сюда.
– Готов!
Сварной размахнулся и с такой силой шибанул по решетке, что та с треском вырвалась из бетонного обрамления и провалилась внутрь, зависнув на единственной устоявшей, выгнувшейся арматурине. Наверное, в отличие от остальных, она была приварена к чему-то металлическому в стене.
– Деньги давай!
В образовавшийся проем ломанулись, конечно, все разом и, конечно, только помешали друг другу. Возникла куча-мала и около полуминуты народ молча мутузил друг друга, нанося удары, царапаясь, лягаясь и вырывая подставившимся волосы. Дрались молча, слышалось только пыхтенье и звуки затрещин. Я свалил кого-то ударом правой, но больше размахнуться мне не дали; более того, у меня выдрали здоровенный клок волос, дали сзади чем-то острым по голове, а потом чьи-то растопыренные пальцы с длинными, крашеными перламутром ногтями смазали по правой щеке и я почувствовал, как по ней потекло что-то липкое.
Я, насколько позволяла скученность тел, развернулся, чтобы посмотреть, кто это сделал, и увидел прямо перед собой ту красотку из отдела кадров, яростно отбивающуюся от мужика в светлой рубашке.
«Лай-ла, ла-ла-ла ла-ла-ла ла-ла-а-а, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-а-а-а», – подключились к Лещенко девицы из подпевки.
– Девушка, давайте познакомимся! – закричал я. – Помните меня? Я приходил на этой неделе в отдел кадров!
Расправившись с мужиком, располосовав ему всю физиономию, девица повернулась ко мне, улыбнулась, но только я успел обрадоваться, что она меня узнала, как уловил летящие в глаза перламутровые пальцы и едва успел зажмуриться.
– Твою мать… – прорычал я, отмахиваясь наугад, потому что кровь из разодранных век мгновенно залила мне глаза. Мой кулак попал во что-то, по ощущениям это был чей-то нос, потом мне удалось раскрыть один глаз и я обнаружил свою красотку лежащей на полу с окровавленным лицом. Ее уже вовсю топтали дерущиеся, а ноги девицы были босыми – видимо, потеряла в драке свои остроконечные «лодочки».
Я получил удар по корпусу, затем кто-то сильно меня толкнул и я, взмахнув руками в попытке схватиться за воздух, не сумел сохранить равновесие и грузно осел на пол. Видеть удавалось с переменным успехом – то одним, то другим глазом, иногда двумя сразу.
– Вот они, денежки! – закричал за окном сварной.
В кассу пробрались три человека – сварщик, слесарь, которого, оказывается, звали Серегой, и мужик в синей малярной робе. Мужик, загнав визжащую кассиршу в угол, вовсю мял ее бугристую задницу, а наши кувалдой и ломом раскурочивали большой, в рост взрослого человека, сейф.
Взломав главную дверцу, они вцепились в стальную махину, напряглись, и увесистая коробка грохнулась на бок так, что под ногами ощутимо дрогнул пол. Дверца распахнулась и изнутри посыпались пачки денежных купюр разного достоинства, перевязанные специальными банковскими ленточками или просто аккуратно уложенные кирпичиками.
– Эй, народ, лови зарплату! – крикнул Серега.
Он нагнулся, подобрал несколько пачек и швырнул их в окно. К нему присоединился сварной, и вскоре пачки полетели в нас одна за одной. Некоторые долетали в целости, какие-то разъединялись на лету, и вскоре все пространство перед кассой было усеяно разноцветными денежными знаками самого разного достоинства.
Народ прекратил драться и стал лихорадочно хватать разлетевшееся по полу добро. Мне повезло, что я так и остался сидеть, не пытаясь подняться. Пользуясь своим преимуществом, я нашарил несколько пачек, не глядя рассовал их по карманам, а потом кровь перестала течь по векам, зрение вернулось, и я принялся собирать отдельные бумажки, отбивая тянущиеся со всех сторон руки.
Когда я нацелился на смятую сотенную, кто-то сильно укусил меня за предплечье. Я машинально отдернул руку и увидел среди частокола топчущихся ног свою черноволосую из отдела кадров. Девица стояла на четвереньках и смотрела на меня в упор налившимися кровью глазами. Вокруг правого у нее распухло, как бывает после сильного удара, губы были разбиты, а под носом запеклась кровь. Она спрятала отвоеванную сотенную за лифчик, предостерегающе фыркнула в мою сторону как рассерженная кошка, тут же потеряла ко мне интерес, легла на живот и, извиваясь как змея, поползла дальше по полу в поисках дензнаков. Я сопровождал ее взглядом. В какой-то момент мне удалось заглянуть между ее загорелых ног и увидеть узкие белые трусы, что возбудило меня до такой степени, что я забыл о деньгах и проворно потрусил за ней на четвереньках, но не успел пробежать пары метров, как стукнулся головой во что-то твердое.
– Твою мать! – раздался знакомый голос и чьи-то крепкие руки подхватили мня за подмышки, рванули вверх. – Чуть ногу мне не сломал, тезка…
Мы с прихрамывающим Викентьичем прошли по коридору, спустились по лестнице и оказались на свежем воздухе, где я чуток пришел в себя.
– Чего башкой вертишь? – спросил Викентьич.
– Да я это… тут одна из отдела кадров была…
– Черненькая такая?
Я кивнул.
– Угу.
– Это Тамара, – уверенно сказал Викентьич. – Она на «Текстиле» самая красивая, на нее тут полфабрики дрочит.
– А… это… с ней никак нельзя… ну, это…
– Забудь, – сказал Викентьич. – Знаешь, сколько уже к ней подкатиться пробовало. Пока еще никому не удалось.
– Ничего, я буду первым, – сказал я. Потом подумал и добавил: – И последним.
– Она, кстати, старше тебя. Ей двадцать, кажется. Или двадцать один.
– Ну и что, – сказал я.
Викентьич хмыкнул.
– Ну-ну, – помолчав, скептически сказал он. – Давай, дерзай.
– С ней еще блондиночка работает, – зачем-то сказал я. – Конечно, не такая, как моя, но тоже вполне.
– Знаю, – сказал Викентьич. – Вот с ней бы я точно познакомиться не отказался. Она мне как-то попроще кажется, и тоже красивая. А о Тамаре и мечтать нечего.
– Ничего. Я, когда с Тамаркой закручу, про тебя не забуду. Я с ней буду, а ты с блондинкой.
Викентьич опять скептически хмыкнул и опять сказал:
– Ну-ну… – Он, кажется, хотел что-то добавить, но в итоге просто хлопнул меня по плечу. – Ладно, пошли в цех, герой-любовник.
– Пошли…
Мы миновали второй ткацкий и тут я очнулся. То есть, так мне показалось. На самом деле я, кажется, просто на секунду потерял над собой контроль. Ну, так бывает иногда из-за жары или чего-то еще. Кажется, я даже покачнулся, потеряв равновесие, а может, мне это показалось.
Я бросил быстрый взгляд на Викентьича, а тот озадаченно посмотрел на меня. Мы оба притормозили.
– Деньги получил? – неуверенно спросил он.
– Вроде, – так же неуверенно сказал я. – А ты?
Викентьич полез в боковой карман робы и достал кучку скомканных бумажек.
– Ого! – разгладив их и пересчитав, сказал он. И сунул все обратно в карман.
– Чего? – спросил я.
– Да неплохо выписали, – сказал Викентьич, – я даже не рассчитывал на столько. Может, какую премию дополнительную насчитали.
– Может, – сказал я.
– Ну, а ты чего молчишь. Сколько получил-то?
Мы постепенно выровняли шаг. Я сунул левую руку в карман и нащупал там две или три тугие пачки. Мне почему-то показалось, что это деньги, и я поспешно вытащил руку. Затем полез в правый карман и нащупал там еще пару пачек и много скомканных бумажек. Подумав секунду, я осторожно достал часть этих бумажек.
– Ни хрена себе! – сказал Викентьич, а я, ничего не понимая, смотрел на пять мятых червонцев и пять пятирублевок. – Это ты семьдесят пять рублей всего за неделю намолотил. Зарплаты нам всем, что ли, повысили…
– Наверное, – сказал я и быстро спрятал деньги обратно.
– Говорил я тебе, что Аркадьич нормальный мужик.
– Нормальный, – согласился я и почесал вдруг засвербевший левый бок.
– У тебя там с глазами что-то, – сказал Викентьич.
– С глазами?
– С веками. Расцарапаны, что ли.
Я прикрыл глаза, осторожно потрогал веки.
– Да нормально вроде…
– Вон, опять… – зло сказал Викентьич, когда мы вышли на финишную прямую. – Ну конечно, ни дня без приключений… а как же еще… у нас ведь это давно вошло в норму…
Я увидел, что перед нашим цехом стоит автопогрузчик, а вокруг суетится народ, наши и складские. Мы подошли и Викентьич поманил пальцем Волкова. Покрасневший от злости, он размахивал руками, доказывая что-то тому мужику с бородой, начальнику складских. Бородатый держал в руке какую-то фигню, типа древка от флага, с насаженным на конец заточенным лезвием, кажется, из полотна механической пилы.
– Чего тут у вас, – спросил Викентьич.
– А сам как думаешь? – сказал кузнец. И, сплюнув под ноги, махнул рукой в сторону погрузчика. – Короче, стоим с мужиками возле цеха, перекуриваем…
– Вообще-то курить положено в курилке, – машинально сказал Викентьич, – а то дождетесь, что пожарник опять до нашего цеха докопается. – Он перехватил взгляд Вакулы и поднял ладони. – Ладно, ладно, молчу… Что дальше?
– Ну а что дальше… – ворчливо передразнил тот и вдруг замялся.
– Так что?
Волков неуверенно посмотрел на Викентьича, пожал плечами.
– Потом… ну, короче…
– Да что ты мямлишь! – рявкнул Викентьич. – Что потом-то?
– Да ничего потом. Погрузчик ворота протаранил, вот что.
– А откуда и в каком направлении он ехал?
– Да не знаю я! Я в этот момент отвлекся слегка, короче… – пробурчал Волков и мне показалось, что он не решился что-то сказать.
Викентьич посмотрел на него недоверчиво.
– Ладно, давай спросим у этих; может, у них с памятью дела получше, – сказал он и я двинулся за ним к бородатому. – Слушай, Саныч… Может, объяснишь, что за фигня с вашим водилой постоянно происходит. Он у вас что, всю дорогу пьяный, или не высыпается?
– Сам бы хотел знать, – буркнул бородатый и посмотрел на меня, явно припоминая, где меня видел. – Вон он, можешь сам у него спросить.
Викентьич посмотрел в указанном направлении. Я тоже посмотрел на прислонившегося к погрузчику здоровенного мужика с красным потным лицом, которого окружали возбужденные наши, потом опять перевел взгляд на бородатого.
– Ну а ваши как здесь оказались? – спросил Викентьич.
Бородатый отвел взгляд, потом после затянувшейся паузы сказал:
– Ну так остановить его бросились, зачем еще…
Мне подумалось, что он придумал это прямо сейчас, на ходу.
– Остановили?
Бородатый помолчал.
– Ну так видишь же, ворота на месте.
– Ну да, ну да… А это что у тебя?
Бородатый посмотрел на свою секиру.
– Да схватил просто, что под руку попалось… – опять после паузы сказал он. – Ну, так, не думая, на автомате.
И опять у меня создалось впечатление, что он придумал это на ходу, лишь бы что-то сказать.
– Ладно, – сказал Викентьич. – Давайте-ка расходиться, пока начальство не примчалось. Нечего внимание привлекать. Обошлось, и ладно.
Бородатый вздохнул с явным облегчением, махнул своим и крикнул:
– Эй, давайте быстро на рампу! Там фура под погрузку целый час уже стоит, а мы тут лясы точим…
Толпа складских побрела, переговариваясь, восвояси. Периодически кто-нибудь оборачивался, бросал в нашу сторону недобрый взгляд. Водила запрыгнул в свой агрегат, раздался громкий скрежет стартера, потом зарычал двигатель.
– Расходимся, – сказал Викентьич нашим, которые за исчезновением врага скучковались вокруг нас. – Нам тоже поработать не помешает. Зарплату все получили?
Мужики как-то подозрительно притихли.
– Все, – после паузы сказал токарь с горбатым носом, которого я мельком видел в очереди далеко за нами с Викентьичем. Было удивительным, как он успел получить деньги и вернуться в цех раньше нас. Да и другие тоже. Ведь мы стояли впереди всех.
– Что-то не так? – спросил Викентьич.
Мужики переглянулись.
– Да нормально все, – сказал Волков. – Что может быть не так?
И опять мне показалось, что он что-то недоговаривает. Да и мужики опять переглянулись странно. Все словно что-то скрывали. Еще я заметил в глазах большинства легкую растерянность.
– Ладно, – сказал Викентьич, посмотрев на часы, – честно говоря, тут и осталось-то всего ничего. Давайте-ка сворачиваться – и по домам… И это, слышьте… – Начавшие разбредаться мужики притормозили, развернулись к нам. – Давайте постараемся сегодня без фанатизма. А то у некоторых это дело на все выходные затянется, а в понедельник Сергеич наших выхлопов нанюхается и опять внеочередное собрание устроит.
– Ладно, не лечи, начальник! – весело выкрикнул кто-то и все разбрелись.
– Черт, пуговицы оторвались, – посмотрев вниз, озабоченно сказал Викентьич.
– У меня тоже, – тоже посмотрев, сказал я.
– Что-то я сварного не видел. Ну, этого, здорового, Гришку.
– Так они ж с Серегой наверное столовку ремонтировать остались.
– А, ну да, точно, – сказал Викентьич. – А мы-то чего стоим? Опять самыми последними уйдем… Пошли переодеваться.
– Пошли, – согласился я.
В гардеробе я вспомнил про слова Викентьича и первым делом подошел к зеркалу.
– Ты чего там вертишься? – спросил Викентьич.
– Ты про веки что-то говорил.
Викентьич прекратил переодеваться, подошел ко мне в одних трусах.
– А ну, зажмурься… Да нет там у тебя ни хрена, – наконец сказал он, возвращаясь к своему шкафчику. – Показалось просто…
Всю дорогу домой я опасался, что меня кто-нибудь выследит и отберет деньги. Их оказалось много, очень много; это я обнаружил в раздевалке, где мы с Викентьичем опять переодевались последними. Я специально медлил, дожидаясь, когда он первым направится в душ, и только тогда рискнул вытащить из карманов спецовки те плотные пачки. Одна пачка была рублевой, а это означало, что в ней ровно сотня рублей. Во второй оказались трехрублевки – плюс еще три сотни. Третья состояла из пятерок, а четвертая опять из трешек. Итого тысяча двести рублей, не считая отдельных купюр, составивших еще сотни две – три. Я не стал их считать, поспешив за Викентьичем в душевую, чтобы не вызвать у него подозрений. Что все это означало, я не знал, только очень нервничал, боясь, что эти деньги оказались у меня незаконно. Было странным получить такую сумму всего за неделю работы, да еще не помнить, как ее получал. А с другой стороны, я же не крал эти деньги и вообще не делал ничего предосудительного, иначе я бы это запомнил.
С мыслью, что это мое, честно заработанное, я свыкся очень быстро, фактически моментально, и в душе думал только о том, что скоро накуплю кучу зельца и что теперь мне не надо будет его экономить и вообще волноваться по поводу жратвы. Можно было поискать и что-нибудь подороже, даже купить с переплатой настоящие деликатесы из-под прилавка, но меня в принципе вполне устраивал зельц. Даже непонятно было, почему считалось, что это закуска для алкашей и жрачка для собак, если холодец был вкусным и сытным. К тому же его не надо было готовить и даже греть – достаточно просто резать на куски.
Я помылся очень быстро и из душа выскочил раньше Викентьича. Не то чтобы я всерьез опасался, что он сопрет у меня зарплату, но так, на всякий случай…
Магазин опять был полупустым. Народ более-менее активно толкался только в рыбном отделе, куда, кажется, завезли ставриду или что-то в этом роде, еще было небольшое оживление в хлебном, где вроде давали творожные торты, в конфетном почти никого не было, а в мясном продавщица как всегда сидела за прилавком, на табуретке, прислонившись спиной к белому стеллажу, и листала журнал «Огонек». Мясо обычно разбирали к обеду и холодильная витрина была почти пустой. На одном из подносов лежала кучка костей с ошметками мяса, на другом мой зельц, остальные были чистыми.
«Прощай, от всех вокзалов поезда уходят в дальние края… прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января»… – разносился по залу приятный баритон Лещенко.
Продавщица меня узнала. Она встала и, не сводя с меня глаз, сделала пару шагов вперед, положила журнал на прилавок.
– Зельц?
Я кивнул.
– Много его осталось?
– Сегодня вам повезло, – сказала продавщица. – Тот, что на прилавке, и четыре упаковки в подсобке.
– Давайте все, что есть, – сказал я, роясь в карманах, что было непросто. Штаны были в обтяжку и едва не лопались, потому что ноги стали мощными, под стать раздавшемуся от мышц торсу. В джинсы я утром попросту не влез, поэтому пришлось быстро перерыть шкаф в большой комнате в поисках чего-то более-менее подходящего. В итоге нашлись отличные импортные штаны из ткани, похожей на плащевую. Наверное, мать купила через знакомых, но промахнулась с размером. Отцу они, похоже, оказались узки и длинны, мне, до сегодняшнего дня, велики в поясе. – Вот… – Я выложил в пластмассовое блюдце на прилавке сотенную бумажку.
Тетка посмотрела на сотенную, затем опять уставилась на меня, и мне показалось, что она колеблется – не позвонить ли в милицию или еще куда-нибудь. И хотя я не сделал ничего такого и не чувствовал за собой вины, мне стало не по себе.
– Что? – спросил я у безмолвно пялящейся на меня продавщицы и сглотнул.
– Для песика, говорите?
– Ну да.
– А не многовато?
– Да нет, он это… ну, любит.
– Ладно, сейчас…
Она скрылась в подсобке, сделав перед этим знак кому-то за моей спиной. Я словно невзначай обернулся и обнаружил, что из овощного отдела напротив на меня вовсю таращится еще одна тетка, близнец моей. Такая же дородная, с химической завивкой и золотозубая, это я заметил, потому что пялилась она на меня, раскрыв рот.
Моя же вышла из подсобки, перекосившись от тяжести знакомой картонной коробки, перетянутой в двух местах узкой пластиковой лентой. За ней вышел, ковыляя, хмурый небритый мужичонка лет сорока, с физиономией спившегося ханыги. Он тащил две таких упаковки и пыхтел.
– Все, что ли… – прохрипел он, с увесистым стуком брякнув коробки перед прилавком.
– Тащи последнюю, – сказала, тяжело дыша, продавщица.
Мужик скуксил и без того морщинистое лицо, стал было что-то хныкать, но тетка рявкнула на него так, что на нас обернулись сразу несколько бродящих по залу покупателей, и мужичонка исчез.
– А можно это… ну, перевязать их какой-нибудь веревкой, чтобы я мог все это утащить за раз, – спросил я.
– Веревкой? – переспросила тетка и сделала знак кому-то еще, опять за моей спиной, только где-то левее.
Я опять словно невзначай обернулся и увидел, что на меня пялятся две тетки из молочного отдела.
– Я вам это… ну, возмещу. Вот вам, короче, за хлопоты.
Опять порывшись в карманах, я выудил несколько купюр и, отделив два мятых рубля, положил их на прилавок, в пластмассовое блюдце.
– Хорошо, поищу что-нибудь, – сказала тетка, спрятав рубли в карман.
Тем временем из подсобки появился алкоголик. Он пыхтел от натуги, лицо было красным, а на лбу вздувались вены.
– Вот… – он брякнул последнюю коробку и протер лоб рукавом синего застиранного халата. – Все, что ли?
– Тащи какую-нибудь веревку, – сказала ему тетка, не глядя. Она взвешивала то, что лежало в витрине. – Надо связать коробки попарно, чтобы молодому человеку было удобно их нести.
– Да с какого черта я еще буду ему… – начал было доходяга, но продавщица повернула голову и он моментально заткнулся. Недовольно бурча себе под нос, мужичонка удалился обратно в подсобку. Кажется, продавщица держала парня в строгости…
– Все, – сказала, разогнувшись, продавщица. С десяток секунд она тяжело дышала и смотрела на меня, затем перевела взгляд на кого-то сзади.
Я обернулся и обнаружил, что за моей спиной столпилось человек пять. Двое сразу отвели глаза, шагнули к мясной витрине и стали с преувеличенным вниманием разглядывать кости; остальные, не стесняясь, открыто глазели на происходящее.
– Только я вам их не подниму, – сказала продавщица.
– Я тоже, – быстро предупредил стоящий рядом алкоголик.
– Да я сам могу, – сказал я, кое-как засовывая сдачу в карман. – Можно, я к вам зайду?
Продавщица молча кивнула.
Я обогнул прилавок, зашел сбоку вовнутрь и протопал к своим коробкам. Продавщица связала их на совесть, очень удобно. Теперь между каждой из двух пар коробок, по центру, появилась как бы свитая из веревок ручка, соединяющая их, толстая и надежная. К одной связке еще был прикреплен отдельный пакет с тем, что было в витрине.
Когда я приблизился к своему сокровищу, мужичонка опасливо попятился, а я с трудом справился с желанием сорвать этот пакет с довеском и сожрать зельц прямо здесь. Там и было-то всего килограмма три, не больше.
– Спасибо, – сглотнув, сказал я.
«Прощай и ничего не обещай, и ничего не говори; а чтоб понять мою печаль, в пустое небо па-а-асма-а-атри-и-и»…
Затем нагнулся, без малейших усилий подхватил коробки и направился обратно. Выйдя в зал, я обнаружил, что полмагазина пялится на меня, но это ни в малейшей степени меня не смутило. Я вообще заметил, что за неделю работы на фабрике стал каким-то спокойным, уравновешенным и уверенным в себе. Наверное, правильно я где-то вычитал, что когда человек начинает самостоятельно зарабатывать, у него значительно повышается самооценка.
Я прошел пару десятков метров и оглянулся. На крыльцо магазина высыпала целая толпа. Стояла продавщица мясного со своим мужичком-подсобником, другие тетки из разных отделов и с десяток покупателей. Все они молча пялились мне вслед…
Я проснулся от звонка и побрел к телефону на ощупь, с закрытыми глазами. Выспался я опять плохо, потому что вскакивал каждые два часа и шел на кухню, где сжирал пару килограммов зельца и выпивал с пяток стаканов кипятка, а потом отправлялся в туалет.
– Санчес! – заорал Виталь так, что я отодвинул трубку от уха и открыл глаза. Из зеркала на меня смотрело симпатичное лицо уверенного в себе молодого человека лет двадцати пяти, которое мне понравилось. Еще подумалось, что неплохо бы к настоящим двадцати пяти выглядеть так, тогда все девки были бы мои. – Короче, через полчаса ты на остановке и мы едем на озеро.
– Но…
– Возражения не принимаются! – крикнул Виталь. – Наши хотят тебя видеть. Ты уже сто лет на люди не показывался. Деньги есть?
– Да я это…
– Возьми все, что есть, – сказал Виталь. – Надеюсь, ты там на своей фабрике хоть что-то заработал… Все, отбой.
Не успел я возразить что-нибудь еще, как послышались короткие гудки. Я еще около минуты стоял, поигрывая мышцами и любуясь своим отражением, затем поплелся в ванную. Там отражение было обычным, мне опять было восемнадцать. Только вот мышцы остались, и ими я опять с минуту любовался, пока не спохватился и не стал чистить зубы.
Обнаружив, что вчерашние штаны стали мне малы, я вздохнул и потащился в большую комнату, в очередной раз перерывать общий платяной шкаф.
Единственное, во что я смог влезть, оказался старый костюм отца. Отец был плотным, с начавшим расти животом, но пониже меня ростом, поэтому брюки были коротковаты, зато оказались впору в поясе, а пиджак вообще был словно сшит на меня, если не считать тоже коротковатых рукавов. На всякий случай я рассовал по карманам часть своей зарплаты. С деньгами мне попросту не хотелось расставаться, они напоминали, что я стал самостоятельным человеком, настоящим мужиком. К тому же следовало учитывать, что я в любой момент мог наткнуться в каком-нибудь магазине на зельц и деньги были нужны, чтобы иметь возможность пополнить запасы.
Стоило мне подумать о зельце, ноги сами собой понесли меня на кухню, перехватить перед дорогой пару вкусных шматков. И тут опять зазвонил телефон.
– Сашенька, здравствуй, как ты без нас?
– Нормально, мам, – сказал я. – Здравствуй.
– Ты там не голодаешь?
– Да что ты, – сказал я и почувствовал, что после вопроса матери желание пожрать возросло вдесятеро.
– То есть, тех денег, которые мы тебе оставили, хватает?
– Я еще и на работу устроился, – похвастался я. – Мне этот, как его… Семен Валентинович помог.
– Вот и отлично, – сказала мать. – Хорошо, что ты ему позвонил… Вернемся, все нам расскажешь.
– А когда вы…
– Где-то через неделю. Очень по тебе соскучились. Ну все, целую. Не могу больше говорить… Папа передает тебе привет.
– Я тоже… привет и это… ну, целую вас, в общем…
Свою компашку я увидел возле трамвайной остановки еще издалека, едва вышел из-за угла своего дома. И сразу понял, что они успели хватануть пивка или чего покрепче.
Виталь был в своей коронной майке, обнажающей подкачанные бицепсы, остальные тоже были в майках, и я на миг почувствовал к ним зависть, оттого что мне приходится париться в костюме. Но моя любимая майка с красивой иностранной надписью на груди на меня не налезла, просто элементарно лопнула по швам при всей своей эластичности, которую обеспечивало вкрапление какого-то процента синтетики.
Серега Мороз изображал боксера, наседая на обороняющегося Коляна, Виталь с Вованом цеплялись к проходящим мимо девчонкам, Саня травил какие-то байки, размахивая руками, и все беспрерывно ржали, словно им только что рассказали бородатый анекдот.
В какой-то момент Саня посмотрел в мою сторону, сказал что-то пацанам и все притихли. Потом Виталь звонко засмеялся и к нему присоединились остальные. Я оглянулся, посмотрел назад, но за спиной никого не оказалось.
– Эй, дядя, ты, случайно, не из магазина модной одежды? – крикнул Вован.
Я опять оглянулся и опять никого не увидел. Только вдалеке брела какая-то старушка.
Последний десяток метров я прошагал под дружное ржание пацанов. Потом смех утих, настала тишина, и я вдруг понял, что только что звучавшие шуточки адресовались именно мне.
– Это же Санчес, – неуверенно, скорее спрашивая, сказал Мороз.
Пацаны переглянулись.
– С тобой все в порядке? – спросил Виталь. Перед тем как протянуть руку, он на мгновение заколебался.
– Да нормально… – Я пожал его кисть, перевел взгляд на таращащихся на меня пацанов. – А че.
– Ты это… – сказал Колян, – ну, вырядился как-то так…
– Как?
Я опустил глаза и чертыхнулся, увидев, что забыл надеть носки. Штаны темного костюма не доходили до кроссовок примерно на десяток сантиметров, и в глаза бросалась не загорелая кожа. А еще я не надел под пиджак рубашку или что-то подобное, так и остался в костюме на голое тело после примерки.
– Слушай, с чего тебя так разнесло? – спросил Вован.
– Разнесло?
– Ну, килограммов на девяносто ты точно потянешь. Ты чего, накачался, что ли?
– Ага, за неделю, – растерянно сказал Виталь. – Мы же его неделю назад видели. Вроде нормальным был.
– А че, – сказал Колян, – с анаболиками, говорят, можно.
– Но не за неделю же, – сказал Серега.
Все ждали ответа, но я молчал. Просто не знал, что сказать.
– А сколько ты вообще весил? – спросил Колян.
– Килограммов семьдесят с чем-то, – подумав, сказал я. – Семьдесят два или три.
– Ни хрена себе, – сказал Серега. – За неделю кило двадцать нагнал, верняк.
Мороз, не удержавшись, присвистнул.
– Ладно, – подытожил Виталь, – айда на автобус… Деньги-то хоть нашел? Мы пива по дороге прикупили, но что там пиво. Да и всего-то по четыре бутылки на рыло вышло. По две уже оприходовали, так что на озере будем бамбук курить.
– Нашел, – сказал я.
Пацаны оживились.
– Много? – спросил Саня.
– Да хватит.
– Тогда давайте через магазин, – сказал повеселевший Виталь. – Серый, хватай сумку.
– А че опять Серый-то? – проворчал Мороз, но нагнулся и подхватил большую спортивную сумку, в которой глухо звякнуло стеклянное. Судя по всему, там было около десятка бутылок.
Мы миновали автобусную остановку, перешли дорогу и свернули к магазину. Пацаны пропустили меня вперед и пристроились сзади. Я не оборачивался, но был уверен, что они вовсю меня разглядывают и делают друг другу различные знаки. Шли молча…
– Чего и сколько берем? – спросил, повернувшись ко мне, Виталь.
Мы стояли в винно-водочном, перед прилавком, смотрели на полки с бутылками, а на нас смотрела худая хмурая продавщица, лет сорока, невысокая и некрасивая, в синем халате. И посмотреть, наверное, было на что. В противовес нынешней моде на длинные, как у хиппи, патлы, мы придумали ходить с короткими, как у спортсменов и уголовников, волосами, что-то типа боксерских ежиков. Да и вели себя наши соответственно – с граничащей с наглостью уверенностью.
Магазин почему-то был почти пустой, наверное, из-за жары. А еще в нем не было пива и чего-то популярного, из дешевого пойла, тогда очередь стояла бы по любому.
– Да что хотите, – сказал я.
– В смысле? – сказал Мороз. – Тебя спрашивают, сколько у тебя бабок. Видишь, тут даже водки нет, только коньяк. А из вина одно только марочное.
– Может, сгоняем на Третью Заводскую, – предложил Саня. – Вдруг там крепленое есть. Ну или водка хотя бы.
– Да ни хрена там не будет, – сказал Виталь. – Нечего туда-сюда мотаться, уже купаться хочется. – И спросил у меня: – Ну так че?
– Да говорю, берите, чего хотите.
– Хоть коньяк? – недоверчиво спросил Мороз.
Я пожал плечами. Пацаны переглянулись.
– Семь бутылок пунша, – сказал Виталь продавщице.
– Да ну его, этот сироп, – сказал Саня.
– А что ты предлагаешь, – сказал Виталь. – Марочным, что ли, давиться?
– Да хоть бы и коньяк, – сказал Саня.
– Хорошо. Пять и два коньячеллы, – сказал Виталь, но продавщица не шелохнулась. – Чего? – сказал он и нахмурился.
– Вам по восемнадцать-то есть?
– Да ты че… – вскинулся Виталь, – тебе, может, еще за паспортом, типа, сгонять, или…
– Я сейчас милицию вызову, – сказала продавщица.
Я отстранил Виталя рукой, встал напротив нее.
– Я что, похож на малолетку?
Продавщица смерила меня изучающим взглядом, поджала губы.
– А по тебе вообще дурдом плачет.
Пацаны заржали, а я спросил:
– Короче, план вам не нужен? Пацаны, можно и в магазине возле озера затариться. Там наверняка тот же набор и тоже нет очереди.
Продавщица прошипела что-то неразборчивое и повернулась к прилавку.
– Еще раз, – сказала она недовольно, не поворачиваясь к нам, спиной излучая неприязнь, – четко и ясно, сколько и чего.
Пока Мороз набивал бутылками сумку, я достал из бокового кармана пачку пятирублевок. Продавщица бросила на меня пронизывающий взгляд, в котором появилась уже примесь испуга – наверное, прикидывала, не ограбил ли я сберкассу.
Пацаны затихли, стали смотреть, как я вскрываю упаковку, отсчитываю купюры.
– Откуда? – спросил Виталь на улице.
– Я ж говорил, что на «Текстиль» устроился.
– Это что, на «Текстиле» столько платят? – спросил Колян.
– Ну а че, – сказал я.
– А сколько ты там отпахал?
– Неделю.
– Во, дела, – недоверчиво сказал Колян, а пацаны уже в какой раз переглянулись.
До остановки мы опять шли молча. И опять меня пропустили вперед. На меня оглядывались прохожие, но я не придавал таким мелочам значения. Выходило, я действительно здорово на этом «Текстиле» возмужал.
– Ты чего в пиджаке паришься? – спросил Виталь.
– Да так, – сказал я.
Несмотря на появившуюся из-за нового статуса рабочего человека уверенность в себе, мне не хотелось, чтобы пацаны разглядывали меня как ожившего мамонта. Они и без того всю дорогу косились на мои мускулистые ноги, а если бы еще и увидели торс, грудные мышцы которого Викентьич счел похожими на совковые лопаты…
– Раздевайся, давай, – потребовал Виталь, – вон, люди пялятся. Ты нас всех тут позоришь.
– Да я это… ну, плавки забыл. Видишь, в «семейках» сижу.
– А-а, – сказал Виталь. – Но все равно. Мы уже по второму разу искупались, а ты… Неужели не хочется?
– Да не знаю, – сказал я.
Виталь в очередной раз посмотрел на меня подозрительно, но промолчал. Мне вообще показалось, что Виталь, самый крутой из всей нашей компании, словно слегка побаивается меня.
– Ништяк! – с восторгом сказал вернувшийся из воды Мороз. – Пацаны, наливайте!
– Ты давай завязывай брызгаться, – проворчал Колян, и Серега, естественно, тут же встряхнул в его сторону мокрой кистью.
– Твою мать! – громко сказал Колян.
Он вскочил, намереваясь броситься на Серегу, и я поморщился. Все это их поведение казалось мне детским. Виталь заметил, как я поморщился, и поморщился тоже.
– Эй, угомонитесь, – сказал он и исподтишка взглянул на меня, словно ожидая моего одобрения. – Видите, на нас люди смотрят.
– И что? – беззаботно спросил Саня.
– А то. Сейчас кто-нибудь сбегает, вызовет ментовку, а мы еще и половины выпить не успели.
Пляж возле озера состоял из чередующихся участков травы и песчаных проплешин. Народ пристроился в зависимости от своих предпочтений, кто на траве, кто на песке. Мы расположились и там и там, поровну. На всех было одно драное покрывало, захваченное Серегой Морозом, но на нем никто не сидел. Там разместили общую жратву и выпивку, а валялись или сидели тоже кто где. Я, например, выбрал для задницы траву на небольшом возвышении, а босые ноги протянул на горячий песок. Народу на небольшом пляже оказалось много, даже для субботы, где-то человек двести. Видно, всех пригнала сюда жара.
«Прощай, от всех вокзалов поезда уходят в дальние края; прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января»… – пел Лещенко из переносного радиоприемника где-то за моей спиной.
У нас начался как бы тихий час. Все, кроме меня, наплавались, наигрались, пристроившись к волейболистам, и сейчас наступила временная апатия – пацаны решили наконец просто позагорать, тем более что забыли захватить карты. Мы в очередной раз пропустили разбавленный пуншем коньячок, пустив по кругу единственный стакан, который умыкнули из аппарата с газированной водой возле магазина, и разлеглись в разных позах.
Мне уже здорово хотелось жрать, но печенье, булочки и прочая дрянь, которую мы набрали после винно-водочного, не лезла в глотку. Надо было взять хотя бы хлеба с колбасой и маслом или чего-то вроде этого, а еще лучше – килограммов пять зельца. Правда, пацаны бы меня тогда не поняли.
– Так и будешь валяться в пиджаке? – внезапно спросил Серега.
– Ну а че, – сказал я.
– Да ниче, – громко поддержал его Колян и я понял, что нашим уже нормально ударило по головам. – Снимай, давай.
– Зачем?
– Хотим посмотреть, как ты накачался.
– У него там капуста по карманам распихана, – насмешливо сказал Вован. – Боится, свистнут. Видали, как карманы оттопыриваются?
– Кстати, насчет капусты, – сказал Серега Мороз. – Ты правда полтысячи на «Текстиле» заработал?
– Ну не украл же.
– За неделю?
– Ну да.
– Учеником слесаря?
– Учеником.
– Слушай, а там места еще есть? – спросил после паузы Мороз. – Я тоже так хочу.
Я пожал плечами.
– Не знаю. Попробуй в отдел кадров. Там такой Павел Аркадьевич… ну, начальник, короче. Мировой мужик. С ним поговори.
При упоминании об отделе кадров у меня почему-то зачесался бок.
– Все равно пусть снимает, – сказал после минутной паузы Колян, возвращаясь к теме пиджака. – Он на весь пляж один такой сидит. Позорище какое-то.
Пацаны моментом забыли про загар. Кто-то присел, кто-то встал, кто-то перекатился на бок, и все стали смотреть на меня.
Я понял, что от меня не отвяжутся; даже, возможно, попробуют стянуть пиджак силой. Вообще-то я был уверен, что мог бы запросто раскидать их всех как щенков, включая даже Виталя, но мне не хотелось привлекать всеобщее внимание – на нас и без того посматривали неодобрительно, когда пацаны затевали возню или громко ругались. Опять подумав, что зря связался с этими малолетками, я неохотно стянул пиджак.
– Ни хрена себе… – тихо сказал Виталь.
– Мама дорогая, – прошептал Мороз, а кто-то присвистнул.
– Чего, – с недоумением сказал я.
Потом оглядел себя и тоже охренел. Торс оказался в шрамах, которых еще пару часов назад не было, совершенно точно. Я ведь все утро любовался собой – и когда чистил зубы, и когда мерил батин костюм. Наверное, эта фигня выскочила из-за сильного солнца или чего-то в этом роде. Может и от сладкого пунша даже.
– Откуда это? – спросил Колян каким-то сиплым голосом.
Я пожал плечами.
– Не знаю.
Все молча смотрели на меня, ожидая объяснений, и я неуверенно предположил:
– Может, аллергия какая-нибудь. Ну, съел там что-то.
– Ага, точно, – сказал Мороз. – Именно так при аллергии и бывает, я по своей бабушке знаю.
Вован заржал и обстановка слегка разрядилась.
– Это ножевой, стопудово, – уверенно сказал Колян, направив палец в шрам на моем левом боку. – У моего батьки точь-в-точь такой же. Кавказцы в армии когда-то пырнули.
– А здесь, – сказал Мороз.
– А это, – сказал Колян.
– А вон слева, – сказал Вован.
– А это вообще, похоже, сквозняк, – сказал Виталь. Все начали рассматривать круглый шрам на правой стороне груди, над соском и чуть левее, а Виталь обошел меня и остановился за спиной. – Ну да, точно, – сказал он и пацаны поспешили к нему.
– Твою мать… – сказал Мороз и я почувствовал, как чуть ниже левой лопатки моей кожи осторожно коснулся палец. – Вот он, выход.
– Это как это… – ошарашенно сказал Колян. Он вернулся на место и уставился мне в глаза. – Это же наискось, через самые легкие и еще там всякое… Через трахому, например.
– Через трахею, дурень! – поправил Виталь и заржал.
– Да все равно, – не поддержав его смехом, растерянно сказал Вован. – Такого не бывает. У него же, небось, все кости там раздробило.
– Да ладно, – не зная, как все это объяснить, сказал я. – Вы это… ну, вы все преувеличиваете, короче… Это только кажется, что все так серьезно.
– Кажется? – переспросил Виталь.
– Ну да, – сказал я и накинул на плечи пиджак.
Препятствовать мне в этом никто не решился.
– Санчо, ты ничего не хочешь нам рассказать? – спросил Колян.
Я промолчал, только пожал плечами.
– Надо выпить, – после паузы сказал кто-то и Мороз с энтузиазмом полез в сумку.
– Лей побольше, – сказал Виталь, – а то с этим… – он кивнул на меня, – и спятить недолго…
Мы опять валялись молча, на животах или заложив руки за голову, загорали. Я распахнул пиджак, чтобы солнце грело брюхо; боялся только слегка, что от его лучей появятся еще какие-нибудь дурацкие шрамы. После пары доз коньякопунша всех отпустило, интерес ко мне угас, пацаны вяло переговаривались.
– Кто скажет, что вечером по телеку было? – спросил Серега. – А то я после нашего вчерашнего пива приковылял домой и вырубился сразу.
С десяток секунд царила ленивая тишина. Каждый надеялся, что ответит кто-то другой.
– Да ни хрена такого, – наконец отозвался Вован. – Речугу Брежнева целый час транслировали. Или даже полтора. Фильм из-за этого перенесли, да и сам фильм в итоге туфтой оказался. Че-то там про каких-то сталеваров, что ли… Если бы не одна коза, которая комсорга играла, и смотреть бы было не на что. Ничего такая, я б ей вдул.
Опять наступила тишина. Иногда над самой землей пробегал приятный прохладный ветерок.
«Прощай, среди снегов среди зимы никто нам лето не вернет… прощай, вернуть назад не можем мы в июльских звездах небосвод»…
– Ни хрена себе, какие соски, – вдруг сказал Виталь. – Подснять бы их.
– Где? – спросил Вован.
Пацаны оживились. Все разом присели, стали крутить головами.
– Да не там. Вон, левее.
Все стали смотреть в сторону, куда ткнул рукой Виталь, а я почувствовал, как сердце забилось чаще – метрах в тридцати, боком к нам, на красном покрывале загорали Тамара и ее подруга блондинка. Тамара ближе к нам, блондинка за ней. Она лежала на животе, а Тамара на спине, заложив руки за голову и согнув в колене левую, ближнюю к нам, ногу. На ней был раздельный сине-белый купальник, узенький, позволяющий разглядеть все тело. Рядом, на траве, стояла большая, похожая на нашу, спортивная сумка, две дамские сумочки и две кучки одежды. Отдельно стояли две пары обуви – черные босоножки и светлые лодочки, все на высоких шпильках. Под голову Тамара что-то подложила – то ли сложенное полотенце, то ли платье; отсюда я не смог этого разглядеть. У блондинки волосы были собраны в пучок и отброшены в сторону, чтобы не мешать загару спины, а у Тамары волосы были зачесаны наверх и уложены в прическу, тоже для того, чтобы открыть шею солнцу. Кажется, такая прическа называлась «Ракушка» или как-то так.
– Классные, – сказал Мороз. – Только нам не светит.
Он взял с покрывала пачку «Космоса», вытянул сигарету, чиркнул спичкой.
– Это почему еще, – спросил Виталь и тоже закурил.
– Да потому. Пробовали мы с Коляном к ним подкатиться, еще когда в первый раз купаться ходили.
– И что?
– Да ничего. Послали нас культурно. Сказали, чтобы мы по их поводу не беспокоились.
– Они чуть постарше, – сказал Колян. – Сказали, что так просто, на пляжах и улицах, не знакомятся. Типа к ним нужен особый подход.
– А по сколько им? – спросил Вован.
Колян пожал плечами.
– На вид около двадцати.
– Ну да, такие обычно больше всего и выламываются, – разочарованно проворчал Саня. – Их и по кабакам водить надо, и все такое…
– Хрен с ними, – подвел итог Колян, – можно и попроще найти.
– Ничего-ничего, – бодро сказал Виталь, но заметно было, что его пыл изрядно угас, – над будет потом сделать к ним еще заходец. Может, вы мололи что-нибудь не по теме.
– Почему, – сказал Саня, – Мороз съемщик знатный. Если ему не удалось, значит, дело дохлое.
– Ничего, посмотрим, – проворчал Виталь для проформы, а я молча встал и пошел к подругам, на ходу продевая руки в рукава пиджака.
– Эй, ты куда, – спросил Колян, а Серега, догадавшись, громко заржал.
– Лапсердак-то не потеряй! – крикнул он мне в спину, но я не прореагировал.
Я остановился в метре от красного покрывала или пледа, или как там называлась эта их штуковина. Глаза Тамары закрывали черные очки и непонятно было, заметила ли она, что кто-то подошел. Интуиция подсказывала мне, что заметила, просто не подала виду, не выдала себя ни единым, даже самым малым, движением, продолжая изображать полудрему.
Все тело девчонки было темным от загара, кожа, смазанная кремом, блестела, а фигура оказалась просто потрясной. Ногти на ногах были покрашены вишневым лаком, а на руках – посветлее, розовым. Помада на губах тоже была розовой, в тон. На ее теле оказалось немало мелких, рассеянных там и сям родинок, а на левом бедре, сбоку, ближе к заду – одна покрупнее, с двухкопеечную монету. Еще из-за определенного угла освещения солнечными лучами, на этой ее согнутой в колене ноге с родинкой, на задней стороне бедра, образовалась полутень и было видно, что кожа в этом месте слегка неровная, в едва заметных бугорках и впадинках.
Все это показалось мне очень возбуждающим. Я вдруг почувствовал, что у меня зашевелилось в трусах, невольно покраснел и сложил кисти рук, чтобы придержать пиджак над оттопырившимися трусами. Если мне не показалось, уголки губ Тамары на какую-то неуловимую долю секунды дрогнули, словно она едва сумела справиться с улыбкой.
Я так и разглядывал ее не меньше минуты, пока блондинка не перевернулась на спину и не увидела меня. Она изумленно выгнула брови и осторожно прикоснулась локтем к боку Тамары.
– У нас гости, подруга.
– Опять малолетки, знакомиться? – лениво проговорила Тамара.
– Да нет, мужчина, – с трудом сдерживая смех сказала блондинка и присела. – Серьезный. – Она неопределенно покрутила в воздухе рукой. – Ну, такой, знаешь…
Она потянулась к лежащей возле сумочек пачке «Космоса», закурила, и, с прищуром глядя на меня, тонкой струйкой выпустила в мою сторону дым из накрашенных красным губ. У блондинки тоже была отличная фигура и классные ноги, она тоже была красивой и холеной, с маникюром и педикюром, но с Тамарой ее было не сравнить. Я бы даже затруднился сказать, в чем заключалась разница, но Тамара была до того шикарной, что от нее невозможно было оторвать взгляд.
– Какой? – спросила она.
– При костюме, – сказала блондинка, не отрывая от моих глаз насмешливого взгляда. Хотя, как удалось мне заметить, чуть раньше этот ее взгляд за мгновение просканировал меня с головы до ног, и оценка была положительной. – Только галстука не хватает.
– Ого! – все так же лениво сказала Тамара. – Посмотреть, что ли…
Она плавным движением подняла тонкую руку, сняла очки и тоже посмотрела мне в глаза. Ее глаза оказались карими, мне удалось рассмотреть их только сейчас, потому что раньше я сразу же начинал пялиться на ее ноги. И в этих глазах не было отторжения, хотя девица в показном недовольстве слегка поджала губы. И еще я почувствовал, что она меня узнала, хотя никак не дала это понять. А еще я уловил, как в какой-то момент ее взгляд молниеносно метнулся по моей фигуре сверху вниз и обратно, точь-в-точь так же, как минутой назад у блондинки, и результат осмотра тоже оказался со знаком плюс, я мог в этом поклясться.
– Кажется, я его где-то видела, – сказала Тамара. – Такое может быть?
Это она спрашивала у блондинки.
– По телевизору, – уверенно предположила та. – Точно. Недавно какой-то фильм показывали, так он там кого-то играл.
– Нет, по-моему, он что-то пел на каком-то концерте, – сказала Тамара. – В дуэте с Леонтьевым, кажется.
– Да нет, я с «Текстиля», – сказал я.
– А-а-а! – обрадовалась блондинка, – точно! Это новый замначальника второго ткацкого.
Это она обращалась к Тамаре.
– А разве не начальник? – спросила та. – Мы же сами недавно оформляли его перевод.
Я понял, что надо мной попросту потешаются и сглотнул.
– Так и будем молчать? – спросила блондинка.
– Да нет, почему, – сказал я.
– Ну так скажи что-нибудь.
– А… что?
– А зачем ты к нам подошел?
– Познакомиться.
– Ну так представься, что ли, – с усталым вздохом предложила блондинка.
Она в последний раз выпустила дым, погасила сигарету в песке, а бычок спрятала в спичечный коробок, в котором уже были окурки.
– Саша, – сказал я. И поспешно поправился: – Ну, Александр, то есть.
– Я Наташа, – сказала блондинка.
Наступила пауза. Блондинка склонилась к Тамаре, шепнула что-то ей на ухо. Та с протяжным вздохом присела, обняла руками колени.
– Тамара, – поколебавшись, неохотно сказала она.
– Я знаю, – зачем-то сказал я.
– Ого, – сказала Наташа и со значением посмотрела на Тамару, а та подняла брови и с очередным вздохом покачала головой, показывая, до чего ее тяготит весь этот дурацкий разговор. – Товарищ тобой интересовался, оказывается.
Тамара не прокомментировала и опять повисла пауза.
– Что дальше? – спросила Наташа.
– Ну… – я замялся. – Может, дашь телефон?
Конечно, я обращался к Тамаре. За все время разговора я взглянул на блондинку всего несколько раз, бегло, а так все время пялился на Тамару.
– Я? – спросила блондинка.
Я перевел на нее взгляд и она прыснула, давая понять, что это была шутка. Я опять стал смотреть на сидящую неподвижно Тамару, а она безразлично смотрела в сторону. Возникла очередная пауза.
– Зачем? – наконец спросила Тамара, не выдержав.
– Ну как… – я тоже вздохнул. – Чтобы созваниваться.
– А ты знаешь, сколько мне лет?
– Знаю.
– И сколько? – с неподдельным любопытством спросила Наташа.
– Восемнадцать, – сказал я.
Девчонки переглянулись и я впервые увидел, как Тамара улыбается. Улыбка у нее оказалась очень милой, улыбаться ей шло. Вся ее надменность сразу улетучилась и она стала на миг простой красивой девчонкой.
– А мне? – спросила Наташа.
– Тоже восемнадцать.
Они опять переглянулись.
– Что ж, спасибо, – сказала Наташа.
– За что?
Она промолчала.
– Ну, а тебе? – неожиданно спросила Тамара и я обрадовался, потому что это было первое ее обращение ко мне. Так, чтобы она сказала, не отвечая на вопрос, а без принуждения, по своей инициативе.
– Двадцать пять, – не раздумывая, сказал я.
Подруги переглянулись и одновременно, с неподдельным весельем прыснули.
– С ним не соскучишься, – сказала, отсмеявшись, Наташа.
Она потянулась к вещам, порылась в большой сумке, достала стеклянную поллитровку лимонада, попробовала стянуть пробку, но та не поддалась. Она молча протянула бутылку мне. Я сделал шаг вперед, наклонился, и у меня распахнулся пиджак. Девчонки стрельнули глазами в проем, затем так же быстро переглянулись. Тамара слегка покраснела, потом едва заметно, словно оправдываясь перед подругой, приподняла тонкие брови и пожала плечиками – мол, что тут поделаешь.
Я тоже покраснел. Потом распрямился и занялся бутылкой. Она уже была раскупорена, просто потом металлическую крышечку пристроили на место и сейчас ее можно было снять пальцами.
Наташа приняла у меня лимонад и пробку, отпила небольшой глоточек, протянула Тамаре. Та тоже отпила немного, хотела закупорить бутылку, но, поколебавшись, протянула ее мне.
– Будешь?
Я отрицательно покачал головой. Потом неохотно оторвал взгляд от Тамары, обернулся, посмотрел на своих. Серега с Виталем стояли, остальные сидели. Все курили и молча наблюдали за нами.
«Прощай, уже вдали встает заря и день приходит в города; прощай, под белым небом января мы расстаемся навсегда»…
– Ладно, пошутили и хватит, – сказала Наташа, пряча бутылку в сумку. – Мальчик, у тебя что, нет девушки?
– Нет, – поколебавшись, сказал я.
– Но все равно. Почему бы тебе не найти ровесницу.
– Да ну, ровесницу, – опять поколебавшись, сказал я. – Чего с ней делать.
Наташа в показном удивлении тоже выгнула брови.
– Интере-е-есненько… А с Тамарой, выходит, есть, чего?
– А то! – с энтузиазмом сказал я.
Девчонки опять быстро переглянулись. Лицо Тамары залилось краской, она опять обняла себя за колени, как бы в стремлении хоть как-то укрыться от моего восторженного взгляда, а блондинка нахмурилась.
– Или мне кажется, или у молодого человека чрезмерно бойкий язык, – сказала она как бы никому, просто рассуждая вслух.
Я по-настоящему испугался.
– Да нет, – торопливо сказал я, – я же ничего такого… Наверное, просто неправильно выразился.
– Н-ну л-ладно… – теперь как бы в сомнении медленно сказала Наташа и посмотрела на Тамару. – Простим на первый раз?
Тамара ничего не ответила. Она опять нацепила очки и вернула руки на место. В этом положении, когда она склонялась вперед, мне оказывалась недоступной для разглядывания ее грудь, наверное поэтому она так и делала. Лицо Тамары до сих пор горело, видно было, что я своей репликой сильно ее смутил.
– Я на ней вообще-то жениться хочу, – сообщил я Наташе, чтобы исправить положение.
– Да-а? – сказала она. – А на мне не хочешь?
– На тебе Викентьич женится, – сообщил я. – Ты ему здорово нравишься. Ну, как мне Тамара.
Тамара приглушенно хмыкнула и уже во второй раз не смогла сдержать улыбку. Кажется, она на меня не злилась и я обрадовался.
– А кто у нас Викентьич? – с любопытством поинтересовалась Наташа. Она тоже с трудом сдерживала смех, но видно было, что ей по-настоящему интересно.
– Мастер мой. Он Саша вообще-то, как и я, просто его так в цеху все зовут.
– А сколько ему лет?
– Двадцать пять.
– Как и тебе?
– Нет, по-настоящему.
– А он красивый?
Тут я замялся.
– Ну… да, наверное. Вообще-то на него девчонки смотрят, я сам видел. Ну, когда мы с ним в столовую… или там по территории…
– Ну хорошо, – сказала после паузы Наташа. Похоже, ей, в отличие от Тамары, нравилось со мной общаться. Наверное, девица была общительной по натуре или просто ей было скучно и она развлекалась. – Допустим, даст тебе Тамара свой телефон. И что ты будешь делать?
– Позвоню ей, – сказал я.
– Это-то понятно. А дальше что? – Я молчал и Наташа подсказала: – Наверное, попробуешь куда-нибудь ее пригласить?
– Ну да.
– А куда? На трамвае покататься?
– Почему… Можно где-нибудь посидеть.
– Где? На лавочке?
– Почему… – опять сказал я. – Можно в ресторане.
Наташа с трудом сдержала смех, посмотрела на Тамару, но та смотрела вперед, мимо меня. Кажется, ее опять начал тяготить этот диалог и я заволновался.
– Я нормально зарабатываю, – поспешно сказал я, глядя, конечно, на нее. – Правда.
– Учеником слесаря? – насмешливо спросила Наташа. Тамара быстро ткнула ее локтем в бок и она прикусила язык. – Просто твои документы через нас проходили, – тоже слегка порозовев, пояснила Наташа и это прозвучало так, словно она оправдывалась. – Мы с Тамаркой их оформляли, поэтому и запомнили случайно.
– А чего, – сказал я. – У вас и вправду нормально платят.
– А почему ты тогда в чужом пиджаке ходишь? – поинтересовалась Наташа.
Я машинально посмотрел на свой пиджак и пожал плечами.
– Просто не успел шмотки подходящие прикупить. Я как-то неожиданно это… ну, в плечах, в общем, раздался.
– Ну, это мы уже заметили, – весело сказала Наташа, а Тамара недовольно поджала губы и опять легонько коснулась ее локтем.
– Говори за себя, – едва слышно попросила она.
– Можем прямо сейчас куда-нибудь сходить, – сказал я, запуская руку в карман. – Вот, видели? – Я нагнулся и положил на покрывало между ними пачку трехрублевок.
Девчонки посмотрели на деньги, потом друг на дружку, потом на меня, и Тамара опять сняла очки. Она положила их рядом с собой и опять обняла колени. Вид у нее был озадаченный.
– Что это? – спросила Наташа.
– Ну… деньги.
– Забери, – требовательно сказала Наташа, но я пропустил ее указание мимо ушей. – Тебе не холодно, кстати? – спросила она, когда пауза затянулась.
– Да нормально вроде.
– Нет, правда, зачем ты паришься в пиджаке?
– Да у меня там это… ну, шрамы какие-то образовались. Не хочу людям показывать.
– Образовались?
– Неожиданно, буквально сегодня. От солнца, наверное, выскочили.
– Снимай, – все так же требовательно сказала Наташа. И, видя, как я замялся, повторила: – Снимай, сказано! Уж если ты к Тамарке в мужья набиваешься, должна же она оценить своего жениха.
Я вопросительно посмотрел на Тамару. Она как всегда промолчала, но на сей раз смотрела прямо мне в глаза, выжидающе. Я вздохнул, снял пиджак и замер, держа его в правой руке.
Настала немая пауза. Около десятка секунд девчонки во все глаза рассматривали мой накачанный торс, даже Тамара не делала вид, что ей безразлично. Сначала она задержала глаза на грудных мышцах, потом медленно опустила взгляд и остановила его на животе, который был похож на ребристую стиральную доску, я сегодня тоже долго любовался им дома, рассматривая в зеркале.
– Нич-чего себе… – наконец сказала Наташа и теперь уже она легонько толкнула ошеломленно застывшую Тамару локотком. – Я таких только на картинках видела. У меня братишка качается, так у него вся комната в плакатах этих… ну, как их…
– Культуристов, – тихо подсказала Тамара.
– Ага, точно.
Сзади раздались аплодисменты и я недовольно обернулся. Конечно, это развлекались наши. Виталь вдобавок громко свистнул и показал мне большой палец, явно в стремлении, чтобы девчонки обратили на него внимание. Привлеченные шумом, многие вокруг стали на нас глазеть и я вдруг осознал, что стою в самом центре пляжа в красных семейных трусах в белый горошек.
– Ну, я одеваюсь? – спросил я, глядя на Тамару. – Можно?
– А где шрамы-то? – спросила Наташа.
Я опустил глаза. Шрамов не было.
– Н-не знаю, – пробормотал я. – Говорю же, они как-то неожиданно… наверное, от солнца. А теперь подевались куда-то.
Девчонки рассмеялись. И опять я с радостью увидел, что Тамара ведет себя естественно, без обычного высокомерия.
– Шутник… – пробормотала Наташа. Она полезла в сумочку, достала небольшое складное зеркальце, раскрыла его и стала смотреться. – Даже тушь потекла.
– Дай мне тоже, – выждав, попросила Тамара.
Она тоже стала смотреться в зеркальце, а я накинул на плечи пиджак и, глядя на нее, терпеливо ждал.
– Чего? – спросила она, закончив прихорашиваться и перехватив мой взгляд.
– Ну, это… телефон.
Теперь шутки, кажется, закончились. Наступил кульминационный момент и я почувствовал, как забилось сердце. Тамара настолько откровенно колебалась, не зная, как поступить, что Наташа не выдержала, прошептала что-то, опять склонившись к ее уху.
– Ладно… – пробормотала Тамара, – так и быть. – И попросила: – Подай, пожалуйста, ручку.
Наташа опять полезла в сумочку. Перед тем как написать телефон на вырванном из маленького блокнота листочке, Тамара опять некоторое время колебалась, а у меня все так же билось сердце.
– Держи…
Она не глядя протянула мне листочек, а я жадно его схватил и впился глазами в две написанные аккуратным почерком короткие строчки. «Тамара». Ниже шли шесть цифр, которые я на всякий случай быстро дважды повторил про себя и сунул листочек в нагрудный карман.
– Я пошел? – сказал я, а девчонки поднялись и почти одновременно потянулись.
– Деньги-то забери, – напомнила Наташа, кивнув на покрывало.
– Забери, забери, – поддержала ее Тамара.
Но я поднял пачку, прошел к их вещам и бросил деньги в раскрытую большую сумку.
– Пусть у вас побудут, – сказал я и пояснил, кивая за спину: – Вон, дружков моих видели? Лучше потом на эти деньги вчетвером куда-нибудь сходим.
– Вчетвером? – переспросила Наташа.
– Ну, я с Тамарой и ты с Викентьичем.
– А-а-а… ну да, точно. У меня же тоже жених появился. – Она посмотрела на подругу, хихикнула. – Ладно, кавалер, мы купаться.
– Угу… – сказал я, с восхищением рассматривая фигуру представшей во всей своей красе Тамары.
– Может, с нами? – предложила Наташа.
– Да нет… я это… ну, вдруг от воды опять что-нибудь выскочит.
Без каблуков моя девчонка смотрелась чуть иначе, чем я привык ее видеть, ростом она оказалась немногим выше моего плеча.
Мы слегка приотстали.
– А те босоножки, они твои? – поколебавшись, спросил я.
– Какие босоножки?
– Ну, там у вас босоножки и туфли.
– А это так важно? – Я промолчал и Тамара неуверенно, словно сомневаясь, правильно ли поступает, отвечая на бредовые вопросы, сказала: – Ну, допустим, мои. И что?
– Я так и подумал.
– Почему?
Я пожал плечами.
– Изящные. Как раз для такой, как ты.
– Какой?
– Ну… такой.
– Тамарка, чего застыла!
Секунд пять мы с Тамарой, приостановившись, смотрели друг другу в глаза, потом она неожиданно сказала:
– Мне двадцать вообще-то.
Я сглотнул и молча кивнул, продолжая пожирать ее глазами. Тамара задержалась еще на пару секунд, видимо, ожидая, что я что-то скажу, а у меня от радости попросту перехватило дыхание. Я моментально сообразил, зачем она это сказала. Она сделала так, чтобы поставить меня в известность, если я не прикидывался, а действительно думал, что ей восемнадцать. И стало понятным, что Тамара предоставляет мне решать, стоит ли пробовать развивать отношения с учетом этого обстоятельства. И таким образом выходило, что сама она ничего против не имеет.
Кто-то за спиной, кажется, подкрутил громкость приемника. «Лай-ла, ла-ла-ла ла-ла-ла ла-ла-а-а, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-а-а-а», – грянул Лещенко припев в унисон с женской подпевкой, и это как нельзя лучше соответствовало моему настроению. Мне сейчас тоже хотелось петь.
– Это здорово, – расплывшись в дебильно-счастливой улыбке, запоздало сказал я, когда Тамара уже не могла меня слышать.
Я смотрел ей вслед, пока она не вошла в воду по бедра, к поджидающей ее Наташе, затем побрел к своим.
– Снял? – сходу спросил Виталь.
Кажется, без меня пацаны добавились, потому что выглядели неслабо набравшимися. Или их просто развезло на солнце.
– А то, – сказал за меня Колян. – Видал, как он перед ними позировал.
Все заржали, а я сказал:
– Да они с «Текстиля», оказывается, из отдела кадров. Не станут они с вами мутить. Побоятся, вдруг я на работе про них трепаться начну.
– Не забудь, я к вам скоро устраиваться приду, – быстро напомнил Мороз. – Замолвишь, если что, словечко.
– Конечно. А сейчас… короче, пацаны, не в обиду. Поеду-ка я.
– А чего так? – спросил Вован.
– Да по магазинам пробежаться хочу, надо бы прикупить каких-то шмоток. Не в этом же ходить.
– Ладно, какие проблемы, – сказал Виталь. – Ты ж не в армии, иди куда хочешь.
– А на завтра планы есть? – спросил Саня.
– Не знаю пока. Вообще-то надо бы хату прибрать, скоро предки прикатят.
– А-а-а, – сказал Саня. – Может, хоть капусты тогда подкинешь? А то завтра нам совсем плохо будет.
– Точно, – поддержал его Виталь.
– Да без проблем.
Я не глядя запустил руку в карман, отщипнул пальцами от пачки пятирублевок, протянул Виталю.
– Шестьдесят, – быстро подсчитав, сказал он и победно потряс сложенными веером купюрами. – Живем, пацаны! Санчес, ты человечище!
– Ладно, – сказал я, натягивая штаны, – не скучайте.
По магазинам я, конечно, ходить не стал. По магазинам ходят те, у кого нет нормальных денег, а я зарабатывал достаточно. Я просто съездил на барахолку и купил у фарцовщиков отличную импортную майку с надписью «Marlboro» и классного покроя штаны из похожего на брезент материала, тоже импортные или хорошо кем-то сшитые.
Конечно, мне бы хватило и на настоящие джинсы, но подумалось: а вдруг завтра придется искать другой размер. Мне что же, каждый раз выкидывать неслабые деньги на тряпки, которые надену один раз? Уж лучше сводить на них Тамарку в какой-нибудь кабак.
Пройдя возле почтовых ящиков, я вдруг вспомнил, что за целую неделю не удосужился заглянуть, проверить почту. Всю эту неделю я здорово уставал на работе и думал только о жратве и как добраться до койки, поэтому мне было не до почтового ящика, хотя единственное, что я сделал за прошедшее время, это заточил около полусотни прутков.
Вернувшись, я открыл ящик и увидел скопившиеся там газеты, а перед ними пристроился небольшой, казенного вида листок, при виде которого у меня судорожно сжалось в животе. Листок вдруг выпал и плавно спланировал на пол. Еще глядя, как летит он, покачивая, словно маневрирующий планер, боками, я интуитивно понял, что листок этот предназначен для меня и ничего хорошего он мне не сулит.
Так и оказалось. Это была повестка, предписывающая явиться в военкомат, имея при себе три фотографии размером три на четыре сантиметра. Я посмотрел на дату и обнаружил, что в это нехорошее учреждение мне предписано явиться в понедельник, к восьми утра. И в восемь же мне нужно было быть на работе.
Газеты меня не интересовали. Их выписывал отец и там не было ничего для меня интересного. Я выписывал журнал «Ровесник», но очередной его номер должен был прийти недели через две.
– Здравствуй, Саша.
Я дергано обернулся и увидел пенсионера с небольшой беспородной собакой без поводка, которая подбежала и деловито обнюхала мои штаны. Точнее, батины, потому что мои покупки пребывали в целлофановом пакете, вложенном в левую подмышку.
– Здравствуйте, Иван Петрович.
– Из военкомата?
Он кивнул на бланк, который я уже внимательно изучил, но не спрятал, желая пробежаться по тексту еще разок, будто в нем помимо очевидного была зашифрована между строк какая-то важная информация.
– Ну да.
– Забирают?
– Через полгода, – сказал я, – если в институт не поступлю.
– Сейчас, сейчас, Боцман. Видишь, я разговариваю с нашим соседом, – сказал пенсионер и посмотрел на собаку, которая выбежала на крыльцо, повернулась к хозяину и смотрела на него выжидающе. Та, словно все поняв, уселась на попу и замерла, глядя на нас влажно поблескивающими глазками. – Родители скоро вернутся?
– Через неделю обещали.
– Ну ничего, я вижу, ты стал совсем самостоятельным. Я, когда гуляю утром с Боцманом, вижу, как ты отправляешься на работу. Ты ведь на работу ходишь?
– Ну да, – сказал я.
– Вот видишь. – Старик положил руку мне на плечо. – Ты вообще как-то резко возмужал. Надо же… одни мышцы.
Когда он дошел до Боцмана, тот радостно взвизгнул, словно дождался хозяина из кругосветного путешествия, и два неразлучных друга поковыляли во двор. А я достал газеты, закрыл ящик и побрел к себе, пытаясь припомнить, остались ли у меня эти чертовы фотографии. Вообще-то не так давно я их заказывал целую кучу.
Конечно, фотографий не оказалось. Я перерыл все, что можно было перерыть, и ничего не нашел. Сделанные пару месяцев назад, как мне казалось, с запасом, они разлетелись как деньги у алкоголика. Фотографии потребовались в отделе кадров «Текстиля», на медкомиссии в поликлинике, чтобы предъявить справку о здоровье на том же «Текстиле», да еще до этого я, кажется, зачем-то относил фотки в паспортный отдел и еще куда-то.
Но главное, что положение было безвыходным. По субботам фотоателье не работали, а если, возможно, и были какие-то, обслуживающие народ по выходным, я все равно не знал их адресов, да и наверняка они были закрыты. Я посмотрел на настенные часы. Уже пять, а подобные дежурные конторы обычно работали по выходным максимум до обеда. А если заказать фотографии завтра, то готовы они, скорее всего, будут только в понедельник, даже с учетом срочности.
Просто надо было вовремя проверять почтовый ящик, с раздражением подумал я и как-то вдруг успокоился. В конце концов, можно ведь просто съездить в военкомат, объяснить, что вышла такая вот история, и пообещать, что привезу фотки в любой другой день. О том, что можно вообще не ехать в военкомат, у меня и мысли не возникло. Я до сих пор помнил орущего на провинившегося в чем-то пацана капитана, у которого на лбу вздулись такие же вены, как у недавнего грузчика в магазине: «Таких борзых я отправляю служить к белым медведям! Готовь валенки!». А ходить два годы в валенках мне, честно говоря, не хотелось.
Я подошел к большому зеркалу в прихожей, чтобы посмотреть, как выгляжу в новых, только купленных штанах, и не поверил своим глазам. На меня смотрело лицо сорокалетнего мужика, причем лицо было явно знакомым. Это было странно, потому что не далее чем сегодня утром это же зеркало утверждало, что мне двадцать пять.
Я пялился на свое и одновременно не свое отражение не меньше пары минут, пытаясь припомнить, где я это лицо видел. И когда подумал, что это все же мое лицо, просто, почему-то, со сдвигом во времени, то есть примерно так я буду выглядеть лет через двадцать, меня внезапно осенило. Я видел это лицо на кладбище, на могиле деда! Ну да, точно. Все в один голос твердили, что я жутко похож на отца моего отца; меня, в общем-то, и назвали в честь него. А теперь это могло здорово мне помочь.
Теперь у меня появилась возможность решить проблему быстро и просто. Надо всего лишь съездить на могилу деда и позаимствовать у него фотографию. Ну, а потом вернуть ее на место. Точнее, не ее, а сделанную взамен. Я прекрасно помнил, что, когда дед умер, отец взял одну из его фотографий и заказал в фотоателье ее увеличенную копию в форме овала. Так что придется оставить фотку деда, то есть мою, меня нынешнего, в военкомате, и заказать новую, только и всего. Думаю, дед простит мне, что его могила простоит какую недельку без фото. Правда, мне нужно три экземпляра, но это ничего, здесь важно другое. Важно в первую очередь показать военкоматским, что я хотел выполнить их требование, но просто не смог, не успел. Это все же лучше, чем приехать без фоток или не приехать вообще, выказав таким образом неуважение к людям в погонах. По крайней мере, при таком раскладе к медведям меня точно не сошлют.
Конечно, целесообразнее было найти ту фотографию, с которой отец сделал увеличенную овальную копию, но я не знал точно, где ее искать. Подозревал только, что для этого мне пришлось бы перерыть половину огромной стенной секции, где родители хранили всевозможные квитанции, семейные архивы и прочие ценные для них бумаги, да и то без стопроцентной гарантии положительного результата.
Остановившись на придуманном варианте, я успокоился; он мне показался изящным в замысле и простым в исполнении – или, иными словами, гениальным. Теперь мне можно было расслабиться и полностью переключиться мыслями на Тамарку. Подумав о своей девчонке, я хотел немедленно ей позвонить, но усилием воли сумел удержать себя в руках. Не надо. Пусть она оценит мою выдержку. Лучше дотерпеть до понедельника, а там зайти к ней в отдел кадров уже на правах старого знакомого. Вытащить ее в ту их курилку на лестнице, посидеть, поговорить.
А на могилу я съезжу завтра, теперь все равно спешить некуда.
Я пошел на кухню и на радостях сожрал сразу килограмма три зельца. Потом стал искать телевизионную программу и только тогда вспомнил, что попросту ее не купил. Да и не особо она мне была нужна, потому что после работы телевизор я не включал, сразу отправляясь жрать, а потом спать.
Я просто включил телевизор и попал на концерт Льва Лещенко. Можно было перевести, поискать какой-нибудь фильм, но мне было лень. Я улегся на диван, заложил руки за голову и стал мечтать о Тамарке.
«Прощай, от всех вокзалов поезда уходят в дальние края; прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января», – пел Лещенко, помогая моим фантазиям созданием подходящего романтического фона.
Только вот расставаться с Тамаркой я не хотел. Еще чего…
Я порадовался, что поехал на кладбище в воскресенье, потому что в какой-то момент, пожирая на кухне завтрак, состоящий из двух килограммов зельца, мне из-за лени захотелось перенести все на понедельник. Встану пораньше и съезжу перед военкоматом, подумал тогда я, и только необходимость столь раннего подъема смогла испугать меня больше, чем воскресная поездка.
Могилу деда оказалось найти не так-то просто. Бродя по кривым тропинкам между бессчетных могил, я сто раз пожалел, что всегда всеми силами отбрыкивался от подобного рода семейных мероприятий. Съездил бы с родителями, помог бы им навести порядок на могиле хотя бы полгода назад, когда мне еле удалось отбрехаться, и сейчас не пришлось бы топтаться, разыскивая место захоронения своего предка, на которого я получился таким похожим, что завтра даже понесу его фотографию в военкомат как свою.
А когда я его могилу все-таки нашел, вместо радости опять испытал чувство вины. Догадался бы захватить с собой инструменты, сейчас мог бы привести последнее пристанище деда в порядок. Прошелся бы везде граблями, взрыхлил слежавшийся песок. Полил бы кустики и специально посаженную траву. В конце концов, я уже взрослый и пора бы добровольно принимать участие в исполнении некоторых семейных обязанностей, не перекладывая их на плечи родителей.
Но из всех инструментов я захватил с собой лишь отвертку, которой, воровато оглядевшись, и стал ковырять овал в мраморном надгробье. Сначала я как можно более аккуратно вынул посеревшую от застывших на ней капель дождя прозрачную пластиковую заставку, затем, еще более осторожно, саму фотографию.
– Прости, дед, – от всего сердца сказал я, когда дело было сделано, испытывая тягостное чувство вины из-за того, что испоганил его могилу, – так надо. Был бы ты жив, ты бы меня понял… Ну, надеюсь, – подумав, добавил я. – Обещаю, что как только… – я замялся на секунду, – как только разгребусь со всеми своими чертовыми делами… ну, с военкоматом там, с работой, и… и вообще… то сам закажу дубликат фотографии, а потом непременно приеду сюда, чтобы вернуть ее на место и навести тут порядок, и больше не буду искать всякие гнилые отговорки, чтобы… Я уже стал взрослым, дед… и постараюсь, чтобы ты там… – я осторожно задрал голову и посмотрел вверх, – никогда не испытывал за меня чувство стыда.
– Ну все, дед, пока, – помолчав, в заключение сказал я и пожалел, что не захватил чего-нибудь выпить, – скоро встретимся, это я твердо тебе обещаю.
Весь путь назад, трясясь в полупустом автобусе, я рассматривал большую овальную фотографию деда и поражался, до чего он на меня похож. Или, точнее, я на него. Я был уверен, что в военкомате не возникнет подозрений, что это не моя фотография.
А когда автобус уже подъезжал к моей остановке, мне вдруг подумалось, что обещание деду насчет нашей скорой встречи прозвучало как-то двусмысленно. И что, возможно, обещание с моей стороны было слегка опрометчивым.
Возле военкомата не было оживления и у меня сразу возникло подозрение, что здесь что-то не так. Когда эти ребята организовывают массовые шоу типа медосмотров и прочих развлекательных мероприятий, у входа обычно толпится куча курящего и травящего анекдоты народа. Все всеми силами пытаются отдалить момент, когда придется оттягивать трусы и давать щупать свои причиндалы какому-нибудь развратному дядьке в белом халате, или раскрывать рот, отдавая свои зубы на откуп какой-нибудь зубоврачебной тетке, или делать еще что-то неприятное, чего никогда бы не сделал без умелого давления людей в зловещих погонах.
Внутри не оказалось веселее. Военкомат напоминал сонное царство. Большое приемное помещение было заставлено по периметру блоками кресел, какие бывают в кинотеатрах, но сейчас они пустовали. Было занято всего два кресла, в противоположных сторонах зала. На них скучало по парню, которых никак нельзя было назвать общей очередью. Кажется, они пришли по разным вопросам и просто дожидались документов наподобие каких-нибудь выписок из личных дел или чего-то вроде. Один заранее остригся на лысо, у второго были волосы до плеч. Оба без малейшего любопытства бросили на меня по беглому взгляду, затем лысый вернулся к своей газете, второй, со скрещенными на груди руками, просто откинул голову назад и прикрыл глаза. Я не стал их ни о чем спрашивать, просто прошел к коридору с дверьми кабинетов по обе стороны, и, миновав пару из них, остановился перед стеклянной сверху, как приемная в поликлинике или дежурка в милиции, конторкой с военным внутри.
«Прощай, от всех вокзалов поезда уходят в дальние края… прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января», – негромко пел из-за стекла Лещенко.
Лейтенант с красной повязкой дежурного по подразделению и худым лицом хронически недоедающего человека оторвался от какого-то журнала, поднял голову, посмотрел на меня вопросительно.
– Кузин. Александр.
Лейтенант протянул руку, придвинул к себе раскрытую конторскую тетрадь, вгляделся в записи.
– На сегодня не вызывали, – наконец сказал он.
– Я фотографию принес, – сообщил я.
– Зачем?
Я достал из заднего кармана повестку, выложил ее на деревянную, с исцарапанной полировкой, поверхность.
Лейтенант неохотно протянул руку в полукруглое окошечко, подцепил повестку пальцами, вгляделся с брезгливой миной.
– Это не документ, – сквозь зубы процедил он и бросил повестку обратно.
– А что это?
– Липа.
– Не понял.
– Нужно быть более внимательным, – сказал лейтенант. – Там даже печати нет. Достал кто-то бланк, заполнил, бросил тебе в ящик.
– Кто? – тупо спросил я и лейтенант пожал плечами.
– Тебе лучше знать. Наверное, такие же дебилы, как ты. Спросишь потом у своих дружбанов.
Ну, чертов Виталь, – подумал я, а лейтенант, потеряв ко мне интерес, опять уткнулся в свой журнал. Я чуть подался вперед и рассмотрел, что там много ярких картинок, а рассматривает он большую цветную фотографию загорающих на пляже девиц.
Через какое-то время я негромко кашлянул и лейтенант поднял голову.
– Чего еще? – с легким раздражением спросил он.
– А что с фотографией? – спросил я.
– С какой фотографией?
– Ну, в повестке же было про фотографии. И хоть повестка, вы говорите, фальшивая… я ж старался, добывал, чтобы к строку поспеть.
– Ну, оставь, если хочешь, – безразлично сказал лейтенант. Наверное, в стремлении поскорее от меня отвязаться, чтобы вернуться к разглядыванию своих загорающих девиц.
Я выложил перед ним фотографию деда. Секунд десять вытянувший шею лейтенант смотрел на нее, не беря в руки, затем перевел взгляд на меня.
– Что это?
– У меня не нашлось размером три на четыре, – сказал я. – Пока такую вот принес.
– А чья это?
– Моя.
– А почему овальная?
– Ну… я ее с могилы деда на время позаимствовал.
Лейтенант прищурился, захлопнул свой журнал. Затем заложил руки за голову, откинулся на спинку вращающегося кресла и, пристально глядя на меня, слегка повернулся влево-вправо.
«Прощай и ничего не обещай, и ничего не говори; а чтоб понять мою печаль, в пустое небо па-а-асма-а-атри-и-и»…
– Чего, – не выдержав, спросил я.
– С тобой все в порядке?
– В смысле?
– Ну, ты на учете не состоишь?
– На каком еще… – До меня вдруг дошло и я, кажется, слегка покраснел. Во всяком случае, появилось характерное при этом свербящее ощущение в щеках. – Нет, я вашу медкомиссию еще весной прошел. И сейчас на «Текстиле» работаю, а для этого в поликлинике опять по кабинетам пришлось ходить, двести восемьдесят шестую справку получать… Так что у меня все нормально.
– А почему не призвали?
– Отсрочку дали. Осенью в институт поступать буду.
Лейтенант опять крутнулся со скрипом влево-вправо, опять на десяток секунд замолчал, глядя на меня изучающе.
– Значит, ты утверждаешь, что это твоя фотография, – наконец задумчиво сказал он.
– Ну… да. А чья еще.
Лейтенант хмыкнул. А в следующую секунду, словно что-то решив, резко подался вперед и снял трубку одного из телефонов. Затем набрал три цифры – по всей видимости, телефон был местным. Подождал несколько секунд и негромко сказал:
– Ситуация номер три.
Затем положил трубку и опять закинул руки за голову, опять стал смотреть на меня. Пока я думал, что все это значит, где-то в глубине коридора скрипнула дверь, и тихо приблизившийся старший прапорщик с тремя звездами на погонах словно бы невзначай встал за моей спиной. Все это мне как-то не понравилось и я занервничал.
– Товарищ лейтенант… так если все это ошибка и повестку мне не присылали, может, я тогда пойду? – Он ничего не ответил и я неуверенно добавил: – Мне на работу пора.
В доказательство я поднял руку, показывая часы, которые неожиданно вызвали у него интерес.
– Ты все время носишь часы без стекла?
– Ну, не то что бы… В последнее время только. А что.
Я покосился на дюжего прапорщика за спиной, обнаружил, что тот делает лейтенанту какие-то знаки, и занервничал еще больше. Затем опять перевел взгляд на лейтенанта, а тот посмотрел мне за спину и едва заметно кивнул. У меня появились нехорошие предчувствия.
Лейтенант опять раз снял трубку, опять набрал номер.
– Еще одного. Клиент слишком здоровый. Вдруг начнет буянить.
– Спасибо… – зачем-то сказал я, разворачиваясь к выходу. – Ну так я пошел?
– А чего ходить, – сказал лейтенант, вставая и направляясь к выходу из конторки. – Сейчас тебя отвезут.
Скрипнула еще одна дверь и прямо по моему курсу, отрезая отход, нарисовался второй дюжий прапорщик.
– Молодой человек… задержитесь-ка, пожалуйста, на минуточку.
«Ты помнишь, плыли в вышине и вдруг погасли две звезды… но лишь теперь понятно мне, что это были я и ты»…
– Простите… мне это… ну, некогда… я на работу опаздываю!
Я ринулся вперед и смел перегородившего дорогу прапорщика толчком плеча, сзади раздался топот, в меня вцепились сильные руки, затрещала моя новая майка, я, не глядя, наотмашь ударил кулаком куда-то назад, что-то негромко хрустнуло, меня отпустили, кто-то болезненно охнул, а я пробежал через приемный зал и, уже оттягивая тяжеленную дубовую створку на себя, наконец рискнул обернуться.
Двое, лысый и патлатый, испуганно вскочили и смотрели на меня во все глаза. Лысый уронил под ноги свою газету и имел бледный вид. Прапорщик, недавно стоявший у меня за спиной, переломился пополам, прижимая к носу ладонь, из-под которой бурно текла кровь, а лейтенант застрял на выходе из коридора, пытаясь переступить второго прапорщика, которого я сшиб плечом – тот пытался подняться, матерился, и только мешал дежурному. Кажется, в падении он подвернул ногу.
«Лай-ла, ла-ла-ла ла-ла-ла ла-ла-а-а, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-а-а-а»…
Я так быстро побежал по улице, что оказался на расстоянии пары десятков метров от военкомата, прежде чем сзади тяжело бухнула притянутая мощной пружиной дверь…
Отойдя от проходной и завернув за угол, я увидел собравшуюся перед столовой толпу. Возле входа стояли несколько желто-синих «бобиков», всюду сновали милиционеры, а народ, размахивая руками, возбужденно что-то обсуждал. Два милиционера держали на поводках овчарок, которые, единственные из собравшихся, вели себя индифферентно – они просто сидели на попах и часто дышали, вывалив наружу длинные розовые языки.
Посмотрев на часы, я поколебался и пошел дальше.
– Чего там такое? – спросила идущая мне навстречу ткачиха, тетка лет сорока с двумя передними гнилыми зубами, но я только пожал плечами и прибавил шагу. Опаздывал я уже на час и для начала следовало бы отметиться в цеху.
– Привет, – сказал Викентьич, когда я ввалился в его каптерку, чтобы объяснить, почему явился позже. Он не поленился подняться, чтобы пожать мне руку, и так и остался стоять, разглядывая меня с ног до головы. – Неплохо прибарахлился, – в итоге резюмировал он.
– Так ведь зарплата нормальная, – сказал я. – Слушай, мне что сегодня делать? Продолжать точить прутки?
– А сколько ты уже наточил?
– Пятьдесят примерно.
– А сколько осталось?
– Тоже примерно пятьдесят.
– То есть ты за неделю наточил пятьдесят прутков?
Я пожал плечами.
– Ну так это… Так ведь отрывают все время. То ворота, то еще что-то. У нас же тут постоянно что-нибудь происходит.
– Это точно, – сказал Викентьич.
– Вон, перед столовой толпа работяг собралась, и ментов целая куча. Значит, и там какая-то фигня случилась.
– Ментов?
Уже собравшийся присесть Викентьич вернулся ко мне.
– Ну да.
– Перед столовой?
– Ну да.
– Выходит, столовские все же не захотели то дело замять… – пробормотал Викентьич и я только сейчас вспомнил, что произошло в столовой в пятницу, перед получением зарплаты. Казалось, это было уже давно, сто лет назад. – Ладно. Придется пойти разведать, что там и как. Начальник цеха как раз по делам отъехал, так что я за старшего, выходит, остался. Если столовские решили всех собак на нас повесить, буду хотя бы в курсе.
– А можно я с тобой? – спросил я, выйдя за Викентьичем.
– А ты почему опоздал вообще? – Он закрыл дверь и отмахнулся от подошедшего токаря: – Слушай, Семеныч, если у тебя ничего сверхважного, давай через полчасика, лады? У меня дел по горло.
– По горло… – пробурчал сутулый носатый мужичонка, – а мы, конечно, так, лясы точим… у нас, конечно, не дела, а так, делишки…
– Да в военкомат вызывали, – сказал я, пристраиваясь за быстро идущим Викентьичем и думая, стоит ли показывать ему ту дурацкую повестку без военкоматского штампа, которую я догадался на всякий случай забрать перед бегством.
– И что?
Викентьич остановился возле аппарата газводы, нажал кнопку.
– Да фигня, – сказал я, глядя, как он пьет, – они там просто напутали что-то, у меня же отсрочка… Викентьич, подожди, а?
Я тоже налил себе стакан вожделенной шипучки, а Викентьич стоял, нетерпеливо переминаясь, и тоже смотрел, как я пью.
– Ладно, тогда и я еще стакашок…
Мы выпили по пять стаканов и, чтобы не идти через ремонтников, вышли на улицу через ворота. Было непривычно видеть, что они стоят на месте, целые и невредимые, не считая многочисленных выбоин в бетонной стене и заделанных сквозных ран в самих деревянных створках.
– Надо же… – сказал, озабоченно нахмурившись, Викентьич, когда мы вышли на ведущую к столовой прямую. – Утром шел, никого еще не было. Значит, милицию совсем недавно вызвали.
– Угу… – пробормотал я, думая про этот чертов военкомат. Интересно, успел ли лейтенант запомнить мои данные. То, что я исхитрился в последний момент схватить повестку, это, конечно, здорово, но если у дежурного хорошая память…
Мы с Викентьичем подошли к толпе и остановились, оценивая обстановку. Народ образовал неровный полукруг, такой огромный серп, охвативший пространство перед крыльцом столовой, а дальше не пускали вставшие в оцепление милиционеры.
«Прощай, от всех вокзалов поезда уходят в дальние края; прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января», – доносился из открытого окна столовой голос Лещенко.
– Ладно… – Викентьич тяжко вздохнул и я понял, до какой степени ему не хотелось связываться с ментами, – чего так стоять… – Он пробрался сквозь толпу и вышел на невысокого, с рябым лицом рыжего сержанта. Я хвостом протиснулся за ним. – Можно узнать, что здесь происходит?
Сержант уставился на него бесцветными прозрачными глазами, поморщился и секунд десять молчал, давая понять, как он относится к таким любопытствующим.
– А можно сначала узнать, какое вам до этого дело, – наконец процедил он. – Вы кто вообще такой?
– Мастер ремонтно-механического. – Викентьич через плечо ткнул большим пальцем за спину. – Викентьев Александр.
– Рад знакомству, – опять процедил мент. – И что?
– Ну как… – Викентьич набрал в грудь воздуха. – В отсутствие начальника цеха я старший. – И замолчал, кажется, не зная, что еще сказать.
– И?
– Просто хочу знать, что тут происходит. Не касается ли это каким-то боком моего цеха.
Рябой молчал секунд двадцать, потом неохотно сказал:
– Кассу вашу обчистили, вот что происходит. Так что, лучше, чтобы твоего цеха это никаким боком не коснулось.
– А… когда это произошло?
Рябой опять секунд десять молчал с недовольным видом, наверное, решая, стоит ли отвечать.
– В пятницу, – наконец сказал он.
– А почему ваших вызвали только сегодня?
Рябой пожал было плечами, но, спохватившись, насупил брови и пронзил Викентьича суровым взглядом, наверное, считая, что выглядит очень грозно.
– Это закрытая информация, – бросил он и отвернулся, давая понять, что разговор окончен.
– Во дела, – сказал Викентьич уже мне, а я вдруг рассмотрел на противоположном конце людского серпа Тамарку. Из-за толкучки видна была только половина ее загорелого организма, одна рука и одна нога, но и этого оказалось достаточно, чтобы мое сердце забилось чаще, а внизу живота прокатилась приятная волна. Она смеялась и разговаривала с кем-то, кого загораживал высокий мужик в малярной спецовке. Похоже, там стояла Наташка. Виднелся только краешек ее светлой юбки или платья, а моя была в темном платье выше колен. – Ну, а ты чего притих?
– А чего говорить… – Я приподнялся на цыпочки и вытянул шею. Затем помахал рукой, но Тамарка была слишком увлечена разговором и не смотрела по сторонам. – Слушай, ты еще хочешь познакомиться с Наташкой?
– С какой Наташкой?
Викентьич покосился на меня, уловил, куда я смотрю, и тоже вытянул шею.
– Ну, той блондинкой, подругой Тамарки.
– Конечно, – сказал после паузы Викентьич, когда до него дошло, о чем и о ком идет речь. – Только почему ты спрашиваешь, словно и впрямь можешь организовать…
– Давай тогда за мной, – не дослушав, сказал я и принялся выбираться из толпы.
Потом обернулся и обнаружил, что Викентьич стоит на месте и смотрит мне вслед. Наверное, не поверил.
Я обошел полукольцо, опять втиснулся в толпу, пробрался ближе к Тамаре, которая действительно была со своей неразлучной подругой. У обеих через плечо висели сумочки, наверное, девчонки из любопытства примчались сразу сюда, не заходя в свой отдел кадров. Я уже хотел тронуть Тамару за плечо, но передумал. Она была совсем близко, стояла спиной ко мне, и я, наконец, получил возможность беспрепятственно ее разглядеть. Я и разглядывал, пока Наташа не обернулась и не заметила меня. Разумеется, я в этот момент как раз пялился на Тамаркины ноги. Она опять была на высоких каблуках, в своих черных лодочках.
Не сводя с меня глаз, Наташа коснулась подруги локтем.
– Томка, осторожно, тут сексуальные маньяки объявились.
Тамара резко обернулась, увидела меня и едва сумела сдержать улыбку. Ну а я, видя это, не стал сдерживаться и, конечно, расплылся в дебильной, от уха до уха.
– Привет, – сказал я.
– А почему маньяки? – с любопытством спросила Тамара.
– А знаешь, что наш культурист у тебя за спиной делал?
Тамара, глядя на меня, прищурилась.
– Х-м. Интересно.
Наташа приблизила к ней голову и прошептала что-то на ухо. Тамара хихикнула, а ее щеки едва заметно порозовели.
– Э, э! – запротестовал я. – Ты ее меньше слушай!
– Хорошо, изложи свою версию, – великодушно разрешила Тамара.
– Я это… ну, смотрел просто.
– Куда?
– Ну… на туфли твои.
– И как, понравились?
– Еще бы!
– А, так он модельер, – сказала Наташа, а Тамара на сей раз не стала сдерживать улыбку, – я просто не поняла сразу. Ну да, видишь, как человек приоделся… Фасон сам разработал?
– А че, – сказал я. Потом обратил внимание, куда смотрит Наташа, опустил голову и обнаружил, что под левым рукавом майка разошлась по шву.
– Ч-черт… – пробормотал я. – Это в военкомате.
– Поняла, Тамарка? В военкомате, оказывается, призывникам первым делом майки рвут. Наверное, чтобы, прибыв на фронт, они сразу вписались в антураж.
Тамара опять улыбнулась.
Они смотрели на меня выжидающе, а я не знал, что сказать.
– Ага, – сказала Наташа, – ну то есть так и будем молчать. Для того и подошли. Я поняла.
– Нет, почему, – сказал я.
Они продолжали на меня смотреть.
– Итак… – подбодрила меня Наташа, – ты хотел сказать девушкам, что…
– Вон там Викентьич, – сказал я.
– А, точно! Как я могла забыть про своего жениха. И где он?
Бойкая на язык Наташа продолжала беззаботно щебетать, но чувствовалось, что девица слегка напряглась. Она полезла в сумочку, достала зеркальце и бросила в него быстрый проверочный взгляд. Я поискал Викентьича глазами, обнаружил, что он с отвисшей челюстью пялится на нас, и помахал ему рукой, подзывая. Викентьич не пошевелился.
– Вон он, плечистый такой, в темной спецовке.
– Испугался тебя жених-то, а, Наташка… – со смехом прокомментировала Тамара. Потом перевела взгляд на меня и опять прищурилась. – Или ты все насочинял?
– Нет, что ты, – сказал я. И посмотрел на Наташу. – Может, сама попробуешь?
– Л-ладно…
Наташа спрятала зеркальце, подняла руку и поманила Викентьича наманикюренным пальчиком. Он неуверенно огляделся, потом опять посмотрел на нас.
– Ты, ты, кто ж еще, – тихо сказала Наташа и опять поманила его к себе.
Викентьич приосанился, выбрался из толпы и порысил в нашу сторону, поправляя на ходу рабочую куртку.
– Ну, здрасьте, – сказала Наташа. Пару секунд они с Тамарой разглядывали застывшего перед нами Викентьича, потом переглянулись. – Кажется, немой, – сказала Наташа и кивнула на меня. – Точь-в-точь как твой.
– А чего мой, – сказала Тамара и у меня в животе опять пробежала теплая волна от ее тона и в особенности от этого ее «мой».
– Нет, ну твой-то, оказывается, просто прикидывался, потом вроде удалось его слегка разговорить. А этот… Эй, мужчина! – Наташа подняла руку и дважды щелкнула пальцами перед носом пялящегося на нее Викентьича. – Вы как, в порядке? Не хотите представиться?
Викентьич сглотнул.
– Конечно, – сказал он. – Саша. Ну, Александр, то есть.
– Где-то я такое уже слышала, – задумчиво сказала Наташа. Она посмотрела на меня, Тамара сделала то же и тихо прыснула. – А вы правда хотите со мной познакомиться или меня неверно проинформировали?
– Да, – торопливо сказал наконец очнувшийся Викентьич, – правда. Хочу. Очень даже.
– Н-ну ладно… Наташа, – представилась Наташа и церемонно протянула ему руку тыльной стороной ладони вверх, как бы для поцелуя.
– Я знаю, – сказал Викентьич. Он тоже протянул руку и осторожно сжал ее маленькую кисть своей, широкой и мощной, а девчонки, переглянувшись, рассмеялись. – Я что-то не то сказал? – спросил порозовевший Викентьич.
– Да нет, – сказала Наташа. – Просто мы и это уже где-то слышали.
Она опять посмотрела на Тамару, потом подруги одновременно посмотрели на меня и прыснули вновь.
– Ладно, – наконец сказала Наташа, – что-то мы много смеемся, ребята и девчата. Это может плохо закончиться.
– А что может произойти? – спросил я.
– Ну… – Наташа пожала плечиками, – не знаю. Заберут, к примеру, в милицию, вот что.
– Скажете тоже, – сказал Викентьич. – За что же вас…
– А вас, значит, есть за что? – тут же спросила Наташа, прищурившись.
– Да нет, что вы… – пробормотал сраженный ее непосредственностью Викентьич. Он смотрел на Наташу во все глаза, совсем как я на Тамару, и видно было, он просто в восторге, что нравящаяся ему девица оказалась такой бойкой.
А та предложила:
– И давай лучше на «ты», если возражений не имеется.
– Да какие возражения, с чего бы.
– Вот и чудненько. Твой друг столько о тебе рассказывал, что мне уже кажется, будто я сто лет тебя знаю.
Викентьич выразительно на меня посмотрел, едва заметно качнул сжатым кулаком, и я буркнул:
– Да слушай ты ее больше.
– Наташ, может, пойдем, – внезапно сказала Тамара, посмотрев на маленькие наручные часики. – Там наш Аркадьевич, наверное, уже рвет и мечет.
– Да, пора, – озабоченно согласилась Наташа. – Ой, смотрите!
Мы все одновременно повернулись и увидели, что из дверей столовой выбегают две служебные собаки, таща за собой на поводках двух милиционеров с сержантскими лычками. Кажется, пока мы беззаботно болтали, тут вовсю развернулись оперативно-следственные действия.
– Ой! – вскрикнул женский голос, когда собаки добежали до толпы. – А они не кусаются?
Народ опасливо попятился. Собаки оторвали носы от асфальта и повернулись к хозяевам. Одна негромко выдала прерывистый скулящий звук.
– Я же говорил! – громко сказал, повернувшись к появившемуся на крыльце сутулому капитану с залысинами, один из сержантов. – Затоптали тут все давно!
– Ничего, пусть они тогда просто всех тут проверят, – бросил капитан, доставая из кармана сигаретную пачку. Пока он прикуривал, кое-кто из народа начал расходиться, и заметивший это капитан нехорошо усмехнулся. Он выпустил дым и крикнул: – Просьба всем оставаться на местах!
– А с чего это мы должны…
– А с того, – сказал, спустившись с крыльца, капитан. Он неспешно пошел вдоль внутренней стороны людского серпа, вглядываясь в лица. – Всех вас только что было не отогнать, до того вам все здесь было интересно… Теперь же вас приходится удерживать… – Он затянулся, опять выпустил дым. – С чего бы это?
– Работать пора, вот с чего, – буркнул кто-то.
Народ загомонил, забурлил, а капитан, не обращая внимания на недовольные реплики, крикнул своим:
– Обеспечить выполнение! Пока собаки не проверят, никого не отпускать!
Милиционеры переместились на внешнюю сторону серпа. Если раньше они не подпускали любопытствующий народ к крыльцу, то сейчас, напротив, не давали ему рассеяться по территории.
– Ничего, это ненадолго! – крикнул капитан, а Наташа жалобно сказала:
– Я так и знала… Влипли, короче.
Тамара опять вскинула руку, озабоченно посмотрела на часики и подтвердила:
– Теперь Аркадьич нас точно прибьет.
Я хотел сказать что-то успокаивающее, но промолчал. Только посмотрел на ее изящное запястье.
Однако капитан не соврал, все не заняло много времени. Собаки, с которыми сержанты зашли с двух сторон, навстречу друг другу, довольно быстро бежали, с виду не слишком рьяно принюхиваясь к толпе, пока не встретились в точке, где мы стояли. Тут они остановились, синхронно повернули морды в нашу сторону и почти так же синхронно коротко гавкнули.
– Чего это они… – пискнула Наташа, а толпа быстро расступилась, давая возможность сержантам пробраться к нам.
– Ой… мамочки… – прошептала Тамара, – я боюсь…
Она нервно покрутила головой, словно оглядываясь в поисках защиты, остановила взгляд на мне и я, разумеется, тут же вышел вперед, чтобы огородить свою девчонку от притязаний наглых собак. Рядом решительно встал Викентьич.
– Товарищ капитан! – крикнул один из сержантов, невысокий крепыш с черными щегольскими усами. – Есть!
Капитан поискал глазами мусорное ведро, не нашел и бросил окурок на асфальт. Придавил его подошвой и, выпуская последнюю струйку дыма, пошел в нашу сторону. Вокруг нашей четверки уже давно образовалась пустота, а учитывая, что сержанты и их собаки стояли неподвижно и неотрывно смотрели на нас, со стороны это, наверное, смахивало на взятых под конвой преступников.
– Уверены? – спросил, приблизившись, капитан.
Долговязый белобрысый сержант, противоположность чернявого крепыша, нагнулся к своей овчарке и негромко ей что-то сказал. Секундой позже то же проделал и чернявый.
Псы протрусили пару метров вперед, уселись перед нами и задрали морды.
– Гав! – сказал, глядя на нас, первый.
– Гав! – подтвердил второй.
– Уверены, товарищ капитан! – подытожил чернявый.
– Предъявите к осмотру все, что находится в ваших карманах и сумочках, – потребовал, подойдя к нашей четверке, капитан.
– Это с какой стати, – поинтересовалась опомнившаяся Наташа.
– Да. С чего это вдруг, – поддакнул Викентьич, чем заработал ее поощрительный взгляд и, вдохновленный, еще шире расправил плечи.
– А с такой стати, что я попросил, – сказал капитан. – Заметьте – попросил… пока. А можно сделать и по-другому. Можно посадить вас в наш транспорт, – он мимолетно мотнул головой в сторону «бобиков», – отвезти в отделение и устроить настоящий досмотр с раздеванием и раздвиганием ягодиц.
Перепугавшиеся девчонки переглянулись. Мы с Викентьичем тоже.
– То есть нам предъявить сумочки? – сказала Наташа.
– Их содержимое, – кивнув, уточнил капитан.
– Ладно… – Наташа расстегнула сумочку и протянула ее капитану.
Тамара, помедлив, проделала то же.
– Что это за деньги, сколько их? – спросил капитан, заглянув в сумочку Наташи. Руками он ничего не трогал. Потом заглянул в распахнутую сумочку Тамары и поднял на нее взгляд. – Адресую те же вопросы вам, гражданочка… Но прежде всего обе своими руками достали деньги и положили в… – он оглянулся, поискал кого-то взглядом, – Терентьев, пакеты для вещдоков, быстро!
Девчонки опять переглянулись, потом почему-то посмотрели на меня. Я ничего не понял и на всякий случай посмотрел на Викентьича.
– Сто пятьдесят рублей, – сказала Наташа, доставая пачку трехрублевок. – Куда их?
К нам подошел прыщавый лейтенант, протянул Наташе бумажный пакет.
– Кладите.
Наташа стала запихивать деньги в пакет и я заметил, что у нее дрожат руки.
– А вы сюда.
Пальцы Тамары тоже подрагивали. На двух подруг смотрели все фабричные зеваки и лица девчонок были пунцовыми от стыда.
– Тоже сто пятьдесят, – дрожащим голосом сказала Тамара, когда сообразила, почему на нее выразительно смотрит капитан.
– Откуда у вас эти деньги? – отработанным устало-казенным голосом спросил он.
– Вот, этот крендель нам их дал… кавалер ее, – сказала Наташа, посмотрев на меня с негодованием.
– Какой он мне кавалер, – сказала Тамара и ее взгляд тоже не сулил мне ничего хорошего. – Позавчера только познакомились.
Внимание капитана переключилось на меня.
– Чего стоим, юноша? – почти весело спросил он.
– А… чего.
– Карманы выворачиваем, вот чего.
Я нехотя полез в свои новые штаны, достал из кармана пачку пятирублевок и прыщавый тут же подсунул мне свободный бумажный пакет.
– Не забываем надписывать пакеты, товарищ лейтенант, – еще веселее сказал капитан, по всей видимости не ожидавший, что дело об ограблении фабричной кассы будет раскрыто так быстро.
– Диктуйте ваши личные данные, – сказал прыщавый не верящим в происходящее девчонкам. – Паспорта имеются?
– А мы дожидаемся особого распоряжения? – одновременно сказал капитан Викентьичу.
Тот полез в карман спецовки и извлек тощую пачку десятирублевок.
– Куда их… – буркнул он.
– Значит, вы получили эти деньги от него, – ткнув в меня пальцем, сказал капитан диктующим свои данные девчонкам. Те кивнули, опять одарив меня выразительными взглядами. – А где эти деньги взяли вы, юноша?
– Заработал, – сказал я.
– На Дальнем Севере? – ехидно поинтересовался капитан.
– Почему. Здесь, на «Текстиле».
– И сколько здесь нужно отработать, чтобы столько получить?
– Неделю, – сказал я.
– Ого! – с притворным воодушевлением сказал капитан. Он уже явно работал на толпу, которая изменила конфигурацию, преобразовавшись из почти идеального серпа в беспорядочное скопище вокруг нас. Народ гудел, комментируя происходящее. Большинство реплик отпускалось в адрес Тамары и Наташи, с лиц которых не сходила краска. По сторонам они старались не смотреть, тем более что многие из женщин взялись нарочито громко обсуждать их телесные достоинства, увязывая внешность девчонок с будто бы совершенным ими. – Мне, что ли, к вам устроиться…
Внезапно послышалось тарахтенье автомобильного двигателя и со стороны проходной, из-за угла первого ткацкого, быстро выехал «бобик» защитного цвета. В несколько секунд домчавшись до людского скопления, он резко скинул скорость и, пронзительно визжа покрышками, затормозил.
– Эй, народ! – раскрыв боковую правую дверь, гундосо крикнул здоровенный военный с тремя звездочками на почти генеральских погонах, у которого вместо носа было сооружение, похожее на облепленную белым пластырем картофелину. – Где здесь ремонтно-механический?
Все повернули головы в сторону машины, лейтенант прекратил записывать на пакетах данные Тамары и Наташи, а старший прапорщик, приглядевшись, внезапно заорал, повернувшись к сидящему за рулем лейтенанту:
– Самойлов, да вот же он!
Возбужденный здоровяк выскочил из машины, а секундой позже из левой двери выбрался лейтенант в кителе, которого я опознал как сегодняшнего дежурного из военкомата, только уже без повязки на руке. И только тогда до меня дошло, что здоровяк – это тот самый прапорщик, которому я пару часов назад случайно заехал по носу.
– В чем дело, товарищи военные, – спросил, нахмурившись, капитан, а старший прапорщик изо всех сил долбанул кулаком по корпусу кузова, после чего задняя дверь распахнулась и оттуда выскочили еще два прапорщика с автоматами Калашникова наперевес.
– Лейтенант Самойлов, – козырнул, подойдя к нему, лейтенант. – Мы за этим вот товарищем, – он бегло кивнул на меня, – который обвиняется в нападении на сотрудников военкомата. – И кивнул теперь на старшего прапорщика, который как бы в подтверждение его слов осторожно дотронулся двумя пальцами до белой картофелины на лице с красными кровоподтеками вокруг таких же красных злых глаз.
Тамара с Наташей и Викентьичем ошарашенно уставились на меня, потом на меня посмотрел капитан, а фабричный народ загомонил в полный голос. Даже сидящие в паре метров от нас овчарки, контролирующие каждое наше движение, издали негромкое, похожее на сдержанное удивление, урчание.
«Прощай, уже вдали встает заря и день приходит в города… прощай, под белым небом января мы расстаемся навсегда»… – приятным баритоном утверждал Лещенко из столовой.
– Капитан Сергеев, – представился в свою очередь капитан и, не скрывая усмешки, сказал: – Прости, лейтенант, но ты опоздал. Этот товарищ только что задержан мной по подозрению в ограблении фабричной кассы. Так что военные на сегодня в пролете.
– Ни хрена себе! – прогундосил старший прапорщик, в то время как лейтенант лишь раскрыл в безмолвном удивлении рот.
Затем он обернулся на своих с автоматами, которые те уже закинули на плечо, и перевел взгляд на собак, словно прикидывая шансы военных на случай возможного столкновения с конкурирующей организацией. Собаки словно почувствовали что-то – они пошевелили ушами и заурчали теперь предостерегающее.
– Нам нужно посовещаться, – после напряженной паузы сказал лейтенант.
Капитан опять усмехнулся и пожал плечами, а лейтенант со старшим прапорщиком отошли и стали негромко переговариваться, изредка недобро поглядывая на меня. Прапорщики с автоматами остались на месте, как бы взяв меня под охрану.
– Это правда? – спросил Викентьич.
– Что правда?
– Ну, про военкомат и… – он замялся, – про кассу.
– Ну, был я сегодня в военкомате, я тебе говорил уже, – сказал я. Викентьич продолжал смотреть вопросительно и я нехотя добавил: – Ну, задел там одного плечом. Случайно. – Викентьич хмыкнул и покосился на старшего прапорщика. – А про кассу… ты же сам слышал, ее в пятницу грабанули. А в пятницу мы с тобой вместе деньги получали. Потом в цех пошли.
– Ладно, – сказал Викентьич и на всякий случай пронзил меня острым взглядом, совсем как недавно пронзил его самого тот рябой мент. – Хотя и неизвестно, может кассу вообще ночью обчистили.
– Короче, наш пострел везде поспел, – насмешливо сказала Наташа, но я пропустил ее реплику мимо ушей. Конечно, меня больше интересовала реакция Тамары.
Кажется, девчонки более-менее пришли в себя и сейчас с любопытством прислушивались к нашему разговору.
– Тамара, я ничего такого, ты не думай, – сказал я, но она только фыркнула. Потом пожала плечиками и отвернулась, задрав подбородок. Я хотел добавить кое-что еще, но тут вернулся вояка.
– Ладно, капитан, – с плохо скрываемым неудовольствием сказал лейтенант и метнул в меня неприязненный взгляд, – мы отчаливаем. Я доложу о сложившейся ситуации своему руководству, наши с вашими созвонятся.
– Удачной службы, лейтенант, – язвительно сказал капитан, покосившись на старшего прапорщика, который не сводил с меня злобного взгляда. – Звоните, конечно. Не забывайте нас.
Тут к толпе подрулил начальник отдела кадров. Он сразу высмотрел своих девчонок и направился к нам.
– Тамара, Наташа, вы что творите! – начал он еще издалека, но стоило ему приблизиться, как собаки синхронно повернули к нему головы и зарычали. Начальник остановился, словно наткнулся на невидимую стену, и снизил обороты. – Девочки, у нас работы выше крыши, а вы тут… – опасливо косясь на собак, продолжил он, – короче, хватит любопытничать. Немедленно идите к себе и…
– Павел Аркадьевич, нас арестовали! – жалобным голосом перебила его Тамара. – Скажите им, пожалуйста, что мы ни в чем не виноваты!
Кадровик опешил. Он хотел сделать шаг вперед, но вовремя вспомнил про собак.
– К-как арестовали… – пробормотал он и уставился на капитана.
– Девушка ошибается, – с преувеличенной любезностью сказал тот. – Могу сообщить, что ваши сотрудницы всего лишь задержаны по подозрению в причастности к ограблению.
– Ограблению… – У кадровика запотели очки. Он пошарил в кармане пиджака, достал носовой платок и принялся протирать стекла. Было видно, как подрагивают его руки. Протерев очки, он тем же платком провел по блестящим залысинам, потом уставился на капитана. – Мои работницы, они… очень ответственные девушки… и я уверен, что они никак не могут иметь отношение к… – Очки тут же запотели опять. – Вы… вы только посмотрите на них. Разве могут такие…
Капитан уставился на наших с Викентьичем девчонок. Наташу он оглядел с видимым удовольствием, но довольно бегло. Потом переключился на Тамару, внимательно осмотрел ее фигуру и остановил взгляд на ногах. Все менты, включая собак, тоже уставились на нее. Тамарка зарделась, фыркнула и в своей коронной манере задрала подбородок.
– Разве могут такие… – растерянно повторил кадровик.
– Не знаю, не знаю… – задумчиво пробормотал капитан, продолжая изучать загорелые Тамаркины ноги, и тут что-то началось.
Все изменилось. Я не понял, что конкретно, но почувствовал, что все вокруг стало каким-то не таким. Воздух стал… хотя нет, воздух оставался тем же. Так же светило солнце. Продолжал урчать движок военкоматского бобика. В общем, все вроде было по-прежнему, и одновременно все было каким-то не таким. По моему телу пробежала легкая вибрация или мне это показалось. Потом все звуки стали совсем тихими или это мне тоже показалось. Потом все вокруг раздвоилось и через мгновение опять обрело резкость. Потом…
Потом я заметил, что все вокруг странно напряглись, разговоры оборвались, а собаки заскулили.
– Я вижу, до вас не доходит, что вам говорят, – сказал начальник отдела кадров. Начав фразу на слегка повышенных тонах, к концу ее он уже перешел на крик. – И вы категорически отказываетесь понимать, что перед вами две мои лучшие сотрудницы, у которых самые красивые ноги на фабрике! И я хочу иметь возможность любоваться ими в любой момент, когда возникнет такая потребность… и поэтому они должны сидеть у меня в отделе кадров, а не торчать на площади перед столовой, будучи арестованными каким-то усатым ушлепком в погонах, который изображает тут из себя комиссара Мегре и… – Он запустил руку в боковой карман пиджака, она тут же вернулась назад с ножом, раздался упругий металлический щелчок, сталь коротко сверкнула на солнце… – Короче, получи, сука! – Павел Аркадьевич сделал широкий шаг вперед и с маху ударил капитана в левый бок.
«Лай-ла, ла-ла-ла ла-ла-ла ла-ла-а-а, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-а-а-а», – подбавил Лещенко децибелов, а девицы из бэк-вокала поддержали припев приятными высокими голосами.
Капитан болезненно ойкнул, попытался оттолкнуть багрового от ярости кадровика, но тот стоял несокрушимый как статуя, навечно влитая в пыльный асфальт. Тишина скачкообразно сгустилась, а кадровик движением человека, заворачивающего отверткой шуруп, провернул нож по часовой стрелке и прошипел:
– Сдохни, мусор…
За спиной капитана раздался пронзительный женский визг.
– У-би-ли-и-и! – одновременно закричала дородная ткачиха с другой стороны и все внезапно пришло в движение, словно народ только и дожидался сигнала двух истеричных дур.
– Нападение на сотрудника! – закричал рябой сержант, недавно компостировавший Викентьичу мозги. Он таращился на своего начальника во все глаза и лихорадочно рылся в карманах, а капитан, опустив голову, недоверчиво смотрел, как из раны, пропитывая прорезанный китель, бурно течет кровь.
Кадровик отскочил и приготовился к обороне, выставив перед собой окровавленный нож, а сержант наконец вытащил что-то из кармана, поднес это к губам и площадь перед столовой заполонил резкий звук милицейского свистка.
– Бей ментов! – заорал кряжистый мужик в промасленной брезентовой робе.
Он размахнулся и влепил стоящему рядом сержанту такую оплеуху, что тот упал и натурально покатился, как делают, веселя зрителей, клоуны в цирке.
– Фас! – в унисон заорали два сержанта, так же в унисон нагибаясь и отцепляя поводки, но овчарки распластались на асфальте, прижали к черепам уши и жалобно заскулили, отказываясь подчиниться.
Капитан стоял, зажимая ладонью рану, и беззвучно раскрывал и закрывал рот, а сзади хлопнула дверь военкоматского «бобика», из него опять высыпали вояки, один из прапорщиков сорвал с плеча автомат и дал в воздух длинную очередь, от которой у меня заложило уши.
После этого все стали бить всех. Ткачихи дрались между собой, складские набросились на наших, маляры метелили конторских, а из столовой выскочили поварихи и стали бить всех, кто попадался под руку.
Через минуту на площади стало совсем жарко. Повсюду валялись выбитые зубы, трещала рвущаяся одежда и хрустели ломающиеся кости, все кричали, молотили руками и ногами, рычали, хрипели, кусались, катались по земле, а военкоматские наконец отстреляли свои рожки и выстрелы прекратились.
Капитан уже оклемался. Забыв про рану, он пробивался в самую гущу, к кадровику, который разил своим ножом всех, кто попадался под руку; собаки, не поднимаясь на лапы, отползли в сторону и спрятались в ровно остриженных кустах, полукольцом обрамляющих цветочную клумбу, в воздухе пахло сгоревшим порохом, всюду брызгала кровь, а я неожиданно обнаружил себя на каком-то мужике с багровым от натуги лицом, который хрипел, пытаясь сорвать со своего горла мои руки.
Вспомнив о Тамарке, я бросил мужика, вскочил и с разбега врезался головой в толпу, протаранивая себе дорогу. Меня тут же сшибли наземь, я получил пару ударов ногами по корпусу, вскочил, сам уронил кого-то и тоже врезал ему пару раз ногой, меня сшибли опять, я опять вскочил, опять сшиб кого-то, опять упал, получив сзади по голове чем-то твердым, и, наконец, додумался, что целесообразней не вставать.
Около минуты я бегал на четвереньках в гуще дерущихся, пока наконец не заметил между мельтешащих тел платье Наташки. Та сцепилась с дородной ткачихой и сейчас они катались, азартно вырывая друг у дружки волосы и кусаясь. Я проворно проскользнул между чьих-то мощных ног, увернулся от удара растоптанной сандалии, повалил складского бородача, рванув его за щиколотки, вскочил и наконец увидел Тамарку в изодранном платье. По сути, это было уже не платье, а распахнутый спереди халат. Наш здоровяк сварной повалил ее на землю, навалился сверху и тискал повсюду, а Тамарка, извиваясь как змея, визжала и царапалась, пытаясь заехать ему коленкой межу ног.
Я оттолкнул мента, китель которого превратился в безрукавку, влепил увесистую пощечину налетевшей на меня ткачихе, увернулся от чьего-то кулака и, наконец, добрался до своей попавшей в затруднительное положение красавицы. Пнул сварщика ногой в бок, потом дважды со всего размаха саданул его кулаком по спине и голове, но он не только не обратил на это ни малейшего внимания, но усилил натиск, и я увидел, что ему вот-вот удастся стянуть с Тамарки трусы. Тут мне посчастливилось подобрать окровавленную короткую палку и в следующий миг я двумя точными ударами просто проломил ему башку.
– Вставай… – кое-как столкнув тяжеленное тело наглеца со своей девушки, сказал я. Потом протянул ей руку и стоял, тяжело и хрипло дыша, пока Тамарка не вскочила и не набросилась на меня как фурия. Вцепившись когтями мне в лицо, она едва не выцарапала мне глаза, которые моментально залило кровью из располосованных век.
Я не глядя махнул кулаком перед собой, попал во что-то твердое, что податливо хрустнуло под костяшками пальцев, а в следующий миг послышался короткий стон и за ним негодующий Тамаркин вскрик:
– Ты мне нос сломал, подонок!
Со всех сторон на меня сыпались пинки и удары, а я не глядя отмахивался руками, пока, наконец, не удалось открыть глаза и проморгаться. Тамарки уже нигде не было видно, зато в стороне я заметил Викентьича, на которого насели сразу двое складских. У одного была разбита голова, у второго рука неестественно выгнулась в локте, но мерзавцы уверенно теснили мастера в сторону двух ловко орудующих примкнутыми штыками вояк, вокруг которых валялось с десяток окровавленных тел.
– Викентьич, держись! – закричал я, начал пробиваться к нему и вдруг очнулся.
То есть, так мне почему-то подумалось, что я очнулся. На самом деле я просто обнаружил себя на площади перед столовой и не сразу сообразил, зачем я здесь и откуда тут взялась странная, жестоко побитая толпа.
– Че за фигня… – пробормотал, пробравшись ко мне, прихрамывающий Викентьич. Он с недоумением и даже некоторым страхом озирался, одновременно щупая огромную, вздувшуюся на затылке шишку. Кажется, он потерял пару передних зубов, а кровь из разлохмаченных ударом губ стекала на спецовку – точнее, на оставшиеся от нее лоскуты.
– А я будто знаю… – пробурчал я, обнаружив, что мои обновки тоже превратились в лохмотья, физиономия расцарапана и, судя по ощущениям, сломана пара ребер.
В следующий миг я вспомнил о Тамарке, покрутил головой и увидел ее в десятке метров, возле кустов справа от входа в столовую. Девчонка сидела прямо на асфальте и всхлипывала, обняв руками колени, как недавно делала на пляже. На нее молча смотрели высунувшиеся из кустов собачьи морды. Ее платье разошлось спереди, по сути превратившись в халат без пуговиц или пояса, ноги были босыми, а косметика размазалась по лицу. Кажется, еще у нее был сломан нос; по крайней мере он был окровавлен и выглядел как-то не так, словно был свернут набок. Рядом на корточках сидела тоже босая Наташка, вид которой был не краше.
Площадь была полна притихших, растерянно озирающихся людей. Почти у каждого была порвана одежда и наличествовали какие-нибудь повреждения. Все были перепачканы в крови. Поодаль валялась груда из примерно десятка тел, от которой я сразу отвел взгляд. Мне показалось, что это мертвые, и эта мысль была чудовищной, такое попросту не укладывалось в голове. Я заметил, что почти все стараются на эту груду не смотреть. Наверное, не один я оказался приверженцем страусиной политики – если эти тела не замечать, то их как бы и нет.
– Никому не расходиться, всем сохранять спокойствие! – внезапно выкрикнул кто-то срывающимся голосом и я, повернувшись, увидел капитана.
Он потерял самоуверенность и выглядел не лучше других. Рукава его кителя были оторваны, лицо разбито, а весь левый бок густо пропитался кровью, ручейки которой добежали по штанам до самых ботинок.
– Смотри, – сказал Викентьич.
Я проследил за его взглядом и увидел нашего сварщика. Он сидел на асфальте с отрешенным видом и щупал окровавленную голову.
– Подойдем? – предложил я, косясь на Тамарку. Очень хотелось к ней подойти, но я не решался. Мне показалось, что сейчас запросто можно попасть ей под горячую руку с непредсказуемыми последствиями. Ведь капитан наговорил обо мне невесть что.
– Фигня какая-то творится… – сказал сварной. Он попытался привстать, но тут же бухнулся объемистым задом оземь – похоже, его не держали ноги. – Ни хрена не понимаю.
– У тебя голова, кажется, пробита, – сказал я.
Сварной отнял окровавленную руку от волос, посмотрел на ладонь бессмысленными глазами и пожал плечами.
– Упал, наверное, – неуверенно сказал он. – Да пустяки, заживет.
– Тебе бы к врачу надо, – сказал Викентьич.
– Да ерунда, – повторил, подумав, сварной, – зарастет. – Он посмотрел на недоверчиво хмыкнувшего Викентьича и пояснил: – Минуту назад три пальца сквозь дыру пролазило. А сейчас один только.
– Давай мы тебе поможем, – сказал Викентьич.
Он нагнулся, ухватил сварного за левую подмышку и посмотрел на меня. Я нагнулся и вцепился в правую.
– Не надо, – сказал сварной и встряхнул плечами. Мы отступили, а он оперся ладонью в асфальт, перенес на нее вес своего тела и с кряхтеньем, но довольно уверенно поднялся на ноги. – Вот видите, – сказал он, осторожно щупая голову, – еще минуту назад ноги вообще не держали, а сейчас все нормалек.
Викентьич опять неопределенно хмыкнул.
– Пошли, послушаем, – сказал он и мы втроем двинулись к капитану, вокруг которого сконцентрировался народ.
– …никому не расходиться… – механическим голосом бубнил тот и мне показалось, что он силится что-то припомнить, – до выяснения всех обстоятельств.
– Каких обстоятельств? – выкрикнул складской бородач, правой рукой прижимая к себе явно вывихнутую или сломанную левую, а мы тем временем протиснулись к капитану вплотную.
Тот нахмурился, как иногда делают пытающиеся собраться с мыслями люди, но внезапно увидел меня и его лицо разгладилось.
– Вот он! – радостно крикнул капитан своим. – Быстро собрать сюда остальных подозреваемых и продолжим!
Два сержанта подвели к нам Наташу с Тамарой. Девчонки были настолько деморализованы, что почти не упирались. Двое других привели собак. Те выглядели виновато и так же виновато поскуливали, задирая головы, чтобы заглянуть хозяевам в лицо, словно извиняясь за что-то.
Народ стал потихоньку расходиться, стараясь не смотреть друг на друга и вниз. Вся площадь была забрызгана кровью, там и сям поблескивали зубы, валялись оторванные пуговицы, обрывки одежды. Интересно, но когда мы с Викентьичем пришли на площадь, всего этого не было или я просто не обратил на это внимания. Мне вообще казалось, что со мной произошло что-то, словно я выпал из общего жизненного процесса, как, по слухам, выпадают эпилептики и прочий больной люд. Разумеется, я не собирался кому-то об этом говорить. Еще примут за сумасшедшего.
– Ну так я пошел, – то ли утвердительно, то ли вопросительно сказал сзади сварной, о котором я на время забыл и который, оказывается, пристроился за нами с Викентьичем. – Мне стеллаж варить надо.
– Конечно, – сказал Викентьич. И спросил: – Голова как, нормально?
– Голова? – с недоумением переспросил сварной. Он поднял руку, осторожно провел по волосам.
– Ну, у тебя же голова пробита была, – с легким раздражением напомнил Викентьич.
Сварной так же осторожно пощупал затылок, потом в других местах.
– Да показалось, – наконец сказал он и натянуто хохотнул. Кажется, он хотел добавить что-то, но передумал или не решился.
Несколько секунд мы с Викентьичем смотрели, как он бредет в сторону ремонтно-механического, слегка подволакивая ноги, затем вернулись вниманием к капитану. Все же мы были задержанными, или подозреваемыми, или теми и другими одновременно, или что там еще придумали менты. Об этом некоторое время назад говорил странно выглядящий сейчас капитан, но это, как казалось мне сейчас, было так давно.
– А ну-ка, остановите этих! – тем временем зло выкрикнул тот и два свободных мента – рядовой и с ефрейторскими лычками – бросились наперерез разворачивающемуся военкоматскому «бобику».
Я кивнул Викентьичу, мы приблизились к своим девчонкам и опять стали сзади, как это было недавно. Или давно – теперь я ни в чем не был уверен.
Обе были бледными и у обеих были растрепаны волосы. Обе стояли босиком и у обеих платья были порваны и перепачканы кровью – у Наташки сбоку, у Тамарки спереди, снизу доверху, отчего ее строгое платье по сути превратилось в халат. Ее лицо было окровавлено – кажется, моя красавица умудрилась разбить себе нос. Может, упала или что-то в этом роде. Она стояла, обхватив плечи руками, стараясь хотя бы чуть-чуть запахнуть ткань и укрыть тело от любопытных взглядов зевак, и периодически негромко всхлипывала.
– Нет, а в чем дело! – еще издалека начал лейтенант, но его возмущение выглядело настолько откровенно наигранным, что, судя по неуверенности в глазах, он сам это прекрасно понимал. – С каких это пор милицейские получили право задерживать военных? На каком, спрашивается, основании!
– С тех самых пор, как военные стали стрелять по гражданским, – сказал капитан, на глазах обретающий уверенность в себе. Кажется, в этом ему помогали привычные казенные фразы, которые он произносил. Проговаривая их, он на глазах преображался, приходил в себя.
– Это вы, простите, о чем? – потеряв кураж, почти заискивающе спросил лейтенант. Он снял фуражку, пригладил ладонью жидковатые волосы, вернул фуражку на место.
– О том самом, – отрезал капитан и вскинул руку с вытянутым указательным пальцем. – Это, по-вашему, что?
– А мы-то тут при чем, – огрызнулся лейтенант, стараясь не смотреть на груду из пяти или шести неподвижно лежащих, окровавленных тел. Судя по одежде, там были две ткачихи в рабочих халатах, один маляр и двое то ли конторских, то ли кто-то еще. – Хотите дело состряпать?
Он опять снял фуражку, чтобы промокнуть носовым платком лоб.
– Может вы наконец отпустите моих работниц? – внезапно выкрикнул вынырнувший откуда-то Павел Аркадьевич, о котором я совершенно забыл. – На каком основании у них отобрали обувь? Почему девушки вынуждены стоять босиком? Вы что себе позволяете!
– Да! – вскинув голову, плачуще выкрикнула Наташа. – Где мои туфли? Я на них ползарплаты угрохала, а вы…
– При чем здесь ваши туфли! – рявкнул капитан. Он тоже снял фуражку, недавно найденную и поднесенную ему подчиненными, и тоже промокнул носовым платком лоб. – А ну, стоять! – крикнул он лейтенанту, который под шумок направился к своей машине. – Лейтенант, я к кому обращаюсь! И немедленно пригласите сюда своих.
– С каких это пор мы у вас в подчинении, – завел было тот старую песню, но на сей раз капитан даже слушать не стал.
– Дважды повторять не намерен, – сказал он. – Если не подчинитесь, применю силу… И не сомневайтесь, я сделаю это. – И добавил, не скрывая превосходства: – Нас все равно больше и у нас собаки.
Пользуясь тем, что внимание ментов было отвлечено, я осторожно, бочком выскользнул с пятачка – арены активных действий – и быстро пошел среди беспорядочно раскиданных по площади вещей – намеренно брошенных или случайно утерянных. Тамаркины черные туфли я нашел довольно быстро, они лежали в десятке метров друг от дружки, а с Наташкиными, светлыми, теми, в которых она была на пляже, вышла заминка – никак не удавалось найти вторую, пока она не обнаружилась возле кустов. Конечно, такой маневр удался только из-за странного поведения собак, которых словно кто-то подменил, подсунув вместо злобных обученных тварей мирных домашних песиков.
Назад я вернулся триумфатором, сияя как надраенный пятак, и никто не обратил внимания на мое отсутствие. Так что, будь я и вправду в чем-то замешан, мог бы сделать так, что капитану пришлось бы долго меня искать.
Викентьич во все глаза смотрел на столь неожиданно и интересно развернувшиеся события – как военные сдаются милиции, – поэтому, когда я ткнул молча его в бок, посмотрел на меня недовольно. Но, увидев мою ценную добычу в сопровождении улыбки до ушей, моментально, надо отдать ему должное, все просек.
– Молоток! – тихо сказал он. Потом принял у меня светлые туфли и, протянув руку, осторожно коснулся плеча Наташи. – Наташ…
– Ну слава богу… – сказала та, поощрив его многозначительной улыбкой, – хоть один адекватный нашелся среди всей этой… всех этих…
Викентьич протер ее лодочки болтающимся остатком рукава спецовки, нагнулся, аккуратно поставил их перед своей пассией. Затем выпрямился и подал ей руку, уцепившись за которую, Наташа влезла в свою обувь и моментально преобразилась в царственную особу, став выше и приобретя соответствующую осанку.
Тамара смотрела на меня выжидающе. Я повторил маневры Викентьича один к одному. Потом не меньше десятка секунд простоял с протянутой рукой, пока не сообразил, что означает ее взгляд. Ну конечно, она же придерживает платье и не может освободить руки. Поняв, какую выгоду сулит мне это обстоятельство, я почувствовал, как мое лицо радостно загорелось.
Стараясь не выдать волнения, я быстро присел на корточки и выразительно посмотрел на Тамару снизу вверх. Она поколебалась и приподняла левую ногу. Держа туфлю в одной руке, кистью второй я осторожно обхватил Тамарину щиколотку и почувствовал, как от этого прикосновения меня бросило в жар. Кожа женской ноги была гладкой и горячей, такой, что не хотелось ее отпускать. И отпустил я ее только потому, что меня ожидала вторая, такая же красивая и гладкая.
– Спасибо, кавалер, все в порядке, – услышал я голос Тамары, опять посмотрел снизу вверх и увидел, что она улыбается. И только тогда неохотно отпустил ее правую ногу.
– Н-да… – сказал внимательно наблюдавший за всем этим Викентьич. Потом подумал и добавил: – Далеко пойдешь, призывник.
В голосе мастера явственно слышалось сожаление, что он не догадался проделать такую же штуку с Наташей, а та неожиданно мне подмигнула и незаметно для Тамарки показала большой палец.
Я кинул взгляд на Тамару и с облегчением заметил, что с носом у нее все в полном порядке. Значит, я ошибся, ничего такого с ним и не было, просто перепачкалась в чьей-то крови. Да и у Наташки не было вздувшегося фингала вокруг правого глаза – значит, тоже показалось. Ну, а у меня не болели ребра, значит, не было никакого перелома – да и откуда ему взяться.
Тут со стороны проходной послышалось негромкое урчание двигателя, и из-за угла первого ткацкого появилась черная «Волга». Поравнявшись с военкоматским «бобиком», она остановилась, две задние двери тут же распахнулись и оттуда вылезли двое мужиков средних лет, в костюмах и галстуках. Один распахнул переднюю пассажирскую дверь и оттуда неспешно выбрался мужик постарше, лет пятидесяти, с пронзительными серыми глазами.
Седоватый, с залысинами, прибавляющими ему солидности, он поправил галстук, с барственной неторопливостью огляделся и поманил капитана пальцем.
– Продолжать охранять задержанных, – тихо скомандовал тот своим и поправил порезанный, перепачканный кровью китель-безрукавку.
Было видно, как не хочется ему идти к седому, но, наверное, по-иному было нельзя. Впрочем, даже я догадался, кто эти строгие ребята в строгих темных костюмах.
Сначала они говорили тихо, но не далее чем через минуту разговор накалился и перешел на повышенные тона. Точнее, голос повысил капитан, лицо которого стало багровым; седовласый говорил по-прежнему тихо, веско, сверля его своим пронизывающим взглядом. Я навострил уши и переместился к ним поближе. Сложность заключалась в том, что мне хотелось подслушать разговор и не хотелось при этом потерять из поля зрения Тамару.
– Я понимаю, товарищ полковник, – сказал капитан, не желающий, как можно было догадаться, уступать свою добычу комитетчикам, – однако есть некоторые обстоятельства, из-за которых я не могу просто так отдать вам подозреваемых… – Седой, оказавшийся полковником, молча ждал продолжения. – Речь уже идет не о банальном ограблении фабричной кассы. Дело в том, что несколько минут назад имело место нападение на наших сотрудников. Поэтому я настаиваю, чтобы ваше ведомство учло это обстоятельство и…
– Кто на кого напал и в чем конкретно заключалось нападение? – спокойно спросил седой.
Капитан замялся. Несколько секунд его рука шарила в районе бокового кармана кителя, куда он недавно засунул носовой палаток. Но карман был порван или порезан, так что платок наверняка валялся сейчас на усеянной чьим-то окровавленным рваньем и зубами площади.
– Да хотя бы на меня! – наконец сказал капитан. – Посмотрите сюда… – Он опустил голову и раздвинул разрез в кителе, пересекающий его наискосок. – Кровь видите?
– Кровь вижу, – все так же невозмутимо подтвердил седой. Он повернул голову, заметив, что кто-то из толпы работяг, которых осталось всего человек тридцать, то есть около половины первоначально собравшихся, пытается ускользнуть с площади, и крикнул: – Всем оставаться на местах! Обеспечьте, пожалуйста, порядок… – Это он сказал уже капитану, который, в свою очередь, тоже повернул голову и крикнул откровенно размякшим своим:
– А ну, отставить расслабуху! Обеспечить оцепление!
Менты зашевелились, начали разбредаться по своим первоначальным позициям, а седой вернулся вниманием к капитану.
– Кровь вижу, – повторил он. – Рана-то где?
– Да вот же… – Капитан распахнул китель, расстегнул рубашку, крутанулся боком к полковнику и замер, потрясенный, рассматривая свежий розовый шрам. – Только что была, – недоверчиво прошептал он и перевел взгляд на седого. – Клянусь! – Полковник недовольно поморщился и он поспешно поправился: – Слово офицера.
– И кто вас порезал? – поинтересовался седой.
– Я… – капитан обреченно выдохнул и промямлил: – я не знаю.
– Раны нет, – констатировал, помолчав, полковник, – значит, и разговора нет. Равно как и оснований для возбуждения дела.
– А… как же… – капитан огляделся с видом перебравшего, потерявшего ориентацию в пространстве пьянчужки. Затем его лицо прояснилось, он расправил плечи и громко спросил – почти крикнул: – А как же трупы?
– Какие трупы? – спросил полковник.
– А вы словно не видите! – опять почти выкрикнул капитан и показал пальцем на кучку тел, в сторону которой находящиеся на площади старались не смотреть. – Их расстреляли военные, поэтому я отдал приказ задержать и их тоже. До полного, так сказать, выяснения.
Капитан перевел палец на лейтенанта и трех прапорщиков, которые, втянув головы в плечи, стояли в стороне, не желая привлекать к себе внимание. Образовав круг, они тихо переговаривались, иногда бросая встревоженные взгляды на милиционеров с гэбэшниками.
– Вы лично видели, как стреляли военные? – спросил полковник и капитан уже в который раз обмяк, не зная, что ответить.
– Нет, – наконец выдавил он из себя.
– Тогда на основании чего вы сделали такой вывод?
– На основании косвенных, – промямлил капитан.
– Каких конкретно?
Капитан уже в который раз впал в кратковременную прострацию, но тут же, тоже в который раз, встрепенулся и опять почти прокричал:
– Да вы посмотрите на тела! У них же у всех пулевые, причем очередями, а у наших автоматов нет – только у военных. Вы просто проверьте оружие военкоматских!
– Подойдите сюда, – приказал полковник.
Он скомандовал тихо, но таким внушительным голосом, что военные не решились возражать. Четверо переглянулись и неохотно побрели к полковнику с капитаном.
– С кем имею… – начал, видимо, от безвыходности, лейтенант, и полковник махнул перед его носом извлеченной из внутреннего кармана корочкой.
– Прикажите своим предъявить оружие.
– Но, простите…
– И покажите также свое, – невозмутимо добавил полковник.
Лейтенант колебался всего пару секунд, затем вздохнул и принялся расстегивать кобуру. Два прапорщика нехотя скинули с плеч свои «Калаши», которые тут же, приблизившись по едва заметному кивку седого, заграбастали его помощники. Прапор с разбитым носом оказался безоружным.
Двое в костюмах деловито отсоединили рожки, выразительно посмотрели на седого, и я понял, что магазины автоматов пустые. Затем они понюхали стволы, опять посмотрели на седого и почти одновременно кивнули. Один, исследовавший пистолет лейтенанта, отрицательно мотнул головой, показал седому неизрасходованную обойму, заправил ее обратно.
– Вот видите, – сказал внимательно наблюдавший за действиями гэбэшников капитан. Он все-таки нашел носовой платок, который оказался в уцелевшем кармане кителя, провел тканью по лбу. – Они убили гражданских людей.
– О каких убитых людях вы все время толкуете? – поинтересовался, не глядя на него, седой. Он кивнул своим и те направились с автоматами к «Волге». – Оружие изымается для отправки на экспертизу, – сказал полковник раскрывшему было рот лейтенанту, в то время как его подчиненные принялись укладывать автоматы в багажник, – а вы и ваши люди задерживаетесь до выяснения обстоятельств. По окончании осмотра места происшествия поедете за нашей машиной.
Теперь настала очередь лейтенанта искать носовой платок.
– А о каком происшествии идет речь? – спросил он, промокая лоб, в то время как прапорщики испуганно переглянулись, а тот, с разбитым носом, уже в какой раз применил свой испепеляющий взгляд, высмотрев меня в толпе.
Полковник не ответил.
– О каких убитых вы постоянно упоминаете? – повторил он, глядя на капитана.
– Ну как… – промямлил тот и повторно ткнул пальцем в кучку из пяти или шести тел. – Я что, один их вижу?
В этот момент тела зашевелились. Из-под двух дородных ткачих в пропитанных кровью халатах вылез плотный мужик лет тридцати, с простоватым лицом и всклокоченными волосами, в издырявленной спецовке. Судя по расположению отверстий, он поймал автоматную очередь, рубанувшую его наискосок, от левого плеча к правому бедру. Или наоборот. Мужик постоял на четвереньках, с кряхтением поднялся и посмотрел по сторонам бессмысленным взглядом. Затем с наслаждением потянулся, и из-под спецовки посыпалось что-то мелкое, увесистое, по звуку соприкосновения с асфальтом смахивающее на гайки. И только по прошествии доброго десятка секунд до меня дошло, что это пули.
– Подойдите, пожалуйста, сюда, гражданин, – сказал седой.
Перешептывания прекратились. Все находящиеся на площади пялились на ожившего во все глаза, а не замечающий этого мужик смотрел на седого все тем же бессмысленным взглядом пребывающего в жутком запое пьянчуги.
– Я? – Он ткнул себя пальцем в грудь, посмотрел на этот палец, потом опять на полковника.
– Вы, вы. Пожалуйста.
Мужик почесал затылок, неуверенной походкой побрел к седому. Его ноги заплетались, усиливая сходство с пьяным.
– И чего, – сказал он, встав в паре метров от полковника.
– Расстегните, пожалуйста, спецовку.
– Спецовку? – тупо переспросил мужик.
– И рубашку. – Мужик не отреагировал. Он молча глядел на полковника и тот опять добавил: – Пожалуйста.
Мужик, поколебавшись, повиновался.
– Вот видите… – начал капитан и осекся.
Народ вытянул шеи, загудел, а я даже забыл поглядывать на Тамарку. Грудь мужика, застывшего с широко разведенными руками, пересекал пунктир выстроившихся в ряд отметин в виде круглых розовых шрамиков. Нижний почти слился с пупком, затем шли три четко различимые, в самом центре живота, а три или четыре повыше замаскировались в куцей растительности, в забавно сгруппировавшихся кустиках из длинных черных волосков. В целом картина была ясна – конфигурация шрамов точь-в-точь соответствовала расположению прорех в промасленной робе.
– Повернитесь, пожалуйста, спиной, – попросил седой.
Мужик, словно загипнотизированный, повернулся, продолжая удерживать полы одежды распахнутыми, и теперь можно было увидеть, что ее покрытая загустевшей кровью задняя сторона оказалась основательно изодранной. Кажется, именно так и должно было быть – выходные пулевые отверстия по масштабу нанесенных повреждений значительно превосходили входные.
По сигналу седого один из его сподручных шагнул к мужику, за край приподнял рубаху и толпа ахнула – его спину избороздили неровные шрамы, какие могли образоваться от выдранных кусками мяса и кожи.
– Достаточно, – сказал седой, а толпа ахнула вторично – тела опять зашевелились и вскоре две тетки стояли, покачиваясь, на тумбообразных ногах в носках и смешных ткацких кедах, а на асфальт с них с мягким стуком сыпались исторгнутые организмами пули.
Потом на четвереньки встал дохлый лысоватый мужик лет сорока пяти, которого я, кажется, видел среди складских, а последний, из конторских, вскочил, словно ванька-встанька, готовый немедленно бежать, но пока не решивший, куда.
– Так где трупы? – спросил седой.
Капитан посмотрел на него осоловелым взглядом и молча сглотнул.
– Вызывайте, – сказал седой своим, и один из его мордоворотов, фигурой смахивающий на штангиста остроносый парень лет двадцати пяти, полез в машину.
Кажется, у них там был телефон или рация, потому что из машины послышался негромкий бубнеж, а я повернулся к давно пристроившемуся рядом Викентьичу.
– Ты что-нибудь понимаешь?
Викентьич только молча, как минутой раньше капитан, сглотнул.
– Мальчики…
Мы повернулись и обнаружили манящую нас пальцем Наташку. Она была бледной, как лист бумаги, а рядом замерла такая же бледная Тамарка. Подойдя, мы встали, молча глядя на девчонок, а те испуганно смотрели на нас.
– Постойте рядом. Нам страшно.
– Мне кажется, лучше обо всем этом просто не думать, – наконец заявил Викентьич. И, помолчав еще с десяток секунд, брякнул: – А давайте все вместе вечером куда-нибудь сходим.
Девчонки переглянулись.
– Сходили уже, – мрачно сказала Тамара.
– Удовлетворили, так сказать, любопытство, – добавила Наташа. – Лучше бы сразу работать пошли.
– Извините, но я до сих пор не получил внятных объяснений! – громко сказал за нашими спинами знакомый голос и мы обернулись.
– Господи… я о нем и забыла уже, – буркнула Наташа.
– Каких конкретно? – устало поинтересовался капитан.
– Да хотя бы таких, когда нас наконец отпустят работать, вот каких! – пояснил Павел Аркадьевич. – Уж если вы до сих пор не изволили внятно объяснить нам всем, что здесь вообще происходит.
– Товарищ, а покажите-ка вашу руку, – неожиданно вмешался седой.
– А при чем здесь… – Стушевавшийся кадровик посмотрел вниз и внезапно испуганно вскрикнул: – Что это такое!
– Вот и я хотел бы знать, что, – сказал полковник.
Несколько секунд Павел Аркадьевич стоял, с ужасом глядя на свою руку, в которой был зажат окровавленный клинок, затем разжал кисть и нож со звоном ударился об асфальт.
– Это не мое! – визгливо вскрикнул он и попятился, держа перед собой выставленные ладони. Выглядело забавно, потому что они оказались покрытыми подсохшей кровью, и ею же был сверху донизу перепачкан костюм кадровика. – Это не мое! – По голосу чувствовалось, что Аркадьич вот-вот сорвется на истерику.
– То есть, вам не знаком этот нож?
– Н-ну… вообще-то похожий нож лежит у меня в кабинете, но… Нет, я отказываюсь что-либо понимать… Меня наверняка хотят подставить!
– Спокойно, товарищ… Я вам верю, верю, – сказал седой, в то время как кадровик без устали встряхивал кистями, словно надеясь избавиться от давно запекшейся крови, – однако дать показания вам все же придется.
– Разумеется… я честный человек, мне бояться нечего… я весь в вашем распоряжении… спрашивайте, что хотите… – плачущим голосом бормотал он.
– Вот и хорошо, – сказал седой и тут я неожиданно увидел рядом с ним неприметного мужичка из нашего цеха. А вот момента, когда он появился на площади, я не засек.
Я сделал Викентьичу знак, что сейчас вернусь, и осторожно проскользнул между двумя малярами в спецовках.
– Ничего не мог поделать, товарищ полковник, – тихо говорил мужичок и вид у него был виноватый. – Правда, совсем ничего. Это оказалось попросту не в моих силах. Да и ни в чьих бы то ни было, я уверен. Никто бы не смог.
– Неужели вы совсем ничего не помните ни по единому эпизоду?
– Совсем ничего. Я же звонил каждый день, докладывал.
– А фиксировать события на бумаге непосредственно во время воздействия генератора пробовали?
– Наверное… – неуверенно сказал мужичок. – Думаю, что да. Нет, даже уверен в этом. Просто потом… – он развел руками, – пустота. Буквально никаких воспоминаний.
– Вы обязаны были делать это согласно инструкции, товарищ майор. Именно для этого вы были внедрены на фабрику. Не могу поверить, чтобы специально подготовленный офицер, профессионал вашего уровня…
Меня словно шарахнули чем-то увесистым по голове и хаотичные обрывки мыслей вдруг стали складываться во вполне внятную мозаику. Я словно перенесся в тишь кабинета отца, почти физически ощутил спиной прохладную упругость кожаного дивана, и в памяти тут же всплыло название «Генератор Митчелла» с его необычными характеристиками, и все это в увязке с фабрикой «Текстиль». Но почему, черт возьми, я не удосужился сообразить все это раньше?
Потом в мозгу быстро пронеслись воспоминания обо всех происходящих на фабрике странностях, об этих непонятных провалах в памяти, а если приплюсовать факт, что я за неделю каким-то образом превратился в настоящего культуриста и перестал влезать в свою одежду, а еще то, что я круглыми сутками жру собачий холодец и мне все мало и хочется еще, а еще мне постоянно хочется пить, и…
– Думаю, он фиксировал, товарищ полковник, – неожиданно для себя сказал я, делая шаг вперед. – Возможно, это его докладную я нашел за наждаком.
Двое резко обернулись.
– Это еще что за явление… – сказал, прищурившись, седой.
Неприметный приблизил к нему голову, что-то тихо сказал и седой, не сводя с меня глаз, едва заметно кивнул.
– И где сейчас эта докладная? – спросил он.
Я пожал плечами.
– Наверное, за наждаком и валяется, если там… ну, в наждачной… никто не прибирался. По крайней мере, я бросил эту бумажку там. Где и нашел… Только, боюсь, вряд ли она чем-то вам поможет. В ней чушь какая-то. Просто пара обрывочных фраз.
– За наждаком? – переспросил седой и посмотрел на мужичонку, имени которого я не знал. Да я и видел-то его всего пару-тройку раз.
– Я знаю, о каком месте он говорит, товарищ полковник, – сказал он. – Разрешите проверить прямо сейчас?
Тут послышался звук работающих двигателей и из-за угла первого ткацкого медленно, одна за другой, выплыли три специфические машины, называемые в простонародье «луноходами».
– Ладно, – сказал седой, посмотрев на часы. – Вы, майор, немедленно отправляетесь за своей запиской, а мы… – Он приподнял руку, подзывая своих, и через секунду, рассеянно посмотрев вслед умчавшемуся мужичонке, оказавшемуся майором госбезопасности, уже отдавал короткие четкие распоряжения: – Всех, находящихся на площади, погрузить в спецмашины. Милицейские и военные едут своим транспортом. Далее… Собрать все разбросанные вещи, упаковать их в пакеты, снабдить подробной сопроводительной документацией и…
Я поспешил к своим, которые тут же замолчали и вопросительно уставились на меня.
– Все, ребята, – сказал я, глядя на Тамару. – На сегодня работа закончена. А может, и вообще. По-крайней мере, думаю, это надолго.
– Господи! – Наташа всплеснула руками. – Куда нас еще?
– У органов имеются к нам вопросы, – сказал я.
– Живее, живее! – командовал капитан, в то время как сержанты с оклемавшимися собаками загоняли протестующих работяг в фургоны.
– Чего-то он мрачный, мент этот, – заметил Викентьич.
Он подставил локоть Наташе и она охотно взяла его под руку. Тамаре я не мог предложить руку по известной причине, но очень надеялся, что она не откажется от моей помощи, когда настанет наша очередь забираться в «луноход». Уж очень хотелось мне еще раз прикоснуться к ее горячей коже.
– Наверное, ему еще не доводилось быть задержанным, – предположил я, думая, не рискнуть ли мне ее обнять. Все равно у Тамарки заняты руки и влепить мне пощечину она не сможет…
Мне было хорошо в тенечке, на скамейке, обдуваемой приятным теплым ветерком. А вот родители выглядели не очень. Они, конечно, старались не показать виду, но у матери были покрасневшие глаза, а отец вел себя столь откровенно наигранно бодро, что уж лучше бы он тоже куксился. С другой стороны, чего с них было взять. Родители есть родители, вечно у них по поводу всего чрезмерные волнения.
«Прощай, среди снегов среди зимы никто нам лето не вернет… прощай, вернуть назад не можем мы в июльских звездах небосвод», – разносился по парку умеренно-громкий баритон Лещенко из далекого динамика.
– Апельсины, – сказала мать, вытаскивая из пластикового мешка увесистый пакет из плотной пергаментной бумаги. Она поставила пакет на скамейку и спросила, не заметив у меня энтузиазма: – Чего?
– Да как-то не очень мне все эти апельсины, – сказал я, хотя, разумеется, не стоило бы этого говорить, а лучше было изобразить радость. – Спасибо, – подумав об этом, сказал я.
– Странно, – сказала мать, – всегда любил… – Она помолчала и добавила: – Ничего, отдашь кому-нибудь. У тебя ведь тут есть друзья?
– О! – сказал я. – Да сколько угодно!
На дорожках парка было множество скамеек и все они были заняты, хотя большинство народа предпочло сегодня валяться на траве. Люди в больничных халатах играли в шашки, шахматы, домино или просто общались. Карты были запрещены – почему-то считалось, что находящимся здесь нельзя волноваться, а игра в карты этому способствует. Странные люди, эти врачи. Как будто нельзя возбудиться от проигрыша в шахматы. Правда, с неделю назад, после того как кто-то из проигравших огрел своего более удачливого соперника шахматной доской по голове, как это сделал Крамаров в фильме «Джентльмены удачи», главврач обещал запретить любые игры на твердых досках, какими бы интеллектуальными они ни были.
Многие гуляли по дорожкам или сидели под деревьями, и нигде не было ни единого мрачного лица. Точнее, таковые были, но не у наших, а у приглядывающих за нами мордоворотов в белых халатах, которых здесь было до чертиков.
Мать вздохнула, осторожно покосилась на меня. Или на отца – я сидел между ними и определить это было затруднительно.
– Это ведь не дурдом, правда? – озабоченно повторил я.
– Ну разумеется, нет, – сказал отец. Сказал чрезмерно быстро и бойко, как и минуту назад, поэтому я опять не поверил. – Это отличная ведомственная клиника при Министерстве обороны. Сюда, между прочим, всегда было не так-то просто попасть, даже сотрудникам. Знаешь, какие здесь собраны врачи. Лучшие из лучших, цвет отечественной медицины. Да я сам тут лет пять назад желудок лечил. Ты должен помнить, мать ведь тебя тогда вытянула разок меня навестить.
– Да помню я… – вяло сказал я и умолк.
– Что-то не так? – спросила мать.
– Да все тестируют, тестируют… Каждый день какие-то дурацкие вопросы и какие-то дурацкие процедуры.
– Обычное для оздоровительных клиник дело, – сказал отец.
– Это из-за генератора? – спросил я. Потом склонился вперед и оперся подбородком на ладони поставленных локтями на колени рук, что не помешало мне заметить боковым зрением, как отец и мать быстро переглянулись.
– А я ведь спрашивала перед уездом, – помедлив, тихо сказала мать. – Ты сказал, что запер.
– Но я ведь действительно думал, что запер, – огрызнулся отец. Судя по интонациям, свою вину он не отрицал. Он тоже помедлил, потом спросил: – Тебя-то чего потянуло в сейф залезть?
– Да читать нечего было. Думал, может, найду что интересное.
– Вот и нашел, – бросила мать опять не мне. – Кабинет тоже неплохо бы было запереть.
– Да чего теперь-то, – все так же виновато сказал отец.
– Там здорово, – сказал я. – Прохладно. И диван удобный.
Мы помолчали.
– Ты никому об этом не рассказывал? – спросила мать. Я промолчал, ожидая уточнения. – Ну, про то, что видел в сейфе… – Я опять промолчал. – Понимаешь, Саша, это секретные бумаги, и если кто-то узнает, что отец не запер сейф… Даже названия находящихся там документов нельзя произносить вслух, а сами документы, кстати, запрещено брать на дом. – Краем глаза я заметил, что она выразительно посмотрела на отца.
Тот виновато закряхтел, а я наконец сказал:
– Да никому я не рассказывал. Больно надо.
– Ну, слава богу, – сказала мать. Потом, после паузы, заметила: – Сеня, конечно, тоже хорош. Ну зачем было отправлять… – она кинула на меня взгляд, – ребенка на «Текстиль», если тот входит в перечень объектов, которые, предположительно, подпадают под воздействие.
При слове «ребенок» я фыркнул. Потом спросил:
– Это вы о Семене Валентиновиче?
Мне не ответили.
– Да Сеня просто не знал, – сказал отец. – Он же не в теме, у него нет допуска.
– Ну, вообще-то, да, – признала мать и я понял, что упрек был брошен ею в ключе поиска виноватых, которых, как бывает обычно, не оказалось.
Мы опять помолчали.
– Это все из-за воздействия той чертовой штуковины? – повторил я. Мне опять не ответили и я уточнил: – Ну, все эти обследования. – Отец с матерью в очередной раз переглянулись. В очередной раз затянулась и пауза. – Мне теперь что, в армию лет в двадцать идти, что ли, если в институт не поступлю? Это же смешно. В двадцать пацаны уже на дембель собираются.
– Скорее всего, в армию тебе теперь в любом случае не придется, – осторожно сказал отец, – так что подумай; наверное, стоит продолжить подготовку к экзаменам? Мы с матерью могли бы привезти тебе сюда учебники.
Я распрямился, посмотрел на него, потом на мать, и оба отвели глаза. Я опять прислонился к спинке скамейки, вздохнул.
– Ну и ну, – сказал я, закладывая руки за голову. – Эта штуковина что, такая вредная?
– Скорее, неизученная, – все так же осторожно сказал отец.
– А чего так? – спросил я.
– Есть причины, – уклончиво сказала мать.
– Из-за того, что вам никак не удается искусственно создать условия, при которых эта чертова штуковина начинает себя проявлять?
– Откуда ты такого нахватался, – крякнув, сказал отец.
– Известно, откуда, – с раздражением сказала мать. И передразнила: – «Запер», «запер»… – Потом осознала, уставилась на меня не верящим взглядом. – А и вправду, Саша… Ты же никогда этим не интересовался. Да и не разбирался.
Я скривил рот.
– Чего там разбираться… У вас листок есть?
– Какой листок? – не понял отец.
– Любой, – буркнул я. Они продолжали смотреть на меня. – Да обычный листок, на котором можно писать, господи.
Мать молча полезла в сумочку, достала небольшую книжицу и какую-то квитанцию. Квитанцию она перевернула чистой стороной вверх, положила на книжицу и посмотрела на меня вопросительно.
– Годится, – сказал я. – А ручка?
Мать опять полезла в сумочку, стала рыться, а отец просто достал из внутреннего кармана легкой куртки свою гордость, чернильную ручку с золотым пером и дарственной надписью, врученную ему руководством чего-то там за какие-то там разработки в какой-то там области чего-то там научного.
– Нет, это ему, – сказал я, когда мать протянула мне получившееся канцелярское сооружение.
Отец нахмурился.
– Не понял, – сказал он, застыв с протянутой ручкой.
– Напиши там свои формулы.
– Не понял, – повторил отец и посмотрел на мать.
Та посмотрела по сторонам, потом пожала плечами.
– Ну, напиши, что ли, – поколебавшись, сказала она.
– Будто я могу так запросто, по памяти… – пробурчал отец, однако послушно принял у матери письменные принадлежности и водрузил на нос очки. Посидел несколько секунд, наморщив лоб, потом быстро начертал на листке пару – тройку длинных, сложной конфигурации формул. – И что дальше? – сказал он и посмотрел на меня.
Я всмотрелся в написанное мелким почерком и расплылся в непроизвольной улыбке.
– Горбатишь, батя, – сказал я. Потом подмигнул матери. – Скажи ему, чтобы не валял дурака. Обещаю, что эту бумагу никто не увидит. Я ее потом съем.
– Ты бы сам не валял дурака, – сказала мать. – Ешь, вон, лучше, апельсины… – Потом опять пожала плечами. – Ну напиши, что ли, – неуверенно повторила она, опять посмотрев по сторонам.
Отец написал еще пару мудреных формул, показал мне.
– Ага, – сказал я. – Но это немножко не то. Давай те, которые описывают это… ну… – я помычал, подбирая в уме слова, – ну, короче, где предположительно какой-то там контур накладывается на какой-то другой как бы контур, отчего, предположительно, и возникает эффект «Генератора Митчелла».
Отец присвистнул, посмотрел на мать, а та во все глаза смотрела на меня и не заметила его растерянного взгляда.
– Напиши, – коротко сказала она.
Отец написал еще несколько формул и свободное место на квитанции закончилось.
– А нам больше и не надо, – беззаботно сказал я и посмотрел на отца, потом на мать. – Значит, не просекли еще, отчего возникает эффект?
– И отчего же, – спросила мать. Кажется, у нее пересохло в горле, потому что она отпила глоток из бутылки с лимонадом, потом протянула ее мне. – Стаканчики надо было взять, – сказала она неизвестно кому, а я отрицательно помотал головой.
– И отчего же? – эхом повторил за ней отец.
Я вздохнул, принял у него книжицу с листком и ручку, внимательно всмотрелся.
– Для начала так, – сказал я и поставил пропущенную отцом скобку. Потом подумал и поставил недостающее двоеточие. – И так. Верно?
Отец посмотрел, крякнул виновато, потер пальцами седину на виске.
– Это я по невнимательности.
– Вот от такой вашей невнимательности, – сказал я с чувством превосходства, – американцы и имеют возможность травить наш трудовой народ всякими там генераторами.
– Никто нас не травит, – сказал отец, – к тому же, не доказано, что это американцы, потому что… – Тут мать приложила палец к губам и он умолк.
Я хотел дописать еще несколько знаков, но передумал.
– Давай лучше сам, своей рукой, – сказал я, возвращая секретную бумагу отцу. – У меня, к сожалению, нет допуска.
Родители переглянулись и напряжение в их взглядах исчезло. Наверное, пришли к мнению, что я попросту дурачусь, а это все же лучше, чем быть сумасшедшим. Отец молча принял у меня мобильное канцелярское сооружение, опять нацепил очки, а я опять забросил руки за голову и на несколько секунд прикрыл глаза.
– Первое, на что я обратил бы ваше внимание, товарищи ученые, – сказал я, – это дифференциальные уравнения. Мне кажется, у вас там какое-то несоответствие с частными производными первого порядка.
Отец посмотрел на меня с вернувшимся подозрением, затем уткнулся взглядом в листок.
– Глянь также третью сверху строку. Косая симметрия, на мой взгляд, в этой формуле применена некорректно. – Отец как зомби послушно опустил голову, вгляделся в указанную мной формулу. – Для начала попробуй порядок обозначений во второй производной вытащить вперед, так будет правильнее. Потом, если я верно понял, у вас возникли проблемы с нахождением неизвестного множителя.
Отец вскинул голову, посмотрел на меня ошарашенно, потом, в поисках поддержки, на мать.
– Ничего подобного, – наконец сказал он. – С этим здесь все в порядке.
– Это вам только так кажется, – заверил его я, – потому что у вас взгляд замылился. Ну, совсем как у Шарапова… Вы идете стандартным путем, деля произведение на известный множитель, а в данном случае это недопустимо. Сейчас я не готов обсуждать эту тему, потому что это надолго, а у нас скоро обед, а я здорово хочу жрать… поэтому пока просто поверь мне на слово, что это так. Потом я, если не забуду, объясню, почему. Ну, и самое главное…
Я осторожно вытянул из пальцев отца ручку, забрал листок и быстро переправил в формулах несколько знаков. Затем добавил несколько новых и вернул листок отцу.
– Вот так примерно я вижу все это дело, – сказал я.
Отец стал изучать исправления. Он замер и вглядывался в формулы около минуты, затем поднял голову, растерянно посмотрел на меня. Потом на мать. Потом медленно поднял руку и опять потер висок.
«Прощай и ничего не обещай, и ничего не говори; а чтоб понять мою печаль, в пустое небо па-а-а-асма-а-атри-и»…
– Дай, пожалуйста, посмотреть, – сохраняя спокойствие, попросила мать.
Отец дерганым движением сунул ей книжицу с листком, вскочил, приложил руки к вискам и задрал лицо, словно обращался к небу за подсказкой. Затем шумно выдохнул, опустил руки и стал расхаживать перед скамейкой слева направо и обратно. Проделав этот путь раз пять, он остановился, резко повернулся и сказал разглядывающей мою писанину матери:
– Ты что-нибудь понимаешь?
– Кажется, да, – не поднимая головы, пробормотала та.
– Но этого просто не может быть!
– Сережа, не волнуйся, у тебя поднимется давление.
– Да какое, к черту… – начал отец на повышенных тонах, но прикусил язык, огляделся и продолжил, понизив голос: – Какое давление, если тут…
– Что конкретно тебя удивляет, – поинтересовалась мать. – То, что наш мальчик вообще заинтересовался математикой, или то, что он за считанные дни нашел решение задачи, над которой больше года бился весь наш отдел?
– Э-э! – запротестовал я, – ничем таким я не заинтересовался! Просто вдруг пришло в голову. Меня вообще-то история интересует. Ну, еще филология – частично.
– После того, что ты только что… – отец замялся, подбирая слово, – учудил… поступаешь на физмат. Однозначно.
– Подожди, подожди… – сказал я. – То есть мое мнение не в счет? Меня как бы и спрашивать не надо?
Отец с раздражением отмахнулся.
– Тут и обсуждать нечего, – сказал он, не глядя на меня, и протянул руку. – Дай-ка еще разок посмотреть.
Мать протянула ему мои записи, он уселся на лавку и опять принялся внимательно все изучать, шевеля при этом губами.
– Нет, ерунда… – через пару минут сказал он. – Че-пу-ха.
– Вот видите! – обрадовался я. – Говорю же, мое призвание – гуманитарка. Мне эта вся ваша физика, знаете, до какого места.
Видимо, отец на сей раз решил не тратить на меня силы. Он не просто промолчал, но даже не стал отмахиваться – просто поморщился и отвернулся.
– Это ведь нобелевка, не меньше… – Он растерянно посмотрел на мать, а та пожала плечами.
– С учетом темы… – начала она и тоже замялась, подбирая слова, – вряд ли это возможно.
– Да я ж так, ну, фигурально, просто обозначить уровень… Конечно, все нужно тщательнейшим образом проверить и перепроверить. Но и без того понятно, что решение необычное, и в то же время простое, изящное, и… и непонятно, как до этого никто не додумался раньше.
– Ни фига себе, фигурально! – вскинулся я. – А если премии не будет, то на фига мне вся эта ваша хиромантия!
– Какая еще хиромантия?
Отец снял очки и принялся протирать платочком стекла.
– Ну, физика.
Отец прекратил протирать стекла, посмотрел на меня строго.
– Пойми, Саша… Если человек способен решать задачи такого уровня, с его стороны будет просто преступным не обратить свои способности на пользу…
– Да чего там сложного, – рассеянно сказал я, думая, что правильно рассчитать параметры ведущего на волю подкопа, который мы с Викентьичем начали рыть недавно, куда сложнее, чем найти несоответствия в каких-то никчемных формулах. Надо ведь было рассчитать все таким образом, чтобы нас не завалило землей, плюс еще учесть множество существенных мелочей.
– Кстати, ты рассказывал кому-нибудь о своих неожиданно проявившихся способностях? – вдруг спросил отец.
– Ага, – сказал я, – как же. Ищи дурака. Чтобы эти, – я мотнул головой в сторону приютившего меня заведения, – вскрыли мне черепную коробку и капали туда физраствор?
– А физраствор-то зачем? – не понял отец.
– Сережа! – встряла мать. – Мальчик тоже фигурально, понимать же надо. Он просто имеет в виду, что лишние проблемы ему ни к чему. Очень грамотная, между прочим, позиция. Сначала надо все хорошенько обдумать; а заявить о своих неожиданно открывшихся способностях никогда не поздно.
– Ну… в общем, да, – подумав, согласился отец.
– Ты сказал, что хочешь есть, – вспомнила мать, то ли озаботившись, то ли просто в надежде вернуть отца в действительность. – Тебе не хватает еды?
– Ничего себе, не хватает… – пробормотал отец, не в силах оторваться от своих формул, – в такого коня за время нашего отсутствия превратился… Я когда его увидел, просто глазам не поверил.
– Это я еще похудел, – похвастался я. – Кило десять скинул, не меньше.
– Господи, до чего по-дурацки все вышло… – тихо сказала мать, – лучше бы мы не уезжали. Но ведь это была обычная служебная командировка. Кто же мог подумать, что пока мы работаем, ты тут…
– Ма, ну о чем ты, – бодро сказал я, вертя головой по сторонам. Что-то я нигде не видел Викентьича и это меня слегка беспокоило. – Вот же я, живой и здоровый, чего и другим желаю.
Мать посмотрела на часы, вздохнула.
– Саш, извини, но нам с отцом…
– Конечно-конечно! – радостно сказал я. Потом спохватился и украсил физиономию грустной гримасой. – То есть, жаль, конечно.
– Мы и так едва смогли пробить посещение, – с трудом оторвавшись от формул, пояснил отец. – Пришлось задействовать все наши связи.
И только после этих его слов я вдруг осознал, что действительно, никого из наших еще не посещали родственники или друзья. Впрочем, мы здесь и болтались-то совсем ничего – всего вторую неделю.
– Спасибо, – тем не менее поблагодарил я искренне, а потом мы все одновременно поднялись.
Мать, кажется, колебалась, желая обнять меня на прощанье, и точно зная, что мне это не понравится.
– Да ладно, ма, – сказал я, – не на сто же лет расстаемся.
Она опять вздохнула и только взяла меня за руку, чуть выше запястья, легонько ее сжала.
– Пока, бать, – весело сказал я, помогая заодно и отцу справиться с той же проблемой. – И не заморачивайтесь вы. Еще сто раз свидимся.
Отец тоже вздохнул. Они с матерью переглянулись и побрели по парковой дорожке. Я смотрел им вслед, а когда, пройдя метров двадцать, они одновременно оглянулись, помахал им рукой. Родители помахали в ответ.
Потом я взял со скамейки увесистый пакет, левой рукой прижал его к груди и побрел к медицинскому корпусу. Было как-то грустно и весело одновременно. Грустно оттого, что грустили родители, и весело оттого, что все было хорошо и у меня на сегодняшний день не было ровным счетом никаких забот.
«Прощай и ничего не обещай, и ничего не говори… а чтоб понять мою печаль, в пустое небо па-а-асма-а-а-атри-и-и»…
– Эй, Сань! – Я остановился, повернулся к скамейке с доминошниками. Четверо играли в окружении еще четверых, ожидающих очереди. Костяшки домино образовали на квадратной фанерке традиционно угловатую змею, а если кто-то, не сдержавшись, чрезмерно сильно бил, все подпрыгивало, осыпалось на землю и начинался скандал… Кричал майор. Тот самый, неприметный, которого, как оказалось, звали Николаем. – Родители?
– Это закрытая информация, – подумав секунду, сказал я. – Тебе не положено, у тебя нет допуска.
Николай засмеялся, отмахнулся, а я пошел дальше.
– Рыба! – послышалось за спиной. Стукнула костяшка домино и тут же раздался пластмассовый звук разлетающихся по асфальту пластинок. Послышались возбужденные голоса – кажется, кто-то пытался оспорить правомочность такого хода соперника, но восстановить позицию, судя по всему, было уже невозможно.
Стоящий поодаль плечистый санитар насторожился. Не отрывая взгляда от готовых передраться доминошников, он сделал несколько шагов к скамейке и застыл, вытянув шею.
– Привет Сань.
– Привет, – сказал я идущему навстречу прапорщику, которому когда-то случайно разбил нос. Это было давно, еще в той жизни, а прапорщик оказался нормальным парнем. Он совершенно не держал на меня обиды и вообще мы с ним неплохо ладили. Да здесь все были неплохими ребятами, в общем-то.
Я прошел по дорожке между двумя брустверами аккуратно постриженных кустов, свернул за угол и вырулил ко входу приютившего нас всех заведения, на обширную асфальтированную площадь, окаймляемую теми же кустами с прямоугольными нишами для скамеек. По центру расположился небольшой фонтан, купаться в котором, ко всеобщему сожалению, было запрещено. Скамейки и здесь были заняты, на одной сидели, смеясь над чем-то, Викентьич с Наташкой. Рядом, на краешке, притулился тщедушный очкарик лет тридцати, уткнувшийся в книжку с цветастой обложкой, а на скамейке в отдалении сидел, раскинув по ее спинке руки, Павел Аркадьевич. Глаза кадровика были закрыты, а задранное лицо подставлено под щедрые лучи разбушевавшегося солнца.
Викентьич заметил меня, помахал приветственно рукой.
– Сань, ты где ползаешь, давай к нам!
– Я сейчас, буквально через минуту! – крикнул я, взбежал по ступенькам высокого длинного крыльца, и прогуливающийся перед входом мордоворот в белом халате быстро двинулся мне наперерез.
Перегородив путь, он брезгливо поджал губы и застыл, сверля меня пронизывающим, как у того седого полковника, взглядом.
– Чего? – постояв с десяток секунд, не выдержал я.
– Прогулка еще не закончилась, – после паузы процедил санитар. Он умолк и, не отрывая от меня водянистых, слегка навыкате, глаз, заиграл желваками.
– Мне на секунду, только туда и обратно. Вот, родители принесли. Надо бы в тумбочку положить. – Он молчал. – Руководство разрешило… – Он опять ничего не ответил, но после паузы сдвинулся на полшага в сторону.
Я осторожно обогнул эту чертову статую в белом халате и, чувствуя спиной подозрительный взгляд, свободной рукой потянул на себя створку массивной дубовой двери.
Пройдя тамбур, я оказался в прохладе здания с высоченными потолками и гулкими вестибюлями с выложенными цветной мозаикой полами. Здесь все было солидным, монументальным, и мало напоминало обычные медицинские заведения, которые для всех. Отец был прав, эта была контора для привилегированных, только что с того толку, если уйти отсюда по собственному желанию было нельзя.
Еще один охранник, за специальным столом, как дежурный в каком-то военизированном заведении, неохотно оторвался от потрепанного журнала, поднял голову, уставился на меня вопросительно. Его губы при этом поджались брезгливо, словно пародируя гримасу того, на входе.
– Вот… положу в тумбочку и вернусь, – поколебавшись, сказал я, указав глазами на пакет. – Руководство разрешило.
Он даже не кивнул, просто опять опустил башку, возвращаясь к своему журналу. Кажется, это было что-то вроде «Огонька». Потом, когда я двинулся по вестибюлю к своему отделению, сказал строгим голосом:
– Только сразу обратно… – Чувствуя, что он опять на меня смотрит, я, не оборачиваясь, кивнул. – Прогулка еще полчаса, потом обед.
Я кивнул еще раз, свернул за угол и поравнялся с дверями, ведущими в женское отделение.
– Саш!
Я остановился как вкопанный, резко повернул голову и увидел в длинном боковом ответвлении главного вестибюля Тамарку. Она опиралась на швабру с намотанной на нее тряпкой и часто дышала. В паре метров от нее стояло серое жестяное ведро.
Она смотрелась забавно, без косметики, в коричневом больничном халате до середины икр, белых носках и казенных сандалиях с плоской подошвой. Нормальная гражданская одежда и обувь здесь были запрещены, но Тамарка и в казенных одеяниях выглядела королевой, словно стояла на своих шпильках. Из прежнего у нее осталась одна стильная прическа, которые здесь не запрещались – не разрешено было только использование в таковых острых заколок.
Тамарка с таинственным видом огляделась и молча поманила меня пальцем. Я сделал несколько шагов, остановился перед дверьми, почти сплошь состоящими из небольших окон небьющегося прозрачного пластика и, приподняв брови, вопросительно кивнул на пустующий сейчас столик. Обычно за ним поочередно сидели три надзирательницы, сменяющие друг дружку дородные бабы, и все три были грымзы еще те, связываться с которыми желающих обычно не находилось.
«Прощай и ничего не обещай, и ничего не говори; а чтоб понять мою печаль, в пустое небо па-а-асма-а-атри-и-и»… – доносилось негромко из стоящего на столике небольшого радиоприемника.
Тамарка опять повертела головой, опять поманила меня.
– Отошла на пять минут, проверить порядок в палатах, – громким шепотом пояснила она и только тогда я, решившись, быстрым шагом прошел разделяющий нас десяток метров.
– Привет, – сказала Тамара, а я, остановившись перед ней, уставился на нее обычным восторженным взглядом. Лицо Тамарки блестело от пота.
– Привет, – растянув губы в улыбке, сказал я. – А я тебя на улице высматривал, высматривал…
– Отрабатываю провинность, – пояснила Тамара. Она полезла в боковой карман халата, достала носовой платок, в несколько легких касаний промокнула влажный лоб.
– А чего? – спросил я.
– Ай… – Тамарка махнула рукой, спрятала платок в карман. – После завтрака опять поругалась с этой… – Не отрывая от меня взгляда, она кивнула за мою спину, на пустующий столик.
– А-а-а… ясно. – Несколько секунд Тамарка молчала, с любопытством глядя на мой пакет. – Ой, – сказал я, спохватившись, – это же тебе. – И протянул ей пакет.
Она отошла, прислонила щетку к ведру, потом вернулась и вытерла о халат руки.
– Мне, правда? Ого, увесистый… А что это?
– Апельсины.
– Апельсины! – радостно воскликнула Тамарка. – Обожаю апельсины! Она распрямила загнутый бумажный верх и, приблизив к пакету лицо, втянула носом запах. – Обожаю апельсины, – повторила она и прикрыла от удовольствия глаза. – А откуда они у тебя?
– Да предки притащили.
– Ого, – сказала Тамарка с завистью, – счастливый. Я бы тоже хотела со своими повидаться.
– Да ладно, – сказал я, – успеешь еще. Всего вторую неделю здесь торчим.
Тамарка пожала плечиками.
– Себе-то хоть оставил?
Я тоже пожал плечами.
– Да я их как-то не очень.
– А, ну да… Ты же у нас только собачий холодец за обе щеки уплетаешь.
Тамарка звонко рассмеялась, потом поспешно прикрыла рукой рот, опасливо обернулась.
– На, Викентьича хоть угостишь, – сказала она, доставая два крупных апельсина, – а с Наташкой я сама поделюсь.
Я запихал апельсины в боковые карманы халата и они стали округлыми, наверняка подозрительными на вид для этих чертовых санитаров.
– Держи еще, – сказала Тамарка, но я отрицательно мотнул головой.
– Да хватит.
Она стояла, прижимая к груди пакет, и смотрела на меня с хитрым прищуром, потом прикусила нижнюю губу.
– Чего? – спросил я, чувствуя, как сердце забилось чаще.
– У меня для тебя тоже есть кое-какой сюрприз, – сказала Тамара таким особенным голосом, что у меня внизу живота пробежала быстрая теплая волна.
– Какой?
– Угадай.
Я помолчал секунд пять, потом развел руками.
– Скажи.
– Ладно… – Не отрывая от меня взгляда, Тамарка полезла в кармашек, как раз на месте одной из притягательных выпуклостей небольших грудок. Ее пальцы лишились привычного маникюра, длинные ногти здесь тоже были под запретом. – Смотри, что у меня есть.
Она достала что-то, скрывая это в кулаке, потом протянула руку и какое-то время стояла неподвижно, второй рукой прижимая к себе пакет. Потом, все так же не отрывая от меня взгляда, медленно раскрыла ладонь. На ладони оказался ключ. Обычный серый алюминиевый ключ на стальном пружинистом колечке.
С пяток секунд я молча смотрел на этот ключ, потом перевел взгляд на сияющее Тамаркино лицо.
– Что скажешь? – спросила она все тем же, вызывающим ту самую волну голосом.
– Неужели от кладовки?
– Угу.
– Там, где списанная кровать?
– Угу.
Я с усилием сглотнул.
– Когда? – Тамарка молчала. – Тамар! Вечером, после ужина?
– На этот раз никаких пятиминуток, – сказала она, глядя на меня с прищуром. – Предлагаю запереться там на всю ночь.
– Целую ночь! – От такой перспективы у меня захватило дух. – Но как ты…
– Стянула его у сестры, а она теперь заступит только через двое суток, – пояснила Тамара. – Тогда же и спохватится, если я к тому времени не успею вернуть его на место… – Она говорила тихо и все время оборачивалась, чтобы не пропустить появления дежурной сестры. – Но, думаю, все получится. Нужно просто улучить момент и положить ключ обратно, в карман ее халата.
– На целую ночь… – восторженно повторил я, не веря в такую удачу.
С лица Тамарки вдруг исчезла улыбка.
– А ты сможешь вырваться? – озабоченно спросила она.
– Запросто, – уверенно сказал я, еще не зная, как мне удастся улизнуть из отделения, но зная, что я сделаю это во что бы то ни стало. – Если понадобится, я нашего дежурного придурка просто прибью.
– А вот этого не надо, – сказала Тамарка и хихикнула. – А то тебя повяжут, и я там, в этой кладовке, буду всю ночь в одиночестве куковать.
Еще несколько секунд я стоял, молча пожирая глазами Тамарку и чувствуя, как та теплая волна внизу разгулялась не на шутку, так, что, кажется, у меня оттопырился халат – точь-в-точь как когда-то трусы под пиджаком, еще на том пляже. Мне уже казалось, что это было сто лет назад.
Тамарка, кажется, заметила. Она опять хихикнула и ее щеки порозовели. Тоже как тогда, на пляже. Она хотела что-то сказать, но тут за углом вестибюля послышалось размеренное шарканье. Похоже, это возвращалась дежурящая сегодня в женском отделении медсестра, грузная тетка лет сорока, визгливая и всегда чем-то недовольная.
– Все, пока… – Тамарка шагнула вперед, привстала на цыпочки и быстро чмокнула меня в губы. – Да иди же! – с напускной сердитостью прошипела она, когда мои руки машинально стиснули тонкую талию и притянули к себе, а потом как-то сами собой переместились ниже, под перехвативший ее поясок. – Апельсины раздавишь, силач…
Я попятился. Несколько шагов, не отрывая от Тамарки глаз, я шел спиной вперед, потом развернулся и почти побежал на цыпочках, потому что из-за угла вот-вот должна была появиться медсестра.
Перед выходом я притормозил, оглянулся. Тамарка стояла, глядя мне вслед. В одной ее руке уже была швабра, а пакет она, видно, куда-то поставила. Второй рукой она помахала мне на прощанье, но тут же поспешно согнулась и принялась усердно драить пол. Я с усилием толкнул упругую дверь…
На крыльце мне по глазам ударило не на шутку разошедшееся солнце. Несколько секунд я стоял, прищурившись, почти ничего не видя после полумрака вестибюля, потом зрение пришло в норму.
– Сань!
Со скамейки мне опять махал рукой радостный Викентьич.
– Сашка, давай к нам! – Пристроившаяся на его коленях Наташка одной рукой обнимала его за шею, второй тоже махала мне.
«Ты помнишь, плыли в вышине и вдруг погасли две звезды… но лишь теперь понятно мне, что это были я и ты»…
Баритон всерьез распевшегося Лещенко привел меня в чувство. Мне вдруг показалось, что жизнь прекрасна и что не может быть ничего лучше, чем стоять вот так на крыльце, щуриться от солнца и думать о том, что жизнь прекрасна. Ну, и еще о Тамарке, конечно.
– Все в порядке! – бодро сказал я прогуливающемуся по крыльцу санитару, который приостановился и стал подозрительно на меня коситься.
Потом в два прыжка соскочил с крыльца, быстро прошел несколько шагов и остановился метрах в пяти от скамейки с нашими, напротив. Наташка, поглядывая на меня, что-то шептала на ухо Викентьичу, а тот, довольный, ржал как конь. Кажется, они обсуждали нас с Тамаркой.
– Эй, ловите! – крикнул я, запуская руки в карманы. И кинул апельсин, который ловко, свободной рукой поймал Викентьич. – Второй пошел! – крикнул я, и второй апельсин двумя руками поймала Наташка.
Она спрятала пойманный апельсин в карман, а Викентьич принялся немедленно чистить для нее свой. Кажется, наш мастер оказался подкаблучником. По крайней мере, он здорово подпал под влияние Наташки и выполнял любые ее прихоти. Впрочем, об этом я с ним запланировал поговорить потом, после обеда. А сейчас нам следовало бы обсудить кое-какие детали недавно начатого подкопа. Мне хотелось прорыть такой туннель, чтобы по нему могли, не нагибаясь, пройти наши девчонки на каблуках.
– Эй! – рявкнул прогуливающийся по дорожкам парка мордоворот. Он остановился и принялся сверлить сладкую парочку тяжелым, исподлобья, взглядом. – Эй, а ну прекратить!
– Да пошел ты, – спокойно сказала Наташка. Она приняла у Викентьича отломленную дольку, откусила половинку и сказала сюсюкающим голоском, слегка невнятно, пережевывая сочную мякоть: – Сейчас мы покормим нашего маленького мальчика, сейчас…
Викентьич послушно раскрыл рот и Наташка забросила в него вторую половинку, как утке в клюв. Я громко засмеялся, а перекосившийся от злости охранник заорал в голос:
– Немедленно сдать апельсины! Посторонняя еда в клинике запрещена!
Он подбежал к скамейке и положил ладонь Наташке на плечо, чтобы развернуть ее к себе.
– А ну, руки от моей бабы! – рявкнул Викентьич. Он запросто поднял Наташку на руках и пересадил на скамейку, рядом, словно весом она была не более пятилетней девочки. Потом вскочил и толкнул мордоворота в грудь так, что тот отшатнулся и едва не упал.
– Нападение на сотрудника! – пронзительно, неожиданно высоким голосом заорал плечистый парень, примерно ровесник Викентьича, с редкими рыжими усами, и засвистел в извлеченный из нагрудного кармана халата свисток.
К нам немедленно рванули санитары со всех концов огромного парка. Громко топая, дуя в свистки, они мчались к скамейке Викентьича, словно здесь сосредоточилось все зло мира, которое следовало немедленно нейтрализовать, иначе этому миру наступит такой же немедленный кирдык.
– Наших бьют! – во все легкие заорал я, наблюдая, как раскрасневшиеся Викентьич с санитаром обмениваются пока тычками в грудь, но дело, без сомнений, должно было вот-вот перейти в полновесную драку. – Пацаны, сколько можно терпеть этот беспредел!
И дорожки заполнились бегущими в том же направлении нашими. Через десяток секунд возле скамейки началась настоящая свалка. Молодые мужики в белых халатах азартно молотили мужиков всех возрастов в вылинявших коричневых халатах из байки, а те не менее азартно молотили ненавистных надзирателей. Всего тут топталось уже человек тридцать, не меньше.
Наташку то ли сшибли со скамейки, то ли она упала, то ли намеренно отползла в сторону, чтобы не попасть под этот замес. Во всяком случае, она сидела на корточках под кустом и сверкающими от возбуждения глазами смотрела, как дерется с медицинскими беспредельщиками ее возлюбленный, вступившийся за свою даму. При этом она азартно жевала апельсиновые дольки, забрасывая их в рот одну за другой.
В какой-то момент Наташка, не выдержав, вскочила, протерла ладони о свой халатик, и, бросившись в самую гущу дерущихся, вцепилась короткими когтями в лицо попавшемуся под руку плотному мордачу. Тот упал, зажимая ладонями залившиеся кровью глаза, кто-то об него споткнулся, упал сверху, и образовалась настоящая куча-мала, высотой не меньше полутора метров.
И тут что-то началось. Или нет, ничего не началось. Просто я словно вдруг очнулся. Хотя нет, ни хрена я не очнулся. Просто все одновременно ударило мне в голову. И жара, и солнце, и посещение родителей, и апельсины, и ощущение, что жизнь прекрасна, и еще, конечно, то, что ожидало меня сегодня ночью, и многое другое…
Я отошел от дерущихся подальше, поплевал на ладони, потер их друг о дружку и, лихо крякнув, побежал, быстро набирая скорость, к самому эпицентру свалки. А за метра за два до образовавшейся пирамиды мощно оттолкнулся правой толчковой ногой, взмыл в воздух, и на превратившийся в бесконечность миг воспарил, как коршун, и зарядился от опять ударившего в глаза солнца, и воспарил еще выше, и опять замер, и начал плавно пикировать на груду барахтающихся и матерящихся тел, и заорал во всю глотку, насколько позволяли голосовые связки и легкие:
– Лай-ла, ла-ла-ла ла-ла-ла ла-ла-а-а, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-а-а-а…
И никогда в жизни я не испытывал такого восхитительного чувства полета и свободы, и никогда еще не чувствовал себя таким счастливым…
Служу Советскому Союзу! Стражи Отчизны
Казарма, столовая, сортир, еще пара строений в лесу, все было деревянным и казалось каким-то, что ли, нежилым, что нагнетало дополнительное уныние. Объяснялось все очень просто и объяснения эти мы получили от сурового вида невысокого полковника, который вышел в центр плаца, с плохо скрываемой брезгливостью оглядел подобие строя, которое образовала наша сотня в гражданской одежде, и сказал:
– Я полковник Корнеев, командир приемника, в котором вы, товарищи военные, находитесь, если кто-то еще не понял. Или, по-другому, «карантина». Здесь вы проведете две недели, потом вас доставят в полк, на присягу, а потом вы будете развезены по подразделениям… Ну, чего приуныли?
– Да обстановочка здесь какая-то, товарищ командир… – раздался бойкий голос из строя, голов через двадцать от меня, и я не смог рассмотреть, кто это говорит. На такую толпу непременно найдется энное число таких вот бойких, остряков и прочих выскочек, которым всегда невтерпеж почесать языком, даже если это чревато репрессиями.
– Большую часть времени приемник пустует. Заполняется он дважды в год очередными группами призывников, – объяснил полковник, – сроком на две недели. Поэтому неудивительно, что все действительно выглядит несколько… – он на мгновение замолчал, явно подбирая слова, – мрачновато, неухоженно… Сейчас вы все получите военную форму, переоденетесь, вас разобьют по взводам и дальнейшие инструкции вы будете получать от своих непосредственных командиров, то есть сержантов… Вольно, разойдись!
Соответственно последней команде мы образовали стадо и неохотно побрели к деревянному одноэтажному строению, на крыльце которого стояли, запустив большие пальцы за отвисшие поясные ремни, парни с лычками на погонах. Их было пять человек.
– Вешайтесь, – приветливо сказал один, невысокого роста, с висячими колхозными усами рыжего оттенка.
– Да-а-а… Два года, это не шутка, – хмыкнув, подтвердил другой, чернявый и высокий. Он посторонился, пропуская первых новобранцев. – Я бы на их месте сразу повесился, это точно… Чтобы не мучиться.
Сержанты заржали, а кто-то из тех, бойких, с языками, где-то за моей спиной, весело сказал:
– Ничего, мы уж как-нибудь помучаемся, товарищи командиры!
Теперь заржали прибывшие, а усатый сержант вытянул шею, чтобы высмотреть весельчака, явно собираясь взять парня на заметку.
– Ну-ну… – в итоге сказал он.
Через пару дней все более-менее обвыклись в своей новой ипостаси защитников отечества, а некоторые носили форму даже с видимым удовольствием. Пошли дни, похожие один на другой. Подъем, утренняя зарядка, утренний осмотр, занятия в классе, занятия на плацу, физическая подготовка, опять учебные классы… Короче, все как в книгах, фильмах и передачах «Служу Советскому Союзу», то есть хреново, дальше некуда… С другой стороны, сержанты, конечно, выстебывались, но гоняли не особо. Как я понял, двухнедельная командировка в приемник – это была для них халява, возможность вырваться из своих осточертевших дивизионов и возможность посмотреть на какие-то новые, пусть они не краше чем у сослуживцев, физиономии. И пусть здесь те же лес и казарма, все какое-то развлечение.
Кормили сносно, по крайней мере, у меня никакого адаптационного периода не было, с первого дня я доедал все без остатка. И хотя некоторые кривлялись, морщась и зажимая картинно носы, когда на обед давали какую-нибудь остро пахнущую тушеную кислую капусту, большинство рубало в полную силу, недоеденных порций фактически не оставалось.
Через неделю приехала передвижная лавка и военный народ создал столпотворение в комнате, где тетки в белых халатах взвешивали печенье, дешевые конфеты, отпускали сгущенку и прочие гастрономические радости истосковавшимся по сладкому защитникам родины. Деньги у большинства были и все стремились потратить их, «пока не отобрали деды» по месту службы, что считалось неизбежным.
Купив десяток пачек дешевых сигарет без фильтра, килограмм конфет, килограмм пряников и килограмм печенья, я запоздало озадачился, куда же все это деть. Положить в тумбочку – означало попросту подарить это богатство своим боевым соратникам, что мне, несмотря на ежедневные политические занятия, ставящие задачей поднятие духа патриотизма и привитие чувства товарищеского локтя, делать категорически не хотелось. Не надеясь на успех, я все же решил попробовать запихнуть килограммовый конфетный кулек в штаны хэбэшки, и с трудом поверил в случившееся, когда он запросто провалился куда-то к колену, и в кармане даже осталось свободное место. Точно так же, без малейших проблем, я распихал по карманам все остальное, и в итоге даже не потребовалось прибегать к услугам шинели, что не могло не радовать, потому что хранить свои вещи в карманах периодически оставляемой на общей вешалке шинели означало примерно то же, что положить что-то ценное в тумбочку.
Подойдя к зеркалу и обнаружив, что я вовсе не выгляжу подобно раздувшемуся от защечных запасов жратвы хомяку, а просто у меня появились вполне симпатичные галифе, я впервые осознал практичность советской военной формы. Например, в карманы моих любимых обтягивающих гражданских джинсов не влезало ничего, кроме пачки сигарет и коробка спичек… Теперь оставалось еще озаботиться, как бы сделать так, чтобы все это добро не выгребли сержанты на ежедневном утреннем осмотре. И интуиция подсказывала мне, что именно в таких каждодневных заботах о сохранности своего куска хлеба и заключался смысл военной службы.
До принятия воинской присяги оставался еще один приезд вкусной передвижной лавки…
Присяга оказалась мероприятием не рядовым и весьма торжественно обставленным, на котором, к моему удивлению, было довольно много родственников присягающих бойцов.
«И не лень же им всем было переться к своим братьям-сватьям-сыновьям-возлюбленным, – думал я, сжимая доверенный мне государством автомат и рассматривая в толпе гражданских симпатичную девчонку в красной куртке, выглядывающую кого-то в строю абсолютно одинаковых в своих шинелях бойцов. Вот чего, к примеру, тут делает эта… Приехала бы, когда ее парень уже какой годик оттрубил, а то ведь всего две недели как расстались»…
Вскоре мы, где-то с пятнадцать бойцов молодого пополнения, ехали, укрытые от посторонних взглядов возможных шпионов тентом «ГАЗ-а 66». Он прыгал по неровностям проселочной дороги, а мы, распределенные в четвертый зенитно-ракетный дивизион, соответственно мотались из стороны в сторону, порой едва не падая с жестких деревянных лавок, тянущихся вдоль боковых бортов. Обособленно, возле заднего борта, сидел долговязый сержант с покрытым оспинами лицом, в кабине сидел старший машины, усталого вида капитан, фамилию которого я не запомнил, а еще один сержант крутил руль вверенной ему военной техники. Все время поездки царила угрюмая тишина, курить не возбранялось и, как чувствовал я интуитивно, такая поблажка была сделана нам из-за матери одного из бойцов, кажется, откуда-то из Подмосковья, которая неизвестно зачем решила сопроводить свое чадо до самого места службы.
На некоторое время я задремал, чувствуя себя бывалым воином, способным запросто спать в вовсю трясущемся транспорте, и пришел в себя только на КПП, когда машина резко затормозила и сержант зло крикнул кому-то на улице:
– Еб твою мать, Кудряшов! Не можешь ворота нормально открыть!
Потом он оглянулся на тетку в сером пальто и теплом платке, покашлял и смущенно произнес:
– Извините, мамаша, вырвалось… – Тетка не ответила и он счел нужным добавить: – Вообще-то мы не ругаемся, вы не думайте. У нас тут дисциплина.
Тетка опять ничего не сказала, а я, вытянув шею, увидел открывавшего нам ворота военного в потрепанной шинели, который ударил ладонью левой руки по бицепсу правой, отчего ее сжатый кулак подпрыгнул вверх, и выкрикнул нам вслед:
– Вешайтесь, суки!
– Это он так пошутил, – сдавленным голосом пояснил сержант, но мамаша в очередной раз промолчала.
– Итак, вы попали служить в зенитно-ракетный дивизион, – вещал, расхаживая по учебному классу, замполит в чине капитана, пока мы изо всех сил боролись со сном, – а это означает, что государство авансом оказало вам доверие. А это, в свою очередь, означает, что и вы должны ответить ему тем же… – Он остановился под плакатом, на котором была изображена боевая ракета в разрезе, и повысил голос: – И начнем мы с того, что научимся не спать, когда от нас требуется максимальное внимание… Боец!
– Я! – с сиденья на первой парте вскочил парень, на которого я обратил внимание еще в приемнике.
Кажется, призван он был из Белоруссии. Когда я впервые увидел его, задумчиво поглощающего картофельное пюре на ужине, мне почему-то сразу подумалось, что он не жилец. Откуда такое пришло в голову, было непонятно, но вот только так подумалось, и все. Возможно, он был похож на того парня с моего двора, который, говорили, утонул, купаясь на местной ТЭЦ, когда переехал на новое место жительства.
– Представьтесь.
– Рядовой Петров!
– Повторите, что я только что сказал.
– Вы сказали… – И Петров к моему удивлению слово в слово повторил последнюю фразу замполита.
– Садитесь… Сейчас вы все поступите в распоряжение командира дивизиона, майора Санько. Он проведет вас по позициям и покажет боевую технику, на которой вам предстоит работать все два года службы. И еще… – Замполит сделал многозначительную паузу, и когда все уставились на него, сказал: – Если у вас в ходе службы будут возникать какие-то проблемы, немедленно обращайтесь ко мне. Я имею в виду неуставные взаимоотношения. Всем понятно?
– А здесь есть неуставные взаимоотношения? – спросил Петров и я опять подумал, что он точно не жилец.
– Изживаем, – бодро сказал капитан и посмотрел на часы. – Все свободны. Разрешаю перекурить десять минут. Курилка напротив казармы, в двадцати метрах, вы видели… Вольно, разойдись.
Мы побрели к курилке, к навесу со скамейками, образующими четырехугольник, в центре которого в асфальте была круглая дыра, а в дыре находилась круглая железная штуковина для сигаретных бычков и прочего мусора. В курилке сидели четыре воина, каждый на своей скамейке, то есть занимая весь периметр. И, судя по расхристанному виду, это были старослужащие.
– А разрешения спрашивать уже не надо? – бросил светловолосый парень с неприятной морщинистой физиономией, когда первый из нас неуверенно зашел в четырехугольник. – Оглохли, что ли? Я к кому обращаюсь, босота? – И сплюнул на асфальт.
– Воин, подтянуть ремень! – рявкнул второй, с короткой шеей, и мы все схватились за ремни, потому что было непонятно, к кому он обратился.
– Ты что, не слышал команды? – спросил третий, здоровенный широкоплечий качок. И Петров, к которому он, оказывается, обращался, неожиданно сказал:
– Извините, не вижу ваших лычек, товарищ военный.
– Не понял… – сказал четвертый, смуглый ефрейтор с крючковатым носом. И скроив преувеличенно озадаченную физиономию, спросил у своих: – Это че за борзоту нам прислали?
– Да они нас сами в момент строить начнут! – с такой же преувеличенной озабоченностью сказал здоровяк. Он встал, потянулся, словно разминая кости перед физической нагрузкой, сделал шаг вперед и Петров, болезненно ойкнув, согнулся в поясе. – А ну, салабоны! Даю вам шесть секунд, чтобы вы…
Договорить он не успел. Сзади хлопнула казарменная дверь и чей-то строгий голос сказал негромко:
– Валеев… После обеда жду в своем кабинете.
– Есть, товарищ майор! – сказал, подтягивая ремень, здоровяк и со злостью прошипел: – Ну все, суки… Ждите, скоро вам прилетит…
– Рядовые из молодого пополнения, ко мне, – скомандовал с порога казармы майор. – Бего-о-ом… марш!
И когда мы рванули к нему, рявкнул:
– Отставить! – Мы остановились. – По команде «бегом» бойцы сгибают руки в локтях. По команде «марш» начинают движение. Итак… Бего-о-ом…
Мы согнули в локтях руки.
– Марш!
– Ну, попали, блядь, – тихо проговорил кто-то на бегу, и я был полностью с ним согласен…
Пока мы шли по территории, которая, оказывается, называлась «позиции», майор показывал, что где находится, отвечал на все наши, даже самые нелепые или не относящиеся к делу, вопросы, шутил и вообще прикидывался охренительным доброхотом, типа «отца солдатам». В центре позиций находилась искусственная насыпная гора, на которой возвышалась кабина «П» с радаром на крыше, а внутри горы, в капонирах, стояли кабины «У», «А», кабины с дизелями и прочая хрень. Все это хозяйство называлось СНР, что означало «станция наведения ракет», а сами ракеты стояли на шести пусковых установках, образовывающих кольцо вокруг этой горы. Были еще какие-то ангары, антенны и другие непонятные штуковины, но я ничего не спрашивал, просто плелся в толпе вместе со всеми и вертел головой по сторонам, слушая объяснения командира.
Мы описали по территории огромный полукруг и взяли курс назад, когда вдруг увидели в стороне небольшой пруд, почти идеально круглый, метров двадцати в поперечнике.
– Ни хрена себе! – воскликнул парень, фамилия которого, кажется, была Масленников. Он тут же потупился и сказал: – Извините, товарищ майор, вырвалось… – И, поскольку майор продолжал молча смотреть на него, пробубнил: – Я хотел спросить, что это за водоем. Здесь летом купаются?
– Да, – майор кивнул, – летом у нас каникулы и солдаты здесь загорают и осуществляют водные процедуры… – И после паузы пояснил другим голосом: – Здесь когда-то было разлито ракетное топливо, часть его попала в пруд, поэтому запрещено подходить к нему ближе, чем на пятнадцать метров.
– Это топливо что, такое опасное? – после затянувшегося на сей раз молчания спросил кто-то.
– Стартовые расчеты, работающие с топливом, получают дополнительное питание, – сказал майор. – Яйца, масло, которые в армии просто так не раздаются… И все работы с топливом производятся в комплектах химической защиты.
– Ого… – сказал Масленников. – А давно это топливо было разлито?
– Около пяти лет назад. Была сделана полагающаяся в таких случаях очистка территории, но провести стопроцентную дезактивацию по некоторым причинам оказалось невозможным. Есть подозрения, что в пруду сохранились остатки топлива. Оно фактически не разлагается и продолжает оставаться опасным для живых организмов в течение десятков лет.
– А как оно воздействует на человека? – впервые задал я вопрос и поежился.
– Топливо является высокотоксичным ядом и обладает канцерогенным, мутагенным и прочими воздействиями, вызывает облысение, является причиной раковых и прочих заболеваний… – стал говорить майор будничным голосом, отчего мне стало еще более жутко, – включая импотенцию.
Пока он перечислял всевозможные болезни, мои сослуживцы переглядывались, но стояла тишина. Когда же прозвучало слово «импотенция», раздался встревоженный гул.
– А откуда в казарме берется вода? – наконец спросил Петров.
– Вон водокачка, – сказал майор и все повернулись в указываемую им сторону. – Если вы, боец, сомневаетесь в качестве потребляемой в подразделении воды, докладываю… Местная санэпидемстанция осуществляет строгий контроль, периодически ею производится забор воды на анализ, и по сию пору результаты были удовлетворительными. Опасность может представлять только пруд. По непонятной причине в находящейся в нем воде еще сохранились остатки топлива. Но поскольку дно пруда глинистое, протечки в грунтовые воды не происходит.
Круглолицый парень, фамилию которого я пока не запомнил, собрался спросить что-то еще, но майор посмотрел на часы и тоном не предусматривающим возражений сказал:
– На этом ознакомительную экскурсию будем считать законченной. – И добавил с оптимизмом, взяв направление на казарму: – Не все так страшно, воины. Все представители проживающего здесь длительное время командного состава до сих пор живы и здоровы, что подтверждают регулярно проводимые медицинские обследования. У бойцов срочной службы соответствующих заболеваний не было выявлено тоже. Просто не надо приближаться к пруду, вот и все.
– Попали… – тихо повторил кто-то, и я опять был с ним согласен.
Слухи о разгуле дедовщины оказались сильно преувеличенными. Точнее, нашему призыву просто повезло. Где-то за год до нашего появления в дивизионе случился эпизод с избиением молодого воина, и несколько старослужащих загремели в дисциплинарный батальон. Было сменено руководство дивизиона в виде командира и замполита, и бить откровенно уже опасались. Теперь старослужащие больше брали на испуг плюс проворачивали всяческого рода подляны, что им было легко сделать, пользуясь поддержкой сержантов… Во всяком случае, прошло полгода, а весь наш призыв был жив-здоров и даже прибавил в весе. Ну, не считать же за трагедию такую штуку, как за полгода несильно схлопотать пару раз по физиономии.
Я сдружился с Петровым, немало времени мы с ним провели в разговорах «за жизнь», и вскоре я начал подозревать, что интуиция, которой я всегда гордился, на сей раз меня подвела. Он оказался самым обыкновенным парнем и ничто не указывало на неизбежные для него неприятности, что не могло не радовать меня, как друга. Я попал в кабину «П», ту самую, на горке, с антенной на крыше, а Петров в кабину с дизелем, поскольку, оказывается, успел какое-то время поработать на гражданке мотористом. Еще один наш корефан, Масленников, попал в стартовый расчет и как раз он получал дополнительные яйца и масло, потому что его взводу периодически приходилось отрабатывать нормативы по заправке ракет.
Короче, все шло нормально, но вскоре произошло нечто, что заставило меня вернуться мыслями в то время, когда я сделал относительно Петрова неблагоприятный для него прогноз. В какой-то из дней, когда офицеров созвали на собрание, совещание или что-то в этом роде, а на станции проводились плановые регламентные работы, то есть все, пользуясь отсутствием офицеров, спали, где смогли пристроиться, сержант Скороспелов выделил нас с Петровым и еще одним бойцом по фамилии Рябко в помощь своему корешу-сержанту из стартового расчета, на уборку территории пусковой.
Путь к шестой стартовой площадке мы себе наметили через пруд, давая небольшой крюк, что было выгодно нам по нескольким причинам. Во-первых, таким образом мы оттягивали время встречи с сержантом Гуляевым, который должен был нас припахать, а во-вторых, этот чертов пруд манил нас, как ребенка сладкое, поскольку таил в себе угрозу и одновременно был безопасен, если, разумеется, специально в него не лезть. И не одних нас манил этот пруд, потому что возле него периодически пересекались многие, делавшие ненужный крюк, чтобы постоять на утрамбованной песчаной поверхности возле зараженной воды и в сотый раз обсудить, что бы могло произойти, если в него случайно бултыхнуться, и нафантазировать какую-нибудь чепуху, в точности зная, что никогда в этот пруд не угодишь.
Но на сей раз все пошло не как обычно. Петров приблизился к пруду, скинул хэбэшку и решительно заявил, что намерен искупаться. Конечно, за полгода я его уже неплохо изучил, но время от времени он своими поступками все же ставил меня в тупик. Вот и сейчас я смотрел на него и не знал, всерьез он это или в шутку. Чертов Петров…
– Ты что, понтуешься? – спросил, быстро оглядевшись, Рябко. Не обнаружив посторонних, он достал пачку «Памира» и закурил.
– Ты чего, Петрушкин? – сказал я. – Крыша поехала?
– Да парилка-то вон какая, – сказал Петров. – Грех в такую жарищу не окунуться.
– А как же…
– Да не верю я во все это, – оптимистично сказал Петров, однако в пруд лезть не спешил. Он стоял в одних трусах на самом краю утрамбованного до цементной твердости песка и смотрел в темную водную муть.
– Во что в «это»? – поинтересовался Рябко.
– Да в ту чепуху, что нам тут уже полгода скармливают. Про протекшее топливо наверняка придумали офицеры, вот что я думаю.
– А на хрена им это? – спросил я.
– Да чтобы солдаты не бегали сюда купаться, вот на хрена.
Мы с Рябко переглянулись. Звучало, в общем-то, логично, и даже очень. Вообще, в объяснениях, которые еще тогда, в первый день, выдал майор, было много нестыковок и натяжек. К примеру, мы ни разу не видели, чтобы в дивизион приезжали с санэпидемстанции для взятия пробы воды. Потом, майор утверждал, будто грунтовые воды на территории подразделения чистые, потому что дно пруда изолировано глиной, и при этом воду пруда нельзя дезактивировать или просто откачать, хотя в нем сохранились остатки топлива – то есть налицо полное противоречие в своих же аргументах… Короче, самый настоящий бред, так что, возможно, Петров прав. И все же… В этом пруду действительно никто никогда не купался, даже самые отъявленные похренисты из старослужащих.
– Что, салабоны, развлекаемся?
Мы обернулись и обнаружили трех делопутов из стартовой батареи. Отслуживший полтора года сержант Гуляев, к которому нас отправили в рамках обмена старослужащими молодой рабочей силой, черпак Корнеев и дедушка Сулейманов. Все трое изрядные долбоебы, за исключением, пожалуй, второго, который, похоже, просто подстраивался под дружков своего призыва, чтобы не выглядеть в их рядах белой вороной. Или же для превращения в законченного идиота ему не хватало полгода, как бабочке, пока пребывающей в стадии куколки.
– Купаться надумали, – оценил обстановку Сулейманов и подмигнул сержанту. – Посмотрим?
Тот поморщился.
– Давайте, ноги в руки и бегом на шестую пусковую, – сказал он. Сказал, впрочем, нехотя, словно и ему хотелось посмотреть на купание Петрова в зараженных водах пруда четвертого зенитно-ракетного дивизиона N-ской воинской части. – Петров, плохо со слухом? Быстро оделся и убежал, я сказал!
– Плохо, – брякнул Петров и ко мне опять вернулись дурные предчувствия. Те, полугодичной давности, что он не жилец и все такое.
– Че-е-его? – недоверчиво переспросил сержант и посмотрел на своих. – Надо же… Наверное, это заразно. Я, тоже, кажется, стал плохо слышать. Нет, он действительно это сказал? – И Гуляев с угрожающим видом сделал шаг вперед.
– Да пусть купается, – предложил стоящий ближе к Петрову Сулейманов, и, тоже сделав шаг вперед, неожиданно толкнул его двумя ладонями в грудь.
Петров, взмахнув руками в попытке удержаться, потерял равновесие и через секунду с негромким всплеском скрылся под водой. В полете он не издал ни звука.
– Ты что! – крикнул я, и мы с Рябко бросились к пруду.
Остановившись на остром, словно обрубленном, берегу, мы неуверенно переглянулись и стали смотреть в воду, по которой пробежали крупные волны. Одна, плеснув на берег, едва не лизнула мне сапог. Я испуганно отпрыгнул, и сзади засмеялся Корнеев.
– На хрена ты это… – не оборачиваясь, напряженным голосом спросил сержант. Он смотрел на поверхность воды, ожидая появления Петрова. – Если этого придурка потом скрючит, нас по головке не погладят.
– Да что с ним сделается! – Сулейманов засмеялся, но смех прозвучал искусственно. – Заодно и узнаем, так ли уж вредно это топливо… А то все пугают, пугают. К тому же, он сам искупаться захотел… Гуля, ты чего распереживался из-за какого-то…
Сулейманов говорил еще что-то оптимистичное, но чувствовалось, парень четко осознает, что совершил подляну, это было понятно по интонациям и усилившемуся узбекскому акценту.
Все напряженно всматривались в водную поверхность, и вздохнули с облегчением, когда над ней показалась голова вынырнувшего Петрова.
– Чего уставились? – спокойно спросил он и выпустил изо рта струйку воды. Затем посмотрел на Сулейманова и так же спокойно сказал: – Чтоб у тебя хуй на пятке вырос.
– Чего! – взревел тот и дернулся к водоему, но остановился за несколько шагов до края, словно опасался воздействия невидимых ядовитых испарений. – Повтори, что ты, билядь, сволочь, сказал!
– Чтоб как поссать – так разуваться, – закончил Петров и опять скрылся под водой.
– Да я тебя! – заорал Сулейманов кругам на воде и с угрожающим видом повернулся к нам с Рябко, словно, не имея возможности поймать Петрова, решил выместить злобу на нас.
– Представление закончено, – сглотнув, сухо сказал Гуляев, когда Петров вынырнул во второй раз. – Все быстро привели себя в порядок и побежали на стартовую площадку. Время пошло.
И первым, не дожидаясь своих, пошел прочь. За ним потянулись Сулейманов и Корнеев. Сулейманов напоследок оглянулся и скорчил страшную рожу.
– Бис-с-стро, билять… – прошипел он. – Слышали, что сказал сержант…
Через неделю я зашел в умывальник, где чистил зубы голый по пояс Петров, и остолбенел. У него не было кожи. Не вскрикнул я лишь потому, что у меня перехватило горло. Я стоял, смотрел, как работают мышцы Петрова, и не верил своим глазам. Я видел все мельчайшие венки, сухожилия и пересекающиеся мышечные ткани – точь-в-точь как на школьных анатомических плакатах – и изо всех сил боролся с накатившим приступом тошноты.
– Чего застыл? – беззаботно поинтересовался, сплюнув и посмотрев на меня через зеркало, Петров. – Давай быстрей, мы и так из-за этой чертовой уборки плаца припозднились. Сейчас прибежит Васильев, тогда крику не оберешься.
В коридоре тут же послышался топот и, словно вызванный неосторожно произнесенным заклинанием призрак, на пороге возник младший сержант Васильев.
– Вы чего тут торчите! – сходу заорал он, выпихивая меня из умывальной комнаты, – все давно построились, а они… Малютин, Петров! Да быстрей же, блядь, я кому сказал!
Очнувшись, я побежал по коридору, боясь обернуться и напряженно прислушиваясь к интонациям бушующего Васильева, ожидая, когда он, наконец, разглядит, что у Петрова отсутствует кожа и начнет кричать совсем другим голосом, но вскоре я добежал до спального помещения, а ничего экстраординарного так и не произошло.
Когда я, надев хэбэшку, бежал, застегиваясь, обратно, в дверях мы столкнулись с бегущим навстречу Петровым нос к носу. Отвернуться я не успел. Со страхом мазнув взглядом по его торсу, я обнаружил, что с кожей Петрова все в порядке. И небольшой шрам на груди, над правым соском, и родинка на плече, все было как всегда, все находилось на своих обычных местах.
– Да быстрей ты, блядь! – закричал я на него голосом младшего сержанта Васильева, испытывая такое облегчение, что уже и неминуемая взбучка за опоздание в строй казалась такой мелочью, что об этом даже западло было думать.
До самой зимы я исподтишка присматривался к Петрову, боясь заметить в его внешнем виде или поведении что-либо, что напугает меня так, как тогда, в умывальнике, но все с моим другом, слава богу, было в порядке. Несколько раз Петров перехватывал мои изучающие взгляды, спрашивал, в чем дело, но мне удавалось как-то отшутиться. Ему мое непонятное поведение, естественно, здорово не нравилось, а объяснить что-то я, так же естественно, не мог, это было равносильно признанию, что я сошел с ума. И когда я уже окончательно успокоился, сделав вывод, что тот случай во время утреннего умывания был не более чем моей зрительной галлюцинацией, произошло нечто.
И началось это нечто почти прозаично, если такое слово применимо к случаю, когда тебя беспардонно травят газом, объясняя, что это проделывается во имя укрепления обороноспособности Отечества.
Когда командир во время очередного утреннего развода объявил перед строем, что сегодня подразделению предстоит пройти проверку готовности по химической защите, даже воинам первого года службы стало ясно, что для личного состава подготовлена очередная пакость. Это дало повод для ропота в курилке, но не вызвало ни малейшего удивления. Все давно привыкли, что из череды подобных пакостей и состоит воинская служба, в чем и есть ее высший смысл; причем эти пакости не только не считаются предосудительными, но поощряются государством в лице Министерства обороны и по их осуществлению даже существует утвержденный на самом верху план.
После развода все получили комплекты костюмов химзащиты и опять выстроились на плацу. Единственным утешением для большинства послужило обстоятельство, что на плац согнали всех до единого, вплоть до поваров и кочегаров, то есть ни одно лицо хозяйственных национальностей, из которых сплошь состоял хозвзвод, на сей раз не должно было ускользнуть от карающего меча военной справедливости. Это хоть как-то компенсировало заранее понесенный моральный ущерб от еще предстоящих мытарств.
Пока основная масса бойцов, морозя пальцы, повзводно отрабатывала на плацу норматив скоростного облачения в задеревеневшие от холода резиновые костюмы, несколько человек под руководством старшины возводили большую палатку на пустом снежном пространстве между казармой и баней.
Моя радиотехническая батарея должна была пройти через палатку после взвода управления, а за нами следовал хозвзвод. Последними шли стартовики. Все выстроились возле палатки и все, включая старослужащих, заметно нервничали. Как бывало в таких случаях, народу нестерпимо хотелось курить, хотя после отработки надевания костюмов личному составу было отведено десять минут на перекур, который был реализован большей частью в обреченном предсмертном молчании.
Все ждали командира, который почему-то задерживался. Кажется, позвонили из штаба полка и он трындел в своем кабинете по телефону. А когда он наконец появился словесно перерезать красную ленточку, измученные ожиданием воины обрадовались так, словно министр обороны объявил всем внеочередной отпуск или вовсе распустил по домам.
– Итак, – весело сказал майор Санько, остановившись перед строем, – объясняю боевую задачу. Сейчас наше подразделение пройдет проверку работоспособности противогазов. Поэтому, если какие-то умники убрали клапаны или заблокировали их, чтобы дышать полной грудью на кроссах… – он оглядел строй и хмыкнул, – сейчас они надышатся вволю, потому что палатка будет заполнена парами хлорпикрина.
Я заметил, что несколько старослужащих переглянулись с многозначительными ухмылками, должно быть, гордясь своей предусмотрительностью, заставившей их вовремя вернуть клапаны на место.
– Однако, ничего страшного, – все так же весело продолжил майор. – Хотя хлорпикрин, как должно быть известно всем, кто не спит на занятиях по ОМП, и является боевым отравляющим газом, его концентрация будет незначительна, поскольку жидкость разведена в пропорции не более чем один к десяти… Вопросы?
– А почему жидкость, товарищ майор, если это газ? – спросил каптер Мирзаев.
Все нервно заржали, а майор даже не сделал по этому поводу замечания. То ли он получил хорошие новости из полка, то ли просто был сегодня в прекрасном расположении духа. Подобное состояние обычно строгих офицеров характеризовалось служивым народом низших званий, как «жена утром хорошо дала».
– В палатке вы все узнаете, товарищ рядовой, – сказал майор и, подняв руку, посмотрел на часы. – Первыми пропустите поваров, и пусть сразу отправляются готовить обед.
– Есть, – сказал назначенный ответственным за травлю ни в чем не повинного рядового и сержантского состава капитан Лубяной.
Командир хозяйственного взвода, прапорщик Гореликов молча кивнул, а повар Шурпетов встревоженно сказал:
– Товарищ майор, у меня противогаз в полном порядке. Можно, я сразу пойду на кухню?
– Если у вас противогаз в полном порядке, вам волноваться нечего, товарищ ефрейтор, – бодро заверил его майор и опять посмотрел на часы. – Товарищи офицеры, начинайте. По пять бойцов за один заход.
– Первые пятеро, газы! – сказал, встав на входе в палатку, капитан Лубяной.
Повара обреченно натянули на головы противогазные маски.
– В палатку! – скомандовал Лубяной…
Когда подошла очередь моей пятерки, я, в принципе, был ко всему готов. Старослужащие наконец прекратили нагнетать таинственность и в общих чертах объяснили суть предстоящей процедуры. В каждой пятерке был сержант, который должен был в какой-то момент отдать пакостную команду «перебита дыхательная трубка», согласно которой нужно было открутить гофрированную трубку с двух сторон и подсоединить шлем-маску напрямую к фильтрующе-поглощающей коробке. В принципе, ничего сложного, такая вводная неоднократно отрабатывалась на занятиях по ОМП, но сейчас наглотаться чертового газа можно было не условно, а натурально, и это напрягало.
Вроде существовала еще более пакостническая команда: «повреждена маска», после отдачи каковой нужно было отцепить маску, зажмурить глаза и дышать через трубку или прямо из фильтрующей коробки, но такая гнусность на сегодня, кажется, не планировалась.
Также в палатке присутствовал наблюдатель из офицерского состава, в данном случае это был капитан Лубяной из взвода управления. Его обязанностью являлось следить за техническим выполнением процедур, чтобы не допустить баловства или пристрастного отношения старослужащих к молодым.
Я, конечно, изрядно нервничал, как перед любым столкновением с чем-то незнакомым и опасным, а потом перестал. Наверное, просто перегорел, поскольку очередь продвигалась не слишком быстро, да и, если вдуматься, ничего особенного произойти было не должно. Все предстоящие действия и в самом деле были не раз отработаны на бесчисленных учебных занятиях, разве что без самого наличия отравляющих веществ, но это не страшно. Просто нужно будет быть предельно собранным, только и всего. Главное, не следует торопиться, делать все как учили, включая набирание воздуха в грудь, задержку дыхания с последующим продуванием маски и тому подобное. Еще можно было сказать спасибо, что командирами было великодушно дозволено надеть противогазы перед входом в палатку, потому что согласно нормативам это, кажется, полагалось делать в самой палатке, что увеличивало шансы надышаться едкой гадости…
Все прошло так, как я и предполагал, то есть вполне удачно. С «перебитой» трубкой я справился успешно, а больше не было ничего сложного, поэтому из палатки я выбрался целым и невредимым. Я не только не наглотался газа ни грамма, но у меня даже не запотели стекла, чего я боялся больше всего, хотя и это, по сути, было ерундой, не более чем моральным неудобством, поскольку все можно было сделать на ощупь. Да и без того все почти так и происходило, поскольку два полупрозрачных палаточных окна являлись источниками света весьма и весьма условными.
И не я один был таким успешным. Относительно удачно прошла неприятную процедуру вся основная масса, включая даже служивых из хозяйственного взвода. Всего двое или трое таковых выскочили из палатки с выпученными на красных физиономиях глазами, в соплях и слезах, и их, вопреки прозвучавшим ранее угрозам, даже не стали запихивать обратно, хотя такие вещи и практиковались обычно для профилактики и лучшего освоения бойцами военного дела.
Отбывших газовую повинность офицеры на перекур не отпустили, дожидаясь полного завершения полевого учебного занятия, поэтому освободившийся народ нетерпеливо топтался возле палатки, от нечего делать комментируя происходящее.
Оставалась последняя пятерка, в которую угодил Петров, когда в стане стартовиков произошло кое-что меня насторожившее. Я заметил, как Сулейманов подмигнул Корнееву, они одновременно посмотрели на сержанта Гуляева и тот, поколебавшись, кивнул. Стало понятно, что затевалась какая-то гадость, которую они придумали заранее, но окончательное добро на которую Гуляев дал только сейчас, в последний момент. И, ясное дело, гадость это была замышлена против Петрова. Очевидно, старослужащие не простили ему того наглого поведения на озере и сейчас посчитали, что настал удобный момент свести счеты.
Ну да, они же специально сделали так, чтобы оказаться с ним в одной пятерке, точно. И для этого Гуляев договорился с нашим замкомвзвода, потому что тот в какой-то момент отослал Петрова с каким-то поручением на позиции и он пропустил свою очередь. Очевидно, замышлялось что-то вроде неожиданного срыва маски, чтобы Петров наглотался отравляющей гадости. К тому же, я заметил, что уже прошедший палатку Гуляев заранее встал возле входа и смысл этого маневра не вызывал никаких сомнений – он изготовился запихивать рвущегося наружу Петрова обратно. Но там же торчит капитан Лубяной в качестве наблюдателя, он же не допустит, чтобы…
Я повернул голову, неожиданно увидел капитана, разговаривающего с солдатами, и у меня неприятно похолодело в желудке. Он вышел на свежий воздух, не дожидаясь окончания учебных занятий, просто я не засек, в какой момент это произошло. Ну да, капитану попросту надоело торчать в этой газовой камере, поскольку все шло гладко и, к тому же, оставалась всего пара последних заходов.
Я стал лихорадочно сигнализировать изготовившемуся Петрову об опасности, но тот, уже натянувший противогаз, моих стараний, разумеется, попросту не замечал.
– Вперед, – скомандовал Гуляев и последняя пятерка бойцов осторожно, один за другим, проскользнула за коричневый брезент.
У меня лихорадочно заколотилось сердце. Потянулись секунды ожидания, во время которых я не мог решить, что предпринять и стоит ли вообще что-то предпринимать. С одной стороны, ничего страшного не произойдет, даже если Петров наглотается этой остропахучей мерзости, поражающей легкие и слизистые оболочки организма. Ну, прослезится, прокашляется, на худой случай проблюется. С другой стороны, с какого черта Петрову нужно проходить через все это по прихоти желающих отомстить ему придурков. С третьей стороны, не закладывать же мне капитану этих уродцев, тем более, заранее, до того, как что-то произошло. Ведь это всего лишь мои догадки.
Пока я обо всем этом думал, из палатки вывалилась четверка возбужденных стартовиков. Сорвав противогазы, они развернулись к палатке и стояли, глубоко и часто дыша, а Гуляев на входе напружинился, явно готовясь пресечь попытки Петрова вырваться из брезентовой ловушки.
Минуло секунд десять, но ничего не произошло. Я посмотрел в сторону Лубяного и обнаружил, что вступившие в сговор стартовики из компании сержанта отвлекают его внимание, задавая какие-то вопросы и нарочно расположившись так, чтобы заслонить ему обзор сектора перед входом в палатку.
Прошло еще секунд десять и ехидные улыбки предвкушающих скорое развлечение стартовиков сползли с их довольных физиономий. Четверо с откровенной растерянностью уставились на Гуляева, а тот с не меньшей растерянностью пожал в ответ плечами и с усилием сглотнул.
– Твою мать… – прошептал он, – не дай бог, если из-за какого-то салабона мой дембель медным тазом накроется… А главное, ведь всего пара недель осталась…
Прошло еще секунд десять.
– Товарищ капитан! – с тревогой сказал я, подойдя к Лубяному. – Товарищ капитан, там боец… это…
– Чего «это»?
– Ну, не выходит.
– Вашу мать! – моментально во все вклинившись, сквозь зубы прошипел Лубяной и быстро зашагал к палатке. – Гуляев, вы что там вытворяете!
– Да мы ничего, товарищ капитан… – испуганно выдавил из себя сержант и его бледный вид окончательно подтвердил догадки Лубяного.
– Ну, я вам потом устрою. Будет вам дембель… – Было видно, как перепугался и сам капитан, который нес ответственность за происходящее. – Величко, ты где! – рявкнул он, и к нам, придерживая рукой увесистую медицинскую сумку на лямке через плечо, на полных парах понесся рыхловатого телосложения фельдшер с округлым лицом, младший сержант из призыва Гуляева. Кажется, он курил втихаря где-то углом казармы.
Лубяной уже протянул руку, чтобы откинуть брезентовую ткань, и тут появился Петров. Без маски, держа противогаз в руке, он спокойно миновал остолбеневшего капитана и вышел на утоптанный снег перед палаткой. Потом, словно спохватившись, повернулся к капитану, переложил противогаз в левую руку и козырнул.
– Виноват, товарищ капитан, – сказал он. – Задумался, не заметил вас.
– Н-ничего… – пробормотал Лубяной. Он снял шапку и рукавом шинели промокнул повлажневший лоб.
– Рядовой Петров норматив сдал.
Капитан молча смотрел на него, держа шапку в руке.
– Всем строиться! – через десяток секунд окончательно придя в себя, крикнул он и еще раз поднес рукав ко лбу. – И быстро!
А еще через несколько десятков секунд я стоял в строю и вертелся, пытаясь рассмотреть, как себя чувствует Петров. Потом, получив от старослужащих пару чувствительных тычков в бок и наказ стоять ровно, успокоился. Если бы с Петровым было что-то не в порядке, рядом с ним происходило бы какое-нибудь шевеление, да и капитан Лубяной, расхаживавший перед строем и дававший указания относительно дальнейших действий личного состава, не был бы так спокоен.
– Сдаете комплекты химической защиты, затем перекуриваете десять минут, затем построение на плацу для подведения итогов учебного занятия… – закончил капитан. Он взял паузу и пошарил взглядом по строю. Почему-то я был уверен, что он ищет Петрова. – Вольно, разойдись, – в итоге сказал Лубяной и, потеряв к нам интерес, развернулся и направился к казарме.
Строй рассыпался и трое делопутов окружили Петрова. Я, несмотря на окрики дедов, приблизился к стартовикам и навострил уши.
– Ну как? – ехидно спросил Корнеев. – Понравилось?
– Как дышится без масочки? – поддакнул Сулейманов.
Сержант Гуляев промолчал. Он просто стоял и рассматривал невозмутимого как автобус Петрова.
– Чего молчишь, – с раздражением сказал Корнеев. – Брезгуешь разговаривать с дедушками?
– Да пошли вы, – сказал Петров.
– Чи-во! – заорал, разъярившись, Сулейманов. Он подскочил к Петрову вплотную и замахнулся.
Не знаю, хотел ли он ударить или решил просто попугать, но у него не получилось ни первого, ни второго. Петров неожиданно подул на него и Сулейманов переломился в поясе. Схватившись за горло, он судорожно хрипел, задыхаясь в черном облаке вырвавшегося изо рта Петрова пара или газа, или чем там еще было это чертово облако. Остро запахло хлорпикрином, так, что у бойцов, оказавшихся невдалеке от Петрова, защипало глаза. Они закашлялись и поспешно отскочили.
– Твою мать! – растерянно выкрикнул Гуляев, когда Сулейманов рухнул на колени, а его лицо сделалось таким багровым, что могло посоревноваться с каленым кирпичом, из которого была сложена нижняя треть высокой водокачки на территории нашего дивизиона. – Величко!
Но пока прибежал опять куда-то запропастившийся фельдшер, Сулейманова подняли и он уже довольно сносно стоял, хотя по-прежнему держался за горло, сипел и пошатывался, словно пьяный.
– Я свободен? – все так же спокойно осведомился Петров и Гуляев, поколебавшись, молча кивнул.
Петров побрел по направлению к курилке, а взбудораженные стартовики устроили военный совет.
– Чем это он его? – растерянно сказал Корнеев.
– Похоже, эта скотина хлорпикрин в легких задержала, – после паузы неуверенно предположил Гуляев.
Все держались в некотором отдалении от Сулейманова, словно он мог оказаться заразным и неизвестная, поразившая его штуковина могла перекинуться на остальных.
Кто-то из стартовиков натужно засмеялся, но его никто не поддержал.
– Ты сам-то в это веришь? – спросил Корнеев.
Гуляев пожал плечами. Он поколебался, потом решился сделать шаг к Сулейманову.
– Ты как? – спросил он и решился положить руку узбеку на плечо.
Тот что-то тихо ответил или просто что-то промычал, что мне не удалось расслышать.
– Малютин, Петров, вы где застряли! – раздался с крыльца казармы раздраженный голос нашего замкомвзвода, младшего сержанта Васильева, и я, опомнившись, побежал к нему, придерживая рукой противогазную сумку. Сзади бодро топал сапогами по утоптанному снегу Петров. И, судя по всему, дыхание его было чистым и ровным.
Мне было как-то не по себе, а, главное, я знал, что никогда не решусь спросить своего закадычного дружка, что за фигню он в очередной раз отмочил. Во-первых, он все равно ничего толком не скажет, просто отшутится, а тогда и нечего спрашивать. Во-вторых, и это главное, я не определился, действительно ли мне хочется это знать. По поводу этого у меня были сильные сомнения…
По сравнению со случившимся во время отработки норматива по ОМП, следующий непонятный эпизод был по своей значимости уже совсем мелким, и если он вообще врезался мне в память, то как некий курьез, несуразность, выданная гораздым на неординарные выкидоны рядовым срочной службы Петровым, по совместительству моим другом.
Попав в очередной раз в караул и заступив на пост номер один, я ходил как зомби, не выспавшийся и голодный, лениво размышляя, скурить ли мне единственную захваченную на пост сигарету сразу или потерпеть и приговорить ее по прошествии, допустим, часа. Нарезая круги вдоль ограждения, за которым находился набитый боевыми ракетами двойной бетонный ангар, я думал о чем-то, что можно было охарактеризовать словосочетанием «ни о чем».
А совершая очередной виток по орбите, вдруг остановился и вернулся к только что пройденному кирпичному углу ограждения.
Это был дальний от входа на пост угол, исцарапанный именами девчонок и цифрами, следующими за заветным сокращением «ДМБ». Почему для художественной росписи кирпичной кладки военнослужащими был выбран этот угол? Наверное, потому, что стоящий в этом месте не был видим со стороны жилой части территории подразделения, и засечь занимающегося недозволенным делом часового было нельзя, если не выслеживать его специально. Этот угол, когда на него обращали внимание проверяющие посты офицеры, периодически скоблился железными щетками, но через какое-то время выцарапанные надписи упрямо проявлялись вновь.
Несколько минут я стоял, пялясь на эти надписи, пока, наконец, не понял, за что машинально зацепился взгляд. Это были стандартные буквы «ДМБ», разве что они были свежими. Разумеется, автор этой отметины не расписался, чтобы его не вычислили офицеры или, если таковой был молодым, этого не сделали деды. Однако у меня было стойкое ощущение, что я знаю, кто это сделал. Конечно, в качестве художника-графика выступил мой закадычный дружок Петров.
Во-первых, надпись была совсем свежей, а, заступая сегодня в караул, мы как раз принимали наряд у бойцов взвода управления, к которым присовокупили Петрова в качестве подмены бойца, отпущенного в полковую санчасть по причине неожиданно разболевшегося зуба. И тянул он лямку часового именно на первом посту.
Во-вторых, и это было даже более существенным аргументом… я просто чувствовал, что это его работа. Чувствовал, и все тут.
Только, если я не ошибался и автором надписи являлся действительно Петров, была во всем этом одна небольшая, но существенная странность. Он допустил ошибку в цифрах, слегка срезав себе оставшийся срок службы…
Я был озадачен настолько, что не просто лишился обычной для часового сонливости и оставшееся время ходил, хмурясь и прикидывая, что все это должно означать, но даже не скурил пронесенную на пост сигарету, попросту о ней позабыв, что лишь подчеркивало степень этой моей озадаченности.
– Ну да, я нацарапал, – беззаботно сказал Петров спустя сутки, когда наша батарея сдала наряд стартовому взводу и мы пересеклись с ним перед ужином. – И что?
Я пожалел, что не удержался и затеял этот разговор. Конечно, ни черта он мне не скажет, просто отшутится в своей обычной манере или загадочно промолчит.
Так и произошло.
– Говоришь, я ошибся? – переспросил Петров. И, помолчав, задумчиво произнес: – Кто знает, кто знает…
– Что «кто знает»? – не выдержав, чрезмерно резко сказал я, когда пауза опять затянулась.
– Кто может знать срок своего выхода на дембель, – сказал Петров нелепейшую для солдата срочной службы фразу. Затем бросил докуренную сигарету в контейнер, встал и потянулся. – Ну, пошли?
– Подразделение, строиться перед казармой! – словно уловив его посыл, прокричал выскочивший на крыльцо дневальный.
– Ну, пошли, пошли, – проворчал я, тоже вставая и отбрасывая бычок. И рявкнул в сторону рядового со скуластой физиономией с густыми черными бровями: – Чего расселся, Насыров! Команды, что ли не слышал…
Но все это, как выяснилось чуть позднее, было сущей ерундой. Этой же зимой случилось такое, что и мнимое отсутствие кожи в том эпизоде полугодичной давности, и происшествие во время отработки химической атаки, и «ДМБ», и прочие несуразности, все стало казаться незначительной мелочью – настолько страшным, невероятным и необъяснимым было произошедшее…
Мы с прапорщиком сидели в своей кабине на горке. Шла боевая работа, то есть операторы ручного сопровождения целей в кабине «У» крутили свои штурвалы, а наша кабина со сложной конфигурации антенной на крыше поворачивалась за целью соответственно поворотам штурвалов операторов. В принципе, ничего особенного во время боевой работы не происходило, поэтому один из нас мог даже спать, что зачастую и делал я с молчаливого согласия прапорщика Беликова, который был нормальным мужиком и позволял мне много вольностей. Вообще, мне здорово с этим тридцатилетним примерно прапорщиком повезло. Он был мало похож на военного – обычный специалист по радиоэлектронике, надевший погоны из-за зарплаты, или досрочного выхода на пенсию, или всего этого сразу. За год совместной службы я не получил от него ни одного настоящего нагоняя – разве что ряд мелких замечаний, делаемых даже с некоторым смущением, лишь по необходимости, из-за того что я находился в его подчинении и прапорщик мог получить взбучку от командира за мой, к примеру, внешний вид или что-нибудь вроде этого.
– У нас закончилась ветошь… – сказал прапорщик, не поворачивая головы, как бы никому, наблюдая за показаниями приборов.
Я услышал, но промолчал, находясь в полудреме. Сидел я на полу, на резиновом коврике, прислонившись спиной к одному из шкафов с аппаратурой и вытянув ноги, потому что крутящаяся табуретка окончательно отдавила зад и сидеть на ней стало уже нестерпимо.
– А после работы нам надо будет протереть кое-что, – продолжил Беликов и я вздохнул, поняв, что он не отстанет. – Командир обещал зайти, – как бы оправдываясь, пояснил прапорщик, наконец повернув ко мне голову. Стекла его очков сверкнули.
Я вздохнул еще раз и с кряхтением поднялся.
– Старшину наверняка не найти, – буркнул я. – Да и не станет он сейчас ветошью заниматься. Что вы, прапорщика Бурдастого не знаете…
– Ничего, обойдемся без Бурдастого, – сказал, опять посмотрев на меня, Беликов. Он ловко крутанул в пальцах отвертку и ткнул ею, указывая вниз. – Сходи к дизелистам, к прапорщику Величко. Он даст, мы договорились.
– А много… – я с наслаждением потянулся, – ну, это… много ветоши надо?
– Ну, так, охапочку… – неопределенно сказал Беликов, опять уставившись на индикатор одного из приборов. Кажется, ему там что-то не нравилось.
Я вздохнул в третий раз и вышел из кабины, решив, что шинель накидывать не стоит, тут всех дел на пять минут.
Спустившись с горки, я помочился рядом с капонирами, ничуть не опасаясь, что меня увидят, потому что все были задействованы на боевой работе, сдвинул сапогом снег, чтобы замаскировать желтое пятно, и побрел к дизелям. Едва я занес ногу над ведущими в кабину ступеньками, как дверь кабины открылась и в проеме появился Величко, невысокий, с излишним весом и одышкой. Вполне вменяемый прапорщик, но, как и Бурдастый, очень любящий припахать любого, кто попадется ему на глаза. Вот и сейчас, увидев меня, он обрадовался, словно встретил возлюбленную после долгой разлуки.
– Малютин, ты-то мне и нужен… Давай-ка за мной.
– Товарищ прапорщик! – начал я с возмущением, – у нас же работа боевая вовсю идет! Меня вот на минуту буквально отпустили, а потом бегом обратно в кабину! Вы мне только ветоши дайте, меня Беликов к вам послал.
– Минуты нам как раз хватит, – пропустив мои доводы мимо ушей, заявил Величко и, не дожидаясь новых возражений, быстро пошел за кабину, внутрь капонира. Там он заставил меня ворочать тяжеленную маскировочную сеть, под которой вроде бы должен был лежать какой-то ящик с каким-то барахлом, потом, когда ящика там не оказалось, мне пришлось укладывать эту сеть обратно, потом он велел мне разгрести груду еще какого-то барахла, а через десять минут я начал ныть на полную катушку, поняв, что мой поход за ветошью может изрядно затянуться:
– Товарищ прапорщик… ну вы же видите, я без перчаток, у меня руки замерзли! Я и без шинели к тому же… и меня Беликов с ветошью ждет, и работа боевая вовсю…
– Ладно, пошли, – сказал Величко, а я, оказавшись за его спиной, быстро стер с физиономии плаксивость и приобрел обычный самодовольный вид хитрожопого сытого черпака, отпахавшего на благо родины аж полновесный, весь в тяготах и лишениях, год.
– Стой здесь, – сказал прапор, поднимаясь по металлическим рифленым ступенькам, – а то нанесешь в кабину снега…
– Так точно, – буркнул я, думая, что из-за Величко не удастся перекинуться парой словечек с Петровым, а мне нужно было с прискорбием ему сообщить, что наша общая банка сгущенки, припрятанная до ужина, случайно съедена мною сегодня утром, но я не виноват, потому что…
Внезапно внутри кабины раздался жуткий крик, дверь распахнулась, словно ее протаранил кто-то, имеющий массу африканского слона, и по ступенькам почти скатился бледный как простыня Величко, у которого по достижении земли окончательно подкосились ноги. Он осел на деревянный помост перед ступеньками собственной кабины и некоторое время смотрел на меня бессмысленным взором, явно не узнавая, а возможно даже попросту не видя.
– Товарищ прапорщик… – осторожно позвал я, моментально забыв про холод и чувствуя, как бешено заколотилось сердце. – Товарищ прапорщик, вы… с вами все в порядке?
– Там… – он механическим движением, с усилием поднял руку и ткнул большим пальцем за спину, – там…
– Что там, товарищ прапорщик?
– Петров…
Я почувствовал, что еще секунда и сердце уже просто пробьет грудную клетку и поскачет по снегу, по всем этим замаскированным сигаретным бычкам и замерзшим желтым пятнам, а я буду бежать за ним и…
– Что Петров? – дрогнувшим голосом переспросил я, но прапорщик промолчал. Он безвольно опустил голову и глядел в утоптанный перед кабиной снег. А когда я уже подумал, что пора бы звать кого-то на помощь, он, все так же не поднимая головы, неожиданно прошептал:
– Надо доложить командиру…
– Что доложить? – чувствуя, как теперь пересохло в горле, спросил я.
А через секунду, преодолев страх, я обогнул прапорщика и принялся осторожно подниматься по ступенькам…
В крохотном тамбуре, все, как всегда, сияло и блестело, надраенное салабоном со звучной фамилией Донской, отработавшим в этой кабине полгода под чутким руководством Петрова, но самого Петрова в тамбуре не оказалось. Значит, он был в рабочей части дизельной.
Оставалось открыть дверь, за которой мерно гудел мощный агрегат, но именно это движение было труднее всего сделать, потому что, судя по всему, именно там произошло или происходило нечто, из-за чего прапорщик Величко стал выглядеть живым мертвецом.
Я стоял около минуты, затем медленно поднял руку и прикоснулся к теплой дверной ручке…
Мне казалось, что я приготовился к любому зрелищу, но то, что я увидел в дизельной…
Петров стоял спиной ко мне, держа в руках отходящие от дизельного генератора разъемы толстенного силового кабеля. Мой лучший кореш светился, как вольтова дуга, так, что слепило глаза, как если бы ты смотрел на сильную лампочку. Он был прозрачным и голым, по крайней мере, формы на нем не было видно. Все вокруг, в том числе и его тело, сверкало и искрилось, по Петрову пробегали синие молнии, он выгибался, но выгибания эти не были болезненными – его движения скорее напоминали судороги оргазма или счастливого, накачавшегося своим зельем наркомана, какими их показывали в зарубежных фильмах.
– Э-э-э-х! Хар-р-раш-ш-шо! – вдруг выкрикнул Петров и я невольно отшатнулся, готовый в любой момент захлопнуть дверь, чтобы не видеть этого кошмара или загородиться от опасности, если на меня вдруг вздумает напасть мой лучший друг.
Тут дизель надсадно взревел, раздался гром, от которого я на секунду оглох, затем по телу Петрова пробежал такой мощный разряд, что, казалось, по силе он был аналогичен настоящей молнии, потом остро запахло озоном и Петров закричал так, что у меня окончательно заложило уши:
– Э-э-э-х-х-х! Твою мать! Х-х-х-х-а-а-а-р-р-р-а-а-а-ш-ш-о-о-о-о-о-о!
Я не выдержал и захлопнул дверь…
Не знаю, сколько секунд или минут я стоял в тамбуре, согнувшись, тяжело дыша и пытаясь хоть чуточку прийти в себя, но когда я разогнулся, в голове уже немного прояснилось – так, что у меня хватило сил довольно уверенно, на относительно твердых ногах выйти из кабины, а потом я опустился задницей рядом с прапорщиком Величко и достал из кармана сигареты.
Прикурив, я обнаружил, что вокруг моих сапог растаял снег, словно я тоже был наэлектризован, как мой друг, которому настал конец и это совершено очевидно, потому что после таких электрических встрясок люди не живут. Он наверняка уже мертвый, только непонятно, кто тогда только что кричал. Или это происходит как-то самопроизвольно, как судороги под громадным, сжигающим все живое напряжением? Ведь дергаются отделенные от тушек лягушачьи лапки под воздействием батарейки… И ведь наверняка никто не заставлял Петрова хвататься за эти кабеля, он явно сделал это сам, по своей воле. Или все-таки это произошло случайно, во время профилактических работ? Но кто производит такие работы при включенном дизель-генераторе?
– Что? – переспросил я, очнувшись.
– Дай… закурить… – хрипло сказал прапорщик, который по-прежнему на меня не смотрел. Наверное, решил, что сошел с ума, и боялся увидеть в моих глазах подтверждение этому.
– Вы же не курите, товарищ прапорщик, – зачем-то сказал я, опять доставая сигареты и думая, что только что виденная сцена почему-то кажется мне смутно знакомой.
Величко сделал глубокую затяжку, закашлялся и отбросил сигарету в снег.
– Пошли, – глухо сказал он и с усилием встал.
– Куда, товарищ прапорщик?
– К командиру, куда еще… – он махнул рукой в сторону кабины «У». – Надо доложить о… – он не меньше десятка секунд подбирал слово, – о происшествии…
– Подождите, – сказал я, тоже вставая. Сказал просто так, не зная, что скажу в следующую секунду, однако Величко смотрел на меня с надеждой, словно это я был прапорщиком, а он солдатом, который надеялся, что старший сейчас решит все возникшие проблемы. – А где… этот… ну, Донской?
– В медсанчасти, в полку… – автоматически сказал прапорщик, – затемпературил, увезли сегодня с подозрением на грипп… Ладно, нечего тянуть, пошли. Будешь свидетелем, подтвердишь командиру, что видел.
– Подождите, – опять сказал я, – надо посмотреть еще раз… – И видя, с каким ужасом уставился на меня Величко, торопливо добавил: – Можно вместе зайти.
– А… з-зачем?
Я пожал плечами, а прапорщик, поколебавшись, сказал:
– Только ты первый. – И перекрестился плохо гнущейся рукой.
– Хорошо…
С опять заколотившимся сердцем я повернул дверную ручку, потянул дверь на себя и… замер, чувствуя, как сзади навалился Величко, отчего его частое дыхание забило мне левое ухо.
В тамбуре сидел Петров и спокойно подшивал подворотничок, что-то негромко насвистывая. Он поднял голову и расплылся в улыбке от уха до уха.
– Малютин, привет! Сгущенку нашу, надеюсь, не сожрал?
Затем он заметил за моей спиной бледного Величко, погасил улыбку и встревоженно сказал:
– Товарищ прапорщик, что-то случилось?
Тот молча сдвинул меня в сторону, первым вошел в тамбур и хрипло спросил:
– Почему подшиваешься в кабине?
– Так ведь, товарищ прапорщик… – Петров вскочил и я смог внимательно рассмотреть его, стоящего на ярком свету в потрепанной майке и держащего в руках китель подшиваемой хэбэшки.
Петров как Петров, все как обычно. Ничего не говорило о том, что он только что корчился, пронзаемый голубыми молниями, и кричал голосом, от которого мои стриженые ежиком волосы шевелились на голове.
– Товарищ прапорщик, так ведь салабон-то наш в санчасти… Ну, Донской. Мне даже подшиться некогда, а тут еще боевая готовность эта…
– В дизельной кто-нибудь есть?
– В дизельной? – неуверенно переспросил Петров и посмотрел на прапорщика как на сумасшедшего. – А кто может быть в нашей дизельной?
Прапорщик молча отодвинул его в сторону, как перед этим сдвигал меня, причем дотронулся до своего подчиненного с опаской, словно ожидал удара электричества, и, поколебавшись, распахнул вторую дверь.
Я тоже перешагнул порог, оказался в тамбуре и вытянул шею. Дизельная была пуста, за исключением, разумеется, самого мерно гудящего дизеля. Величко согнулся, внимательно осматривая разъемы силовых кабелей, которые, как и положено, были подключены к «мамам», затем выпрямился и некоторое время стоял молча, глядя в одну точку.
– Куда прешься… – наконец сказал он, легонько толкнув меня в грудь, и я отступил в тамбур. – Слышал, что твой дружок говорит… – в голосе Величко проскользнули нотки сарказма и я понял, что прапорщик приходит в себя, – зашивается он, видите ли, без молодого… Не помнит уже, как сам полгода назад молодым был…
– Товарищ прапорщик, – решил напомнить я о своем существовании, когда он опять задумался, глядя мимо нас, в какую-то точку. Петров так и стоял с недоуменным видом, с хэбэшкой в руках, не понимая, что происходит.
– Да, – наконец сказал Величко, – выдай-ка своему другану ветоши. В разумных пределах, конечно, – предупредил он, когда Петров полез в какой-то шкафчик, и вышел, с силой хлопнув дверью.
– Петруччо, давай быстрее, – сказал я, вспомнив об ожидающем меня Беликове. – Давай, давай, шевелись, а то мне влетит. У меня-то молодого, как у некоторых, нет, я там вообще один зашиваюсь.
– Несчастный, – иронически сказал Петров, разгибаясь и подавая мне бесформенную охапку тряпья. – Ладно, катись, вечером побазарим…
И я покинул кабину, так и не решившись признаться, что прикончил общую сгущенку.
А когда карабкался по лестнице на горку, понял, почему недавно виденная картина с Петровым показалась мне знакомой. В фантастическом фильме «Москва – Кассиопея» так подзаряжались роботы.
А ночью случилось то, после чего мне не перед кем стало оправдываться по поводу пропавшей сгущенки. Исчез и сам Петров…
Часа в три ночи на позициях раздался такой грохот, что покачнулись двухъярусные койки и, казалось, вот-вот обрушится казарма. А через секунду за окнами что-то вспыхнуло так ярко, что стало светло как днем, и в спальное помещение вбежал дневальный Ширимбеков. Его обычно узкие глаза сейчас были круглыми, выпученными, и создавалось впечатление, что они вот-вот выскочат из глазниц.
– Ти-ри-вога! – заполошно кричал он, мечась от койки к койке, а за окнами ревело и гремело так, что казарма тряслась, как чрезмерно жидкий студень. – Вставайте! Тиривога!
За ним вбежал дежурный по роте, сержант Коровин.
– Готовность номер один полному расчету! – перекрикивая этот непонятный рев, заорал он, и после этого все закрутилось как во взбесившемся калейдоскопе…
Оказалось, с третьей стартовой площадки самопроизвольно стартовала ракета. Офицеры бегали по позициям, материли подворачивающихся под руку бойцов, что-то кричали, отдавали какие-то команды носившимся туда-сюда солдатам, а среди всего этого буйства стоял бледный, что было видно даже в темноте, командир. Кажется, он уже осознавал, что скоро пойдет под трибунал и это его последняя ночь в четвертом зенитно-ракетном дивизионе N-ского полка.
В подразделение одна за другой повалили комиссии проверяющих. Из полка, из округа, из Министерства обороны, еще черт-те откуда, и никто не мог понять, каким образом могла самопроизвольно стартовать стоящая на боевом дежурстве ракета. И куда в эту же ночь исчез один из рядовых срочной службы. Разумеется, это был мой друг Петров, от которого на обгоревшей стартовой площадке обнаружили только удивительным образом уцелевшую среди огня, аккуратно сложенную форму. Петров был объявлен дезертиром, и, по слухам, на него хотели повесить диверсию, хотя, конечно, это действительно были лишь слухи, ибо не только заставить стартовать ракету, но даже толком взорвать ее не смог бы никто, кроме офицера на пульте в кабине «У», ведь в том числе и для этого любая ракета была начинена сложнейшей электроникой от головной части до самого хвостового оперения.
И, словно всего этого было мало, существовал еще такой дополнительный, ставящий всех в тупик факт, что поиски должной по законам физики где-то упасть ракеты закончились безрезультатно. Не было найдено не только самой ракеты, но даже ее фрагментов. Также в воздушном пространстве в пределах допустимой дальности ее полета не было зафиксировано и взрывов в воздухе. Получалось, ракета просто улетела в никуда или аннигилировала на стартовой площадке.
Однако, как бы там ни было, я, кажется, начал понимать, что подразумевал мой друг, заявив когда-то, что никто не может знать точного срока своего выхода на дембель…
Полгода после случившегося я ходил потерянным, даже во сне, казалось, продолжая думать о произошедшем. Естественно, старт ракеты и исчезновение Петрова были как-то связаны с происшествием в дизельной, но как? И так же естественно, мы с прапорщиком Величко никому об увиденном не рассказали, мы же не были сумасшедшими. Мы даже не разговаривали с ним на эту тему ни разу, а встретившись на позициях, старались скорее разойтись, не встречаясь при этом глазами.
Меня не радовало даже то обстоятельство, что я стал дедом советской армии и выше этого звания в армии не было уже ничего, за исключением должности министра обороны, занимаемой маршалом Советского Союза Дмитрием Устиновым – до того случившееся выбило меня из колеи. Я потерял аппетит, плохо спал и часто, проснувшись ночью, выходил из казармы и курил на крыльце в трусах и тапочках, глядя в звездное небо.
А в одну из теплых ночей, когда светила яркая луна, я разбудил рядового Донского, велел ему одеться и следовать за мной.
– Куда, товарищ дедушка… – жалобно бормотал он, заподозрив, что я собираюсь отдать его на какую-нибудь изощренную расправу старослужащих, но когда я просто привел его к пруду, испугался еще больше. Наверное, подумал, что я сошел с ума после потери друга и решил утопить Донского как виновника его смерти. – Я же тут ни при чем, правда! Ну честное слово, ни при чем! Я не знаю, куда пропал Петров, я же в то время вообще в санчасти с воспалением легких лежал!
Я молча разделся и около минуты стоял неподвижно, вглядываясь в спокойную гладь пруда и чувствуя исходящий от Донского страх.
– Стой здесь, – сказал я и, повернувшись, увидел его глаза. Ясное дело, он смотрел на меня как на спятившего. – Если уйдешь, пожалеешь… – предупредил я и, отбросив сомнения, с небольшого разбега запрыгнул в пруд.
Ничего сверхъестественного не произошло. Меня не обожгли какие-то ядовитые вещества, я не захлебнулся в какой-то вязкой губительной жидкости – обычная вода, только очень холодная, поэтому я и выскочил через полминуты на берег, где стоял, не смея уйти, изрядно продрогший Донской.
Я быстро натягивал хэбэ, жалея, что не захватил полотенце, и думал, какого хрена я полез в эту дурацкую воду, если это ничего мне не дало. У меня не прорезались жабры, я не стал светиться в темноте, у меня не сделалась прозрачная кожа – не произошло вообще ничего.
Я уже хотел возвращаться в казарму или, по крайней мере, отпустить Донского и пойти в курилку, когда внезапно ощутил, что что-то во мне изменилось. Я почувствовал Зов. Это был зов ракеты В-750В (11Д), с увеличенной высотностью, стоящей на третьей пусковой взамен своей когда-то убывшей в неизвестном направлении сестры.
«Приди ко мне, Малютин… – как сладкоголосая сирена нашептывала она, – ведь мы с тобой теперь одной крови, ты и я… ведь в тебе сейчас течет мое топливо, пролитое когда-то в пруд… оно пробралось сквозь твои поры и сейчас циркулирует по твоим венам… и это хорошо, Малютин, ведь ты воин, защитник Отечества, дед Советской Армии, и ты должен взять на себя ответственность, решиться на Поступок, чтобы советские люди могли спокойно работать и спать, и чтобы в нашей мирной стране ходили поезда и плавали корабли… и чтобы хлеборобы растили хлеб, а сталевары давали нужный стране металл… ты знаешь, что делать, Малютин, теперь ты знаешь, что тебе делать… прояви мужество, если ты мужчина и настоящий воин…»
– Пошли… – глухо сказал я и повел не смеющего ослушаться Донского к капонирам, к его дизельной кабине.
– У меня нет ключа! – взмолился салабон, когда я велел ему открыть кабину, но я только усмехнулся, стараясь, чтобы эта ухмылка выглядела как можно более зловещей.
– Донской, ты, наверное, забыл, что разговариваешь с дедушкой Советской Армии, – спокойно сказал я. – Когда ты вовсю жрал домашние пирожки, солдат Малютин уже тащил службу, не спал ночами, сидя в своей кабине и выискивая воздушные цели, чтобы ты мог спокойно жрать, спать и срать… и рядовой Малютин делал это, потому что его призвала Родина. Он ходил в караул и стоял с автоматом, охраняя ангар с ракетами, которые… Короче, – свернув прочувствованную речь, сказал я, – быстро достал из кармана ключ, который закреплен к твоему брючному поясу цепочкой, открыл кабину и запустил дизель, как вы делаете на дежурстве, когда приходите прогревать свой агрегат. Ответственность я беру на себя… – И, подумав, добавил: – Или ты просто получишь сейчас пизды.
После этого я спокойно закурил и наблюдал, как Донской делает все то, что я ему приказал. Он выполнил все быстро, вполне уложившись в установленный норматив, и вскоре я стоял в дизельной, держа оголенные разъемы силового кабеля, излучая голубое сияние и крича, чувствуя, как в мое тело вливается Сила:
– Ха-а-р-р-а-ш-ш-о-о-о-о-о!
Затем я отключился от Энергии и пошел на третью пусковую, зная, что до смерти перепуганный Донской уже давно в казарме. Открывшимся третьим глазом я видел, что он залез под одеяло, дрожит, плачет и зовет маму, не реагируя на вопросы тормошащих его сослуживцев. Знал я также, что вскоре его комиссуют и несколько лет он проведет в психиатрической клинике по месту своего жительства. Знал, потому что благодаря проникшей в меня Энергии подключился к Энергоинформационному полю Космоса.
Дойдя до пусковой, я снял и аккуратно уложил на бетон форму, вскарабкался на холодную, покрытую водяным конденсатом ракету и лег на металлическую поверхность, обхватив ее устремленное ввысь тело, насколько хватало размаха рук, которые скоро превратились в крылья, потому что через несколько минут я уже был в ракете, я уже был самой ракетой, и это я стоял на пусковой, устремив ввысь острый взор своих всевидящих глаз.
А потом я сказал: «Поехали!», – усилием воли воспламенил пороховой заряд маршевой ступени, и как камень из пращи сорвался с пусковой, издавая громогласный рев и выжигая пространство стартовой площадки пламенем из своего раскаленного сопла…
– Ха-а-р-р-р-а-а-а-ш-ш-о-о-о! – кричал я, быстро преодолевая километр за километром, уносясь в стратосферу, на незапланированную конструкторами ракеты высоту, потому что уже получил доступ к Истине и обладал знаниями, недоступными простым смертным, и знал, как усовершенствовать свой новый организм…
Мы встретились в холодной космической мгле и весело закружились друг вокруг друга, издавая приветственные возгласы на особых, не улавливаемых земной аппаратурой радиочастотах.
– Давно тебя не видел, Малютин! – радостно кричал Петров, выписывая вокруг меня сложные вензеля.
– Давно тебя не видел, Петров! – радостно кричал я, носясь вокруг своего лучшего друга и боевого соратника.
– Как дела? – поинтересовался Петров, когда мы слегка успокоились и летели бок о бок, параллельным курсом, по произвольно выбранной траектории.
– Как всегда… – ответил я, слегка пожав крыльями. – Стоим на страже…
– Знаешь, наш дивизион там опять замучили комиссиями, – сказал Петров, вильнув носом в направлении Земли, которая виделась нам голубым, покрытым облаками шаром.
– Ладно, поможем командиру, – беззаботно сказал я, опять пожав крыльями. – Надо будет устроить гипнотический радиосеанс, внушить ответственным людям из Министерства обороны, что им все почудилось… – И вспомнив кое-что, сказал деловито попискивающему на секретных радиочастотах Петрову: – Слушай, помнишь Сулейманова…
– А то! – беззаботно подтвердил Петров. – Нормальный парень, хоть и дурак… А что Сулейманов?
– Да страдает он там, – сказал я и мы, совершив стремительный рывок по орбите, зависли над Узбекистаном и стали вглядываться в его поверхность с помощью специальных всепроникающих лучей.
Мы увидели Сулейманова, бледного и осунувшегося; он лежал в глинобитной хижине на старой циновке и читал какую-то книгу в потертой обложке, а в соседней комнате хлопотала возле очага его глуховатая старая мать. В какой-то момент Сулейманов начал звать ее, но мать не услышала. Тогда он встал и с искаженным от боли лицом, прихрамывая, побрел в сторону кухни, и видно было, что каждый шаг доставляет ему сильные мучения. Несмотря на жестокую жару, на его ногах были шерстяные носки, а правая ступня выглядела здорово распухшей.
– У него на пятке вырос член, – сказал я, и Петров слегка клюнул носом, кивнув.
– Вижу.
– Он даже не может носить обувь. Парень уже полгода не выходит из дома, – с намеком сообщил я и Петров ворчливо сказал:
– Ладно, ладно, знаю, к чему ты клонишь… В принципе, он действительно неплохой парень. Да и кто из нас в молодости не делал ошибок.
И Петров, расправив крылья, прокричал в направлении Земли во всю мощь своих усовершенствованных радиопередатчиков:
– Чтобы у тебя хуй отсо-о-о-ох!
Мы увидели, как пронзенный болью Сулейманов резко остановился, схватился за пах, и из его глаз потекли слезы.
– Да не это-о-от! – прокричал Петров и Сулейманова отпустило, – а тот, который на пятке!
Сулейманов недоверчиво опустил голову, попробовал опереться на правую ступню… а потом засмеялся, побежал на кухню и закружил ничего не понимающую мать в танце, а та, глядя в лицо сына, на котором быстро высыхали недавние слезы боли, кивала и тоже радостно смеялась…
– Ну, что еще… – задумчиво сказал Петров, когда мы поделились всеми накопившимися за время разлуки новостями. – С моими все нормально, я постоянно посылаю матери успокаивающие сигналы.
– Я своим тоже, – сказал я. – Иначе они бы там с ума сошли…
Петров вдруг встрепенулся, сверился с координатами и показал мне знаком, что мы значительно отклонились от охраняемых границ. Мы быстро развернулись и легли на обратный курс, две грозные ракеты, добровольно заступившие на вечное боевое дежурство.
– Во, вспомнил! – сказал Петров. – Наши Тополя с американскими Минитменами махаться собрались. Уже время и место стрелки назначили… Слетаем потом, после дежурства, подмогнем нашим?
– Ни хрена себе… – Я опасливо поежился, шевельнув рулевыми приводами. – Куда нам с нашей массой против Минитменов соваться. Размажут по вакууму и даже не заметят.
– Так никто ж не говорит, что надо бросаться на них в лобовую, – оптимистично заявил Петров, – мы же можем просто рядом носиться. Ну, чтобы внимание на себя оттянуть, или еще там чем помочь… К примеру, можно помощь раненым оказывать.
– Ладно, – решился я, – слетаем… А сейчас извини, мне на дежурство заступать.
Петров сверился с часами, кивнул.
– Мне тоже, – сказал он. – Ладно, брат, еще свидимся!
– Свидимся! – подтвердил я, и мы сделали широкий прощальный круг.
– Дава-а-а-ай! – набирая скорость, прокричал Петров, и я запоздало выдал в опустевшее космическое пространство на сверхнизких, неизвестных людям радиочастотах:
– Давай, брат, давай… счастливого тебе дежурства…
Затем я вышел на исходную точку, легким качком крыльев попрощался с отлетавшим свою смену часовым, и заступил на пост, продвигаясь по строго регламентированной орбите и зорко следя за происходящим на Земле, в стане вероятного противника, особое внимание уделяя войскам агрессивных военных блоков НАТО и АНЗЮС.
Внезапно моя приемная антенна поймала сигнал точного московского времени, я сверился со своим хронометром и послал в Центр радиоотчет: «Бортовые системы работают нормально. Дежурство проходит без происшествий».
Затем бодро встряхнул ампульную батарею, настроился на радио «Маяк», поймал передачу «На зарядку становись» и стал разминать рулевые приводы, растягивать преобразователь тока, потряхивать баком горючего и делать прочие полезные для ракетного организма вещи – Отчизне нужны были здоровые бойцы.
А потом заиграл государственный гимн, и я расправил крылья, и гордо выпятил боевую часть, и отрывисто гаркнул в космическую пустоту, во весь голос, зорко вглядываясь в главный охраняемый объект, Красную площадь города-героя Москвы:
– Служу! Советскому! Союзу-у-у-у-у-у-у-у…
Немцы в городе
– В кино? – вяло переспросил я.
Честно говоря, перспектива пялиться на экран около двух часов кряду не слишком меня вдохновляла, к тому же, кино пока еще не показывали бесплатно.
– Да что ты мнешься! – нетерпеливо сказал Леха. – Вот ты всегда так.
– Как?
Я стоял босой на прохладном кафельном полу ванной комнаты и рассматривал зеркальное отражение ярко-красного прыща, выскочившего возле самого моего носа. Предстояло решить, может ли наличие этого прыща стать причиной для отказа лучшему другу. Вопрос был непростым, потому что идти в кино не хотелось, но не хотелось и отказывать Лехе, значит, мне предстояло найти какой-то внутренний компромисс.
И в первую очередь следовало определиться, может ли доброкачественное кожное образование вообще служить достаточным основанием для ограничения активности моей общественной жизни – то есть, способен ли прыщ удержать меня дома, чтобы уберечься от глумливых взглядов любопытных подонков, которые, конечно же, будут жадно исподтишка разглядывать мой прыщ, стараясь ничем не проявить свой интерес внешне.
– Миха, не тупи, короче, – не дождавшись окончания моих поисков золотой середины, все так же нетерпеливо сказал Леха. – Встречаемся через полчаса, на месте.
– Ладно, забились…
Через пятнадцать минут я уже садился в пятый трамвай. Как это обычно бывало по выходным, оба вагона были полупустыми, поэтому можно было садиться в любой. Я выбрал второй, потому что увидел в окне симпатичную длинноволосую девицу.
Я приложил электронную карточку к считывающему устройству, зажегся красный огонек, сопровождаемый противным писком, означающие, что карточка недействительна, и я вспомнил, что и впрямь недавно израсходовал последнюю поездку, а новую карточку не купил. По идее следовало перебраться в первый вагон и купить разовый талон на проезд у водителя, но я принял мужественное решение ехать на халяву.
Во-первых, у меня не было лишних денег. Причем, не то чтобы лишних вообще, но таких лишних, которые можно было бы израсходовать на проездной талон и которые в итоге пойдут на прокорм какого-нибудь чиновника из транспортного министерства. Во-вторых, нужно было переходить в первый вагон, а это все же лишние телодвижения, когда можно было просто сесть и сидеть. В-третьих, у меня здесь уже была девушка, а в первом вагоне таковой могло и не оказаться. И еще было в-четвертых. У противных кретинов в зеленых безрукавках с люминесцентными полосами, осуществляющих отлов безбилетников, были излюбленные места для поимки смельчаков, бросивших вызов трамвайно-троллейбусному беспределу в виде отказа платить дань за проезд, и такое место на маршруте пятого трамвая находилось как раз перед остановкой, на которой мне следовало выйти. Значит, достаточно слезть на одну остановку раньше и пройти ее пешком, только и всего.
Усевшись в кресло на противоположной от девицы стороне и чуть сзади, чтобы можно было всю поездку спокойно рассматривать ее ноги, я извлек из кармана джинсов телефон.
– Леха, я уже еду, короче.
Зачем позвонил, и сам не знал. Похоже, и меня не миновал синдром «делового долбоеба» – таковые постоянно кому-нибудь звонят и сообщают, где они в данный момент находятся, через сколько минут окажутся на месте, докладывают, что едут в таком-то трамвае или автобусе и засоряют эфир прочей никому не нужной информацией. Такой синдром возник у народа с тотальным удешевлением мобильной связи.
Едва я принялся изучать ноги черноволосой девицы, та, словно почувствовав, обернулась и смерила меня неприветливым взглядом. То ли она была противницей того, чтобы молодые, похожие на голливудских актеров ребята рассматривали ее нижние конечности, то ли она услышала писк запрещающего мне проезд аппарата, поняла, что я еду бесплатно, и это вошло в противоречие с ее моральными установками. Бывает, что некоторых заплативших за билет душит зависть к более продвинутым, отрицающим надобность выкладывать деньги за пустяковые услуги. Правда, не исключался вариант, что ей не понравился мой прыщ, который я, как мог, замаскировал тональной пудрой.
Я тоже напустил на себя неприязненный вид и стал демонстративно смотреть в окно, но как только девица отвернулась, моментально вернулся к ее загорелым ногам. Они оказались не столь хороши, чтобы смотреть на них не отрываясь, но были достаточно привлекательными, чтобы посматривать на них время от времени, что я всю поездку и делал.
Про намерение вылезти на безопасной остановке я, конечно, забыл. Впрочем, и контролеров на трассе не оказалось, так что можно было выкинуть подобные пустяки из головы.
Выйдя на остановке «13 января», я спустился в подземный переход, прошел мимо парня с гитарой и пластиковым стаканчиком в ногах, поющего песню Цоя, через минуту выбрался на белый свет возле «Forum Cinemas» и сразу увидел топчущегося на углу Леху.
– Сейчас подвалит Саня и двинемся, – сообщил он, протягивая мне руку. – Как раз на последний утренний сеанс успеем, сэкономим по латику*. У тебя прыщ, кстати… Ты в курсе?
[Примечание: лат – денежная единица Латвии с 1922 по 1940 г. и с 1993 по 2014 г. Один лат состоит из ста сантимов. Один евро был равен примерно 70-ти сантимам по состоянию на 2014 год.]
– По латику… – пробурчал я. – На хрена вообще тратиться на какое-то чертово кино. На эти деньги можно было посидеть, попить пива.
– Да брось ты, – сказал Леха, – пиво в любой момент можно попить, а фильм новый, его даже в интернет еще не выложили. Пацаны говорили, оборжешься. Ага, вон, Сашка… Давай, двинули.
– Мишка, привет, – вдруг раздался голос с акцентом сзади, я обернулся и обнаружил пацана из своего района, задолжавшего мне червонец. – Тоже в кино?
– Типа того… – Я протянул ему руку.
– Я сейчас без бабок, отдам позже, – сказал он и покосился на Леху, кажется, соображая, здороваться с ним или нет.
– Раз двести уже это слышал, – буркнул я. Буркнул, впрочем, без раздражения, нейтрально. Пацан был нормальный и тоже не раз выручал меня деньгами.
– Зуб даю, – сказал он, – у тебя даже прыщ не успеет сойти, как верну…
– Что за хрен? – спросил Леха, когда он отошел, а я машинально поднес к носу палец и тут же отдернул его, боясь стереть пудру.
– Да… с района. Нормальный… Валдисом зовут.
– А-а-а… – сказал Леха.
Вскоре мы сидели в мягких креслах, потягивали баночное пиво и пялились на экран с каким-то маловразумительным фильмом, который в рекламе преподносился как новая голливудская суперкомедия, а на деле оказался обычной хренью, где какие-то остолопы гонялись за какими-то сокровищами, спрятанными другими остолопами. Впрочем, возможно, мне только казалось, что фильм из рук вон плохой, потому что в какой-то момент я почувствовал, что у меня начинает ныть затылок.
Через десяток минут Леха заметил, что я не смеюсь. Сам он, конечно, периодически натужно гоготал, отбивая инвестированные в американское киноискусство баблосы.
– Ты чего, – тихо спросил он, повернувшись ко мне. На экране была ночь, в зале воцарилась кромешная тьма, и лицо Лехи смутно белело в этой тьме, поблескивая жиром, я видел это боковым зрением.
– Чего «чего»?
– Чего такой кислый.
– Да башка что-то трещать начала.
– Фигня вопрос, – оптимистично заявил Леха. Он отвернулся от меня и повернулся к Сашке. Теперь, наверное, Сашка видел боковым зрением смутно белеющее пятно Лехиного лица. – Сань, дай Михе таблетку… – услышал я приглушенный голос Лехи и через секунду его лицевой жир блеснул опять в мою сторону. – Короче, тебе повезло. Саня перед сеансом как раз в аптеку забегал, бабке таблетки от ревматизма купить.
– Мне от ревматизма не надо, – торопливо предупредил я, услышав, как Сашка зашуршал фольгой упаковки. – Эй, слышите?
– Не ссы, – сказал Леха, – он и от головняка ей заодно купил… Вот, держи.
Он сунул мне таблетку, которую принял от Сашки, и я быстро забросил ее в рот. Затем не глядя принял у Лехи банку с пивом и его горечью погасил горечь в ротовой полости, возникшую от таблетки.
Краем глаза я засек, что Сашка с Лехой тоже приняли по таблетке.
– А вам-то на хрена, – сказал я. – Если у вас не болит.
– Чтоб и не заболело, – беззаботно пояснил Леха.
– Нормально? – перегнувшись через Леху, спросил Сашка.
– Да уж прям… – все так же не глядя в их сторону, буркнул я. – Пусть хоть пара минут пройдет, тогда посмотрим.
Ночь на экране закончилась, в зале стало светло, а меня вдруг как-то нехорошо повело, словно зал попал в зону невесомости. Я даже вцепился в подлокотники, чтобы случайно не вылететь из кресла в пространство, и опять уловил боковым зрением интерес ко мне неугомонного Лехи.
– У тебя что, судороги? – спросил он, но я его вопрос проигнорировал.
На экране космический корабль летел среди звезд, хотя мы вроде бы смотрели комедийный боевик, и, наверное, именно с этим красочным полетом и было связано мое неожиданное ощущение.
Через какое-то время все прошло. Кажется, мне помогли кресельные подлокотники – они были прохладными, и эта прохлада почему-то придала мне чувство уверенности, что все в этой жизни хорошо.
– Что за фильм мы смотрим? – поколебавшись, спросил я и Леха в очередной раз повернул ко мне блестящее лицо.
Он ничего не ответил, но я почувствовал исходящую от него подозрительность. Прошел десяток секунд, Леха продолжал меня разглядывать и мне это не очень-то понравилось.
– Чего пялишься, – сказал я. И вдруг понял, что вряд ли смогу повернуть к нему голову. Конечно, я и не хотел ее поворачивать, но не хотеть – это одно, а не иметь возможности это сделать – совсем другое. Мне показалось, что шею заклинило.
– Голова прошла? – спросил Леха.
Я промолчал.
На экране какой-то мужик в роскошно обставленной каюте звездолета уселся на диване перед телевизором и щелкнул пультом. Заиграла бравурная музыка и на огромной плазменной панели возникло черно-белое изображение немецкого орла со свастикой, сопровождаемое надписью «Die Deutsche Wochenschau». Закадровый голос перевел: «Немецкая кинохроника».
«Война на восточном фронте… – начал вещать диктор, в то время как плазменная панель в каюте мужика увеличилась и заняла весь экран кинозала, – …на севере и в центральной части Восточного фронта благодаря укреплению сил немецкого сопротивления достигнута стабильность в ходе военных действий».
Черно-белые танки двигались по черно-белому полю, из люка одной из машин, показываемой крупным планом, торчала голова ганса в шлеме с наушниками.
«Танковые и мотострелковые соединения прорвались из Восточной Пруссии через линию обороны русских в Риге и восстановили связь с нашими дивизиями в Курляндии».
Несколькими выстрелами танк развалил встретившуюся прямо по курсу деревянную избу какого-то хутора, и все экранное пространство окуталось клубами пыли. В какой-то момент я почувствовал, как эта пыль оседает на мое лицо, и еще крепче вцепился в спасительные подлокотники кресла. Они нагрелись от моих рук и уже не казались столь уж надежным якорем в этой жизни.
«Эта операция поддерживалась немецкими военно-морскими силами, которые поразили большевистские очаги сопротивления на Курляндском побережье. Попытки большевиков предотвратить прорыв, бросив в бой крупные танковые силы, были пресечены огнем нашей зенитной артиллерии».
Море, боевые корабли, взрезающие острыми носами черно-белые волны…
«Кавалер креста с дубовыми листьями генерал-майор Фон Зильберг награждает двух бойцов-однополчан, старшего лейтенанта Яске и стрелка Зиглера общевойсковыми знаками отличия первой степени за уничтоженные танки, и рыцарскими крестами. Обрадованы и поздравляющие их товарищи. Пусть солдатское счастье сопутствует им и впредь»…
Усталые лица двух немецких солдат, на серые гимнастерки которых вешают награды, поздравления однополчан…
– Херня какая-то, – сказал я. – Лоханулись мы, пацаны.
– Мы случайно не перепутали зал? – подал голос и Сашка.
– Посмотрим, что будет дальше, – оптимистично заявил Леха. – Это, типа, космонавт старый фильм смотрит. Наверное, так задумано, для усиления юмористического эффекта. Сейчас опять смешное пойдет.
– А космонавт-то откуда взялся? – с раздражением спросил я, а Сашка пробурчал:
– Ну-ну…
Внезапно раздался топот, и в проходах – двух боковых и среднем – появились силуэты людей, идущих к экрану. В темноте было не различить, что это за люди, но у меня почему-то возникло ощущение, что это военные. Они не шли в ногу, но создавалось впечатление, что продвигаются все слаженно, согласно заранее продуманному плану. В нашу сторону остро пахнуло сапожной ваксой.
Как только три группы достигли возвышения перед экраном, показ фильма прекратился, и в зале зажегся яркий свет.
– Эй! – закричал кто-то сзади, – что за понты! Фильм давайте!
Начав бодро, последнюю фразу он завершил тихо, по инерции, потому что на сцену поднимались бойцы в немецком обмундировании времен второй мировой войны. Всего их было человек двадцать.
На подиуме оказался заранее приготовленный микрофон на стойке, к которому прошествовал какой-то хер в офицерской форме. Остальные, солдаты, встали чуть за ним, развернувшись в идеально ровную шеренгу. Каждый держал в руках готовый к бою пистолет-пулемет МП 40, обращенный в сторону зрителей.
Негромко заиграла бравурная музыка, кажется, какой-то немецкий марш. Офицер, белобрысый парень примерно двадцати пяти лет, с застегнутой кобурой на боку, постучал костяшками пальцев по микрофону, отчего по залу поплыли резкие звуки электронных щелчков, привычно и ловко, как профессиональный артист, подрегулировал стойку под свой рост, и через секунду раздался его уверенный голос. Говорил он на русском, с сильным немецким акцентом, как в старых фильмах говорили фашисты.
– Я представитель третьего Рейха в комплексе «Forum Cinemas», оберштурмбанфюрер Зигель, – начал он и я сразу понял, что все очень серьезно. – Сейчас проделаем следующее… – Он выдержал недолгую паузу и в наступившей тишине я натурально услышал, как часто и неровно застучало мое сердце. – Все зрители проходят на сцену… Большевики, комсомольцы и им сочувствующие идут по левому проходу и сосредотачиваются слева… – Он коротко махнул рукой, показывая, куда. – Лица, желающие служить великой Германии, идут по правому проходу и сосредотачиваются справа… Всем иметь при себе документы.
– А если нет документов? – выкрикнул кто-то за моей спиной.
Я ожидал, что офицер сейчас взорвется и станет истерично кричать на немецком, брызгая слюной, как это показывают в старых фильмах про войну, но он сказал очень спокойно, правда, от этого спокойствия по моей спине побежали мурашки:
– Лица без документов идут по среднему проходу и сосредотачиваются в центре.
– У тебя есть документы? – шепотом спросил Леха.
– Проездной, – так же шепотом ответил я, – да и то только на рабочие дни… А на общей карточке вообще все поездки закончились.
– А проездной именной?
– Нет, конечно… Именные только у пенсионеров. И еще у студентов, кажись.
– У меня тоже нет документов, – озабоченно сказал Саня. – Пацаны, что делаем?
– Спокуха… можно попробовать слинять, – сказал Леха. Потом оглянулся и прошипел: – Ч-черт…
Я тоже оглянулся и обнаружил, что выходы из зала контролируют автоматчики.
– Черт, – сказал я.
– Черт, – повторил за нами оглянувшийся Саня.
Тем временем к сцене уже потянулись первые зрители. Около десятка человек неуверенно шли по правому проходу, желая служить великой Германии. Левый проход был пуст, а по среднему, пошатываясь, плелся мужик в зеленой бейсболке. Кажется, он был изрядно поддатым.
– Шнеллер, шнеллер, – сказал офицер. И продублировал на русском: – Бистрее!
– Быстрее ему, блядь, подавай… – с неприязнью проворчал Саня. И озабоченно спросил: – Так что делаем, пацаны?
– Ни хрена себе, – сказал я, заметив, что по правому проходу идет продавщица из универмага «Центрс», работающая на первом этаже в небольшом закутке с парфюмерией. Пару раз я пытался к ней подкатиться, но безуспешно. Поэтому время от времени, оказавшись возле универмага, я заходил хотя бы просто поглазеть на нее, делая вид, что интересуюсь какой-нибудь пахучей хренью, а один раз даже пришлось для отвода глаз купить флакон дешевого одеколона, который потом выпил заехавший ко мне с неслабого похмелья Саня.
Обычно я с задумчивым видом стоял, склонившись над прилавком, на самом деле рассматривая ее ноги – девица носила исключительно что-нибудь короткое. Она и сейчас была на каблуках и выглядела очень эффектно. Судя по всему, на сеанс она пришла одна, и я вдруг подумал, что мог оказаться сейчас ее провожатым, если бы девица не была столь привередливой и в свое время проявила встречный интерес к похожему на голливудского актера молодому человеку.
– Знакомая? – проследив за моим взглядом, спросил Саня. И добавил: – Классная коза.
– Сейчас не до коз, – сказал Леха, тоже проводив ее заинтересованным взглядом. – Надо решать, что делать.
– Хрен его знает, что делать, – сказал я и вдруг увидел еще одну знакомую, ту самую, с которой ехал сегодня в трамвае. Она тоже была без парня и тоже шла по правому ряду. Через одного человека за ней пристроился Валдис.
– Пошли со всеми, в общей куче, – предложил Саня. – Типа мы хотим служить Германии.
– Западло, вообще-то, – сомневаясь, сказал Леха.
– Да ерунда, – поддержал я Саню. – Нам бы только выбраться отсюда. А потом пошлем всех подальше. Мы же без документов. Наплетем что-нибудь и никто нас потом не найдет. Тем более, видишь, по левому ряду вообще никто не идет – дураков нет.
– Ну, пошли, что ли… – согласился неуверенно Леха и мы встали.
Сцена оказалась неожиданно большой, на ней уместились все добредшие до нее зрители, хотя, с другой стороны, зал на этом сеансе был на три четверти пустым.
Мы еще не дошли до сцены, а немцы уже развернулись там на полную катушку. За несколько минут они успели разделить все пространство на сектора, где-то просто нарисовав мелом линии на полу и проставив какие-то цифры, а некоторые участки отделили друг от друга веревками с белой материей, как если бы решили просушить простыни. Приглядевшись, я понял, что это и есть простыни, потому что на некоторых темнели фиолетовые печати с надписью «Luftwaffe Eigentum» и какими-то цифрами – наверное, номерами частей или соединений, или чего там у них еще. По центру стоял простой канцелярский стол, за которым восседал оберштурмбанфюрер Зигель. По бокам стояли автоматчики, а сзади, на экране, висел огромный портрет Гитлера. К столу тянулась очередь, в которую мы, поднявшись на сцену, и пристроились.
Я чувствовал, как часто и неровно продолжает взбрыкивать сердце и, судя по виду Сани и Лехи, с ними происходило то же. Мы молчали, присматриваясь и прислушиваясь к происходящему впереди, пытаясь уловить наиболее часто задаваемые вопросы, которые подкидывал немец, чтобы иметь возможность заранее продумать ответы.
– Обычная фигня, – прошептал вытянувший шею Леха, – где живешь, где работаешь, как относишься к большевикам…
– Ни хрена себе, обычная, – так же шепотом возразил Саня, но тут офицер вскинул голову и, глядя в нашу сторону, строго произнес:
– Beiseite sprechen!
– Что он сказал? – тихо спросил я и Леха так же тихо перевел:
– Отставить разговоры.
– А ты откуда знаешь? – спросил Саня, и Леха, пожав плечами, прошептал:
– Да я уже как-то начал понимать, вроде.
Очередь тем временем продвигалась быстро. Кого-то куда-то уводили, кого-то оставляли на сцене, а за некоторыми простынями развернулись какие-то действия, но что там конкретно происходило, я не мог понять, что меня жутко нервировало. Еще я заметил, что в очереди нет Валдиса и двух моих девиц, той, из универмага, и второй, из трамвая. Очевидно, их куда-то увели, а я даже не засек, в какой момент это произошло.
И еще. Очередь после короткого допроса у немца дробилась на несколько более мелких, тянувшихся к занавескам-простыням, откуда слышались стоны, вздохи и негромкие вскрики. Теперь, стоя почти возле самого стола Зигеля, я ясно слышал это, и у меня периодически пробегал по коже холодок, потому что было ясно, что в этих закутках производят пытки.
Внезапно Зигель бросил короткую команду и к стоящему перед его столом мужику бросились автоматчики.
– Нет! – истошно закричал примерно тридцатилетний бедолага в джинсах и зеленой бейсболке, в то время как немецкие солдаты профессионально, как наши менты, заламывали ему руки. – Я не укрывал красноармейцев, господин офицер! Я всего лишь сдал квартиру одному господину, который… – Мужика ударили под дых, он болезненно закашлялся, обмяк в удерживающих его руках, и был быстро утащен в дверь под экраном, которая сливалась с общим фоном стены и разглядеть каковую можно было, только зная о ее существовании. – Вас неправильно информировали! Я не винова-а-ат!
Дверь захлопнулась, крик затих, и не успел я промокнуть носовым платком взмокший лоб, как оберштурмбанфюрер буднично сказал по-русски:
– Следующий.
Леха и Саня толкнули меня вперед, и не успел я выругаться, как оказался на ярко освещенном пятачке перед столом господина Зигеля.
– Имя, фамилия.
Я назвался.
– Где работаешь?
– Студент, – коротко сказал я. И, посмотрев в лишенное выражения лицо оберштурмбанфюрера, торопливо добавил: – Точнее, осенью думаю поступать. Вот, зашел в кино для расширения кругозора. В общем, готовлюсь.
– Та-а-ак…
Зигель сделал какую-то пометку на листе бумаги и принялся разглядывать меня, задумчиво постукивая тупым концом карандаша по полированной поверхности стола. Я же, не решаясь смотреть в по-рыбьи бесстрастные глаза, опустил голову и уставился на кончик его начищенного до блеска сапога, который виднелся под столом.
– Большевик, комсомолец, сочувствующий?
– Что вы… н-никак нет, конечно… Как можно!
– Часто у тебя выскакивают такие прыщи?
Вопрос вверг меня в смятение.
– Я… дело в том, что… То есть, н-никак нет, герр офицер!
Некоторое время Зигель внимательно изучал мой прыщ, продолжая постукивать карандашом.
– Голова прошла? – вдруг спросил он и я так же вдруг обнаружил, что головная боль бесследно исчезла. Наверное, прошла от разыгравшихся нервов, потому что в такую силу и быстродействие продаваемых в наших аптеках таблеток верилось мало.
– Так точно, прошла, герр офицер.
– Хорошо, – после очередной многозначительной паузы наконец сказал немец и сделал еще какую-то пометку. – Ты должен доказать, что не имел дел с большевиками.
– Х-хорошо, господин… господин…
– Оберштурмбанфюрер, – подсказал немец.
– Хорошо, обешту… обершутбан… – Я окончательно запутался, поэтому просто вытянулся в струнку и четко сказал: – Яволь! Что я должен для этого сделать?
– Тебе все покажут, – сказал Зигель, делая знак подчиненным. Затем, потеряв ко мне интерес, уткнулся в свои бумаги, а ко мне подскочили два автоматчика.
– За мной! – коротко приказал один и направился на ту часть сцены, где были несколько отсеков, огороженных военными простынями, а второй пристроился сзади и подтолкнул меня в спину дулом пистолета-пулемета.
Через пару секунд мы оказались перед пыточными закутками, откуда доносились стоны, и между моих лопаток пробежала горячая струйка. Перед каждым из закутков стояли очереди из пяти – семи переминающихся человек, и я с удивлением заметил, что на их лицах нет ни малейших признаков страха. Наоборот, создавалось впечатление, что они охвачены нетерпением. Причем все были парнями или взрослыми мужчинами, женщин среди них не было.
– Сюда! – коротко сказал передний немец и, остановившись перед левым отсеком, не глядя поманил меня пальцем. Не глядя, потому что он жадно таращился на происходящее внутри, и, как с удивлением отметил я, кажется, изрядно при этом возбудился.
Чувствуя, как ослабли колени, я сделал несколько неровных шагов, заглянул за белую материю и остолбенел. За простынями стоял кожаный топчан, на котором приспустивший джинсы взлохмаченный мужик в красной майке вовсю драл какую-то телку. Та лежала с задранной юбкой, раскинув загорелые ноги, конфигурация которых почему-то показалась мне знакомой, и негромко постанывала. Я сделал еще один несмелый шажок, всмотрелся в ее лицо и узнал продавщицу из универмага, которая пару месяцев назад отвергла мои ухаживания. Только сейчас ее обычно строгая прическа была растрепана, а на искаженном от избытка эмоций лице поплыла косметика.
– Посмотрел?
– Ч-что вы сказа…
– Посмотрел? – не отрывая взгляда от девицы, сухо повторил немец. Он поправил штаны в районе паха, и, развернув меня за плечо, подтолкнул в другую сторону.
– Иди, смотри вторую.
Второй оказалась та самая, из трамвая, которая недавно не могла на меня смотреть иначе, как с презрительно поджатыми губами.
Я очнулся через десяток секунд и обнаружил, что у меня раскрыт рот и вовсю стоит член, упираясь в ткань джинсов, отчего возникло слегка болезненное ощущение. Повернув голову, я встретился взглядом с одним из немцев.
Мы одновременно поправили штаны и я неуверенно спросил:
– И что… я должен их…
– Ты должен доказать свою лояльность Рейху, – подтвердил немец. – Эти девки – враги великой Германии. Одна хотела поджечь кинотеатр, вторая, по утверждениям свидетелей, состояла в близких отношениях с красноармейцем, поэтому обе должны быть наказаны… Выбирай.
– Я… – Я лихорадочно пытался выбрать, какую из этих девиц оприходовать во славу Рейха, а потом неожиданно для себя с надеждой выпалил: – А можно наказать их обеих?
– Можно, – сказал немец с легкой, как мне показалось, завистью.
– А по сколько раз мне можно их наказать? – сглотнув, спросил я и не смог скрыть разочарования, услышав:
– По разу хватит.
Немец, теряя ко мне интерес, сунул мне что-то в руку и бросил уже через плечо, удаляясь: – Только стой на месте, болтаться запрещено.
Опустив глаза, я обнаружил, что зажимаю в пальцах плоскую фиолетовую коробочку с надписью «Masculan 2»…
Я выбрал ту, продавщицу из универмага, и пристроился в очередь за лысоватым мужиком лет сорока, одетым в неожиданный жарким летом строгий костюм. Перед мужиком стояли еще три человека. Через минуту из-за простыней показался высокий носатый парень, на ходу застегивающий ширинку. Его лицо было красным, а сам он выглядел распаренным, словно после хорошей бани.
– Ништяк подмахивает… – сказал он, подмигнув сразу нам всем, и удалился в сторону стола оберштурмбанфюрера, возможно, чтобы отчитаться о каких-нибудь добытых ценных сведениях, а в закуток поспешил среднего роста парень с вытянутым черепом. Он на ходу возился нетерпеливо с брючным ремнем, а я почувствовал, что мой член уже едва не лопается от напряжения.
– Как думаешь, долго нам еще… – спросил я мужика в костюме, но тот ничего не ответил, только посмотрел на меня недовольно.
Чтобы отвлечься, я повернул голову и нашел взглядом своих. Перед Зигелем, уткнувшись глазами в пол, стоял Леха, за ним ждал своей очереди Сашка, который смотрел на меня. Я весело ему подмигнул, и тут внезапно где-то в стороне раздался знакомый голос, который с не наигранным возмущением прокричал:
– Господин Зигель! Этот парень, вон тот, с прыщом, который стоит в очереди к продавщице, подавал заявление на вступление в комсомол!
Как-то сразу я понял, что речь идет обо мне и, почувствовав, как опять одеревенели мышцы шеи, повернулся на голос всем корпусом. От меня отшатнулся в ужасе мужик, которого я только что пытался разговорить, а я увидел откуда-то появившегося Валдиса, который спешил к столу оберштурмбанфюрера.
– Господин Зигель, обратите внимание на вот того, который… – кричал Валдис, указывая на меня пальцем, а я смотрел на него во все глаза, недоумевая, когда он успел переодеться, потому что на нем была болотного цвета форма с повязкой шуцмана* на рукаве.
[* В годы второй мировой войны шуцманами назывались полицейские, набираемые из местного населения в оккупированных Германией странах.]
– Шайзе… – сказал Зигель, смерив меня равнодушным взглядом.
– Я не комсомолец! – испуганно закричал я, когда по его указке ко мне рванулись два солдата с автоматами наперевес. – И никогда не подавал никакого заявления! Этот человек наговаривает на меня, он просто не хочет отдавать мне червонец!
Меня, не слушая, подхватили под руки и по причине неожиданной слабости ног потащили к оберштурмбанфюреру, а я орал что-то неразборчивое, чувствуя, что еще немного, и взбунтовавшееся сердце выпрыгнет из майки с надписью «Кока-Кола». Зигель, брезгливо указывая на меня двумя пальцами, что-то говорил, но я ничего не слышал, только видел, как беззвучно шевелятся его тонкие губы.
Когда я осознал, что меня ведут к страшной двери, в которую вытащили того мужика в зеленой бейсболке, мои ноги окончательно парализовало. Боковым зрением я зафиксировал Леху и Саню в образе двух смутных пятен; кажется, они с ужасом пялились на меня.
Едва один из моих сопровождающих протянул руку к дверной ручке, как дверь внезапно распахнулась сама от толчка изнутри, и в проеме появился тот самый мужик, которого я только что вспоминал. Теперь он был облачен в форму рядового красноармейца времен второй мировой войны, а вместо зеленой бейсболки его голову украшали окровавленные бинты. Рванув на себе прокопченную гимнастерку, дважды простреленную в районе груди, мужик резким движением выхватил из кармана галифе огромную противотанковую гранату и вскинул ее над головой.
– Стоять, суки! – бешено вращая глазами, выкрикнул он страшным голосом, и немцы, отпустив меня, отпрянули, пытаясь передернуть вдруг заклинившие затворы. – Не шевелиться, иначе брошу гранату!
Все замерли, а я, переведя дух, стал искать взглядом своих. Раскрыв рты, они так и стояли перед оберштурмбанфюрером, а тот медленным движением начал опускать руку под стол, явно намереваясь незаметно достать пистолет. Наступила тишина, только девки, находящиеся вне пространства и времени, продолжали охать в своих закутках.
– Братва! – после короткой паузы выкрикнул мужик. – Там, внизу, в сортире, наши! Все, кому дороги большевистские идеалы, айда за мной, будем пробиваться к своим!
– Саня, Леха! – дурным голосом закричал я и рванул к мужику, который отступил на полшага в сторону, давая мне проскочить, и опять уверенно встал в проеме двери.
Ничего не видя, я начал на ощупь спускаться по узкой служебной лестнице, чувствуя свое тяжелое хриплое дыхание, вскоре сверху послышался топот еще двух пар ног, наверное, Лехи с Саней, потом кто-то что-то крикнул, раздался взрыв, от которого содрогнулся весь кинотеатр, и сверху посыпалась штукатурка…
– Сюда… – командовал мужик, шедший первым, – теперь сворачиваем влево… ага, теперь сюда… Ничего, пацаны, не боись, я здесь все тропы знаю…
Подсвечивая чадящей зажигалкой «Zippo», он уверенно вел нас в почти кромешной темноте, а мы, натыкаясь друг на друга и стены, старались от него не отставать. Кажется, мы бродили по лабиринтам уже не меньше часа, а может, все это действительно лишь казалось.
– Здесь… – наконец сказал мужик, рванул на себя ручку какой-то двери, и через секунду мы оказались в ярко освещенном, выложенном белым кафелем помещении с зеркалами, в котором немедленно опознали сортир.
Пространство просторного, обычно полупустого зала сейчас было запружено бойцами в красноармейской форме. Здесь тоже все было разбито на сектора. У левой стены с зеркалами, под умывальными раковинами, лежали раненые, уже перевязанные или обрабатываемые санитарами; в противоположной стороне сурового вида бойцы занимались чисткой оружия; возле писсуаров спали, прижимая к себе автоматы ППШ, смертельно уставшие воины, а на полу в центре была расстелена огромная карта, над которой склонились несколько человек с командирскими знаками различий на петлицах. У всех находящихся здесь головы были обмотаны окровавленными бинтами, у некоторых руки висели на перевязи.
– Кого привел, Захаров? – подняв голову, спросил усатый, лет тридцати мужик командирского вида, с двумя эмалевыми прямоугольниками на петлицах.
– Молодое пополнение, товарищ батальонный комиссар, – отрапортовал, вытянувшись в струнку, наш провожатый.
– Ребята хоть надежные? – устало спросил комиссар. Он закурил самокрутку и принялся мрачно разглядывать нас, выпуская клубы ядовитого дыма.
– Я за них ручаюсь, – не без легкой обиды сказал Захаров. – Отличные парни, из своих.
– Большевиков поддерживаете? – спросил комиссар, уставившись, почему-то, на меня.
– А то! – бойко подтвердил я, сложив руки по швам. – В комсомол даже хотел вступить, уже и заявление подал, да вот… – я оторвал руки от боков и сокрушенно ими развел, – не успел, немцы пришли.
– Понятно… – сказал комиссар. Его голос и взгляд потеплели. – Только вот одеты вы, товарищи молодое пополнение, как-то не того… Какое-то тряпье…
– Ничего себе, тряпье, товарищ комиссар… – с обидой начал я, потому что он продолжал смотреть на меня, – извините, но мои джинсы, между прочим, стоят полсотни латов, а то, что коленки рваные, так это нарочно, это мода такая. Они фирменные, я их на распродаже оторвал, ну, в универмаге «Центрс», знаете, где еще на первом этаже такая девчонка работает… ну та самая, с ногами… ее сейчас там мужики в зале пялят, а до меня, черт возьми, очередь не дошла… – Я вдруг опомнился и, осекшись, поспешно отчеканил: – Так точно, товарищ батальонный комиссар, как есть, тряпье! Это, наверное, немцы нарочно такую моду придумали, чтобы наш народ в рванье ходил.
– Поня-атно… – сказал комиссар. – А прыщ?
– Что прыщ, товарищ батальонный комиссар? – не понял я.
– Часто у тебя такие выскакивают?
– Никак нет!..
– Переоденьте их, – после паузы сказал комиссар, возвращаясь вниманием к карте. Он склонился, разглядывая на ней что-то, одновременно с ним над картой застыли трое его подчиненных, и комиссар напоследок буркнул не глядя: – Захаров, отведи новых бойцов к каптеру, пусть их переоденет в человеческое.
– Есть! – Захаров повернулся к нам. – Ну, чего встали. Слышали, что сказал командир? Давайте, давайте… – И легонько подтолкнул нас к сортирным кабинкам.
Одна из них была раскрыта, и в ней на крышке унитаза сидел узкоглазый боец с тремя треугольниками на петлицах, который, увидев, что мы идем по его душу, поднялся и недружелюбно сказал:
– Идите сюда, салабоны, я каптер, старший сержант Мултанбаев. Ко мне будете обращаться «товарищ дедушка рабоче-крестьянской Красной Армии», иначе я устрою вам райскую жизнь…
Вскоре, после примерки в кабинках, мы с пацанами опять стояли в центре зала, с перебинтованными головами, в рваных и простреленных, темных от огня и чужого пота гимнастерках, и растерянно оглядывались, не зная, что делать дальше. Захаров куда-то исчез, возможно, опять пошел в зал, взрывать немцев, и мы стали никому не нужны. Единственное, что меня как-то подбадривало – на моих петлицах красовались два эмалевых треугольника, всего на один меньше, чем у каптера-старослужащего Мултанбаева, и этот жест с его стороны был признанием моих заслуг, наградой за то, что я на допросе не прогнулся перед немцами. У Лехи с Саней петлицы были пустыми. Петлицы у всех были малиновыми, с черной окантовкой, значит, нас зачислили в пехоту.
– Черт! – внезапно громко сказал комиссар, с раздражением хлопнув ладонью по карте. – Здесь нужен человек из Задвинья, чтобы все закоулки там знал, а у нас, как на грех, никого из того района нет.
Он и его окружение почему-то уставились на нас и я, не выдержав этого визуального прессинга, нехотя признался:
– Я из Задвинья, товарищ батальонный комиссар.
Леха недовольно толкнул меня в бок, Сашка что-то прошипел, но было поздно.
– Магазин «Максима» знаешь, сержант? – спросил комиссар и я кивнул. – Ну, там, где когда-то был кинотеатр «Илга». – Я кивнул еще раз. – Но все равно. Посмотри, чтобы удостовериться, что мы говорим об одном и том же.
Я сделал шаг вперед, присел на корточки и волосы на моей голове встали дыбом. Оказывается, пока мы сидели в кинотеатре, немцы успели переименовать все городские улицы и даже напечатали новые карты! К примеру, улица Бривибас называлась теперь «Гитлерштрассе», бульвар Кронвальда переименовали в «Бульвар Йозефа Геббельса», а моя родная улица Дагмарас превратилась в «Улицу имени 7-го съезда НСДАП».
– Вот эта «Максима», товарищ батальонный комиссар.
– Правильно… Короче, надо доставить нашим пакет. Они там тоже в сортире сидят, в служебном, для персонала… А в торговом зале немцы хозяйничают. Жируют, мерзавцы.
– Понял, товарищ батальонный комиссар.
– Надо постараться, чтобы немцы не перехватили пакет. А в случае чего, его содержимое придется съесть.
Мы с пацанами переглянулись и Леха опять недовольно ткнул меня в бок.
– Сделаем, – уверенно сказал я, уже прикидывая, что можно проехать на пятом трамвае до бани, вылезти, посидеть там в пивном баре, а потом через поликлинику двигаться на «Максиму». А там по пути еще один бар, и в самой «Максиме» тоже – их там у нас в районе вообще до хрена и больше… – Вы как, пацаны, подмогнете?
– А то, – в один голос, преувеличенно бодро подтвердили Леха с Сашкой.
– Только у меня проездная карточка закончилась, товарищ батальонный комиссар… И вообще, нам бы на дорожно-транспортные что-нибудь подкинуть. Ну, чтоб от немцев откупаться в случае чего, и вообще…
– Подкинем, – сказал комиссар. – А сейчас идите сюда, я вам покажу, как через Двину лучше перемахнуть. Дело в том, что один мост уже под немцами, на данный момент они его контролируют…
Опытный Захаров вывел нас какими-то темными коридорами на улицу и вскоре мы стояли, щурясь от яркого солнца, перед подземным переходом, не решаясь в него спуститься. У каждого из нас на плече висело по пистолету-пулемету Шпагина, а за спинами, в «сидорах», лежало по два запасных барабанных магазина на семьдесят один патрон каждый, и кое-какая закусь, на дорогу. Важный пакет был у меня, как у старшего группы, я пристроил его за пазухой, а в нагрудном кармане гимнастерки лежали, выданные под строгий отчет, командировочные – рубли и небольшое количество трофейных рейхсмарок. Для пущей сохранности я завернул их в выпрошенный у каптера кусок портянки.
– Что-то мне как-то не по себе, – сказал Леха, настороженно вглядываясь вниз. – Вдруг там засада?
Он присел, пытаясь высмотреть, что там в подземном переходе творится, и его тут же обругала наткнувшаяся на него бабка.
– Слышь, парень! – крикнул Саня пацану в майке с Че Геварой и тот нехотя остановился. – Все равно под землю идешь… – Саня ткнул пальцем вниз, – так ты маякни нам, если там немцы, хорошо?
– Какие немцы?
Мы переглянулись
– Ну, немцы, – сказал Леха. – Ты что, никогда немцев не видел?
– Просто крикни «шухер», – сказал я, – и все. Ничего сложного.
– Ладно… – сказал парень и быстро побежал по ступенькам вниз.
– Пошли, что ли, – сказал Саня, не дождавшись от него сигнала. Кажется, парень просто убежал, наплевав на нашу договоренность. Возможно, оказался приспособленцем и просто струсил выступить против немцев.
– Пошли, – согласился Леха и первым стал осторожно спускаться по ступенькам. Он продвигался медленно, боком, держа наготове автомат со взведенным затвором.
Мы двинулись за ним.
– Ну вот, не так все страшно… – подытожил Саня, остановившись перед патлатым парнем с гитарой, мимо которого я проходил несколько часов назад, еще до войны. Парень как раз пел «Группа крови на рукаве» и мы невольно приостановились послушать, уж больно в тему оказалась песня.
– Молоток, пацан, – сказал Саня, подмигнув закончившему петь парню. – Все про нас спел, как по заказу. И про пыль на сапогах, и про немцев…
Парень странно на него посмотрел и принялся поспешно перебирать струны, а Леха сказал:
– Миха, кинь пацану хоть какой-нибудь мелочи, а то у меня голяк, все бабки в гражданских штанах остались.
– А у меня, можно подумать… – начал было я недовольно, но Саня сказал:
– Выдай ему из нашего общака, что ли.
Я понял, что спорить с не ответственными материально лицами бесполезно, все равно не поймут. Пошарив в карманах галифе, я бросил в стаканчик парня две свежие, недавно отстрелянные гильзы от патронов к ППШ и взял курс на выход.
– Отделение, за мной!
Уже начав подниматься по лестнице, я обернулся. Смотревший нам вслед гитарист поспешно отвел взгляд и с излишним рвением ударил по струнам.
– Видели ночь, гуляли всю ночь до утра-а-а! – заголосил он.
Мы вышли на поверхность на пятачке перед улочкой, ведущей к универмагу «Центрс», и около полуминуты настороженно крутили головами, проверяясь на наличие немцев.
– Чисто, – забрасывая автомат на плечо, сказал Леха.
Он хотел сказать что-то еще, но тут так бабахнуло, что все вокруг содрогнулось, а мы машинально присели. С железнодорожного моста начал бить куда-то в сторону Вантового моста танк с немецким крестом на борту. Грохот стоял такой, что у нас заложило уши. После каждого выстрела танк подпрыгивал, но не откатывался, оставаясь стоять на месте, поперек рельсов. И слегка поводил пушкой, словно подбирая подходящий угол для следующего выстрела. Судя по положению этой пушки, он лупил прямой наводкой по какому-то из мостов, но по какому именно, определить не представлялось возможным, потому что предполагаемый сектор обстрела нам загораживали здания.
– Он по Каменному бьет или по Вантовому? – дождавшись короткого затишья, прокричал Леха.
– А какая разница? – не понял Саня.
– Разница такая, что если он разрушит Каменный мост, то нам надо пробиваться к троллейбусу, чтобы ехать через Вантовый, – сказал я. – А если он лупит по Вантовому, то садимся на пятый трамвай, а там пешком дойдем.
– Давайте добежим до угла, посмотрим, какой мост цел, – предложил Леха.
Я посмотрел на угловое здание с кафеюхой «Rock-n-Riga», в которой обычно обедали чиновники из близлежащих учреждений и прочие бездельники, и, поколебавшись, покачал головой.
– Опасно. Вдруг на железнодорожной насыпи засел снайпер или пулеметный расчет.
Тут на узкую улицу, ведущую от подземного перехода к универмагу, из-за угла со стороны набережной один за другим выехало около десятка мотоциклетных экипажей с колясками, на которых были установлены пулеметы, и двинулись в нашу сторону. Мы, не сговариваясь, побежали в направлении цирка.
– Как думаете, не заметили? – задыхаясь, прокричал через плечо Леха, который несся первым.
– Хрен его знает… – насилу выдавил из себя Саня.
Я бежал молча, стараясь не отставать от друзей. Мы постоянно оглядывались и то и дело натыкались на прохожих, которые чертыхались и ругались нам вслед, но нашей троице было не до таких мелочей, главным было уцелеть, чтобы выполнить задание. Добежав до следующего перекрестка, мы остановились отдышаться.
– Надо бросать курить… – наконец выдал Саня фразу, которую традиционно говорят все курильщики после вынужденной пробежки. При этом никто, разумеется, не думает делать этого в реальности.
– Пройдем по Меркеля, возле цирка, – предложил Леха, – потом вдоль Верманского парка до бывшего магазина «Сакта», а там сориентируемся, что делать дальше.
– Нет больше Меркеля и Верманского парка, – сказал я, – есть улица Отто Скорцени и парк Вермахта. – И пояснил выпучившим глаза соратникам: – Они это… ну, все тут переименовали, короче.
– Ладно, – сказал после паузы Леха. – В любом случае сначала надо бы узнать, есть ли там немцы. – И крикнул в спину прошедшему мимо мужику в костюме: – Слышь, там на улице Отто Скорцени немцы есть? Ну, возле цирка, то есть.
Мужик остановился, посмотрел на нас с откровенным испугом, потом быстро пошел прочь. Через несколько шагов он оглянулся и прибавил ходу, а потом почти побежал, беспрестанно оглядываясь, словно его что-то здорово напугало.
– Шуцман, наверное, – предположил, проводив его недоуменным взглядом, Леха. – Или немцы его запугали… Как бы он нас не заложил.
Автоматы мы на всякий случай держали в руках, наготове.
– Да и хрен с ним, – сказал Саня. И вдруг радостно воскликнул, заметив кого-то вдали: – Братва, там Скляр!
– Какой Скляр? – не понял Леха.
– Ну, пацан с нашего курса, я вам рассказывал. Дельный парень, надежный… Его неплохо бы уговорить с нами, он может здорово пригодиться.
И, не дожидаясь нашего согласия, быстро пошел в сторону улицы Отто Скорцени, на ходу забрасывая автомат на плечо.
Мы тоже освободили руки, намереваясь закурить, потому что бегать больше вроде бы не требовалось.
– Скляр! – на ходу выкрикнул Саня.
– Я! – отозвались из-за угла.
– Скляр! – позвал Саня и, обернувшись, показал нам большой палец.
– А! – опять отозвался кто-то.
– Скляр! – крикнул Саня и побежал, а у меня в дурном предчувствии похолодело в животе.
– Сашка, назад! – закричал я диким голосом Николая Олялина из кинофильма «Освобождение», и быстро пошел вперед, на ходу срывая с плеча автомат. – Сашка!
Но было поздно. Из-за угла протрещали две короткие очереди и Саня упал, как подкошенный.
– Сашка!
Я шел, вскинув автомат на уровень плеча, и стрелял на ходу, стараясь не зацепить прохожих, одной длинной очередью, пока не закончились патроны. Метил я в стеклянный угол «McDonalds», за которым притаился враг, и разнес всю огромную витрину в мелкие прозрачные брызги. В какой-то момент огонь из-за угла захлебнулся и я понял, что цель поражена. Поэтому я не стал перезаряжать автомат, а просто бросил его на асфальт и оставшийся путь проделал бегом.
Через минуту мы с бледным Лехой стояли на углу и смотрели на мертвого Валдиса в его болотной форме с шуцманской повязкой чуть выше локтя, лежащего перед опрокинутым станковым пулеметом. Из парня сделали смертника, приковав цепью к железным перилам возле популярной американской закусочной. Крови на Валдисе почему-то не было, одни только пулевые отверстия в районе груди.
– Плакал твой червонец, – как-то буднично сказал Леха и я понял, что он успел очерстветь на этой войне, что теперь нам трудно будет вернуться к гражданской жизни, до которой, впрочем, еще нужно дотянуть, и неизвестно, удастся ли нам это сделать.
– Надо бы похоронить Сашку, – сказал я, едва ворочая языком, и подумал, что вряд ли Леха меня услышал.
Я понимал его состояние, вызванное первой боевой потерей, потому что сам испытывал те же чувства.
Неожиданно для себя я достал из кармана телефон и нашел в записной книжке имя «Lena». С этой девчонкой я познакомился на прошлой неделе и у нас еще ничего не было, я даже не позвонил ей ни разу, только сумел тогда, познакомившись в ночном клубе, выклянчить у нее номер.
«Я не успел тебе сказать… – быстро начал я набирать эсэмэску под грохот непрекращающейся танковой канонады, понимая, что это очень важно и что такого случая мне может больше не представиться никогда, – те простые слова, которые должен был сказать, как только тебя увидел… Понимаешь, мы все в этой жизни тянем, ждем чего-то, думая, что она будет длиться вечно, но иногда бывают моменты, когда ты вдруг осознаешь, что на самом деле жизнь скоротечна, и что в любой момент…»
– Миха, ты чего! – донесся до меня встревоженный голос Лехи как бы издалека, словно он находился за тысячу километров от меня, – Миха, мы ведь убили ихнего полицая. Сейчас нагрянут каратели!
«Короче, я тебя люблю», – решившись, закончил я и нажал кнопку «Отправить».
– Надо бы похоронить Сашку, – повторил я, но тут у Лехи запиликало в штанах и он полез в карман, рукой сделав мне знак помолчать.
– Эсэмэска пришла, – сказал он, вглядываясь в экран телефона, – это может быть батальонный комиссар. Может, какие-то распоряжения.
– С чего бы это ему отправлять эсэмэску тебе, если старший я, – недовольно заметил я, но тут Леха как-то необычно на меня посмотрел и я оборвал речь на полуслове.
– Давно это у тебя? – странным голосом спросил он и таким же странным взглядом уставился мне в глаза.
– Чего?
– Ну, давно ты меня любишь?
– Рядовой, что вы себе позволяете! – рявкнул я, и, вдруг сообразив, быстро залез в своем телефоне в раздел «отправленные сообщения».
– Тьфу ты, твою мать… – сконфуженно пробормотал я, обнаружив, что перепутал абонентов, потому что имя «Lena» соседствовало с именем «Leha» и разница была всего в одной букве. – Лех, ты это… не подумай чего такого… это я просто адресатов перепутал… Эй, ты чего молчишь?
Он напряженно смотрел мне за спину. Я обернулся и обомлел, увидев медленно выруливающую к нам из общего автомобильного потока спецмашину в виде огромного черного фургона с крутящейся антенной на крыше. Такие машины я видел в фильмах про Отечественную войну, они использовались для пеленгации раций диверсантов.
– Вырубай телефон, выбрасывай симку, тогда они нас потеряют! – мгновенно сообразив, в чем дело, заорал я и хотел было рвануть в сторону Центрального вокзала, но Леха удержал меня за рукав:
– Командир, шухер!
По бывшей улице Чака, ныне «Гитлерюгенд», отрезая нам путь к вокзалу, несся немецкий грузовик с полным кузовом автоматчиков. Видимо, их вызвали по рации из набитого аппаратурой фургона.
Скинув с себя оцепенение, мы развернулись, и на всех парах, расталкивая прохожих, помчались назад, не испытывая ни малейших угрызений совести. В конце концов, Сашку можно похоронить и потом, когда будет выполнено задание, сейчас же важно было в первую очередь сохранить себя…
Мы ехали в полупустом троллейбусе, на заднем сиденье, внимательно контролируя обстановку за бортом, чтобы не нарваться на засаду. Обоим было так хреново, что не хотелось разговаривать. Во-первых, мы потеряли друга, и никакие аргументы, что это война, что на войне погибают, не могли заставить нас смириться с гибелью Сашки. Во-вторых, мы устали так, что было только одно желание – добраться до дивана и отрубиться прямо так, не раздеваясь, потому что на это вряд ли остались силы.
О том, что мы еще должны, обманув немцев, проникнуть в сортир супермаркета «Максима» и передать нашим важный пакет, не хотелось даже думать.
– Где твой автомат? – неожиданно прорвался сквозь ватный заслон голос Лехи, и я понял, что задремал.
– Там бросил, возле «Макдональдса», когда Валдиса замочил… А где твой?
Леха посмотрел на меня осоловелым взглядом, моргнул.
– Не знаю… – растерянно сказал он.
– Под трибунал у меня пойдешь, – пообещал я. – Дай только до своих добраться, там я тебе устрою…
– Слышь.
Я открыл глаза и понял, что опять спал.
– Чего.
– Вон твой Валдис.
Я поднял голову и увидел, как забравшийся в троллейбус Валдис приложил карточку к считывающему аппарату. Двери закрылись и он сел на двойное место посередине салона, не посмотрев в нашу сторону. Одет он был в гражданское, в обычные штаны и рубашку, в которых я видел его днем, еще до прихода немцев.
– Пойди, спроси у него червонец, – предложил Леха.
– Лень вставать, – подумав, сказал я. – Да и все равно у него нет.
– Слышь…
– Чего.
– Я и форму где-то потерял, – сказал Леха.
Я опустил голову и обнаружил, что я в своих джинсах и майке с «Кока-Колой».
– Я тоже, – признался я.
– А где наш пакет? – спросил Леха.
Я молча пошарил возле себя на свободном сиденье и нащупал увесистый бумажный пакет, который не глядя сунул Лехе. Печатей и росписи батальонного комиссара на нем почему-то уже не было.
Леха залез рукой внутрь и извлек бутылку водки и гамбургеры в замасленной пергаментной бумаге.
– Ого, неплохо… Помнишь, что мы должны сделать с пакетом в случае чего? По-моему, пора. Давай, за победу.
– Давай…
После пары глотков меня, кажется, стало наконец отпускать.
– Что это вообще было? – спросил Леха. – Накрыло нас, короче, не по-детски.
– А что за таблетки подсунул нам Сашка? – подумав, спросил я.
– От головы, вроде… Ну, которые для бабушки купил, – после паузы сказал Леха. – А может, перепутал, и дал от ревматизма.
– Ебаная бабушка, – вяло сказал я.
Остановку мы проехали молча.
– Слышь… – сказал Леха.
– Чего.
– Нехорошо так говорить… Бабушка-то тут при чем.
– Ну да, типа того…
– А я-то куда еду? – вдруг спохватился Леха. – Не ночевать же мне у тебя.
Я вдруг вспомнил о той эсэмэске и на всякий случай незаметно отодвинулся от него подальше.
– Возьму у матери денег, дам тебе на такси, – пообещал я.
Леха, тоже вспомнив что-то, достал телефон, потыкал в кнопки.
– Твою мать… – с раздражением сказал он и многозначительно посмотрел на меня. – Какой идиот придумал выкинуть симки?
Я отвернулся, делая вид, что меня это не касается.
Мы выпили еще по глотку.
– Немцы… – сказал я, заметив, что прямо по курсу стоят контролеры в своих позорных безрукавках. Уже стемнело и от них отсвечивало, как от инопланетных зеленых мудаков.
Из динамиков раздался голос водителя, сообщающего, что сейчас войдут контролеры и что пассажирам следует подготовить проездные карточки для проверки.
– Пиздец нам, – сказал Леха.
– Да и хрен с ним, – вяло сказал я. – Не расстреляют же.
Мы опять глотнули водки и в бутылке осталось совсем чуть-чуть.
– На выход, – сказал здоровенный мужик с раскормленной ряхой, и мы с Лехой, помедлив, принялись с кряхтением подниматься.
– Бежим! – неожиданно заорал Леха, выйдя из троллейбуса, и первым дернул в темноту, подальше от света фонарей.
Не успев ничего сообразить, я автоматически рванул за ним.
– Получайте, фашисты, гранату! – на ходу проорал Леха и, не оборачиваясь, по навесной траектории швырнул бутылку через голову, на доносящийся сзади грузный топот трех пар ног.
– Русские не сдаются! – голосом Сухорукова заорал я под звон разбившейся об асфальт бутылки.
Не меньше минуты мы стояли, согнувшись, в каких-то кустах, и пытались отдышаться.
– Надо бросать курить… – наконец сумел выдохнуть Леха. И разогнулся.
Я тоже разогнулся и вдруг подумал, что он прав. Нехорошо так про бабушку. Она-то в чем перед нами провинилась.
– Лех, слышь…
– Ну.
– Ебаный ревматизм.
Дорога на Гуанчжоу
– Ты куда-то спешишь? – спросила Хелен
Она сидела, прислонившись спиной к высокой спинке кровати, поэтому до пояса тело обнажилось, а нижняя часть, от лобка, была прикрыта тонким одеялом.
Несколько секунд я соображал, что ответить, затем сказал:
– Меня вызвали в военкомат.
Хелен отпила маленький глоток принесенного мной коктейля и прикрыла глаза. Я, поколебавшись, присел рядом, на шелковую простыню. Приложившись губами к прохладному стеклу бокала, я скосил глаза и принялся разглядывать складку, образовавшуюся в районе ее талии. Складка была небольшой и по сути даже не являлась жировой – просто кожная складка на животе, одна среди более мелких, но мне необходимо было к чему-то придраться. Связь с Хелен длилась уже три месяца, а для меня это большой срок. Пора было подыскивать другую девицу; разумеется, тоже модель. Она будет такой же высокой, тонкой и ухоженной, как Хелен, но она будет другой.
– Если ты решил от меня избавиться, мог бы придумать что-то более правдоподобное, – наконец сказала Хелен и отпила еще один маленький глоток. – Что это за коктейль?
– Да обычный «Singapore Sling», – буркнул я. – Джин, вишневый бренди, куантро, травяной ликер «Benedictine», гранатовый сок, ананасовый сок, лимонный сок. Смешано в шейкере со льдом, процежено, украшено лимоном по причине отсутствия ананаса… А в военкомат меня действительно вызывают. Могу показать повестку.
Хелен поставила наполовину опустошенный хайбол на прикроватный столик и откинула одеяло.
– Ну-ну… Извини, но военкомату придется тебя подождать. Как бы там ни было, я не уйду, пока не приму душ… Надеюсь, меня не привлекут за подрыв обороноспособности страны и…
Закрывшаяся дверь ванной заглушила последние слова Хелен.
Вообще-то пару дней назад мне действительно пришла повестка, которую я немедленно скомкал и выбросил возле почтового ящика. Наверняка это был розыгрыш Севастьянова, моего коллеги из отдела разрешительной системы и лицензирования при Министерстве строительства Москвы, он был известным любителем таких незатейливых шуток. Однако сейчас эта повестка вспомнилась мне очень и очень кстати. Кстати, потому что мне, получается, не пришлось даже врать.
Я раздвинул дверцы стенного шкафа, выбирая костюм, и вдруг с удивлением припомнил, что на казенном бланке было проставлено как раз сегодняшнее число. Первое мая, тут и запоминать нечего, хотя удивительно, с каких пор военкоматы стали работать по праздникам. Ведь, небось, нам не объявили войну или что-то вроде этого.
Я долго рылся в секции, разыскивая военный билет, а когда уже решил, что случайно выкинул его во время одной из чисток, когда избавлялся от ненужных документов, он нашелся под стопкой старых квитанций.
Когда из ванной вышла Хелен, я стоял перед зеркалом, застегивая ремешок «Breguet» из коллекции «Classique Complications» за сто семьдесят тысяч баксов, а на стильной антикварной тумбочке, в доказательство того, что я не соврал, красовался военный билет. И значился в нем такой факт, что я, выпускник Института стран Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова, успешно прошел военные сборы и на данный момент являюсь лейтенантом запаса вооруженных сил Российской Федерации.
Конечно, таких подробностей Хелен видеть не могла, но достаточно было наличия военного билета, который я выложил специально для нее. Скользнув взглядом по тумбочке темного дерева, она негромко хмыкнула и пошла одеваться.
– Как я тебе в этом костюме? – спросил я и поправил лацкан пиджака.
Выбор я остановил на сером «Brioni», который отлично сочетался с чуть более темным плащом одноименного производителя.
Не дождавшись ответа, я закурил сигарету настоящего «Marlboro», ввозимого в Россию специальными партиями для ограниченного чиновничьего контингента, и стал смотреть, как собирается Хелен. Естественно, они отличались от ширпотреба, повсеместно выкуриваемого обычным быдлом, так же, как отличается печень спившегося доходяги от печени пернатого, специально откормленного для ценителей тонкого вкусом, подлинного фуа-гра.
– Но ты даже в армии не служил, – сказала Хелен, когда лифт остановился.
Она заметно нервничала, наверное, ожидая каких-то пояснений. Женщины чувствуют, когда с ними хотят расстаться.
– Да откуда я знаю, что они там придумали, – сказал я, пропуская ее в открывшиеся двери. – Может, у них там министр обороны сменился, или депутаты закон какой-нибудь дурацкий провели, или еще чего… По идее любой гражданин этой долбаной страны является резервистом. Ну, номинально, конечно.
Мы пересекали просторный холл, мой локоть чувствовал тепло женской ладони, но сознание было уже далеко, вне окружающего пространства. Я обдумывал, чем займусь, когда освобожусь от бремени по имени Хелен. После вчерашних возлияний в ночном клубе массаж и маникюр лучше пропустить, потому что на них может не хватить здоровья, зато к вечеру состояние организма наверняка позволит воспользоваться приглашением Севастьянова относительно финской бани с девочками. Но лучше обдумать план вечерних мероприятий во время обеда, под что-нибудь изысканное, вроде нежного фуа-гра. И пообедаю я в каком-нибудь приличном месте, допустим, в «Большом ресторане», а затем… Так, что еще. Ага, касательно передвижений… «Bentley» лучше оставить на стоянке и перемещаться по городу на такси, потому что я уже позволил себе пару коктейлей. Считаем, с этим решили. Что еще…
– Иван! – воскликнула Хелен и первой притормозила. Только прозвучавшие в ее голосе тревожные нотки удержали меня от короткого ругательства. Я не выносил обращения к себе по этому деревенскому имени, которое меня угораздило заполучить от родителей, не додумавшихся хотя бы до стильного Эдуарда. – Извини, вырвалось. Я хотела сказать, Ив… – И она потянула меня назад.
Я осторожно высунул голову из-за угла и обомлел. Возле консьержки стояли люди, появление которых в престижнейшем жилищном комплексе для избранных выглядело невероятным. Чужеродные предметы в виде трех военных в камуфляже стояли перед конторкой тетки в строгом темном костюме – офицер и двое рядовых. У долговязого капитана на боку висела кобура, у воинов на плече болтались автоматы Калашникова, ремни которых они придерживали руками. С консьержкой разговаривал капитан, бойцы стояли молча, чуть сзади. Один, мордоворот с широченными плечами, пялился в нашу сторону; возможно, хотел увидеть самку, чьи каблуки только что гулко звучали в вестибюле.
Я почувствовал, что во рту появился металлический привкус, а в животе что-то болезненно сжалось.
– Ив… это что, за тобой?
– Не говори глупостей, – прошипел я, пытаясь взять себя в руки.
Действительно. Предположить, что эти трое пришли за мной, было величайшей глупостью. Словно чиновника моего ранга могли призвать в армию, или на какую-нибудь переподготовку, или что там у них еще. А если бы даже и так. Сейчас два часа дня, а в военкомат меня вызывали на двенадцать – цифра, как и число месяца, была ровной и врезалась мне в память. Так неужели эта контора обладает такими возможностями, по прошествии пары часов высылать за каждым не явившимся по повестке наряд из трех бойцов. Это сколько ж у них должно быть сотрудников…
– Пошли, – набрав в грудь воздуха, в итоге сказал я и первым вышагнул из-за угла. – Может, они призывника не могут найти. Заблудились, вот и уточняют номер дома.
– Да вот же он! – воскликнула седовласая консьержка, приподнимаясь и тыча в мою сторону пальцем. Ее очки зловеще сверкнули, трое повернули ко мне головы, а я сбился с твердого размеренного шага и перешел на неуверенный, дробный. – Иван Борисович, тут к вам из военкомата…
– Мы сами, – жестко оборвал ее капитан и чеканным шагом пошел мне навстречу, а двое, профессионально подстроившись ему в ногу, двинулись вслед.
– Это не ко мне… – в панике прошептал я, чувствуя, как задрожали колени, и теперь уже я впился в предплечье отпустившей меня Хелен.
– Константинов Иван Борисович? – остановившись перед нами, бесстрастно спросил капитан. Хелен он проигнорировал, а на меня уставился холодными глазами рептилии.
– Так точно, – пролепетал я и, заметив на его подбородке увесистую бородавку, поспешно отвел глаза, чтобы он не счел мои разглядывания за бестактность. Затем отпустил Хелен и запустил руку в карман пиджака, за носовым платком. – С кем имею… точнее, я хотел спросить…
– Вы получали нашу повестку?
– Н-нет… – я отрицательно замотал головой, зачем-то посмотрел на Хелен, потом невольно скользнул глазами по бородавке капитана, и тут внезапно со своего места закричала опять вскочившая консьержка:
– Получал, получал! Он ее из почтового ящика достал, скомкал и на пол бросил! Я своими глазами видела!
– Она врет… – пролепетал я, подумав, что чертовы пролетарии совсем обнаглели. И пообещал себе, что, как только с сегодняшним недоразумением будет покончено, немедленно займусь изживанием консьержки с ее рабочего места.
– Следуйте за нами, – подытожил капитан, а тетка, не желая угомониться, продолжила кричать, обличительно выставив в мою сторону палец и покраснев от натуги лицом:
– Накажите его по всей строгости! Меня за таких потом премии лишают, говорят, что я за порядком не слежу! А они нас, простых работяг, разве слушают! Они ведь с положением, как же! Они все на пол бросают и бросают, бросают и бросают!
– Я понял, гражданочка…
– И эта фотомодель евоная… она мне тут своими каблуками в холле весь мрамор исцарапала… а у меня потом из зарплаты вычитают!
Капитан развернулся и пошел к выходу, всем своим видом выказывая уверенность, что я последую за ним, а я, словно советуясь, опять посмотрел на Хелен.
– Лучше подчиниться, – шепнула она, а двое служивых нахмурились и многозначительно поправили на плечах автоматы.
Поколебавшись еще мгновение, я побрел за капитаном, а эти двое пристроились теперь за мной. Два десятка метров я прошел на негнущихся ногах, набираясь решимости впредь говорить исключительно твердым голосом и соображая, что сказать, и усилием воли подавлял желание обернуться на конвоиров.
– Спасибо, за приглашение, капитан, – изо всех сил изображая уверенность, сказал я, когда мы вышли из дома, – дальше я сам. Обещаю, что… – я оттянул плащ, обнажив правое запястье, чтобы служивый увидел часы и понял, с кем имеет дело, – что менее чем через час я буду в вашей конторе. Только подскажите точный адрес и на всякий случай сообщите телефон вашего руководства. У меня могут оказаться другие дела, но я гарантирую, что уж завтра непременно…
– Прошу в машину, – сухо сказал, не дослушав, капитан, и только после этого я обратил внимание на припаркованный метрах в двадцати от подъезда микроавтобус камуфляжной раскраски.
– Прошу прощения, офицер, но если вы дорожите своей работой и не хотите, чтобы я сообщил вашему руководству о недопустимом поведении сотрудников их ведомства…
Меня ткнули в спину чем-то твердым и острым, по ощущениям похожим на дуло автомата или железный палец, и я потерял равновесие. Чтобы не упасть, мне пришлось, быстро перебирая ногами, сбежать по ступенькам, увлекая за собой вскрикнувшую от неожиданности Хелен.
– Это беспредел! – закричал я внизу, от злости перестав бояться и обретя необходимую уверенность в себе. – Немедленно назовите мне ваши должность и фамилию, и тогда увидите, что бывает, когда какой-то ничтожный чин начинает корчить из себя…
Меня ударили по почкам, и от острейшей боли мир передо мной поплыл и стал зыбким и расплывчатым, как на акварели нетрезвого художника. Где-то далеко и как-то приглушенно завизжала Хелен, и под этот ее истеричный крик я кулем рухнул на асфальт.
В следующий момент меня подхватили под руки и потащили к машине, а я, не имея сил кричать, потому что боль в почках лишила меня возможности нормально дышать, как-то не к месту подумал, что от трения об асфальт мои туфли из крокодиловой кожи придут в негодность и уже не будут выглядеть на пятьсот баксов, которые я за них недавно заплатил.
Бойцы с силой зашвырнули меня в салон, так, что я растянулся в проходе и больно приложился обо что-то черепом, уселись сами и задвинули дверь. Все это я определил на слух, поскольку в глазах было темно от произошедшего столкновения головы с чем-то твердым.
– Ив, тебя арестовали? Ив! – услышал я приглушенный крик оставшейся за бортом Хелен и тут микроавтобус неожиданно тронулся, отчего я еще раз стукнулся головой обо что-то железное.
– В стране объявлено особое положение, а они, блядь, фуа-гра обжираются…
Это было последнее, что я услышал перед обрушившейся на микроавтобус тьмой. А предшествовал ей еще один удар тупым предметом по почкам. Это было ответом на мою попытку подняться.
Меня провели по коридорам с обшарпанными стенами, втолкнули в мрачное помещение. Дверь за спиной с лязгом захлопнулась и стало совсем темно. Воздух был спертым, остро пахло мочой и блевотиной. В наступившей тишине слышалось тяжелое дыхание; судя по всему, камера, или как называлось это помещение, была забита под завязку.
– Садись, брат, в ногах правды нет, – услышал я чей-то скрипучий голос и понял, что обращаются ко мне.
– А… куда… – вырвалось у меня со стоном, хотя я намеревался ответить твердым и даже бодрым голосом.
– Его глаза еще не адаптировались к освещению, – сказал другой голос несомненно грамотного человека, а третий радостно вскрикнул:
– Константинов!
– Севастьянов? – неуверенно сказал я и тут же схватился за спину, потому что этот возглас отозвался острой болью в почках.
– Ив, давай сюда! Братцы, подвиньтесь, это один из наших.
Кто-то подхватил меня под руку и осторожно повел куда-то.
Вскоре острота зрения восстановилось и я смог оглядеться. Помещение представляло собой прямоугольник примерно три на семь метров, с высоким потолком; вдоль длинных стен стояли две скамьи, а источником освещения служило зарешеченное окошечко под потолком, в торце. Оба седалища были плотно забиты людьми в дорогих костюмах и плащах, большинство из сидельцев пребывало в скрюченных позах и с болезненными гримасами держалось за почки.
– Вот такие, брат, дела… – жизнерадостно начал Севастьянов, но тут же охнул и схватился за бок.
– Какие? – спросил я и застонал от пронзившей тело почечной боли.
– Особое положение, вот какие, – уже осторожно, с поправкой на возможный отклик организма, пояснил Севастьянов. – А ведь я «Большой ресторан» вечерком навестить собирался. Фуа-гра там подают просто изумительный, честное слово. Ни в одной московской харчевне больше не заполучить такого фуа-гра, могу поспорить на что угодно.
– Чепуха какая-то… – пробормотал седовласый человек с противоположной скамьи. Правую руку с окровавленным носовым платком он прижимал к губам, поэтому голос звучал приглушенно. – Все происходящее… это просто какой-то нонсенс.
– Вы бы еще сказали, оксюморон, – со стоном отозвался кто-то.
– Если бы в стране было введено особое положение, мы бы узнали об этом из средств массовой информации, – сказал кто-то слева, но я не стал поворачивать голову, боясь обнаружить, что у меня повреждена и шея.
– Я слышал, в Москве возникла острая нехватка продовольствия, – сказал кто-то.
– И что? – спросил кто-то.
– А то, – пояснил кто-то.
– Нечего было фуа-гра обжираться, – сказал кто-то, явно метя в Севастьянова. – Потому и объявили особое положение.
– А мы-то тут при чем? – спросил кто-то.
– Ну а кто, по-вашему, весь фуа-гра дочиста сожрал? – ответил кто-то.
– Путин отдал приказ взять на полное гособеспечение чиновников, имеющих доход более миллиона долларов годовых, – сказал кто-то.
– А гособеспечение – это, по-вашему…
– Да армия это, вот что.
– Я тоже слышал, что где-то около года назад правительство отдало секретное распоряжение силовым ведомствам подготовить операцию по раскулачиванию лиц, имеющих нетрудовые доходы, – подтвердил кто-то. – То есть, поголовно всех чиновников, потому что у нас берут все.
Кто-то выругался и наступила тишина.
– А… долго вы здесь сидите? – помолчав, спросил я у Севастьянова.
– Дольше двадцати минут здесь не задерживаются. Текучесть, брат, – сказал он и я почувствовал, как спазматически сжался желудок – уж очень не понравилась мне эта текучесть.
Тут же, словно в подтверждение его слов, лязгнул засов; я зажмурился от яркого света, а детина, занявший своим объемом весь дверной проем, рявкнул:
– Липман, на выход!
– Я не хочу! – закричал, вскакивая, мужчина в очках с золотой оправой. Он отбежал в дальний угол камеры и присел на корточки, загораживаясь руками: – Я требую адвоката!
Силуэт детины сдвинулся влево и в камеру ворвались два человека в камуфляже, которые в несколько прыжков добрались до скрючившегося Липмана, ударили его по разу коваными ботинками куда-то в бока, затем рывком подняли на ноги, сунули несколько раз дубинками по почкам и потащили обмякшее тело к выходу.
Когда его протаскивали мимо, я, освобождая проход, поспешно убрал ноги под лавку и рискнул поднять голову. Заметив на губах Липмана кровавые пузыри, я быстро закрыл глаза и попытался припомнить какую-нибудь молитву.
– Фамилия, имя.
Я сидел на прикрепленной к полу массивной армейской табуретке и старался без задержек отвечать на все вопросы, какими бы странными они ни казались, потому что два стоящих за мной бойца выжидали три – пять секунд, и, если не следовало ответа, били в область почек. В кабинете был кафельный пол с небольшим, едва уловимым наклоном к центру, возле которого я сидел. В центре находилась решетка для слива, похожая на те, какие бывают на улицах, и к этой решетке устремлялись розовые дорожки наспех замытой крови. Нечего и говорить, что дорожки брали начало под табуреткой, на которой я сидел, из последних сил преодолевая боль, но при этом старался держать спину как можно ровнее, чтобы меня не заставили принять строевую осанку при помощи автоматного приклада.
– Сколько вам полных лет?
– Тридцать пять.
– Вы чиновник распределительной системы?
– Да.
– Вам известно, что в стране объявлено особое положение?
– Нет.
Меня ударили слева, я невольно охнул, схватился левой рукой за пострадавшее место и прокряхтел сквозь сведшие судорогой губы:
– Я хотел сказать… н-никак нет…
Меня ударили справа и я поспешно отдернул от спины руку.
– Вы знаете, что такое особое положение?
– Никак нет…
– Взятки берете?
– Да… То есть, так точно, – быстро поправился я и, покосившись по сторонам, осмелился добавить: – У нас все берут. Организация такая. Нельзя не брать.
Мое самовольство осталось без почечных последствий и это вселило в меня некоторый оптимизм.
– Фуа-гра едите?
– Так точно.
– Нравится?
– Так точно.
– Даже несмотря на то, что вы, несомненно, знаете, в каких условиях содержатся несчастные птицы?
– Так точно. Виноват. Уже жалею об этом.
– В распределительную систему вас пристроил отец?
– Так точно.
– А сам наворовал денег и уехал заграницу?
– Так точно.
– Хорошо… На данный момент ваши родители проживают в Лондоне?
– Так точно.
– Осуждаете?
– Ну разумеется! То есть, виноват… я хотел сказать – так точно. Родина – это святое…
Майор за столом полистал какие-то бумаги.
– Ваше звание.
– Лейтенант запаса… кажется. Виноват, не могу знать.
– Испытываете желание послужить Отечеству?
– Так точно! – Я опять бросил быстрые взгляды по сторонам и с энтузиазмом добавил: – Очень желаю!
Майор впервые оторвал взгляд от бумаг и посмотрел на меня прозрачными бесцветными глазами. Они оказались без выражения, как у рептилии, в точности, какими были глаза недавнего капитана.
– Хорошо… – Он опять пошелестел бумагами, раскрыл мой военный билет. – Вы в курсе своих функций в случае начала военных действий или объявления в стране особого положения?
– Н-никак нет.
– То есть при получении военного билета вы даже не удосужились посмотреть, что написано в его специальном вкладыше?
– Виноват, товарищ майор, не удосужился.
– Хорошо, читайте.
Он пальцем подтолкнул в мою сторону книжицу в кожаной обложке, я приподнялся и с болезненным кряхтеньем потянулся за собственным военным билетом.
– Вслух, – сказал майор.
– Зачислен в команду, занимающуюся конвоированием указанных лиц в указанные места, – прочитал я, запинаясь, и второй раз рискнул поднять глаза на визави. – Разрешите спросить… Что это означает, товарищ майор?
– Свободны… – сказал он, и я поспешил подняться. В момент наивысшего напряжения сил, когда мне удалось выпрямить неверные ноги, все мое тело пронзила сильнейшая боль, и я рухнул на пол кабинета номер десять.
Кажется, меня опять куда-то поволокли, и я еще успел испытать радость, что не за ноги, иначе вместо ботинок сейчас о кафельную плитку, которой был выложен и коридор, билась бы моя голова.
Все это было днем. А к вечеру, образовав широкую длинную колонну, мы, новобранцы, сидели в чистом поле на корточках со сложенными за спиной руками, ожидая прибытия поезда. Все были выбриты на лысо, обрызганы пахучими средствами от паразитов и переодеты в выцветшую форму рядовых царской армии образца Первой мировой войны. На ногах бойцов были обмотки и не знающие сносу ботинки из воловьей кожи, выданные, как предупредил каптер, на десять лет с учетом каждодневной носки. У каждого за спиной был пристроен брезентовый сидор с личными вещами и трехдневным сухим пайком, состоявшим из двух кирпичей черного хлеба с отрубями, спичечного коробка с солью и трех луковиц из расчета одна луковица на день. Еще у каждого был холщовый мешочек с махоркой и несколько газетных листов для изготовления самокруток.
Сторожили колонну бойцы с собаками. Те злобно лаяли в нашу сторону, норовя сорваться с поводков, а рядовые тянули подопечных к себе, лениво уговаривая их успокоиться.
Через час посиделок, во время которых личному составу было предписано смотреть в землю, не шевелиться и молчать, раздался надсадный гудок и появился паровоз, окутанный белым облаком пара.
– По вагонам! Справа по одному, бегом, марш! Первый пошел!
И мы, согласно команде, поковыляли на затекших ногах к вагонам.
Как ни странно, это оказались не теплушки, на которые мы уже настроились морально, а обычные плацкартные вагоны. Разбитые на отделения, мы сидели в отведенных личному составу купе без дверей и конспектировали речь расхаживающего по вагону комиссара. Большинство стало рядовыми и только некоторые, включая меня, удостоились чина фельдфебеля, чем я очень гордился.
– Таким образом, товарищи… – любовно поглаживая деревянную кобуру маузера, веско бросал облаченный в кожанку крепкий мужик с лицом и вислыми усами колхозника, – в подобного рода вопросах мы должны руководствоваться прежде всего революционным правосознанием… и лишь в последнюю очередь буквой соответствующего декрета или комментариями к нему крючкотворов-юристов, которых, впрочем, наша справедливая власть упразднит в первую очередь за ненадобностью… Иначе говоря, все должно идти вот отсюда… – Он убирал руку с кобуры и похлопывал ладонью по левой стороне груди, а мы записывали, стараясь не пропустить ни единого его слова, чтобы после проверки тетрадей не оказаться в цугундере.
– Каждый из вас отныне наделяется особыми полномочиями и может или даже обязан вершить на местах суд революционного трибунала, который будет представлять в единственном числе… Пресловутые тройки устарели, товарищи… А что вы хотите… революция!
До Дальнего Востока мы ехали два месяца, втайне, чтобы не услышал товарищ вагонный комиссар, гадая, почему нас отправили нести службу именно в эту точку. Протестующих не находилось, напротив, все были настроены решительно, и громко, чтобы слышал комиссар, говорили, что если так надо, значит, надо, выражая готовность нести службу в любой точке мира, куда направит Родина.
Дезертиров было крайне мало – всего пятеро, улучив подходящий момент, выпрыгнули на ходу, да еще двое удрали на редких остановках, – и все были наказаны по всей строгости особого положения. Троих наказало революционное Провидение, сломав им шеи во время совершения прыжка с несущегося на всех парах состава, а четверо были изловлены военными патрулями, посажены на кол на крышах вагонов, и их мумифицировавшиеся от солнца и ветра тела по прибытии в конечную точку путешествия пугали своим видом редких в этих краях местных жителей.
– Желающие могут зашить одежду и прочие личные вещи в специальные мешки, которые будут отправлены в Москву, по месту жительства отправителей, – скомандовал прибывший для ознакомления с личным составом товарищ Верховный комиссар, когда мы выстроились на бескрайнем поле перед сотней огромных армейских палаток, – а сейчас… – он сделал паузу и горнист начал играть отбой, – вольно, разойдись!
Все, согласно взводам, разбрелись по пронумерованным палаткам и принялись зашивать ставшее ненужным гражданское тряпье в серые мешки, по очереди надписывая на них адреса химическими карандашами, выданными по карандашу на отделение.
– Удивительное дело… – морщась, бормотал Липман, попавший во взвод, в котором я являлся старшим, – как только я мог раньше носить всю эту мерзость… – он пытался запихнуть в мешок свой светлый буржуазный «Armani» в блестящую полоску, отдельно вложив в посылку сверточек с золотыми часами, – в то время как военная форма так практична и даже в некотором роде красива…
Поймав его косой взгляд, я понял, что Липман хочет выслужиться, и беззлобно скомандовал:
– Отставить разговорчики, рядовой.
– Слушаюсь, господин фельдфебель!
– Отставить господина, – сказал я, нахмурившись. – Среди нас господ нет, все господа остались Москве, набивать брюхо фуа-гра…
– Есть, товарищ фельдфебель, – согласно кивнул Липман и я правым пальцем покрутил отросший висячий ус, размышляя, не завить ли мне разрешенные фельдфебелям усы, чтобы они стали стоячими, как у дореволюционных городовых.
– Пойду-ка, узнаю, куда сдавать вещи, – наконец сказал я, вставая.
Не представляя, кому отправить свое барахло по причине отсутствия в стране родных, я написал на мешке свой домашний адрес, хотя знал, что моя квартира в одном из самых престижных жилых комплексов в центре Москвы была продана военкоматом для революционных нужд, а в качестве получателя написал: «Хелен из модельного агентства Престиж», надеясь, что на гражданке со всем этим как-нибудь разберутся.
– Наше отделение и без того припозднилось, все уже давно с этим покончили…
Обойдя лагерь и разыскав огромную пятидесятиместную палатку с надписью «Склад», я в растерянности застыл перед входом, думая, как обозначить свое прибытие, ведь стучать в брезент было, разумеется, буржуазной глупостью. Я покашлял, но не услышал приглашения, хотя, судя по музыке и неразборчивым выкрикам, внутри кто-то был. Тогда я осторожно сдвинул входную ткань и в следующую секунду с трудом сдержал уже настоящий кашель, потому что все пространство бескрайней палатки было наполнено ядовитым дымом империалистических сигарет «Marlboro». В центре находился уставленный коньяком и бутербродами с осетровой икрой стол, на скамейках вокруг которого расположились комиссары в кожанках, а на их коленях сидели полуголые размалеванные девицы с каблуками.
– А я все летала… – звучало из старого кассетного магнитофона, в то время как пьяные комиссары тискали довольно повизгивающих девиц, а самая симпатичная из них в одном только пиджаке стюардессы извивалась на центральном, поддерживающем палатку шесте, – но я так и знала… что мечты лишь мало… для любви, ла-ла-ла…
В одном из углов возвышалась груда исчерканных химическими каракулями мешков, возле которых копошилось около десятка лиц кавказской национальности. Мордовороты в кепках-аэродромах, с заросшими черной щетиной щеками, вспарывали мешки и ловко сортировали тряпки, жадно набрасываясь на дорогие модели мобильных телефонов, часы, рассматривая костюмы и гортанными голосами ругаясь из-за спорной добычи на своем языке.
Я опять негромко покашлял, но на меня не обратили внимания, и я, поколебавшись, выскользнул наружу.
– Ашот! – отойдя из палатки, услышал я зычный голос товарища Верховного комиссара. – Хватит копаться! Сказано же, или вы берете все чохом за фиксированную цену, или, считай, мы не договорились.
– Карашо, как сыкажеш, началник… – ответил, очевидно, Ашот, и я побрел восвояси.
– Передумал я барахло отправлять, – пояснил я вопросительно уставившемуся на меня Липману и затолкал подготовленный к отправке мешок в походный сидор. – Некому мне… Взвод, отбой!
Затем лег на разбросанное по палатке сено и, пристроив сидор под голову, почти мгновенно погрузился в здоровый солдатский сон, успев заметить, что осторожный Липман по примеру старшего тоже решил оставить личные вещи при себе. И так поступил весь взвод.
– Итак… – вещал в громкоговоритель товарищ Верховный комиссар, а мы стояли на железнодорожной насыпи возле неподвижно застывшего состава из теплушек, крепко сжимая в руках трехлинейки Мосина, – сейчас каждый из вас получит задание, выполнить которое предстоит любой ценой… пусть даже путем пожертвования в плавильный котел революции своей собственной жизни!
Комиссар сделал паузу и помощник тут же поднес ему блестящую фляжку, промочить пересохшее горло.
– Все произойдет в полном соответствии с предписанием военкомата! – крякнув после внушительного глотка, продолжил комиссар. – Все помнят, чем вам надлежит заниматься в случае начала военных действий или введения особого положения?
– А то… – загудел строй, когда бойцы поняли, что от них ждут ответа. – Нешто мы способны инструкцию забыть, командир… Мы люди ответственные, военные… Буржуазные глупости остались в прошлом…
– Сейчас каждый из вас получит группу объектов конвоирования и пакет с предписанием, куда их следует доставить… А ну, разгружай!
Это он крикнул уже специальным бойцам, стоящим у вагонов наготове. Те дружно навалились на двери, сдвигая их в сторону, и через минуту из вагонов на насыпь горохом посыпались дети, щурящиеся после вагонной полутьмы от яркого дневного света. Точнее, это мне показалось в первую секунду, потому что щурящиеся дети оказались китайцами с глазами – щелочками. Низкорослые доходяги выстроились в шеренги и мне стало понятно, почему они спрыгивали на насыпь партиями по двадцать человек – китайцы были скованы цепями.
Раздался недоуменный гул, кто-то из бойцов засмеялся, но большинство стояло в молчании, не зная, как реагировать на происходящее.
– Сейчас все повзводно подходят к моим заместителям и получают предписания! – объявил комиссар и военный оркестр заиграл бодрый марш. – Первый взвод… Шаго-о-ом… арш!
И первый взвод двинулся строевой поступью вперед.
– Подготовились… – скомандовал я своим, потому что мой взвод был вторым.
А тем временем по степи уже разбредались первые конвоиры с партиями приписанных к каждому китайцев. В военной организации и происходило все по-военному, четко и быстро.
– На месте… – зычным голосом скомандовал я, и наспех обученные мной китайцы замаршировали на месте, подняв тучу всепроникающей пыли, – стой! Раз – два…
Китайцы, звякнув цепью, остановились, а я огляделся. Мы оказались в степи, где не за что было зацепиться глазу. Посмотрев на командирские часы китайского производства, выданные мне военкоматом под роспись и личную ответственность, я вздохнул и присел на подвернувшийся бугорок. Трехлинейку я предусмотрительно положил рядом, в пределах досягаемости протянутой руки.
– Можете присаживаться, басурманы… – подумав, сказал я, и уставшие китайцы покидали на землю свои мешки и брякнулись на них задницами, отчего в небо взлетело очередное облако пыли.
Они тихо залопотали по-своему, что-то обсуждая, а я тем временем вскрыл особой важности пакет и обнаружил в нем сложенный вчетверо обрывок пожелтевшего газетного листа с нанесенными поверх печатного текста каракулями.
«Предписываю… фельдфебелю Константинову И. Б. доставить вверенные ему объекты (в кол-ве 20 голов) в пункт № 1 Дальневосточной революционной республики. По пути следования приказываю кормить конвоируемых согласно установленным нормам пищевого довольствия из расчета 1 кг в сутки на одну китайскую единицу…
За отказ выполнения приказа или утерю хотя бы одного из конвоируемых объектов предусматривается наказание виновного путем насаживания его на исправительный революционный кол.
Член дальневосточного реввоенсовета, Верховный комиссар Дальневосточной революционной республики товарищ Гусман Е. М.».
– Ну и где мне искать этот пункт номер один… – проворчал я для проформы, твердо зная, что выполню приказ члена дальневосточного реввоенсовета во что бы то ни стало, даже путем полного прекращения своей индивидуальной жизни в виде добровольного пожертвования ее в плавильный котел революции, и на всякий случай строго посмотрел на притихших китайцев, словно они могли подсказать ответ. – Видали, басурманы, какая выходит незапланированная закавыка… Дело-то, видать, сурьезное…
Китайцы прочувствовали важность момента, начали испуганно вставать, не отрывая от меня своих узких похмельных глаз.
– Сидите уж… – все так же ворчливо сказал я и машинально подкрутил пальцем правый ус.
Потом остро почувствовал голод, вспомнил про половинку питательного черного кирпича с отрубями, про витамины в виде луковицы, но усилием воли оборвал желание приступить к поглощению пищи немедленно. Сначала следовало разобраться с подопечными, в случае халатной утери хотя бы одного из которых с меня бы спросил строгий и справедливый ревтрибунал.
– Жратва-то у вас хоть есть? – хмуро бросил я.
– Нету златвы, нацяльник… – пискнул китаец, которого я выделил сразу, потому что он был на полголовы выше своих соплеменников и доставал мне до груди. Больше он ничем не выделялся и походил на товарищей, как любая песчинка на своих сестер.
– Чем же мне вас питать-то, чтоб не передохли ненароком… – пробормотал я, а китайцы смотрели виновато, словно были настоящими разумными существами и понимали, что создают мне проблемы. – А ну, поди сюда, – позвал я запримеченного басурмана.
Он вскочил, застыл в растерянности, и только тогда я сообразил, что он не может выполнить приказ по причине прочной скованности цепью.
– Может расковать вас, басурманов, под свою ответственность… – раздумчиво спросил я себя вслух, и китаец закивал часто, как китайский болванчик.
– Расикуй, расикуй, нацяльник… – залопотал он, в то время как я хлопал себя по карманам в поиске куда-то запропастившегося ключа в виде согнутого под прямым углом гвоздя. – Мы и пойдем ловчее, и пропитание себе сами сможем разыскать.
– Да куда ж «расикуй», – проворчал я, замечая, что у китайца прямо на глазах начинает улучшаться нормальная человеческая речь. – А дисциплина? А ну как разбежитесь у меня по степи, ищи вас потом. За вами, басурманами, пригляд нужон… Во, видали? – В подкрепление своих раздумчивых слов я потряс в воздухе важным газетным документом, а китаец затряс головой еще чаще.
– Пригляд, да… нузон, да…
– С другой стороны, цепи есть проявление буржуазного угнетения трудящего класса, – сказал я и опять охлопал карманы с целью отыскания ключа от огромного амбарного замка, замыкающего связующую китайцев цепь. – На-ка вот, лови… Только скажи своим, чтоб изволили вести себя культурно, потому как все вы находитесь на территории Российской Федерации, вследствие чего обязаны скрупулезно соблюдать ее установленную законность, – строго напомнил я, перед тем как кинуть китайцу инструмент освобождения от гнетущей китайский пролетариат цепи.
Я хотел что-то добавить, и тут заприметил еще одну бумажку, не замеченную раньше по причине ее ветхости и прилипания к внутренней поверхности пакета. Бумажка оказалась картой, нарисованной химическим карандашом на втором обрывке газеты, и на ней был обозначен искомый пункт № 1, к которому я должен был следовать согласно приказу Верховного дальневосточного комиссара товарища Гусмана. По революционным меркам пункт был совсем рядом, километрах в семи.
– Привал окончен, – сказал я и потянулся за трехлинейкой. – Пошли, басурманы, сдам вас, кому следует…
И не обращая внимания на встревоженно загомонивших на своем языке китайцев, первым потопал к горизонту, думая, до чего же замечательным нарекли меня именем. Иван… Оно звучало солидно, увесисто, и виделись при произнесении этого имени широкие грубые ступни с ороговевшими подошвами и желтыми обломанными ногтями, вдавливаемые грузным телом в степную пыль и не страшащиеся не только мелких камней или сучков с хвойными иголками, но не обращающие внимания даже на бутылочные осколки – такое вот это имя и такие вот у него ноги, которым никакие контрреволюционные преграды нипочем.
Пункт № 1 оказался комбикормовым комбинатом, на котором не только отказались принимать моих китайцев, но даже не пустили нас дальше проходной.
– Куда ж я у тебя их приму! – закричал, выскочив на разбитое каменное крыльцо, всклокоченного вида вахтер в рваном ватнике. Красными от недосыпа глазами он брезгливо оглядел моих понурых подопечных и сказал: – Разве ж это китаец… Одно это недоразумение, а не китаец, вот что я тебе, мил-человек, скажу… – И с революционной окончательностью завершил, как отрезал: – А ну, вертай назад, в степь, иначе сейчас доложу кому след о твоем неподчинении, не посмотрю, что ты фельдфебель!
– Ну дык это… – растерянно промямлил я. – Чем же мне их в голой степи питать-то, коль надлежит вертаться назад… Нет уж, служивый, ты мне выдай-ка тогда соответствующий документ, и чтоб документ тот был заверен фиолетовыми штемпселями и прочими уведомляющими атрибутами… А ежели ты думаешь, что я тут к вам без дела пришел или подученный кем-то, то вот тебе мой пролетарский ответ… – Я рванул ворот гимнастерки, так, что посыпались пуговицы, и дальнейшим движением трудовых рук с треском располовинил на груди тельник: – На, стреляй! Стреляй со всей эффективностью в мое революционное сердце! Стреляй, гад, а иначе не получится у нас подходящего разговора, и не возникнет никогда моего к тебе доверия!
– Ладно… – буркнул вахтер, поняв, что имеет дело с человеком обстоятельным, которому нужно без промедления выдать все, чего требует революционная разнарядка. И, отбросив недозволительную фанаберию, заскочил обратно в свою будку и принялся накручивать ручку телефонного аппарата. – Все что положено, сейчас получишь, служивый…
Вскоре работяги выкатили из ворот комбината тележку с какими-то мешками, а вахтер вручил мне пакет без опознавательных знаков, который я должен был вскрыть в обстановке надлежащей секретности. Я сунул пакет за пазуху и стал принимать под расписку мешки, в которых оказался комбикорм для китайцев.
– Маловато будет, – напустив на себя многозначительный вид, на всякий случай сказал я, не имея ни малейшего представления, сколько нужно продукта, чтобы обеспечить прокорм китайских человекоединиц. – И еще надлежит на непредвиденные обстоятельства поправку сделать, так что добавить бы надо… – Я покосился на топчущихся в отдалении китайцев и решительно завершил: – Таким образом, вот тебе мое последнее слово… Давай еще столько же, иначе немедля сообщу о происходящей здесь недопустимости в соответствующий отдел!
– Ага, столько же, как же… – пробубнил вахтер, однако по его знаку работяги притащили дополнительный комбикормовый мешок.
Китайцы расхватали мешки и фляги с водой, взвалили все на плечи и мы побрели в холодную ночную степь, где я должен был в обстановке строжайшей уединенной секретности вскрыть вверенный мне пакет.
«Следовать к пункту № 2», – прочитал я в отблесках костра, из соображений революционной безопасности приказав китайцам смотреть в другую сторону, и негромко выругался, высмотрев на очередном фрагменте нарисованной карты, что идти до этого пункта предстоит около пятидесяти километров. Затем порезал на ровные суточные части фельдфебельский паек, выданный мне отдельно и состоящий из лука, сала, черного хлеба и прочих полезных для организма витаминов, и задумчиво уставился на китайцев, варящих в большом котле комбикормовый паек. Колбасу твердого копчения с названием «Интернационал», написанным на ней синим химическим карандашом, я определил как вкусный десерт и отложил на потом.
– А ну, поди сюда, – позвал я высокого китайца, выбранного мной в помощники. Помимо хорошего знания человечьего языка у него было подходящее для заместителя имя, которое, как и колбаса, было связано с революцией. Собственно, именно это его имя и означало.
– Как, Джеминг, довольны ваши нашим гостеприимным пролетарским пайком? – спросил я исключительно в целях установления доверительных международных отношений, поскольку и без того видел, что китайцы изъяли ложками из котла почти все варево задолго до того, как оно дошло до кондиции.
– Конесьно довольны, нацяльник, конесьно довольны, – торопливо поддакнул Джеминг и облизнулся.
– В вашем Китае вас, небось, так вкусно не покормят.
– Не покормят, нацяльник, не покормят.
– То-то же… А как вы попали в Россию?
Джеминг развел руками.
– Наса брата направилась торговать в Москву, а нас арестовали на границе и загнали в теплуски. А товар конфисковали.
– Правильно сделали, что конфисковали, – подумав, сказал я. – Такова, можно сказать, наша твердая генеральная линия, китайские товары бескомпромиссно реквизировать. Потому как фикция весь ваш китайский товар, вот что он являет собой… Одно только недоразумение и надувательство в виде обмана трудового российского народа.
– Надувательство, да, – подтвердил Джеминг и опять развел руками.
– Что ваш брат может произвести, кроме китайского барахла.
– Ницего не мозет, – согласился китаец и горестно вздохнул.
– Ладно, – сказал я и полез в сидор за кисетом, чтобы свернуть добротную козью ногу, – заканчивайте принимать пищу, и отбой. Нам еще к пункту номер два идти, поэтому надо хорошенько выспаться, чтобы иметь соответствующую эффективную бодрость…
Уже два месяца мы бродили по степи от одного комбикормового комбината к другому, неизменно получая предписания следовать дальше. Сначала я думал, что целью такого конвоирования является довести китайцев до определенного рабочей партией места, но в какой-то момент номера пунктов стали повторяться. А какая цель в хождении сложными зигзагами по степи, я, как ни старался, угадать не мог, потому как не было у меня данных для таких догадок, как не было и соответствующего ранга, наподобие должности Верховного дальневосточного комиссара, а были скромный чин и обязанности фельдфебеля, которые я с надлежащей революционной тщательностью и выполнял. Поэтому в какой-то момент я решительно отверг могущие отклонить от генеральной линии партии посторонние мысли и просто согласно инструкции конвоировал китайцев от комбината к комбинату, наблюдая, как они разжираются телесно более и более, и даваясь диву, как они все сильнее начинают походить на стадо. Китайцы даже лопотать стали меньше, и большей частью тупо брели в указываемом мной направлении, слабо реагируя на внешние раздражители, если те не являлись обширными природными явлениями вроде грозового дождя или теплового гнета неподконтрольного партии солнца.
Я уже давно перестал идти замыкающим с трехлинейкой наизготовку, как это было в самом начале пути, потому что убедился, что китайцы разбегаться не собираются. Очевидно, это было связано с отсутствием в степи надлежащего сырья для калорийного прокорма. Вечером я выбирал место для ночлега, где китайцы разводили костер и укладывались рядом, согревая друг друга своими телами, а сам заворачивался в шинель. А днем, устраивая привалы с целью поглощения питательной пищи, я усаживался на раскладной стульчик, смастеренный мне китайцами из подручного материала в виде добытых на ж/д станции алюминиевых трубок и куска бросового брезента, и, наблюдая за подопечными, думал о чем-нибудь постороннем, вроде обширных своими телесными данными представительницах женского пола.
Не раз и не два мой караван пересекался с другими китайскими караванами, но желания разводить пустые разговоры не находилось в наличии, поэтому мы зачастую даже не останавливались, а просто приветствовали друг друга революционными жестами, высоко вскидывая грозно сжатый в адрес мировой буржуазии кулак.
А один раз я повстречал товарища Липмана, который вполне обжился в степи и даже не помышлял о возвращении в Москву, до того ему здесь было хорошо. Он достал где-то фургон, в который впряг своих подневольных китайцев, и как последний буржуй раскатывал по степи в этом фургоне с рекламной вывеской «Степной ломбард Липмана». Сначала я не хотел с ним даже говорить разговоры, обещая доложить о его контрреволюционной линии руководству в лице дальневосточного комиссара, но Липман льстивыми речами и прочим буржуазным обманом завлек меня в свой фургон и, воспользовавшись моей временной задумчивостью о несправедливом мировом порядке в виде диктатуры зажиточного империализма, выторговал у меня полный табака кисет, всучив взамен неработающую китайскую зажигалку, вследствие чего я, опомнившись, несколько раз в назидательных целях выстрелил вдогонку его торговому каравану из трехлинейки, чем обратил товарища Липмана с его китайской тягловой силой в паническое бегство, хотя целил поверх фургона…
А спустя неделю, когда мы шли к питательному пункту номер двадцать два путем пересечения железнодорожной станции «Узловая», я встретил ее. Дородная бабища в скрипучих кирзовых сапогах диаметром с водяные ведра одарила меня манящим взглядом выцветших на солнце глаз, заливисто рассмеялась и прошла мимо, крутя огромным, тяжеловесной грузности крупом, а я, уронив челюсть и повинуясь самовольно изменившим направление ногам, сделал мысленную поправку курса и поплелся за ней, впервые допустив серьезное контрреволюционное нарушение, то есть напрочь позабыв о своих китайцах, которые бездумно свернули за мной со своими питательными мешками на спинах, как коровы за пастухом.
Баба привела нас к справной избе и, встав пред калиткой, повернулась ко мне передней телесной частью, которая у нее с недвусмысленным намеком выпячивалась в сторону мужчин под пестрой вязаной кофточкой обширного размера.
– Тут бы хозяин какой-никакой пригодился… – покашляв, хрипло сказал я и провел рукой по забору. – Вишь, как перекосился… Подправить бы… Баба ты, как я погляжу, справная, аж на шесть полновесных пудов свою телесную конструкцию со всем тщанием нарастила, не фотомодель какая костистая да вертлявая… значит, и хозяйство должно быть обстоятельным, соответствовать, так сказать, твоей уверенной телесной обоснованности… – И, отведя глаза, поскреб задумчиво требующий бритья подбородок.
– Да откуда ж ему взяться, хозяину-то… – зардевшись, ответствовала хозяйка.
– Иван Борисович, – представился я и повернулся к отяжелевшим от обеденного комбикорма китайцам. – Вона, видала, какая у меня личная армия-то… Ежели что, запросто сумеем подмогнуть.
Поселился я у Агриппины Матвевны прочно и обстоятельно. Утром, голый по пояс, выходил я во двор и колол дрова, делая это с непреклонной вдумчивостью и надлежащей революционному человеку тщательностью.
Поставив очередной чурбак на разделочный пень, сначала зорко приглядывался я к его внешнему облику, выбирая слабое место, определяя самую его буржуазную червоточину, затем совершал решительный пролетарский замах путем вскидывания карающего топора над головой, и с громким хеканьем рубил контрреволюционную гидру надвое, без возможности восстановления, чувствуя, как с каждым таким ударом приближаю общее счастье трудового человечества.
Агриппина Матвевна стояла рядом с белоснежным полотенцем наготове, усугубленным молочной кринкой для пития по случаю успешного окончания работы и торжества всеобщего пролетарского разума над империалистической суетой. Окатив мое разгоряченное трудовое тело из водяного ведра, насухо растирала она мои набухшие от полезной работы мышечные члены и зазывала на обед, который проходил в обстановке бдительного благодушия и сытного торжества неминуемости мировой пролетарской революции.
Китайцам я поручил перестелить крышу, но вскоре убедился, что не зря поражался крайней бесполезности этого желтолицего народа.
– Разве ж это гвозди? – вопрошал я у понуро опустившего голову Джеминга, вертя в руках деревянную планку, которую без малейшего мышечного усилия выдрал из гнезда благодаря незначительности размера удерживающих ее гвоздей. – Это кто ж, окромя закоренелого саботажника, станет приколачивать закрепляющую планку такими непредназначенными гвоздями?
– Так ведь, Иван Болисыч… ежели делать все на совесть, кто ж нас потом позовет, коли оно сто лет стоять будет… – виновато бормотал Джеминг, и я понимал, что ползучая контрреволюция распространилась повсеместно, запустив свои цепкие щупальца уже в самое народное нутро, смущая незрелые, поддающиеся вредной пропаганде умы, и начала, конечно, с подверженных влиянию золотого тельца малодушных иностранцев.
– Ладно, какой с вас, неразумных, спрос, – вздыхал я и отпускал китайца в хлев, где обленившиеся басурманы круглыми сутками напролет спали возле представителя аполитичной живности в виде старой молокодобывающей коровы, обкладывая ее своими телами для всеобщего в своей взаимовыгодности теплового обмена.
Агриппина же Матвевна, узнав, что китайцы высасывают корову досуха и по этой причине она отказалась боле поставлять к хозяйскому столу целебное железом молоко, хотела было разразить скандал, но я ее, как сумел, успокоил. Не шуми Агриппина Матвевна, сказал я. Китаец, он ведь, понимаешь, категорически беспомощен и самостоятельно в природе нипочем не сможет себя прокормить, а потому без надлежащего ухода попросту погибнет, как та твоя корова или вовсе даже какая коза. А с другой стороны, ему рацион нужен, потому как есть такой приказ, чтоб был китаец на полном государственном обеспечении. Это есть наша братская пролетарская помощь развивающимся несмышленым народам. Вот такой вот, Агриппина Матвевна, всеобъемлющий общемировой конструктивизм…
– Чижелая я, Иван Борисович… – как-то поутру сообщила, опустив глаза, Агриппина, и я понял, что преступно долго застоялся на одном месте.
В дальнейшее утреннее время я собирался, подгоняя китайцев, которые разленились настолько, что забыли о своей пролетарской обязанности ходить по степи во имя революционной справедливости, а потом обратился вниманием к всхлипывающей Агриппине Матвевне.
– Ты это брось, буржуазную-то сырость мне тут разводить… – отведя глаза, сказал я, думая, как оправдать перед товарищами свое преступное отсутствие в степи и как бы это не было воспринято ими как отказ от справедливой борьбы в виде недопустимого саботажа нашего общего дела. Эдак можно было как дважды два угодить под справедливый ревтрибунал трудового народа. – На-ка вот лучше, посмотри, что я тебе оставляю, чтобы сына-то с необходимой скрупулезностью на благо трудящего элемента воспитать.
– Сына? – подивилась Агриппина Матвевна, и от этого удивления у нее даже временно пересохли слезы. – Откуда ты, Иван Борисович, знаешь, что народится у нас сынок?
– Так нешто тут много зоркости требуется, чтобы такую пустяковину-то распознать… – раздумчиво ответствовал я, посредством ножниц вспарывая когда-то зашитый личный мешок, – коли в данный исторический момент делу нашему справедливому, пролетарскому, как раз умелые добровольцы требуются.
– Обновка-то какая дивная! – воскликнула Агриппина Матвевна и даже всплеснула руками, рассматривая невиданную в этих краях заморскую ткань.
– «Brioni», – после паузы молвил я, насилу припомнив устаревшее в пролетарской степи буржуазного происхождения слово. – На первое время хватит, чтобы Хведора-то прокормить.
– Хведора? – переспросила Агриппина Матвевна.
– Не Эдуардом же мы его назовем, – убежденно ответствовал я. – Нешто мы какого трутня, злостно подверженного тлетворному влиянию запада, вырастить хотим. Или, того хуже, нарастет он у нас с таким именем сутенером, чтобы преступно эксплуатировать природные достоинства женского народонаселения… А то еще, как стриптизер какой, задумает округ шеста с голым задом вертаться, или вообще в голубые меньшинства малодушно подастся, извлекать с помощью своего личного зада нетрудовые прибыли… Нет, имя – оно всему голова. Оно, как оберег, от всяческих вольных необдуманностей надлежаще защитит. Потому Хведор для сынка-то в самый раз будет… А ежели все же народится человек полу женского, назови его Матреной, такой вот тебе мой крепкий наказ. Увесисто такое имя звучит, и сразу всем понятно станет, что это тебе не Хелен какая развратная, а, следовательно, не для баловства полового такая бабья единица рождена, а для самого, что ни на есть, справедливого и радостного будущего… Вот тебе еще часы за многие заграничные тышши, мне в степи такие ни к чему… Одно баловство такие часы правильного классового настроя человеку иметь. А степь, она баловства не приемлет, она соответствующего отношения к себе требует, потому и пользуюсь я часами революционного образца, китайскими мастерами произведенными. Они хоть и ломаются каждодневно, так ведь и сами китайцы рядом, они, как производители, враз такие часы в виде безвозмездной гарантийной помощи наладят… Были у меня ишо крокодильи штиблеты, да только сточились те штиблеты о цементный пол военкомата, такой вот, Агриппина Матвевна, вышел оксюморон…
И объяв ее крепкими объятиями, распрощался я с Агриппиной Матвевной без обмана, честно пообещав, что вернусь к ней при первой же возможности, как только отконвоирую прикомандированный ко мне народец куда след…
И опять потянулись значительные пройденными верстами дни, единственным развлечением которых были вечерние беседы с Джемингом… Сяду я на свой стульчик, засмотрюсь внимательно на обнадеживающий теплом и светом костер, да призову к себе этого басурмана, глядя как его обожравшиеся комбикормом соплеменники укладываются на ночлег.
– А что, Джеминг… – говаривал я, ловко управляясь с газетной самокруткой и удивляясь, как всякие буржуи и прочие бездельники могут употреблять никудышные иностранные сигареты, в которых и крепости-то подходящей не сыщешь, – можешь ты, к примеру, сказать, зачем вы, китайцы, на белом свете понадобились? Вот взять, к примеру, нас, русичей… Ясное ведь дело, что мы народ основательный. И ростом вышли, и стремлением к светлому будущему… А вот вы, китайцы… зачем вы занадобились планете-матушке, что вы можете предложить ей в виде ответного, от справедливого сердца, подношения?
– Не знаю… – вздыхал пристроившийся в моих ногах китаец и сокрушенно разводил руками. – Опять вы меня, господин фельдфебель, ставите своими законными вопросами в тупик.
– Господа в Москве живут, – добродушно, без ненужной в настоящем деле поспешности, поправлял я басурмана, – они там различными фуа-гра животы себе набивают, в ночных клубах ногами дрыгают да прочими жизненными излишествами промышляют, не говоря уже и о вовсе беспорядочных половых сношениях, которые не для пользы революционному делу в виде нарождения детей производят, а просто так, чтобы натешить себя телесно… Однако не об том сейчас речь… Ты, Джеминг, не виляй, отвечай, как полагается, по-нашенски, прямо и твердо, по принципу, можно сказать, нерушимой пролетарской сущности.
– Не знаю, Ван Лисович, – опять вздыхал китаец.
– То-то и оно, Джеминг… – говорил я, щедро отпуская окружающей природе клубы крепкого дыма, – то-то и оно… Вот и выходит, что бесполезный вы по своим природным функциям народ. Ты мне еще вот что скажи… А ну как не станет всего вашего Китая, сгинет он враз в истории всеобщего человечества вместе с населяющим его народцем… и что тогда всей общей планете сделается? – И сам отвечал, поскольку Джеминг с недалекой обескураженностью разводил руками: – А ничего планете не сделается. Не заметит она, планета, вашего отсутствия, будет и дальше стремиться продвинуться по своему пути в далекую даль в безжизненном безвоздушном космосе, с одной только ей известной целью… Вот и выходит, Джеминг, что не народ вы, а одно сплошное недоразумение, прямо-таки какой-то оксюморон, иначе и не скажешь.
– Сюморон… – поддакивал китаец. – Неизвестно, зачем небо коптим…
– То-то и оно, – солидно подтверждал я и в доказательство неопровержимых в своей беспощадной справедливости тезисов подкручивал длинные фельдфебельские усы, тщательно оберегаемые во время каждодневного бритья острым штыком.
Затем я отпускал Джеминга спать с целью восстановления надлежащих для похода сил, отпивал из фляги экономный глоток спирта, который выдавался мне комбинатами как добросовестному работнику в виде пролетарской премии и прочего дополнительного пайка, и еще некоторое время сидел, глядя в звездное небо и мечтая о чем-то несбыточном, суть чего не смог бы определить и сам…
И опять тянулись полные тяжелой трудовой работы дни… Конвоировать китайцев становилось все труднее по причине стремительно увеличивающегося веса последних. Они ковыляли подобно разжиревшим без присмотра охотничьей дроби бесхозным лесным гусакам, чем замедляли мою решительную революционную поступь в виде тщательного трудового порыва с целью усердного выполнения задания.
Отчасти виноват в таком обстоятельстве был я сам – и именно этим своим неизбывным усердием. Слишком хорошо изучил я вопрос положительного влияния комбикорма на организмы отстающих народов, слишком настойчиво требовал я на отпускных комбикормовых пунктах самых выгодных сбалансированных кормов, и даже научно просвещал на стоянках внимательно слушающего Джеминга.
– А вот внимай, басурман… – говаривал я, накормив подопечных питательным ужином и приступая к сворачиванию полезной для революционного мозга самокрутки в виде козьей ноги. – Знаешь ли ты, что полноценное кормление возможно лишь при сбалансированности рационов, которые должны удовлетворять потребности животных в питательных, минеральных и биологически активных веществах, а отпускаемых природой продуктов, которые содержали бы все необходимые для организма животных питательные вещества, да еще в нужном пролетарскому делу соотношении, практически нет. Поэтому кормление такими продуктами неэффективно из-за излишнего расхода кормов. Например, большинство зерновых культур имеет высокое содержание крахмала, но сравнительно мало белка. Чтобы получить необходимое количество белка, требуется скормить больше зерна, что не только ведет к его перерасходу, но может нарушить обмен веществ откармливаемого, сказаться на его продуктивности… Чего молчишь-то? Знаешь, спрашиваю?
– Не знаю, да, – виновато признавался басурман.
– А хочешь ли ты, чтобы несбалансированное питание нарушило обмен твоих китайских веществ и сказалось на продуктивности?
– Нет, Иван Лисыч! – горячо, как вросший в самую революционную сущность сподвижник, познавший ее изнутри добровольный активист, отвечал Джеминг. – Хочу хорошей продуктивности!
– То-то и оно, что хочешь… А знаешь ли ты, что комбикорм – это сложная однородная смесь кормовых средств в виде зерна, отрубей, корма животного происхождения, минеральных добавок и прочего, прочно сбалансированного промеж собой? – пытал я его дальше. – Тоже не знаешь? Вот то-то и оно, что не знаешь… Потому и достаю я вам самые продуктивные продукты, самые, можно сказать, сбалансированные витаминами и прочими полезностями, чтоб, значит, у вас надлежащий прирост происходил… А чем вы мне отвечаете на такую заботу?
– Чем? – вопрошал Джеминг.
– Контрреволюцией, вот чем! – громыхал я голосом, отбрасывая за ненадобностью напрочь скуренную козью ногу и грозя китайцу желтым никотиновым пальцем. – Контрреволюцией в виде замедления всеобщей пролетарской поступи по степи в соответствии с предписанием двигаться на комбинат общественного китайского питания номер тридцать два! – И тряс перед носом бледнеющего Джеминга важной бумагой в виде газетного листа с картой и печатью, скрепленной подписью товарища дальневосточного комиссара. – А ну как я тебя сейчас в расход во имя нашего общего дела! – входил я в раж и, бешено вращая глазами, передергивал затвор трехлинейки, в которой отсутствовал боезапас по причине очередного употребления его по фургону степного ломбарда в очередной раз встреченного в степи товарища Липмана, который в очередной раз выманил у меня продукты табачно-колбасного довольствия, а взамен всучил очередную неработающую зажигалку китайского производства…
Так развлекался я вечерами перед отбоем, по причине отсутствия в степи буржуазного телевизора, но как-то раз мы с Джемингом случайно заговорили про природные реки, и вследствие этого разговора я лишился правильного восприятия действительности и стал походить на не ведающего твердого революционного курса мягкотелого либерала, место которым на самых задворках общего мирового движения трудящих пролетарских элементов.
– А что, Джеминг, реки-то у вас хоть толковые есть? – спросил тогда я. – И чтоб не простые, а великие, такие, как наш революционный Амур, который вам никогда с вашими завоевательскими целями не перейти, потому что этого не позволит твердо настроенный российский пролетариат.
– Да откуда у нас, китайцев, взяться таким рекам… – традиционно уныло ответил Джеминг, и традиционно развел руками. – Если и есть в Китае большие реки, то таковыми они считаются только по нашим мелким китайским меркам.
– Ну скажи мне хоть их названия, – снисходительно предложил я и с глубокой решительностью затянулся козьей ногой.
– Янцзы и Хуанхэ, – сказал Джеминг и его вид стал мечтательным, то есть узкие глаза исчезли окончательно с его крупнощекастого лица от непроизвольного счастливого прищура.
– Интересно… – вдумчиво сказал я. – А что означают эти имена?
– Голубая река и Желтая река.
– Янц… – с усилием выговорил я, – Янцзы, это река Голубая?
– Да.
– А Хуанхэ…
– Желтая, – со вздохом сказал Джеминг, а мои внутренности, твердо стоящие на несгибаемой гражданской позиции, вдруг неопровержимо перевернулись.
Как река может стать голубой, это я понять сумел, хотя на самом деле все реки просто темные, это понятно каждому не желающему обманываться пролетарскому глазу. Голубыми, себе под стать, их делают поэты, вся эта патлатая бездарь, попросту не желающая работать и поэтому сочиняющая никому не нужные рифмы. Но как река может быть желтой… До такого, пожалуй, не додумались бы даже эти никчемные буржуазные прихвостни.
– Как река может быть желтой? – растерянно переспросил я, даже забыв о тлеющей в пальцах козьей ноге, так вдруг нестерпимо захотелось мне увидеть эту Желтую реку.
– Она проходит через Лессовое плато, состоящее из трехсотметровой толщи легкоразмываемого песка, – пояснил Джеминг, и я прикусил губу – такое пояснение показалось моему пытливому уму слишком простым или даже обманчивым, ставящим целью сокрыть какую-то тайну, запутать любопытного чужака, могущего на эту ценную во всех отношениях реку покуситься. – Там воды реки становятся мутными, приобретая желтый цвет.
– А откуда ты будешь родом сам, Джеминг? – додумался я до вопроса, который давно следовало задать китайцу, повинуясь революционной бдительности.
– Из провинции Гуандун. Столицей там город Гуанчжоу, – сказал китаец и вздохнул.
– И большой он, этот твой Гуанч… Гуанчжоу?
– Десять миллионов человек. То есть, не человек, а китайцев.
– Буржуазный, выходит, город-то, совсем как ихняя Москва… Небось, и классовая борьба в ем неотвратимо обостряется?
– Обостряется, Иван Лисыч, ох как обостряется…
Я тоже вздохнул и почувствовал, как дотлевшая до корня самокрутка обожгла пальцы.
Мы долго сидели молча и думали каждый о своем, хотя, конечно, мои мысли имели для всеобщего мирового пространства куда большую ценность, чем мысли какого-то неосознанного басурмана. Да и думал ли он о чем-нибудь? Может, просто сидел, изображая задумчивость, а сам вынашивал запрещенные антиреволюционные помыслы.
– Давай спать, Джеминг, – наконец сказал я и опять вздохнул.
И когда китаец встал, намереваясь брести к своим, давно спавшим вповалку возле затухающего без пригляда костра, сказал с надлежащей партийной прямотой, ему вослед, точнехонько в жирную от комбикорма спину:
– Эх, ты, Джеминг… Сам китаец, а о своей реке толком не знаешь… Как она может быть желтой от песка? Нет, неверно это. Так что, можно сказать, не смог ты разгадать ее тайну, тот неприкасаемый, можно сказать, секрет, что она несет в своих натруженных пролетарских водах… Но и от меня разгадки не жди, не скажу я тебе ту разгадку, потому что каждый должен дойти до нее сам…
И когда меня сморил тревожный сон конвоира, увидел я великую реку, несущую в своем стремительном беге чистейшее золото, переливающееся и сверкающее при каждом ее многозначительном всплеске. Оттого и были ее воды желтыми…
И не было после того разговора минуты, которую бы я не думал о той реке, каковую мировая природа ошибочно подарила китайцам, хотя такая река, конечно же, должна была принадлежать исключительно победившему классу пролетариата, чтобы пополнить его восприимчивый к новому кругозор и одарить прочими эстетическими радостями общего жизневосприятия.
И мучился я этим вопросом до тех пор, пока не догадался в какой-то ответственный момент истории точно, что не может быть в Китае такой реки, чтобы величием своим она превосходила нашу, российскую, и, следовательно, манящая названием и сущностью своей Хуанхэ брала исток у нас, аккурат на территории Российской Федерации, и только вследствие нашей пролетарской доброты и великодушного международного курса было позволено нашим трудовым народом пользоваться этой рекой и отсталым в политическом и ином отношении китайцам…
И снилась мне эта река каждую ночь, да так преступно занимала весь мой сон, что наутро я испытывал чувство не проходящей душевной вины, потому что в этот ночной момент, выходит, оставлял свой круглосуточный пост и по той причине не мог прочно контролировать доверенный мне дальневосточным комиссаром конвоируемый китайский элемент.
А элемент тот тем временем все больше разъедался на выбиваемых мной комбикормовых харчах, и в итоге этого непреложного факта раздобрел просто до недопустимого для рабочего класса состояния – так, что мне приходилось подталкивать китайцев в их широченные спины, если степь путем неожиданного изменения рельефа своей неровной местности решала устроить нам очередное испытание в виде трудного проверочного подъема.
На некоторых комбинатах я побывал уже по несколько раз, меня везде узнавали и выдавали провиант немедля и в полном объеме, понимая, что я все равно выколочу из них положенный харч путем отрывания пуговиц с ворота гимнастерки и самовольной порчи ткани тельняшки, которые я, используя иголку и нитку, добросовестно чинил после каждого посещения очередного питательного пункта. И сдавалось мне, что это путешествие есть ни что иное, как проверка руководством моей революционной самосознательности, испытание, имеющее целью выявить, достоин ли я новой жизни, осознал ли недопустимость своего прежнего поведения, когда подобно распоследнему буржую обжирался из чистых тарелок с золотыми каемками паштетами фуа-гра и прочими недопустимыми для рабочего человека гастрономическими крайностями, в то время как настоящему представителю нового мирового поколения надлежало питаться с газеты, хватая незатейливую экологическую еду пальцами, которые непременно должны быть желтыми от табака подобно циррозным водам красивой русско-китайской реки.
И когда я совсем уже уверился в факте воспитательной миссии конвоирования и решил, что буду все дальнейшее обозримое будущее водить китайцев по степи, случилось неожиданное…
– Ни хрена себе… – не веря глазам, пробормотал сторож питательного комбината номер двадцать пять, когда увидел моих китайцев, у которых от излишеств собственного веса подгибались похожие на гигантские сардельки ноги, и по этой незатейливой причине они не смогли стоять перед воротами, а попадали на землю подобно кеглям в буржуазном кегельбане, и тяжело, со свистом легких, дышали, напоминая рыб, получающих жизненный кислород через красные добывающие жабры. – Это как же ты, мил человек, смог их сюда довести…
И не дождавшись от меня ответа, поскольку я как раз скручивал козью ногу и по причине отвлечения внимания не смог надлежащим образом своевременно собраться с мыслями, радостно сказал:
– Сейчас позвоню, доложу о таком невероятном факте руководству.
И побежал крутить ручку своего вахтерского телефона…
Выбежавший вскоре работный человек в чине мастера, облаченный в длинный брезентовый фартук, сначала недоверчиво уставился на китайцев, затем потряс мне в крепком рабочем рукопожатии кисть, и сказал:
– Сейчас быстро всех на весы, зафиксировать привес… А потом конвоируй их, мил человек, в пятый цех, там на воротах номер прописан, найдешь… – И не давая мне обстоятельно что-то ответить, указательно бросил вахтеру: – Пропустить немедля.
И я пошел расталкивать недопустимо придремавшихся на траве китайцев, чтобы гнать их на весовую площадку…
– Загоняй их внутрь, – буркнул после тщательной измерительной процедуры неприветливого вида работник в таком же брезентовом фартуке, и удалился в какие-то темные коридоры, не обращая на меня дальнейшего внимания и поставив тем в затруднительное положение по причине невозможности задать ему всевозможные уточняющие вопросы.
– Давайте сюда… – бросил я в свою очередь подопечным и те через раскрытые деревянные ворота безразлично побрели внутрь похожего на хлев приемного цеха, где оказалась еще одна группа дремлющих на раскиданном повсюду сене китайцев. Те, как отметил я с гордостью, телесными габаритами оказались куда меньше моих, хотя и в их организмах не проглядывалось ни единого костяного угла, все они, как один, были упитаны до крайней степени круглобокости.
– Ждите меня здесь, – поколебавшись, бросил я разместившимся на сене китайцам и посмотрел на Джеминга, с которым, честно говоря, очень за время нашего похода сблизился, как только способен сойтись различной национальной принадлежности мировой пролетариат.
Открыв внутреннюю дверь хлева, я прошелся по полутемному, с повсеместно облупившейся побелкой коридору в надежде увидеть любого работного человека, способного дать мне внятные объяснения, что делать дальше, но увидел только множество обитых жестью дверей с различными, нарисованными зеленой масляной краской, номерами.
Рванув на себя ручку незапертой двери с надписью «Откормочная камера № 08», я оказался в темном сыром помещении, где царила тишина. Постояв в нерешительности несколько секунд, я пошарил рукой по неприятной на ощупь осклизлой стене, ища выключатель, и внезапно понял, что нахожусь здесь не один – в окружающей меня беспросветной темноте слышалось чье-то множественное дыхание. Тут пальцы нащупали ручку выключателя, я крутанул ее по оси, и в следующий миг перенесся из полной темноты в скудно освещенный довольно большой зал, площадь которого я не смог сразу оценить из-за того, что он был плотно уставлен деревянными клетушками с какими-то существами, из всех телесных принадлежностей которых я видел только головы с закрытыми глазами. Я нервно отступил, крепко сжав трехлинейку без боекомплекта в виде остроконечных разящих патронов, думая, успею ли примкнуть штык, но в следующий миг понял, что нападать на меня никто не собирается. Да и глупо было предполагать, что кто-то нападет на меня в откормочной камере цеха номер пять двадцать пятого Дальневосточного комбикормового комбината. А в следующий миг я выдохнул с облегчением, потому что непонятные существа оказались обычными китайцами, на которых я за три месяца конвоирования насмотрелся досыта, имея возможность, или даже, точнее, обязанность наблюдать за ними двадцать четыре часа в сутки. И глаза этих китайцев не были закрыты, все они смотрели на меня, просто я не смог этого понять по причине национального строения их глаз и запредельной жирности век.
Я смотрел на китайцев и не верил своим глазам, потому что эти оказались еще жирнее моих, и я был готов поспорить, что вздумай кто-то выпустить их в чистое поле, басурманы не смогли бы сделать и шагу, в то время как мои, худо-бедно, еще могли самостоятельно передвигать ноги.
– Ты чего здесь… – тихо спросил я оказавшегося прямо передо мной и очень похожего на Джеминга китайца, если представить, что к своим восьмидесяти килограммам при росте полутора метров тот прибавил еще килограммов двадцать.
– Вот, просто сижу… – так же тихо ответил китаец.
Я поднял глаза и обнаружил под потолком цеха огромный металлический чан, от которого к каждой клетушке змеями расползались резиновые трубки диаметром около пяти сантиметров, которые в дальнейшем закреплялись на специальных шарнирах возле ртов сонных китайцев. Всего разделенных проходами клетушек по моим подсчетам было примерно около двухсот.
– А… зачем?
– Посадили, сказали сидеть, – пояснил китаец.
– А что в чане? – спросил я и указательно кивнул вверх.
– Комбикорм.
И тут сквозь щели между досками обиталища китайца я рассмотрел, что у него неестественно вспучен правый бок. Кажется, его печень увеличилась, по меньшей мере, вдесятеро. Я уставился на эту его выпуклость и в голове шевельнулась какая-то догадка, точнее, появилось ощущение, будто я должен знать, что все это означает, что есть в моем мозгу необходимая для этого информация.
– А что с твоим боком? – хрипло спросил я.
– Вздуло… – пояснил китаец, и у меня теперь возникло ощущение, что он пожал бы плечами, если бы смог это сделать в тесноте своего вместилища.
– Поня-я-тно… – протянул я, не зная, что сказать еще, и вдруг заметил белеющую на передней планке его клети табличку.
Я сделал шаг вперед, нагнулся, чтобы прочитать мелко написанные химическим карандашом каракули, и при окружающем скверном освещении не без труда разобрал: «Фуа-гра пролетарский. 1 сорт. Получатель: Москва. Большой ресторан». Не веря прочитанному, я на секунду замер в нелепом положении, затем разогнулся и на ватных ногах шагнул к соседнему ряду клетушек. «Фуа-гра пролетарский. 2 сорт. Получатель: Петербург. Марсельеза».
– Ну, отдыхай, товарищ… не буду тебе мешать… – чувствуя, как волосы на голове встали дыбом, сказал я, потихоньку отступая к двери, но мой собеседник уже похрапывал по причине внезапного наступления сна.
Забыв выключить свет, я как лунатик побрел по длинному коридору, поворачивая голову на двери многочисленных камер и не имея возможности прочитать произведенные на них надписи из-за внезапно начавшейся расплывчатости зрения.
Вдруг впереди, в месте пересечения моего коридора с другим, послышались голоса, и я увидел мужика, толкающего тележку, нагруженную свиными тушами. За ней усилиями еще одного мужика двигалась вторая тележка, и эти двое что-то обсуждали на ходу.
– А я ему конструктивно говорю… как же я тебе дам план, если кормов не хватает категорически, если начальство давно все разворовало! – разобрал я возмущенный голос первого, и не услышал ответа второго, потому что они уже скрылись за углом.
«Камера № 10», – прочитал я, остановившись, и вследствие дальнейшего неодолимого любопытства потянул на себя огромную ручку – здесь нигде не было замков, наверное, по причине отсутствия на комбинате несознательного воровского элемента.
Продравшись материальным телом сквозь жесткие полоски толстого полиэтилена, мешающего рассеиванию в коридор холодного воздуха, я вошел внутрь, уже привычно нащупал выключатель и понял, что очутился в обычной морозильной камере, набитой подвешенными на крюки свиными тушами, в точности такими же, какие я минутой назад видел на тележках работных людей.
Туши висели ровными рядами, разделенные лабиринтами проходов, но что-то во всем этом было странным, нечто, что не позволило мне выключить тусклый свет и покинуть помещение. Я произвел несколько осторожных шагов вперед и в следующий миг почувствовал, как улегшиеся в области головы волосы теперь не просто встали дыбом, а, взбунтовавшись, почти выскочили корнями из своих гнезд.
– Твою китайскую мать! – вырвалось у меня помимо твердой воли, когда я рассмотрел, что на крюках болтаются не привычные для российского глаза свиньи, а туши освежеванных китайцев.
Почему я решил, что это китайцы, мне было неведомо, потому что туши были лишены голов и кожи, и опознать в них национальность было затруднительно, но только такое вот возникло у меня убеждение. Упитанные тела висели неподвижно, отсутствующими головами вниз, зацепленные крюками за связанные ноги.
Я попятился и едва не впал в недопустимую панику, наткнувшись спиной на пластиковые заградители холода, о существовании которых забыл, и выскочил из камеры, опять запамятовав удалить выключателем свет…
Стараясь ступать плотным крестьянским шагом, я пошел по коридору к выходу, пытаясь собраться с мыслями. К сожалению, рабочие с тележками укатили, а больше не у кого было со всей скрупулезностью вызнать, почему свиные туши на комбинате так похожи на освежеванных китайцев и нет ли в этом какого-то производственного нарушения. Естественно, поверить в то, что это и на самом деле китайцы, было невозможным, зато это могло быть проверкой на моральную устойчивость и преданность общему делу, устроенной мне руководством партии в лице члена дальневосточного реввоенсовета, Верховного комиссара Дальневосточной революционной республики, товарища Е. М. Гусмана. Даже нацепленная на правый большой палец связанных ног недавней туши бирка, на которой я минуту назад разобрал химическую надпись: «Юшенг Йо, 27 лет, привес за лето 2 (два) пуда, конвоир рядовой Севастьянов», не могла убедить меня в обратном.
В тревожных чувствах я ткнулся еще в какую-то камеру, и, опасливо приоткрыв дверь, увидел огромный площадью цех, в центре которого стоял массивный агрегат, верхняя часть которого являла собой приемную воронку гигантской мясорубки. Управляемая кем-то кран-балка с крюком, на котором была подвешена связка освежеванных свиных туш, со скрежетом доехала до зева воронки, и работный человек в брезентовом фартуке, стоявший рядом на специальной деревянной площадке, принялся заполошно махать руками.
– Матвеич! – хрипло заголосил он, задрав лицо кверху, – ты ж смотри, подлец, куда двигаешь! Вира! А ну! Вира, тебе говорят, похмельная, можно сказать, твоя рожа! Нарушаешь, можно ответственно заявить, тщательный бесперебойный трудовой процесс!..
Кто-то невидимый приподнял крюк с болтающейся на ней мясной связкой на полметра вверх, и человек махнул рукой уже плавно, с долей удовлетворенности.
– От так… от так, да… А ну, наддай еще чуток вперед, и майна…
Агрегат заскрежетал своими невидимыми рубящими лопастями, и из специального раструба с костяным хрустом бурно полезла плотная кровяная масса, которая, оторвавшись, с громким чавкающим звуком упала в исполинских габаритов жестяное корыто. Кто-то внутри воронки заверещал по-китайски так пронзительно, что голос его вырвался из мясорубного агрегата и перекрыл громкий хруст его проворачивающихся лопастей, а человек в фартуке опять зло заорал кому-то, находящемуся вверху:
– Матвеич! Подпишешь мне в качестве подлинного свидетеля офицьяльный акт! Это кто ж их так глушит, что они своими неорганизованными выкриками опять весь технологический цикл мне тута срывают! Это кто ж у них там в забойном цеху такой криворукий!..
Я тихо прикрыл дверь и поднял глаза, чтобы прочитать зеленую масляную надпись на жестяной дверной оболочке: «Колбасный цех № 1».
Не меньше десятка секунд я стоял неподвижно, перечитывая это еще и еще, а потом мой организм вдруг неодолимо скрючило и я, схватившись руками за живот, побежал, не глядя, по коридору в стремлении донести желудочное наполнение до улицы, где можно было отдышаться свежей атмосферой.
И уже выворачиваясь на крыльце наизнанку, не видя ничего вокруг из-за разноцветных, застивших мое зоркое зрение всполохов, пытался припомнить я, сколько за прошедшее лето сожрал вкуснейшей колбасы, выдаваемой мне на комбинатах в качестве десертного дополнения к революционному фельдфебельскому пайку…
– Вот ты где, – услышал я знакомый голос и кое-как разогнулся из своего вынужденного положения. – Бегать за тобой, что ли… – бубнил худой, лошадиного лицевого облика мастер, пока я пытался сконцентрировать зрение, чтобы прийти в необходимое для надлежащего восприятия окружающей обстановки чувство, – работник ты, конечно, справный, спору нет… вон, какой индивидуальный привес на каждую китайскую голову обеспечил за лето… не было еще ни у кого такого привеса, поэтому предстоит тебе, товарищ Константинов, выступить перед своими сослуживцами на митинге, поделиться передовым, можно сказать, опытом… а сейчас вот тебе пакет… держи, и дуй на железнодорожную станцию, принимать новую партию китайских товарищей из дружественной нам коммунистической страны для откорма оных в рамках международной пролетарской взаимопомощи.
– А потом… – прохрипел я, еще не придя в нормальное зрительное состояние и по этой причине определяя мастера только по голосу и запаху нечищеных зубов.
– А потом, откормив, отправим товарищей обратно, в ихний революционный Китай, – пояснил мастер, и я смог, наконец, разобрать его хмурой внешности лицо.
– А как же…
– Да держи, наконец! – недовольно прикрикнул он, и в мою руку ткнулось что-то плотное, бумажное на ощупь, что я определил как очередной предписывающий пакет. – Пойдешь с этим на железнодорожную станцию, к железнодорожному комиссару товарищу Петерсу, за очередной партией китайцев… Все, некогда мне с тобой более разговоры разговаривать…
И принудительно, в одностороннем порядке пожав мою вялую кисть, развернулся и с рабочей поспешностью потопал по направлению к своему цеху.
Я стоял, глядя на солнце, и удивлялся, что научился смотреть на него, не щурясь и не моргая, как существо китайской национальности, и пытался сообразить, что делать дальше. Какое-то смутное беспокойство не позволяло мне уйти с комбината просто так, не сделав что-то, какое-то дело, смысловой сути которого я все никак не мог окончательно осознать. А потом ноги сами собой понесли меня к пристройке в виде хлева, где разместились на гостеприимный постой мои нагулявшие бока китайцы.
– Вставай! – сказал я и потряс Джеминга за плечо.
– Сто случилось, Иван Лисыч? – сонно пробормотал он, с кряхтеньем вставая на ноги.
– Поднимай своих и двигайте за мной.
– Иван Лисыч! – заныл обленившийся китаец, глядя на меня умоляюще. – Вы же сказали, что это конечный пункт… Не можем мы больше ходить, устали мы гулять по степи, никаких китайских сил у нас на это не осталось…
– Подъем! – рявкнул я и, не оборачиваясь, двинулся к выходу. – Даю вам минуту, чтобы построиться во дворе, иначе поступлю с вами в соответствии с законом особого положения!
И пригревшиеся на душистом сене китайцы, хныкая, начали вставать.
– Куда? – закричал выскочивший на улицу вахтер и даже схватился за деревянную маузерную кобуру, но я неспешно дошел до него и только тогда со всей обстоятельностью сказал:
– Ты, мил человек, не шуми, а открой-ка нам лучше ворота. Уходим мы.
– Да как так уходим! Куда уходим? Нет такой на вас разнарядки, чтоб с комбината уходить!
С надлежащей солидностью снял я сидор, извлек из него секретный пакет, врученный мне мастером для предъявления оного железнодорожному комиссару товарищу Петерсу, и помахал им в воздухе.
– Вот тебе моя окончательная революционная разнарядка… И если не откроешь тотчас ворота, разберусь с твоей подлой контрреволюционной сущностью со всем своим фельдфебельским прилежанием!
– Нет такого закона, чтоб китайцев с комбината уводить… – жалобно проговорил попятившийся перед такой непреклонной решительностью вахтер, однако ворота распахнул, и я поторапливающими пинками выгнал китайцев за пределы комбината.
– Бегом марш! – скомандовал я, и басурманы неловко прибавили ходу, в то время как я уже думал, чем буду их питать, коли законный путь к дальневосточным комбинатам китайского питания мне отныне решительно отрезан…
Вот уже три недели я водил китайцев различными запутывающими путями, периодически меняя направление и давая команду «Ложись!» при появлении подозрительных людей и автотранспорта. Погоня с комбината была выслана, но случилось это с запозданием, по причине чего я успел увести своих китайцев на безопасное расстояние. Когда в тот день в пределах досягаемой видимости появился грузовик с серьезными, вооруженными баграми людьми в кузове, я приказал басурманам залечь, благодаря чему они своевременно укрылись в прилегающей к степи травяной растительности. Только зазевавшегося Широнг Мэя работные комбинатские люди сумели зрительно уличить среди невысокой растительности, вследствие чего он был зацеплен баграми за мягкие места и, издающий истошные вопли, втащен в грузовик…
Еду удавалось доставать в пунктах людских скоплений наподобие железнодорожных станций и прочих объектов завоеваний пролетарской революции. Я посылал китайцев клянчить на пропитание и проверять мусорные баки возле пунктов общественного питания, сам же грыз сухари с чаем в виде крутого кипятка и осторожно выведывал путь к китайской границе путем разговоров с внушающим надежность похмельным народом.
Три палки колбасы «Интернационал», которые мне удалось скопить за лето путем тщательной каждодневной экономии, я решительно выбросил и не позволил поднять набросившимся на нее стервятниками китайцам.
Те давно скинули вес и уже могли держать нужный стремительному походу темп, вследствие чего я решил вести их в давно запланированном умственно направлении. Теперь я сумел бы увести их от возможной пограничной погони и прочих степных неприятностей.
– Пора… – просто сказал я в один из обычных дней конвоируемым объектам, и, сделав крутой разворот, повел их в сторону заходящего солнца.
А через три дня я привел оголодавших китайцев на обширное пространство, которое им предстояло преодолеть уже без меня.
– Вот и все, Джеминг, – сказал я, сверившись с газетной картой. – Могу сказать тебе с прямой революционной открытостью, что здесь наши пути решительно расходятся.
– Почему, Ванлисыч! – вопросил басурман и я не сразу придумал, как бы ему объяснить.
– Понимаешь, Джеминг… – начал я и запнулся. – Понимаешь… – повторил я, и, прислонив трехлинейку к бедру, стал обстоятельно мастерить самокрутку. – Россия, она, можно сказать, страна обширная. Даже, можно сказать, мать всех народов она… А китайцам в ей места не найти, такой вот получается оксюморон.
Джеминг молчал.
– Вон, там он, ваш Гуанчжоу… – отведя глаза, сказал я и зло пыхнул козьей ногой, выпустив в сторону Китая густой в своей непроницаемости клуб дыма. – В той стороне пограничных кордонов нет, я у местного населения в точности дознался. Идите.
– Иван Лисыч, – тихо сказал Джеминг, но я отвернулся.
– Идите, говорю… – повторил я в сторону и решительно схватился за трехлинейку. – Китайскую вашу мать! На родину… бегом… марш!
И китайцы, переглянувшись, неловко потрусили в сторону багрового горизонта. Джеминг побежал последним. В какой-то момент он приостановился, повернулся ко мне, намереваясь что-то сказать, но я опередил его злым, во всю глотку, криком:
– Выполнять! Именем революции!
И дрожащими пальцами выдрав из буденовки заветный, досель тщательно оберегаемый для себя патрон, зарядил его в трехлинейку и громыхнул прямиком в недосягаемый горизонт.
Затем запахнул на груди шинель, забросил винтовку за спину и побрел в сторону заходящего солнца, открыто являя свое лицо его холодным красным лучам…
И был преисполнен я отягчающих существование дум, и знал твердо, что не было мне теперь на всей земле места, мне, солдату, не выполнившему приказ.
Не было мне этого места даже с учетом ее, земли, необъятной обширности. Единственное, что еще оставалось у меня, это Хуанхэ, тихая и печальная, безрадостно несущая свои желтые воды.
И мне еще предстояло ее найти…
Рига, 2012–2013 гг







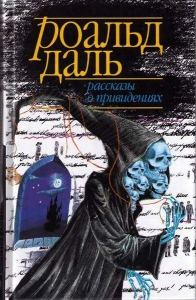
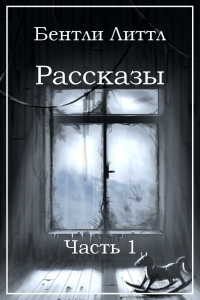

Комментарии к книге «Немцы в городе», Алексей Оутерицкий
Всего 0 комментариев