Audiatur et altera pars
В квадрате сто сорок четыре похоронен он. Дал холостыми залп по нём пропащий батальон. Хотя не воин был, в руках винтовки не держал — Он с честью углем и пером на фронте воевал. Анонимная баллада о Курте Ройбере20 января 1944
Человек лежал на убогой постели в сердцевине погибельной елабужской земли и бредил. В своей не такой долгой земной жизни — тридцать восемь лет — он хорошо научился трем вещам: молиться, лечить и рисовать. В армии его пытались обучить еще и стрельбе из «вальтера», однако последним он не овладел. Да и мало было толку в этом умении сейчас, когда череп разрывала постоянная боль от гнойника в мозгу, плоть оцепенела от голодной лагерной слабости, а совсем рядом с кроватной ножкой разверзлась черная пропасть, которая затягивала его в себя… затягивала…
В этот миг две мягкие руки охватили его голову сзади — и он открыл запухшие глаза.
Зрение у этого человека отчего-то стало как у новорожденного в первые две недели его жизни: он видел мир, как и воспринимал, перевернутым, и то лицо, что появилось в изголовье, стояло перед ним прямо.
Трагическая маска древней старухи, глаза — как два темных колодца, черный вдовий платок обтянул голову и плечи, в его складках прячется безликое дитя. Такую мадонну он нарисовал незадолго до того, как самому стать на пороге бездны.
Богоматерь Заключенная.
— Святая Мария, — пробормотал он и попытался поднять чугунную голову.
— Марина, — сказала она ему беззвучно. — А ты мой сын Мур, который погиб на фронте, мною не прощённый. И не святая, а навеки проклятая. Из-за тебя и твоего тяжелого слова я совершила над собой смертный грех, умерла в нем… и теперь должна искать того, кто сумеет выкупить и меня, и себя.
— Я Курт, матушка. Курт Конрад Ройбер. И вовсе тебе не сын. Ты русская — а я ведь немец.
Отчего он понял, кто эта женщина, умершая в Елабуге? Он, неудачливый завоеватель, не знал русского, не читал русских стихов даже в переводе — но тут звучал совсем иной язык.
— Курт. Пусть будет так. Мой друг Райнер Мария Рильке был родом из близких земель. Не беда, что ты не складываешь и не рифмуешь строк, у тебя иное мастерство.
— Что я могу сейчас, Мари? Я умираю.
— Вернись назад по стреле времен… Вернись. Ты сумеешь, у тебя три силы в одной: живописец, лекарь, клирик.
Ночь с 24 на 25 декабря 1943
Завоеватели. Поработители. Ныне — мухи в броневом, латном кулаке, который рано или поздно сдавит их намертво.
Затишье перед бурей, которая завтра утром сотрясет всю одетую руинами приволжскую степь.
— Кто пустил эту русскую оборванку в расположение воинских частей? — спросил Штайндлер.
— Наверное, всегда здесь была, герр генерал, — ответил лейтенант Даниэльс. — То есть жила. Это из тех, кого наш пастор прикармливает. Делится пайком и в качестве благодарности использует как модель.
— Смеётесь?
— Никак нет. Он еще когда недавно в отпуск улетал, вместо трофеев повез своей фрау и деткам стопку зарисовок со своих пациентов. Больше ста, наверное.
— Пациентов? Так вы об этом медикусе говорите. Главный врач госпитального бункера.
— Да.
— Из неблагонадёжных, но очень полезен. Мастер на все руки, что называется. Это он изобразил вашего маленького сына в виде ангела, чтобы вам его на вершину елочки повесить, верно?
Даниэльс улыбнулся — насколько позволяли обмороженные губы и кожа.
— А, пусть пусть эта мужичка здесь бродит. Что у нас разглядишь? Из-за иванов всё к черту. Что адский котел, что сталинградский.
— Пускай бродит. Рождество ведь, герр генерал, — ответили ему.
— Да уж. И мы снова, как прошлый год будем желать друг другу счастья и удачи, хоть это всё пустые слова. Никто не изволит прекратить огонь, ни мы, ни иваны. Хотя мы недостойны, верно?
— Мы всегда недостойны, — снова отозвался тот же голос. На этот раз он, похоже, так экономил дыхание, что опустил звание Штейндлера. — Мы совершаем святотатство и кощунство, взывая к миру на земле и в то же время убивая.
— А, волк из побасенки, — проворчал тот. — Что еще скажете, наш доктор медицины?
— Нет смысла говорить, — отозвался Ройбер, ухватив женщину за плечи и потуже завертывая в её же тряпки. — Простите, сами же понимаете. Морозы поистине русские — а тут у неё ребенок.
— Ну да. Ни нам долго не жить, ни ей со щенком.
— Вы жить останетесь. Вас вывезут последним самолетом. Раненого.
— Пророк вы, что ли, Курт Конрад?
— Не знаю… герр генерал.
— Курт. Кроткий Курт. Вы стреляли хоть однажды за всю войну?
— Нет. Только на стрельбище, — ответил Даниэльс вместо врача. — И препогано.
— Хм. А могли бы?
— Если русские станут убивать тех, в бункере. Моих пациентов. Разве что тогда — и, наверное, как всегда промажу.
— Вот как. Отчего это вас, этакого философа, такого непротивленца злу, занесло на Восточный фронт? Как я знаю, у вас жена и трое детишек.
— Он же Восточный, — Ройбер пожал плечами. — Штрафной, можно сказать. Как занесло, спрашиваете? Я голосовал за масло против пушек. Принципиально одевался только у еврейского портного. Ну и мой учитель, уважаемый доктор Альберт Швейцер, выглядел не весьма на фоне тысячелетнего рейха.
— С его благоговением к жизни, — подхватил лейтенант. — Вот уж поистине…
— Тогда совсем иной вопрос, Ройбер. Как это вам удалось так легко отделаться?
— Наверное, фюрер увидел во мне коллегу, — усмехнулся Курт. — Он живописец, а я график.
На том офицеры расстались, холодно кивнув друг другу. Когда Штайндлер и Даниэльс ушли, Ройбер завел женщину в подвал разрушенного дома, где находился его госпиталь. Она тотчас уткнулась спиной в угол стены, свернулась там в неряшливый узел.
— Я тебя знаю? Лечил тебя или ребенка?
— Нет, — говорила она с трудом.
— Есть хочешь? Солдаты копили пайки на рождество, готовились. Вон ёлку из соломы навертели. Последнюю тягловую лошадь пустили на колбаски. Все равно ей никакого подножного корма не найдёшь. Да тут все тяжелораненые, нас лучше прочих снабжают. Дать тебе?
— Не надо, ты меня уже накормил, — некое подобие усмешки родилось на скорбном лице.
— Ради малыша хоть поешь. Он ведь грудной, я вижу.
— Молока во мне уж не прибудет. Знаешь? Я сейчас умру. И он тоже.
— Нет. Не уходи.
— Да, — она побаюкала слабо пищащего младенца и вдруг твёрдо сказала:
— Рисуй меня и его — тогда мы будем живы. Знаешь стихи? «Вот я умру — и что-то от меня останется на этом полотне».
— Это же… Это русские слова. Как я их понимаю? Как мы с тобой вообще говорим?
— Рисуй, — властно и звонко повторила она, распрямляясь и выйдя из тени.
У него не было полотна, а в стихах упоминался именно холст, и кистей нет, и красок, и даже простого карандаша, думал Ройбер, торопливо шаря глазами по полу и стенам, открывая ящики древних школьных шкафов, здесь же когда-то, до нашей блокады, школа была.
Вдруг он вспомнил: русская школьная карта. Грязноватый кусок проклеенного полотна, размером полтора на полтора метра. Вот она, постелена на дне широкого полупустого ящика с медикаментами.
Вытащил карту, взял в руки, смахнул пыль и расстелил на столе, откуда стряхнул пузырьки из-под лекарств, бумаги и объедки.
— Готово. Чем мне рисовать?
— Возьми уголь из буржуйки. Из печки.
Уголёк будто примёрз к руке — огонь тоже было почти нечем кормить. Но рука шла твердо — будто ей водит кто, подумал он. И еще ему казалось, что он не смотрит в угол, куда снова забилась непонятная гостья, но видит.
Видит.
…Гибкий стан ее пригнулся к коленям, чтобы укрыть собою заснувшее дитя. Тонкие, нежные черты исполнены света. Глаза полузакрыты как бы в смертной истоме, но в них нет скорби — лишь мягкая печаль. Ее плат развернулся полукругом вокруг обоих, точно крыло большой птицы, будто преграда холодному, неприютному миру этой ночи. Не царица — одежда совсем неказиста. Не святая — слишком много в ней горечи…
— Мадонна, — произнес Отто из-за его плеча. У Отто Шварца было проникающее ранение в живот, последнее время он не мог и повернуться на полу, не то что с него встать. — Доктор, так вы решили выполнить нашу просьбу?
— Ты что творишь? На место иди. Нет, погоди. Просьбу?
— Ну да. Мы же хотели, чтобы вы нам святую картинку нарисовали на Рождество. Только это…
— Это не картинка, — произнес кто-то еще из больных. — Это икона.
— Да, — вдруг понял Курт.
И написал вокруг изображения с одной стороны:
Рождество в котле.
И с другой:
Свет. Жизнь. Любовь.
Три простых слова, на которые они в своем кромешном аду не отваживались, пожалуй, даже в письмах родным и близким.
— А где она… Русская? Не могла она уйти мимо меня так, чтобы я не заметил.
— Вы про кого, доктор Курт? Померещилось с голоду, наверно. Всем нам здесь неведомо что мерещится.
— Или лихорадка от подвальной сырости напала, — отозвался еще один раненый. — Вон, в том углу будто гнилушки светятся.
В самом деле, там где сидела неведомая пришелица, оставалось…
Ещё оставалось еле заметное призрачное свечение, которое пульсировало в некоем непонятном ритме.
В ритме боя невидимых часов.
Один… Два… Три…
Двенадцать.
— С Рождеством Христовым, — отчего-то тихо сказал, глядя на фосфоресцирующий циферблат своего хронометра, молодой лейтенант разведки по фамилии Видер.
Тотчас cнаружи раздались нестройные хлопки, и хмурое небо озарили сотни крутых извилистых дуг со звездочками на конце — многоцветные сигнальные снаряды, что были пущены из ненужных более ракетниц. Одна из этих звездочек, самая яркая, как-то странно зависла над самим бункером и некоторое время оставалась в том же положении, прежде чем пасть наземь. Однако никто из солдат не обратил на это внимания, потому что все глядели на Деву с Младенцем.
— Счастливого всем Рождества, — наконец, отозвался Ройбер. Ему вторили негромкие голоса.
— Ночь тиха, ночь свята, — затянул кто-то. — Stille Nacht, heil'ge Nacht…
И тотчас мотив подхватили хриплые, до глубины души промерзшие голоса:
Alles schläft,einsam wacht. Nur das traute heilige Paar. Holder Knab'im lockigen Haar, Schlafe in himmlischer Ruh! Schlafe in himmlischer Ruh![1]Видер тем временем говорил:
— Благорастворение воздухов. Мир на земле и мир в людях доброй воли… А мы? Мы, кто не заслужил прощения за надругательство над этой землей? Мы-то будем спасены, Курт?
— Знаете, Видер, я об этом не думал, когда рисовал. Как-то всё равно стало. Дело своё я, во всяком случае, сделал, а это главное.
Под конец убогого празднества Ройбер писал жене:
«Как ни неловко — и даже стыдно — мне говорить это, но к картине, на которой я изобразил Мать и Младенца, и к нашему бункеру началось прямо-таки паломничество. И уходили оттуда совсем другие люди. Один из наших лейтенантов роздал солдатам всё, что у него было: сигареты, писчую бумагу, хлеб. „У меня больше ничего не осталось, — говорил он. — И всё-таки это Рождество — прекраснейшее в моей жизни“. Командир дивизии угостил меня и других врачей спиртом из своей фляжки и подарил плитку шоколада. Была даже бутылка настоящего французского шампанского — для самых тяжелых из тех, кто находится на моем попечении. И знаешь, что я тебе скажу? Я с лёгким сердцем повторяю слова лейтенанта. Ибо я, что бы со мной ни случилось, бесконечно благодарен за то, что подарил мне сочельник и — заранее — за всё то, что пошлет весь этот необыкновенно начавшийся год».
Но о том, что уже на следующее утро карающая справедливость их противника обрушит на занятый чужаками лоскут земли вал земного и небесного огня, Ройбер написать жене так и не сумел. Слишком много страдающей человеческой плоти обрушилось на него самого.
И о том разговоре, что случилось несколько времени спустя, Курт тоже не сообщил милой супруге. Это было бы напрасным занятием, которое хоть и не могло никак уже повредить ему самому, привлекло бы к его близким излишнее внимание цензуры.
Наклонившись к носилкам генерала, военврач говорил:
— Вас вывезут из кольца, и вы сохраните жизнь, в отличие от многих из нас. Нам здесь предстоит платить за свои и чужие грехи полной мерой. Уж поверьте, герр Штайндлер, я всё это хорошенько прочувствовал. Так вот: возьмите с собой мою картину Пресвятой Девы и постарайтесь передать жене — адрес я написал. Она знает, что с этим делать.
…Последний самолет рвётся из пожатья каменной десницы и летит теперь в скрещении ночных прожекторов. Вырвался, наконец. Темнота, тишина, гудение моторов. Хмурые облака над головой.
Мадонна в вышине расстилает над Россией, над Европой, надо всем бесноватым миром свою ярко-синюю, как полуденное небо, мантию.
В санитарном блоке советского лагеря для военнопленных Курт Конрад Ройбер из последних сил приподнимается на локте, непослушным грифелем пишет по всему полю своей последней картины:
Примирение и прощение. Свет и жизнь.
И шепчет куда-то вверх:
— Я сделал всё верно, Моя Любимая Госпожа?
Падает на спину и умирает абсолютно счастливым.
Курт Конрад Ройбер. Сталинградская Мадонна Примирения
© Copyright Мудрая Татьяна Алексеевна (Chrosvita@yandex.ru), 22/09/2010.Примечания
1
Я привожу здесь перевод первого куплета, который сделала по моей просьбе Зинаида Стамблер:
Ночь тиха! Ночь свята! Тихо всё. Одна у поста Милая пара святая С крошкой кудрявым играет. Мирный небесный покой! Мирный небесный покой! (обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

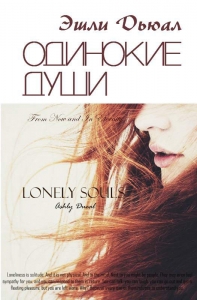





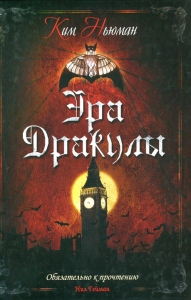
Комментарии к книге «Мадонна спускается в ад», Татьяна Алексеевна Мудрая
Всего 0 комментариев