I
Две пёстрые бабочки порхают вокруг цветущего куста. Я не знаю, как он называется. Цветы на нём лимонно-жёлтые, каждый как маленькое солнце; листья тёмно-зелёные, свежие, не тронутые холодными ветрами. Это похоже на чудо, – единственное яркое пятно на сером фоне давно облетевшего парка. Я стою и любуюсь, совершенно забыв о том, что меня ждёт. Школа… Мой мир и моё проклятие. Я смотрю на часы, понимая, что время упущено: мне не успеть на первый урок…
Вздохнув, я отхожу в сторону и бреду по тропинке, ведущей вниз, – мой дом стоит на возвышенности, а школа находится дальше, за дорогой, за трамвайными рельсами, – поржавевшими, старыми, – за стеной синей полутьмы… В парке было совсем светло, а возле школы – предрассветные сумерки. Почему так случается? Я не знаю… Я иду, а в голове у меня звучит строчка из старой песни: "Смерть не страшна"… Мне хочется повторить песню с начала, но я не помню слов. Теперь я много чего не помню…
"Смерть не страшна"… В памяти всплывает толстая верёвка из колючей пеньки. По моим представлениям, именно на такой и вешались самоубийцы. Такой верёвки у меня не нашлось; была обычная, бельевая, довольно тонкая. Крюк, к которому её привязали, должен был выдержать: дед, когда-то вбивший его в стену нашей маленькой кухни, всё делал на совесть. Обычно на этой верёвке сушили свежевыстиранное бельё; ну, а потом она пригодилась мне для другого дела.
Я срезала верёвку ножницами и сделала из неё аккуратную петлю, – на уроке труда мне, наверное, поставили бы за неё пятёрку, не зря же я несколько лет занималась макраме…
…Как сомнамбула, я бреду в холодной полумгле и приближаюсь к квадратному зданию, – серому, как асфальтированная дорога под ногами, как пыльная земля, как пустырь за парком, – как всё вокруг. Конечно, я опоздала: уже давно идёт урок, поэтому коридоры пусты.
Я подхожу к стенду с расписанием… каждый раз, приходя в школу, я первым делом иду сюда, потому что найти в этой школе свой класс – дело нелёгкое. Я читаю расписание занятий, написанное чьим-то неразборчивым почерком; как всегда, не нахожу там ничего, – и достаю из портфеля дневник, чтобы прочесть расписание оттуда.
Страницы дневника исписаны мелко и торопливо, – как будто и не мной вовсе. Оценки в квадратиках справа, – три пятёрки и две четвёрки, проставленные красными чернилами, – напоминают мне о недавних событиях, и меня пробирает дрожь. Ох уж эти четвёрки… Ведь это из-за них я решила тогда повеситься.
Глупо, скажете? Мне было одиннадцать лет, и на уроке истории я как-то услышала одну замечательную фразу: "Раб должен работать или спать". Изречение принадлежало Катону Марку Порцию старшему, но тогда я этого не знала. Мне было всё равно, кто и по какому поводу это сказал. Важно было лишь то, что моя мама была совершенно согласна с Катоном Марком Порцием… только она бы сказала так: "Ребёнок должен учиться или спать"…
Мне совершенно не хватало времени. Так что дело было, в общем-то, даже не в четвёрках. А в том, что наступило воскресенье, – мой единственный выходной. Я часто думала: как несправедливо устроен мир, – у взрослых два выходных дня, а у школьников – всего один, да и тот, как это часто со мной бывало, приходится тратить на уроки… Вот из-за этих-то уроков я и решила покончить с собой.
Наступило очередное воскресенье; у мамы был выходной, и она решила посвятить его занятиям со мной. День уже подходил к концу, а уроки всё не кончались; она заставляла меня пересказывать параграф из учебника истории снова и снова, чтобы завтра я не схватила четвёрку и не опозорила её…
Она всегда была отличницей, моя мама… Я часто думала: неужели ей никогда не приходила в голову мысль, что это не важно? Неужели ей не хотелось гулять и играть? Как гласили семейные легенды, она училась сама, по доброй воле; никто не заставлял её делать уроки, как меня. И всё-таки мама была отличницей… в мире порой происходит много весьма удивительных и странных вещей. Так думала я, – одиннадцатилетняя девочка, без конца повторявшая параграф из учебника истории, – а солнце тем временем медленно ползло к земле… Алый закат отразился в окнах, заполнив комнаты кровавым пламенем. Темнота наступала, сжирая последние жалкие остатки моего выходного дня. Моего дня…
Для чего мы живём? Когда мне было семь лет, я придумала для себя простой и ясный ответ на этот вопрос. "Я хочу быть счастливой", – говорила я, подразумевая, что живу на свете для счастья. В те годы я вряд ли смогла бы дать точное определение счастья, – для меня это были и игрушки, и весёлые игры с детворой, и долгие летние дни, наполненные солнечным светом… В моей жизни было много хорошего. Но я пошла в школу, – и моё счастье у меня отняли, заменив его на пятёрки, которые были мне совсем не нужны… Я не понимала, почему одна цифра в дневнике лучше, чем другая. Тратить на эти цифры всю жизнь казалось мне безумием. Жизнь, посвящённая учёбе, была для меня мукой, и, если бы не каникулы, я, возможно, попыталась бы повеситься намного раньше… ещё в первом классе.
Трудно сказать, каким образом и откуда появились мои представления о загробной жизни. Случайно обронённые слова бабушки, – о том, что на том свете мы свидимся; надежда умирающего деда на встречу со своей покойной матерью; увиденная в музее картина, изображавшая рай, – всё это падало, как монетки в копилку, и складывалось в причудливую мозаику. Я росла среди атеистов, но в небытие после смерти не верила, – и решила, что, как бы там ни было, а хуже, чем сейчас, мне уже не станет. Я была уверена: после смерти не заставляют делать уроки, там не отнимают последние часы единственного выходного дня, – и последние дни жизни, которые у меня остались. Я умерла, потому что хотела жить…
II
Я листаю дневник и наконец нахожу расписание на сегодня. Первый урок у нас – физика, нужно идти на третий этаж. Стены на третьем этаже выкрашены в бледно-голубой цвет; на втором – в зелёный, а на первом – в разные цвета… там тоже есть голубой, а ещё – грязно-серый, серо-зелёный и бледно-жёлтый, – рядом с классами, где учатся первоклассники. Цвета – это важно; в мире, где всё нестабильно и зыбко, это единственный ориентир для меня, и я безошибочно запоминаю каждый оттенок. Бледно-голубой коридор – это физика, география и литература; зелёный – химия, математика и физкультура, серо-зелёный на первом этаже – уроки труда…
Я иду по голубому коридору. Слева от меня длинная скамейка того же цвета и окна над ней; справа – двери, ведущие в классы. Я заглядываю в открытую дверь и вижу свою подругу Ритку, сидящую за первой партой. Значит, мне сюда… за дверью должен быть наш класс, но классы здесь обычно сборные, – часть учеников из нашего, часть – откуда-то ещё… Учитель тоже незнакомый.
Меня догоняет мальчишка, какое-то время сидевший за партой рядом со мной. Он тоже опоздал. Вдвоём опаздывать не так страшно; я боюсь, что нас будут ругать, но учителю всё равно. Пробормотав: "Извините, можно войти?", – мы идём на свои места и садимся за парты, – я – за первую, рядом с Риткой, а он – куда-то назад, за четвёртую или за пятую…
Урок продолжается. Учитель монотонно бубнит что-то себе под нос, изредка заглядывая в учебник. Я не слушаю его. Учебник физики не объяснит мне, что происходит и почему я здесь. Впрочем, химия и биология тоже бессильны. Я мертва, и моё тело, должно быть, давным-давно истлело в земле, – где-нибудь на краю кладбища, при дороге…
…Я так и не узнала, что чувствовали мои родители, увидев на кухне мой остывший труп. Какое-то время я испытывала удушье; верёвка больно впивалась в шею, я дёрнулась, но мои движения ещё сильнее затягивали петлю… А потом наступила темнота, – то самое небытие, в которое я не верила.
А потом я проснулась дома; меня разбудила мама и сказала, что мне пора в школу…
…Конечно, я не сразу заметила, что это не она. Сходство было практически полным: здешние духи умеют принимать любую форму. Я подловила её на мелочах: спросила, какое сегодня число, – и она ошиблась, стала нести в ответ какую-то околесицу… Духи плохо разбираются в цифрах, по крайней мере, те, которые мне здесь встречались. Не потому, что они глупы, – это не так; многие из них знают больше любого из живущих. Просто духи не считают цифры чем-то значимым; для них они все похожи, – мелкие чёрные закорючки, и только.
Квартира выглядела точно так же, как та, в которой я жила до самоубийства, – а может быть, это и была она, просто я находилась в каком-то другом слое пространства, недоступном восприятию живых. Правда, позже я заметила, что в ней находились предметы, которых уже не существует в нашем мире: старая этажерка, подаренная деду на свадьбу; тумбочка, в которой хранились мои старые игрушки; давно отправленный на свалку комод… Обои на стенах тоже были старые.
Сначала я даже и не вспомнила, что этих вещей у нас давно нет; мне показалось, что начался обычный день, тем более, что мама, – вернее, тот, кто превратился в неё, – торопила меня, отправляя в школу… Я собрала портфель и пошла, совершенно забыв, что вчера повесилась. Я и сейчас очень часто это забываю…
В школе тоже было всё как всегда, – только вот я совсем не помнила, какой у нас первый урок. Расписания я не нашла и бесцельно слонялась по коридорам, – до тех пор, пока не встретила Ритку и ещё нескольких одноклассников; я просто пошла за ними, и они привели меня в класс…
А потом начались уроки, – всё как обычно. Ну, почти… Их было много, – в субботу шесть, а в другие дни – семь или восемь. Оказалось, что скоро экзамены, а я к ним совсем не готова. Я многое пропустила и не помнила некоторых предметов; кое-кого из учителей я вообще не знала в лицо… То же самое творилось и с одноклассниками: из нашего класса здесь было человек пять, – причём каждый день разных; пять-шесть учеников из параллельного, а все остальные – совсем незнакомые. Впрочем, за месяц я успела повидаться почти со всеми, кого хоть как-то помнила, хотя они и появлялись здесь небольшими группами в толпе незнакомцев…
Я часто думала: откуда здесь мои одноклассники? Они что, умерли вместе со мной?.. Я могла бы в это поверить, если бы здесь был кто-то один, – ну, Ритка, например, – но не мог же наш класс почти в полном составе умереть, да ещё и вместе с учителями? И два параллельных тоже… Это казалось совершенно невероятным. Я задавала вопросы, но никто не мог ответить мне ничего вразумительного.
Здесь вообще не любили отвечать на вопросы. Одноклассники вели себя странно: молчали, когда я задавала вопрос, на который они не знают ответа. Взрослые поступали так же… Позже мне пояснили, что в этом мире не принято говорить "не знаю". Если не знаешь ответа, можно молчать. Если не хочешь говорить, – тоже. Здесь нет этикета и правил. Никто не боится, что собеседник на это обидится, – да и какая разница? Сегодня один собеседник, завтра другой. В мире, где каждый может принять любой облик, никогда нельзя быть уверенным, кого именно ты видишь перед собой…
Вот Ритка, например. Глаза у неё зелёные; волосы всклокоченные, тёмные, – всё как раньше, когда я была жива. Она не любила причёсываться; её руки всегда были в чернилах, и за это в первом классе её дразнили замарашкой. У Ритки длинный любопытный нос и растрёпанная чёлка; она одета в коричневую форму, протёртую до дыр на локтях. Как я узнала, что на самом деле это не Ритка? Да просто. При жизни она не хотела дружить со мной…
Мы дружили с первого класса, а в этом году Ритка вдруг решила, что она уже взрослая, и портить свою репутацию дружбой с отличницей ей ни к чему. Дружба со мной означала, что другие девчонки, учившиеся на круглые тройки, не примут её в компанию, – посчитают заучкой и зубрилой, не лучше отличницы. И Ритка решила пожертвовать дружбой со мной, чтобы не стать изгоем… Мы почти не разговаривали в последние дни. Случайно столкнувшись со мной в коридоре, она отводила глаза; наверное, ей было стыдно, но я не винила её. Мне было всё равно…
Почему всё равно? Да всё просто. Вы, наверное, слышали, как люди убивают себя из-за несчастной любви?.. Каждый год кто-нибудь стреляется, вешается, прыгает с крыши; и не один, – целые толпы народа, как пишут в газетах, уходят на тот свет, потому что их не любят. Возможно, и про меня тогда подумали, что я, мелкая, в свои одиннадцать лет безответно влюбилась в кого-то… В старшеклассника, например. Так вот…
Я никого не люблю. Совсем. Ни родителей, ни бабушку, ни деда… ни друзей, ни подруг. Какая глупость – любить мальчишку!.. Люди придумали любовь от скуки, а ещё – чтобы скрывать правду. Люди всегда обманывают. На самом деле они используют друг друга. Они собираются вместе, потому что им что-то нужно от других… Вот, например, мои родители. Любящая семья, говорят… да ну… Люди женятся, потому что так надо. Так принято в обществе – жениться и заводить детей. Иначе свои же сгнобят… знакомые и родные… Люди ненавидят тех, кто не похож на других. А тех, кто живёт не так, ненавидят вдвойне. Я не знаю, почему они такие… Мне вот, например, всё равно, выйдет ли Ритка замуж, когда она станет взрослой. А другим почему-то не всё равно. И они будут гнобить её, если вдруг она не захочет или не сможет, – поэтому Ритке придётся выйти замуж и родить ребёнка, хочет она того или нет. Вот и меня поэтому родили… потому что так принято.
Родительская любовь, говорите?.. Да ну. Когда я ещё была жива, моя мама любила рассказывать, как она меня любит. Как мечтала о синеглазой девочке с золотистыми локонами, чтобы любить и заботиться… идиллия, да?.. А девочка родилась не синеглазой, и золотистых локонов у неё не было. Ну, ерунда, от этого она же не стала меньше любить меня, правда?.. Конечно. У моей мамы была любимая фраза, которую она часто повторяла, – "быть лучше всех". Кого это "всех", и что она понимала под этим "лучше", я не знала, – и не пыталась спрашивать; для неё это означало учиться на одни пятёрки, поступить в институт, занимать первые места на конкурсе танцев, носить красивые платья, аккуратно причёсывать волосы, – волосок к волоску, – и выйти замуж за самого красивого парня, о котором мечтали все её подруги. Конечно же, он был блондин, и глаза у него были синие-синие… только вот дочь пошла не в него. Ну, да ладно, не об этом речь…
Кредо "быть лучше всех" касалось, естественно, и меня. Я должна была стать отличницей, и не иначе. Каждая четвёрка считалась позором; я должна была делать уроки целыми днями, только чтобы исправить её. А ещё была музыка. Я возненавидела пианино. Идеальная девочка должна заниматься музыкой, чтобы однажды, если к маме нагрянут гости, что-нибудь им сыграть… Плевать, что дома они всякий раз выключают радио, когда передают классику, – пусть завидуют, что у неё идеальная дочь… Тратить жизнь на долбёжку по клавишам ради таких "минут славы" казалось мне глупостью, но маме моего времени было не жалко. Это ведь была моя жизнь… не её…
"А что же другие?" – спросите вы. Где были папа и бабушка с дедушкой, когда я, глотая слёзы, в сотый раз повторяла уроки, а стены содрогались от маминого жуткого крика? Они были рядом. Но им было всё равно. Поэтому я не верю в любовь. И в дружбу тоже не верю. Поэтому мне всё равно, с кем теперь дружит Ритка, оставшаяся в мире живых, – хотя её двойник в посмертии и пытается помириться со мной. Мы снова сидим за одной партой, иногда ходим вместе на переменах; я не знаю, что за дух принимает облик Ритки, одно это существо или разные. Мне всё равно…
III
"Смерть не страшна", – повторяю я про себя, пока идёт урок; то же самое я повторяю, выйдя из класса. Забытый мной автор старой песни оказался на удивление прав. Смерть действительно не страшна. Всё вовсе не так ужасно, как многие думают. Обычно живые считают, что попадут в ад или в рай, или вообще исчезнут, обратившись в прах… А вот и нет. Они попадут сюда. В школу… По крайней мере, многие.
Мёртвых здесь немало; сначала они растеряны, не могут найти свой класс и ищут расписание, как я. Потом привыкают: рутина затягивает. Уроков здесь много, экзамены бывают часто; думать особо некогда, так что чаще всего эти люди и не знают, что умерли. Свой возраст они тоже не помнят; здесь многое забывается. Большинство из них давным-давно окончили школу; некоторые даже успели состариться, – но всё это будет забыто, если вы попадёте сюда. Здесь каждый считает себя школьником. Говорят, воспоминания детства самые яркие; возможно, поэтому взрослые люди так часто сюда попадают. Это похоже на то, как бывает во сне…
Живые здесь тоже есть. Только их обычно немного. Это спящие, – люди, которые видят сны. Им снится школа, – уроки, экзамены… и они оказываются тут, – ненадолго, всего лишь до утра… Это в их мире утро, – а у нас в это время вечер. Я не знаю, почему так. Здесь всё наоборот…
А ещё здесь есть духи, те, кто никогда не рождался. И таких у нас большинство… Они всегда жили здесь, и им интересно: что это за школа и что за новые люди в неё приходят. И духи принимают облик школьников и идут сюда, – как будто они тоже учатся. Для них это весёлая игра… Они во многом как дети, – любопытные и беззаботные. Любимое дело – притвориться знакомым и заморочить. Иногда они любят попугать, устроив целое представление в лицах. Экзамены, например. Или похороны… У них своеобразный юмор. Прикинуться родственником и разыграть спектакль, как будто он умер, – весёлая игра, скажете? Нет?.. А им смешно. Духи не знают, что значит "добро" и "зло". Не потому, что они плохие. Нет… Просто здесь всё по-другому. Напугал, поверили? Вот и славно. Надоело – полетел дальше, оставив это место и всё забыв… Духи свободны, потому что у них нет привязанностей… В отличие от нас.
Именно наши привязанности и держат нас в школе. Старые привычки забыть нелегко… Если ты ходил в школу много лет, с кем-то дружил, с кем-то ссорился, если школа была твоим миром, а не просто перевалочным пунктом на долгом пути, – то после смерти ты, возможно, попадёшь к нам…
Ну, не все, конечно, сюда попадут. Те, кому работа запомнилась больше, после смерти будут работать. Я сама видела таких. Возле нашего дома есть киоск, а в нём сидит девушка. Я её знаю. Эта девушка давным-давно умерла. Только раньше она была бабушкой и торговала газетами в том же киоске, – но в мире живых. А потом, после смерти, попала сюда… Здесь она тоже продаёт газеты. Старой она себя не помнит, поэтому теперь ей лет двадцать с виду. Здесь каждый может принять любой облик… только не все об этом знают. Оттого все и выглядят как раньше, – как в детстве, в юности… Здесь почти никто не знает, что умер. Кроме меня…
Поля говорит: это оттого, что я самоубийца. Кто такая Поля? Это странная история, но придётся рассказать… Поля – это дух, который притворяется моей мамой. В первый день, когда я умерла и проснулась тут, она встретила меня и отправила в школу… помните?.. Поля выглядит как моя мама, но я научилась их различать. У Поли такие же волосы, – длинные, чёрные, расчёсанные волосок к волоску; глаза у неё тёмно-карие, а лицо бледное, как мрамор. Она была красивая, моя мама. Наверное, она и сейчас такая, только после моей смерти мы не виделись… здесь вообще очень мало живых.
Днём Поля похожа на мою маму, но когда темнеет, она превращается в чёрную тень. Не всегда, – но это случается часто. Поначалу я так и звала её: "чёрная", хотя это невежливо. И мне пришлось придумать ей имя…
Я знаю, что Поля никогда не рождалась и не жила на земле. Поначалу она пыталась обманывать… но разве обманешь того, кто прожил целых одиннадцать лет, если ты почти ничего не знаешь о людях?.. Все знания о мире живых Поля почерпнула из общения с мёртвыми и спящими. Она любит приходить к спящим. Даже больше, чем к мёртвым… Когда у людей наступает ночь, а у нас – утро, Поля меняет облик и идёт пугать живых. Она может превратиться в кого угодно… способностей ей не занимать. Обычно она превращается в чьих-то родных, – отца или мать, или даже ребёнка… А потом начинается представление. Поля притворяется, что умерла… живые верят и боятся по-настоящему. Им снятся кошмарные сны… Вот из-за этой способности менять облик я и дала ей имя – Полиморфа – имеющая много форм… Но для краткости я обычно зову её просто Полей.
Она не возражает. Возможно, имя ей нравится… До знакомства со мной у неё вообще не было имени. Духам это не нужно. Если спросить у духа, как его зовут, он, конечно, ответит что-нибудь, – но в следующий раз имя будет уже другое, в третий раз – снова другое… Вы спросите: как же они различают друг друга? А зачем?.. Тем, у кого нет привязанностей, это ни к чему. Сегодня один собеседник, а завтра другой… какая разница? Зато они свободны, а это многого стоит…
Наверное, Полиморфа теперь не совсем свободный дух, потому что у неё есть имя, и она всё время со мной… пока я не в школе. Мне давно бы уже надоело сидеть в квартире, если бы я была свободна… но я мёртвая, а у мёртвых есть привязанности. Прошлое не отпускает нас… а она зачем здесь? Что ей терять?..
Когда я только появилась здесь, Поле, наверное, было скучно, и она пыталась развлекаться, как могла. Развлекалась Поля своим излюбленным способом: пугала тех, кто рядом… то есть меня. В кого только она не превращалась… В мертвецов, в разных диких зверей, в Кощея, Бабу Ягу и других сказочных чудовищ, которым я не знала имён… в тараканов и пауков, – словом, веселилась от души. Сначала я боялась… потом поняла, что она развлекается. Ей было смешно, когда мне страшно… но нельзя же бояться вечно. Я попыталась с ней поговорить. Но разговор получился странный…
Больше всего Поля любила превращаться в мою мать; помню, я сидела у окна, а она вошла в комнату, приняв её облик, и сказала:
– Такая маленькая, а уже мёртвая.
Меня передёрнуло. В тот момент я не помнила, что умерла. Мы, мёртвые, часто об этом забываем. Поэтому я и хожу в школу… утром я обычно не помню, что это всё не на самом деле. Осознать себя мёртвым – это трудно. Иногда у меня получается, а потом я опять забываю. Потому что всё вокруг такое знакомое… почти как при жизни. Отличить тяжело…
Но после слов Полиморфы я поняла, что и вправду мертва, – и первым делом принялась доказывать ей, что она не моя мать. Это была очень долгая и странная беседа… она полночи сидела в кресле, а я – напротив неё, на диване, и битый час повторяла ей: "Ты не моя мама"… У меня было преимущество: я точно знала, что она притворяется. Но Поля была упряма, как осёл. Если что-то не хочет говорить, – ни за что не скажет… Мы очень долго сидели и спорили; но потом она сдалась и призналась, что я права; черты её лица стали размытыми, неясными, поплыли, как воск, который поднесли к огню. У Поли нет собственного облика. В таком виде она и сидела, – слегка расплавившись, как восковая кукла, – и отвечала на мои вопросы. Я спрашивала её об этом мире и о ней самой. Мне было любопытно, куда и к кому меня занесло… но выяснить удалось не так много.
У Поли было несколько знакомых семей, в которые она часто наведывалась. Где жили эти семьи, я так и не узнала. Приходила она к ним ночью, когда все спали. Поля называла эти визиты "пугать живых". Люди видели её во сне, – естественно, в чужом облике… им снились кошмары, а она веселилась. Вот, собственно, и всё…
Так она и жила, пока в этом странном мире не появилась я. Духи любят общаться с недавно умершими. Мёртвых можно обманывать и пугать; с ними можно дружить, – и узнать много нового, – о том, что недавно случилось в мире, который они оставили…
Вы, наверное, думаете, что Полиморфа – злой дух, раз она пугает живых? А вот и нет. Она не злая и не добрая… как все духи, что здесь обитают. Иногда, приходя к людям в сны, Поля помогает им; как-то раз она вылечила одну девушку от бессонницы, вытащив её из яви в мир снов. Она никогда не пугает больных; когда кто-нибудь из семей, к которым Поля приходит во сне, заболевает, она просто сидит с ним рядом и держит за руку.
Со временем я перестала бояться Полю и привыкла ко всем её странностям. Она стала мне кем-то вроде подруги… или матери, – тем более, что именно так она обычно и выглядела.
IV
Поля говорит, что, когда я вырасту, мы вместе будем пугать живых. Только когда это ещё будет?.. Иногда мне кажется, что я уже выросла… Я точно не знаю, сколько мне сейчас лет. В этом мире я живу уже давно… и давным-давно потеряла счёт времени. Каждый день я хожу в школу… только вот сколько их было, таких дней?.. Мёртвым не нужен календарь. Иногда, надеясь узнать свой возраст, я спрашиваю Ритку: "Сколько тебе лет?" Ведь мы с ней ровесницы. Но Ритка, вернее, её двойник, всегда отвечает: "Пятнадцать". Выходит, со дня моей смерти прошло четыре года… Иногда мне кажется, что больше, и Ритка не права. Тем более, что она уже много раз отвечала: "Пятнадцать". Возможно, она и считать не умеет… ведь это не настоящая Ритка, а какой-то дух, который принимает её облик. Но я по привычке всё равно зову её Риткой, хотя и знаю, что это не она…
На большой перемене мы с Риткой ходим в столовую. Духам и мёртвым еда ни к чему, – так, баловство, – приятно вспомнить, как это бывает, но можно и не есть. Я никогда не ем одна, – только с ней за компанию. Дома тоже не ем, потому что Поля не готовит. Но в школьной столовой могу перехватить пирожное или ещё что-нибудь… Еда здесь хорошая, не то, что в мире живых. Когда я была жива, в столовой вечно готовили какую-нибудь гадость. А теперь всё красивое, вкусное… пирожное со взбитыми сливками, украшенное вишней, конфеты и торты, компот… Ритка всегда берёт одни сладости. Здесь это можно, – никто не ругает, и платить ничего не надо. Всё-таки странно устроен мир. Живые, случается, голодают, а у мёртвых есть то, что им совсем не нужно…
Перекусив, мы с Риткой выходим на улицу прогуляться. Внутренний двор – квадратная асфальтированная площадка без всякой растительности; нам там не интересно, и мы идём дальше, – за пределы двора, туда, где виднеются облетевшие деревья и стоят девятиэтажки, выкрашенные в пастельные тона: бледно-зелёный, бледно-жёлтый, светло-серый…
За школой тот же надоевший пейзаж, что и всюду. На улице промозгло, холодно. Небо над городом пасмурное, серое; похоже, здесь никогда не светит солнце… Но разноцветные дома вносят в обстановку некоторое разнообразие; мне хватает и этого, – иначе стало бы совсем скучно…
Я стараюсь не отставать от Ритки. Когда я одна, мне бывает трудно вернуться обратно. Здесь легко заблудиться: всё постоянно меняется; стоит отвернуться – и школы уже нет, а на её месте какие-нибудь другие здания: иногда это университет, а иногда – ещё одна школа, только чужая… Я была и в университете, и в этой чужой школе. Странно то, что, стоит только мне туда зайти, – и я забываю, что учусь совсем в другом месте. Я иду в какую-нибудь аудиторию или в класс, сижу на уроках, слушаю лекции, – никто не удивляется, как будто я училась у них всегда. Другие школьники и студенты, наверное, такие же заблудившиеся души… Но в моей школе меня ругают, когда я опаздываю или пропускаю уроки. Поэтому я стараюсь вернуться вовремя, – чтобы попусту не злить учителей…
Иногда я спрашиваю Ритку: кто такие наши учителя?.. Но Ритка молчит; то ли не знает, то ли об этом говорить запрещено. Я догадываюсь, что учителя – не обычные духи. Они не такие, как Поля и те, кто превращается в наших родных. Они не живые и не мёртвые, и, похоже, вообще не люди. Иногда, конечно, случается, что спящий или мёртвый, бывший при жизни учителем, по привычке приходит в школу и начинает вести урок. Таких никто не прогоняет; но они в меньшинстве, а большинство – другие. Мне они кажутся более умными, более знающими, чем мы. Им известно нечто такое, что от нас скрывают. На уроках я почти всегда забываю, что умерла. Осознаться там труднее всего. Учителя умеют создать иллюзию, что всё вокруг происходит на самом деле. Что мы и в самом деле учимся, а оценки и экзамены – это нечто реальное и важное. Хотя обычно на уроках все несут полную чушь: обрывки текста из старых учебников, застрявшие у кого-то в памяти, искажённые и перемешанные, как в бреду…
Я часто думаю: зачем это всё? Зачем существует школа, зачем мёртвые ходят туда вместе с духами и спящими людьми?.. На эти вопросы у меня нет ответов. Я не знаю, и другие не знают, почему в этом мире мы рядом…
Спящие часто попадают к нам. Большинство из них не знает, что это сон, и принимает всё за чистую монету. Таких легко обмануть и напугать. Но есть и осознанные, – те понимают, что спят… Среди них встречаются самые разные люди. Есть такие, кто думает, что сон – это просто картинки в голове, поэтому здесь можно делать всё, что заблагорассудится. Я их боюсь: иногда они нападают, решив поиграть в войну… Убить по-настоящему здесь никого нельзя: ведь это не мир живых; но они могут в нас стрелять, могут ударить мечом или кольнуть шпагой, а это больно… Раны здесь быстро затягиваются, – как только отойдёшь в сторону; тело у каждого такое, каким он его помнит. Но боль вполне ощутима; мы ведь ещё при жизни привыкли, что, если поранишься, бывает больно… Сначала я старалась держаться от спящих подальше: мало ли, что у них на уме. Потом научилась пугать их: превращаться в страшное чудовище…
Дело было так. Я шла по школьному двору. Чуть поодаль, за серыми облетевшими деревьями, по серой асфальтированной площадке прогуливался спящий. Это был черноволосый мужчина лет сорока, одетый в строгий костюм – тёмные брюки, такой же пиджак, белоснежную рубашку и галстук. Возможно, наяву он занимал ответственный пост: был директором или каким-нибудь начальником помельче… Лицо спящего было чрезвычайно серьёзным, лохматые брови сошлись на переносице, а чёрные колючие усы недовольно топорщились, как у потревоженного таракана. На поводке спящий вёл собаку. Вот из-за этой-то собаки всё и началось…
Я всегда любила собак, а попав сюда, успела за ними соскучиться. Здесь не было животных; здесь даже птицы не летали… Увидев меня, собака завиляла хвостом: наверное, хотела познакомиться, но хозяин не выпускал поводок из рук. Я подошла и погладила её. В мире живых я, возможно, не тронула бы собаку, не спросив хозяина; но я была мертва и не считала нужным церемониться: какая спящему разница, спрошу я его или нет?..
Я протянула руку и коснулась рыжей шелковистой шерсти… Пёс обрадовался и попытался лизнуть меня в лицо; но хозяину это не понравилось. Он разразился гневной тирадой… Впрочем, "гневная тирада" – чересчур мягкое название для его вдохновенной речи. Он кричал и бранился так, что у меня закладывало уши… И тогда я решила его припугнуть; ведь недаром же я кое-чему научилась у Полиморфы – духа, меняющего облик… Я потянулась вверх и стала стремительно увеличиваться в размерах. Секунда – и я стала выше, чем здание школы; моё тело покрылось клочьями чёрной шерсти, а во рту выросли клыки.
Директор изумлённо смотрел, как нахальная девчонка, без разрешения погладившая его пса, превращается в нечто огромное, бесформенное и лохматое, с горящими красными глазами и когтистыми лапами… Наверное, это был один из самых страшных снов в его жизни.
Одна из лап потянулась к спящему, зажала его в кулак и посадила на крышу; с минуту он сидел там, испуганно хлопая глазами, а потом исчез: наверное, проснулся. Когда спящие просыпаются, в нашем мире они исчезают, словно растворяются в воздухе… Собака тоже пропала: возможно, она была духом, из тех, что принимают облик родных и знакомых и приходят к живым в их снах; а может быть, она просто проснулась, разбуженная своим хозяином…
"Наверное, Полиморфа права: это весело – пугать живых", – подумала я и, на прощание разразившись громовым хохотом, вернулась в школу, предварительно превратившись в себя – девочку-подростка с длинной косой, в новенькой школьной форме с белым воротничком, – типичную отличницу.
V
В тот день я больше не успела никого напугать. Меня отвлекли другие дела. У нас было много уроков, а кроме того, в нашем классе появилась новенькая.
Новенькая… Я сразу даже и не запомнила, какая она. Какая-то неприметная, рыжая… Как рыжая может быть неприметной? Да запросто. У нас все цвета блекнут. Небо над городом всё время серое; серые стены, серый асфальт… Впрочем, новенькая была, наверное, всё же не ярко-рыжая, а скорее каштановая с рыжиной, насколько я могла судить при нашем тусклом освещении. Но, когда она стояла у окна, в её волосах вспыхивали и гасли оранжевые искры, каждая – как маленькое солнце…
Я сразу поняла, что она живая. Со временем я научилась отличать живых от прочих: от них исходит тепло, – едва уловимое, но заметное. Мои руки всё время были холодными, как лёд; мёртвые всегда холодны. Хотя на улице был декабрь, я ходила в одной школьной форме и не мёрзла. Точно так же одевалась и Ритка. Духам тоже не нужно тепло; если вы говорите с таким, то почувствуете лёгкий ветерок, – как будто в соседней комнате открыли окошко…
Мы все одевались легко, а она была в красном пальто. Яркое пятно казалось неуместным на фоне бледных школьных стен. Оно выделялось, бросалось в глаза… На ней не было коричневой формы. Это казалось немыслимым в нашей школе; здесь все были одеты одинаково. Вместо формы под её пальто обнаружилось платье, – новое, модное… Я ни разу не видела платьев такого покроя.
Необычный наряд новенькой удивил меня, но моя реакция была стандартной. Я задала ей тот самый вопрос, который задавала всем прибывшим на протяжении долгих лет. Помню, я подошла и спросила:
– Как тебя зовут?..
– Иренка, – сказала она.
Иренка… Почему не Ира?.. Имя не русское; она из другой страны? Откуда? И почему говорит по-русски, как будто этот язык для неё родной?..
Я и раньше догадывалась, что общаемся мы не словами, а как-то иначе. Но теперь моя догадка подтвердилась; кто-нибудь из взрослых, наверное, сказал бы, что мы общаемся телепатически, – я же просто решила, что на "том свете" все языки станут для нас понятными, ведь говорят же: мёртвые знают всё…
Тогда на каком языке она говорит?..
Раньше мне было всё равно, кто откуда попал в наш мир. Я давно перестала спрашивать об этом и живых, и мёртвых. А теперь почему-то заинтересовалась…
…Иренка стала приходить в школу почти каждый день. У нас это редкость: обычно живым школа снится лишь иногда; только духи и мёртвые могут застрять здесь надолго. Я не знала, почему она приходит так часто. Мне очень хотелось верить, что она навещает наш мир из-за меня, хоть я и подозревала, что на самом деле это не так. Мы подружились, и я пересела к ней за парту. Ритка осталась одна; наверное, она ревновала и злилась, но старалась сохранить лицо и ничем не выдавала своих чувств. Мне было всё равно: какая разница, что чувствует безымянный дух, которые только притворяется моей бывшей подругой?.. К тому же разве она сама не поступила со мной точно так же, – давным-давно, когда я ещё была жива?..
VI
Иренка говорит, что это плохо – пугать живых. На уроках мы с ней сидим рядом; я рассказываю ей о Полиморфе и других сновиденных духах. Времени у нас предостаточно: теперь я совсем не слушаю учителя, когда тот бубнит у доски. Иренка почти всегда знает, что всё вокруг – сон, и учиться здесь на самом деле не нужно. Иногда я помогаю ей осознать себя во сне, если она об этом забывает; случается, что и она помогает осознаться мне, напоминая, что я уже мертва.
На переменах мы с ней уходим всё дальше от школы; она показала мне улицы, на которых всё время светло и солнечно. Небо над школой по-прежнему серое, а там всё иначе; нам не разрешают ходить туда, но странная сила, которой обладают наши учителя, действует на меня всё меньше. Теперь я могу не поддаваться их мороку и оставаться осознанной в школе – до конца учебного дня. Я стала даже прогуливать занятия, о чём раньше боялась и подумать…
В первый раз это случилось так. На большой перемене мы с Иренкой вышли на улицу и заблудились. Школа осталась позади, у меня за спиной, а когда я обернулась, её уже там не было. Здесь такое случается часто; дома исчезают и появляются, всё постоянно меняется, и это никого не удивляет…
Вместо школы у меня за спиной возникло какое-то другое здание, но идти туда мне не хотелось. И я предложила Иренке зайти ко мне в гости: дорогу домой я знала хорошо и никогда не терялась по пути…
Мы прошли по узкому мостику над маленькой речушкой; миновали дорогу, по которой никогда не ездили автомобили; пересекли трамвайные рельсы, – искорёженные, ржавые. Потом мы поднялись по узенькой каменной лестнице с разбитыми ступенями, – и перед нами предстал мой дом – обычная девятиэтажка, такая же, как и все дома вокруг…
– Ты здесь живёшь?.. – не то вопросительно, не то утвердительно произнесла Иренка, когда я провела её в подъезд. Старая рассохшаяся дверь противно заскрипела, впуская нас внутрь; в подъезде стояла непроглядная тьма, хотя за окнами всё ещё был день…
Привыкнув к темноте, Иренка попыталась вызвать лифт, но я её остановила.
– Пойдём по лестнице.
– Почему?.. – удивилась она.
– В лифте мы обязательно застрянем. К тому же он приедет не туда. Его лучше оставить напоследок. Вот когда будем на седьмом или восьмом этаже, тогда и вызовем, а пока…
…Мы долго поднимались по серым пыльным ступеням. Казалось, дом не хочет впускать чужую: подъезд изменил облик и выглядел далеко не лучшим образом. Всюду были видны следы запустения; мутные окна едва пропускали свет, а по углам висела паутина. На пятом этаже мы наткнулись на провал: нескольких ступенек не хватало, и мне пришлось перебираться через дыру по перилам. Иренка проделала этот акробатический трюк вслед за мной; провалы попадались всё чаще, а в конце концов дорогу нам преградила дыра метров в пять шириной: один лестничный пролёт полностью отсутствовал, и перила – тоже.
– Вот теперь пойдём в лифт, – сказала я.
…Двери лифта открылись быстро, как по заказу, – как будто он давно стоял здесь и дожидался, когда мы придём. На стене было множество кнопок: примерно сотня.
– Но в доме же девять этажей?! – удивилась Иренка. – Тогда для чего?..
Я усмехнулась.
– Это снаружи их девять. Внутри намного больше.
На самом верху я ни разу не была, да и есть ли он, этот "самый верх"?.. Здесь можно бродить бесконечно долго. Чем выше поднимаешься, тем квартиры роскошнее; пол в коридорах покрыт коврами, а стены – полированным деревом. Но верхняя часть стен отсутствует, и из коридора видно всё, что происходит внутри. Вход в эти квартиры свободный; пару раз я заходила туда, но ничего интересного не обнаружила. Там жили обычные семьи – то ли мёртвые, то ли духи; какая-то старуха готовила на плите еду, кто-то мирно беседовал на кухне…
Ниже находятся квартиры попроще. Их двери всё время заперты, но, если позвонить, вам откроют… здесь всегда и всем открывают. А вот что будет дальше, трудно сказать. Может быть, обругают и выгонят; может быть, спросят, кто вы и что вам нужно; может, примут за своего знакомого и встретят с распростёртыми объятиями… Самое трудное – попасть именно к себе, а не в чужую квартиру. Надо знать, как это делается, – а иначе можно проблуждать несколько часов; здесь всё постоянно меняется, как и на улице.
Я знаю, как попасть домой быстро: меня научила Полиморфа. Для этого надо удерживать в памяти место, куда хочешь добраться. Обычно по дороге домой я представляю нашу дверь, и это помогает. Но в этот раз я отвлеклась; со мной была Иренка, и её мысли вносили диссонанс в картинку, созданную моим воображением.
Лифт несколько раз мигнул лампочкой и застрял. В нём стало темно, как в гробу.
Иренка принялась давить на кнопки, – наощупь, вслепую; похоже, она немного испугалась, хотя и знала, что находится во сне.
– Бесполезно, – сказала я. – Это не поможет.
– И как же нам теперь быть?.. – спросила она дрогнувшим голосом.
– Ты обещаешь, что не испугаешься, когда я открою двери? – я знала, как освободить нас из лифта, но не была уверена, что Иренка воспримет такой способ спокойно.
– Ну… предположим, нет. Что ты собираешься делать?!
– Сейчас увидишь.
Я закрыла глаза и представила, что стою в коридоре, снаружи. Лёгкое облачко просочилось из лифта наружу и скользнуло над полом; потом оно поднялось вверх, постепенно принимая очертания моего тела; секунда – и в коридоре уже стоял мой двойник.
Двойник вызвал лифт, и двери мгновенно открылись. Зажёгся свет; удивлённая Иренка в замешательстве переводила взгляд то на меня, то на моего двойника, соображая, кто же из нас настоящий.
Этому трюку меня тоже научила Полиморфа. Она умела раздваиваться, а иногда даже и раздесетеряться; я почерпнула у неё немало полезного для жизни здесь…
Та я, которая стояла в лифте, исчезла, а та, которая была снаружи, улыбнулась и пригласила Иренку в квартиру. Потому что на этот раз мы приехали туда, куда нужно. Напротив была наша дверь…
Вопрос, какой из двойников – настоящая я, в этом мире не имел смысла. Моя душа могла вселиться в любого из них, а могла и в обоих; правда, управлять сразу двумя телами с непривычки было трудновато. Я перестала думать о втором двойнике, и лишнее тело исчезло, растворившись в воздухе. Иренка смотрела на меня, как на фокусника, доставшего кролика из шляпы…
Я открыла дверь своим ключом; Иренка вошла в квартиру следом за мной, полагая, что уж теперь-то неприятные сюрпризы закончились, и можно вздохнуть спокойно. Но это было не так. Потому что в прихожей она споткнулась о гроб…
Гроб был красный, обитый ярким атласом. В нём кто-то лежал; я заглянула внутрь и обнаружила старуху с синим лицом. Она явно умерла не своей смертью; старуха была похожа на удавленницу, а её шею пересекала тёмная полоса – след верёвки.
В комнате, за столом, сидел неизвестный мне дядечка лет пятидесяти, с внушительной лысиной и жалкими остатками волос на затылке. Перед ним на столе лежали какие-то бумаги; он перебирал их и радостным голосом повторял:
– Четыре комнаты… двор – восемь соток… летняя кухня, сарай… Гараж пристроить, стены облицевать… ремонт… Итого получается… итого… итого…
Широко раскрытыми глазами, – не то удивлённая, не то испуганная, – Иренка наблюдала эту странную сцену. Я могла бы, конечно, спросить, что, собственно, здесь происходит, – какого чёрта эти двое делают в моей квартире, они ведь мне даже не знакомы, – но я не спросила ничего. Я знала, что это штучки Полиморфы. Когда я ухожу в школу, она обычно пугает живых, – ведь у людей наступает ночь. Не знаю, каким именно способом она затащила очередного спящего в нашу квартиру… ибо дядя, сидевший за столом, без сомнения, был спящим, а в гробу лежала сама Полиморфа, превратившаяся в его родную тётку в надежде напугать.
Но дядя вовсе не испугался и не расстроился, увидев родственницу в гробу. Тётка должна была оставить ему неплохое наследство, и он радостно принялся подсчитывать прибыль, не ведая, что находится во сне…
Однако радость его длилась недолго. Полиморфа, которой наскучило лежать и ничего не делать, вылезла из гроба и, шаркая туфлями, медленно вошла в комнату, к своему мнимому племяннику.
Радостный племянник оторвался от бумаг и с удивлением увидел, что его умершая вроде бы тётя стоит перед столом, – с распухшей синей физиономией, с растрёпанными седыми космами и со следом верёвки на шее.
– Уууу! – сказала Полиморфа.
От такого поворота событий кого угодно пробрала бы дрожь. Но лысый дядя, наверное, был материалистом и в жизнь после смерти не верил.
– Тётя… так вы, значит, не умерли?.. – разочарованно произнёс он. – А зачем здесь тогда этот гроб?..
Я едва сдерживала смех.
– Да она ещё вас переживёт… Видишь, он тебя не боится, – сказала я Полиморфе, всё ещё стоявшей перед нами в образе старухи. – Может, отпустим его?.. Ко мне гостья пришла.
Поля взмахнула рукой, и спящий исчез – проснулся. Где-то далеко, в другом городе, по другую сторону мира, лысый дядя заворочался в постели, толкнув в бок жену.
– Знаешь, мне сейчас такой сон приснился… – сонным голосом поделился он. – Как будто тётка наконец откинулась, а нам оставила дом и дачу… что скажешь, а?..
VII
Спящий пропал, а мы с Иренкой остались наедине с Полиморфой. Она всё ещё была в облике покойницы, с синим лицом и седыми космами. Поля ещё не успела выйти из образа, словно талантливая актриса, перевоплотившаяся на сцене. Когда лысый дядя исчез, она недолго думая переключилась на другую спящую – Иренку, то ли забыв, что она моя гостья, то ли не расслышав моих слов…
Поля обернулась к Иренке и сказала:
– Уууу!
Иренка, к тому времени уже успевшая вспомнить мои рассказы о Полиморфе и сопоставить их с тем, что она видит, отреагировала более чем странно. Она широко улыбнулась и сказала:
– Я тебя узнала. Ты Поля, да?..
От такой наглости Полиморфа потеряла дар речи. Обычно спящие боялись её, – а эта рыжая девчонка улыбалась, глядя в синее мёртвое лицо…
Образ старухи сделался размытым, поплыл; Поля приняла более привычный облик – превратилась в мою мать; именно так она и выглядела почти всегда…
– Ой, – сказала Иренка, когда на месте старухи неожиданно возникла молодая черноволосая женщина с бледным, как мрамор, лицом. – Ну, приятно познакомиться… Как дела?
Иренка явно хотела завязать какое-то подобие светской беседы.
– Пойдёмте в кухню, подогреем чай, – пытаясь улыбнуться, пригласила я. – Я из школы пирожных принесла…
VIII
Иренке всё-таки удалось растопить лёд: она завязала знакомство с Полиморфой, хотя раньше та никогда не дружила со спящими. Через несколько минут мы втроём уже сидели на кухне и мирно беседовали. Казалось, так было всегда: на плите закипал чайник, на столе красовались пирожные со взбитыми сливками и шоколадом, а Иренка, мило улыбаясь, рассказывала какую-то историю, как будто она была в гостях у обычных людей, а не у мёртвой и призрака.
Наверное, она смогла бы пожалеть и понять даже страшного сказочного монстра…
Я догадывалась, почему она такая. Иренка просто ещё не знает, что любовь придумали люди, чтобы обманывать друг друга. Если узнает, – станет такой же, как я… такой, как все здесь… Тогда ей тоже будет всё равно, с кем она говорит и кого встречает. Сегодня одни люди, завтра другие… какая разница?.. Она просто не знает… Ну и пусть.
IX
– Ну и гадючник там у вас, – сказала Иренка, когда мы встретились в школе на следующее утро.
– Ну а чего ты хотела?.. Конечно, дом странный, но я привыкла. Я же мёртвая. Нежить как нежить… Думаешь, самоубийцы попадают в рай?..
Между нами иногда происходят очень странные разговоры. Как-то раз я спросила Иренку:
– Сколько тебе лет?
– Тридцать…
– Так много?! – удивилась я.
Взрослые часто попадают в нашу школу; воспоминания детства влекут их сюда, и в этом нет ничего удивительного. Но Иренка казалась мне девчонкой, да она так и выглядела, – худенькая, веснушчатая, рыжая; она была небольшого роста, и мне казалось, что мы с ней ровесницы, что ей не больше пятнадцати-шестнадцати лет… Впрочем, в мире смерти и снов всё выглядит немного иначе.
В другой раз я спросила её об имени: почему Иренка? Почему не Ира или Ирина, например?..
– Ну, понимаешь, – смутилась она, – вообще-то я и есть Ира… Иренка – это мой ник. Меня так зовут на одном сновидческом форуме… на сайте о снах. Недавно мы со знакомыми из инета решили встретиться в сновидении… чтобы проверить, возможно ли вообще такое. Договорились встретиться в школе… поэтому я и прихожу сюда.
Я молчала. Инет, ник, сайт… Эти слова ничего мне не говорили.
– Ты знаешь, что такое Интернет?..
Я отрицательно мотнула головой.
– Сколько же тебе лет?..
– Пятнадцать… – неуверенно ответила я. – Наверное, пятнадцать. Я точно не помню, но Ритка, – а мы с ней ровесницы, – говорит, что ей пятнадцать лет…
– Ты можешь сказать, в каком году умерла?
Я назвала ей точную дату. Я многое забыла, но это число ещё помнила. Для меня оно давно перестало быть просто набором цифр, – чёрные закорючки в календаре стали как будто живыми, зловещими, окрасились алым пламенем моего последнего заката…
Я умерла в середине шестидесятых, а Иренка родилась в семидесятые, – в другом городе, в другой семье. В мире живых мы не встретились. Она родилась через десять лет после моей смерти…
Я умерла в шестидесятые, а сейчас, как оказалось, был уже другой век. Двухтысячные, – начало тысячелетия. Это звучало, как фантастика; такого я не могла увидеть даже в снах. Мир, должно быть, изменился, но я ничего об этом не знала. Здесь всё было таким, как всегда; все дни были одинаковыми, и время, наверное, текло как-нибудь иначе…
Я смотрела на Иренку, – на её распущенные волосы, на платье странного покроя, расстёгнутое красное пальто… всё это выглядело таким неуместным в нашей школе, где ученицы носили коричневую форму и заплетали косы. Наверное, она не врала, что на земле наступило будущее… а я навеки осталась там, в прошлом, и уже никогда не вернусь…
Прошло сорок лет, и мои родители, должно быть, уже состарились. Интересно, как они там? Живы ли ещё?..
В памяти вдруг всплыла строчка из давно забытой песни: "Смерть не страшна"…
Смерть не страшна: дует синий ветер,
Гаснет призрачный, тусклый свет…
Встань у окна, – ты и не заметишь,
Как промелькнёт десять тысяч лет.
Смерть не страшна: звёздными лучами
Освещаются все пути.
Ты не одна; долгими ночами
Верь и жди меня, верь и жди…
Мне представилось: в полутёмной комнате у окна стоит женщина и плачет. Наверное, моя мама плакала, когда я умерла…
– Хочешь, я заберу тебя отсюда? – неожиданно спросила Иренка.
Я молчала. Просто потому, что не верила. Я ведь давным-давно мертва… ну куда она меня заберёт?..
"Ночь так темна"… – вспомнилась мне ещё одна строчка.
Ночь так темна; детская кроватка
Вдруг опустела, и гаснет свет.
"Смерть не страшна", – шепчут липы сладко.
Ты не знаешь, что смерти нет…
Я представила: в незнакомой комнате у пустой детской кроватки сидит Иренка. Она ждёт меня. Но мы никогда не встретимся. Потому что я в одном мире, а она в другом. Потому что:
Тысячи лет; звёзды за порогом…
Синий ветер, лети, лети…
Тысячи лет – долгая дорога,
Я не успею её пройти.
В солнце и в дождь, днём и ночью звёздной
Голос мой не развеет грусть.
Ты позовёшь, только будет поздно:
Я не вернусь назад, не вернусь.
Теперь я вспомнила всю песню целиком. Я слышала её уже здесь, в мире смерти и снов. Эту песню передавали по радио, когда я умерла, – возможно, специально для меня… у нас такое часто случается. Когда кто-нибудь умирает, его приветствуют; бывает, даже устраивают праздник… В мире живых тогда пели другие песни. В одной из них тоже были ночь и разлука; она была не о том, но, вспоминая её, я всё равно представляла незнакомую комнату и плачущую у детской кроватки Иренку, которая меня ждёт…
– Хочешь, я заберу тебя?.. – повторила она. – Тогда протяни руку.
Её рука коснулась моей, – и ничего не произошло. Я стояла и вопросительно на неё смотрела. Иренка вложила мне в руку какой-то предмет. Сначала я не поняла, что это такое. Потом раскрыла ладонь, – и увидела маленький жёлтый цветок, – из тех, что растут в лесной чаще… Такие цветут только в мире живых. У нас вообще нет цветов. Здесь даже трава не растёт…
Он был уже увядший, этот цветок; тёмно-зелёные листья поникли, и лепестки безжизненно свесились вниз; казалось, он знал, что умирает.
– И что мне с ним делать?.. – разочарованно спросила я. Но тут зазвенел звонок; пора было возвращаться в класс, и я сунула цветок в карман, надеясь снова встретиться с Иренкой после урока…
X
На перемене мы с Иренкой вышли на улицу. Она взяла меня за руку и повела на пустырь, лежавший за школой. Слева от него была дорога и ржавые рельсы, по которым уже давно не ходили трамваи; справа – другая дорога, по которой изредка проезжали грузовики. За пустырём лежал облетевший парк, – мрачный, угрюмый; ветви деревьев, на которых уже сорок лет не росла листва, напоминали скелеты мёртвых чудовищ. Земля на пустыре была сухая и пыльная, покрытая трещинами: здесь никогда не идут дожди…
Иренка взяла у меня цветок и воткнула его в одну из трещин в земле.
– Неужели будет расти?.. – удивилась я. – Цветы не растут без воды…
Она ничего не ответила, лишь хитро улыбнулась, снова взяла меня за руку и повела назад, – в школу, откуда мы и пришли. Учителя не разрешают нам ходить на пустырь. Если бы они узнали, что мы были там, нас бы, наверное, ругали; но мы вернулись быстро, так что никто ничего не заметил…
А на другое утро я увидела, что цветок подрос. Через несколько дней он стал совсем большим, а потом пустил новые ветви; прошла неделя или две, – и это уже был цветущий куст, красивый, как частица другого мира. Иренкиного мира…
XI
Дни в мире мёртвых текут незаметно, похожие один на другой. Я по-прежнему хожу в школу, но теперь мою жизнь освещает солнце; оно смотрит на меня из каждого жёлтого цветка… Куст становится больше с каждым днём. Я наведываюсь к нему по утрам. Каждый раз, отправляясь в школу, я нарочно иду через пустырь. Теперь у меня есть тайна. Мне радостно, что он растёт…
В школе я встречаюсь с Иренкой. На уроках мы сидим рядом; мне с ней хорошо и легко. На душе у меня спокойно. Теперь у меня есть подруга, но дело даже не в этом. Что-то произошло. Я чувствую, что мир изменился и уже никогда не будет прежним…
Иренке удалось побывать в моём родном городе; в нашей квартире теперь жили другие люди. Мои родители состарились и умерли. Через год после моей смерти на свет появился мой брат, – мальчик с золотыми кудряшками и синими глазами. Ему было уже сорок лет, и у него была своя семья.
Вот и всё, что удалось узнать. Когда я ещё была жива, мне очень хотелось иметь младшего брата или сестру; но теперь его рождение меня не радовало: я понимала, что, если бы не моя смерть, его никогда бы не было на свете. Моим родителям нужен был только один ребёнок. Или он, или я. Рождение брата ровно через год означало, что они забыли меня и утешились; я была рада за них и надеялась, что он смог стать для них идеалом, – идеальным ребёнком, о котором они всегда мечтали. Я ревновала… возможно, я была не права, и они долго горевали за мной, – когда я услышала о брате, такая мысль не пришла мне в голову, а правду об их чувствах я так никогда и не узнала. Мы с родителями не встретились за гробом. Наверное, они попали куда-то в другое место, – не туда, куда я. Не в школу…
Иренка продолжала приходить к нам почти ежедневно. Её эксперимент – попытка встретиться со знакомыми сновидцами – давно закончился; ей так и не удалось разыскать кого-нибудь из них, но это её не огорчало. Теперь она приходила в школу из-за меня. Так продолжалось несколько месяцев, а потом…
XII
Однажды утром, навещая свой цветущий куст, я увидела, что рядом с ним стоит моя бывшая подруга Ритка.
Как она узнала мою тайну?.. Трудно сказать. Возможно, проследила за мной; возможно, ей рассказал кто-то, уже давно следивший за нами… Нам было запрещено держать животных и выращивать растения; правда, в парке и возле школы были деревья, но они уже сорок лет стояли облетевшие, мёртвые… на них никогда не росла листва. Здесь были только люди и духи; другим существам вход сюда был заказан. Всего один раз за сорок лет мне удалось увидеть собаку, да и та, скорее всего, была духом, принявшим облик животного…
Я ни разу не видела, чтобы кто-то отважился нарушить этот запрет. Да никто и не хотел: каждый был занят учёбой или работой; на всё остальное не оставалось ни времени, ни сил. Что случается с теми, кто идёт против воли учителей, я не знала; мне вообще было мало известно об этом мире, хоть я и прожила здесь четыре десятка лет. Раньше мне уже приходилось нарушать разные здешние правила, и ничего особенного не случалось; меня иногда ругали, и только. Обычно учителя относились к нам с холодным равнодушием; никто не рвался наказывать нас за проступки, но этот запрет казался серьёзным, и я чувствовала: что-то случится, если Ритка наябедничает им…
Я волновалась, но старалась выглядеть спокойной.
– Что ты здесь делаешь? – спросила я Ритку с деланным безразличием, как будто мне было всё равно, что происходит и что теперь со мной будет…
…Помню, как будто это было вчера: на пустоши, в серой сухой земле, под хмурым пасмурным небом, растёт прекрасный цветущий куст, – настоящее чудо; две пёстрые бабочки порхают вокруг него… а чуть поодаль стоит моя подруга Ритка в своей старой коричневой форме и, нахмурившись, смотрит на меня. Кажется, она вот-вот заплачет.
– Ну, что случилось? – спрашиваю я.
Ритка долго молчит и наконец выпаливает, – совсем по-детски, со слезами в голосе:
– Я пришла, чтобы сказать… Эта Иренка… она плохая. Злая и подлая. Она хочет разлучить нас с тобой…
Я не верю ей. Здесь все врут. У Ритки хитрые зелёные глаза; она немного косит, и кажется, что Ритка всегда неискренна. Но в этот раз она, похоже, говорит правду. Слёзы текут по её лицу.
– Да что случилось?.. Почему ты плачешь?
– Ты ничего не знаешь! – выкрикивает Ритка. – Когда куст вырастет, ты уйдёшь!..
Слово "уйдёшь" в её устах звучит почти как "умрёшь", – тоскливо и обречённо. Я смотрю на высокий, как дерево, куст, на толстые ветви, покрытые шершавой корой, на распустившиеся цветы размером с ладонь и длинные зелёные листья. Мне кажется, что куст уже вырос. "Значит, мне пора уходить? – спокойно думаю я. – Но куда? Где ещё есть место мёртвым?"… Может быть, есть ещё какой-то мир, кроме того, где мы оказались? Или я просто уйду в небытие, в которое верят живые?.. Что, если меня ожидает смерть?.. Откуда я вообще взяла, что на "том свете" жизнь бесконечна?.. Возможно, я просто перестану существовать, превращусь в пыль и прах?..
– Что ж ты раньше не сказала мне, Ритка? – с лёгким укором говорю я. – Теперь уже поздно. Смотри, какой он большой…
– Да разве я знала, что он вырастет?.. Думала, засохнет. Здесь даже трава не растёт…
Ритка садится рядом со мной, – на серую пыльную землю, спиной к цветущему кусту, – и говорит, говорит…
Мы всегда сидим на земле. Здесь нет скамеек, а пыль нам не страшна: её можно отряхнуть, и она исчезнет, не оставив следов. Моя школьная форма не пачкается; она всегда остаётся такой, какой я её помню. Здесь всё не так, как в том, другом мире…
…Я молча слушаю Риткин рассказ. Когда я покончила с собой, то не оставила предсмертной записки; мне не хотелось ничего объяснять. Зачем?.. Мне было всё равно, что теперь будет в мире живых. И Ритка, недолго думая, решила, что повесилась я из-за неё, из-за дружбы, которую она предала…
Её сны превратились в кошмары. Каждую ночь она приходила в школу и видела там меня. Она пыталась помириться со мной снова и снова, но у неё ничего не получалось: я относилась к ней с холодным безразличием, как будто она – пустое место. Ритка часто заговаривала со мной, садилась за одну парту, таскалась следом на переменах; я терпела её рядом с собой, но при случае старалась уйти от неё подальше, считая каким-то надоедливым духом, который просто притворяется Риткой…
Так продолжалось четыре года, – пока ей не исполнилось пятнадцать. В то лето Ритка неожиданно влюбилась; объектом страсти стал соседский мальчик, живущий двумя этажами выше. Но мальчик отверг её: ему не нравилась грязная замарашка, нечёсаная, с чернильными пятнами на руках…
Это новое горе освежило печальные воспоминания: Ритка вспомнила обо мне, о том, как отворачивалась, когда я пыталась с ней заговорить, и как кричала мне вслед разные гадости, – по указке другой девчонки, которая стала её новой подругой…
Лето подходило к концу; начинался учебный год, а вместе с ним – новые проблемы. Ритка училась на одни тройки, и окончание школы не открывало перед ней никаких радужных перспектив. После восьмого класса моя подруга собиралась идти в училище, но, поразмыслив, решила, что жизнь рабочих – это не то, чего она хотела бы для себя…
…Ритка бросилась с моста в реку тридцать первого августа, перед самым началом учебного года. Она оставила предсмертную записку, в которой пространно описала всё, – свою несчастную любовь, отсутствие целей и будущего, – и попросила у всех прощения. В записке Ритка упомянула и меня. Она извинилась за то, что предала нашу дружбу, и выразила надежду, что на том свете мы встретимся…
Именно так и случилось. После смерти Ритка попала в ту же школу, где училась я; мы снова сидели за одной партой, но я не заметила, что она мёртвая, продолжая считать её духом, который только притворяется Риткой… Способность различать живых и мёртвых меня подвела; да я и не старалась, – за все эти годы я, кажется, ни разу не смотрела на неё внимательно… Мне было всё равно.
– Ты меня ненавидишь, наверное, – рыдает Ритка. – Это я во всём виновата. Ты сейчас была бы жива, если б я дружила с тобой.
Я поспешно перебиваю её:
– Нет, Ритка. Ты ни в чём не виновата. Я не из-за тебя повесилась.
– Нет?.. – удивлённо восклицает она. – Тогда из-за чего?..
Наступает моя очередь говорить; я рассказываю ей о родителях, об уроках заполночь, о единственном выходном дне и последнем закате, об изречении Катона Марка Порция: "Раб должен работать или спать"… Мы никогда не говорили об этом в классе. Ложный стыд удерживал меня: мне не хотелось, чтобы кто-то знал, что я не счастлива дома. Несчастье похоже на болезнь: все боятся им заразиться и обходят стороной того, у кого что-то не так. Поэтому люди стараются делать вид, что у них всё прекрасно, даже когда на душе скребут кошки. Всё равно никто не поможет и не поймёт…
Я рассказываю Ритке о себе; это наш первый откровенный разговор за сорок с лишним лет. Она слушает меня, а ветер треплет её растрёпанные волосы. Похоже, Ритка немного разочарована: ведь, выходит, она утопилась зря…
– Ты ни в чём не виновата, – повторяю я. – Всё давно прошло и забылось. Мне всё равно, с кем ты дружила потом. Я вообще не хочу помнить прошлое, когда отсюда уйду. Но, если вдруг буду тебя вспоминать, то только хорошее, – ведь было же у нас и хорошее, правда?..
Она кивает и слегка улыбается; мы начинаем вспоминать, как подружились много лет назад; как убегали за школу на переменах и там играли, спрятавшись от всех, – и однажды прозевали урок, потому что не слышали звонка; как дарили друг другу фантики и рисовали принцесс в тетрадках…
…Я часто вспоминаю этот день: под раскидистым цветущим кустом на серой пыльной земле сидит моя подруга Ритка, умершая в пятнадцать лет, и плачет, размазывая по лицу слёзы…
– Ну, не плачь, – утешаю я, – если хочешь, я и тебе подарю цветок…
Я не умею утешать. Когда я ещё ходила в детский сад, другие девочки из моей группы могли успокоить плачущих, найти какие-то ласковые слова, – а я никогда не знала, что надо говорить в таких случаях. Если дома я плакала, меня за это ругали. Поэтому, когда я видела чьи-то слёзы, мне всегда становилось неловко. Потому что я не знала, что сказать…
Ритка трёт красные глаза, потом резко поднимает голову, и я вижу её зарёванное лицо.
– Ты не понимаешь! – кричит она. – Эти цветы, – они только тебе предназначены! Этот куст – только для тебя…
Мне жаль Ритку, но я понимаю, что она права. Этот куст Иренка посадила только для меня. Это для меня светят маленькие жёлтые солнца, для меня зеленеет листва и порхают бабочки. Другие обходят мой куст стороной, а некоторые даже и не видят. Им всё равно…
XIII
Но некоторым, как видно, не всё равно. Кто-то сказал учителю, что мы с Иренкой вырастили куст. Иренку больше не пускают в школу. Иногда я встречаюсь с ней за углом, возле моего дома. Но это происходит всё реже. Теперь ей трудно сюда попасть. Иногда она передаёт мне записки через Полиморфу; в последней было сказано: "Жди, уже скоро", но с тех пор, кажется, прошло уже много дней…
Каждое утро я по-прежнему иду в школу через пустырь. Я останавливаюсь и подолгу смотрю на куст, на цветы, на бабочек… я думаю об Иренке, о том, что мы с ней больше не встретимся: её не пустят сюда… Я многого теперь не помню: без Иренки мне снова стало трудно осознавать себя мёртвой; в школе я опять забываю, что нахожусь в мире смерти и снов. Я смотрю на цветы и повторяю: "Смерть не страшна"… повторяю и надеюсь, что Иренка всё-таки вернётся. Я забыла почти всю песню, и только эта строчка, случайно застрявшая в памяти, назойливо звучит у меня в ушах…
В школе я теперь снова сижу за одной партой с Риткой. Похоже, она даже рада, что Иренка к нам не приходит. Мы снова стали дружить, хотя больше не откровенничали друг с другом, как там, у цветущего куста… От Ритки-то я и узнала новость; похоже, её давно уже знали все, кроме меня…
– Завтра субботник, – говорит Ритка, щуря хитрые зелёные глаза. – Будем убирать пустырь, как всегда. Ты придёшь?..
– Приду, – механически отвечаю я, – и вдруг меня пробирает холод. Я понимаю, что это значит. Учителя хотят срубить мой куст; и они это сделают, – кто сможет им помешать?..
– Они хотят срубить его… да?… – шёпотом говорю я.
Ритка молча кивает. На уроках мы опасаемся говорить громко. Но я понимаю её с полуслова, – не зря же мы учились вместе столько лет.
Класс плывёт перед моими глазами; как в тумане, я дожидаюсь конца уроков и бегу домой, – к Полиморфе, единственному существу, которое может меня понять…
Домой я добираюсь быстро, – не то что в тот раз, когда у нас гостила Иренка. Полиморфа странно смотрит на меня; ей непонятно, чем я взволнована. Мой голос дрожит; я сбивчиво рассказываю ей про куст, про Ритку и про субботник. Я уверена, что Полиморфа не сможет мне помочь. Она всего лишь дух, – да и что она умеет, – разве что живых пугать?.. Но Поля, похоже, так не считает. Она садится рядом со мной и излагает странный, почти безумный план…
Я не уверена, что смогу осуществить его. В этом мире я мало что могу. По сравнению с Полей я сущая неумеха; раздваиваться и менять облик я кое-как научилась, но то, что она предлагает, намного сложнее…
XIV
В субботу я выхожу из дома рано, ещё до рассвета, – и бегу на пустырь, где цветёт мой куст. Пёстрые бабочки порхают вокруг него; когда я смотрю на них, мне кажется, что светит солнце… Я готова на всё, чтобы защитить своё чудо. Моя жизнь потеряет смысл, если здесь не будет его…
Я сижу под цветущим кустом и жду, – а небо постепенно светлеет; серое утро сменяет тёмно-синие предрассветные сумерки. Проходит час или больше, – и ко мне присоединяется Ритка. Сегодня она тоже встала рано, и непонятно, то ли Ритка пришла позлорадствовать, то ли хотела поддержать меня?..
Мы сидим рядом и молча смотрим на бабочек. Возможно, Ритке тоже жаль, что куст срубят; просто она почему-то верит, что из-за него я отсюда уйду, – а ей не хочется меня отпускать. Я знаю, почему. Она утопилась в реке, чтобы снова дружить со мной, – а если я уйду, то получится, что всё было зря…
Ритка дёргает меня за рукав. Засмотревшись на бабочек, я не заметила, что со стороны школы к нам движется толпа. Я вижу учителей, учеников из параллельного класса, своих одноклассников, – всех, кого хоть как-то помнила. С ними идут старшеклассники; в руках у них топоры и лопаты…
В отчаянии я бросаюсь вперёд, но Ритка удерживает меня. Я стою на дороге между толпой и кустом, раскинув руки, – как будто это поможет защитить его, – и наблюдаю, как они идут… Им нужно, чтобы вокруг была серая сухая земля, но этого не будет. Никогда, ни за что…
Я знаю, что мне делать. Меня научила Полиморфа. Духи могут вселяться в любой предмет; после смерти я тоже стала духом. Только память о прошлом помогает мне не потерять форму; но я могу отбросить её…
Я подхожу к кусту и прижимаю к ветке руку… Мы становимся как будто одним целым: я чувствую, как течёт сок под тонкой корой, – словно моя кровь… Моё тело исчезает, бледнеет; его очертания дрожат, словно я стала жидкой и вливаюсь туда, – под кору, в зелёную кровь растения.
Моя душа вселилась в куст; теперь он – это я, мои руки – это ветки, они тянутся вверх, высоко, к самому небу… Это на мне расцветают жёлтые цветы, это вокруг меня порхают бабочки. Мне так спокойно и легко…
Я слегка шевелю руками – и ветви двигаются, словно пытаются дотянуться до облаков…
У меня получилось вселиться в куст; теперь мне нужно вытащить корни из земли и перенести его в другое место. Куда-нибудь подальше отсюда… подальше от всех…
Я пытаюсь пошевелить корнями, но это трудно: земля сухая и жёсткая, а толпа уже подходит. В отчаянии я рвусь в сторону; комья земли летят из-под корней…
– Руби его под корень, – говорит кто-то. – Вот так, хорошо…
Я слышу глухие удары… Но это не удары топора: они звучат монотонно и размеренно, как будто это стучат часы или рядом бьётся чьё-то живое сердце… Земля дрожит; глубокие трещины расползаются в стороны от корней. Мне хочется провалиться под землю, чтобы спрятаться от духов и мёртвых людей; я делаю усилие, – сухая земля трескается, и куст летит вниз, в глубокую чёрную бездну…
– Вот так, хорошо, – повторяет кто-то другой…
Яркий свет бьёт мне в глаза. Я протягиваю руку и вижу, что это уже не ветка, – это рука младенца с маленькими, сморщенными пальцами, крепко сжатыми в кулачок. Младенец… Я младенец…
Темнота накрывает меня, и я вижу в последний раз: где-то там, по другую сторону мира, на пыльной земле, в которой даже трава не растёт, сидит моя подруга Ритка и плачет, размазывая по лицу слёзы.
– Я вернусь за тобой. Ты только меня дождись… – шепчу я ей и не знаю: слышит ли она меня?..
Вместо шёпота у меня вырывается крик, – пронзительный и звонкий… Чьи-то руки подхватывают меня, поднимают вверх, к потолку, к яркому свету неоновых ламп…
Я сразу зажмуриваюсь, но успеваю увидеть, что внизу на узкой железной кровати лежит Иренка. Она почти такая же, как раньше, только лицо у неё усталое…
– Девочка… у вас девочка, – слышу я чей-то голос, и она улыбается, рассматривая меня, – как будто видит в первый раз…
XV
Я помню день своего рождения. Помню белые больничные стены, халаты врачей, ослепительный свет… Меня отнесли в палату, а ещё через несколько дней нас с Иренкой выписали домой.
Помню, как будто это было вчера: мы идём по двору к машине, и бабушка прижимает к себе меня, завёрнутую в одеяло. В машине нас ждёт папа; он улыбается мне, и Иренке, и бабушке… Мы садимся, машина срывается с места и летит по заснеженным улицам, – домой, домой…
Мне хорошо и спокойно. Белый декабрьский снежок сыплется с неба, заметая землю, – как будто залечивает раны… Когда я умерла, тоже был декабрь. Только тогда снега не было, – земля так и осталась безжизненной и серой; такой же она была и в том, другом мире, – много-много лет… А теперь все улицы замело, как будто с моим рождением на земле возобновился ход времени. Я знаю, что скоро снова увижу весну и лето. Я так давно не была в мире живых, так соскучилась за ним…
Раньше, в прошлой жизни, я всегда чувствовала себя одинокой, – даже в семье, даже среди друзей… Словно они были в центре, а я – на обочине и с краю. То же самое продолжалось и позже, когда я умерла. Так было до тех пор, пока я не встретила Иренку. Она пришла ко мне, в мир мёртвых, и забрала меня с собой… Я сразу её полюбила, как только увидела. Я и сейчас её люблю. И папу, и бабушку, и деда… Иногда мне кажется странным, что Иренка теперь моя мама: ведь когда-то мы учились в одной школе, – ну как такое может быть?..
Со мной произошло много странного. Но это ещё не всё. Через три года у меня родилась сестра Поля. Это первое её рождение на земле; а раньше она жила со мной и была невоплощённым духом. Она умела проникать в сны и пугать живых; теперь Поля этого не умеет, – я катаю её в коляске, вожу гулять, играю с ней в разные игры… Она ещё маленькая, наша Поля; я часто думаю: хорошо, что она стала моей сестрой…
Иногда во сне я встречаюсь с Риткой. Это бывает редко, обычно всего два раза в год. Она учится в той же школе, что и раньше, и там же живёт… ей по-прежнему пятнадцать, и она такая же, как всегда, – растрёпанная, с чернильными пятнами на руках, с длинным любопытным носом и хитрыми зелёными глазами. Ритка ждёт меня. Она знает: когда-нибудь я приду, чтобы вырастить для неё цветущий куст… и заберу её в мир живых, как забрала меня Иренка. Она ждёт. Ну что такое двадцать лет?.. В мире, где каждый день как две капли воды похож на другой, годы летят, как мгновения. Она уже прожила здесь больше…
Я расту. Весна сменяет зиму, а осень – лето; мне хочется верить, что впереди меня ждут счастливые дни. У меня есть семья и друзья; я научилась быть открытой и доверять. Одного только я не скажу никогда, никому: имени, которым меня звали в прошлой жизни. Иренка знает, а другим не нужно. Тогда подует холодный ветер и разрушит уютный счастливый мирок; но я уверена, что она сохранит мою тайну. Пусть годы идут, пусть за зимой приходит весна, – всё будет так же. Никто не узнает…



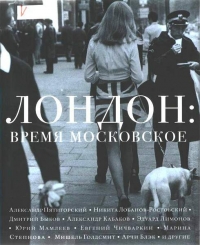



Комментарии к книге «Школьная история, рассказанная самоубийцей», Инна Андреевна Александрова
Всего 0 комментариев