Джо Шрайбер Без окон, без дверей
Посвящается моему тестю Лестеру Э. Арндту (1933–2008)
Вошел я в домик на холме, Шумнули шторы на окне, Внутри в кроваво-красных стенах С разбитых женских губ летела пена, И пальцы, сжатые в тугой клубок, Царапали ногтями потолок… Ник КейвНет темницы мрачнее, чем собственная душа!
Натаниель Готорн. Дом о семи фронтонахГлава 1
Стояла долгая нью-гэмпширская осень — из тех, что затягиваются чуть не до конца октября; и мужчина с мальчиком проводили день на заднем дворе, перебрасываясь мячом, — у каждого на руке поношенная кожаная перчатка из гаража. Мальчик был маленький, летом ему исполнилось пять, но мужчина с ним общался легко и непринужденно, как с подростком, с откровенной любовью, на что мальчик охотно и радостно отвечал. Из дому они вышли в куртках, однако, побегав полчасика с непослушным обтрепанным мячиком от старого сарая с инструментами до кукурузного поля, мужчина снял с себя джинсовый пиджак, повесил на нижнюю ветку тополя, высившегося посреди двора. Видя это, мальчик тоже немедленно стянул куртку и бросил на землю. Любой наблюдатель принял бы их за отца с сыном.
Глядя, как мальчик петляет, готовясь бросить мяч из-под руки, мужчина повернулся и побежал к полю, где его можно будет поймать, как показывал опыт. Но из-за капризов ветра или действия гравитации мяч проплыл над его головой, на мгновение застил полуденное солнце и достиг цели, прежде чем он это понял. Описав идеальную, длинную дугу, попал в темное окно сарая; через мгновение раздался звон разбитого стекла.
Мальчик застыл на месте, округлив глаза, опустив руку с болтавшейся на ней перчаткой.
— Дядя Скотт…
— Ничего. — Еще не отдышавшись, мужчина перешел на шаг, направляясь в тень, отброшенную сараем. Вгляделся между двумя-тремя оставшимися в створке зубчатыми треугольными осколками, почуял затхлый запах отсыревших тряпок, старого машинного масла, сухой травы, гнилых листьев. В тенях смутно виднелись невысокие груды оборудования на бетонном полу.
— Что? — Мальчика потрясли масштабы совершенного преступления.
— Не волнуйся, — сказал мужчина, сокрушенно улыбаясь над запачканными рукавами, коснувшимися подоконника. — Дам небольшой совет, малыш. Никогда не позволяй продавщице уговорить тебя выложить за рубашку восемьдесят баксов.
— Ладно.
Подойдя к деревянной двустворчатой двери, мужчина вновь остановился, осмотрел замок, камнем висевший в петлях.
— Ох. Интрига усложняется.
— Что делать будем? — спросил мальчик.
— У каждого замка имеется ключ.
Он пошел через двор от сарая туда, где родился, — в старый скрипучий фермерский дом, существенно не изменившийся за пятьдесят лет, с тех пор как отец его выстроил. То же крытое заднее крыльцо с тем же затхлым запахом подземелья, который он не любил в детстве и теперь не любит. Снова инструменты. Старый железнодорожный фонарь. Логотип кока-колы. В одном углу воздел к потолку руку улыбающийся деревянный полицейский, выпиленный лобзиком и вручную раскрашенный. Отец его выпилил вечность назад.
В самом доме пахнет так, будто запахи из двадцати разных кастрюль и дымящихся мисок образовали однородную смесь крахмала и жира. Войдя в гостиную с мальчиком в хвосте, мужчина — ничем не примечательный выходец из Новой Англии по имени Скотт Маст — прошел мимо какого-то куля на диване перед телевизором за батареей пустых коричневых бутылок. На экране хорошенькая блондинка в тесной футболке и поясе с инструментами рассуждала о полной перестройке столетнего федералистского дома. Когда она обмакнула кисть в краску и наложила первые мазки, существо на диване то ли рыгнуло, то ли всхрапнуло, переместив конечности на продавленных подушках. Скотт с мальчиком проследовали на кухню.
Конечно, будь жива мать, она ужаснулась бы до смерти безобразию, воцарившемуся после отцовских похорон. Но Элинор Маст пятнадцать лет покоится в могиле, погибшая в том же пожаре, который уничтожил внучатного дядюшку Бутча и еще десятки людей. Теперь похоронили отца. Вчера на поминках Оуэн начал уже заговаривать, что откажется от прокатного дома на колесах, где он живет с Генри, и переберется в старый дом. Скотт представил их обоих на кухне, вознаграждающих себя за долгие месяцы скудости размороженными кусищами мяса, сосисками из оленины, индейкой и клюквенным морсом.
Он вытащил с полки над раковиной банку с завинчивающейся крышкой, где гремели монетки, гвозди и шурупы, обрывки бумаги, куски проволоки, пустые нитяные катушки, вековой бесполезный хлам. Когда они с Оуэном были мальчишками, у матери в этой банке всегда шуршало несколько долларов на школьные завтраки, а летом на мороженое. Бумажные деньги давно испарились, осталось лишь самое звонкое и наименее ценное содержание, тускло поблескивавшее в дневном свете. Скотт перевернул банку вверх дном над плитой, роясь в липких пенни и двухцентовых марках.
— Что ты там делаешь, черт побери? — долетел вопрос из гостиной.
— Ничего. — Он повысил голос, но не оглянулся. — Ключ ищу.
Через секунду-другую в кухонной двери возник Оуэн, склонив набок голову, щурясь на Скотта из-под колпака черных, жестких, как солома, волос. В тридцать один он на три года младше брата, но выглядит старше, медлительнее. На нем черная футболка с логотипом виски «Джек Дэниелс», недостаточно длинная, чтобы прикрыть обвисший живот над спущенными на бедра джинсами. Он принес с собой запах пива, затхлой синтетической ткани, смешанный со старым знакомым запахом жевательного табака, который, попав в ноздри Скотта, вызвал дикое сочетание ностальгии и почти невыносимого отвращения. Оуэн сделал еще шаг, отмел мальчика в сторону, не отворачивая от брата припотевшее раскрасневшееся лицо.
— Какой ключ?
— От сарая.
— Да? — Он еще сильнее прищурился. — И что там?
— Ничего, — сказал Скотт. — Мы мяч потеряли. Он в окно попал…
— Шутишь? — Оуэн, в конце концов, заметил стоявшего между ними ребенка. — Генри, ты что натворил? Окно разбил? — Он с такой силой рванул мальчика за руку, что Скотт увидел, как его голова дернулась, зубы клацнули. У отца такая реакция вызвала только презрение. — Не прикидывайся. Вовсе не больно.
— Это я виноват, — сказал Скотт. — Это я бросил мяч.
— Да? — Оуэн слегка повернул к нему голову с легким восторженным изумлением. — И как же это вышло?
— Контроль потерял.
— Типично. — Он протянул руку, почесал ляжку. — Как я понимаю, считаешь, будто после смерти папы можешь расколотить все на хрен по собственной воле, упорхнуть из дома, ни о чем больше не беспокоиться, а?
— Брось, старик, — сказал Скотт. — До отъезда я вставлю стекло. — В ходе беседы он отыскал среди содержимого банки три возможных ключа и сунул в карман, потом сгреб остальное обратно, желая как можно скорее отделаться от брата.
— Обязательно, черт побери. Если папы не стало, это не означает, что можно разорить дом и уехать.
Не прекращая тирады, Оуэн шел за ним по коридору. Взгляд его упал на тащившегося рядом сынишку.
— А ты куда? У нас мужской разговор.
С грохотом обрушив за собой дверные жалюзи, он вышел за Скоттом на крыльцо, споткнулся на лестнице на пару ступенек позади него, маяча в периферическом зрении громоздкой неуклюжей тенью.
— Я, собственно, не про окно, — говорил он. — В сарае в любом случае наверняка нет ничего, кроме кучи всякого хлама. Вряд ли папа в последнее время туда вообще заходил.
Скотт понял: брат боится, как бы он не нашел там чего-нибудь ценного и не забрал себе.
— Я только мяч возьму.
— Куча дерьма, — повторил Оуэн. — Хоть никогда не знаешь, где повезет. Мне Стюарт Гарви рассказывал про одного парня из Нэшуа, у которого дед в одночасье умер от удара, а потом он нашел в амбаре восемьдесят тысяч долларов наличными в кофейных банках, засунутых в дыры под полом. — Он тихо присвистнул. — Восемьдесят кусков, представляешь?
Скотт попробовал вставить в замок первый ключ — близко даже не подошел. Второй еще крупнее — никакой вероятности. Остался маленький медный ключик. Он сунул его в скважину и ладонью почувствовал охотный пружинистый отзыв внутреннего механизма. Только успел снять замок, как Оуэн ринулся мимо него, широко распахнул створку, откуда по полу протянулась расширявшаяся трапеция дневного света, и ворвался в сарай. После минутного бездыханного молчания на лице быстро разлилось разочарование, охватывая все тело по мере того, как прямо на глазах таяла надежда на неожиданное обогащение. Судьба вновь обманула его.
— Сплошной хлам, — снова буркнул он, сердито оглядывая старые инструменты, заржавевшую тачку, приткнувшуюся к стене, газонокосилку и грабли, шлакоблочные кирпичи, мешки с мульчей, пакеты с семенами. — Что я тебе говорил?
— Угу.
Присев на корточки, Скотт обнаружил мяч на нижней полке голого верстака, который отец оборудовал у задней стены сарая. А когда потянулся за ним, в глаза бросилось нечто, полностью затмившее всякую мысль о мяче.
— Что там? — спросил за спиной Оуэн, мгновенно учуяв заинтересованность брата. — Нашел что-нибудь?
Скотт, по-прежнему на корточках, потянулся, уткнулся в угол верстака плечом в качестве рычага, вытащил на обозрение тяжелый прямоугольный предмет. Это была старая конторская пишущая машинка стального линкорного цвета с круглыми черными клавишами. Он пробежался по ним пальцами, нащупывая под шелковистым слоем пыли сверкающий бакелит.
— Обалдеть, — хмыкнул Оуэн, не скрывая разочарования. — И больше ничего?
Скотт полез глубже. В углублении в стене за тем местом, где была машинка, разглядел пачку связанных бечевкой листов. Пачка, как и машинка, оказалась тяжелее, чем ожидалось. Только вытащив ее, он понял, какая она толстая — как минимум два дюйма толщиной, отягощенная влагой, впитанной за невесть сколько лет. Пачка так разбухла и перекосилась, что первый лист свернулся в трубку. Скотт разгладил его и прочел:
Фрэнк Маст
ЧЕРНОЕ КРЫЛО
Он поднялся. Оуэн в углу завершал бесцельный осмотр штабеля деревянных ящиков для яблок.
— Папа об этом тебе никогда не рассказывал? — спросил Скотт.
Оуэн даже не посмотрел.
— О чем?
— Тут какая-то рукопись. Под его именем. — Он пролистал страницы, пронумерованные в верхнем правом углу. Последней была сто тридцать восьмая. Печать до самых полей через один интервал. Некоторые слова зачеркнуты, между строчками вписаны поправки от руки. — Даже не помню, чтобы он когда-нибудь что-то писал.
— Кто знает. — Оуэн выпрямился, вытер руки о джинсы. — После смерти мамы папа выкидывал кучу диких фокусов. Разъезжал по округе без всякого смысла. Фрэнк Уиппл мне рассказывал, как он пару месяцев тому назад у него на глазах припарковался у старой заправки и пытался заправиться из телефонной будки.
Последовали дальнейшие воспоминания, но Скотт не слушал. Стиснул в руке пачку, сунув указательный палец под аккуратно завязанную бечевку, вышел на дневной свет из сарая. Во дворе уже было прохладней, свет косо падал меж голых ветвей, еще кусочек осени уходил безвозвратно в тень кончавшегося года. Дойдя до середины двора, он увидел Генри, стоявшего на крыльце, так и не снявшего кожаную перчатку, и тут только сообразил, что забыл мяч в сарае. Когда снова взглянул на крыльцо, мальчика там уже не было.
— Куда делся Генри?
— А черт его знает. Парень весь в мать пошел. Никогда не знаешь, что делает, и в половине случаев он сам не знает. — Вернувшись в дом, Оуэн бросил взгляд на часы над камином. — Без пятнадцати четыре. Не рано хлебнуть чего-нибудь холодненького?
— Почему бы и нет?
Оуэн вытащил из холодильника две звякнувшие бутылки светлого пива и со стуком поставил на стол. В ящике, который Скотт привез домой в день похорон, осталось всего три бутылки. Остальное вылилось в младшего брата непрерывным ячменным потоком, который, видно, его и поддерживал все это время. Где бы он ни сидел, вокруг собирались пустые бутылки, как друзья, которым нечего больше сказать.
— Ужинать нынче все-таки будем? — спросил Оуэн. — Последний семейный ужин перед твоим отплытием…
— Конечно. — Приехав на похороны, Скотт каждый день возил брата с племянником куда-нибудь ужинать. Теперь в городе выбор гораздо больше, чем во времена его детства: «Пантри» на Мейн-стрит, «Фуско» и «Капитан Чарли» — заведеньице в ближнем пригороде, специализирующееся на стейках и морепродуктах, где к заказу до сих пор прилагается бесплатная жареная картошка.
— Здорово, черт побери! — осклабился Оуэн. — Радостный час в «Фуско» наступит через пятнадцать минут. — Заранее вдохновленный перспективой бесплатной вечерней выпивки, он схватил пачку бумаг со стола, перебрал листы, как страницы непристойного журнала. — Значит, старик вообразил себя Стивеном Кингом, а? — Рукопись тяжело шлепнулась на стол, бутылка Скотта содрогнулась. — Надо почитать.
— Может, он хотел сохранить это в тайне. — Скотт взял пачку, сунул под мышку, вышел с кухни, поднялся по лестнице в комнату наверху, где расположился на этот раз — Оуэн сразу пресек претензии на спальню, которую они делили в детстве, — вытащил из комода бумажник, постоял, огляделся в последний раз.
В ушах и в памяти гудят воспоминания. В детстве здесь была швейная мастерская матери, капитанский мостик, с которого она долгие годы руководила благими намерениями горожан. Полностью уравновешивая отцовскую замкнутость, говорливая и открытая Элинор Маст была организатором и добровольцем, устраивала бесконечные продуктовые распродажи и сборы пожертвований для пожарной команды Милберна, умудряясь как-то выкраивать время на шитье ради получения дополнительных средств. В городе ее до сих пор считают народной героиней. Вчера на похоронах отца Конрад Фолкнер, репортер «Кроникл», вспомнил в разговоре со Скоттом, что почти наступила пятнадцатая годовщина ее смерти при пожаре в кинотеатре «Бижу». Заметив страдальческое выражение его лица, поспешил сменить тему: «Кстати, насчет „Бижу“. Знаешь, вроде бы кто-то, в конце концов, выкупил это старое бельмо на глазу. Может, что-нибудь путное сделает. Странные вещи творятся, правда?»
Скотт оглядел швейную мастерскую, слыша, что дышит чаще и тяжелее. Прошлое здесь, не уходит отсюда. На встроенных полках возле окна по-прежнему стоят желтоватые папки с выкройками Зингера, рядом облезлый манекен, в углу старомодная швейная машинка, которая закладывается в плоский столик. Между ковром и стенками забились крошечные обрывки тканей.
— Эй, братан, готов? — проревел Оуэн с нижней лестничной площадки масленистым от новой выпивки голосом. — Тебя ждут голодающие.
— Иду, — ответил Скотт.
Спускаясь, почуял, как грудь напрягается, расширяется, раскрывается от не сразу разгаданного ощущения. Только на полпути к городу распознал облегчение. Старая привычка — как только отсылаешь прошлое в зеркало заднего обзора, неизменно чувствуешь, что спас свою жизнь.
Глава 2
Через два часа Скотт вез их домой в фургоне Оуэна неопределенного возраста. Казалось, поцарапанные и помятые бока несчастного «форда», словно врезавшегося в дерево, чуть подкрашены лишь для того, чтобы машина была на ходу. Оуэн отключился на пассажирском сиденье, привалившись щекой к стеклу, а Генри сидел, втиснувшись между ними, сложив на коленках маленькие руки, глядя в лобовое окно с разбившимися насекомыми. За ужином он едва проглотил кусочек чизбургера и не сказал ни слова, кроме ответов на обращенные непосредственно к нему вопросы Скотта по поводу школы и недавно просмотренных фильмов.
— Завтра уезжаешь, — сказал он наконец.
Скотт кивнул:
— Утром.
— Почему тут не можешь остаться?
— Надо вернуться в Сиэтл.
— Почему?
— Там мой дом.
Мальчик замолчал, бессильный перед логикой.
— Я бы с тобой поехал, — тихо вымолвил он, как бы опасаясь, что отец услышит. — С тобой жил бы.
— Думаешь, тебе там понравилось бы?
Генри подумал и кивнул.
— Не слишком дождливо?
— Люблю дождик.
— Вряд ли твой папа его тоже любит.
Фактически, впервые увидев племянника, Скотт думал почти только о том, что было бы, если б Генри был сыном не брата, а его собственным. В картину вписывается и мать — местная девушка, дочь чьей-то горничной, не проявлявшая ни малейшего интереса к ребенку. Насколько известно, брат, униженный и разъяренный ее уходом, либо прикидывается, будто мальчика вовсе не существует, либо ругает его за лень, неуклюжесть и дерзость.
Пару раз за последние четыре дня, как правило уже подвыпив, он с грубой аффектацией обнимал сына, неловко тискал, запечатлевал пивной поцелуй, вызывая осторожную улыбку на детском личике, прежде чем утрачивал интерес и переключался на экран телевизора. Потом мальчик сидел со Скоттом на диване или на полу, глядя на отца чистыми глазами без всякой сентиментальности, любя, но никогда полностью не доверяя.
Скотт свернул на подъездную дорожку, остановил машину. Тишина, сменившая рев мотора, разбудила Оуэна.
— Спасибо за ужин, братан, — пробормотал он, вылез из кабины и побрел к родительскому дому.
Скотт и Генри двинулись следом. Казалось, мальчик хочет что-то сказать, только сам не знает, что именно. Послышалось, как в гостиной включился телевизор, заскрипели пружины дивана, секунд через десять раздался сладкий раскатистый храп.
— Хочешь подняться, помочь мне собраться? — спросил Скотт, и Генри пошел за ним в швейную комнату, уселся на односпальную койку, свесив ноги. Что-то было у него на уме, выжидало момент, чтобы сорваться с губ.
— Дедушка был сумасшедший? — спросил он. — Когда умер…
— У него была болезнь, при которой многое забывается.
— Альцгеймер?
— Правильно. — Поначалу Скотта изумляла способность племянника с первого раза запоминать услышанное, теперь он видел в этом просто какую-то необъяснимую космическую причуду. — Люди с болезнью Альцгеймера практически не могут о себе позаботиться. Уходят из дома, не помнят, где живут, забывают принимать лекарства…
— Папа говорит, дедушка часто плакал.
Скотт помолчал, взвешивая ответ.
— По-моему, ему было очень тяжело после смерти твоей бабушки. Думаю, он почти все время чувствовал себя растерянным и одиноким. Это и взрослые не всегда понимают, но бывают моменты, когда лучше уйти из жизни, обрести покой, даже причинив боль своим близким.
— Наверно. — Генри уставился мимо него на ноутбук на швейном столике. — В твоем компьютере игры есть?
— Должны быть.
В действительности, заказав билет на самолет в Нью-Гэмпшир на похороны, Скотт в тот же день закупил десяток игр для детей младшего возраста и терпеливо одну за другой ввел в компьютер. Генри отыскал любимую — про охотящихся акул-роботов на скоростной лодке — и уселся играть.
В десять часов, зевая, слез с кресла, улегся на надувной матрас, на котором Скотт провел последние бессонные ночи, сразу перевернулся на живот, глубоко засопел в подушку, закинув руку за голову. Скотт сбросил с ног тапочки Оуэна, накинул одеяло на плечи, помедлил, наклонился, поцеловал мальчика в щеку над засохшим пятном от кетчупа.
Наконец, увидел у себя в руках рукопись под именем отца, снова хмуро задумался над листами и их возможным содержанием. Выдвинул ящик швейного столика, вытащил старые материнские ножницы и разрезал бечевку. Давно связанные страницы рассыпались с почти явственным вздохом.
Перевернул титульную страницу, вгляделся в первые печатные строчки:
Глава 1
Снаружи дом выглядел абсолютно нормально.
«Эти слова написал мой отец», — подумал Скотт, и по телу до кончиков пальцев пробежал ток низкого напряжения. Сам того не сознавая, он продолжал читать:
Они шли к нему через лес по проселочной дороге целую милю, и Фэрклот ничего толком не видел, пока агент по продаже недвижимости не остановился, отпирая железные ворота. Дом представлял собой усталый пережиток старых времен — как минимум столетней давности, — с распростертыми крыльями, слуховыми окнами, портиками, пристроенными впоследствии, как бы спохватившись. Красоты никакой, но цена подходящая, что само по себе исключительно.
Впрочем, внутри совсем другое дело.
Агент отступил, предоставив Фэрклоту возможность побродить по прихожей, где что-то привлекло его внимание.
— Посмотрите на углы, — сказал он, ткнув пальцем.
Агент улыбнулся, готовый к подобному замечанию.
— А что?
— Они круглые. — Фэрклот прищурился на соединения стен с потолком, образующие не прямые углы, а плавные кривые. Взглянул на пол — он тоже перетекал в стены без четкой демаркационной линии.
— Почти никто сразу не замечает, — сказал агент. — Вы очень наблюдательны, мистер.
Фэрклот не считал себя особенно наблюдательным, но поддался на лесть, продолжая осматриваться.
— Осмотрите что угодно, — предложил агент. — Во всем доме не найдете ни одного угла и прямой. Причуда архитектора. Уникальный эффект. Если воспользоваться плотницким уровнем, окажется, что стены, потолки, даже подоконники и дверные рамы слегка выгнуты наружу. Отсюда и название.
— Какое?
— Круглый дом.
Фэрклот хмыкнул. Войдя в столовую, увидел перед собой дверь, которой здесь, казалось бы, не место. Помедлил перед ней, взялся за медную ручку и замер. Несмотря на волны августовской жары, когда температура в тот день в этой части Нью-Гэмпшира превысила девяносто градусов,[1] ручка была ледяная.
— Что там? — спросил он.
Агент ответил не сразу. Возможно, отвлекся, задумался, не сразу собравшись с мыслями.
— Там? Думаю, очередной стенной шкаф. Я туда не заглядывал.
Фэрклот повернул ручку, открыл дверь, уверенный, что увидит встроенный шкаф с круглой металлической перекладиной с забытыми проволочными плечиками, с верхней полкой, застеленной старой газетой, или просто другое округлое подсобное помещение.
Но это был не шкаф.
И не подсобка.
За дверью лежал длинный узкий коридор с черными потолками и стенами. Казалось, он тянется футов на двадцать и более, пока решительно не упирается в плоскую черную стену. Там не было ни свечных канделябров, ни осветительных приборов, но в естественном солнечном свете, лившемся из столовой за спиной, ясно видно, что в коридоре нет ни окон, ни дверей. Он просто идет сам по себе, а потом останавливается.
— Очень странно, — заметил агент, стоявший у него за плечом.
Фэрклот вздрогнул, оглянулся, слегка устыдившись подобной реакции.
— Что?
— Снаружи этого крыла не заметно.
Фэрклот, не трудясь отвечать, шагнул в коридор, уверенный, что с первого взгляда попросту не разглядел закрытого окна или двери. Коридор без окон и освещения неудачно спланирован, но коридор без дверей не имеет никакого смысла, даже в необычайно причудливом Круглом доме.
Но дверей не было. Он прошел по всей длине крыла, проводя пальцами по гладким стенам, проверяя, не замуровали ли двери прежние владельцы, оштукатурив их сверху, однако ничего не нащупал. Можно подумать, этот придаток выстроен с единственной целью — стоять закрытым, отрезанным от остального скорбного старого дома.
«Еще чуть почитаю, — решил Скотт в тихой швейной комнате, — и лягу». Перевернул страницу, глаза забегали по строчкам.
Глава 3
В половине пятого утра Скотт перевернул последнюю страницу отцовской рукописи, отложил в сторону, встал, потянулся, размял затекшие ноги, по которым бегали мурашки, поднял на руки Генри, понес в его комнату, даже не задумываясь о том, что делает. Он был еще полностью погружен в мир, описанный отцом.
Действие происходит в 1944 году. В «Черном крыле» изложена история Карла Фэрклота, контуженного солдата, который рано вернулся домой из Европы, работал в механической мастерской своего престарелого отца, обручился с Морин, кассиршей местного торгового банка. Скопив кое-какие деньги, он решил купить дом для себя и будущей жены. Старый дом в лесу за городом, Круглый дом с причудливым отсутствием углов и с загадочным потайным крылом — длинным черным коридором без окон, без дверей, — показался единственным приемлемым вариантом.
Недолго прожив в Круглом доме, Фэрклот с женой начали слышать странные звуки из потайного крыла за столовой — иногда царапанье, будто какой-то зверь пытался вырваться на волю, иногда жалобные стоны. Произведя осмотр, супруги обнаружили, что коридор стал длиннее и круглее прежнего. Крепко выпив и жарко поспорив однажды вечером, они почувствовали себя детьми, попавшими в волшебную сказку, которым одновременно страшно и весело. Неопределенность, которую они чувствовали, отразилась на семейной жизни и другим образом. Убедившись, что Морин закрутила любовь со служащим кредитного отдела банка, Фэрклот запил крепче, что усугубляло ревность, вызывая безмолвные удушливые приступы ярости. Пока рушились супружеские отношения, его все сильнее и чаще тянуло в коридор без окон, без дверей, к тихому беспорядочному царапанью, доносившемуся оттуда, когда он лежал без сна в двуспальной кровати в кружившейся вокруг него комнате, ожидая возвращения жены.
Однажды вечером в ожидании Морин Фэрклот, допившись почти до беспамятства, добрался, шатаясь, до своего старого сундучка, развернул промасленную тряпку, в которой лежал «люгер», украденный у убитого немецкого солдата и контрабандой провезенный на родину. Когда он сидел в столовой за столом, заряжая обойму, дверь в черный коридор щелкнула и приоткрылась, выдохнув страшно холодный воздух. Фэрклот содрогнулся и поднял глаза.
На этом рассказ заканчивался.
Сначала Скотт был уверен, что тут какое-то недоразумение. Несмотря на поздний час, он на секунду реально собрался вернуться в сарай с фонарем отыскать остальное. Остановила не перспектива опять обуваться и сметать с лица паутину, а необъяснимое убеждение, что ничего больше нет. Откуда-то точно известно, что отец остановился на этом.
Когда лишился рассудка.
Мысль ударила молнией. Значит, рукопись недавняя, написана в последние годы, когда в душу и сознание пустило корни старческое слабоумие. Невероятно, быть такого не может. Почти столь же невероятен тот факт, что отец вообще это все написал, — в конце концов, Фрэнк Маст был городским электриком, сдержанным, немногословным мужчиной с чисто утилитарным отношением к языку.
И еще.
Само по себе отцовское сочинение хорошее. Чертовски хорошее, пронизанное неотвратимой, живой, раскаленной до белого каления болью, словно изливающейся из старческой раны. Реально описана ситуация в честной попытке изгнать демонов из души, доведенной сознанием вины до безумия.
Скотт поступил в колледж, чтобы стать писателем. Посещал бесчисленные семинары, терпеливо выслушивал нескончаемые потоки плохой прозы, собственной и чужой, торчал в кафе с компьютером, стуча по клавишам, ни разу не доведя до конца хоть что-нибудь существенное. Его наброски отличались неудачными деталями, отсутствием конкретной основы, дурными персонажами, которые слишком много курят и пьют в ожидании каких-либо событий. Сочинения редко — а то и вообще никогда — становились реальными, отбрасывались и забывались, не получая завершения вместе с его задуманной литературной карьерой.
Он лег на надувной матрас, закрыл глаза, крепко заснул без сновидений. Разбудил его утренний свет — на часах почти девять. В полдень у него самолет из Манчестера, до которого отсюда полтора часа езды. Скотт принял душ, почистил зубы, уложил одежду, в последний момент схватил листы рукописи, затолкал в чемодан, поспешно, как вор, застегнул «молнию», расстегнул, снова вытащил и уставился на бумаги, чувствуя себя смешным. Рукопись не его. Но хочется забрать ее с собой.
С пачкой в руках он спустился по лестнице, завернул за угол и увидел стоявшую на кухне женщину.
— Доброе утро, — сказала она. — Кто-нибудь дома?
Женщина была в черном свитере, облегающих джинсах, в руках большая коробка с тортом. Его сразу же потрясло ощущение, что он ее уже где-то видел. Выразительные карие глаза — с первого взгляда можно сказать, глаза жительницы большого города, одновременно невинные и настороженные, вооруженные против любых потенциальных влияний злой воли.
Только тут стало ясно, кто это такая.
— Соня…
— Привет, Скотт.
— Привет. Ох… — Он стоял, моргая, подыскивая слова, понимая, что их обязательно надо найти. — Страшно рад тебя видеть.
— И я тебя тоже.
— Я не знал, что ты здесь. — Губы дико дрожали, как бы существуя отдельно от лица, словно только что обожженные куском исключительно жгучего перца.
— Надеюсь, не возражаешь, что я вошла. Дверь была открыта.
Теперь губы онемели, будто перец был ядовитым.
— Нет, конечно. — Интересно, когда ситуация перестанет казаться нереальной? — Как поживаешь?
— Неплохо.
— Потрясающе выглядишь.
Возможно, не надо бы говорить так легкомысленно и небрежно, учитывая обстоятельства. Соня постояла минуту, внимательно его разглядывая, как будто приняла комплимент за некий неуклюжий тактический прием торговых переговоров.
— Прими мои соболезнования, — сказала она. — Я слышала о смерти вашего отца…
— Спасибо.
— К сожалению, мы не смогли присутствовать на похоронах. Врачи прописали папе постоянный постельный режим. Помнишь моего папу?
— Конечно, — кивнул Скотт, смутно чувствуя себя топчущимся за кулисами плохим актером, не прочитавшим роли, и начиная понимать, что это ощущение исчезнет не скоро.
— У него рак легких в последней стадии, теперь уже немного осталось. Знаешь, как это тяжело. — Она сделала вдох, задержала дыхание, видимо подбирая возможные фразы и ни одной не одобряя. — В любом случае… слушай, я совсем не хотела тебя огорчать, особенно сейчас. Не знаю, как ты себя чувствуешь, просто думаю, страшно видеть обратное превращение родителей… в младенцев.
— Собственно, я не совсем хорошо знал своего отца. — Никогда прежде Скотт не произносил вслух ничего подобного, никогда сознательно так не думал, и вдруг вылетело невозможное признание, которого назад не возьмешь. — После смерти мамы все остальное… В то время я был в другом месте, занимался другими делами. — Беспокойные пальцы вцепились в локти. — Надо было связаться с отцом, позвонить, прилететь, да все времени не было.
— Понимаю.
— А ты… — Надо хотя бы взглянуть на коробку с тортом, да глаз от лица оторвать невозможно. — Я как раз шел заваривать кофе. Выпьешь?
— С удовольствием.
В гостиной скрипнула половица, как гвоздь, вырванный из ржавой трубы. Скрип повторился, фактически зазвучал целый хор, будто некий гигант бессмысленной величины пробовал пол на прочность, и из-за угла вывернул Оуэн в футболке и джинсах, почесывая подмышку и щурясь на свет. У него была безразмерная черепная коробка и бугристое разбухшее лицо.
— Лучше еще порцию приготовь.
— Оуэн, ты ведь помнишь Соню Грэм…
Тот фыркнул. Скотт взглянул на Соню, желая получить объяснение. Не понимая, что прошлое слишком легко вернулось, молча смотрел, надеясь услышать правильный внятный ответ. И не ошибся.
— Я работаю в баре «Фуско», — объяснила она. — Три дня в неделю по вечерам. Там и услышала, что ты в городе.
— В «Фуско»? — нахмурился он. — Мы же там вчера вечером были.
— Я вчера не работала. Лиза сказала, что вы приходили. — Соня покосилась на Оуэна. — Твой брат, видно, забыл сообщить.
— Эй, я думал, всем известно о возвращении ангелочка с открытки, — объявил Оуэн с чрезмерно красноречивым жестом. — Притча во языцех для всего города.
Соня вопросительно вздернула бровь.
— Долгая история, — сказал Скотт.
— Он большой уже, — буркнул Оуэн. — Может сам о себе позаботиться. Точно так же, как ты. — И спросил с искренним интересом: — Чего там у тебя?
— Шоколадный торт. — Соня протянула коробку.
— Высший класс, будь я проклят, — кивнул Оуэн. Похмельная улыбка на помятом лице казалась неподдельной, и Скотт словно впервые понял, как Соня Грэм действует на людей, заставляя их вольно или невольно проявлять свои лучшие качества. — Оставьте кусочек, я сейчас вернусь.
Соня улыбнулась:
— Советую поторопиться.
Он затопал по лестнице, через минуту послышался обмен репликами с Генри, доносившийся, видимо, из старой общей братской спальни, где мальчишка разглядывал обтрепанные комиксы, найденные в коробке под кроватью. Тем временем Скотт с Соней остались наедине, оба не знали, о чем говорить, она не сводила глаз с пачки листов, лежавшей на столе.
— Что это?
— Рукопись.
— Твоя?
Он покачал головой:
— Хотелось бы. Отцовская. Я в сарае нашел.
— «Черное крыло», — прочитала Соня. — Твой отец сочинял?
— Я даже никогда и не думал, однако…
— Хорошо написано?
— Хорошо, — сказал Скотт, — только не до конца.
— Он так и не дописал?
Скотт снова тряхнул головой, встал, принялся заваривать кофе. Через минуту спустились Оуэн с Генри, Соня обоим отрезала по треугольному куску шоколадного торта. Генри пил апельсиновый сок, внимательно разглядывая картинки захваченного с собой комикса, Соня с Оуэном оживленно обсуждали правила приготовления настоящего коктейля «Маргарита».[2] Скотт старался не глазеть на нее, хотя это было почти невозможно, особенно когда она на него оглядывалась с улыбкой, заправляя прядь волос за ухо, поворачивалась на стуле, задевая его под столом коленом.
— Эй, братан, — сказал Оуэн, — на самолет не опоздаешь?
— Всегда можно перерегистрироваться на другой рейс.
— Придется заплатить лишнее, — заметила Соня. — Когда твой самолет? Куда летишь?
— В Сиэтл.
— Большой город.
— Ну да, а мы тут остаемся, — вставил Оуэн, стряхивая крошки со щетинистого подбородка. — Спроси, сколько заплачено вот за эти ботинки. Давай спроси. При этом сукин сын, жмот, не разорился на прокатную машину. Рассчитывает, что я повезу его через весь штат, как обычный шофер.
— Я могу отвезти, — вызвалась Соня.
— Что за глупости. — Лицо Скотта вспыхнуло от смущения, как под солнечной лампой. — Вовсе не обязательно.
— Ты рехнулся, старик? Пусть везет. — Оуэн уже направился за своим поясом с инструментами, оставляя их втроем на кухне. — Кое-кому и на жизнь зарабатывать надо. Генри, собирай барахло, и покатим.
Мальчик пристально смотрел поверх книжки на дядю, как бы опасаясь, что он попытается ускользнуть не попрощавшись. В тот миг в воображении Скотта нарисовалась краткая, но в высшей степени заманчивая картина жизни с Генри. Места в доме много, он позволил бы племяннику обставить комнату по своему усмотрению, ездил бы с ним на рынок «Пайк-Плейс», на гору Рейнир, по выходным они ходили бы в горы, плавали на пароме на острова в заливе Пьюджет-Саунд, смотрели на китов.
— Иди сюда. — Он поднял мальчика со стула, крепко стиснул. — Вы с папой приедете ко мне на Рождество, ладно?
Генри тоже изо всех сил его обнял, прижался головой к плечу, кивнул.
— Будь осторожен, смотри за собой, — сказал Скотт.
Возьми его. Очень просто: хватай и беги.
Но Генри уже поцеловал его, обхватил, послушно отпустил, чуя детским чутьем, что сделка состоялась. Скотт выглянул в коридор и крикнул:
— Оуэн! Я поехал.
— Пока, — гулко прозвучал голос брата. — Передай от нас привет прекрасным людям.
Соня заморгала, явно озадаченная краткостью прощания, но Скотт ничего другого и не ожидал. Члены его семьи никогда не умели прощаться. Даже мать, которая никогда не забывала расцеловать сыновей в щеки перед уходом в школу, в конечном счете не нашла лучшего способа попрощаться, чем умереть.
Глава 4
Они ехали по городу в безупречно ухоженной «королле» Сони. Она переключала радиоканалы, легонько держа пальцами руль, управляла машиной легкими точными движениями, не глядя на дорогу.
— Сколько лет ты здесь не был?
— Пятнадцать.
— После похорон матери?
Скотт кивнул и задумался, не означает ли это, что смерть — единственный неотразимый повод вернуться в прошлое. Соня, кажется, отвлеклась, погрузилась в собственные мысли. Перед машиной выскочила жирная белка, проскакала через дорогу, зарылась в кучу сухих листьев. В ярко освещенной дали проплыла струйка древесного дыма, аромат яблок уравновесил едкий запах. Запахи и визуальные представления обрели необычную четкость, и Скотт вспомнил, что сегодня — и вчера, если на то пошло, — не принимал таблетку.
— А ты давно вернулась?
— Почти два года назад.
— Не пошла в юридическую школу?
— Бросила колледж Лойолы после второго курса… — Соня вытащила из держателя на дверце стаканчик с кофе, хлебнула, поставила обратно. — Временно. Из-за болезни отца.
— Правильно, — сказал он, и оба вновь замолчали.
— А на тебя любо-дорого посмотреть. — Она окинула его быстрым взглядом с макушки до ботинок, как бы сняв мерку. — У тебя-то все в полном порядке.
На лбу выступили первые едкие капельки пота. Салон автомобиля вдруг стал слишком тесным. Не надо было с ней ехать, поддаваться мимолетному внутреннему трепету при новой встрече, не подумав о намеках, которые неизбежно возникнут в беседе за полтора часа пути. Ну, теперь ничего не поделаешь.
— Ты всегда хотел стать писателем, — напомнила Соня. — Стал?
— Пишу тексты для поздравительных открыток.
Она кивнула:
— Ангелочек с открытки? Теперь поняла.
— Однако удается писать и кое-что свое. — Скотт постарался слегка сгладить чистую ложь и добавил: — Правда, сейчас почти нет времени. Честно сказать, «Рэндом Хаус»[3] в дверь не стучится.
— Ладно, не переживай, — сказала она. — Уже хорошо, что тебе платят за то, что ты пишешь. Кому это когда-нибудь удавалось?
— Ну, я пока еще не написал великий американский роман.
Соня криво усмехнулась.
— Разносить пиво не совсем то же самое, что охранять закон. Только, по-моему, не всегда получается так, как хочется.
— Да, пожалуй.
Молчание вновь затянулось на многие мили, и стало еще тяжелее. Скотт чувствовал, как между ними сидит прошлое, вроде пешехода, голосовавшего на дороге и подсаженного в машину. Должно быть, это абстрактное ощущение внушило очередную мысль, которая пришла в голову и уже не уходила.
— Не возражаешь сделать небольшой крюк по пути к аэропорту?
Соня нахмурилась:
— А самолет?
— Успею.
— Уверен?
Скотт кивнул:
— Сейчас налево, дальше прямо.
Через полмили дал следующие указания, гадая, догадалась ли она о цели. Если и догадалась, то промолчала. Шоссе сменила грязная проселочная дорога, которая шла вверх и вниз без каких-либо знаков и указателей, кроме попадавшихся время от времени почтовых ящиков, и доходила до перекрестка, отмеченного только черными следами автомобильных шин и ярко-желтой смолой на сломанном дереве.
— Это здесь твой отец… — Соня на полуслове умолкла.
— Да.
Он вылез с легкой дрожью, жалея, что забыл принять таблетку, но не желая вытаскивать пузырек у нее на глазах. Под подошвами на обочине скрипел мелкий песок. Все, что осталось от отца, — пара черных следов от колес, осколки разбитого лобового стекла и погибшая сосенка. Тут вдруг вспомнилась рукопись, другие следы на пустой поверхности, на другой мертвой древесной пульпе. Взгляд под другим углом вернулся к проселочной дороге, ответвляющейся от главного шоссе. Что здесь делал такой человек, как Фрэнк Маст?
То ли действительно сверкнуло старое железо, спрятанное в лесу за сто ярдов отсюда, то ли померещилось. Скотт вернулся к машине, махнул рукой на дорогу:
— Давай туда.
— Зачем?
— Хочу посмотреть. — Уселся, наблюдая за Соней, и в тот самый момент частичка прошлого странно вклинилась в настоящее. — Не возражаешь?
Она, пожав плечами, медленно двинулась дальше по плохой дороге, помня о подвеске и днище, которое скрежетало на кочках. Деревья сгущались, нависали над дорогой, ветви сосен шуршали по крыше, как метла по металлу. Через несколько минут Скотт увидел старые ворота, стоявшие на своем месте, частично скрытые сосновой порослью. Они были распахнуты настежь, словно последний посетитель не успел их закрыть за собой. Он разглядывал их, проезжая; проехав, оглянулся.
Потом впервые увидел дом.
Глава 5
Дом стоял сам по себе, смотрел на них с поляны между деревьями. Одни части в три этажа, а другие в четыре; кажется, если идти по периметру, он будет гораздо длиннее ожидаемого. Крылья и купола расположены не вполне упорядоченно, пристройки как бы сооружались впоследствии. В результате получилась бесформенная, нескомпонованная постройка, с виду достаточно большая, чтобы в ней заблудиться.
«Гладкость там, где должны быть углы, — писал отец, — углы там, где должна быть гладкость».
— Настоящий, — сказал Скотт больше себе, чем Соне, выходя из машины.
— Что?
— Круглый дом. В точности соответствует описанию.
Сделав несколько шагов по направлению к дому, он поднял глаза и почуял упавшую на нос дождинку. Небо над верхушками деревьев снизилось, запестрело, слышалась угроза ливня, звучавшая из окружавшего леса.
Перед самым дождем Скотт прошел по запущенному газону к парадному. Старое дерево в крытом портике молчало под ногами. Из почтового ящика торчала хрустящая, скрутившаяся в свиток рекламная листовка, которая наверняка рассыплется в пыль, если к ней прикоснуться. В нее воткнута выцветшая визитная карточка местного агентства недвижимости. Он ее вытащил, сунул в карман, оглянулся на машину. Присутствие рядом Сони, всего в пятидесяти ярдах, ободряет. То ли из-за поляны, то ли из-за внезапной осенней непогоды расстояния увеличились, перспектива исказилась, будто огромные размеры дома создавали собственное гравитационное поле. Выражения женского лица не разглядеть сквозь дождь.
Скотт потрусил обратно к машине, сел на место.
— Насквозь промок, — заметила Соня. — Что тебя интересует?
— Дом. Его описал мой отец в том рассказе. Я думал, это выдумка, а он действительно существует. — Скотт увидел, как покраснела ее шея, вспыхнув на фоне темных волос. — Что?..
— Ничего, — ответила она. — Надеюсь, у тебя найдется сухая одежда для полета.
Он набирал телефонный номер с визитки.
— Кому звонишь?
— Риелтору.
— Серьезно?
— Интересно внутри посмотреть.
— На самолет не хочешь успеть?
Он хотел успеть на самолет. Только в данный момент абсолютно об этом забыл.
Маркетта Лютер, агент по продаже недвижимости, прибывшая открыть для него двери дома, представляла собой невозмутимую афроамериканку лет сорока пяти, с черным зонтом, в практичных черных ботинках. Женщина совсем не того типа, который Скотт привычно связывал с этим районом Нью-Гэмпшира, и если бы все его внимание не было обращено на дом, трудно было бы удержаться от вопроса, как она тут оказалась.
Молотивший по поляне дождь утих к ее приезду, но воздух оставался абсурдно ледяным, пробираясь под одежду к мокрой коже. Челюстные мышцы ныли от напряжения, сдерживая стучавшие зубы. Поднявшись на крыльцо, Скотт с Соней ждали, пока Маркетта, согнув правую ногу в колене, счищала с подошвы прилипшие листья.
— Собственно, надо еще просмотреть наши листинги,[4] — сказала она. — Я даже не знала про этот дом, а работаю в агентстве уже шестнадцать лет. — Вытащила из сумки ключ с привязанным бумажным ярлычком, попробовала отпереть дверь, и ничего не вышло. — Странно. Ключ точно отсюда. — Она вынырнула из темного портика, разглядывая бирку.
Скотт протянул руку, толкнул створку. Она щелкнула и легко открылась без всякого сопротивления.
— Похоже, открыто.
— Шутите!
Соня позади недоверчиво хмыкнула и показала жестом: «После вас». Почти посмеиваясь над предчувствием, что он движется к своей судьбе, Скотт шагнул в прихожую.
Отчасти — может быть, большей частью — он надеялся попасть в грязь и сырость, в груды разбросанных старых газет, залитых водой, в окружение старой, ободранной мебели, в паутину и толстые слои пыли среди разбитых окон. Но воздух был сухой, голые доски пола в прихожей и смежной с ней комнате будто только что вымыты. Рядом с открытой гардеробной стоял под окном огромный металлический радиатор, свернувшийся питоньими кольцами.
— Боже, только посмотрите на эти полы, — охнула Соня. — Интересно, сколько им лет?
Маркетта заглянула в бумаги:
— Дом выстроен в восемьсот семидесятых годах.
— Владельцев, случайно, не знаете? — спросил Скотт, направившись в другую сторону и сообразив, что сам не знает, куда идет.
— Давно пустой стоит. Действительно, мне надо было сюда заглянуть.
— Как ты его назвал? — обратилась Соня к Скотту. — Круглый дом?
— Так он назван в отцовском рассказе. — Он кивнул на стены. — Видите?
Маркетта Лютер долго разглядывала потолок, перевела взгляд на пол, на дверь, присела, ощупала дверную раму:
— Как странно… Кругом все кривое, да?
— Угу, — буркнула Соня.
Скотт на нее оглянулся:
— Что? Не нравится?
— Напоминает кое-что прочитанное о снах. Говорят, если ты не уверен, сон это или не сон, ищи место, где сходятся стены. Во сне они никогда не смыкаются под четким углом.
— Очень интересно, — сказала Маркетта, но голос прозвучал чуждо, глухо.
Скотт понял, что голос Сони точно так же его поразил — колоссальное пространство дома придает словам непривычное звучание. Он впервые подумал, что, возможно, не следовало приезжать, открывать дверь и входить.
— Тогда и этот дом из сна, — сказал он.
Соня промолчала, агентша рассмеялась послушно и сухо, намекнув, что ему лучше было бы держать язык за зубами.
Скотт прошел через гостиную, открыл застекленные двери парадной столовой, просторной, пустой, кроме нескольких случайных предметов мебели. Хотя его нога никогда не ступала сюда, показалось, будто он уже раньше стоял на этом самом месте. В отцовской рукописи именно отсюда Карл Фэрклот впервые увидел дверь в длинный черный коридор, который никуда не ведет. Он помедлил, устремив взгляд на дубовую дверь в дальнем правом углу, ничем не примечательную, кроме нелепого расположения и длинной медной ручки, точно отвечающей описанию. Дотронулся до ручки — ледяная, будто с той стороны скопилась в ожидании вся холодная тьма грядущей зимы.
Скотт выдохнул, только тогда осознав, как долго задерживал дыхание, глядя туда, где сочинение его отца разошлось, наконец, с реальностью. Первой сознательной мыслью было «Слава богу», и он сразу же обозвал себя идиотом. Чего еще следовало ожидать?
За дверью находится очередной встроенный шкаф. Пустой, простой, не больше того, что в прихожей. Естественно, нет никакого потайного крыла. Видя перед собой две пустые неокрашенные полки с легким изгибом, он невольно потянулся к задней стенке. Стукни дважды, она повернется, не правда ли? Или тут где-то спрятан рычаг? Скотт отступил на шаг со смешанным чувством разочарования и облегчения и вдруг заметил царапины на внутренней стороне створки.
Узкие и глубокие, как от резца или пилки. Три, четыре, иногда пять параллельных борозд, будто внутри сидело попавшее в ловушку животное, или, может быть, человек — отметины располагались на уровне его груди, — или даже ребенок, хотя, конечно, у ребенка не хватило бы сил оставить такие следы.
— Скотт! — Далекий голос Сони прогудел в ушах, как в детской игре в телефон из двух консервных банок, связанных веревкой. — Иди посмотри!
— Иду, — сказал он и крепко захлопнул дверь.
— Что скажешь? — спросила Соня, указывая на открытую комнату в конце коридора на втором этаже.
Длинный прямой коридор был бы абсолютно непримечательным, если б не походил на пещеру благодаря скругленному потолку и полу. Комната в его конце казалась одновременно больше и меньше, чем следовало. Скотт вошел. После дождя сквозь листву окружающих дом деревьев просачивались золотисто-оранжевые и желтые брызги дневного света. Они должны были высветить трупики насекомых, свалявшуюся пыль, но в них виднелись только свежевымытые кедровые половицы без единого пятнышка, слегка пружинившие под ногами. Вдоль стен пустые встроенные полки от пола до потолка, разделенные широкими окнами. Единственная застекленная мансарда выступает из скоса стены, выходит на лужайку и верхушки деревьев. Там вполне хватит места для письменного стола и кресла.
— Отличный кабинет. Представь, как здесь приятно писать.
— Вы писатель? — поинтересовалась Маркетта.
— Романист, — ответила Соня. — По общему мнению, стоит сразу за Никласом Спарксом.
— Правда?
— Нет. — Скотт покраснел. — Она шутит.
— Он должен закончить отцовский рассказ, — продолжала Соня, видно не замечая его взгляда. — Отец Скотта недавно умер, и он нашел незавершенную рукопись. Теперь собирается дописать до конца, причем именно здесь, в Круглом доме. Она будет опубликована под двумя именами, сына и отца, в память последнего. Правда, Скотт?
— Нет! — в ужасе всполошился он. — Я…
— Прекрасная мысль! — Маркетта задрала рукав, предъявила обнаженную руку: — У меня просто мурашки пошли по всему телу. По-моему, потрясающая идея. Обязательно закажу экземпляр. — Соне была адресована сияющая улыбка. — Вы совершенно правы, это идеальный дом для писателя… уединенный, тихий, просторный. Он наверняка сдается, только дайте мне позвонить и проверить.
Они молча вышли на крыльцо. Маркетта села в машину, захлопнула дверцу. Только тогда Скотт посмотрел на Соню.
— Стою сразу за Никласом Спарксом? — переспросил он. — Что это значит, черт побери?
Она пожала плечами:
— Ты же писатель, правда? Почему не попробовать?
— Я пишу тексты для поздравительных открыток.
— И еще что-то свое.
— Кое-что.
Высказанная ложь уже его преследует. Вспомнились однажды услышанные слова отца: «Чем больше врешь, тем больше приходится запоминать».
— Но не романы.
— Ну, может, пора собраться с силами, взяться за что-то другое. Думаешь, ты еще не готов?
— Не в том дело.
— Что плохого в интересе к этому дому? — Соня вела машину по ухабистой дороге, глядя прямо перед собой, хотя Скотту казалось, что она смотрит ему в глаза, ожидая ответа. — Опять захотел убежать ни с того ни с сего?
— Я ниоткуда не убегаю. Просто не могу отказаться от своей жизни и работы в Сиэтле и вернуться сюда.
— Сколько надо времени, чтобы закончить рассказ? Месяц, два? Скажешь, работодатель не даст тебе отпуск для приведения в порядок отцовских дел? По-моему, ты вернешься к массовому производству поздравительных открыток совсем в другом качестве.
Скотт взглянул на нее:
— Чего ты добиваешься?
— Помогаю залечивать раны.
— Теперь ты психиатр?
— Думаю, психиатр тебе не помешает.
— Уже обзавелся.
Они молчали до самого перекрестка, где проселочная дорога выходит на двухполосное шоссе к городу. Соня остановила машину, задумчиво глядя на него с расстояния тех лет, которые они прожили врозь.
— Позволь спросить, — сказала она. — Думаешь, ты сумеешь закончить историю? Имеешь какое-нибудь представление о финале?
Скотт открыл рот, чтобы ответить «нет». Это не его рассказ. А вместо того ответил:
— Не знаю. Пожалуй, есть несколько предположений.
— Тогда дай себе неделю. Посмотри, что будет. Если ничего не выйдет, проведешь лишнюю неделю с племянником.
Хотелось взглянуть на нее, велеть ехать в аэропорт. Но Скотт оглянулся на дом за деревьями.
Глава 6
На следующий день он выписал чек на шестьсот долларов плюс страховка, подписал договор на месячную аренду Круглого дома. Оуэн заехал за ним в агентство Маркетты Лютер и отвез в Манчестер, где он на это время взял напрокат машину. Позвонил в Сиэтл насчет продления отпуска, получил предсказуемый ответ: «Разумеется, сколько понадобится. Пожалуйста, обращайся за помощью без всякого стеснения». Босс принялся рассказывать о смерти собственного отца от обширного инфаркта, и Скотт чувствовал себя обязанным выслушать до конца, пока тот не сообразил, что делает, и промычал с искренним вздохом: «Будь здоров».
Если брат удивился его решению остаться в городе или увидел тут конкретный замысел, то держал свое мнение при себе. В пункт проката автомобилей ехали в тишине, не считая электронных звоночков и писков маленькой игровой приставки Генри. Скотт гадал, откуда такая дорогая игрушка. Оуэн во фланелевой рубашке поверх футболки с надписью «Я не гинеколог, но готов провести осмотр» курил сигарету, пуская дым в окно. Пепельница уже напоминала канцерогенную подушечку для булавок, утыканную пожелтевшими от никотина фильтрами.
— Тебе надо бы самому посмотреть на тот дом, — сказал Скотт.
Оуэн хмыкнул.
— Папа о нем никогда не рассказывал?
— О чем? О каком-то доме в лесу?
— Да.
— Мы с папой не особенно разговаривали.
— Значит, он не упоминал о доме?
— О каком?
— Никогда не говорил…
— Господи боже, старик, нет и нет, мать твою. — Оуэн замотал головой, необъяснимо взбесившись.
Скотт рассказал о доме, полностью отвечающем описанному отцом в «Черном крыле», но брату ни о том ни о другом явно нечего было сказать. Мелькали безликие мили, приемник в машине был сломан, издавал только треск статического электричества. Наконец доехали до конторы прокатной фирмы «Херц» рядом с аэропортом, и, когда фургон затормозил перед офисом, Генри поспешно выключил приставку, словно позабыл, что Скотт вернется в Милберн следом за ними. Оуэн хмуро, с надеждой и неудовольствием покосился на брата, прикрыв глаза от солнца.
— На бензин деньги есть?
— Конечно. — Скотт вытащил из бумажника четыре двадцатки, протянул ему: — Хватит?
Брат схватил бумажки, скомкал грязными пальцами. Скотт впервые заметил, что желтоватые ногти обгрызены до мяса.
— Я вот думаю: не поможешь ли выплыть? То есть если тут останешься на какое-то время. Пока мне работа не подвернется.
— Сколько надо?
— Сотню-другую на продукты и всякую белиберду.
— Заскочу в банкомат на обратном пути.
Оуэн кивнул, как бы ничего другого и не ожидая. Оглянулся на Генри, сжимавшего в руках игрушку.
— Сейчас же брось эту пакость. У меня уже голова раскалывается ко всем чертям. — Он развернул пикап, скрипнув шинами, и вылетел со стоянки, оставив за собой дымный хвост.
Скотт смотрел вслед, думая, что стиль вождения Оуэна опасен, когда сын сидит в машине, и его вдруг пронзил электрический ток. Разряд был столь неожиданным, что на секунду показалось, будто голова задела обнаженный провод под напряжением, хотя никаких проводов рядом не было. Он все-таки огляделся, потирая затылок и ничего не смысля от ошеломления. Спазм прошел через пару секунд. Скотт еще постоял перед дверью, прежде чем войти в контору.
Глава 7
В Круглом доме холодно.
В первый вечер Скотт натянул два свитера, побрел по первому этажу, притоптывая и обхватывая себя руками, обследуя разнообразные двери и боковые коридоры в поисках источника ледяного воздуха. Почти надеялся обнаружить распахнутое окно или дыру в стене. Некоторые двери заперты, ключ есть только от парадного. Вышел с кухни в овальный проем, попал в неимоверно старую гостиную с камином и увидел окно, выходившее не наружу, а в другую комнату размерами примерно десять на двенадцать, с двумя креслами-качалками, полками и деревянной люлькой в закругленном углу. Воздух здесь как-то особенно застоялся, точно десятки лет не двигался, и был запредельно холодным. Скотт оглядел колыбельку, пригодную только для детской куклы. Кто и когда в ней лежал?
Неужели папа сюда приезжал и писал? Мама знала об этом?
Он поднялся по лестнице на второй этаж. Там по всей длине дома тянулся извилистый коридор с закрытыми дверями, слепо смотревшими друг на друга, как застывшие за сто сорок лет трупы.
Застывшие трупы? Это еще откуда?
Рабочий кабинет, предложенный Соней, располагался в конце коридора. Дверь открыта с тех пор, как он вышел оттуда. В дом можно было войти без ключа, но большинство дверей наверху заперто.
Скотт вернулся на кухню. Привез с собой кое-что — мясные деликатесы, арахисовое масло, растворимый кофе, бутылку джина «Бомбейский сапфир», — вытащил остатки снеди, нашел в буфете пыльный стакан, сполоснул, бросил туда лед, оливку, плеснул джина. Не питая пристрастия к спиртному, приобрел бутылку на случай, если Соня вечерком заглянет, и теперь чувствовал себя странно, сидя в холодном кухонном свете, трясясь всем телом, как исследователь Арктики, выпивая в одиночку. Тем не менее сделал глоток, передернулся, еще хлебнул, постепенно изнутри согрелся.
Со временем вернулся в столовую. Почему-то разбил лагерь здесь, а не в верхних комнатах. Переноска пожитков наверх подразумевала бы некое постоянство, а хочется думать, что он тут только временно, пока не образумится и не осознает абсурдность затеи. Поэтому поставил ноутбук и чемодан в столовой рядом с прочным надувным матрасом, взятым взаймы у Оуэна вместе со спальным мешком и подушкой. Открыл чемодан, вытащил отцовскую рукопись. За неимением стола понес компьютер и бумаги к табурету, уселся и сразу почувствовал неудобство. Надо купить или взять напрокат хоть какую-то настоящую мебель. Временно или нет, за четыре недели на табуретке задницу можно стереть до крови.
Взял в руки последнюю страницу. Текст шел до самого конца, но заканчивался знаком абзаца, сделанным ручкой. Вот последнее, что напечатал отец:
Фэрклот услышал, как распахнулась дверь, оторвался от дела и поднял глаза. От увиденного перехватило дыхание, он замер в полной неподвижности.
Нечто, стоявшее на пороге, ухмыльнулось. Он сразу, в озарении от абсолютного ужаса, понял все, что здесь было до этой минуты, полностью осознал происходившее в доме и что это для него означает отныне и навеки.
Хорошо, а что там происходило?
Скотт включил компьютер, предвидя неприятности. Противно стучать по клавишам. Для поздравительной открытки требуется, как правило, не больше полусотни слов, которые всегда пишутся от руки на самоклеящихся листках, которых полно висит на пробковых досках в офисе. Особенно радует, что под хорошую фоновую музыку, создав подходящую атмосферу, можно за один вечер совершить процесс одним махом, от замысла до окончательного исполнения. Порой в игру вводится элемент самогипноза. Если надо сочинить рождественскую открытку в июле, кондиционер переводится на шестьдесят градусов,[5] надевается свитер, на стол ставится сидр. Сейчас ничего такого не требуется. Скотт с содроганием хлебнул джина.
Снова перечитал последние строки отцовского рассказа, создал новый файл, тупо уставился на пустой монитор с мигающим курсором.
Закрыл глаза, попробовал представить будущую обложку. Фрэнк Маст и Скотт Маст. «Черное крыло». На картинке темный, призрачный, слегка скругленный коридор, уходящий во тьму. Или приоткрытая дубовая дверь в углу столовой.
Он встал, пошел к той самой двери. Не за ней ли в ожидании прячется история? Взялся за холодную ручку — холодную до раскаленности, — повернул, открыл створку, глядя в пустой стенной шкаф. Почему из всех дверей в доме отец выбрал именно эту, воображая за ней потайное крыло? Скотт осмотрел царапины с внутренней стороны, прикоснулся, пробежался пальцами по беспорядочным отчаянным бороздкам.
Было уже поздно. Он начал надувать матрас, пока не закружилась опустевшая голова. Резина никак не надувалась. Видно, где-то протечка. Все равно развернул спальный мешок и улегся, почувствовав вдруг такую усталость, что даже не стал чистить зубы. Выключил фонарь. С первым дыханием в темноте ощутил во рту вкус металлической стружки, немного токсичный. В тишине слабо шипел оседавший матрас. Упругое море колыхалось, поглощало его, и он утонул в волнах.
Среди ночи разом проснулся с тяжело колотившимся сердцем. Кажется, где-то в доме раздался громкий шум — удар, треск, — разбудил и сразу затих. Кругом полная тьма. Почему не оставил какой-нибудь свет?
Нет, оставил. Точно оставил.
Скотт сел в спальном мешке на окончательно выдохшемся матрасе, ждал, отсчитывая секунды, но везде было тихо. В холодном доме хочется помочиться. Неотложная нужда и холод напомнили о школьных палаточных лагерях.
Он нашарил фонарь и вылез из мешка, полностью одетый, с отяжелевшим от джина, резиновым языком, вышел из столовой, направился по коридору к прихожей. На первом этаже несколько ванных комнат, только расположение пока не запомнилось; ближайшая оказалась прямо перед глазами под лестницей. Скотт вошел, облегчил мочевой пузырь, брызнул в лицо водой, напился из сложенных чашечкой ладоней. В воде слышится слабый привкус ржавчины. Разве она не очищается, когда долго льется из крана? Глубоко в стенах вибрируют и гудят трубы. Часы показывают три. Больше спать не придется.
Бессонница отчасти подарена матерью. В детстве ночи были наполнены утешительными звуками, доносившимися из швейной комнаты: ровным стрекотом зингеровской машинки, время от времени скрипом половиц под ногами, когда она направлялась за куском ткани или за чашкой чаю. Отец в родительской спальне громоподобно храпел, скрипел зубами, сражаясь во сне с вьетконговцами; мать шила, нажимая ногой на педаль, уезжая в никуда. По утрам, усталая и беспокойная, поджаривала тосты, наливала сок, поглаживала уголки губ пальцами, как бы стараясь что-то припомнить из прошедшей ночи. Когда Скотт и Оуэн возвращались из школы, опять была в нормальном настроении и улыбалась, только Скотт все гадал, что она ему хотела сказать после бессонной ночи. После ее смерти пришла мысль, что их отношения в целом были незавершенной беседой. Мертвая, она стала гораздо откровенней. Помнится, как на похоронах Оуэн посмотрел на него краем глаза, потом Скотт ушел в дом, поднялся в швейную, ударился головой в стену с такой силой, что треснула штукатурка. Сразу же стало лучше. Через десять лет началась терапия. Белые таблетки. Трещина в стене до сих пор на месте.
Шею справа пробил электрический ток. Он поморщился и замер в ожидании. Разряд не повторился.
Вышел из холодной ванной, вытер руки о джинсы, вернулся в столовую, полез в чемодан за лекарством. Смутно вспомнилось, что таблетки остались в отцовском доме — теперь в доме Оуэна, напомнил себе Скотт, — в доме с трещиной в стене. Трещина четко видится в памяти. Может быть, отчасти потому, что он не принял лекарство? Вспомнилось бледное лицо матери, стоявшей на кухне с подгоревшим тостом в руке, из-за чего-то плачущей. Интересно, какие еще воспоминания спят в уголках подсознания, ожидая момента, чтобы выйти на свет?
В коридоре что-то задребезжало, и кровь всплеснулась в венах. Скотт застыл на месте, затаил дыхание. Радиатор снова задребезжал, звук затих, превратившись в сдержанное желудочное урчание. Легкая кривизна окружающего производит незначительные случайные звуки. Он подумал о запертых комнатах наверху. Хорошо бы осмотреть их при дневном свете с Соней, если удастся отыскать ключи.
Он опять влез в мешок на плоском матрасе, лежал, тупо глядя в потолок, дожидаясь утра. Как всегда среди ночи, время шло причудливым образом, то ускоряясь, то замедляясь, скачками, рывками. Глядя на цифры на дисплее сотового телефона, Скотт всякий раз видел, что прошло еще двадцать минут, пока он лежал, прислушиваясь к дому и ни о чем не думая.
Настал день, и шел дождь.
Глава 8
Оуэн не разговаривал с сыном по дороге в школу. В голове стучал молоток после вечерней выпивки, мир казался далеким и все-таки слишком близким, окруженный толстым изоляционным слоем, сквозь который порой пробивался шумок или солнечный луч. Лучше всего было бы снова улечься в постель, несколько часов поспать, потом выпить крепкого кофе, но сегодня у него дела, хлопоты, не терпящие отлагательств.
Он тормознул перед школой, зажал глаза ладонями, крепко надавил до боли.
— Все взял?
Генри кивнул, потянулся за ранцем.
— Ну ладно.
— Пока, пап. — Он дотянулся, чмокнул отца в колючую щеку, выскочил и зашлепал по лужам, перепрыгивая через одну, попадая в другую.
Оуэн сидел, смотрел, как сын смешивается с другими ребятишками и, наконец, исчезает из вида. Повел фургон обратно через город под проливным дождем, включив шлепающие стеклоочистители. Дорога усыпана палыми листьями, налипающими на шины сырым коричневым месивом. Близится ноябрь, осень ко всем чертям уходит. В зрелом возрасте, в тридцать один год, это чувствует не только раскалывающаяся голова, но и распухшие костяшки пальцев и ревматические коленки. Снег здесь начинается до начала сезона охоты на оленей.
Внезапное понижение температуры постыдно застало врасплох уроженца Новой Англии. Сегодня он обещал Реду отправиться в лес Лоусона и выследить оленя. Не слишком заманчивая перспектива собраться, нагрузиться, топать среди мокрых деревьев с ружьем в руках. Зато есть заманчивая уверенность, что именно он будет свежевать тушу, сдирать с нее шкуру, пока Ред стоит в сторонке, потягивая кофе с бренди и вспоминая свои славные времена в Национальной футбольной лиге.
В любом случае никто точно не знает, что такой парень, как Ред Фонтана, делает в Милберне. В тридцать лет он был профессиональным футболистом, крупной шишкой, нью-йоркским плейбоем, мультимиллионером, женатым на сногсшибательной супермодели. Через год все кончилось, завершилось, ночное ток-шоу закрылось. Жена-супермодель скончалась в дансинге от передозировки; пошли слухи, что Ред сломался, защищаясь от подозрений в причастности к ее смерти. Прощайте, контракты и банковские чеки. Он покончил с футболом, покончил с Нью-Йорком, покончил со скандальными репортерами, которые были его лучшими друзьями. Уехал на север с новой женой, Колеттой Макгуайр, которая, тоже по слухам, вышла за него главным образом назло родителям. Присосавшись клещом к кровной линии Макгуайров, Ред въехал в их дом, завел новых друзей и подлиз всех сортов. Главным среди этих друзей и подлиз стал Оуэн по непонятным для него причинам.
Он ехал по Мейн-стрит к остаткам кинотеатра «Бижу», остановился перед почерневшим, покосившимся остовом здания, откуда рабочие выкатывали под дождь тачки с черным мусором. Все казались такими же жалкими, каким он себя чувствовал. Оуэн бессознательно злобно радовался, глядя, как они вкалывают, опустив голову, сгорбив спину. С некоторыми из этих парней он ходил в школу, гонял мячик, бегал наперегонки, строил планы на будущее. Пройдя определенную точку, кто может выбрать жизненный путь? Он старался припомнить свою критическую отметину.
Вместо этого вспомнил мать, бежавшую по проходу огненным ангелом, с воплями, с горящими волосами, воздетыми руками.
Поставил машину, вышел, закурил сигарету, пошел к временному цепному ограждению вокруг руин. Пятнадцать лет после пожара развалины «Бижу» стояли на месте, и никто ничего не делал. Они у всех на глазах разлагались, как труп. Теперь Милбернское историческое общество, возглавляемое не кем иным, как семейством Макгуайр, наконец решилось навести порядок.
Швырнув окурок в лужу, Оуэн разглядел за оградой опершегося на лопату латиноамериканца в шлеме, с серьгой в ухе.
— Эй!
Промокшая спина шевельнулась, с шлема потекла вода.
— Говоришь по-английски?
— Угу.
— Мне надо поговорить с бригадиром.
— А ты кто такой, черт возьми?
Оуэн слегка повысил голос:
— Просто пойди позови, пока я не натравил на твою задницу иммиграционную службу.
Парень бросил лопату, направился к нему. В висках запульсировал адреналин, на время пересилив боль. Утром в полдевятого уже нарвался на скандал. Опять прозевал критический момент принятия решения.
— Я американский гражданин, ослиная задница.
— Правда? — оскалился Оуэн. — Покажи документы, мешок дерьма. Или позабыл в машине со своими семнадцатью ребятишками?
— Ну-ка, повтори, мать твою.
— Ты слышал.
Парень полез через цепь, когда из трейлера высунулся мужчина в рубашке с закатанными рукавами.
— Эй!
Оуэн и парень с мокрой спиной одновременно остановились и оглянулись.
— Что тут происходит?
— Ты бригадир? — крикнул в ответ Оуэн.
Мужчина вылез, почесывая карандашом голову. Латиноамериканец уже смылся, что-то бормоча про себя по-испански.
— Нам не нужны работники, — сказал бригадир.
— Меня Ред прислал.
— Точно? — Мужчина смерил его с головы до ног явно неудовлетворенным взглядом. — Ты кто, скандалист?
— Оуэн Маст.
— Если я спрошу, он подтвердит?
— Спрашивай, не стесняйся.
— Очень хорошо. — Теперь стало видно, как бригадир устал. — Зайди с той стороны, садись в трейлер, поговори с Миком, он оформит бумаги. У нас тут двенадцатичасовые смены, полчаса на ланч, никаких льгот. Это не профсоюзная лавочка. Заболеешь, явишься с похмелья — уволим, другого шанса не будет. Мне плевать, с кем ты дружишь. Понял?
— Понял. — Оуэн уже шел к трейлеру, но рука удержала его за плечо.
— Когда-нибудь делал такую работу? — спросил бригадир.
— Какую? — переспросил он. — Разгребал обломки? — Углы потрескавшихся губ разъехались в ухмылке. — Всю жизнь.
Глава 9
За первые две недели, прожитые в доме, выработался определенный распорядок дня, хотя к вечеру Скотт не добивался ничего особенного. Утром пил кофе в импровизированном рабочем кабинете в столовой, глядя в пустой компьютерный монитор, как пассажир в иллюминатор во время трансатлантического перелета. Набирал десять слов, удалял, шел на кухню, наливал еще чашку, приходил обратно, садился, повторял то же самое заново. Изображение на экране не меняется, земли не видно.
Леди и джентльмены, капитан разрешает отстегнуть ремни, теперь можно свободно ходить по салону.
В полдень он сдавался, шел наверх, включая за собой свет, осматривал незапертые комнаты, вдыхал разнообразные причудливые запахи — нафталин в подушечках от моли, отсыревшая шерсть, подгнивающий кедр. Заглядывал в платяные шкафы и буфеты, в дверные проемы, которые никуда не вели, уверяя себя, что если здесь есть что-нибудь вдохновляющее, то он на него непременно наткнется. Но видел только пустоту, унылое, глухое пространство, которое невидимыми спицами тянется от втулки, составляющей основу дома.
Потом, в конце субботнего дня, перед самым наступлением темноты, обнаружил нечто новое, проходя по коридору мимо гостиной.
Это была старая театральная афиша, предположительно шестидесятых годов, висевшая на узкой полоске стены за еще не открывавшейся дверью. Простота исполнения почти лишала ее смысла — линейное изображение комнаты с тремя стенами, не полностью смыкающимися по углам. Под рисунком написано:
Незавершенная комната
Премьера в сентябре в театре Маккинли на 23-й улице
А еще ниже маленькими, неуверенно прыгавшими буквами значилось имя автора пьесы:
Томас Маст
Скотт уставился на плакат. Год нигде не указан, не ясно, когда выпущена афиша, о возрасте которой свидетельствует только крайне прискорбное состояние. Хотя есть в ней что-то знакомое — не только название пьесы, но и странноватое художественное оформление. Томас Маст был отцом Фрэнка Маста, дедом Скотта и Оуэна, которого Скотт никогда не видел и о котором нечасто упоминалось в семейных беседах. «Не истинный уроженец Новой Англии, — говорил Фрэнк. — Горожанин. Слишком шустрый, на свою беду». В устах отца это звучало категорическим обвинением. Откуда здесь эта афиша?
Скотт отшпилил ее от стены, загнул угол, заглянул на обратную сторону, как бы отыскивая дальнейшие сведения, которые имели бы смысл, увидел чистую бумагу, задумался о том, что ожидал увидеть. Тайное послание? Адресованное ему сообщение от дальнего родственника? Деталь, которую можно использовать лишь в вымышленном мире, где подсказки дополняют приемлемые объяснения? Даже название пьесы — «Незавершенная комната» — ничего не подсказывает, хотя надо признать его правильным. Ни один из родных никогда ничего не довел до конца. Скорее всякие вещи — огонь, амбиции, алкоголь, сумасшествие — доводили их до конца.
Он уставился в окно. Дождь прекратился, но солнце уже уплывало из западных окон, унося с собой сожаления об очередном впустую потраченном дне. Ныла спина, в желудке было кисло от кофе, компьютерный монитор оставался слепым и пустым. Скотт поднес к лицу дрожащую руку и не смог сказать, что дергается — рука или глазные яблоки. Сахар в крови обрушился, следовало бы почувствовать голод, только мысль об имеющейся провизии — зерновых хлопьях, консервированном тунце, мясной нарезке в вакуумной упаковке — лишь усилила тошноту. Вернувшись на кухню, он пошел против всякого здравого смысла — плеснул в стакан джина для успокоения нервов и позвонил Соне.
— Это я, — сказал Скотт. — Позавтракать не хочешь?
— В полпятого?
— Ну, тогда пообедать. — Джин уже заработал. Захотелось вернуться в старый отцовский дом, отловить Генри, предложить поесть вместе, даже если для этого придется позвать и Оуэна. — Ты сегодня работаешь?
— Мы с Лизой делим выходные, — ответила Соня. — Как идут дела?
— Успешно.
— Пишешь уже две недели. Продвинулся?
— Вполне. — Очередную ложь надо запомнить. Зачем скрывать от нее правду?
— В самом деле решил на сегодня закончить? — уточнила Соня.
— Всегда можно прерваться по инстинктивному побуждению.
За долгие годы сознание превратилось в копилку литературных штампов, зачастую противоречивых. Уходи, пока ты впереди. Не останавливайся на подъеме. Не отклоняйся от расписания. Не погрязни в рутине. Держись в рамках общего плана. Иди туда, куда тебя ведет рассказ.
— Ладно, — сказала Соня. — Приезжай примерно через час. Годится?
— Вполне.
— Скотт…
— Что?
— Ничего. — Она помолчала. — До скорой встречи.
Он разъединился, позволил себе вздохнуть. У них богатая история — у него с ней, возможно, богаче, чем с кем-либо другим на земле, не связанным с ним кровными узами, — а ему до сих пор непонятно, с чего начинать. Первая встреча не помнится — вместе росли, вечно знали друг друга, — хотя точно помнится, когда он впервые по-настоящему ее увидел и содрогнулся в смертельной агонии.
Весной в выпускном классе они составляли школьную газету. Все уже разошлись, мистер Френч сел за стол проверять письменные работы, а Скотт с Соней старались найти место для группового снимка членов лыжного клуба. Одновременно протянули руки за фотографией, долго шарили, пока оба не поняли, что коснулись друг друга, и она на него посмотрела. Потом в тот же день шли домой вместе, вечером два часа болтали по телефону о школе, о своих родных в Милберне, который Соня называла «самой пакостной деревушкой в Нью-Гэмпшире». Так же как он, мечтала отсюда удрать, и действительно убежала в двенадцать лет, добралась до окраины, где ее поймал шериф и доставил домой. Скотт, всегда мечтавший, но никогда не осмеливавшийся на побег, испытал лишь испуганное благоговейное восхищение.
Через неделю она позвала его к себе домой на пиццу, и они замыслили совместное бегство — только он и она, — на этот раз реально. В конце вечера Соня поцеловала его, и Скотт летел домой по воздуху, открыв секрет преодоления гравитации и противоядие от подавляющего одиночества, в котором жил так долго, что практически его даже не замечал. За все время знакомства с Соней ему постоянно казалось, будто она скрывает эту свою сторону, или он ее сослепу не замечал. А за месяц до выпуска он уже не понимал, зачем ждал так долго. Будто ехал и ехал в поезде, глядя на хорошенькую девушку, желая с ней заговорить, и успел сказать всего одно слово, прежде чем она навсегда вышла из вагона и из его жизни.
Поэтому воспользовался шансом и написал ей длинное письмо. В сущности, там говорилось, что он действительно хочет уехать с ней куда угодно — в колледж, в Европу, в миротворческие войска, лишь бы вместе. В конце было сказано, что он влюблен в нее полностью и бесповоротно, поймет, если она его чувств не разделяет, но просто не может позволить ей уйти из его жизни, не зная об этом. Передал листок утром перед занятиями и следующие три часа ерзал за партой. Во время ланча она отыскала его у кафетерия, увела в тень старой школы и поцеловала:
— Ненормальный. Чего тянул?
Последовала неделя чистого блаженства, которого он никогда не испытывал раньше и больше не испытал до сих пор. Они удирали по ночам из дома, влезали друг к другу в окна, засиживались допоздна и совсем не спали. За день до выпускного бала он позвонил, она не ответила. Пришел домой, вышел ее отец и велел убираться:
— Она не желает с тобой разговаривать.
Последующие звонки и визиты заканчивались с тем же самым результатом. Летом они не виделись, а когда пришла осень, оба сбежали, но в разные стороны. До сих пор непонятно, то ли он ее испугал, то ли — в самых мрачных догадках — дело гораздо хуже.
О том она не знала. Не могла знать.
Но в глубине души все-таки остаются сомнения.
Скотт принял душ в нижней ванной, откинул заплесневевшую виниловую занавеску, вгляделся сквозь пар в запотевшее зеркало, как бы ожидая встретить ответный взгляд. В детстве они с Оуэном пугали друг друга рассказами о Кровавой Мэри, которая появляется в зеркале, если встать перед ним и тринадцать раз нараспев повторить ее имя.
Когда он побрился и оделся, уже почти совсем стемнело. Порывы ветра гнали палые листья размером с гигантские руки по огромному пустому двору, отделявшему дом от леса, в воздухе чувствовался запах снега. Скотт впервые за день вышел из дома, и перемена погоды ошеломила жителя северо-западного тихоокеанского побережья, гораздо больше привыкшего к дождю и туману. «Зима, — понял он в безрассудной панике. — А я не готов. Меня здесь вообще не должно было быть».
Рассеянно вспомнил про таблетки — надо переписать рецепт в аптеке. Вспомнил о внезапных провалах в памяти, о которых необходимо рассказать врачу в Сиэтле.
По дороге к городу восхищался иллюзией колоссального расстояния между домом и цивилизацией. Разумеется, это только иллюзия, небольшое чудо субъективного восприятия. Казалось, будто он едет до города дольше прежнего, не встречая ни одной машины на мокрой пустой дороге, которая телескопически разворачивалась перед ним и растягивалась, как детское восприятие времени. В двух милях к востоку от центра города доехал по другой грунтовой дороге до перекрестка, где под ярким фонарем стояла убогая лавка древностей с деревянной табличкой. Остановил машину, поднялся по ступенькам, постучал в дверь, увидел с другой стороны Соню с неловкой улыбкой, вспомнил, как она выглядела восемнадцать лет назад. Почти полжизни назад.
— Привет, — сказала она.
— Привет. — Скотт обратил внимание на тоненькие морщинки на лбу. — Все в порядке?
— Конечно. Рада тебя видеть. Входи.
Как всегда, пришлось лавировать в заводях и отмелях лавки Эрла Грэма, чтобы попасть в дом. Соня вела его между длинными прилавками, заваленными товарами с бирками: старыми парковочными счетчиками и динамиками из открытых кинотеатров, кучами некомплектного воинского обмундирования, слуховыми трубками, стеклянными банками с рекламными значками избирательной кампании проигравших кандидатов, о которых он в жизни не слышал. Эрл был старым нью-йоркским коммунистом после эпохи Эйзенхауэра, печатал газету на мимеографе в однокомнатной квартирке на Малберри-стрит, где-то в шестидесятых устал от политики, переехал сюда и женился, продавал туристам всякий хлам. Кое-что несомненно лежало здесь во время последнего посещения Скотта. От близости прошлого его бросило в жар и в холод.
— Папа! — Соня сунула голову в гостиную. — Я сейчас ухожу, ладно?
Заглянув через ее плечо в комнату, Скотт разглядел скелетообразные, трясущиеся, почти неузнаваемые останки едва помнившегося мужчины с прозрачной кожей, окрашенной только светом плазменного телеэкрана. Нос и рот закрыты пластиковой маской, к которой тянутся кислородные трубки. Попискивает какой-то аппарат. Он отвел глаза, изумленный собственной реакцией. Под кожей Эрла Грэма как будто приютился другой слабый, маленький организм и очень быстро под нею задыхается. Сказать действительно нечего. Скотт заверил себя, что Эрл его не видит, можно улизнуть незамеченным.
И шагнул в гостиную:
— Мистер Грэм!
Отец Сони почти тревожно взглянул на него.
— Рад с вами снова встретиться, — сказал Скотт. — Давно не виделись.
Эрл, не шевелясь, осторожно кивнул:
— Угу…
— Помню, мы с Соней сюда приходили, играли по вечерам по пятницам в настольные игры прямо в вашей лавке древностей. Покупали пиццу и долго сидели. До одурения играли в «Персьют».
— Не знаю.
— Нет, знаете, — сказал Скотт. — Я до сих пор понятия не имею, сколько на луне мячей для гольфа. — И сделал нечто странное, чего не ожидал от себя и спонтанно никогда не сделал бы, — дотронулся до плеча Эрла Грэма, не потрепал, а просто положил руку на хрупкую кость в знак признания связывающих их воспоминаний. — Рад вас видеть.
Соня видела, как отец отвернулся от Скотта, и сморщилась, будто наткнулась на незамеченный раньше синяк от ушиба. Кажется, прошла целая вечность с тех пор, как они вместе сидели, играли в настольные игры, обсуждали свои заметки для школьной газеты. Эрл частенько встревал в разговоры, советовал напечатать чисто коммунистическую пропаганду, посмотреть, какой шум поднимется. Даже шапки придумывал: «Учащиеся! Сбросим оковы капитализма! Вступайте в Рабочий союз! Вам нечего терять, кроме своих авторучек!»
Воспоминания вселили тоску по тем временам, когда отец был сильным, в одиночку втаскивал в лавку платяной шкаф, хохотал на весь дом. Все они тогда были гораздо моложе, мир был светлым, просторным, многообещающим.
— Иди, — сказала она Скотту. — Я сейчас.
После его ухода вернулась в гостиную, наклонилась к отцу:
— Тебе точно ничего не потребуется, пока меня не будет?
Старик не кивнул, а повел глазами из стороны в сторону. Прикинулся, будто смотрит телевизор, как обычно, когда расстроен и не хочет на нее смотреть. Соня догадывалась, что ему неприятно предстать перед Скоттом в таком виде, он не любит неожиданных посетителей, которые видят его в постели, прикованного к кислородной маске. Даже лавку не открывает. Туристическая торговля заглохла, постоянные покупатели редко заходят. Слишком неловко себя чувствуют.
— Я недолго, — пообещала она. — Если проголодаешься, на плите спагетти и фрикадельки.
— Хорошо.
— Французский хлеб в духовке.
Эрл нащупал пульт, переключил канал, одобрительно забормотал:
— Смотрите-ка, Ава Гарднер в «Убийцах». Посмотрите и скажите, будто сукину сыну Фрэнку Синатре не повезло.
— Я беру с собой мобильник.
Он оглянулся:
— Ты еще тут?
Она чмокнула отца в щеку, пошла в заднюю часть дома.
— Дочка!
— Что?
— Скажи своему приятелю… три.
— Не поняла?
— На луне три мяча для гольфа.
— Все в порядке? — спросил Скотт из машины.
Соня только кивнула.
Они молчали, отъезжая от лавки. Начинался снег, кружились отдельные белые хлопья, прилипали к стеклу, улетали. Наконец Скотт сказал:
— Известно, сколько ему осталось?
— Несколько месяцев, — ответила она. — Возможно, не больше года.
— Очень жалко.
— Помнишь строчку Фроста о медленном бездымном угасании? Так и есть. Дьявольски больно, но я рада, что могу быть с ним рядом. — Соня глубоко вдохнула и выдохнула, желая сменить тему. После восемнадцатилетней разлуки она уже не так хорошо знает Скотта, чтобы откровенничать. — Ну, рассказ успешно продвигается?
— А? О да.
— Знаешь, к чему идет дело?
— Имеется неплохая идея. Знаю, что все вертится вокруг дома и что он играет какую-то роль в случившемся.
— А что случилось? — поинтересовалась Соня. — В рассказе, я имею в виду.
— Пока не представляю.
— Думаешь, твой отец знал?
— Пожалуй, — кивнул Скотт. — То есть должен был знать, правда?
— И ты идешь тем же путем?
— Надеюсь. Уверяю себя, что полезно находиться в доме. Атмосфера в любом случае не повредит.
— Правильно. По-моему, бывают дома, где творятся безумные вещи.
Он взглянул на нее:
— Какие?
Соня тоже на него посмотрела, не зная, действительно ли ему интересно или он просто поддерживает беседу. Кажется, интересно, поэтому она призадумалась, припоминая теорию, изложенную ее отцом — когда?.. — четыре-пять лет назад. Отчасти похоже на шоу с охотниками за привидениями на канале «Дискавери».
— Один ученый утверждает, будто некоторые старые дома по какой-то причине создают вокруг себя некое поле, так же как провода под высоким напряжением образуют электромагнитные поля. Так или иначе, он говорит, что, когда дом стоит достаточно долго, в нем запечатлеваются сильные эмоциональные состояния — злоба, горе, одиночество… Возникает как бы царапина на грампластинке, где игла спотыкается и повторяет фразу снова и снова.
Скотт кивнул:
— Царапина на пластинке? Неплохо.
Соня видела, как он обдумывает эту мысль применительно не к своей собственной жизни, а к книге, которую пишет.
— Ты… ни с чем таким не сталкивался? — спросила она.
— В доме? — Он покачал головой. — Нет. Хотя…
— Что?
— Ничего.
Скотт умолк, проглотив то, что чуть не сказал, и она задумалась, не стоит ли выбить признание. Но он никогда не скрытничал. Если хотел ей что-то сказать, то прямо говорил, и поэтому Соня почуяла, что его колебания чем-то оправданы.
Подъехали к старому отцовскому дому, вышли из машины. Генри поджидал с фонарем на подъездной дорожке. Соня заметила, как Скотт воспрянул духом при виде племянника. Удивительно, с какой легкостью она через столько лет угадывает его настроение, даже не стараясь.
Он обнял мальчика, поднял с земли:
— Привет! Чем занимаешься?
— Снежинки языком ловлю.
— Вкусно? — спросила Соня.
— Слишком маленькие, не распробуешь, — объяснил он. — Поедем пиццу есть?
— Как скажешь. — Скотт взглянул на дверь. — Папа где?
В свете фонарика улыбка Генри слиняла, потом совсем исчезла. С другой стороны лужайки из старого сарая донесся слабый, но отчетливый звук бьющегося стекла, хлопок, удар, звон. Соня услышала голос, мгновенно узнав Оуэна. Последовал громкий треск, мальчик вздрогнул. В сумерках прозвучало что-то вроде воя раненой собаки.
— Ждите здесь, — сказал Скотт. — Я сейчас.
Глава 10
Он шел через двор за лучом фонаря среди припорошенных снегом куч листьев к сараю, куда влетел бейсбольный мяч.
Шум в хибарке становился громче, гремело ржавое железо, будто старые инструменты в ведре. Подходя к двери, Скотт слышал бормотание сквозь зубы, глухие ругательства и угрозы, перемежаемые гулким взрывным металлическим грохотом. Странно слышать, как брат разговаривает сам с собой; рваные, прерывистые каденции звучат так, будто он в самом деле ведет беседу с неким голосом, слышным только ему одному.
— Эй, старик! — Скотт перешагнул через дверь, сорванную с петель, нырнул в темноту. — Что тут…
Слова застряли в горле. Кругом в свете фонарика полный разгром: ящики перевернуты, сельскохозяйственные орудия разбросаны, семена и удобрения рассыпаны по полу. В центре хаоса стоял Оуэн, слепо щурясь, тяжело дыша, опуская и поднимая плечи. Под его ногами звездная россыпь целых и битых пивных бутылок, на груди рубашки почти диагонально тянется размашистый след засохшей рвоты, будто его стошнило на бегу или на повороте вокруг своей оси. В спертом воздухе волнами катится запах прокисшего пива — не свежего солода, а зловонного гниющего зерна.
— Почему не стучишь?
— Куда? — Скотт оглянулся на дверь, валявшуюся на голом бетоне. Двинулся вперед, перешагнул через разбитый горшок с тысячами гвоздей, в том числе таких старых, что они вполне могли использоваться при распятии. — Что ты делаешь?
— Занимайся своими делами, черт побери.
Скотт заметил на руке брата темно-красную кровь вперемешку с грязью.
— Поранился?
Оуэн хрюкнул, схватил очередной ящик, вытряхнул на пол пустые банки из-под машинного масла, с силой пнул одну в стенку.
— Что ищешь?
— Ничего. — Он пошатнулся, попытался обрести равновесие, Скотт подхватил его, удивленный тяжестью тела. Оуэн вырвался, с рычанием метнулся вперед, почти сразу потерял контроль над ногами, запутавшись в мотках старой проволоки. Скотт снова его поймал, он дохнул ему прямо в лицо. Все равно что держать в охапке огромную кучу грязного, вонючего больничного белья.
— Пошли в дом. Руку надо промыть и чем-нибудь смазать.
Не дожидаясь протестов, он направил брата к дверному проему, потащил через двор, ориентируясь в лунном свете, хорошо зная, что Соня и Генри внимательно наблюдают с подъездной дорожки. То, что смотрит Соня, не страшно — она наверняка уже видела Оуэна в подобном состоянии, — но ребенку не следует видеть, как его разъяренного и трясущегося отца волокут по лужайке к родному дому. Впихнутый в дверь Оуэн шарашился, натыкаясь на мебель, конвульсивно со слюной выплевывал отрывочные слова:
— Пусти… порядок…
Взмах руки сбил с ручки дивана стопку грязных тарелок.
— Мать твою, я сказал, полный порядок.
Вероятно, слыша звон и грохот, Оуэн сообразил, что находится в доме, и вывернулся из рук старшего брата.
— Думаешь, мне нужна твоя помощь?
Впрочем, он быстро ослаб, в глазах вскипели слезы, горечь, усталость, голос заглох, задохнулся, будто затопленный изнутри. Скотт усадил его на кухне, придвинул стул к раковине, пустил на рану холодную воду. Крови много, однако порез неглубокий, зашивать не придется. В помещении запах рвоты усилился, и он стащил с брата рубашку, задрав ему руки и выпростав из рукавов, после чего они безвольно упали. На спине между лопатками обнаружилась маленькая татуировка, которой Скотт раньше не видел: имя Генри в сердечке.
Рана промыта, ладонь обмотана полотенцем. Оуэн умолк, обмяк на деревянном стуле, отключился с открытыми глазами. Скотт чуть-чуть обождал, подхватил его под мышки, поволок с кухни в гостиную, свалил на диван, накрыл довольно чистым с виду покрывалом из овечьей шерсти, принес стакан воды, пузырек с аспирином, ведро из-под кухонной раковины. Вряд ли брат проснется до их возвращения; если даже проснется, то, скорее всего, не будет в состоянии дать объяснения.
Снова выйдя во двор, он увидел в сарае слабый, нерешительный глаз фонаря и пошел за ним. Протянувшийся по полу луч указывал на частично разоренную полку. Среди груды битого стекла лежал одинокий листок, прилепленный к стенке плесенью. Скотт до него дотянулся, отклеил. Это была машинописная страница под номером 139.
В дверях стояла девочка в голубом. Лет двенадцати, если не меньше. Прямые пряди волос обрамляли лицо, глаза глубоко провалились в глазницы, кожа покрыта синеватой плесенью.
— Ты кто? — спросил он.
Она подняла руку, сунула скрюченный палец за дверь, ведущую в потайное крыло. Неровные ногти заскребли по дереву, нацарапали букву «и». Потом слева от нее вывели «р», потом «а», «м», «з», «о», наконец, снова корявую, разлапистую, как паутина, заглавную букву «Р».
Он прочел буквы в обратном порядке, слева направо. Голова пошла кругом.
— Розмари? — переспросил Фэрклот. — Розмари Карвер?
Он о ней слышал. Она убежала из дома на другом краю штата, явилась в этот город и бесследно исчезла в конце 1800-х годов. Ее отец, Роберт, приезжал сюда в поисках дочери, местная полиция начала расследование, но тело так и не было найдено.
Глядя теперь на нее, Фэрклот понял, почему он
Конец страницы.
Скотт вышел из сарая с последним листом в руке, свернул его, сунул в карман, возвращаясь к подъездной дорожке. Сначала удивился, потом приободрился, услышав из темноты голос Сони:
— Как там Оуэн?
— Все будет хорошо.
Она посмотрела на него с сомнением, но промолчала. Его обеспокоил Генри — бледный, растерянный, будто его в лихорадке вытащили из постели. Всегда ясные глазки мутные, остекленевшие.
Поехали в пиццерию на озере, в летнее заведение, открытое до поздней осени ради охотников на оленей, которые скоро начнут закупать припасы, отправляясь в лес: вяленое мясо, сэндвичи, упаковки пива.
Сидя за столиком, ожидая заказа, Скотт с усилием подавлял желание вытащить найденную страницу и снова перечитать.
— Папа весь день был в сарае? — спросил он племянника.
Тот лишь кивнул, глядя на свою пиццу.
— Хочешь у меня сегодня переночевать?
Мальчик снова кивнул и слегка на него покосился, как бы опасаясь, что он вот-вот передумает и возьмет свои слова обратно. Скотт поднялся, обошел вокруг стола, взял его за плечи и крепко стиснул.
— Все будет хорошо, — повторил он и почувствовал, как Генри прижался к нему, не хотел отпускать. — Обещаю.
Мальчик чуть заметно тряхнул головой. Почти неощутимый толчок отозвался в груди Скотта, уместившись между двумя ударами сердца.
После ужина поехали обратно к лавке древностей. Показалось, что за шторами в освещенной гостиной маячит тень согбенной фигуры. Соня пожелала доброй ночи и собралась вылезать.
— Погоди… — окликнул ее Скотт.
Она оглянулась.
— Слышала когда-нибудь о девочке по имени Розмари Карвер?
Она подумала, качнула головой:
— Мне это имя ничего не говорит. Кто она?
— Точно не знаю, — ответил он. — Может, персонаж отцовского рассказа, хотя он ее описывает как реальную девочку.
— Мне когда-нибудь выпадет шанс прочитать легендарную рукопись?
— Если я ее когда-нибудь закончу.
— Я не отличаюсь терпением. — Она все смотрела на него. — Можно спросить?
— Давай.
— Тебе это не кажется странным?
— Что? Мое возвращение?
— Всё.
— Да. А тебе?
— Отчасти.
Скотт проводил ее взглядом до двери, а потом уехал. Доставив домой Генри, он обнаружил Оуэна на диване. Тот тупо смотрел в компьютерные файлы заказа товаров с доставкой на дом и сжимал в руках пакет с мороженым горошком.
— Как ты?
Брат не взглянул на него.
— Может, Генри у меня сегодня переночует?
Молчание. Растаявшая вода капала из пакета на колени, образуя темное пятно на ковре.
Скотт поднялся наверх, сунул в школьный рюкзак пижаму племянника, зубную щетку, прихватил его спальный мешок, сменную одежду, несколько игрушек и комиксов. Когда сошел вниз, Оуэн сидел неподвижно, лужица под ногами слегка расплылась.
— Мы уезжаем, — сказал Скотт. — Утром я его привезу.
— Угу, отлично.
Скотт взял Генри за руку, и они ушли.
От города до густого леса ехали по почти пустому шоссе, дальше по проселочной дороге прямо до открытых ворот. Въехав во двор, Скотт остановил машину. Генри без комментариев разглядывал огромный дом, шагая к парадной лестнице, крепко стискивая его руку. Время позднее, но мальчик не выглядел чрезмерно уставшим. Вошел в дверь, остановился, оглядываясь на разнообразные коридоры и двери, ведущие в многочисленные помещения первого этажа. Его спокойный взгляд, словно обращенный внутрь себя, произвел на Скотта снотворный эффект.
— Я расположился в столовой, — сказал он, — вон там. — Развернул детский спальный мешок, расстелил рядом со своим. — У меня тут куча фильмов. Если хочешь, посмотри на компьютере.
— Хочу.
Скотт обмотал матрас липкой лентой, и тот, наконец, держал воздух. Потом он задремал под музыку из диснеевского фильма. Очнувшись, обнаружил в другом конце комнаты Генри, гонявшего игрушечный автомобильчик по скругленной канавке между стеной и полом и тихонько ворчавшего, когда машинка вновь и вновь врезалась в радиатор.
— Что ты делаешь? — прохрипел Скотт.
— Все разбиваются, — пробормотал Генри, не глядя на него. — Разбиваются и умирают.
— Который час?
Мальчик словно не слышал.
— Лечь не хочешь?
Нет ответа.
— Генри!
— Не смогу заснуть.
— Почему? В этом доме не сможешь?
Он пожал плечами:
— Просто не смогу.
Лежа на спине, Скотт позволил глазам постепенно закрыться и, погружаясь в сон, услышал легкие шаги ребенка, влезшего на надувной матрас. Маленькое теплое костлявое тело, тоненькое, как лестничные перила, придвинулось ближе, послышался кисловатый запах кожи, запах высохшего пота и жирных волос. Есть ли в доме шампунь и сушилка? Не вспомнишь. Утром надо вымыть парня в ванне, купить новую одежду, что надо было давным-давно сделать.
Ребенок рядом поерзал, устроился. Скотт только начал опять засыпать, как по столовой пронесся шум.
Он открыл глаза, приподнялся на локтях, увидел Генри с машинкой возле радиатора. Мальчик и не ложился. Скотт рывком сел, глядя на пустое место рядом с собой на матрасе, где только что сворачивалось в клубочек маленькое тело.
Место было еще теплое.
Глава 11
На следующее утро Генри разбудил его и спросил, какой сегодня день.
— Воскресенье.
— В церковь пойдем?
— Не знаю, — сказал Скотт. — А вы с папой ходите?
— Иногда, если его не слишком тошнит.
— В какую церковь?
— В каменную.
Пока Скотт рос, мать водила его в Первую Единую методистскую церковь на углу Хоторн и Гроув, в четырех кварталах от кинотеатра «Бижу». Это была одна из многочисленных местных церквей, поддерживавших миссионерскую деятельность внучатного дядюшки Бутча. Смутно помнится, что отец, по слухам, перестал бывать в церкви после пожара. В последний раз он входил в храм на похоронах жены.
Внешний мир погребен под шестидюймовым слоем снега. Только что расчищенная автостоянка у Первой методистской церкви почти пустовала. Скотт и Генри вошли и уселись в последнем ряду среди стариков в архаичных черных костюмах неведомых эпох, в платьях и пиджаках, как бы вытащенных из пароходных кофров и шкафов с нафталином. Скотта никто не узнал, а если и узнал, ничего не сказал. В ходе службы Генри пел знакомые гимны по памяти, автоматически рисовал из кружочков чертиков и человечков. Скотт переключил телефон на вибрационный сигнал. Не получив к полудню никаких известий от Оуэна, он посадил племянника на заднее сиденье взятой напрокат машины и поехал к городской библиотеке, надеясь, что тот на часок найдет себе занятие в детском отделе. Генри последовал за ним с необычной для него неохотой.
— Не любишь библиотеку? — спросил Скотт.
— Мы туда не ходим.
— Я ходил мальчишкой просто так, бродил и разглядывал книжки. Там все есть.
Они вошли, и Скотт ошеломленно остановился в дверях, гадая, не ошибся ли адресом. Народу еще меньше, чем в церкви; в помещении такой холод, что видно дыхание. Почти все полки пустуют, за ними видны стены, оставшиеся книги привалились друг к другу, как пьяницы. Исчез даже питьевой фонтанчик — из стены торчит лишь пожелтевшая труба, откуда каплет вода в подставленное ведро. Ящики и коробки с книгами составлены в шаткие штабеля без какого-либо осмысленного порядка.
— Здравствуйте…
Скотт оглянулся на женский голос, на симпатичную библиотекаршу со стопкой газет в руках, почти его ровесницу, с серыми глазами и легкой улыбкой, с коричневым родимым пятном в углу рта.
— Чем могу помочь?
— Мне нужны кое-какие исторические сведения.
— Ох… — Библиотекарша выпятила пухлые губы. — К сожалению, у нас мало чего осталось. Закрываемся.
— Навсегда?
Она грустно улыбнулась:
— Бюджет срезали.
— Шутите? — Скотт другими глазами оглядел читальный зал. Он фактически преуменьшил свое детское отношение к библиотеке. Долгие годы мечтал завладеть ключом, приходить сюда в любой час дня и ночи, освещая книжные полки фонариком.
Библиотекарша прикусила губу.
— Что хотите узнать?
— Жила ли когда-нибудь в городе Розмари Карвер. — Вопреки надеждам, произнесение имени вслух не оправдалось. Скотт лишь почувствовал себя еще глупее, собравшись отыскать реальные свидетельства о девочке, скорее всего выдуманной отцом. — За какое время есть местные газеты?
— Не раньше сороковых годов, да и те почти все упакованы. Разумеется, можете поискать. Не знаю, что творится в хранилище. — Библиотекарша поколебалась, оглянулась на Генри и добавила, понизив голос: — Только осторожно, там крысы.
Скотт посмотрел на нее с полной уверенностью, что либо ослышался, либо библиотекарша его разыгрывает.
— Развелись в подвале, теперь наверх вышли. Наверно, их переезд всполошил.
Он держал мальчика за руку, проходя мимо оставшихся стеллажей. Генри на ходу бормотал: «Крысы, крысы, крысы», проводя рукой по пыльным металлическим полкам. Скотт начал замечать в углах крысоловки — смертоносные ловушки с мощными пружинами, заправленные большими кусками залежалого сыра и протухшей салями. Генри наверняка тоже видел их, но молчал.
Через двадцать минут обнаружились остатки исторического отдела — несколько пыльных справочников 1850-х годов. Последняя, исключительно грязная адресная книга на полке, похоже, осталась только из-за размеров с чайный поднос; матерчатый переплет десятки лет впитывал пыль и равнодушные взгляды тысяч местных школьников. Скотт вытащил ее, открыл, глядя на фамилии, страницы, даты рождения и смерти, распределенные по десятилетиям, по адресам, в алфавитном порядке. Очень много Мастов, двоюродных и дальних родственников, а на букву «К» нашлась только одна фамилия Карвер в 1883 году. Карвер Розмари.
Он вернулся к библиотекарше, указал строчку в книге:
— Есть еще что-нибудь? Мне надо все о ней разузнать.
Женщина покачала головой:
— На той полке много чего было. Всегда была битком набита. Книги упаковали несколько дней назад.
— Куда отправили?
— В разные места. Скоро все помещение займут крысы. — Кажется, ей интереснее говорить о грызунах, чем о книгах. — Вы ни одной не видели?
— Чего?
— Крысы.
— Нет.
— А… — с легким разочарованием протянула она и вдруг вспомнила: — Слушайте, а ведь я вас знаю. Скотт Маст, верно?
— Верно.
— Точно. Вы с Соней Грэм дружили. А я Даун Уиллер, подруга Марсии О'Донохью. — Тон почти умоляющий. — Мы вместе выпускной альбом составляли.
— Конечно помню, Даун, — сказал он.
— Ничего, если даже не помнишь. Жуткое было дело с тем самым альбомом. Я была безумно влюблена в Адама Уайта и хотела на весь разворот выложить фотографии, на которых он прыгает в воду с трамплина. Помнишь, как он исполнял показательный брейк-данс в программе «Мы ищем таланты»?
— Конечно.
— Ну, если хочешь те книжки найти, то съезди на ферму Макгуайров. На прошлой неделе рабочие отвезли туда почти шестьдесят коробок.
— К Колетте Макгуайр?
— М-м-м… — Даун поколебалась, понизила голос, зачмокала, как будто в рот попала какая-то гадость. — Вот кто практически не изменился. Разумеется, зачем ей меняться, она и так слаще всех пахнет. Хотя, как я слышала, дела с футболистом не так хороши.
Скотт взглянул на нее:
— С кем?
— С Редом Фонтаной. Не знаешь? Колетта вышла за него в Нью-Йорке и привезла сюда. Хотела опозорить родителей, и преуспела. Они одновременно умерли от инфаркта через год после свадьбы. Разумеется, как я слышала, Ред уже потерял к ней всякий интерес. Говорят, почти все время торчит в «Фуско» с…
Даун спохватилась, умолкла, покраснела. Скотт вдруг вспомнил, как они работали над альбомом вместе с краснеющей, жалкой, зловредной девчонкой, которая до сих пор сначала говорит, потом думает.
Где-то позади в глубине пустых библиотечных стеллажей раздался резкий металлический стук.
Глава 12
Отец с характерной прямотой утверждал, что на так называемой ферме Макгуайров растут только «грязные деньги», и маленький Скотт представлял себе особенно зловредные сорняки с отпечатанными на листьях хмурыми ликами президентов. По слухам, Конрад Макгуайр обогащался на войнах, был бутлегером старой школы, торговал канадским виски во времена сухого закона и не брезговал прострелить человеку колено ради получения своей рыночной доли. Некоторые долгожители до сих пор называют его жену артисткой из погорелого театра и нимфоманкой. Говорят, она питала слабость к наемным работникам, раздевала молодых северян, которых поставлял ей муж, наблюдавший за ними из стенного шкафа с бутылкой виски и с плеткой на шее. Все они давно умерли, обрели после смерти достоинство, которым не обладали при жизни. Легендарный фамильный георгианский особняк стоит у подножия холма к западу от города, удаленный, но хорошо видный снизу, предупреждая желающих достичь тех же высот, что это место занято.
Скотт здесь не был восемнадцать лет, с того самого дня перед выпуском, когда мать его послала к Колетте Макгуайр с бальным платьем, на переделку которого потратила неделю по указаниям Ванды, матери Колетты. Помнится, он по пути расстегнул сумку, заглянул внутрь, погладил атлас кончиками пальцев, воображая под ним ее тело, сильно возбудился и грубо себя обругал.
Теперь Генри тихо сидит на заднем сиденье, разглядывает заснеженный пейзаж. Сначала рассуждал о крысах в библиотеке и умолк, когда впереди замаячили белые холмы.
— Если ты меня украдешь, — сказал он, — назад не попрошусь.
— Подумаю.
— В Мексику можно поехать.
— Что там, в Мексике?
— Чалупы.[6] — Генри махнул рукой на возникшую за деревьями ферму Макгуайров. — Зачем мы туда едем?
— Хочу найти кое-что.
— Книжки?
— Да.
— Про что?
— Про людей, живших очень давно.
Скотт въехал на круглую подъездную дорожку перед особняком, увидел неуклюже приткнувшийся поперек нее красный автомобиль с откидным верхом. Дворник в грубой оранжевой куртке и черной вязаной шапке, под которой выпучивались наушники, расчищал проход. Он даже не посмотрел на приехавших, когда они вылезли из машины и проследовали мимо него к парадному. Скотт позвонил, подождал, еще раз позвонил, вернулся, хлопнул мужчину с лопатой по плечу:
— Колетта дома?
Дворник повернул к нему лицо цвета вареной картошки. Вблизи слышен грохот тяжелого рока в наушниках, сквозь который вопрос не пробился. Скотт его повторил, дворник сощурился, помотал головой и вернулся к работе. Скотт собрался опять позвонить, но тут из-за угла дома вывернула Колетта в джинсах и черной кожаной мотоциклетной куртке, остановилась, сняла темные очки, долго глядела на него, как на галлюцинацию — конечный плод запретной связи с фармакологией.
— Скотт Маст, — сказала она. — Теперь точно вижу.
— Привет.
На близком расстоянии кажется, будто некоторые детали ее внешности — груди, губы, скулы, — несколько увеличились по сравнению с помнившимися. Искусная тонкая пластическая хирургия укрупнила их, отодвинув прочие на задний план. В результате Колетта смахивает на чрезмерно надутую куклу для секса.
— Как поживаешь?
— Ну что сказать? — Она развела руками, застежки куртки звякнули на морозе. — Тут живу. Поклялась никогда не возвращаться в это самое распроклятое на всем свете место, и все-таки живу. — Она поддернула один рукав, и Скотт заметил припухший шрам на запястье, похожий на косой шов от сварки, и сверкнувшее на солнце обручальное кольцо.
— Замуж вышла?
— Много чего сделала. А ты?
Он предъявил неокольцованную левую руку.
— Полный бред, — сказала Колетта. — Я всегда представляла вас с Соней вместе.
Не угадаешь, серьезно она говорит или нет.
— Да ведь ты не был даже на выпускном вечере, правда? Болтали, что она тебя отфутболила.
— Это было давно.
Ворона села на тонкую снежную корку, моргнула на них, расправила крылья и улетела.
— Ну, — продолжала Колетта, — и что ты вынюхиваешь в моей дерьмовой империи?
— Ищу кое-какие сведения о своей семье. Библиотека закрывается, а я слышал, у тебя хранятся архивы и старые городские газеты.
— Да, — кивнула она, — библиотеку жалко. Сердце разрывается.
Не ясно, шутит или нет. Скотт забеспокоился. Несмотря на холод и ветер, пот выступил на коже, Колетта наверняка заметила.
— Можно посмотреть? — спросил он.
— Хочешь в закромах пошарить? — Кажется, будто улыбку удерживают на месте глубокие хирургические стежки, дополняющие косметическую хирургию. — Конечно, пошли.
Колетта направилась через ландшафтный двор — «по горам и долам», вспомнил Скотт фразу из детской книжки, — к внешней стене усадьбы, мимо мраморного фонтана и широкой полосы луговых цветов, умиравших под снегом. На дальнем краю газона на фоне густых деревьев, ограждавших участок, виднелась длинная постройка.
— Что это?
— Хлебный амбар. Мой прадед там самогон прятал. Говорят, там он также кастрировал одного своего конкурента, отослал к нему домой яйца в пивной бутылке. Хладнокровные старые времена, правда?
Дверь амбара висела на ржавых железных петлях, застывших в столбняке. Колетта схватила ручку обеими руками, с преувеличенным усилием открыла створку:
— Будь как дома.
Пришлось чуть обождать, пока глаза привыкнут, и Скотт сначала отметил лишь запах гниющей бумаги, картона, сырости и плесени, слабое веяние старого спирта, застоявшейся мочи. Смутно подумал о пульпе, о древесной массе и изобретшем ее французе, вдохновленном осами, которые смешивают древесину со слюной, получая дешевую бумагу. Повсюду на площади в четыре-пять футов стоят открытые коробки, рассыпаны книги и старые документы. В одних ящиках кишат долгоносики, в других — лениво гудят полумертвые мухи, не понимая, что их сезон давно кончился.
— Что это?
— История города, — ответила Колетта. — Иногда захожу сюда, думаю, не закопать ли ее в землю. Конечно, это невозможно, иначе я лишусь наследства. Об этом позаботились папины адвокаты, равно как и о том, чтобы я проводила здесь худшие в году шесть месяцев. Впрочем, когда напьюсь до упаду, время от времени прихожу бумаги потоптать. Кстати, о выпивке… — Она кивнула на дом. — Или для тебя слишком рано?
— Пожалуй, рановато.
— Да ладно! Солнце на западе уже садится, как говорил мой папа.
Скотт покачал головой:
— Если не возражаешь, мы лучше останемся и покопаемся.
— Копай сколько хочешь. Как почувствуешь жажду, я дома. — Она с улыбкой наклонилась к Генри. — Для малыша найдется печенье, вкусненькие шоколадные чипсы.
Генри посмотрел ей вслед и шепнул:
— Жутко страшная.
— Можешь мне не рассказывать. — Минуту помедлив и удостоверившись, что Колетта зашла в дом, Скотт побрел в глубь амбара, петляя между связками бумаг, книгами, раскрытыми папками, толстыми архивными файлами, из которых вылезали рукописные листы. Что-то защекотало шею, он махнул рукой не глядя.
— Мне что делать? — спросил за спиной Генри.
— Ничего. Ничего не трогай.
— Что ты ищешь?
— Имя и фамилию.
— Розмари Карвер?
Скотт изумленно взглянул на него.
— Я слышал, как ты разговаривал с тетенькой в библиотеке, — пояснил Генри. — У которой пятно на щеке. Розмари Карвер давно жила, да?
— В тысяча восемьсот восьмидесятых годах. — Нога на что-то наткнулась, стекло треснуло, хрустнуло на полу. — Ох, черт!
Скотт наклонился, увидел разбитую рамку, прислоненную к отсыревшей коробке с рукописным ярлычком, на котором было написано крупными буквами НЕКР. Отвернул влажные клапаны крышки, заглянул, не решаясь сунуть внутрь руку. Там лежала куча газетных некрологов. Некоторые относились к временам Великой депрессии[7] и даже раньше, хотя самые старые выцвели так, что разобрать можно лишь заголовки. Он принялся перебирать бумаги, крошившиеся в руках. Хватал горсть, разглядывал фамилии и фотографии. Ни о ком из покойников сроду не слышал, только предполагал, что все это жители города. Минут через десять почти на дне обнаружился некролог Губерта Госнольда Маста в местной газете, датированной 1952 годом. Скотт пригляделся в слабом зимнем свете.
Согласно некрологу, Г. Г. Маст был художником, учился в бостонском колледже и за границей, много лет путешествовал по Европе, потом осел в дорогой частной подготовительной школе в Вермонте. Его преподавательская деятельность описывалась подробно и любовно, подчеркивалась преданность делу. Здесь он встретил свою будущую жену Лору, здесь у них родился единственный сын Бутч, внучатный дядя Скотта, миссионер, автор фильма, впоследствии неразрывно связанного с пожаром в кинотеатре «Бижу». Значит, Губерт Маст — прадед. Дальше в некрологе сказано, что после войны Г. Г. Маст развелся с женой, бросил ее с маленьким Бутчем, вернулся в Париж, снял мансарду на Левом берегу, старался вернуться к живописи, боролся с бесконечными долгами, подорвал здоровье, пережил «моральную деградацию», под чем автор статьи, видимо, подразумевал безнадежный гомосексуализм, венерические заболевания или то и другое. К концу жизни Г. Г. строил не совсем чистосердечные планы о возвращении в Штаты, к жене и сыну, но было уже слишком поздно. Однажды в мае 1952 года домохозяйка-француженка поднялась к нему за квартирной платой и нашла его повесившимся.
— Скотт!
Он оглянулся на стоявшую в дверях Колетту в кожаной куртке.
— Темнеет, — не совсем твердо проговорила она. — Точно не хочешь зайти пообедать?
— Нам ехать надо.
— Нашел, что искал?
— Не совсем.
— Стыд и позор, — пробормотала она. — Может, не там ищешь. — Ее губы, язык, зубы были окрашены розовым, словно она пила вишневый ликер, смешанный с микстурой от кашля. — Значит, пока не вышло?
Скотт сунул некролог Г. Г. Маста в боковой карман.
— Материалов много, не знаешь, с чего начинать.
— Может быть, моя тетя Полина поможет, — сказала Колетта. — Местный авторитет по скандалам и городским легендам. Точно знает, кто где похоронен.
— Где она?
— Наверху. — Колетта махнула рукой на дом. — Пошли.
Скотт и Генри последовали за ней по извилистой дорожке, вымощенной скользкими плитами, вошли через двустворчатую стеклянную дверь прямо в парадную гостиную. Мебель идеально расставлена, устрично-серый ковер расстилается безупречными бесшовными волнами. В комнате влажно, как в оранжерее, жаркий воздух приторно сладок от смешанных ароматов импортных южных цветов. Скотт почти приготовился увидеть шмелей, перелетающих с лепестка на лепесток. Сквозь цветочные запахи пробивается искусственная сладость сиропа и сахара. Колетта остановилась у бара, вытащила почти пустой графин с чем-то красным, налила высокий стакан до краев.
— Выпьешь?
В стакан шлепнулся кружочек лайма, руку забрызгали капли.
— Р-ромовый пунш-ш, — выговорила она заплетающимся языком.
— Нет, спасибо.
— Чего-нибудь другого? — Схватила с полки длинную бутылку водки, плеснула на два пальца, позвенела кубиками льда и сунула ему.
Скотт перехватил стакан, чтобы не расплескался.
— Давай за мной.
Поднялись по винтовой лестнице, запомнившейся с его первого и единственного визита, кружившейся живописными витками в открытом пространстве, наполненном цветочной пыльцой. Колетта цеплялась за перила, как коричневый паук-отшельник, ведя их на площадку и по коридору к закрытой двери. Коротко постучала, подождала ответа, еще стукнула:
— Тетя Полина! Летти гостей привела.
Изнутри не донеслось ни звука. Она повернула ручку, распахнула дверь. В огромной спальне доминировала затейливая кровать с пологом, где на горе подушек возлежала крошечная старушка в прозрачном белом пеньюаре. Глаза ее сверкали, возможно от старческого слабоумия. Рядом с кроватью старомодное кресло-коляска. Плотные шторы преграждают доступ остаткам дневного света, где-то играет биг-бэнд — оркестр Бенни Гудмена, Джина Крупы, Гленна Миллера или Каунта Бейси исполняет популярную композицию. Стены увешаны театральными сувенирами в рамочках — билеты, рекламные снимки, программки и вырезки из газет, рецензии и объявления. Поставив стакан и поближе рассматривая фотографии, Скотт решил, что хотя бы на некоторых присутствует сама Полина, когда она была гораздо моложе и напоминала Барбару Стэнвик, хоть и не столь внушительную.
— Тетя Полина, позволь тебе представить моего приятеля Скотта Маста и его племянника.
Женщина кукольных размеров села, прикурила сигарету от золотой зажигалки величиной с боевую гранату, закашлялась, разогнала дым миниатюрной ладошкой и одарила Скотта кривой, но искренней улыбкой, которая только чуть-чуть поблекла, когда она его как следует разглядела.
— Кажется, я вас знаю.
— Наша семья давно живет в городе.
— Нет, — сказала тетя Полина, — именно тебя. Помню, ты принес Колетте бальное платье перед тем, как… — Она стукнула себя в висок кривым пальцем, бросила на него косой взгляд с прищуром, не совсем доброжелательный. — Такое не забывается.
Колетта хмыкнула, резко запрокинула стакан, и на щеке осталась розовая полоска от ободка.
— Скотт интересуется местной историей.
— Да?
— Ищет некую Розмари Карвер.
Глаза тети Полины сверкнули в облаке дыма.
— Ох, — сказала она, — несчастная умершая крошка.
— Вы о ней слышали? — спросил Скотт.
— В каждом городе есть свои призраки, — объявила Полина, не трудясь оглянуться на внучатную племянницу. — Розмари… Я сказала бы, ангел, малышка, преждевременно взятая на небеса.
— Что с ней произошло?
Полина ответила не сразу. Сладострастно докурила сигарету, окутавшись густым облаком.
— Она исчезла.
— Из местной семьи?
— По-моему, они явились откуда-то издалека.
— Сколько ей было лет, когда она исчезла?
— Думаю, двенадцать, максимум тринадцать — невинное дитя. Ягнята часто отбиваются от стада. Не правда ли, Колетта?
— Правда, тетушка, — ухмыльнулась та.
— А ее родители? — допытывался Скотт.
— Мать умерла при родах. Отец… Роберт… был школьным учителем. Неприятный тип во всех отношениях.
— Почему?
Из облака дыма донесся вздох.
— Этот субъект вошел в пословицу. Ученики боялись его до ужаса. Был у него в классе мальчишка по имени Майрон Тонкин, сын солдата, по слухам, настоящее дьявольское отродье. Обожал подглядывать за девочками в уборной. Однажды мистер Карвер увидел, как он шпионит за его собственной дочерью. Причем парень не просто смотрел, если ты меня понимаешь.
— И что? — Скотт приготовился к худшему. — Он избил мальчика?
Тетя Полина покачала головой.
— Нет. Просто поговорил. Минут пять. До сих пор никто точно не знает о чем. По свидетельствам, олух вернулся в класс бледный как смерть. Стоял и смотрел в пустоту, вытянув перед собой руки. Сначала думали, будто он притворяется, глядя в пространство, натыкаясь на стены и парты, потом поняли, что в самом деле ослеп.
— Мистера Карвера допрашивали?
— Нет, конечно, — сказала Полина, облизав губу. — Он только сказал, что парень наконец-то избавился от порочной привычки. В определенных кругах шли слухи, высказывались предположения, что мистер Карвер… что-то с ним сделал, но никаких официальных обвинений не предъявлялось. Дальше были другие, не столь драматичные случаи: одна девочка, неисправимая сплетница и ябеда, внезапно начала жестоко заикаться. Еще одного паренька, хулигана, любившего мучить животных, насмерть затоптала отцовская лошадь. Все они обладали определенными недостатками, и все так или иначе исправились.
Полина помолчала, оглядывая спальню, и Скотт вдруг осознал, что музыка давно умолкла.
— В любом случае Карвер ушел из школы после исчезновения дочери. Кое-кто нашептывал, что он сам навлек беду на свою голову после того, что сделал с мальчишкой Тонкином.
— Якобы сделал, — уточнил Скотт.
— Мистер Маст, вас наверняка учили, что правила этикета не позволяют перебивать старших. — Тон старушки нисколько не изменился. — Карвер грозил похитителю дочери еще более страшными карами.
— Зачем надо было кому-то причинять вред маленькой девочке?
— Зачем кому-то вообще надо причинять вред другому? — Полина пожала плечами. — Кровь за кровь, око за око.
Скотта мороз по спине прохватил — библейский закон показался глубоко ошибочным.
— Он нашел ее?
— Наоборот, — ответила Полина. — Сам исчез. Больше никто никогда их обоих не видел.
— Над тетей Полиной обхохочешься, правда? — спросила Колетта, ведя гостей вниз, цепляясь за перила так слабо, что Скотт приготовился подхватить ее при падении. На первом этаже его вновь охватил сладкий запах цветов, тошнотворный и всеподавляющий. Разумеется, дома он будет идти от одежды, что гораздо хуже табачного дыма от сигареты тети Полины.
— Не пойму, откуда ей известно о таких давних событиях, — сказал он.
— Шутишь? Тетка все знает. Потомки упомянутых личностей до сих пор живут в городе и прядут свою пряжу. Энни, праправнучка гадкого мальчишки Майрона Тонкина, работает в больнице. Когда тетушка в прошлом году сломала шейку бедра, они часами шушукались, обменивались историями о привидениях и были неразлучны.
Спустившись с лестницы, Колетта сделала резкий финт влево к бару, где ее поджидала бутылка водки, налила стакан, даже не глядя.
— А твой где?
— Наверно, наверху забыл, — ответил Скотт.
— Точно не останешься ужинать?
Он взглянул на окно. Уже так стемнело, что можно было пересчитать первые звезды. Послышался гул мотора внизу на подъездной дорожке, куда, взвизгнув шинами, вывернул пикап. Послышалась искаженная динамиками музыка кантри, вой и писк гитар, ударные и струнные. Автомобиль остановился, из него вылез мужчина с простым симпатичным открытым лицом, в дорогом пальто, специально скроенном для широких плеч, зашагал нарочито раскачивающейся походкой человека, который воображает, будто вся вселенная содрогается под его шагами. Скотт понял, что перед ним предстал Ред Фонтана.
— Мы поедем, — сказал он.
Колетта усмехнулась.
— Не волнуйся из-за Реда. Он сейчас поднимется, переоденется и отправится в бар к Соне Грэм. В два часа ночи вернется домой, попытается меня трахнуть… курам на смех. — Она понизила голос до театрального шепота, имитируя конфиденциальность. — Ему особенно нравится, когда я лежу как колода и позволяю делать все, что он хочет.
— Хватит. — Скотт заткнул уши племяннику. — Довольно.
Колетта наклонилась к мальчику, поддела пальцем подбородок, глубоко заглянула в глаза, ища признаки понимания. Генри тоже пристально смотрел на нее, как обычно, без всякого выражения. Невозможно представить, чем она дышит ему в лицо. Наконец Колетта легонько щелкнула его по носу.
— Если бы твое желание могло исполниться, чего ты хотел бы? — спросила она.
— Стать призраком, — ответил Генри.
Она расхохоталась, зашептала ему на ухо, распрямилась и посмотрела на Скотта.
— Знаешь, просто стыдно, что у вас с Соней ничего не вышло.
— Спасибо за помощь.
Садясь в машину, он спросил у Генри:
— Что она тебе шепнула?
— Что я уже призрак.
Скотт вгляделся сквозь тьму в широкое окно спальни и увидел лицо между шторами. Лицо старой тетки. Полина добралась до коляски, уселась, наблюдая за ним из пропахшего ароматами дома. Дымное облако вокруг нее рассеялось. Она больше не улыбалась. Скотт почувствовал уже знакомый звон в затылке, словно мотылек порхнул в опасной близости от фумигатора с инсектицидом, и приготовился к шоку.
Глава 13
По дороге домой перекусили жареной рыбой в «Капитане Чарли». Хозяин, у которого сбоку на шее была вытатуирована ящерица, сидел за кассой, читал газету, а Скотт с Генри понесли картонные коробочки с жареным окунем и кукурузными пончиками в дальнюю кабинку, украшенную рыбацкими сетями и пластмассовыми крабами. Сели под фотографией в рамке, на которой один из владельцев заведения стоял рядом с Джоном Траволтой на съемках фильма, вышедшего несколько лет назад. Его время от времени крутят по кабельному телевидению, и Скотт изо всех сил старался не смотреть, чтобы не видеть улиц родного города под непривычным голливудским углом.
Потом он поехал к отцовскому дому, повел Генри к двери. Мальчик явно не решался входить.
— Скоро увидимся, — сказал Скотт.
— Сегодня вечером? — уточнил мальчик с надеждой.
— Вряд ли. Уже поздно.
— Куда торопишься? — требовательно прозвучал изнутри голос Оуэна. По телевизору шел футбол.
— Есть дела дома.
— Дела? — насмешливо переспросил брат.
Скотт вошел в гостиную. Оуэн, расположившись перед экраном, набивал рот картофельными чипсами из пакета размерами с наволочку от подушки. Вокруг громоздились бутылки и мусор, словно выброшенные на берег тропическим штормом. Ладонь обернута окровавленным бумажным полотенцем — пятнистым флагом, приклеенным полосками скотча с налипшими солеными желтыми крошками.
— Иди к себе, спать ложись, — приказал он, не глядя на Генри. Когда мальчик поднялся по лестнице, обратился к брату: — Долго еще собираешься здесь торчать?
— Пока не знаю.
— Ну-ну. — Оуэн отодрал бумажное полотенце, слизнул соль с раны, не сводя глаз со Скотта. — Может, самое время подумать.
— Ты так и не рассказал, зачем ходил в сарай.
Оуэн опустил глаза, взял с пола бутылку пива и осушил.
— Если папа что-нибудь оставил, то мне причитается доля.
— Значит, деньги искал?
— Не желаю всю жизнь катать тачки и перетаскивать на горбу мусор. — Он покраснел, выплевывая слова, и Скотт, глядя на бутылку в его руке, гадал, не лопнет ли она с минуты на минуту.
Видя искреннюю злобу брата, он знал, что не услышал правдивого ответа. Может, Оуэн сам не знает, что делал в сарае. «Боится, — понял Скотт. — Я попросил объяснить то, чего он не понимает и поэтому чувствует себя зверем, загнанным в угол».
Оуэн сделал глубокий вдох и поставил бутылку на угол стола справа от себя.
— Помнишь, как тебя в пятом классе доставал Брэд Шомер? Однажды долбанул об стенку в кафетерии, надеясь на драку.
У Скотта вспыхнули уши.
— Помню.
— Ты сломался и заревел.
— Пока ты не заступился и не отлупил его. Никогда не забуду.
— Я все думал, почему ты никогда не мог постоять за себя. Теперь понял. В жизни надо либо драться, либо бежать. Ты всегда был беглецом.
Скотт посмотрел на кусочек бумажного полотенца, прилипший к руке.
— Обработай рану. Передай Генри, что я пожелал ему спокойной ночи.
Возвращаясь к машине, он чувствовал на спине взгляд Оуэна.
Скотт поспешно выезжал из города с тикавшим в желудке секундомером, с ощущением утекающего времени. Встреча с Колеттой, с ее старой теткой напомнила, что у всего есть предельный срок, настоящее бульдозером врезается в будущее, таща за собой всю тяжесть мира. Колетта была когда-то красоткой, внушавшей веру в милость всемогущего Бога, неподвластную губительному влиянию времени. Теперь все исчезло, протухло, увяло.
А Оуэн? У него есть реальный шанс? Над ним постоянно висят грозовые тучи, неся бесконечное разочарование с тех самых пор, как Скотт его помнит.
А ты сам? У тебя что есть?
Как бы отвечая на вопрос, он повернул ручку парадной двери, вошел в дом. Холод сразу окружил, охватил, пробрался под одежду до самой сердцевины. Скотт включил свет и медленно пошел по коридору, отчасти надеясь увидеть кого-то или что-то, поджидающее его. Время здесь тоже идет, но ощущение тикающего секундомера исчезло, сменилось более приемлемым образом песочных часов. Почти слышно, как сыплется песчаная струйка. Вспомнились слова профессора литературы: «Мы пишем для того, чтобы остановить время. Как ни парадоксально, это позволяет увидеть, как все изменяется». Стрелки на школьной доске, диаграммы и уравнения — действие и противодействие, причины и следствия.
Он поднялся по лестнице, бессознательно пересчитывая ступеньки, остановился на площадке, повернулся, пошел вниз, дальше по коридору и за угол.
Черед двадцать минут сидел в столовой с ноутбуком на коленях. На часах 20:02. Предвидя лишь очередной марафон головной боли от разочарования, по-прежнему смотрел в пустой монитор с мигающим курсором.
20:07.
20:13.
20:22.
Воззвал к творческому воображению.
Я ведь пишу тексты для поздравительных открыток, правда? Почему не написать литературное произведение?
Зажмурился, составил мысленный образ столовой, какой ее видел Фэрклот на сто тридцать восьмой странице. На столе лежит «люгер» рядом с наполовину полной бутылкой виски «Харпер», хотя Фэрклот назвал бы ее наполовину пустой. Пачка сигарет «Лаки страйк», коробок кухонных спичек в красную и белую полоску. И в целом Круглый дом — огромный старый особняк с бесконечными подсознательными искривлениями и скругленными углами, заключающий его в себе этой ночью.
Я Фэрклот. Фэрклот. Жду…
Но в историю вклинивается последняя страница. Рядом с пистолетом, бутылкой виски и сигаретами в воображении нарисовалась пачка старых бумаг, справочных материалов, заметок с упоминанием имени Розмари Карвер. Старые газетные статьи. Судебные протоколы. Свидетельства очевидцев о пропавшей девочке, о маленьком заблудшем ягненке из Милберна. Как назвала ее тетя Полина?
Ангел, малышка, преждевременно взятая на небеса.
Глаза открылись. Скотт взглянул на пустой монитор и понял, что писать. Не возникло общего представления, только слова, словно рядом стоял отец и нашептывал на ухо. Он без колебаний начал набирать:
Фэрклот осмотрел все лежавшее на столе. Скоро вернется Морин, пьяная, пахнущая чужим мужским одеколоном, начнет орать, ругать его за беспорядок в столовой, но ему стало вдруг безразлично. Наплевать на жену, превратившуюся в свинью, и на ее измены прямо у него под носом, и на свою жалкую импотенцию, которую он притворно отрицает. Единственное, что имеет значение, — Круглый дом и девочка, ангел, преждевременно взятый на небеса, пропавшая и одинокая, погибшая где-то при жутких обстоятельствах, о которых можно только гадать.
Фэрклот взглянул на старые бумаги и услышал шорох.
Потом по дому разнесся отчетливый скрежет, щелчок ключа, повернувшегося в замочной скважине. Морин
Щелк!..
Звук слабый, но отчетливый. Из парадного. Скотт перестал печатать, наклонил набок голову, не отрывая пальцев от клавиатуры, прислушался, ожидая повторного скрежета металла о металл при повороте ключа.
Больше ничего не услышал, поднялся с диванчика со слабо бьющимся сердцем, вышел из столовой в длинный пустой коридор, ведущий к парадной двери, слыша ускорявшийся скрип своих шагов по половицам. Как ни смешно, хотел крикнуть: «Кто там?» — но сумел удержаться, схватился обеими руками за ручку, повернул, желая поскорей покончить с нелепым моментом, открыл дверь.
На крыльце никого.
Естественно. Фантазия разыгралась и фокусничает из-за перерыва в приеме лекарства.
Скотт замер, глядя на дверную створку с другой стороны.
Снаружи в замке торчит ключ, прицепленный к кольцу с дюжиной других ключей. Он до них дотронулся, взвесил на ладони, позвенел, ощупал бороздки — ключи настоящие, только необычайно холодные, будто их только что вытащили из морозильника. Дернул ключ в скважине, ожидая сопротивления, но он легко вышел. Наверно, они давно тут висят. Агентша завезла и оставила в его отсутствие.
А откуда недавно слышался щелчок?
Из дома.
Скотт захлопнул дверь и запер изнутри. Вернулся к компьютеру и написал:
Морин вывернула из-за угла, стараясь двигаться тихо, но была слишком пьяной. Дешевые туфли на каблуках, громыхая, как камни, по деревянному кухонному полу, пробудили бы мужа от самого крепкого сна.
Когда она его застала в столовой, опухшее лицо жарко вспыхнуло, расплылось в идиотской ухмылке.
— Карл! Что ты тут до сих пор делаешь?
— Вклеиваю в альбом вырезки.
— Вырезки? — Водянистые глаза окинули стопки бумаг: старые газетные статьи, исторические документы. — У тебя нет никакого альбома.
— Теперь завожу, — улыбнулся он.
— Уже за полночь, милый. Ты не устал?
Он покачал головой и медленно поднялся, видя, что на ее лице расплывается тревога, как облачко, накатившееся на луну. Это не доставило ожидаемого удовольствия — нервные окончания притупились. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло…» — возникла в памяти цитата из Писания.
— Ну, — сказала она, — а я лягу. Совсем вымоталась.
— Морин…
Она оглянулась, увидела нацеленный на нее «люгер», выпучила глаза, визгливо хихикнула, и звук сразу растаял.
— Карл… — почти прошептала Морин, протянула пухлые руки, демонстрируя блестящие ладошки. — Ты меня больше не любишь?
— Конечно люблю.
— Тогда зачем…
Выстрел грянул гораздо громче, чем ожидалось, оглушительно раскатился по дому. Она отлетела назад, будто притянутая рывком невидимого каната, молча ударилась в стену, сползла на пол. Из-под нее потекла темная кровь, впитываясь в потемневший ковер.
Фэрклот положил пистолет и направился к ней, не чувствуя ни страха, ни недоверия. Пульс не ускорился, дух не перехватило, не возникло никаких физических симптомов волнения. Он был абсолютно спокоен и рассудителен.
Опустился на колени, закатал тело в ковер, потащил тюк по полу к дубовой двери в углу столовой, положил в сторонке, открыл дверь, заглянул в глубокое черное пространство без окон, уходившее в бесконечность, втащил туда тюк.
Скотт остановился, перечитал написанное, позволил себе испытать определенное удовлетворение. Наконец, пошло дело. Пока еще ничего выдающегося, но хотя бы рассказ идет в русле отцовского. Слова на странице не вызвали глухого раздражения.
Он встал, расправил спину, взглянул на часы, увидел, что уже почти полночь. Боль в спине — приятное следствие усердной работы.
Уходи, пока ты впереди. Утром продолжим на свежую голову.
Не останавливайся на подъеме.
Нынче ночью он на подъеме. Скотт вновь поднес руки к клавиатуре и продолжил.
Глава 14
Оуэн дремал на диване, когда на подъездную дорожку выехал автомобиль, фары осветили комнату косыми желтыми полосами, которые скользнули по стенам и исчезли. Он забурчал и сел. Включенный телевизор показывал информативную рекламу аппаратов, обещающих за тридцать дней тонизировать и привести в форму брюшные мышцы. На другом конце дивана свернулся котенком Генри, наполовину прикрытый собственной курткой, видя свои секретные детские сны. Оуэн передернулся и огляделся. Гостиная показалась длинной, холодной, загроможденной до потолка незнакомыми тенями.
Во дворе открылась и захлопнулась дверца машины. Ночь была такой тихой, что отчетливо слышался ровный, невозмутимый хруст шагов на дорожке. Он встал, перешагнул через последнюю пустую бутылку из-под пива, взглянул из кухни на силуэт на крыльце, оценил рост и массу. Сквозь тусклое стекло видна фигура, приблизившаяся к двери. Пульс на горле бился так сильно, что его можно было бы заметить в зеркале. Прежде чем Оуэн решил, что делать, раздался громкий стук.
Он выдвинул ящик буфета, вытащил нож для мяса.
— Кто там?
Снова стук, еще громче. В памяти промелькнул повторявшийся детский кошмар: безликий человек в черном стоит перед домом, выкрикивает среди ночи его имя, а он прячется в ожидании под одеялом. «Уходи! Уходи!..» Но черный человек не уходит. «Оуэн Маст! Я знаю, что ты там! Иди сюда, ко мне!» Ни разу не сказал, чего ему надо, да это и не важно. Хорошо известно, если выйти, попасть в черные руки — почему-то на руках явственно представляются длинные черные кожаные шоферские перчатки, — прямо на месте умрешь от страха.
Оуэн сглотнул — горло словно выстелено наждаком. Голова прояснилась, в затылке почти больно пульсирует кровь. Лучше бы не вспоминать старый кошмарный сон. Много лет не вспоминал.
Держа в руке нож, он сделал шаг из кухни и расправил плечи, изображая уверенность в состоянии полной растерянности.
— Кто там? Ты, Скотт?
Не получив ответа, взялся за ручку двери, слишком поздно сообразил, что не запер ее на замок. Ручка повернулась, дверь открылась. За ней стояла женщина в кожаной куртке с двумя бумажными продуктовыми пакетами в руках. Прошла минута, прежде чем Оуэн ее узнал, и еще одна, подлиннее, прежде чем осознал реальность ее появления здесь в такой час.
— Ну, позволишь войти? — спросила Колетта Макгуайр. — Или так и будешь стоять столбом? — Взглянула на нож и расхохоталась. — Ох, боже… Уже с ножом.
Оуэн опустил нож, открыл рот и снова закрыл. Зимняя ночь полностью обесцветила ее кожу, добившись потрясающего эффекта. Колетта будто сошла со сцены театра кабуки с абсолютно белым лицом, кроме двух идеально круглых розовых пятен на щеках. Не дождавшись ответной реакции, она протиснулась мимо него на кухню, звучно шлепнула на стол коричневые пакеты, повернулась, потирая руки.
— У тебя адский холод. — Спиртные пары окружали ее облаком, как духи. Облако столь густое и знакомое, что Оуэн потянулся к нему с пробудившимися воспоминаниями. — На ветру ниже тридцати.[8] Хочешь хохму? У меня дом в Ки-Бискейне[9] прямо у воды. Закрою глаза и буквально слышу запах масла для загара.
Оуэн передернул плечами, ища разгадку или хоть слова, которые можно было бы сказать. Разглядел в коричневых пакетах две упаковки пива «Шлиц» по шесть банок в каждой, холодную мясную нарезку, хлеб, молоко, пачку печенья, арахисовое масло, джем и с трудом выдавил:
— Что это?
— Что?
— Вот это. — Он кивнул на продукты и пиво. — Решила заранее изобразить рождественского ангела?
Колетта сделала небольшой пируэт посреди кухни и вздернула подбородок.
— Ты ведь должен заботиться о ребенке, правда? А он должен питаться. — Взгляд ее слегка обострился. — А ты, по последним дошедшим до меня сведениям, иногда любишь пивка хлебнуть.
— Не нуждаюсь в благотворительности.
— Единственная известная мне благотворительница — одна шлюха из Мемфиса. Я же просто стараюсь помочь.
— В час ночи? — В голову вдруг взбрела неприятная мысль. — Тебя брат попросил?
— Думай что хочешь. — Колетта махнула рукой у него перед носом, будто тема ее больше не интересовала. — Здесь еда. Можешь взять, можешь выкинуть на помойку. В данный момент мне решительно наплевать.
— Приехала в такую даль, чтоб сообщить об этом?
Она повернулась, юркнула за угол в гостиную, где лежал Генри. Оуэн поспешил следом, смутно обеспокоенный ее присутствием в одной комнате с мальчиком, как забеспокоился бы, если б в комнату к спящему сыну вошло неизвестное животное. Колетта стояла у дивана, смотрела.
— Не бойся, — сказала она. — Я не кусаюсь.
Оуэн промолчал.
— Они сегодня ко мне приезжали.
— Кто?
— Скотт и Генри.
Оуэн нахмурился, земля начала уходить из-под ног, как углубляющееся дно пруда.
— Значит, он тебе поручил продукты привезти.
— Я бы не сказала. — Колетта слегка пошатнулась, полезла в карман куртки, открутила крышечку с маленькой бутылочки виски «Джек Дэниелс», какие подают в самолетах, влила в рот, как бы не глотая, и вытащила такую же бутылочку водки. — На один глоток. Никогда не хватает.
— Ты уже нахлебалась.
— Из других миров слух дошел, — улыбнулась она мокрыми и липкими от виски губами. Если поцеловать, почувствуешь вкус. — Знаешь, кто я на самом деле такая, Оуэн? Позволь представиться: царица мертвых. — Распростертые руки объяли невидимую империю. — Поставлена во главе нового матриархата, где властвует расчет и холод.
— Господи Иисусе. — Оуэн уважительно кивнул, несмотря ни на что. — В какое еще дерьмо вляпалась?
— Откуда ты знаешь, черт побери? — Она все смотрела на Генри. — В данный момент от тебя разит выпивкой, проданной за неделю в радиусе двенадцати миль. — Протянула руку к голове мальчика, почти коснулась пальцами волос, но Оуэн ее одним ударом отбросил.
— Не тронь!
— Ты параноик? Пожалуй, имеешь полное право.
— Что это значит?
— Подумай. — Колетта на него посмотрела уже с другой улыбкой, медленной, ленивой, как змея, растянувшаяся на камне под солнцем. — Знаешь, маленький Генри очень любит дядю Скотта. Могу поспорить, маленький Генри отдал бы все, чтоб убраться отсюда, улететь с дядей Скоттом на Запад. Хочет, чтобы дядя Скотт был его папочкой. У него на лбу написано. Я сегодня надралась до ослепления тремя разными зельями и все равно увидела.
Грудь прострелила резкая боль, но Оуэн взял себя в руки, сделал глубокий вдох, и острое жало через секунду исчезло.
— Думаешь, для меня это новость? — сказал он, удивившись, что голос звучит ровно и твердо. — Думаешь, мне интересно знать твое мнение?
— Думаю, что вижу перед собой парня, который отыскал конец веревки и обнаружил, что она завязана у него на шее, — сказала она. — Я хочу сказать, оглянись, посмотри. Ты даже сам себя обеспечить не можешь.
— В отличие от некоторых капиталов не унаследовал.
— Правда, только и сам ничего не сделал. С другой стороны, братец Скотт — пример распроклятого американского успеха. Наверняка сможет себе позволить хороших адвокатов. Если серьезно решит помочь мальчику выбраться из гнусной берлоги, где ты его держишь…
— Слушай… — Оуэн вцепился в воротник кожаной куртки. — Тебе нет никакого дела до меня и до мальчика.
Промелькнувшее на ее лице удивление, каким бы кратким оно ни было, облегчило напряжение в груди, и он сразу понял, что вновь овладел ситуацией. Потом Колетта отбросила с глаз волосы, передернулась, припухшие губы открылись, испустили дымный тихий смешок, скорее почуявшийся, чем услышанный.
— Что я для тебя могу сделать? Только скажи.
— Ред знает, что ты здесь?
— Ред? — фыркнула Колетта. — Господи помилуй. У него свои дела сверх расписания. — В голосе прозвучала насмешка. — Даже не спросишь, зачем Скотт сегодня ко мне приезжал? Или ума не хватает вопрос сформулировать?
Оуэн понял, что готов ударить, всадить кулак в живот, с наслаждением видя, как с ее физиономии раз и навсегда исчезнет самодовольная ухмылка. Однажды он по судебному постановлению проходил психиатрическое обследование, в ходе которого терапевт подчеркнул важность визуального представления реакций. Проблема в том, что визуально представляются лишь худшие реакции. Поэтому он сунул руки под мышки, стиснул пальцы до боли в бицепсах.
— Скотт разыскивает сведения о Розмари Карвер, — доплыл до него голос Кодетты. — Тетя Полина наговорила ему полные уши. Добрая старушка всегда рада гостям.
Оуэн помотал головой:
— Я ни о той ни о другой не слышал.
— Ну конечно, — сказала она, — никто тебя нисколько не интересует. Последний человек на земле живет с сыном. Хорошо, что всегда можно рассчитывать на чужую доброту, иначе…
Внутри щелкнул рычаг, рука рванулась, как мачта, слетевшая с креплений, сбила со стола пакет. Упавшая на пол банка с арахисовым маслом лениво сделала пол-оборота и стукнулась в буфет.
— Уноси свою задницу из моего дома.
Колетта цыкнула языком.
— Кажется, кто-то не с той ноги встал.
— Убей меня.
— Спасибо, в другой раз.
Она выскочила, хлопнув дверью, а Оуэн вернулся в гостиную и сел рядом с сыном. Сердце сжималось от непереваренной ярости и унижения. Он положил руку на плечо мальчика, чувствуя, как поднимается и опадает его грудь, закрыл глаза, надеясь обрести от этого утешение. Несмотря ни на что — на необъяснимую злость на Колетту, на то, во что эта злость превратилась в последний момент перед тем, как он ее выставил, — с кухни слышался зов оставшегося пива. Было что-то приятное в этой песне сирены, и со временем он на нее ответил.
Щелкнув крышкой первой банки, мысленно услыхал смех Колетты.
Глава 15
В десять утра Соня проснулась в номере мотеля рядом с храпевшим Редом. Слезла с койки, направилась в ванную, слыша, как он сел у нее за спиной, крикнул:
— Эй!..
Она захлопнула дверь, пустила воду, чтобы не слышать. Плеснула в лицо холодной водой, быстро огляделась. Мало что можно найти в мотелях, где завершаются их встречи с Редом. Ни приветственного шампуня, ни хорошей туалетной воды, ничего, кроме брусочка мыла размером с кредитную карточку, чтобы вымыть из пор запах вчерашнего табачного дыма, виски и секса. Иногда кажется, чем больше надо смыть, тем меньше тебе дают мыла.
Ладно, душ можно дома принять. Эрл там гадает, где завтрак. Или не гадает. Отец нередко знает больше, чем показывает.
Выключив воду, Соня услышала, как Ред неторопливо шебаршится за дверью, наслаждаясь праздным утром после. Для него этот краткий момент — неизменная составляющая несоразмерного удовольствия от проведенных с ней редких, немногих ночей. Какие бы его ни ждали дневные дела, он буквально блаженствует, лежа в постели, слушая, как она одевается, совершает ритуальное утреннее омовение.
— Ну как ты? — спросил он, когда Соня вышла. Раскинулся на простынях нагишом, наблюдая за ней. Не получив ответа, вытянул руки, небрежно напружинил бицепсы.
Тело, пожалуй, даже в лучшей форме, чем у профессионального футболиста. По его словам, он по три часа в день занимается на тренажерах в гимнастическом зале, который специально для него оборудовала Колетта. Результат налицо.
— Отлично.
— В чем дело, принцесса?
— Терпеть не могу, когда ты меня так называешь. — Соня наклонила голову, вдевая в правое ухо серьгу. Замочек выскользнул из пальцев, упал на дешевый ковер. — Проклятье!
— Знаешь, кого я вчера вечером видел? — спросил Ред.
— Кого?
— Твоего старого дружка из прошедших времен.
Соня подняла глаза от ковра, на который упал замочек.
— Мы с ним просто дружили.
— Угадай, где я его видел.
— Удиви меня.
— В моем собственном доме. — Ред улыбнулся с горечью и изумлением. — С моей женой.
— Да? — Соня постаралась изобразить равнодушие и взглянула на Реда, проверяя, успешно ли. Он невыразительно улыбался, глядя на нее как будто издали. — Ты с ним познакомился?
— Они как раз уходили.
— Кто «они»?
— С ним был мальчик. Племянник.
— Генри? — Соня нахмурилась, вспомнив, как Оуэн, спотыкаясь, шатался в высокой траве, когда Скотт в тот вечер тащил его к дому. Трудно представить, чтобы человек в таком состоянии мог даже о себе позаботиться, не говоря уж о пятилетнем ребенке. По опыту известно, как дурно порой ведет себя Оуэн. Единственным способом замедлить поток спиртного, поглощаемый им в ее смену в баре, служат расспросы про Генри, напоминающие о домашних обязанностях. Иногда помогает.
— Генри. — Ред, как всегда, прочел ее мысли. — Сынишка его брата Оуэна?
— Да.
— Кстати, что там у вас было? — спросил он, почесывая густые волосы на груди и глядя в потрескавшийся потолок. — То есть у тебя с ангелочком с открытки. Кажется, в последнем классе школы вы как минимум по-дружески валялись в сене… или где тут обычно валяются… в снегу или в тополиных листьях?
— Что это значит?
— Постой. — Ред приподнялся на локтях, глядя на нее. — Скотт с Колеттой когда-нибудь…
— Что? — Соня пожала плечами. — Я их никогда не расспрашивала.
— Оуэн мне рассказывал, что вы чуть не подрались, ты столкнула его с тротуара.
— Ну и что из того?
— Может, застукала с Колеттой в щекотливом положении?
Соня взглянула на часы.
— Ты поэт.
— Слушай, вот что мне в тебе нравится, — сказал Ред, встал с кровати, подошел к ней, голый, с наполовину вставшим членом, почти целомудренно чмокнул в щеку, уколов щетиной подбородок. — Иногда ты бываешь самой грустной девочкой во всем великом штате Нью-Гэмпшир.
— Нет, — сказала она, — самая грустная наверняка твоя бедная покинутая жена. Может, поедешь домой, угостишь ее вафлями?
Ред рассмеялся.
— Ты вечером свободна?
— Занята.
— Тогда в баре увидимся.
— Буду считать секунды.
Его смех провожал ее до машины.
Хлопья снега лежали на земле размокшими конфетти после давно закончившегося парада. Гранитное небо, плоское, безоблачное, светлело к горам. Соня ежилась в пальто, запуская мотор и включая обогреватель. В голове туман от недосыпа.
Ред постоянно заглядывал в бар, и она отвлекалась от нудных обязанностей, видя знакомое лицо. Зная, что он играл в Национальной футбольной лиге, она представляла его слишком самоуверенным мачо, а Ред оказался на удивление скромным, внимательным слушателем с настоящим чувством юмора. Ее привлекла его общительность и душевность — качества, которые он, по ее мнению, приобрел после пережитого в Нью-Йорке. Сам факт женитьбы на Колетте Макгуайр в тот период их жизни весьма интересен.
Впрочем, Соня думала сейчас не о нем, а о Скотте и Генри. Зачем они поехали к Колетте?
Скотт собирает материал для книги. Может, просто искал информацию, но тогда почему ничего не сказал?
Другой вопрос еще лучше: «Какое мне до этого дело? Абсолютно никакого».
Она нашла старый лазерный диск группы «Супрем», поставила, прибавила громкость. Признав музыку не соответствующей моменту, перебрала коробку, отыскала «Душу и тело» Билли Холлидея. Через пару секунд Леди Дэй запела: «Эй, малыш, я тебе не гожусь?» Голос, летевший под зимним нью-гэмпширским небом, заполнил салон машины почти нестерпимой болью, но Соня все равно слушала.
Загудел сотовый. Ред. Она приглушила звук.
— Слушаю.
— В бардачок загляни.
Соня дернула крышку, изнутри выпал пухлый тяжелый конверт, зашуршавший двадцатками и парой сотенных.
— Ред…
— Это тебе для папы.
«Выгодно быть твоей подстилкой», — подумала она с внезапной отчаянной, ошеломляющей злостью, похожей на проглоченный осколок стекла. Ред обиделся бы, если б услышал. Несмотря ни на что, у него бывают внезапные приливы доброты и сочувствия, когда он почти по-детски старается сделать что-то хорошее. Он не раз заверял, что будет давать деньги на оплату медицинских счетов, даже если они перестанут спать вместе. Просто ему невдомек, как она себя чувствует, открывая конверт с наличными, когда на бедре еще остаются следы его спермы.
— Спасибо, — выдавила Соня.
— Увидимся вечером, да?
— До вечера, — сказала она, разъединилась и вдавила до упора педаль газа.
Проезжая по городу мимо частично разобранного кинотеатра «Бижу» на левой стороне улицы, Соня замедлила ход, хотя уже опаздывала. Посмотрела на почерневший провал в центре руин, на рабочих, которые катили тачки с обгоревшими обломками, старыми креслами, грудами битого кирпича. Один из них вылез по приставной алюминиевой лестнице из какой-то ямы, вытер руки о джинсы и бросился к трейлеру, служившему конторой. Бежал среди куч мусора с нетерпением и сомнением, которые она признала знакомыми, и, в конце концов, мельком увидев лицо, узнала Оуэна.
Просигналила, притормозила, он не оглянулся, взлетел по деревянной лестнице с максимальной скоростью. Стуча в дверцу кабины, слегка повернулся, и Соня заметила под курткой какой-то плоский круглый предмет — нечто вроде колеса или большого подноса, — который он придерживал обеими руками, наклоняясь вперед, словно только что откопал реликт некоей исчезнувшей цивилизации.
Она окончательно остановилась, за ней на перекрестке скопились машины. Вывернув шею влево, не успела разглядеть предмет — дверца трейлера распахнулась, Оуэн нырнул внутрь, дверца захлопнулась.
Сначала Соня приняла загудевший позади клаксон за саксофон Лестера Янга на стерео, но через секунду опомнилась и рванула вперед, сделав мысленную пометку спросить Реда при встрече, что заставило семейство Макгуайр, столько лет не замечавшее пожарища, именно в этот момент взяться за несомненно сложную и дорогостоящую реконструкцию. Она даже не понимала, что ее до последнего времени мучил этот вопрос. Он четко сформулировался только при виде Оуэна, спешившего из ямы к офису на колесах с каким-то круглым предметом под курткой.
Ред должен знать.
Если у Колетты Макгуайр есть своя точка зрения, то Ред уже на этом играет. Что бы ни представлял собой Ред Фонтана, его оппортунизм часто служит для Сони очками, сквозь которые она четко видит город, в котором росла, со всеми его византийскими хитросплетениями, где люди делают то, чего не хотят, делают что-то, сами того не зная, делают что-то по ошибочным соображениям, очень часто приводя ее в полное недоумение. Она слишком много видит. Ред видит только то, что хочет, с чем соглашается. Спит с ней потому, что ему это нравится, а Соня готова на сделку в обмен на определенное представление о Милберне человека со стороны.
Кто тогда оппортунист? Может быть, у них с Редом больше общего, чем она думала.
И впервые в то утро почти нестерпимо печальный голос Билли Холлидея, доносившийся из стереосистемы, зазвучал как настоящая музыка.
Глава 16
Скотт смотрел в монитор, слыша урчание в желудке.
Целый день не ел — в последний раз отправлялся на кухню за кофе где-то после полудня, — целый день пролетел без перерыва на еду. Оглянувшись на большие, не совсем прямоугольные окна, изумленно понял, что за ними темно. Не может быть, но так оно и есть.
Встал, подошел к окну, глядя вдаль через двор, где до земли спускаются голые ветви. Ощущение абсолютной изоляции.
Известно: если надеть пальто и перчатки, выйти из дому с фонариком, пройти к густым деревьям через лужайку, можно долго бродить, не встретив ни души. Встань, завопи во все горло — никто не услышит. Остается только огромный разлапистый дом посреди неизвестности, дом, которому нечего делать в такой дали от города, прячась в лесах.
«Никуда не пойду, — решил он. — Слишком поздно, и у меня работа».
Однако, встав и подойдя к окну, Скотт отвлекся от дела. Мысли вернулись к прапрадеду Г. Г. Масту и к картине с изображением Круглого дома, висевшей в другом конце первого этажа. Кажется, она говорит о том же, о чем говорится в отцовском рассказе, — не просто о доме, а еще о том, что в нем видели мужчины из семейства Маст и старались понять на свой собственный исковерканный, фантастический лад. При этом их старания частично искажали ход времени, двигавшегося квантовыми скачками.
Он вернулся к компьютеру. Стремление разобраться усилилось, превратилось в постоянный провокационный зуд. С одной стороны, ясно: организм отравлен, не получая лекарства, но есть и другой аспект, который не так легко объяснить.
Следовало снова обратиться к творческому воображению.
«Я Фэрклот, Фэрклот, — упорно повторял Скотт. — Я Фэрклот, моя жена мертва. Передо мной лежат архивные документы. Разумеется, среди них нет подлинных сведений о Розмари Карвер, но разве раньше не помогал элемент самогипноза, когда закрываешь глаза и видишь произошедшее?»
Он закрыл глаза, воображая кипы сообщений об исчезновении девочки так, как их видел его предшественник. Что-то в этой кипе поможет продолжить историю.
Конечно, девочка, картина и еще что-то.
Мужчина.
Отец Розмари.
Скотт открыл глаза и застучал по клавишам.
Фэрклот не мог заснуть.
Люди в городе начинают спрашивать о Морин. Заботливый муж отвечает, что она уехала в Бостон проведать мать. Может, визит затянется на недели — бедняжка тяжело больна, страдает хроническим радикулитом, который обостряется в такое время года.
Сидя ночью в огромной пустой столовой, подбрасывая твердой рукой в камин ветку за веткой, Фэрклот думал, скоро ли горожане примутся задавать прямые вопросы. Морин еще не вернулась? С ней ничего не случилось? Давно ли он с ней разговаривал? Потом за спиной неизбежно поднимется шепот, за которым последует визит шерифа — многоуважаемого Дэйва Вуда. Вежливые расспросы сменятся не совсем вежливыми, возникнут первые невысказанные обвинения, наконец усадьбу обыщут, отбросив всякую притворную вежливость. Будут искать тело.
Для осмотра каждой комнаты Круглого дома понадобятся десятки людей и десятки часов. Подобно персонажу рассказа Эдгара По, Фэрклот предложит разобрать стены камень за камнем. Пусть восторженно восхищаются изначальным намерением архитектора не оставить ни одной прямой линии, сгладить и закруглить каждый угол. Ничего не найдут. Говорить даже нечего. Нет ни тела, ни трупа, ни одного следа бедной Морин, умершей в конвульсиях, захлебнувшейся собственной кровью от единственной пули во лбу, на глазах у стоявшего над ней Фэрклота.
Никаких намеков и догадок.
Об этом позаботилась Розмари Карвер.
Отвернувшись от топки камина, Фэрклот оглянулся на собранные бумаги — любопытные исторические документы, письменные показания с давно выцветшими подписями — и принялся их разбирать. После убийства Морин интерес к Розмари Карвер разгорелся до одержимости. Хочется узнать все возможное о девочке в голубом, которая здесь его встретила и позаботилась о проблеме с распутной, спившейся женой. Хочется…
Он остановился, глядя на только что подвернувшийся под руку старый дагеротип вроде тех, что снимались после Гражданской войны.[10] На нем изображен высокий мужчина в черном костюме и черном цилиндре, пристально смотрящий в камеру. Поля шляпы затемнили черты лица, за исключением яркой серповидной улыбки. Длинная рука лежит на плече маленькой девочки. Розмари Карвер.
Теперь ясно, что это ее отец.
Раздался внезапный хлопок. Скотт резко дернулся, чуть не сбросив с колен ноутбук, и вскрикнул:
— Господи Иисусе!
Он настолько вообразил себя Фэрклотом, окруженным собранными Фэрклотом материалами, что по-настоящему удивился, оглядывая пустую комнату, где нет ничего, кроме компьютера и огня в топке камина. А ведь он видел разложенные вокруг бумаги так же, как видел их Фэрклот в рассказе. По крайней мере, в этом отношении самогипноз оказался весьма эффективным. Скотт был восхищен и немного испуган успехом своей тактики.
Затаил дыхание с колотившимся сердцем.
По столовой пролетел другой отчетливый шлепок.
Волосы на затылке встали дыбом, по плечам побежали мурашки, он предельно насторожился, прислушался, осознал, что находится в уединенном месте за много миль от города, за много миль от людей, совсем один в темном уголке страны.
И все-таки не один.
Сидел, слушал, желая услышать.
Звук повторился, но вместо шлепка теперь слышался мрачный скрежет, будто какой-то зверь царапался в стену, стараясь выбраться на волю. Во рту совсем пересохло, губы крепко слиплись.
Подняв глаза от компьютера, он понял, что скрежет идет из-за двери в другом конце столовой, из-за той самой двери, которая в рассказе отца ведет в черное крыло, куда Фэрклот утащил труп жены.
Разумеется, там ничего нет, потому что крыло существует только на бумаге. Если сейчас открыть дверь, увидишь пустой шкаф с дохлыми мухами на полках.
Скотт очень осторожно, сдерживая дрожь, положил на табурет ноутбук и поднялся. Пол круче выгнулся под ногами, углы комнаты еще больше скруглились. Он прошел через столовую к двери, взялся за ручку, столь же холодную, как ключи, обнаруженные в парадном.
Повернул ее, дверь распахнулась.
Перед глазами предстал не пустой шкаф. Вместо этого он увидел длинный черный коридор, полный темноты и ледяного воздуха, глубокий, пустой, открытый проход — как бы отдельный внутренний дом, спрятанный в наружном. Откуда-то из глубины долетело что-то вроде вздоха.
Выпустив ручку, Скотт шагнул в коридор.
Только поставил ногу, как что-то скользнуло по колену. Он инстинктивно протянул руку, пытаясь схватить нечто, охнув и вздрогнув. Весь мир повернулся на петлях, как сценический реквизит фокусника, и Скотт очнулся на табуретке с компьютером на коленях.
Вообще не вставал.
Так и сидел.
Писал.
Прочел на мониторе:
Фэрклот взялся за ручку, открыл дверь. За ней была полная темнота, которой не видно конца; если войти туда, будешь идти вечность. Откуда-то из глубины донесся звук — то ли вздох, то ли совсем слабый смех.
Фэрклот шагнул вперед.
Глава 17
— Давно не принимаешь лекарство? — спросила Соня.
На следующее утро Скотт говорил с ней по телефону на кухне, наливая кофе в самую большую чашку, какую удалось отыскать.
— Откуда ты знаешь?
— Просто беспокоюсь, поэтому спрашиваю. Вчера вечером ты звонил и сказал, что разваливаешься на куски.
— Фигурально.
Нет, конечно; в тот момент он имел это в виду столь же буквально, как все прочее, сказанное в течение жизни. Очнувшись за компьютером, видя абсолютно точное описание произошедшего, он утратил почву под ногами. Сказав об этом вслух, произнеся слова, испытал непонятное облегчение, погрузился в измученный сон. Настоящие сумасшедшие не понимают, что сходят с ума. Или это ошибочное представление?
— Ну? — допытывалась Соня. — Давно?
— Что?
— Лекарство не принимаешь.
— Не знаю. Как минимум пару недель.
— Какой препарат?
— Лексапро, — ответил Скотт. — Ты что, фармацевт?
Если она и расслышала его тон, то проигнорировала.
— Давно пьешь?
— Года три.
— Когда-нибудь раньше бросал?
— Нет, но…
— Почему перестал принимать?
— Не думал, что задержусь здесь надолго. Не имел возможности пополнить запас. Наверно, надеялся без него обойтись. — Поколебался, не зная, продолжать или нет. — И работа идет хорошо.
Нет ответа. Он посмотрел в окно, воображая ее ответный взгляд, вполне способный поспорить с айсбергом, и повторил:
— Действительно хорошо.
— Не думаю, что это хорошо для тебя, Скотт.
— Сексуальный драйв вернулся. Уже плюс, правда?
Соня не рассмеялась.
— Лекарствами у нас Юдора Гордон торгует. Съезди к ней.
Он не поехал. Пока не поехал. Нынче утром чувствовал себя гораздо лучше, крепче, и еще многое надо обследовать в Круглом доме. Литературные успехи последнего времени подбодрили его, разожгли любопытство, остается целая связка еще не испробованных ключей, неоткрытых дверей в неизвестные комнаты.
В конце коридора на втором этаже обнаружилась лестница — Скотт знал, что наткнется на нее со временем, — голые непритязательные ступени ведут наверх, на еще не осмотренный третий этаж. Странно: нет ни перил, ни балюстрады, словно строители даже не думали, будто кто-то поднимется выше второго.
Но ведь всегда есть следующий этаж, правда? Скотт расхохотался. Смешно или пошло? В Сиэтле знают разницу.
Он захватил с собой чашку с кофе, чувствуя, как с каждым шагом падает температура. Невидимая паутина что-то писала курсивом на голове и шее. Наверху остановился, хлебнул из чашки, вглядываясь в длинный коридор перед собой медленно привыкавшими глазами.
Коридор третьего этажа широкий и длинный, как прогулочная палуба старомодного океанского лайнера из золотого века. Ворсистые алые обои со столетним рисунком из вьющихся цветов, которые так и тянет потрогать. В одном месте Скотт задержался, на мгновение ясно услышал слабые звуки музыки, как бы со старой поцарапанной пластинки. Приложил к стене ухо, прислушался, смутно улавливая далекий жестяной воркующий голос, напевающий:
Нам не надо еды, Нам не надо еды, Нам нужна капля рейнской воды…Открыл находившуюся перед ним дверь. За ней пустая комната. Он застыл на месте, снова прислушался, ничего не услышал. Музыка смолкла. Вообще была ли? Вспомнился разговор с Соней о лекарстве. Несомненно, мир без лекарства стал ощутимее, глубже, открылись целые слои, которых он прежде не видел. С него словно сорвали защитное покрытие, и теперь все вокруг обрело другую, богатую фактуру, включая бесконечную плавность и гладкость общей конструкции. Скотт сделал еще шаг, проводя по обоям ладонью, чувствуя, как под ней вьется рисунок. А вдруг вновь очнешься за компьютером, описывая эту сцену?
«Не думаю, что это хорошо для тебя, Скотт».
— Но мне очень хорошо, — объявил он вслух. — Правда. Я действительно здесь, голова ясная, никакой депрессии, лучше, чем за долгие годы. И пишу. Чего еще можно просить?
Следующие три двери не заперты, за всеми пустые комнаты. Ручка четвертой не поддавалась. Скотт вставил ключ в скважину, он повернулся наполовину, дальше не пошел. Попробовал другой, третий. Требовалось терпение, а его не хватало. Приготовился сдаться или хоть спуститься, налить еще кофе, когда замок щелкнул, створка распахнулась.
Он вошел в самую большую комнату из всех, какие до сих пор видел в доме. Посередине кровать с грубым, необработанным дубовым каркасом, не мужская и не женская. Вокруг нее медные подсвечники с наполовину оплавленными свечами, на деревянном комоде поблизости старый патефон с ручкой. Первая мысль, что именно отсюда слышалась музыка, оказалась ошибочной — пластинки на шпинделе не было, а сам аппарат покрывал такой слой пыли, что вряд ли он заработал бы даже после завода. В потрескавшейся фарфоровой вазе в углу засохшие цветы, которые от прикосновения наверняка рассыплются в пыль. Книги. Смутно знакомый запах с оттенком старого, выдохшегося одеколона или помады для волос, которыми пользовались мужчины, слушавшие ту музыку, что недавно звучала.
Скотт бросил взгляд на книги — сплошь сборники стихов. Элизабет Баррет, Пабло Неруда, Шекспир — любовная поэзия. Посмотрел на свечи вокруг кровати и снова на книги. На глаза попалась чуть приоткрытая дверь в углу.
За ней был стенной шкаф. Внутри висел на крючке пушистый зеленый свитер с дырой на рукаве. Он поднес рукав к носу, принюхался, и какая-то потайная часть лимбической системы распознала отцовский одеколон, хоть не помнится, чтобы отец пользовался какими-нибудь искусственными ароматами. Он снял свитер с крючка. В кармане что-то тяжелое — пачка сигарет «Лаки страйк», золотая зажигалка с монограммой и инициалами Ф. Л. М. Никогда не знал, что отец курит. Фрэнк Маст всегда уподоблял сигареты гвоздям, вбитым в гроб, а курильщиков дымовым трубам.
Скотт открыл пачку. В ней осталось три сигареты. Импульсивно вытащил одну, сунул в рот просто для ощущения. Даже у бумаги затхлый запах, высохшие крошки табака на языке и губах вообще не имеют никакого вкуса. Он щелкнул зажигалкой на пробу, в свете пламени разглядел что-то на стенке шкафа.
Это была картина. Небольшая, примерно двенадцать на четырнадцать, оригинальное живописное изображение в деревянной раме со скругленными углами. Должно быть, художник писал из леса в сумерках. Круглый дом выглядит на полотне даже больше реального, высокий, широкий, освещенные верхние окна смотрят на зрителя.
Скотт шагнул ближе. В одном окне почудилась тень — полупрозрачный серый мазок на тусклом желтом фоне, лицо, выглядывающее изнутри. Вспомнился отец Сони и тетка Колетты, глядевшие на него из окон; оба столь близки к смерти, что уже как бы не принадлежат к этому миру. Он протянул к холсту руку, ощупал мазки, не почувствовал ничего, кроме собравшейся за десятилетия пыли и скользкой пленки грязи, с отвращением отдернул пальцы, будто случайно дотронулся до дохлой крысы. Но не сводил глаз с силуэта в окне, словно ожидая, что он шевельнется.
Вспомнил прапрадеда-художника Г. Г. Маста, повесившегося в Париже, отца внучатного дядюшки Бутча. Хотя в семействе Маст талант не считался синонимом сумасшествия, Скотт увидел в двух этих понятиях сходство, столь же большое, как дом, смотревший на него с холста, и то, что маячило за нарисованным окном.
«Это я, — неожиданно понял он. — Это мое лицо».
Где-то внизу зазвонил сотовый, возвращая его в настоящее. Звуки распространяются здесь причудливо и с невероятной силой. Предполагая, что это Соня, он вышел из комнаты в коридор, где было еще холоднее, бессознательно натянул на себя свитер и направился к лестнице, закутанный в призрак отца.
Глава 18
— Я на кладбище еду, — сказал голос Оуэна, далекий, туманный, как серый морозный пар, собиравшийся за окном. — А ты?
Скотт взглянул на дату на телефонном дисплее. Смирительная рубашка реальности стиснула грудь, сжала сердце и легкие. Из-за того, что творится вокруг, из-за рассказа, дома, забытого лекарства…
— Слышишь? — Голос брата ослаб, доносясь из дальнего конца далекой гавани. — Скотт!..
— Там встретимся. — Не зная для чего, даже не понимая, что делает, он приложил ладонь к стеклу кухонного окна. Где-то в подсознании возник вопрос: сильно ли надо нажать, чтобы оно треснуло, врезалось в руку? — Гринфилдское кладбище, верно?
Но Оуэн уже отключился.
Скотт ехал по городу, ища цветы, чтобы возложить на могилу матери. Ближе всего нашелся искусственный букет подмаренника в хозяйственном магазинчике на окраине Милберна, и по пути он начал обрывать с зеленого целлофана ленточки, завязанные в виде сердечек, и крошечные аппликации. Потом вышвырнул безобразный остаток в окно, где тот зацепился за колючую проволоку ограждения, трепеща на ветру клочьями ситца. Он остановил машину и вышел. Северо-восточный ветер нес запах грядущего мороза, предсказанного по радио, показатели барометра дребезжали в черепе, как какой-нибудь древний навигационный прибор.
Скотт вернулся к повисшему букету, снял перчатки, ухватился за жесткие пластиковые лепестки, крепко стиснул, пока в ладони не впились острые металлические шипы. Чем сильнее стискивал, тем лучше себя чувствовал. Наконец, потекла кровь, он разжал кулаки, оставив на ограде смятые поддельные цветы. Спазм прошел, снова можно дышать.
Мать похоронена на голом склоне холма, который выглядит еще хуже под стальной армадой низко нависших туч. Скотт смотрел сквозь ворота с пульсирующими в железном воздухе пальцами. Трава месяцами не кошена, могильные плиты наполовину засыпаны палыми листьями. По ту сторону ограды стоял Оуэн, прислонившись к дверце своего фургона. Он снял темные очки, устремил на Скотта воспаленные, остекленевшие глаза. Когда тот подошел, прохрипел:
— Блин, старик, что у тебя с руками?
— Не бери в голову.
— Сплошь на хрен изодрал.
Скотт вытащил из кармана перчатки, натянул и прищурился на пейзаж:
— Жуткий вид.
— Банк лишил права на выкуп заложенного имущества.
— На кладбищенский участок?
— Такое бывает гораздо чаще, чем кажется. — Красные глаза снова спрятались за темными очками. — К вечеру обещают два фута снега. Пошли.
Скотт думал пойти к могиле, но Оуэн влез в фургон, и поэтому ему пришлось забраться на пассажирское сиденье. Посередине сидел Генри в грязной куртке и безразмерных варежках, не завтракавший судя по виду. На щеке какая-то сажа, которую Скотт собирался смахнуть, но не решился снять перчатки, чтобы не пугать ребенка. Вместо этого обнял его за плечи, мысленно пообещал себе накормить мальчика, покончив с делами на кладбище.
Оуэн выехал на узкую бетонную дорожку, снова остановился, пробормотал:
— Обождите, — и вышел, сбрасывая ногами с могильных плит листья и сорняки. Покачал головой, сел в кабину, поехал, остановился, вышел, огляделся, разгреб другие кучи мусора. В третий раз в дальнем конце кладбища вылез из кабины, направился к ближайшим могилам.
Когда Скотт выбрался из фургона, Оуэн глубоко дышал, закрыв лицо руками. Известный способ сдерживать рвоту.
— Она где-то здесь?
Брат не оглянулся.
— Может, домой поедем?
Оуэн что-то буркнул, шмыгнул носом с повисшей на кончике каплей чистой жидкости.
— Что? — переспросил Скотт.
— Пропащее наше семейство ко всем чертям, — с трудом выдавил брат. — Откуда у тебя этот свитер?
— В доме нашел.
— В нашем?
Скотт покачал головой:
— В Круглом. В том, что в лесу стоит.
— Кстати, что ты там делаешь?
— Папин рассказ заканчиваю.
На фоне смертельно побледневших щек глаза Оуэна стали еще красней и стекляннее, соответствуя представлению любителя-таксидермиста о максимальном правдоподобии изготовляемого чучела.
— Не он его начал.
— Что это значит?
Брат не ответил. Скотт полез в карман, вытащил старую пачку отцовских сигарет «Лаки страйк», вытащил одну из оставшихся, другую протянул Оуэну. Оба сели на могильные камни, закурили на глазах у Генри, наблюдавшего за ними из фургона.
— Ну и дерьмо, — сплюнул Оуэн. — Сколько им лет?
Скотт пожал плечами, но сигарету изо рта не вытащил, хоть глаза заслезились, к горлу подступила отрыжка. Оуэн бросил окурок в груду листьев, Скотт проследил за тонким язычком пламени, опасливо вспыхнувшим над чьей-то могилой. Представил себе другой огонь, родившийся на кладбище, распространившийся к западу с ветром, объяв весь город всепожирающим пожаром. Версия обладает определенной фаталистической привлекательностью. Интересно, что думает по этому поводу Оуэн.
— Почему не уезжаешь отсюда?
Брат взглянул на него.
— Куда? Зачем?
— Не знаю… Чтоб начать все сначала.
Оуэн хмыкнул, подошел к огоньку, поднимавшемуся с земли, словно призрачная рука, расправляя пальцы, царапавшиеся вверх по краю старого могильного камня, затоптал его грязным ботинком и пробормотал:
— Все бежать да бежать…
— Что?
— Ничего.
— Ты сказал, что рассказ начал не папа. А кто?
Оуэн тупо уставился на него.
— Дедушка Томми… мне песню пел.
— Постой, ты в самом деле знал дедушку Томми? — Вспомнилась найденная афиша спектакля по пьесе «Незавершенная комната», написанной родственником, которого отец называл слишком шустрым горожанином.
— В раннем детстве, — ответил Оуэн, счищая с подошвы ботинка прилипшие листья о могильный камень. — Тебя тогда не было. По-моему, ты с мамой куда-то ушел или еще что-нибудь. Дедушка Томми приехал из Нью-Йорка со своей гитарой. Мне лет пять было. Никогда раньше не видел, чтобы кто-нибудь по-настоящему на гитаре играл. Думал, музыка просто идет из какой-то волшебной дыры или из другой чертовой задницы. А он раз пять сыграл и спел песню. Я выучил слова. — Не гордость ли слышится в голосе? — Научился наигрывать на гитаре.
Скотт не помнил, видел ли когда-нибудь своего деда по отцовской линии, неудачливого драматурга и, видно, одновременно музыканта. Наряду со многими другими деталями семейного прошлого, эта может иметь значение, а может не иметь. Оглядывая кладбище, он понял, что никогда не пытался реально связать себя с мужчинами и женщинами, которых называет родными. Почти все уже исчезли, как хрупкие хрустальные и фарфоровые сервизы, небрежно перебитые и растоптанные следующими поколениями, пока они с Оуэном не остались единственными взрослыми мужчинами по фамилии Маст. Самое обманчивое в истории семьи — иллюзорная прочность. В конечном счете выясняется, что единственный способ аннулировать семейные связи — игнорировать их. Если Скотт в определенном смысле ставил себя выше брата, потому что уехал из города и нашел высокооплачиваемую работу, то Оуэн был всегда крепче привязан к повседневной жизни и к тому, что осталось от Мастов. Он реальный, а Скотт — анекдот, рождественская открытка с побережья.
Он заставил себя дососать до конца сигарету, пока окурок не обжег пальцы, а Оуэн смотрел на него и облизывал губы.
— Я бы выпил. Может, в город вернемся?
Скотт пожал плечами.
— Конечно. — И добавил: — Позволь мне накормить Генри.
Лицо брата скривилось в безобразной враждебной судороге.
— Даже не думай.
— Слушай, я вовсе не собираюсь…
— Поезжай, руки перевяжи. И прикупи таблетки, на которых сидишь. Видно, лучше бы с них не слезать.
— Постой…
— Знаешь, ты не самый блестящий пример. И успехи твои не особенно велики. Ты в таком же дерьме, как и я. Хуже, черт побери. Потому что сам не видишь.
Скотт кивнул, но от этого лучше не стало. Оуэн вернулся к фургону, влез в кабину, уехал, предоставив ему в одиночестве возвращаться к воротам, за которыми стояла машина. Ветер крепчал, с воем мчался по голой земле, и почти у ворот он заметил за грудой припорошенных снегом листьев камень с надписью:
ЭЛИНОР МАСТ
ЛЮБИМОЙ ЖЕНЕ И МАТЕРИ
«В ДОМЕ ОТЦА МОЕГО ОБИТЕЛЕЙ МНОГО»
Нечего положить на плиту. Он долго стоял у могилы, потом снял окровавленные перчатки, бросил на кучу листьев у камня, соорудив подходящий в каком-то неясном смысле памятник.
Сунул руки под мышки и направился к прокатному автомобилю.
Глава 19
Следуя в неизвестном направлении, Скотт остановился у бежевого кирпичного здания милбернской районной больницы, которое стоит само по себе за северной окраиной города. В детстве он был здесь всего один раз, когда Оуэн свалился с крыши и сломал руку. В памяти сохранилась убогая приемная на экране камеры наблюдения. Сейчас на стоянке меньше десятка машин и «скорая» перед центральным подъездом.
Войдя в раздвижные стеклянные двери, по-прежнему держа в карманах израненные руки, он подошел к столу, за которым крупный дежурный в чистом халате просматривал электронную почту.
— Чем могу помочь?
— Не знаю, — сказал Скотт. — Где сестра Энни Тонкин?
— В рентгеновском кабинете. Дайте проверить. — Дежурный взглянул на расписание, пришпиленное над телефоном, снял трубку, набрал номер. — Привет. Энни вернулась? Тут кто-то ее хочет видеть.
Скотт прошел к ларьку с сувенирами, перебрал поздравительные открытки и воздушные шарики.
— Эй! — воскликнул женский голос. — Это вы меня спрашивали?
Перед ним стояла женщина лет тридцати в голубых больничных штанах с белым верхом. Главное место на ее лице занимали карие глаза с золотистыми блестками, темные, пристальные, и ему в голову на мгновение пришла невероятная мысль, что она его узнала по неким приметам.
— Я Скотт Маст… Возможно, вы знаете нашу семью.
— Сын Фрэнка?
— Совершенно верно, — подтвердил Скотт. — Меня, собственно, интересует ваш дальний родственник Майрон Тонкин…
Энни нахмурилась, а потом улыбнулась, словно догадалась, что стала жертвой несмелого розыгрыша.
— Ох, боже. — Он на расстоянии уловил запах табака и карамели. — Значит, вы говорили с Полиной Макгуайр?
Она предупредила дежурного, что пойдет покурить, вышла из здания вместе со Скоттом, повернулась спиной к ветру, сложила чашечкой ладони, умело поднесла огонек к сигарете «Кэмел».
— Что бы вам ни наболтала прелестная старая летучая мышка, прапрадед Майрон был тот еще типчик. Настоящий плевел. Родственники до сих пор вспоминают, как он мочился на маленькую сестренку, хотя с тех пор прошло сто с лишним лет. — Энни взглянула на Скотта, оценивая реакцию. — Не скажу, что Майрон заслуживал такого конца, но, судя по тому, что слышала, он в любом случае шел к плохому концу.
— Сколько ему было лет, когда он ослеп? — спросил Скотт.
— Дайте подумать. — Энни прикусила губу, припоминая даты. — По-моему, тринадцать-четырнадцать. — Она вновь затянулась сигаретой, задержала дыхание, выпустила идеальное кольцо дыма, которое на долю секунды зависло, а потом растаяло. — Догадываюсь, что Полина Макгуайр убедила вас, будто его ослепил мистер Карвер, старый школьный учитель.
— Не совсем убедила.
— Нет абсолютно никаких доказательств. Хотя это было в темные времена, когда здешние жители приносили в жертву кроликов и вороньи яйца ради доброго урожая. Я не шучу — мы с вами выросли в самом суеверном уголке страны. Впрочем, нечего напоминать вам об этом.
— Значит, рассказам не верите?
Энни улыбнулась.
— Не отрицаю, хороший сюжет для рассказа. Но разве я должна верить, что некий колдун применял в девятнадцатом веке черную магию к неподатливым ученикам? Действительно, мой прапрадед в детстве ослеп то ли в результате воспаления зрительного нерва, то ли из-за дегенерации желтого пятна. Как ни жестоко, это, возможно, уберегло его от дальнейших преступлений.
— Что с ним было потом?
— Ничего интересного. Насколько я слышала, он до конца жизни прятался от родных, редко выходил из дому, никогда не учился жить в слепоте. Умер довольно молодым, похоронен на семейном участке.
— А другие? — спросил Скотт.
— Вы имеете в виду девочку, которая начала заикаться, и мальчика, заболевшего полиомиелитом?
— По словам Полины, его затоптала лошадь.
Энни опять улыбнулась, как бы подтверждая, что ей приятнее всего на свете стоять рядом с районной больницей маленького городка при двадцатиградусной температуре,[11] курить и излагать семейные предания.
— Полина всегда готова добавить драматизма в нужных местах. — Она взглянула на часы. — Я должна вернуться к работе. Действительно не желаете показать врачу руки?
— Ничего страшного, — сказал Скотт и понял, что это правда. Боль давно прошла. Фактически в ходе беседы он совсем про нее позабыл.
Глава 20
От больницы он двинулся на восток, к дому Колетты, бессознательно объезжая город по кругу, не встречая на пути ни одной машины. Хотя угроза с северо-запада еще не осуществилась, все окрестные жители, видно, попрятались. Глядя на заснеженную пустоту, Скотт припомнил один из бесчисленных фильмов о конце света, где герой бродит по пустым улицам, заглядывает в окна, ищет свидетельства о том, с чего все началось.
Поблизости от фермы Макгуайров в кишках закишели голодные паразиты, которым, однако, нужна не еда, а другое. Он поежился. Тридцать четыре — опасный возраст для пробуждения новых аппетитов.
Автомобиля Колетты на дорожке не было. Он пошел к парадному, постучал, позвонил, подождал, через минуту направился по пологому склону холма к зерновому амбару, отчасти надеясь найти ее там. Но кругом было пусто, не видно даже дворника в наушниках под черной вязаной шапкой.
Скотт открыл дверь, заглянул внутрь на груды грязных книг и разоренных ящиков, не понимая, зачем пришел, что надеется отыскать. Вытащил из карманов окровавленные распухшие руки, уставился на порезы и уколы, от которых как бы шел пар на морозе, несмотря на отсутствие боли. «Идиот! — крикнули ему бумажные Гималаи. — Домой иди!» Куда именно? Первым делом надо везти Генри обедать. Но он сейчас не в состоянии на чем-либо настаивать; душа бесформенная, неустойчивая, как ведро из пластика, которое принимает форму, только когда в него нальют воду.
В полном отчаянии он начал беспорядочно рыться в кучах, раскладывая пачки в некоем хронологическом порядке в жалкой попытке хоть как-то организовать материалы. Чем глубже закапывался, тем сильнее слышался сырой запах плесени от перевернутых старых книг в отсыревших, намертво приклеенных обложках, которые пошли в один угол. В другой отправились газеты. Невероятное множество отдельных листов, среди них измочаленные, будто крысы в них вили гнезда, хотя, судя по звукам, он здесь единственное живое существо. Скотт действовал с твердой бездумной сосредоточенностью мужчины, импульсивно избегающего собственных мыслей.
Через два часа наткнулся на чертежи.
Сначала даже не узнал. Поднес к свету пожелтевшие от времени кальки, провел пальцем по очертаниям коридоров, комнат и дверей на обесцвеченных запятнанных страницах, и вдруг в сознании разом вспыхнул фонарь. Он бросил листы на пол, отступил на шаг, опустился на колени, всмотрелся.
Архитектурные планы Круглого дома.
Чертежи странным образом отличаются от конечного результата — план постройки одновременно узнаваемый и незнакомый. На кальках показано гораздо больше, чем видно глазу, — потайные переходы, подземные помещения. Как будто большой дом проглотил меньший и до сих пор переваривает по одной комнате зараз. Возможно, подрядчики исключили некоторые детали или строители, истратив деньги, заштукатурили все прямые углы.
А возможно, ты еще не все видел.
Позади скрипнули старые сосновые доски. Скотт вздрогнул и оглянулся.
— Привет, — сказала из дверей Колетта. Глаза яркие, щеки яблочные, она слегка запыхалась, словно долго бежала. Как ни странно, это на пользу, она стала живее, моложе. — Что ты тут делаешь?
— Смотрю. — Он сунул руки в карманы. — Извини. Надо было дождаться тебя. Просто я подумал…
— Успокойся. Я только что вернулась, увидела перед домом твою машину. — Она вытянула шею, разглядывая чертежи на полу. — Что это?
— По-моему, какие-то планы, — сказал Скотт, почему-то по обыкновению чувствуя необходимость утаить информацию. И впервые заметил в ее глазах точно тот же голод, который испытывал сам.
— Пойдем в дом.
— Зачем?
— Думаю, ты должен кое-что увидеть.
— Я действительно не могу. — Он вспомнил тетку, погребенную в спальне среди старых афиш и глянцевых снимков, в облаках импортного табака и воспоминаний о местном убийстве. — Собственно, мне уже надо ехать.
— Куда вечно торопишься? — Она улыбнулась по-лисьи, но чистосердечно, словно предчувствуя каннибальский пикник. — Пошли, дурачок. Разве не видишь, что я хочу помочь?
Из дома выброшены цветы. Похоронный тошнотворно-приторный запах, сгустившийся в воздухе в прошлый раз, испарился, сменившись еще более мерзким зловонием давно сгоревшей материи, камня, человеческой кожи, волос, да не важно чего, раз уж оно сгорело.
Скотт задержался в дверях и заглянул в гостиную. На стене висит экран, на него наведен шестнадцатимиллиметровый проектор из тех, которые на его памяти крутили в школе профилактические фильмы об опасности незащищенного секса и вождения в пьяном виде. Где-то в батискафе сознания беспокойство переросло в смертный страх.
— Садись, — сказала она. — Поудобней устраивайся.
Он ткнул пальцем в проектор.
— Зачем это?
— Сегодня годовщина пожара в «Бижу».
— Знаю.
— Опусти, пожалуйста, шторы.
— Зачем это? — повторил Скотт, слыша, что голос звучит слегка напряженно и сдавленно не только в углах, а повсюду, и полагая, что в нынешних обстоятельствах это вполне допустимо. Фильм, который хочет показать Колетта Макгуайр-Фонтана, не обязательно тот, который хотелось бы видеть.
— Сам увидишь.
Она включила проектор, зубчатые барабаны знакомо застрекотали, как лопасти вентилятора, куда что-то попало. Яркий луч света протянулся по комнате. На экране появилась надпись крупным белым рубленым шрифтом «Рука помощи», послышалась жестяная оркестровая музыка. Скотт понял, что на каком-то уровне сознания ждал этого, потому что заслуживал в определенном смысле.
— Фильм твоего внучатного дядюшки Бутча, — громко объявила Колетта, перекрикивая музыку. — Тот, которого ты никогда не видел.
— Откуда он у тебя?
— Из «Бижу». Твой брат нашел коробку под обломками в проекционной будке. Пленка почти не пострадала.
— Оуэн нашел?
— Это часть истории нашего города. — В голосе появился звонкий экскурсоводческий оттенок, отчего Скотта слегка затошнило. — Разумеется, тетя Полина потребовала, чтобы мы приобрели его для городского архива.
Камера схватила ряды низкодоходных домов, которые перестраивали команды миссионеров под руководством внучатного дядюшки Бутча. Послышался его голос, цитирующий Писание, рассказывающий о важности тяжелого труда и христианского милосердия. Скотт втиснул пальцы в собственные раны, крепко сжал кулаки, и ногти утешительно окрасились кровью.
— Ты была в тот вечер в кинотеатре? — спросил он. — При пожаре?
Колетта не оглянулась. Стоя позади нее, чуть правее, Скотт видел, что скула и челюсть сменили цвет на экранные серо-белые оттенки, а голову окружил дымчатый световой ореол.
— А ты где был в тот вечер? — спросил откуда-то издалека ее голос.
— Я тогда уже в колледж уехал.
Она оглянулась и бросила на него долгий, пристальный взгляд.
— Даже не потрудился вернуться?
— Знаешь что, — выдавил Скотт, — выключай. — Голос дрожал, голова болела, глаза горели, будто смотрели прямо в прожектор, сжигавший сетчатку. — Незачем мне это видеть.
— Тогда уходи, — улыбнулась она. — Я потом расскажу, чем все кончилось.
Но он не шевельнулся. Колетта дотянулась до его руки, подняла ее, рассмотрела в пыльном свете проектора.
— Пошли, — мягко, почти ласково сказала она. — У меня есть бактерицидный пластырь.
Глава 21
Соня без календаря знала, какой нынче день. Когда Оуэн ворвался в «Фуско» и начал заказывать выпивку по две порции сразу, никто ни слова не сказал. Подав ему первый стаканчик виски и бутылку пива «Будвайзер», она увидела, как они за секунду исчезли. Хозяин смотрел в восхищении из-за карточного стола.
— Где Генри? — осведомилась Соня с максимальной небрежностью.
Оуэн взглянул на стул рядом с собой, как бы ожидая увидеть там мальчика, и кивнул на дверь:
— В фургоне.
Она накинула пальто и выскочила на улицу. Повсюду крутились и падали крупные хлопья мокрого снега, липли к волосам и ресницам, сглаживали края и швы окружающего мира, скругляли углы.
— Генри! — окликнула Соня. — Эй, малыш…
Пассажирская дверца открыта.
Кабина пуста.
Соня побежала вокруг бара к своей «королле» на служебной стоянке, натянула пониже рукав, смела с лобового стекла толстый слой снега. Несмотря на погоду, двигатель сразу завелся, и она покатила по улице, надеясь заметить где-нибудь на тротуаре куртку Генри.
Не в первый раз Оуэн оставляет мальчика в фургоне и тот убегает. В последний раз, в августе, Соня нашла его перед витриной закрытого магазина игрушек, к которой он прижался носом, разглядывая электрические поезда. Только теперь не лето, крепчает мороз, температура падает с каждой минутой.
Она набрала номер Скотта, не получила ответа. Неохотно позвонила Реду.
— Привет, — сказал он издалека. — Что стряслось?
— Генри пропал.
— Кто?
— Сынишка Оуэна.
— А… — разочарованно протянул Ред. — Ты на работе?
— В данный момент езжу ищу его.
— Кого? Мальчишку?
В груди остро кольнуло нетерпение.
— Где ты?
— Делаю кое-какие покупки по Интернету. Как ты относишься к белому золоту?
— Слушай, ребенку пять лет, — сказала она. — Он не должен оставаться один.
— Угу…
Соня вздохнула, поняв, что надо говорить прямо.
— Ты не мог бы как-нибудь помочь?
— А сам Оуэн где? — раздраженно спросил Ред. — Стой, попробую угадать: на полпути между стулом и полом.
— Когда тебе нужно, всегда находятся люди, готовые помочь. — Не совсем так, скорее наоборот, но она рассчитывает на его сентиментальность. — Может, хотя бы звякнешь своим приятелям в пожарном департаменте?
— Ради бога, Соня, мальчишка не кот, влезший на дерево. — На фоне слышен стук клавишей: Ред действительно дома, лазит в Гугле по приобретенной в Нью-Йорке привычке. — Позвони Лонни Митчеллу. Напомни, что он мой должник. Если парень через полчаса не найдется, дай знать, посмотрю, что можно будет сделать. Ладно?
— Забудь.
— Постой секундочку, принцесса…
Соня разъединилась, свернула налево на пересечении Норвей и Эйкман-авеню, направляясь назад к центру города. Уже не просто темнело, а было темно, свет просачивался только из немногочисленных открытых до сих пор магазинов. Снег волнами бил в лобовое стекло. Она включила обогреватель. Есть что-то железное в темноте Новой Англии в зимнее время года, практически ощущается металлический привкус. В такую погоду маленький мальчик не переживет ночь на улице.
Ред поможет, если поднажать.
Соня свернула влево, к дому Макгуайров.
Глава 22
Они молча смотрели кино.
Скотт в глубине души сильно нервничал, сидя в гостиной Макгуайров, глядя попорченные дымом остатки того самого фильма, который его мать видела в полной сохранности. Колетта не возражала против молчания, может быть, оно просто ее успокаивало. Сидела рядом с ним на диване, потягивала выпивку из стакана, полного звонких кубиков льда, смотрела на вертевшуюся в проекторе пленку.
«Рука помощи» начиналась вполне обыденно, с зернистых черно-белых кадров, изображающих членов миссионерской команды внучатного дядюшки Бутча за работой. В их задачу входила покраска и обновление обветшавших от бедности старых домов в угледобывающем районе Кентукки, замена крыш, окон, отделка целых комнат в рядовых постройках, владельцы которых слишком бедны или недальновидны, чтобы самостоятельно сделать ремонт. Веселые опрятные юноши и девушки в шарфах работали малярными кистями и пилами, лазили по приставным лестницам, посматривали время от времени в камеру, улыбались, отпускали шутки, не уловленные микрофоном. А закадровый голос внучатного дядюшки Бутча без умолку рассказывал о преданности своему делу членов его команды и о благодарности тех, чьи дома они посетили. На экране то и дело возникал стих из Библии на случай, если зрители не совсем точно поняли, как миссия укладывается в общую перспективу слова Божия.
Через пятнадцать минут действие переместилось из южных трущоб в лес. Деревья расступились, открылся другой дом, невероятно огромный, разлапистый. Скотт успел подумать: «Минуточку, да ведь это…»
До конца не додумал. Воздух в гостиной Колетты Макгуайр изменился, утратил плотность, будто в нем резко снизилось содержание кислорода. Скотт уже испытывал легкое головокружение, а нынешнее изображение на экране усугубило сенсорную дезориентацию до столь опасной степени, что стало непонятно, видит ли вообще он все это. В последний раз он был так глубоко растерян в бесконечный день похорон матери, после чего бился головой в стену, чтобы ее прочистить. А теперь сила боли, которую надо себе причинить для достижения аналогичного результата, вполне может оказаться смертельной.
Перед ним на киноэкране оживал Круглый дом.
Ручная камера внучатного дядюшки Бутча поднялась по ступенькам парадного и проследовала в прихожую. Музыка и рассказ сменились белым шумом. Пока камера двигалась по главному вестибюлю, иногда слышался звук шагов, но в основном раздавалось шипение. Скотт пристально вглядывался в протянувшийся перед ним коридор, который шел дальше и дальше, заканчиваясь крошечным окошком над радиатором, затянутым полупрозрачной шторой.
Колетта тронула его за плечо, и он вздрогнул.
— Что с тобой? — спросила она.
— Это все тот же фильм? — Голос прозвучал слабо, вяло.
— Тот самый.
Скотт вспомнил найденные чертежи, на которых один дом поглощает другой. И сейчас кажется, что фильм внучатного дяди запечатлел потайные глубины, скрытые отсеки пространства за стенами.
Точно. Это его версия «Черного крыла».
Камера двигалась как бы наобум, почти в полной тишине, охватывая бестелесным глазом округлую пустоту. Миновала две комнатки, вошла на кухню, задержалась на чугунной сковородке, висевшей на крючке, потом пьяно развернулась, понеслась вверх по лестнице, по коридору второго этажа с закрытыми дверями с обеих сторон. Кто держит ее в руках? Предположительно, внучатный дядя Бутч. А вдруг нет? Вдруг камера поймает самого Бутча в какой-нибудь комнате и внучатный дядя оглянется в черном ужасе? Вдруг у него окажется лицо внучатного племянника?
Разумеется, Скотт не может присутствовать в фильме, впервые войдя в Круглый дом всего несколько недель назад. Он заставил себя смотреть на экран. Последняя дверь справа ведет к другой лестнице, камера снова спускается, движется по коридору, постоянно чуть-чуть наклоняясь, а теперь наклонилась покруче, снимая окружающее под острым произвольным углом. В конце коридора свернула в какую-то комнату.
Это была столовая — его рабочий кабинет.
В такой перспективе он ее еще не видел. Гладкие голые стены вдруг обозлились, запульсировали холодной ненавистью, не поддающейся определению, и хотя комната была пуста, чувствовалось чье-то присутствие в пространстве, набиравшее силу, подобно заряду статического электричества. Вспомнился однажды проделанный школьный научный опыт с двумя противоположно заряженными стальными пластинами, между которыми возникал электрический ток, невидимый, но мощный и грозный в полной тишине.
Только сейчас не полная тишина. Если прислушаться, то сквозь стрекот проектора на звуковой дорожке вновь хрипит и вибрирует старая музыка.
Нам не надо еды, Нам не надо еды…Скотт нахмурился. Еле слышная песня времен Первой мировой войны идет не из проектора, а с самого экрана. Он шагнул к нему, склонил голову набок, прислушался, вгляделся. Мимо камеры вдруг промелькнула пригнувшаяся фигура. Слишком быстро, не разглядишь.
— Видела? — Он подскочил к Колетте, щурясь в луче света. — Что это было?
— Не знаю, — ответила она сонно и глухо.
— Можно отмотать назад?
Колетта повозилась с какими-то кнопками. Вместо музыки, которую он якобы слышал, и треска проектора послышался громкий, настойчивый стук, изображение на экране замерло, покосилось, показывая гладкую белую стену. Щелкнул другой рычажок, и пленка рывками, преувеличенно медленно пошла обратно.
Из теней слева попятился черный силуэт, меняя положение в каждом отдельном кадре. Так и должно быть, решил Скотт. Создается иллюзия движения, непрерывного действия. Но теперь, видя обратное изображение сцены, он каким-то образом почуял, что черный силуэт действительно движется, действительно живет в рамках фильма, за невидимой гранью пленки.
— Останови, — велел он.
— Все равно ускользает.
— Осторожно. Если надолго задержать кадр в проекторе, пленка может перегреться.
— Стой, кажется, поймала. — Колетта вновь остановила пленку, и Скотт приник к экрану, вглядываясь в силуэт. Остановленный, он превратился в неразличимый серый мазок — даже не силуэт, а тень.
Впрочем, видно, что тень на самом деле не серая и не черная.
Она голубая.
Глава 23
Соня шестнадцать лет не бывала на ферме Макгуайров, уверяя себя, что на мили вокруг никого больше нет и нет смысла проделывать долгий и трудный путь по совершенно пустой земле. Хотя истина в том…
К черту истину.
Слишком поздно. Воспоминания возвращаются вольно или невольно.
Шестнадцать лет назад, за день до того, как ей со Скоттом предстояло присутствовать на выпускном вечере, она ехала по этим самым холмам в старом, покосившемся отцовском фургоне с надписью на боках «Эрл Грэм — старье берем», нагруженном свернутыми в рулоны газетами. Отец каждый день доверял ей машину, и после школы Соня отправлялась на оптовую базу газеты «Глоб» в двенадцати милях за городом, забирала товар и развозила пластиковые тубы, по всей дороге до фермы Макгуайров. Там была почти последняя остановка, к которой зимой подъезжаешь в глубоких сумерках. Она остановилась на обочине, вылезла с тубой в руках и увидела на подъездной дорожке семейный фургон Мастов.
Сразу узнала. Формально фургон принадлежал матери Скотта, но он именно в нем ездил в пункты видеопроката и заезжал за Соней в дни назначенных свиданий. Собственно, только позавчера они с ним на заднем сиденье барахтались, открывая тайны мироздания на темном берегу озера Клейтон. В кабине было не жарко, не холодно, на бампере яркая наклейка «Эпкот», верхний плафон не горел, стенки имитировали структуру дерева, единственное впечатляющее действо творилось в темноте между ними.
Видя тот самый фургон на участке Макгуайров, Соня так растерялась, что не находила слов. Помнится, как ударила по тормозам отцовской машины, держа в руке пластмассовую тубу, чувствуя пустоту в желудке, почти инстинктивно глядя на освещенные окна второго этажа. Помнится, что увидела.
И подумала: это не он. Хотя, конечно, он. Наверху в окне спальни Колетты Макгуайр, практически не закрытом ставнями, незабываемая картина: Скотт, предположительно, стоит на коленях с закрытыми глазами, а Колетта подносит грудь к его жадным губам.
Швырнув тубу с газетой на землю перед почтовым ящиком, Соня нажала на газ и умчалась. Вертевшиеся в тот момент в голове мысли забылись не из-за слабой памяти и не из-за смертной боли от увиденного. Вспоминая теперь тот момент, даже не верится, что какие-то мысли, а не простейшие реакции заставляли бежать дальше, дальше.
И вот почти через два десятилетия она едет под снегом по той же проселочной дороге, которая вливается в подъездную дорожку к усадьбе Макгуайров. А на той же подъездной дорожке — возможно, ради утоления ненасытной жажды повторения — перед автомобилем Колетты стоит прокатная машина Скотта.
Соня минуту сидела, осмысливая ситуацию, точно такую же, как шестнадцать лет назад. Видя здесь сейчас эту машину, она поняла, что с тех пор практически не изменилась. Чувства заглохли, умерли, но это подавить невозможно. Зачем взрослеть, якобы идти вперед по жизни, приобретать новый опыт, если ты представляешь собой лишь воскресный наряд, едва прикрывающий жалкую отчаявшуюся девчонку, будто бы оставшуюся позади?
Голос рассудка — тот, что велел не бросать юридическую школу, тот, что советовал держаться подальше от Скотта, когда до нее дошел слух о его возвращении, иными словами, тот, к которому она никогда не прислушивалась, — приказал не останавливаться. Соня вышла из машины и направилась к дому в снежной круговерти, почти надеясь в любую секунду увидеть вспыхнувшие огни сигнализации. Огни не вспыхнули, не завыли сирены, не залаяли собаки, не примчалась охрана. Семейство Макгуайр до сих пор считает себя неуязвимым.
Что дальше — в дверь стучать?
В двадцати ярдах от парадного она повернула направо, пошла по внешнему периметру, споткнулась о невысокую ограду вокруг заросшей клумбы. Снег залепил глаза, веки слиплись, не слушались. В кустах под высоким окном мерцал желтый туманный свет. Соня, дрожа, с немеющими руками пробралась в кусты, прижалась лбом к заиндевевшему стеклу, заглянула сквозь приоткрытые шторы.
Сначала ничего не поняла. Скотт с Колеттой стояли в гостиной перед киноэкраном. Он на что-то указывал, она просто смотрела. Изображение прыгало, дергалось, не удерживалось на месте, как гигантская мошка, умирающая на голой лампочке. На экране за окном видна комната, девочка в голубом и стоящий позади мужчина в темном костюме, положивший руку ей на плечо. Девочка улыбалась. Глядя на застывшую сцену, Соня увидела в комнате что-то знакомое — двери, высокие потолки, скругленные линии — и сообразила. Мужчина и девочка находятся в комнате Круглого дома. Но почему Скотт смотрит кино в гостиной Колетты?
Любопытство сменилось адским страхом. В лице девочки было что-то ужасное, оно как бы таяло изнутри. Улыбаясь по-прежнему, девочка повернула голову, посмотрела на высокого мужчину в черном костюме. В тот же самый момент глаза мужчины взглянули с экрана в окно, прямо на Соню, безошибочно ее узнали, и губы расплылись в ухмылке.
«Он меня оттуда видит, — бессвязно подумала она. — Видит меня за окном и знает, что я его вижу…»
Коротко звякнул ее сотовый телефон. Она вздрогнула, стукнув локтем в стекло.
Скотт мгновенно оглянулся, залитый светом проектора. Неизвестно, увидел ее или нет. Мышцы ног дрогнули, даже не получив приказа.
Соня вылезла из кустов и поспешно сбежала.
Глава 24
— Что? — спросила Колетта. — Что там?
— Послышалось.
Скотт распахнул шторы, воспользовался моментом, чтобы овладеть голосом. Услышав стук в окно, до смерти боялся вскрикнуть. Безрассудное ощущение, что Розмари Карвер стоит под снегом и смотрит на него, не исчезало. Бесконечная белая пустота за окном его только усилила.
— Ничего там нет.
Он снова нехотя повернулся к экрану. Пленка начинала плавиться в лампе проектора, лицо девочки в голубом исказилось, почернело, стало неузнаваемым, фигура отца вытянулась, кадр бессмысленно растекся, расплылся. Скотт уловил выплывший из аппарата запах горящего целлулоида, и картинка сразу же вспучилась черными пузырями.
— Вот черт, — визгливо хихикнула Колетта, — загорелось. — Схватила покрывало с дивана, накинула на проектор, откуда уже выбивались тонкие струйки дыма. Он упал с грохотом, луч ушел в потолок, замигал и погас.
Происходящее вывело Скотта из ступора, он пошатнулся, уткнулся для равновесия в высокий медный торшер в углу.
— Я пойду.
— Обожди, — сказала Колетта.
— Мне надо…
Она к нему прижалась и поцеловала. Застигнутый с открытым ртом Скотт почувствовал, как ее язык скользнул по зубам, оставив привкус молока и мяса. Он попятился не глядя, только надеясь найти выход.
— Помнишь?
— Извини. — Голос совсем чужой, совсем не виноватый. Как-то удалось перешагнуть через упавший проектор, через провода, через столик, обогнуть мебель и лампы, виляя на каждом шагу по пути к двери.
— Куда ты? — спросила Колетта.
Скотт оглянулся на потемневший экран, где видел последнее изображение дома, помня только о том, что туда ему надо вернуться.
Дом зовет.
Глава 25
Добежав до машины, отъезжая от дома Макгуайров, виляя из стороны в сторону по обледеневшему асфальту, Соня даже не потрудилась ответить на телефонный звонок. Звонки в конце концов прекратились. Она нажала кнопку пропущенных вызовов, на дисплее выскочил номер Реда. Соединившись, она еще до первого гудка услышала задохнувшийся голос:
— Я нашел его…
— Генри? Где?
— На площадке.
Соня нахмурилась, переспросила громче, чем требовалось:
— Где?
— На строительной площадке в городе, — объяснил Ред с оттенком безнадежности в голосе. — На месте старого кинотеатра «Бижу».
Соня старалась покрепче прижать плечом трубку к уху, что обычно не так уж и трудно, но в данный момент оказалось почти невозможным, когда вокруг, не умолкая, ревел и бушевал зимний ветер.
— Что он там делал?
Вдруг вспомнился трейлер, стоявший за ограждающей цепью, служивший конторой, где Ред иногда прятался, не желая возвращаться домой. Даже пытался уговорить ее провести там с ним ночь.
— Что с ним?
— Ничего… — растерянно выдавил Ред. — Все в порядке. Только приезжай сюда, ладно?
И она поехала на предельной скорости, несмотря на погоду и скользкую дорогу. Сквозь летевший снег фары высвечивали фасады домов, мелькавшие плоскими картинками, написанными на холстах. Промчавшись мимо них, «королла», почти потеряв управление, вильнула к руинам кинотеатра, заскользила вдоль цепного ограждения, за которым под свежим слоем снега громоздились остатки сгоревшего здания, напоминая корабль, потерпевший крушение в Арктике. Высокая дверца трейлера скрипнула в петлях, в темноту протянулся прямоугольник света.
— Соня! — крикнул сквозь ветер голос Реда. — Это ты, принцесса?
— Я, — ответила она. — Как мне туда попасть?
— Обожди. — Ред неуклюже вылез из трейлера, пошатнулся под порывом ветра, и Соня увидела, что он держит на руках мальчика, завернутого в одеяло и прижавшего к себе рюкзак. — Слева можно проехать.
Они встретились у ограды, и Ред передал ей Генри.
— Я сверял кое-какие счета в трейлере, услыхал шум. Нашел его вон там… — Он неопределенно кивнул в сторону кинотеатра. — На земле лежал.
— Боже мой… — Соня взглянула на личико, запачканное пеплом и грязью, но не увидела ни синяков, ни крови. Глаза были открыты, смотрели на нее запыленными орбитами ночи. — Эй, малыш, все в порядке?
Генри кивнул, крепче стиснул рюкзак, как бы боясь, чтобы его не отняли.
— Не надо было сюда ходить, — упрекнула его Соня. — Здесь опасно. Мы беспокоились.
Генри заморгал и кивнул:
— Где мой папа?
Чертовски хороший вопрос, паренек. Из желудка вылетела разъяренная оса, вонзила жало в горло. Как бы там ни страдал Оуэн, если он вечером в снегопад оставил мальчика в фургоне, надо обратиться в полицию, найти его сыну лучшего опекуна. Примостив ребенка к плечу, Соня вытащила мобильник и принялась набирать номер.
— Кому звонишь? — спросил Ред.
— Лонни Митчеллу.
Он схватил ее за руку:
— Погоди. Не спеши.
— О чем ты говоришь? — разозлилась она. — Генри мог насмерть замерзнуть, упасть в яму, сломать себе шею… — Спохватилась, что мальчик наблюдает и все понимает, поэтому постаралась смягчить тон. — Здесь совсем темно, очень холодно…
— Правда, — согласился Ред и почти прошептал: — Однако, если вызвать полицию, его попросту заберут.
Мальчик окаменел в объятиях Сони. Она хотела сказать: «Неплохая мысль», — а потом: «С каких пор ты стал защитником Оуэна Маста?» Только Генри не должен слышать сейчас ни того ни другого. Глаза у него уже полны слез, он весь дрожит в медвежьем покрывале, в которое его закутал Ред.
— Послушай, — сказал Ред и долго смотрел на нее, прежде чем продолжить. — Давай сначала я сам с Оуэном поговорю. Волью в него кофе, чтоб чуть протрезвел, разъясню, до чего он дошел, и привезу сюда. Если потом захочешь вызвать копов, пожалуйста. Но, по-моему… — Он сделал глубокий вдох, явно стараясь подобрать слова.
Соня видела его точно в таком состоянии, заснятого на любительской пленке после смерти первой жены, растолстевшего от радостей жизни и отчаянно старавшегося отыскать точку опоры в глубинах своего костюма стоимостью в пять тысяч долларов.
— … по-моему, разлука с мальчиком станет последней соломинкой, которая сломает ему спину.
— А вдруг станет последней соломинкой, за которую он ухватится и выплывет? — возразила она.
— Ты правильно сказала, всегда находятся люди, готовые прийти мне на помощь. У нас с Оуэном есть свои разногласия, но я обязан для него это сделать. Хотя бы попробовать.
— Ничего не понимаю. Почему ты его защищаешь?
— Если не я, то кто? — сказал Ред. — Наверно, понимаю, как он себя чувствует.
Никаких больше доводов не осталось, и Соня только молча вздохнула. Прежняя Соня, существовавшая до того, как увидела машину Скотта перед домом Макгуайров, вступила бы в бой, а теперь ее больше не существует.
Признать это гораздо труднее, чем ожидалось.
В конце концов она просто ушла.
Глава 26
Завалившись в подсобке «Фуско» между ящиками с пивом и бутылками со спиртным, Оуэн видел во сне пожар в «Бижу».
Картина такая живая, что даже во сне сердце заколотилось. Все замедлилось, детали обрели резкость. Видно, как на усталом лице матери отражаются краски с экрана, слышен запах отцовской туалетной воды «Вельва», смешанный с газом послеобеденной стариковской отрыжки. Тут и там зрители хрустят попкорном. Отец сдерживает зевоту. Эмоциональное восприятие обострилось: Оуэн злился, что торчит здесь, тогда как Скотт в колледже на свободе, проклинал город, родителей и внучатного дядюшку Бутча. Всем известно, что внучатный дядюшка Бутч ненормальный. Все миссионеры — дурные пиявки, высасывают деньги, прикидываясь, будто делают Божье дело, и если им поверишь, то они тебя высосут. И вот овцы строятся в ряд перед стрижкой одна за другой.
Где-то в зрительном зале заплакал ребенок. Сначала Оуэн старался не обращать внимания, сосредоточившись на своей собственной злости, сжав ее в груди в твердый черный мячик. Боль вызвала извращенный взволнованный трепет, будто он прикусил ногти, до крови впившиеся в десны. Но когда детский плач перешел в настоящий рев, стало ясно, что за спиной происходит нечто, не связанное с кино.
Собравшись оглянуться, Оуэн посмотрел на экран. На нем вместо красивших стены миссионеров была бледная девочка в голубом, с широко распростертыми руками. Этот невинный образ почему-то его очень сильно расстроил, и не только его одного. В нескольких рядах позади визжал ребенок, будто его пытают и мучают. Оуэн разом увидел звезды, рот наполнился тошнотворной слюной — ясно, сейчас его вырвет. Либо он сам заплачет. Справа отец прикрыл рукой глаза, тоже плачет или зевает. Ни в чем нет ни малейшего смысла.
«Мне все это только кажется, потому что я пьян, — смутно подумал он. — Напился, потому что нынче годовщина пожара. Снится кошмарный сон, проклятые посттравматические воспоминания, как у вьетнамских ветеранов, только не о войне, а об этом. Проснусь дрожа, в луже мочи, все будут надо мной смеяться, но я все же проснусь».
Кошмар с каждой секундой становится реальнее. Между детскими воплями и изображением на экране происходит какое-то третье действие. На уроках химии в школе им объясняли, что некоторые соединения, сами по себе инертные, составляют с другими смертельные смеси, но что тут смешалось? Оуэн чуял кипящую тучу взрывоопасной энергии, словно кинотеатр наполнился природным газом.
В глубоком сне возникло невыносимое предчувствие неотвратимой катастрофы. Он вскочил с кресла, протиснулся мимо матери, которая нахмурилась: «Ты куда это?» — споткнулся, упал в темном проходе, разбил колено о ручку сиденья, пробираясь к двери с красной табличкой «Выход». Головы укоризненно поворачивались, а он игнорировал. Сделал три шага, увидел кричавшего мальчика трех-четырех лет, красивого, светловолосого, с выпученными глазами, безрассудно испуганного. Он стоял на сиденье, протягивая к нему руки и умоляя: «Забери меня отсюда ко всем чертям, мистер!»
Даже не думая, паренек Оуэн схватил ребенка, тогда как взрослый Оуэн беспомощно барахтался в пьяном сне, сразу вспомнив своего сына Генри. Конечно, мальчишка на сиденье не Генри — Генри родился только через пятнадцать лет после пожара, — хотя сходство меж ними совсем не случайно. Последнее, что он услышал от мальчика перед тем, как по кинотеатру прокатился огненный вал, был сорвавшийся с его губ неоконченный крик, одно слово, которое все изменило:
Папочка.
Глава 27
Соня впихнула Генри на заднее сиденье и осторожно, медленно поехала к «Фуско», чувствуя, как задние колеса скользят и елозят по плотному снегу. Видела в зеркале заднего обзора едущего следом Реда. Когда подъехала к бару, пристегнутый ремнем мальчик спал. Она дождалась, пока Ред подъедет и подойдет.
— Иди говори, а мы тут обождем.
Ред покорно кивнул и направился в бар, как на виселицу, видимо идеально усвоив такую привычку, просто живя в этом городе. Наблюдая за ним, Соня почуяла, как в душе шевельнулась искренняя симпатия, и постаралась ее подавить. Больше не надо никакой эмоциональной привязанности, тем более к женатому мужчине.
Иначе что дальше?
Генри уткнулся в грудь подбородком. Не особенно хочется везти его домой к Эрлу, хоть выбор сокращается с каждой минутой. Она снова позвонила Скотту, и на этот раз он ответил.
— Где ты? — спросила Соня.
— Дома… в Круглом доме. — Голос гулкий, хриплый, неузнаваемый. — В лесу, — сказал он и добавил: — Пишу.
Она выпалила, не успев удержаться:
— Я видела тебя у Колетты.
Последовало долгое глубокое молчание.
— Как… — Скотт умолк. — Ты была за окном? Подглядывала за нами?
— А ты что там делал?
Он не ответил. Оба целую минуту молчали. В долгом молчании Соня увидела головокружительное совпадение прошлого с настоящим, будто они толкуют о том, что было шестнадцать лет назад, когда она его видела в окне Колетты. Возникло тревожное ощущение, что и он это видит, они оба попали в одну хронологическую червоточину, вернувшись в тот день, перед выпускным вечером. Снег залепил лобовое стекло, на время затмив улицу. Время вертится назад в Милберне, штат Нью-Гэмпшир. Если не проследить, сам закрутишься вместе с ним.
Соня заговорила первой:
— Я… Реда искала. Кое-что случилось.
— Что?
Вспомнив о мальчике, она понизила голос:
— Оуэн оставил Генри в фургоне, пошел в бар, напился, Генри убежал. Мы нашли его в старом кинотеатре «Бижу», где идет реконструкция.
— Он был внутри? С ним все в порядке?
— Сейчас все хорошо, — ответила Соня. — Только я сегодня не хочу отправлять его домой с Оуэном.
— Может, мне приехать, забрать его?
Она что-то заметила краем глаза, оглянулась, увидела, как дверь бара открылась, в ней замаячил Ред, топчась в заснеженных ботинках.
— Минуточку. — Соня зажала пальцем крошечный микрофон сотовой трубки, дождалась, пока Ред подойдет, опустила стекло. — Ну?
— Оуэн намертво отключился, — сообщил он. — Я разговаривал с человеком в полной коме. Лиза попросила парней оттащить его в подсобку проспаться. — Он покачал головой. — Я с ним утром побеседую.
— Еду, — сказал в трубке голос Скотта, когда Ред повернулся и пошел прочь.
— Постой. — Видя сквозь шторы происходившее вечером в доме Макгуайров, Соня побаивалась отдавать мальчика Скотту. Голос у него сдавленный, механический, будто читает текст с одному ему видимых шпаргалок.
— В чем дело? — спросил он.
— Похоже, Оуэн пьян до бесчувствия.
— Черт возьми! — Скотт издал звериное рычание, которого она никогда от него не слышала.
— Подожди, ты уверен…
— Это мой племянник.
— Он со мной, — сказала Соня. — Я его к тебе привезу.
— Знаешь, как доехать?
— Я была там с тобой в первый раз. Помнишь?
— Ох, правда. — Он беззвучно рассмеялся, скорее, нервно фыркнул, напряжение в тоне исчезло. — Извини. Не пойму, что со мной. Действительно не хочешь, чтобы я приехал? Я не против.
— Сейчас я его привезу. Тогда и поговорим.
— Отлично, — сказал Скотт. — Жду.
Глава 28
Вернувшись от Колетты, Скотт вовсе не собирался писать. Было поздно, головная боль превратилась в редчайшее галлюциногенное чудо вроде религиозного транса, описанного Достоевским, который переживал его, видя образ Бога. Возможно, не мигрень — мигреней у него никогда не бывало, — но похоже на то. В любом случае надо принять ибупрофен, лечь в темной комнате с влажным полотенцем на глазах, ждать, когда пройдет.
Но как только он вошел в Круглый дом, боль улетучилась.
Дом словно проглотил ее. Вместо этого родилась мысль о новом эпизоде в «Черном крыле» — идея снова без всяких усилий полностью сформировалась в сознании. Так творят настоящие писатели? Может быть, иногда просто везет. Или правы те, кто говорит, что хорошая литература рождается в муках.
Окончательно отказавшись от ибупрофена, Скотт включил компьютер, не позаботившись о свете, уселся на табуретку и начал писать.
Глава 21
Шериф знал.
Фэрклот откуда-то знал, что он знает. Представитель закона вежливо, но пытливо расспрашивал об отсутствующей Морин, сменил тему и снова вернулся к ней с преувеличенной небрежностью. Старался поймать Фэрклота на лжи.
Шериф — дружелюбный и веселый парень по имени Дэйв Вуд — заглянул полчаса назад. Беседа началась на пороге, через пару минут Фэрклот пригласил его на кухню выпить чашку кофе. Шериф Вуд восхищался размерами дома, коридорами без углов, внушающими любопытное ощущение движения, даже когда стоишь на месте. Не тревожит ли это иногда хозяина? Нет, каждую минуту искренне радует.
Он услужливо повел представителя закона на обзорную экскурсию, показал все боковые комнатки и коридоры, двигаясь по часовой стрелке по первому этажу.
В столовой решил его убить.
— Да, вот это дом так дом, — проговорил Вуд в пустую чашку и поднял голову. — Во всем доме ни одного угла.
— Верно, — подтвердил Фэрклот. — Даже электрические розетки скругленные. Наверняка специально заказаны.
— Могу поспорить, наверху еще много комнат.
— Конечно, — кивнул Фэрклот. — Больше, чем нам нужно. Дом большой, — фыркнул он. — Кое-куда я еще не заглядывал.
Оба рассмеялись, потом шериф посмотрел на него. Лицо его было спокойным и лишенным всякого выражения.
— Где она, Карл?
— Прошу прощения, не понял?
— Жена твоя где?
Фэрклот улыбнулся.
— Не наверху.
— Нет?
— Нет. — Он позволил себе улыбнуться еще шире. — Я ее в крыло унес.
— В какое крыло? — нахмурился шериф и шевельнул губами, готовясь к вопросу, а Фэрклот взмахнул
— Скотт!
Он вздрогнул, резко глянул через плечо, чуть не вывихнув шею. В коридоре слышались шаги. Сняв с колен ноутбук и поднявшись, Скотт увидел в дальнем конце коридора Соню с тюком в руках. Тюком был Генри.
— Ты меня испугала.
— Стучала, а ты не ответил.
— Дом большой. — Он сообразил, что повторяет строчки рассказа, реплику Фэрклота, адресованную шерифу. — Я… работал. — Хотел улыбнуться и отказался от попытки, догадавшись, что это смешно. — Хорошо идет.
Соня смотрела на него, как бы ожидая разрешения подойти ближе. Генри застонал, заворочался в ее объятиях, вцепился во сне пальчиками в пальто, как ищущий мать младенец.
Скотт постарался, чтобы голос звучал нормально.
— Спасибо, что привезла его. Как он?
— Все в порядке. Хорошо бы накормить и положить в горячую ванну, но можно обождать до утра.
Он с улыбкой кивнул. Так все делают, когда соглашаются, — кивают с улыбкой. Нормальные привычки медленно возвращаются.
— Слушай, я в самом деле очень благодарен. Давай. — Потянулся к племяннику, видя, что она не хочет отдавать ребенка. — У меня есть надувной матрас, спальный мешок… — Пошел в столовую, уложил Генри, с чем-то боровшегося на низших уровнях сна. — Хочешь чего-нибудь выпить?
— Нет, спасибо.
— Слушай, — сказал Скотт, — я хочу сказать, что у Колетты…
— Это меня не касается.
— Она раздобыла фильм, который мой внучатный дядя Бутч показывал в «Бижу» в день пожара. Его нашли на пожарище. Собственно, Оуэн нашел. Я ничего не понимаю… — В глаза попал свет компьютерного монитора, чисто-голубой ожидающий прямоугольник, пруд, приглашающий в него нырнуть. — Не когда-нибудь, а именно сегодня.
Соня все смотрела на Генри, мгновенно заснувшего на надувном матрасе.
— Его Ред отыскал.
— Футболист Ред Фонтана?
— Он руководит реконструкцией. Это проект Макгуайров, поэтому…
— Ясно, ясно, понял. — Нестерпимо хочется продолжить эпизод. Кажется, будто Фэрклот здесь, застыл, занеся кружку над головой шерифа, дожидаясь момента…
— Скотт!
— А?
— Что с тобой?
— Ничего. А что?
— Ты глаз не сводишь с монитора. Как будто тебя вообще здесь нет.
— А где я?
Она бросила взгляд на компьютер.
— Соня… — Он не успел сдержать сухой усталый смешок, который ее удивил, испугал. — Прости мою рассеянность… Просто… если б ты знала, какой выдался день…
Она подошла ближе, загородив собой монитор.
— Ты получил лекарство в аптеке?
— Уверяю тебя, без него обойдусь. — Скотт чуть не растолковал, каким образом преодолел головную боль и электричество в черепе, но для этого надо было бы сперва объяснить боль и шоковые разряды, чего определенно делать не следует. — Гораздо лучше от него не зависеть. Смотри. — Он повернулся лицом к ней и вытянул абсолютно не дрожавшие руки, как будто это что-то доказывало. — Позволь мне дописать эпизод. Потом обязательно поговорим, обещаю.
Соня смотрела на него, как на незнакомца.
— Конечно. Как скажешь, — с полным равнодушием сказала она.
Глава 29
Шериф нахмурился и шевельнул губами, готовясь к вопросу, а Фэрклот взмахнул кружкой и хрястнул его по голове. Ручка отломилась, славный парень Дэйв Вуд изумленно взглянул на него, как бы спрашивая: «Неужели ты это сделал? Неужели?»
Фэрклот удивился и одновременно обрадовался такой бурной реакции. Вцепился в шерифское горло, стиснул, нащупал большими пальцами шейные позвонки. Дэйв с легким вздохом упал на колени, повалился на бок. Из угла рта вытекла струйка крови. Но Фэрклот еще слышал, что он дышит, пытается дышать.
Звук дыхания ошеломил его на секунду, он опустил глаза, не поверив глазам. Что его обуяло? Он совершил убийство, но он не убийца. Нормальный человек в экстремальной ситуации. Был на войне, вернулся домой героем. Женился, накопил деньги в банке. Надеялся вернуться в колледж, открыть свое дело. И вот теперь все планы разбились, виновник этого лежит перед ним на полу. Господи помилуй, что он вообще здесь делает?
На него взглянули остекленевшие глаза шерифа, губы зашевелились, желая заговорить. Фэрклот услыхал хриплый шепот:
— …не поздно… помоги… в больницу…
Он наклонился, схватил полицейского за руку, замер, слыша какой-то скрип и шорох в углу столовой.
Поднял голову, увидел девочку в голубом, стоявшую на входе в черное крыло. Девочка была не одна. Позади нее высокий мужчина в черном костюме. Отец.
Оба одинаково улыбались.
И Фэрклот улыбнулся в ответ. Он все понял.
— …врача… — слабо пробормотал шериф.
С той же улыбкой Фэрклот взял кофейную кружку с отбитой ручкой и ударил его в лицо. Что-то треснуло, только не кружка. Шериф чуть слышно пискнул. Фэрклот бил вновь и вновь, пока кружка в руках окончательно не разбилась. Уставшая рука болела, хотя он хорошо себя чувствовал, будто сделал в три этапа полезное дело, скажем собрал в кучу червей-древоточцев, задавил, потом сжег. Тяжкий труд — сам по себе награда, говорил отец. Фэрклот до сих пор не совсем понимал, что это означает.
Осмотрел свои ладони, забрызганные
Скотт остановился. Он работал очень быстро, спеша поймать слова. Остановился, когда кончики пальцев прилипли к клавишам, потрясенный оборотом, который приобрел сюжет, и уставился на клавиатуру.
Она сплошь окрашена кровью.
Почти на каждой клавише липкие алые завитки, мазки, пятна. Будто мышку окунули в красную краску и она проехалась в пляске по горизонтальной поверхности ноутбука.
Скотт вдохнул, задержал дыхание, досчитал до пяти, сказал себе сознательно, целенаправленно: «Ничего подобного. Сейчас переверну руки, увижу чистые ладони, посмотрю и увижу чистую клавиатуру. Возможен провал в памяти».
Только не было никакого провала.
Перевернул руки.
Ладони в крови.
Он сидел неподвижно, терпеливо на них глядя, ожидая исчезновения иллюзии. Так и следует поступать при обмане зрения и при фокусах воображения, правда? Надо ждать, пока развеются. Потому что, если не развеются, значит…
Либо это реально, либо ты сумасшедший. Либо то и другое.
Но чем дольше он смотрел на руки, тем реальнее становилась иллюзия — если это иллюзия. В данный момент реально чувствуется, как кровь сохнет на перепонках между пальцами, склеивает линии на ладонях. Хуже того, суставы саднят и горят, рука устала — одна правая. Усталость докатилась до плеча, разлилась в спинных мышцах с правой стороны. Недавно правая рука сделала что-то страшное и опасное. Может, дрова колола, многократно замахивалась и разогрелась или…
— Скотт!..
Он перевел взгляд с открытых ладоней на Соню. Она растерянно смотрела на него.
Скотт плотно закрыл глаза руками. В самостоятельно сотворенной тьме слышал, как она приблизилась, прикоснулась к плечу. Комната сжалась, свернулась в водовороте повышенного давления. Он плавал в пустоте целую вечность, а потом услыхал ее голос:
— Что ты сказал?
Он опустил руки, открыл глаза, посмотрел: пальцы и ладони чистые. Разумеется. Всегда были чистыми.
— Ты сказал: «Я всех убил».
Скотт открыл рот и снова закрыл. Горло перехватило.
— Он убил. Это он всех убил.
— Кто?
— Не знаю.
Соня коснулась его щеки.
— Ты болен?
Он посмотрел на мальчика на надувном матрасе. Спящая фигурка принесла неописуемое облегчение. Зрачки метнулись к окну, заметив что-то на долю секунды шевельнувшееся на стене.
— Что это?
— Снег, — тихо ответила Соня, уходя из дома. — Опять снег пошел.
— Куда ты?
— Посмотрю на машину. И сразу вернусь.
Провожая ее до прихожей, Скотт поймал себя на том, что проводит рукой по стене, по скругленным углам, которые не позволяют сказать, где находится выход. Оштукатуренные стены выпучились наружу, не имея ни границ, ни четких очертаний, безмолвно изображая живую ткань. Они, безусловно, сильнее округлились с тех пор, как он впервые вошел в Круглый дом.
И всех убил.
Глава 30
— Машина погребена, — сообщила Соня, вернувшись в дом. Волосы, плечи, обувь словно обсыпаны белым порошком. — На дороге наверняка еще хуже. — Она оглянулась на дверь столовой, где спал Генри. — Пожалуй, ночевать останусь.
— Отлично, — сказал Скотт без особого энтузиазма. Он только что вернулся с кухни, прихлебывая горячий чай с лимоном из кружки в трясущихся руках. Надеялся успокоить нервы, крепко ее стиснув, а вышло наоборот, кружка ходуном ходила, чай чуть не выплескивался на костяшки. — Наверху есть кровать. Я ею еще не пользовался.
— Может, где-нибудь внизу есть диван? Не особенно хочется спать на старой кровати. Кто знает, когда в последний раз белье меняли.
Рассмотрев несуществующие альтернативы, Соня заползла под расстегнутый спальный мешок рядом с Генри. Скотт выключил свет, оставив лампу в коридоре, вернулся на табурет к ноутбуку. Чувствовал, что Соня наблюдает за ним в голубоватом свете монитора.
— Скотт!
— Что?
— Позволь спросить: что происходит?
Он поднял глаза.
— В каком смысле?
— Что с тобой сегодня?
Он помолчал и тряхнул головой.
— Сам не знаю. Может, заболеваю. Лихорадка или еще что-нибудь. — Сказав это вслух, он почувствовал себя получше и вспомнил слова матери: «Притворяйся, пока не получится по-настоящему». — Ничего страшного.
— Потому что я думаю… вдруг ты перенапрягся, работая над книгой. Если тебе так тяжело, дело того не стоит.
— Ты же хотела, чтобы я ее дописал, — сказал Скотт. — Думал, обрадуешься.
— Я не радуюсь, видя тебя в таком состоянии.
— Со мной все в порядке, — заверил он. — Правда.
— Знаешь, я видела кадры, которые она тебе показывала.
Он старался ее разглядеть и не смог в темной комнате, даже в свете монитора.
— Там этот самый дом снят, да?
— Угу, — промычал Скотт, крепче сжав кружку.
— И он тоже здесь жил? Внучатный дядя Бутч?
— Не знаю.
— Скотт!
— А?
— Мне привиделось или углы…
Она не договорила, а он не ответил. Уставился в углы, вспоминая, как Соня однажды сказала, что они в снах не сходятся. Где-то часы тикают. Раньше тикали? Возможно, но вряд ли. Сосредоточился на тихих размеренных звуках, ровных, постоянных. Они должны подбадривать, но не подбадривают, напоминая терпеливый стук пальца в оконное стекло, повторяющийся снова и снова.
— Я кое-что видела, — сказала Соня другим, молодым голосом.
Скотт оглянулся:
— Что?
— В фильме, который ты смотрел у Колетты. Мужчина в черном… Очень глупо, только он точно смотрел на меня в окно с экрана.
— Смотрел?
Соня кивнула:
— Перед тем, как я убежала. Клянусь, прямо в глаза посмотрел. — Она сморгнула. — Я с ума сошла, да?
Скотт направился к надувному матрасу, лег с ее стороны. Она спиной прижалась к нему, чуть дрожа, еще холодные после недавнего выхода из дома волосы скользнули по его щеке. На другом краю Генри застонал во сне.
— Думаешь, с ним ничего не случится?
— В психическом смысле, ты хочешь сказать? По-моему, ничего.
Соня, видимо, не совсем удовлетворилась ответом, задержала дыхание, потом медленно выдохнула, как бы сдавшись.
— Он должен жить с тобой.
— Это не мне решать.
— Возможно, тебе.
— Что ты предлагаешь?
— Генри славный мальчик, — сказала она, — мозги у него хорошие. Но если надолго оставить его с Оуэном, он превратится в Оуэна. Тебе это известно не хуже, чем мне.
— Ну и что я должен сделать? — спросил Скотт. — Обратиться в социальную службу? Нанять адвоката? Выступить в суде против родного брата?
— Может, я знаю Оуэна лучше, чем ты. — Голос Сони шел откуда-то издалека. — Знаю, что Генри пробуждает в нем лучшие качества. Но ребенок заслуживает большего.
— Он не мой сын, — сказал Скотт. — Не мой, как бы мне этого ни хотелось.
— Да, — сказала она, и они долго лежали, не говоря ни слова. Ее дыхание стало глубже, ровнее, он решил, что она заснула, но Соня снова заговорила: — Знаешь, мы впервые по-настоящему проводим ночь вместе.
Скотт кивнул — хоть она его не видит, наверняка почувствует движение головы. Хорошо бы разглядеть ее лицо. Что-то в голосе, в интонациях и модуляциях напоминает о девочке, с которой он расстался. Почти не удивился бы, видя лежащую рядом с ним в темноте шестнадцатилетнюю Соню.
— Я еще не согрелась. — Она сонно перевернулась, вытянулась и уткнулась лицом ему в грудь.
Скотт поцеловал ее в лоб, она крепко прижалась к нему, задрожала и оттолкнула:
— Не хочу тебя разочаровывать. Я ни к чему такому пока не готова.
— Я тоже. Даже не думал.
— Врешь.
— Серьезно. Вдобавок, если ты не заметила, с нами в постели ребенок.
— В постели? — рассмеялась она.
— На надувном матрасе… Он наверняка сдуется. В любом случае мне писать надо.
— Правильно. — Смех вновь растаял слабым эхом. — Говоришь, как настоящий… — Последнее слово заглохло где-то в волосах и подушке. Не похоже на «писатель». Скорее всего, «Маст».
Скотт по-прежнему держал Соню в объятиях. Со временем ее дыхание выровнялось, углубилось, стало ритмичным, тогда он встал, понес ноутбук на кухню, включил свет. Подумал выпить джина и предпочел бутылку воды. Лучше, чтоб голова была чистая, насколько позволит дом, если позволит.
Что? Что ты делаешь и зачем, если на то пошло? Не приписываешь ли при этом архитектурной постройке чисто антропоморфные свойства?
Сначала ответим на легкий вопрос. Он собрался закончить отцовский рассказ. Конец близится, до него всего миля. В центре событий Фэрклот и девочка в голубом. Чем слабее становится клубок здравомыслия Фэрклота, тем больше силы набирает призрак. Со временем, на грани безумия, он осознает, что его пришествие в этот дом не случайность, а следствие — неизбежная причина и следствие готики Новой Англии. Двенадцатилетняя Розмари провела последние страшные дни здесь, в черном крыле Круглого дома, причем Фэрклот к этому как-то причастен. Как? Розмари умерла в восемьсот восьмидесятых годах, а действие рассказа разворачивается в девятьсот сороковых. Согласно хронологии, Фэрклот появился на свет лет через сорок после ее смерти. А отец Розмари? Какова его роль?
Скотт захлопнул крышку ноутбука.
И увидел.
Розмари Карвер стоит в кухонной двери, наблюдает за ним. Свет освещает бледное восковое лицо, съеденное и истаявшее до костей. В ней нет ничего призрачного и иллюзорного, нельзя назвать ее «призраком» в каком-либо традиционном смысле. Она стоит перед глазами, обладает массой, объемом, запахом — тем самым землистым кисловатым запахом, который шел от Генри, когда он якобы лежал рядом со Скоттом на надувном матрасе, а в действительности играл в другом конце комнаты.
Первая сознательная мысль подсказала, что тело Розмари продолжало расти после смерти, кости вывихнулись и искривились в тесной могиле. Остатки голубого платья повисли лоскутами отслоившейся кожи. Она побрела через кухню, и Скотт диагностировал деформацию таза, слыша скрип и скрежет сломанных костей в пересохших суставах.
Можно закрыть глаза. Когда открою, ее не будет.
Глаза не закрылись.
Девочка с неуклюжей легкостью ускорила шаг. Слышен скрип половиц у нее под ногами, чувствуется, как перед ней расступается спертый, застывший воздух. Она приближалась, заполняя поле зрения, загораживая все остальное. Запах стал совсем нехорошим, сильным, всепроникающим запахом человеческих останков и могильной земли, заполнил рот, ноздри, вызвал тошноту. Вскоре она будет так близко, что холодное лицо прильнет к его лицу, как глина. Поцелует ли он тонкие ледяные губы? Возникла жуткая уверенность, что поцелует.
Все тело Скотта наполнилось воплем, который он физически не мог издать, точно так, как не мог ни на шаг отступить. Она шагнула прямо к нему.
Когда он поднял глаза, девочки не было.
Глава 31
— Давно? — спросил в сотовой трубке голос доктора Фельдмана.
— С неделю, — ответил Скотт, останавливая машину у аптеки. — Более или менее. — Определенно более, не неделю, а несколько, только, судя по тону, психиатра это не обрадует, и поэтому он не стал уточнять.
— Описанные вами ощущения электрического разряда являются одним из самых распространенных симптомов отказа от антидепрессанта, повышающего уровень серотонина[12] в мозгу. Другие реакции были? Головная боль, усталость, бессонница?
— Головная боль, да, — подтвердил Скотт. — Галлюцинации тоже считаются?
Фельдман хмыкнул, не скрыв недовольства.
— При синдроме отказа наблюдаются перепады настроения, многочисленные соматические и физиомоторные реакции, включая визуальные и слуховые возмущения.
— Насколько достоверные?
В трубке зашуршали бумаги. Телефон идеально уловил шорох на другом конце континента.
— Такая рискованная безответственность не похожа на вас, Скотт. Я позвоню в местную аптеку насчет рецепта. Серьезно рекомендую воспользоваться.
— Хорошо.
— И еще.
— Да?
— Когда собираетесь вернуться и продолжить наши занятия?
Скотт вспомнил, как с утра пораньше забросил Генри в школу и мальчик побежал, прижимая к груди свой рюкзак.
— Скоро, — сказал он. — Как только смогу.
Таблетка белая, круглая, рифленая, с выдавленными буквами «Ф» и «Л» по сторонам от насечки, которая делит ее пополам. Скотт стоял у аптеки, глядя на нее, лежащую на ладони идеальной каплей снега, размышляя о симметрии предмета, который он готов принять внутрь. Наконец сунул в рот, стараясь проглотить всухую. Таблетка застряла в пищеводе, он давился со слезящимися глазами, наконец зачерпнул пригоршню снега, чтобы ее протолкнуть.
Никого поблизости не было, никто его усилий не видел. Улицы города почти пусты, за исключением горстки жителей, закутанных, как эскимосы, бродивших под холодным утренним солнцем. Снегопада нет, но ветер не прекращается. Скотт направился обратно к машине и сам удивился, когда прошел мимо до следующего перекрестка, откуда за три квартала взглянул на «Бижу». На месте пожарища тишина и покой, хотя сегодня понедельник.
Он дошел, согнувшись под ветром, до ограды вокруг сгоревшего кинотеатра и увидел, что техники нет — исчез экскаватор с обратной лопатой, бульдозер и кран. Не видно ни одного рабочего, и ничего не слышно, за цепью торчат одни покосившиеся, почерневшие балки здания, имевшего непонятно сытый вид, будто он все вокруг проглотил.
Скотт двинулся вдоль ограждения к воротам. Они были закрыты, но не заперты, несмотря на табличку с крупной надписью «Посторонним вход воспрещен». Он нырнул под нее, думая, как себя чувствовал Генри, бродя тут в темноте. Что искал?
При дневном свете и бодрящей погоде вчерашние события кажутся совсем далекими, словно приснившимися. Проснувшись утром, Скотт настойчиво себе твердил, что увиденное в доме было лишь результатом неправильных действий нейронов — логичное заключение, подтвержденное беседой с Фельдманом. Обман зрения, галлюцинации с каждым могут случиться. В тот момент все казалось реальным, но ведь как раз из-за этого он вернулся к лекарству. Чтобы решить проблему.
Скотт пробрался среди обломков мимо конторы на колесах к полуразрушенному кинотеатру, где погибли его мать и внучатный дядюшка Бутч. Высокие закопченные просевшие стены, развалины, поглотившие родных, тоже кажутся нереальными. Лекарство уже действует?
Загородив глаза от яркого солнца и глядя вверх на стену, Скотт заметил дыру, откуда высыпались кирпичи, и, не думая, полез на груду камней и земли, высившуюся вдоль стены. Под ногами осыпались кусочки бетона, громыхала проволока и железные трубы.
Такая рискованная безответственность не похожа на вас, Скотт.
Очевидно, похожа. Он взглянул вниз. Косой луч солнечного света тянулся в дыру, как палец, указывая, куда он упадет, если потеряет равновесие и полетит вниз на частично провалившийся пол и в подвал — еще один несчастный случай в семействе Маст. Запертый в ловушке воздух циркулировал низко и мрачно в открытом пространстве, пепел смешивался со снегом на обугленных обломках, в большинстве своем неузнаваемых, — исковерканные ряды кресел и длинные сломанные половицы.
Скотт заглянул глубже на дно в тридцати футах ниже, свежее, недавно перекопанное. Кто-то перебросил через проем в полу голубой пластмассовый трап, качавшийся на ветру, удерживаемый на месте шлакобетонными блоками. Знакомый голубой оттенок — голубая калька чертежей, голубое платье девочки как-то связаны, как случайные звуки на улице неожиданно напоминают песню.
В трейлере у него за спиной раздался громкий стук. Скотт резко оглянулся, надеясь кого-то увидеть, например Реда Фонтану, который вылезет и рявкнет, что это частная собственность, вход воспрещен. Но дверца оставалась закрытой. Он спустился, подошел к фургону, заглянул в окно, встав на цыпочки, дернул дверцу.
Внутри было темно, занавески опущены, из угла шел только зеленоватый свет компьютера и горел огонек телефона. Скотт не сразу разглядел фигуру на полу. Мужчина неподвижно лежал на спине, раскинувшись, прикрыв рукой глаза, запутавшись одной ногой в телефонном проводе. Когда на лицо упал дневной свет из открытой дверцы, он застонал, перевернулся, открыл щелки туманных страдальческих глаз.
— Оуэн!
— Ох, старик, — выдавил брат, — убери свет. Выключи, ради бога, пожалуйста…
— Что ты тут делаешь?
Оуэн опять протяжно застонал одними гласными. Скотт заметил, что ящики конторских шкафов выдвинуты, на полу валяются бумаги. Чертежи, подумал он, архитектурные планы, сразу вспомнив те, что отыскал в амбаре Колетты. Другие бумаги Оуэн сжимал в руке, как будто проводил здесь поверхностный обыск и выемку документов.
— Что ты делаешь? — повторил Скотт.
Оуэн издал тот же звук, как бы растянул свое имя, не доведя до конца, — о-о-о-у-у-у… — схватился за голову, скорчился, пытаясь отвернуться от света и холода с улицы. «Интересно, — подумал он, — где был ночью Генри?» Скотт разозлился сильнее, чем ожидал.
— Вставай, — велел он, наклонился, схватил брата. — Пошли отсюда. — Внимательней взглянул на чертежи — не дом и не «Бижу», оригинальные планы, кажется, 1950-х годов.
Оуэн опять загудел:
— О-о-о…
— Что?
Он начал сопротивляться, вырвал руку, глядя в пол, но проговорил уже вполне отчетливо:
— Кости.
— О чем это ты?
Больные красные глаза посмотрели на Скотта, как два отражения восходящего солнца в загрязненном химикатами воздухе.
— В кинотеатре еще есть… — Оуэн замолчал, вытер губы. — Те, до которых не докопались, когда убирали трупы.
Скотт отшвырнул в сторону кальки, с неожиданным потрясением догадавшись, что брат говорит или хочет сказать что-то важное, указывает на связь, которая может все изменить, если только ее ухватить. Подумал о единственной белой таблетке, заеденной снегом, о конденсированной белизне, услужливо распространяющейся в мозгу, словно пар, мешающий связно мыслить.
— Что там еще есть? Кости?
Оуэн кивнул, рыгнул, сглотнул, ослаб, по-прежнему стискивая бумаги, выкопанные в ящиках.
— Откуда ты знаешь?
Он покачал головой:
— Не важно.
— Говори.
Брат взглянул на него.
— Я вчера был совсем никуда, пьяней не бывало. Просто пил и пил. Очнулся утром в подсобке «Фуско». Выбрался, пришел сюда, начал осматриваться.
— Зачем?
— Пожар ночью приснился. Только это был не сон… а как бы… я вспомнил тот вечер. Вспомнил то, что забыл. Знаешь, как в шоу Опры,[13] когда люди сидят, будто загипнотизированные, вспоминают всякое дерьмо, которое с ними в детстве творилось…
— Ретроградная амнезия? — Неправильно, но Скотт с трудом подбирал правильные слова, которые прямо у него за глазами впитывало белое облако в голове.
— Я удрал, — сказал Оуэн. — Сбежал в тот вечер из кинотеатра.
— А мама с папой? — спросил Скотт. — Они тоже пытались бежать от пожара?
— Пожар еще не начался.
— Почему тогда ты убежал?
— Просто… откуда-то знал. Знал, что случится что-то плохое. За мной сидел мальчишка, я слышал, как он визжит, плачет, знал, в чем дело и что будет плохо, поэтому встал и пошел. Мама на меня посмотрела, спросила: «Куда это ты?» — а я не ответил. Удрал без оглядки.
Скотт задумался, точно ли передан диалог. Утреннее воспоминание о пьяном сне вряд ли содержит евангельскую истину. Но Оуэн сейчас пересказывал сон с чистосердечной откровенностью, которой он давненько в глазах брата не видел, если вообще когда-нибудь видел.
— Пробежал до середины прохода, — продолжал Оуэн, — и увидел мальчишку, который орал. Он был чуть младше, чем сейчас Генри, был даже похож на Генри, протягивал ко мне руки, чтоб я его забрал. Я схватил его по пути к выходу.
— Унес от родителей? — уточнил Скотт.
— Он назвал меня папочкой.
Другое соображение пыталось собраться в мозгу, мучительно близкое, образующее более крупную картину, а потом улетучилось, заклубившись в бледном антидепрессантном тумане.
— Ты точно уверен, что все это было на самом деле?
— Говорю тебе, до прошлой ночи не помнил. Но это было. Знаю.
— Так… — Руки потянулись к больной точке между бровями, к клапану давления, откуда может вырваться облако, позволив мыслям сгруппироваться подобающим образом. Творческая визуализация. Он уткнулся в точку пальцем, чувствуя знакомый солоноватый укол, и снова слыша упрекающий голос Фельдмана: «Такая рискованная безответственность не похожа на вас, Скотт».
— Почему ты ищешь здесь его кости?
— Мальчишка не вышел, — ответил Оуэн.
— Откуда ты знаешь?
— Я его бросил. Когда пожар начался.
Голос Генри из голубизны: «Она сказала, что я уже призрак».
— Тело так и не нашли. Оно там. Ред с Колеттой это почему-то скрывают.
Скрывают. Скотт подумал о голубом трапе, голубом платье, о чертежах на голубой бумаге, о том, что одно всегда скрывает другое. Сильнее нажал на точку между бровями, приложил все силы, надавливая сквозь кожу, словно от одного этого что-нибудь произошло бы.
Услышал резкий звук, поднял глаза. Оуэн шарил в брючных карманах, вытащил сотовый телефон. Скотт и не знал, что он носит с собой трубку, но вот она. Оуэн открыл крышку, хорошо зная, что делает.
— Да? — Помолчал, послушал, лицо вдруг обмякло. — Да, я… — Снова пауза, дольше. Слышался слабый голос на другом конце, потом Оуэн сказал: — Хорошо. Сейчас буду.
— Что там? — спросил Скотт.
— Происшествие в школе. С Генри.
Глава 32
Девочка с пластырем на руке ниже локтя сидела, держа на коленях пальто, как маленькое розовое домашнее животное, словно боясь, что оно убежит. Кругом, на полу, на скамье, валялись использованные салфетки «Клинекс». Рядом с ней пристроилась женщина в старомодном коричневом костюме, в очках с толстыми стеклами и поглаживала ее по колену. Взглянула на Скотта и Оуэна испуганно и настороженно.
— Мистер Маст?
Оба одновременно ответили «да», отчего она на миг растерялась.
— Я директор Викерс. — Встала и повернулась: — Генри у меня в кабинете. Прошу вас следовать за мной.
— Что случилось? — спросил на ходу Оуэн.
— Об этом я хотела бы поговорить с отцом.
— Я отец.
Директор Викерс взялась за ручку двери, глаза, искаженные линзами, перебегали с Оуэна на Скотта и обратно и в конце концов неохотно остановились на Оуэне.
— Раньше у нас никогда не было никаких проблем с Генри, — сказала она. — Очень милый мальчик, постоянно играет с другими детьми. Поэтому случай особенно… поразительный.
Скотт понял, что неправильно истолковал хмурость: это не злость, а глубокое, искреннее огорчение.
— Честно скажу, я в полном недоумении.
— Ничего не понимаю, — сказал Скотт. — Что он натворил?
Директор Викере ввела обоих в кабинет.
По дороге домой Генри сидел на заднем сиденье прокатной машины Скотта и молчал, пристегнутый ремнем через грудь. Держал рюкзак обеими руками, как утром, когда Скотт его высадил, словно десантник, готовый выпрыгнуть из самолета.
— Знаешь, кто кусается? — спрашивал Оуэн, пристально на него глядя в зеркало заднего обзора. — Звери, вот кто. Разве ты зверь? А?
Генри поймал пылинку в воздухе и уставился на нее.
— Директорша говорит, девочке, может, придется накладывать швы. А вдруг ее родители на нас в суд подадут? Думаешь, у меня есть деньги на адвокатов?
Складки на рюкзаке стали глубже.
— Дерьмо чертово, — продолжал Оуэн. — Вот запру тебя дома, чтоб людей не калечил. Так поступают с дикими зверями, которые кусаются: запирают в клетке. Знаешь?
— Или выпускают на волю, — пробормотал мальчик.
— Что?
— Оуэн… — начал Скотт.
— Как только вернемся домой, сразу пойдешь наверх. Ясно? Я не шучу, черт побери. Будешь париться там целый день. Подумаешь о своем поступке. Надейся и молись, чтобы отец малышки не поволок меня в суд.
Скотт затормозил перед домом, не увидел других машин, вспомнил, что фургон Оуэна со вчерашнего вечера стоит возле «Фуско». Оуэн вылез, метнулся по тротуару, замедлил ход в сугробах, чуть не свалился на пути к парадному. Скотт взглянул на племянника в зеркало.
— Дядя Скотт…
— Да?
— Крысы дикие звери?
— Нет. Не знаю. Генри… — Он оглянулся. — Зачем ты укусил девочку?
— Она хотела заглянуть в мой рюкзак.
— Почему ты ей не позволил?
— Это мой рюкзак. Там секрет.
Скотт посмотрел на мешок в темных пятнах и полосах в руках племянника и подумал: «Пепел». Утром рюкзак лежал на заднем сиденье Сониной машины, значит… Что? Значит, вчера вечером рюкзак был у Генри, когда Ред нашел его на пожарище кинотеатра.
— А мне можно взглянуть? — спросил он.
Прошло несколько секунд, прежде чем мальчик неохотно разнял руки и позволил ему взять рюкзак. Он оказался на редкость тяжелым, как бы плотно набитым сырым песком, и Скотт сообразил, что фактически утром сам его не брал — Генри крепко держал мешок на всем пути до школы. Принялся расстегивать, «молнию» заело, сильней дернул, и клапан открылся, выпустив облачко пыли. Разнесся запах гари, заполнил кабину более сильным зловонием, чем от простого пепла. Внутри оказались куски шлака.
— Что это? — спросил Скотт.
Генри не ответил. В глазах сверкнули крупные слезы, скатились, промыв две чистые полоски на грязных щеках. Но он произнес четко, почти воинственно:
— Мой брат.
Глава 33
Скотт слишком быстро мчался к дому Колетты Макгуайр, безрассудно беря повороты, опасно смещая центр тяжести автомобиля. Когда доехал, подъездная дорожка пустовала, погребенная под слоем снега в полфута. Подбежал к парадному, трижды сильно стукнул, фактически заколотил. Крикнул сквозь дверь:
— Колетта! Открой! Это Скотт. — Голос уплыл за какой-то дальний угол зимнего неба, полностью от него оторвавшись. — Надо поговорить.
Нет ответа. Он уже собрался позвонить ей по сотовому, когда дверь со скрипом приоткрылась. За ней сидела тетя Полина в кресле-каталке.
— Скотт, — сказала она. — Рада тебя видеть.
— Колетта дома?
— Конечно. Заходи с холода.
Пахучее цветочное изобилие вернулось, усилилось, почти зримо клубилось в полосах света, брошенных на пол. Следуя за инвалидной коляской, Скотт старался взглянуть в лицо старушки, но она завернула за угол очередного коридора. Он впервые сообразил, что первый этаж дома Макгуайров не слишком отличается от планировки Круглого дома. Правда, здесь все стены, полы, потолки сходятся под правильными прямыми углами. Но в остальном оба дома вполне мог спроектировать один и тот же архитектор. В голову опять взбрела случайная мысль, что черное крыло как-то связано с этим.
— Тебе нравится жить в лесу? — спросила тетя Полина, и Скотт заморгал, гадая, не рассуждал ли вслух.
— Простите?
— Нравится жить в прелестном старом доме? — На сей раз старушка оглянулась, сверкая крошечными глазками на личике, напоминавшем сушеную сливу. — Там тихо, мирно, правда?
— Мне бы хотелось поговорить с Колеттой…
— У пруда был?
— Тетя Полина…
— Он за домом среди деревьев. Пруд, я имею в виду. — Она дотронулась до уха. — Слуховой аппарат в спальне оставила. Может быть, принесешь? Он на комоде из красного дерева рядом с дверью.
Даже не думая о том, что делает, Скотт поднялся по лестнице. Регенерация памяти. Вот какие слова он искал в разговоре с Оуэном. Несмотря ни на что, утешает, что вспомнил. Возможно, почти все мозги работают нормально.
Войдя в старушечью спальню, увидел слуховой аппарат — маленький розовый приборчик, лежавший в одиночестве на серебряном блюде. Улучив минуту, оглядел театральные сувениры на стенах, изображения хорошенькой молоденькой Полины, похожей на Барбару Стэнвик. Взгляд остановился на забранной в рамку афише спектакля «Незавершенная комната». Что-то знакомое, но белая таблетка размыла память в туманном водовороте. Скотт подошел поближе, прочитал мелкий шрифт.
Скоро премьера в театре «Маккинли» на 23-й улице.
Автор пьесы Томас Маст.
— Ищешь что-то конкретное? — спросил за спиной мужской голос.
Скотт круто развернулся и увидел Реда Фонтану в махровом халате, смотревшего на него из дверей. Халат не подпоясан, распахнут, под ним видно голое тело.
— Пришел поговорить с Колеттой, — объяснил он.
— Значит, попал не в ту комнату.
На этот раз разговор будет крупный, и очень хорошо.
— Что случилось с «Бижу»? Почему прекращена реконструкция?
— А что? — улыбнулся Ред. — Братец склочничает из-за платы? Он всего пару дней проработал.
— Он говорит, там что-то нашлось.
— Кинопленка?
Скотт тряхнул головой.
— Нет, еще что-то. В яме.
— Нашелся ребенок, залезший в фундамент и закопавшийся в пепел. Соня хотела вызвать социальную службу. Хорошо, что парнишка мне симпатичен.
— Значит, там ничего больше нет? — допытывался Скотт.
— Например?
— Того, из-за чего остановились работы.
— Из-за постановления о зоне застройки, — сказал Ред и спрятал руки в карманы халата, как бы надеясь там что-то нашарить. — Разрешения ждем, вот и все. Бюрократическая волокита, знаешь… А может, и не знаешь. — Он пожал плечами, посторонился в дверях спальни тети Полины, и Скотт прошел мимо так близко, что сумел прочитать вышивку на халате: «Холидей-Инн». Рука Реда до него дотянулась, слегка прижала локтевой нерв.
— Что именно сказал твой брат?
— Сказал, что внизу еще тело найдено. Погибшего ребенка.
— Потрясающе… — искренне восхитился Ред буйным воображением Оуэна. — После которой бутылки?
— Он вполне уверен.
— Не сомневаюсь. Только если бы мы нашли тело, зачем его скрывать? Думаешь, не сообщили бы полиции?
Скотт не знал, что сказать. Обдумывал воспоминание Оуэна, как он на пути к выходу схватил мальчика… похожего на Генри. У кого забрал, у матери?.. А если… Но следующая мысль мгновенно улетучилась.
— Одно точно, — сказал Ред, — чувство вины чертовски угнетает.
— Что это значит?
— Слушай, посмотри вот с какой стороны. Если б твой внучатный дядя не решил показать кино именно в тот самый вечер, все погибшие при пожаре были бы до сих пор живы. — Видно, он разглядел выражение лица Скотта, поэтому добавил: — Не обижайся, но ведь так и есть, правда? Тяжкий груз, особенно для такого парня, как Оуэн. Может, находка старой катушки с пленкой совсем сбила его с панталыку.
— Выходит, по-твоему, люди погибли из-за фильма Бутча?
— Нет, конечно. Просто пожар случился. То есть источник возгорания не установлен, однако…
— Я думаю, дело в проводке, — сказал Скотт. — В проекционной будке.
Ред покачал головой:
— Пожар начался в передней части, у экрана.
— И там тоже есть провода…
— Я только говорю, что сознание выкидывает непонятные фокусы, — проговорил Ред задумчиво и загадочно. — Особенно когда испытываешь чувство вины.
Внизу Скотт услышал слабый скрип коляски тети Полины, неустанно переезжавшей из комнаты в комнату в ожидании слухового аппарата.
— Эй, — окликнул его Ред, — ты что-то уронил.
Скотт оглянулся, увидел у него в руке пузырек с таблетками. Ред прочел надпись на этикетке.
— Леденцы для мозгов? — Он выпятил губы. — Забавно, а я не отнес тебя к такому типу.
— Есть такой тип?
— Конечно, — кивнул Ред и пожал плечами. — А может, и нет.
— Ред, милый! — проплыл по прихожей тихий, нерешительный голос, женский, не Колетты, но откуда-то знакомый. Скотт не смог догадаться, да и не пришлось: женщина выглянула из комнаты, закутанная выше груди в простыню. — Ох, я не знала…
Он мгновенно отметил родимое пятно в углу рта, жующего жвачку. Перед ним была Даун Уиллер из городской библиотеки. Узнав его, она вспыхнула, слегка вздернула подбородок, триумфально смутилась, будто что-то ему доказала одним своим присутствием здесь. «Наконец-то я сплю с квотербеком».[14]
— Пойди оденься, детка. А ты, — Ред хлопнул Скотта по плечу, — передай привет брату. — На губах вечно загадочная улыбка игрока в покер. — Скажи, я с ним свяжусь.
— Тетя Полина!
Старушка сидела на кухне спиной к нему, обмякнув в коляске, склонив седую голову набок, умостив пучок волос на плече. Скотт сначала решил, что она умерла от инфаркта или инсульта за считаные секунды до его появления.
Но она заваривала чай и почти игриво повернулась:
— Принес?
Он протянул слуховой аппарат:
— Я видел в вашей комнате афишу «Незавершенной комнаты».
— Да?
— Помните пьесу?
— Конечно. Я должна была играть главную роль. Это было бы для меня настоящим прорывом на старте. — Она улыбнулась почти вызывающе. — Но разве объяснишь это кому-нибудь, если тебе уже перевалило за тридцать?
— И что?..
Радость на старческом лице отчасти угасла, будто невидимая рука приглушила ее, повернув реостат.
— Спектакль не вышел. Том не дописал пьесу, инвесторы взбесились. Грозились отсудить у него каждое вложенное пенни, да было уже слишком поздно, никто из нас ничего не смог сделать.
— О чем пьеса?
Тетя Полина подула на чай, поднесла к губам чашку, хлебнула, поморщилась.
— Об одном доме.
— Почему он ее не закончил?
— Зашел в творческий тупик. — Она сложила руки, прищурилась на Скотта, пока тот едва не почувствовал, как расплывается и фокусируется в ее глазах. — Заявил, что в Нью-Йорке не может писать, слишком многое отвлекает. Поэтому вернулся в лес, в Круглый дом у пруда. Знаешь, там полное уединение, тишина и покой. Работал какое-то время, но чем ближе двигался к полному пониманию былых событий в том доме, тем тяжелее ему становилось. Когда пришла пора рассказывать о ней, все стало меняться… он больше уже не оправился.
— Что значит «все стало меняться»? О ком пришла пора рассказывать?
Наверху хлопнула дверь. Оглянувшись, Скотт увидел Даун Уиллер, которая пролетела мимо него к парадной двери, обливаясь слезами. Через минуту проследовал Ред, не спеша, тихонько про себя напевая, распространяя свежий запах одеколона. Задержался в прихожей перед богатым набором верхней одежды, выбрал великолепное пальто из верблюжьей шерсти, влез в него внушительным телом.
— Вернусь поздно, тетушка, — сказал он. — На случай, если кто-нибудь спросит.
Легонько звякнули ключи, дверь щелчком захлопнулась. Тетя Полина стиснула чашку, слегка закачалась в кресле в молчаливом, но ощутимом восторге. Вновь перенеся внимание на нее, Скотт испытал непонятное чувство, что она не только полностью поняла ситуацию, но и терпеливо ждала подобного исхода во время беседы.
— Так что с пьесой? — напомнил он.
Тетя Полина наклонила голову, сочувственно причмокнула.
— Автор плохо кончил.
— Умер?
— После того, как окончательно сошел с ума.
— Поэтому не дописал?
— Нет. — Она подняла палец, корявый, словно корень дерева, поправляя собеседника столь же тщательно, как учитель латыни поправляет легкую, но критически важную ошибку в спряжении глагола. — Пьеса его с ума свела, поскольку в ней описывалась ваша семья.
— Что? — переспросил Скотт.
— Пьеса была основана на неоконченной истории, записанной его отцом. То, что узнал Томми, довело его до предела. Он начал что-то видеть в пруду за домом… утопленные трупы несчастных на дне, прикованные цепями, чтоб не всплыли. В конце концов уже не мог отделаться.
От чего? От пруда, от трупов, от недописанной пьесы?
— Но ведь он видел нечто нереальное, правда? — спросил Скотт.
— При его происхождении реально то, что видишь.
— При чем тут происхождение?
— Ну… — Тетя Полина всплеснула крошечными руками и улыбнулась, будто этот жест все объяснял. — В конце концов, он был Маст.
— Я тоже Маст, — сказал Скотт.
— Разумеется, дорогой, — улыбнулась она.
Глава 34
Скотт ехал через город на север. Старое шоссе было расчищено и пустовало, но в двадцати ярдах за поворотом на проселочную дорогу, где отец нашел смерть, машина, проезжая мимо железных ворот, потеряла управление, он не справился и увяз в снегу, навалившем на фут.
Чертыхнулся, вылез, утонул по колено в гладкой, нетронутой белизне. Ветер крутился и дул по равнине, неустанно вздымая снежную пыль, будто отыскивал безнадежную пропажу. День близился к концу, начиная синеть.
Сделай свой шаг.
Не приняв решения продолжать, он автоматически пошел по дороге к лесу. Пешком гораздо дольше. В двадцати минутах отсюда люди смотрят кабельное телевидение, читают «Гарри Поттера», торчат во Всемирной паутине, а здесь все еще 1956 год.
Или 1882-й.
Почему на ум пришел именно этот год? Разумеется, точно известно: в восемьсот восьмидесятых исчезла Розмари Карвер. Теперь вспомнилось. Вдруг тогда время почему-то остановилось, и те же самые лесные звери живут до сих пор, наблюдая за ним с кромки леса?
«Чудесно в лесу, в темноте, в глубине, но обещания лежат на мне…»
Банальное воспоминание о Роберте Фросте[15] в лесах Новой Англии на миг успокоило, хотя ветер сразу развеял спокойствие. Выше дорога сделала последний поворот, деревья расступились, открыли заснеженную поляну. Здесь все другое — крупнее и ближе. Можно было бы поклясться, что дорога сюда не доходит, что лес тут густой. Разумеется, это то самое место: от старого шоссе ответвляется только одна проселочная дорога. Должно быть тем самым.
Он вышел из леса и увидел дом. Безглазый. Странное определение при таком множестве окон, и все же…
Даже на далеком расстоянии кажется, будто дом тоже смотрит на него. Поэтому вспомнилась найденная картина, представилось, что она написана как раз с этой точки, под этим углом. Интересно, что он почувствовал бы, если б увидел тень, движущуюся за окнами и шторами?
Есть другие способы видеть.
— Прекрати этот бред, — приказал себе Скотт, недовольный дрогнувшим голосом.
Снег вокруг запятнан свежими следами автомобильных шин. Он вытащил сотовый и набрал номер «Фуско».
— Скотт… — ответил голос Сони, видно узнавшей номер на дисплее, потому что ответ прозвучал не вопросительно, а утвердительно.
На фоне слышен звон стаканов, мужские голоса, резкий удар кия по шару.
— Оуэн там?
«…в темноте, в глубине…»
— Пока нет, — сказала она. — Наверно, придет.
— А Ред?
Последовала долгая пауза.
— Почему спрашиваешь? — Не получив ответа, Соня сказала: — Слушай, я работаю до полуночи. Может, заедешь, поговорим?
«.. но обещания лежат на мне…»
— Мысль хорошая. — Продолжая разговор, он приближался к дому, осторожно шагая, не сводя глаз с двери. До нее осталось меньше двадцати футов, во всем мире слышался только скрип его подошв по еще чистому снегу. — Только мне надо сначала кое-что сделать.
— Где ты? — спросила Соня, словно догадавшись о чем-то. — Неужели… По-моему, не надо сейчас возвращаться в дом.
Он взошел на крыльцо.
— Все будет в порядке.
— Что было прошлым вечером? Мы так и не выяснили.
— Что было шестнадцать лет назад?
Она помолчала, хотя не так долго, как ожидалось, потом тихо проговорила:
— И это можно выяснить.
— До встречи, — сказал он, дотягиваясь до дверной ручки.
Не успел прикоснуться, как ручка сама повернулась, дверь распахнулась, явив лицо женщины, с ухмылкой глядевшей на него с порога.
Глава 35
Пиво, виски, пиво.
Соню не обрадовало окончание телефонного разговора со Скоттом. По правде сказать, в этом разговоре вообще ничего не обрадовало, хотя отчасти понятно, что последнее упоминание о случившемся шестнадцать лет назад было неизбежным. Выяснение принесет страдание и облегчение, как скальпель, вскрывший рану в терапевтических целях. Хотя всегда есть другие способы лечения.
Пиво, пиво, стаканчик текилы.
Она всем налила плюс себе порцию славного кентуккийского бурбона, выхлебнула, прежде чем нагрузить поднос, чувствуя на себе жадные взгляды, выпятила грудь под футболкой, устраивая красноречивое представление в надежде на чаевые и гордясь собой.
— Спасибо, Соня.
— Неплохо смотришься, малышка.
— Сдачи не надо, куколка.
Откуда-то из-за карточного стола:
— Эй, милочка, обнесешь нас по второму кругу?
— А как же, — сказала она.
Пиво, пиво, виски. Большинство посетителей даже маркой не сильно интересуются, а вкусы интересующихся уже изучены: «Будвайзер» либо «Мюллер», для любителей экзотики «Молсон». Поклонники виски пьют только «Джек Дэниелс» и «Джим Бим», за исключением…
— «Маколлан» и немного льда, — пробормотал Ред, сбросив пальто и усевшись за стойкой рядом с пустым табуретом. — И выпивку моему другу.
Язвительный ответ: «У тебя есть друг?» — застрял в горле, когда Соня увидела вошедшего в дверь Оуэна Маста с Генри в хвосте, казавшимся особенно растерянным и одиноким. По спине пробежал жаркий гневный озноб, и Ред, видно, это заметил, поймав ее за руку.
— Я сам все улажу, — сказал он, заглянув ей в глаза. — Ладно?
— Ребенку вообще здесь не место, — прошипела Соня, как кошка в клетке. — Особенно после вчерашнего. Не хочу его тут видеть.
— Успокойся, принцесса.
— Терпеть не могу, когда ты меня так называешь.
— Эй, гордячка, опрокинешь рюмашку? — крикнул кто-то.
Громовой хохот приветствовал никогда еще не слышанную остроумную шутку. Соня рассеянно кивнула, а Ред уже поднял руку, поманил к стойке Оуэна.
— Смотрите-ка, вот он, живой и здоровый. Сюда иди.
Оуэн подозрительно заколебался, мальчик ждал у него за спиной, разделяя сомнения отца. Соня знала, сейчас они двинутся к табурету рядом с Редом, и все трое — Ред, Оуэн и Генри — усядутся за стойкой в ряд, представляя собой извращенную диаграмму мужского возраста в обратной перспективе.
— Чего выпьешь? — спросил Ред. — Сейчас угадаю: «Будвайзер» и на закуску «Джек Дэниелс».
Но Оуэн не ответил и не сел с ним рядом. На мгновение задумался, куда идти, повернулся, направился к маленькой сцене перед стойкой, где иногда по вечерам в пятницу и субботу играет местное трио. Сегодня там стояла только гитара, принадлежащая местному трубадуру по имени Джон Остин, который расположился в другом конце бара, потягивая «Мейкерс марк» сквозь колотый лед. Певец даже не видел, как Оуэн влез на подмостки, а Соня и Ред видели.
— Эй, приятель, — сказал Ред с полуулыбкой, медленно подкрадываясь к Оуэну, как к зверю, не внушающему доверия. — По-моему, не надо, как думаешь?
Оуэн проигнорировал, вглядываясь в обращенные к нему любопытные лица. Игра за карточным столом приостановилась, игроки с угрюмым интересом наблюдали, как он взял гитару, наклонился к микрофону, щелкнул пальцем, проверяя, включен ли, и глубоко вдохнул. Соня бесчисленное множество раз видела, как он позорился в баре, и ощутила почти непреодолимое желание закрыть глаза или хоть отвести их от Оуэна, но было уже поздно. Даже Ред бросил попытки удержать его от того, что он собрался сделать. Остается надеяться, что это продлится недолго.
— Сегодня, — сказал Оуэн, — я хочу спеть песню, которой меня научил дедушка Томми.
Дернул одну струну, весь бар затих. Звук вышел не грубый, не робкий, а идеальный. Соня никогда раньше не слышала, чтоб Оуэн играл, не имела понятия, что он играет, но гитарные струны легко зазвучали одна за другой, он слегка закачался, перебирая их пальцами, и придвинулся к микрофону.
Запел хрипло, слабо, тонко:
Длинный, длинный дядька в черном… Шел за дочкою своей… Шел дорогою просторной… По тропе среди ветвей…Взял еще несколько нот уже немевшими пальцами, облизал губы и снова запел:
В первый раз его ты встретишь, Станет ясно все, как днем. Если в другой раз заметишь, Пожалеешь обо всем. Это дьявол сам собой Дочь идет забрать домой…В песне были еще куплеты, но гитара их заглушила, Оуэн отшатнулся от микрофона, хрипло выкрикивая слова, которых Соня не слышала. Когда закончил, стояла гробовая тишина. Потом кто-то хлопнул. Другой подхватил. Через мгновение зал наполнился аплодисментами и одобрительными криками. Не выразив ответной благодарности, Оуэн шагнул к стойке, где сидел на табурете Генри, в полном недоверии тараща глаза на отца.
— Слушай, — сказал Ред. — Соня, слышишь? Налей человеку выпить.
— По-моему… — начала Соня.
— Один стакан. Чего пожелает.
— Только кофе, — отрезала она.
— Что? — улыбнулся Ред, не веря своим ушам. — Отказываешься нас обслуживать?
Соня в самом деле отказывалась. Может быть, потому, что Оуэн вышел на сцену и прохрипел песню, поставив всех на уши. В любом случае очень приятно отказать в чем-то Реду. Почему она этого раньше не сделала?
— Вот именно.
— Хорошо. — Добродушное выражение на лице бывшего футболиста внезапно показалось нарисованным и уже начало шелушиться. — Откровенно, — сказал он, больше на нее не глядя, и бросил на стойку скомканные купюры. — Пошли, Оуэн. Более гостеприимные дерьмовые забегаловки еще открыты даже в этом дерьмовом городишке.
— Постой, — сказала Соня.
Ред все еще отсчитывал долларовые и пятидолларовые бумажки, а Оуэн задержался и оглянулся. Теперь вид у него был просто озадаченный, будто ему предложили выбрать себе союзников в стычке между теми, кого он минуту назад считал друзьями. Чуть глубже Соня разглядела низменную потребность. На лице мальчика ничего не отразилось. Генри, как всегда, погружен в океан, который он один видит.
— Точно кофе не хочешь? За счет заведения.
Оуэн открыл рот, Ред сказал что-то — Соня не расслышала.
— Пусть хоть Генри останется. В подсобке есть койка. Потом я его домой доставлю в полной целости и сохранности.
— Давай, парень. — Ред взъерошил волосы мальчика. — Развлекайся. — И обратился к Оуэну: — Готов, дружище? Дядя Ред до утра угощает.
— Не надо, Оуэн, — сказала Соня.
На этот раз он даже не оглянулся.
Глава 36
Женщина стояла в дверях Круглого дома абсолютно неподвижно. Тени в доме скрывали верхнюю часть лица, но он сразу узнал голос. Даже если бы не узнал, то узнал бы по запаху.
— Привет, Скотт, — сказала она.
— Колетта? — Он шагнул вперед, уже готовый сделать шаг назад. — Что ты тут делаешь? Я твоей машины не видел.
— Я ее за домом оставила из-за снега.
У пруда, понял Скотт, вспоминая слова тети Полины. Колетта посторонилась, и он вошел в дом. Где-то внутри тихо и равномерно стучали капли, будто вода лилась на литавры, громким эхом разносясь повсюду. Он снял пальто, набросил на лестничные перила, сбил снег с ботинок, видя, что Колетта наблюдает за ним из прихожей. Неподвижно стоя у стены, она казалась неотъемлемой частью дома, деревянной резьбой или вписанной в каминную раму фигурой, постоянной деталью обстановки. Улыбалась далекой, почти сонной улыбкой, прикрыв глаза, держа в руках какую-то длинную картонную тубу.
— Я тебе кое-что принесла.
Скотт взял тубу, открыл, поймал в ладонь хрусткое содержимое.
— Чертежи?
— В амбаре нашла, — объявила она. — Планы дома.
— Спасибо.
— Не хочешь взглянуть?
Он едва не сказал: «Уже видел», но удержался по некоему внутреннему побуждению. Не имея стола, чтобы расстелить листы, присел на корточки, развернул их на полу. Колетта наклонилась с другой стороны, придерживая за края. На ней была блузка с низким вырезом, легкая не по сезону, особенно при отсутствии отопления в доме, и, когда она нагнулась, Скотт не мог не заметить надутые хирургом груди, пышность которых еще сильнее подчеркивал тугой красный лифчик. Соски напряглись, отвердели, произведя желаемый эффект, несмотря ни на что. Колетта заправила прядь волос за ухо, взглянула на него.
— Видишь? — спросила она, ткнув пальцем в угол чертежа.
Он прочел:
Последний утвержденный план Круглого дома.
Выполнен архитекторами компании «Циммерман, Везек, Листер и Линн»,
Манчестер, штат Нью-Гэмпшир,
по заказу мистера Джоэла Таунсли Маста.
1871 г.
Либо он этой кальки раньше не видел, либо не заметил надписи. Трижды перечитал и поднял глаза на Колетту.
— Может, это мой прапрадед. Он дом выстроил?
— Дом всегда принадлежал вашей семье.
— Тогда почему все это у тебя?
— Я теперь городской историк. — Пожав плечами, Колетта подняла палец, и край листа свернулся. — Рада, что ты вернулся, Скотт. Вообще не должен был уезжать. — Она пошла по коридору, и он понял куда: к столовой. — Даром времени не терял.
— Что?
— Я прочла рассказ, пока ждала. Надеюсь, не возражаешь.
В импровизированном рабочем кабинете, устроенном в столовой, Скотт увидел аккуратно сложенные в стопку страницы отцовской рукописи рядом с надувным матрасом. С другой стороны от него ноутбук с ярко светившимся монитором, наполовину заполненным текстом, где Колетта дошла до конца написанного. Там же стакан и бутылка джина в последних лучах угасавшего солнца.
Дубовая дверь в углу настежь распахнута. Он пошел к ней, закрыл с предельной осторожностью, слыша щелчок замка.
Колетта наблюдала за ним.
— Твой отец обладал хорошей фантазией.
— Видно, это погубило семью.
— Может, я помогу составить картину. Макгуайры всегда покровительствовали искусствам, а мое слабое место — поиски забытых причин. — Она вдруг развернулась, схватив его крепче, чем он ожидал. — И одна из них я.
— Колетта…
— Ш-ш-ш…
— Слушай…
— Помнишь тот вечер, когда ты привез мое бальное платье?
— Прекрати, — слабо выдавил он.
— У нас есть последний шанс. — Вместо легкомысленного флирта в тоне проскользнуло отчаяние. — Знаешь, на этот раз может получиться.
— О чем ты?
Она уже прильнула к его губам, проглотив последние слова, слизнув их мягким языком с привкусом можжевельника. Пятясь вместе с ней по комнате, Скотт реагировал бессознательно, будто во сне. Чувствовал, как опытные пальцы исследуют топографию его тела, пробегают по надувному матрасу, сбрасывают бумаги, листы разлетаются во все стороны, со звоном падает стакан, исчезая с солнечного света.
Нехорошо. Не имеет значения. Теперь совсем другая область сознания взяла происходящее под контроль — некий животный элемент, давно наглухо задавленный лекарствами. Колетта уже навалилась, объяла теплом и тяжестью, тело самостоятельно принимало решения, он не мог им управлять, даже если бы захотел, хотя даже и не хотел. Он хотел пригвоздить ее, сокрушить, раздавить, рвануть за волосы, отказавшись от всяких претензий на неопределенность ради одного жестокого, сильного, бескомпромиссного акта. Который уже осуществился. Разделявшие их одежды как бы растворились, сами по себе спали, осталось лишь опьяняющее ритмичное трение разгоряченной плоти. Скотт просунул руку между ее ногами, сразу почувствовал влажность, протиснулся внутрь. Там было тесно и скользко, она его стиснула с немалой силой. Толкнувшись бедрами, он проник до конца.
— Ох, боже… — Колетта обхватила его ногами, вонзила в спину ногти. — Боже мой… Давай, еще глубже… Сделай мне больно…
Пальцы впились в плечи почти нестерпимо. Он прижал ее к полу, толкнулся сильнее, изо всех сил пошел вниз и вверх. Вскоре они оба, голые, задохнувшиеся и вспотевшие, рванулись друг к другу тяжело дыша, и она закричала.
Не ожидая этого, он остановился, но она вцепилась в него еще крепче, источая всем телом жар сверх всякой лихорадки, словно готовая пламенем вспыхнуть в любую минуту. Когда Скотт дошел до кульминации, она лежала на спине, глотая ртом воздух, глядя в потолок. Дом вокруг них молчал, слушал.
— Сожги, — сказала Колетта.
Что сжечь? Дом? Рукопись? Проклятый город?
Когда она это сказала, Скотт находился в смутном забытьи, с остывавшим на груди потом. Почувствовал, как матрас колыхнулся, сел, видя перед собой обнаженную спину Колетты, стучавшей по клавиатуре компьютера. Под молочно-белой кожей четко вырисовывались изящные позвонки.
— По-моему, мы уже много чего сожгли.
Щелк-щелк… Она, не оглянувшись, продолжала прокручивать текст.
— Я говорил с Редом о реконструкции «Бижу». — Скотт встал и начал одеваться. — Оуэн убежден, что ваши люди там что-то нашли.
Щелк-щелк-щелк…
— Не говорил, что именно?
— Останки, — ответил он. — Кости.
Стук клавиш прекратился. Скотт почуял дуновение холода, вихрем пронесшегося от двери в углу, овеяв каждый дюйм его потного тела, которое вдруг стало совсем беззащитным. За холодным потоком последовал жуткий запах, тошнотворно сладкий, как из коробки залежавшихся шоколадных конфет. Волосы на голове и руках встали дыбом. Он внезапно услышал собственное дыхание, вдохи, выдохи, взаимосвязанные с жизнью, способные прекратиться в любую минуту по многочисленным произвольным причинам.
— Я была там во время пожара, — сказала Колетта.
Скотт заморгал слезившимися глазами.
— В «Бижу»?
— Все видела. — Она повернулась, скрестила согнутые в коленях ноги, обхватив их руками, дрожа всем телом. Тоже попала в холодный поток, учуяла зловоние? — Все.
— Что?
— Никогда никому не рассказывала про мать Генри.
— Ты ее знала?
— Это была ничем не приметная местная девушка, мельчайшая пылинка в заднице вечности, а ее мать служила у нас горничной. Они с Оуэном были давно знакомы. И… должно быть… давно умудрялись оставаться наедине.
— Что ты хочешь сказать?
— У нее с твоим братом за много лет до Генри был первый ребенок, мальчик, когда Оуэну было всего шестнадцать.
Скотт открыл рот, не в силах вымолвить ни слова.
— Девчонка сама была несовершеннолетняя. Подозревали опухоль в гипофизе, которая якобы привела к преждевременному созреванию в тринадцать лет, не знаю. Когда он ее обрюхатил, родители увезли дочку и обо всем позаботились.
— Аборт сделали?
— Шел такой слух, но, наверно, она передумала. Через пару лет я в тот вечер увидела ее в кинотеатре с ребенком. Оуэн не видел, пока не побежал по проходу. Там схватил мальчика, но… — Колетта покачала головой, — в спешке споткнулся… малыш выпал из рук… он потерял его из виду в начавшемся пожаре. Бежал и бежал все дальше и дальше.
— И ты это видела? — Объяснение кажется неполным, почти похожим на алиби. — Дружила с той девочкой?
— Шутишь, — хмыкнула Колетта. — Ее мать у нас служила, я считала девчонку куском дерьма, дешевой игрушкой, которую можно сломать и выбросить на помойку. Никто не узнает и даже не огорчится.
— Что стало с ней после пожара?
Колетта опять облизнулась.
— Снова исчезла. Насколько мне известно, объявилась пять лет назад, опять забеременела от Оуэна, родила Генри. После этого ее больше никто не видел. — Колетта тряхнула головой. — Знаешь, что мне особенно запомнилось? Она как бы навсегда осталась в том возрасте, когда он в первый раз ее трахнул. Для своих лет высокая, с нагло выпяченной грудью и бедрами. Помню, переваливалась на ходу вроде голубя. Постоянно носила одно и то же голубое дешевое платье.
Возникшее во внутреннем ухе головокружение распространилось так быстро, что Скотт чуть не потерял сознание.
— Голубое?..
— Угу. Оригинальная форма Армии спасения.
— Как ту девушку звали?
— Ну, хватит трепаться. Давай повторим, — предложила она, дотронувшись до его бедра. — Поехали. На этот раз лучше будет. Спорим, я заставлю тебя завопить.
Он сбросил ее руку, не сводя с нее глаз.
— Как ее звали?
Колетта впервые с начала беседы опустила глаза, поджала под себя ноги, как бы стараясь свернуться в клубок и вообще исчезнуть, почесала некрасивый шрам на запястье, который Скотт заметил при первой же встрече.
— Пожалуйста, не спрашивай, — взмолилась она. — Все испортишь.
— Говори.
— Ты ничего не понял. — Безобразно заплакала, слезы потекли по носу. — Не могу… Если…
— Как ее звали?
Колетта покосилась на компьютер рядом с беспорядочно рассыпавшимися по полу листами бумаги. Жизнь совсем ее покинула. Вот так вот, одним разом.
— Сам знаешь.
— Откуда?
— Ее звали Розмари, — сказала она. — Розмари Карвер.
Глава 37
Оуэн потерял счет выпивке, которой угощал его Ред на четвертом круге. Они приткнулись в углу другого милбернского бара без особой половой дискриминации, где часто подаются сладкие розовые напитки с кусочком ананаса на ободке бокала. В одном конце зала булькал аквариум объемом в двести галлонов, и Оуэн пьяно раздумывал, как себя чувствуешь, когда мир целиком заключается в этой посудине. На дне лежит сундук с сокровищами, да разве золото настоящее?
— Готов повторить? — спросил Ред, стукнув об стол стаканом.
— Мне надо… — «идти» хотел сказать он, но окончание несложной фразы потерялось где-то посередине. Вместо этого Оуэн увидел перед собой новый стаканчик с бурбоном, обычно приятный вид и запах которого вызвал на этот раз легкую тошноту. Бармен наполнил его до краев.
— До донышка, — сказал Ред.
Оуэн перевел взгляд с аквариума на расплывшееся в красноватом тумане лицо Реда на ближнем плане, который сочувственно улыбался, следя за побоищем не на жизнь, а на смерть между командами «Патриотс» и «Редскинс» и время от времени поглядывая на него. Оуэн в данный момент был достаточно пьян, чтобы расспросить о пожарище и поведать о том, что припомнилось во сне о пожаре, но…
Но, возможно, не настолько пьян — что-то остановило его, глубоко внутри посоветовало не затрагивать тему. Почему? Разве Ред не друг? Вроде друг, хотя одновременно кажется, будто на нынешний вечер намечена другая, тайная повестка. Ред намерен его напоить, допытаться, что ему известно про «Бижу».
Зачем?
Непонятно. Из-за своей жены? Чушь. Колетта мужу никогда ничего не расскажет. Хуже всего, что Ред подставляет стакан за стаканом, внимательно следит, чтобы бармен — длинный тощий субъект, которого все зовут «стариком Винсентом», — не запаздывал. Как только они вошли в бар, вручил старику Винсенту платиновую карту VISA и открыл кредит. Еще более или менее трезвый Оуэн разглядел на карточке имя Колетты Макгуайр.
Ничего удивительного. Все полученное Редом после вторичной женитьбы, так или иначе, принадлежит Колетте, то есть городу. Заговаривая о Реде, все вспоминают, что, когда коронер составлял заключение о смерти его первой жены, он был в долгах по уши и приехал с Колеттой сюда без единого пенни в кармане. Машины, дом, костюмы — все связано с Колеттой… и с Милберном. Разорвав эту связь, он лишится остаточных признаков благополучной жизни.
Включая реконструкцию сгоревшего кинотеатра «Бижу».
— Еще? — спросил Ред или старик Винсент, и прямо на глазах так и не разобравшегося Оуэна стакан наполнился, словно по мановению волшебной палочки. Когда был выпит предыдущий? Происходящее смутно видится, как в зеркале в ванной, где надолго пустили горячий душ. Он распознал книжку в бумажной обложке с изображением сурового воина из «Звездных войн», которую старик Винсент мусолил за стойкой. Кажется, «Смертники». Скоро ли в мире останутся одни смертники?
Мир закружился. В стакане, прикрытом каким-то бумажным зонтиком, зазвякали кубики льда. Все кругом приобрело вкус бурбона. Еще разок, и надо отваливать.
— Не волнуйся, — сказал Ред. — Я понял.
— Куда мы?
— Прокатимся.
Оуэн хотел кивнуть, но шейный механизм не сработал, голова не двигалась, мир летал вокруг мячиком. Холод пробил дыру в спиртном тумане, стало ясно, что Ред ведет его из бара к быстро замаячившей перед глазами заснеженной автомобильной стоянке. Он поскользнулся, как на роликах, стараясь за что-нибудь ухватиться. Нащупал плечо Реда, широкое, прочное, как амбарная дверь.
— Ты мне друг, правда?
Ред только усмехнулся чему-то, чего Оуэн не понял, втолкнул его на пассажирское сиденье пикапа. Успев прежде мельком заметить на заднем сиденье фонарь, кобуру и веревку, он вдруг пришел к выводу, что каждая совершенная в жизни ошибка, начиная с впервые украденной жвачки и заканчивая согласием выйти в дверь вслед за Редом, вела его к этой минуте.
— Куда мы?
На этот раз Ред откровенно ответил:
— По лесу погуляем.
Глава 38
Скотт дважды звонил по сотовому, попадая на голосовую почту, и попробовал в третий раз.
— «Фуско», — сказал голос Сони.
— Это я, — сказал он. — Оуэн там?
— Ушел час назад, — ответила она. — Может, раньше. С Редом.
Стоя с трубкой в прихожей, Скотт чувствовал на себе взгляд Колетты, наблюдавшей из двери столовой, подслушивая разговор. Думал, что она еще голая, прикрывает грудь руками. Но когда оглянулся, ее в дверях не было.
— Генри где?
— Здесь, спит в подсобке.
На фоне Сониного голоса звенели стаканы, гудели голоса, раздавался какой-то неопознанный свистящий хрип — нечто вроде статического электричества, подобного корзинке со змеями, которое иногда слышится при межконтинентальных звонках.
— А что?
— Точно не знаю. Если Оуэн вернется, то пусть сразу же мне позвонит.
— Скотт…
— Да?
— Ты из дома звонишь?
— Да, но…
— Ты один?
— Да. Почему ты спрашиваешь?
— Слышишь?
Оба замолчали, прислушались, и он понял, что фоновое шипение стало чуть громче, превратилось в узнаваемый звук. Это был шепот, слишком быстрый, чтобы разобрать слова, подчеркнутые каденции разбиты паузами и вдохами, словно шепчущий не мог вдохнуть полной грудью. Скотт направился через столовую к двери в углу. Шепот зазвучал отчетливей: «…подвал, помогите, пожалуйста», потом еще настойчивей: «…больно, бьет», слова вырывались, сливались воедино: «…страшно, сверло, сердце»… Он протянул руку, приложил ладонь к холодной дверной створке.
— Нет! — Крик в телефонной трубке перешел в оглушительный вопль. — Пожалуйста… не надо!..
Удивленно хмыкнув, Скотт бросил трубку, быстро отдернул руку от двери. Телефон упал на голый деревянный пол возле правой ноги. Он сделал шаг назад, глядя на аппарат с тупым страхом, как на огромное отвратительное насекомое, только что выползшее из-под камня. Хотя треск и шепот вроде прекратились, он не собирался снова брать в руки трубку, по крайней мере в ближайшее время. Пнул ее ногой со всей силой, видя перед собой какую-то реальную многообещающую возможность.
Оглядел пустую столовую — никаких следов Колетты. Видно, вранье, будто он один в доме, в конце концов не вранье.
— Колетта!
Плохо, что он один в доме. Две минуты назад она была с ним. Скотт направился к коридору, ведущему на кухню. Может, ищет там выпивку.
— Колетта!
И кухня пуста, длинная, белая, с голыми полками, скругленными углами. Буфеты и шкафчики закрыты, раковина начищена до блеска.
Он закрыл глаза.
Хорошо видна сквозь закрытые веки фигура Фэрклота у раковины после недавнего очередного убийства. Он про себя задумчиво насвистывает, смывая с рук кровь полицейского, подставляет под струю холодной воды что-то блестящее — шерифский значок, жестяную звезду, — вертит в руках, счищает детской зубной щеткой красное пятно на выгравированных буквах. На глазах у Скотта берет посудное полотенце, насухо вытирает железку, старательно пришпиливает к своей фланелевой рубахе, поднимает сковородку, любуется своим отражением в импровизированном зеркале. Губы расплылись в тупой, безобразной ухмылке, исказившей лицо, как на снимке с задержкой. Скотт мысленно услышал слова, слетевшие с его губ:
— Что скажешь, напарник?
Довольный Фэрклот отстегнул значок и…
Изображение растаяло. Скотт смотрел на собственное отражение в пустом буфете: зритель перед чистым экраном. Черное крыло и Фэрклот, персонаж рассказа, уже стали гораздо реальнее, чем ему поначалу казалось. Он абстрактно задумался, не его ли имел в виду, пробиваясь в Колетту, — другого неизвестного мужчину, наслаждавшегося ее стонами?
Покинув кухню, вернулся по коридору в столовую, где лежали в ожидании на надувном матрасе ноутбук и рукопись. Сел на матрас, глубоко провалился, поставил на колени компьютер. Поза неудобная, ноутбук на коленях качается, но он ничего не замечал, набирая текст.
Фэрклот стоял на кухне у раковины, держал перед собой сковородку, как ручное зеркало, любовался шерифским значком на рубашке. Вспомнил, как звезда час назад красовалась на форменной куртке Дэйва Вуда, бедного, ничего не подозревавшего Дэйва, который явился сюда, думая, будто загонит его в ловушку и заставит признаться в убийстве жены.
— Кто теперь носит значок, шериф? — спросил он. — Что скажешь, напарник, кто теперь носит старую жестяную звезду? — И принялся громко, с чувством напевать песню, которую раньше насвистывал: — «Нам не надо еды… нам не надо еды…»
Почему-то сам факт пения в данный момент показался чертовски смешным. Фэрклот разразился хохотом.
Отсмеявшись, отшпилил значок, наклонился, выдвинул ящик кухонного шкафчика. Ящик шел туго, застревал, набитый почти доверху. Он разгреб розовые заколки для волос, резинки и ленты, тюбики губной помады, коробочки с компактной пудрой, оторванные пуговицы, леденец, который только раз лизнули, прилипший к белокурым волосам куклы-голыша, которую вручают в качестве приза на ярмарках за попадание шариком в горлышко молочной бутылки. Под руку подвернулось красивое жемчужное ожерелье, ярко блестящие вещицы.
В глубине ящика звякнули друг о друга две баночки из-под детского питания, одна с обрезками ногтей, другая с волосами — светлыми, черными, каштановыми. У Дэйва волосы темные с рыжеватым оттенком. Фэрклот решил отстричь прядь для этой банки.
Скотт остановился, перечитал написанное. Хоть он этого и не задумывал ни для Фэрклота, ни вообще для рассказа, интуитивно понял, что именно так должно быть. Истинный смысл вышел наконец наружу, как заноза, самостоятельно вылезшая из-под кожи. В конечном счете, понял Скотт, Фэрклот сделал это не из-за измены жены, он вовсе не невинная жертва, доведенная до убийства. Возможно, с самого начала был гораздо более темной личностью. Впервые пришло в голову, что не дом подействовал на человека, а…
— А что? — пробормотал Скотт.
Ты всех убил.
Он поднялся, осмотрел свои руки, почти ожидая увидеть наполовину засохшую кровь. Руки были чистые, только сильно дрожали, ладони вспотели.
…мой прапрадед… он выстроил дом…
Дом всегда принадлежал вашей семье…
Взгляд неотвратимо до жути тянется к двери в углу.
Ты сказал: «Я всех убил».
Нет, я сказал…
Дверь снова чуть-чуть приоткрылась.
В конце концов, он Маст.
Ее звали Розмари Карвер.
Дом всегда принадлежал вашей семье.
Он Маст.
Я тоже Маст.
Скотт шагнул к двери, взялся за ребро, теперь совсем гладкое, почти бесформенное. И, как прежде, увидел стенной шкаф, ничего другого. Что увидел отец? Нахлынувшие волны черного океана, столь могучие и сокрушительные, что слов для описания не нашлось? Яростные, ошеломляющие, ужасающие — эпитеты близкие, но не полностью передающие непосредственное ощущение. Ощущение, что ты горишь заживо, подавленный тяжестью своего истинного наследия. Он сжал кулак с невольным криком, со всей силой всадил его в заднюю стенку шкафа, отдернул и снова ударил, быстро, крепко, без колебаний.
Раздался треск.
Он бил и бил.
Назад, вперед — треск. Назад, вперед — треск. Прекрасно, потрясающе: сильно, резко, костяшки лопнули, мазки крови запачкали белую твердую стену, которую все-таки можно пробить.
Дом всегда принадлежал вашей семье.
Что бы ни ушло из семьи, оно должно быть за этой стеной. Что бы он ни унаследовал от отца — мужественность или знание, — оно ушло туда. Вместо него голая стена, в которую надо снова и снова биться до крови, пока…
Треск.
Скотт остановился, очнулся от дымного приступа бешенства, отдернул разбитый кулак, задыхаясь, с онемевшей до плеча рукой. Комната и, возможно, весь дом закружились вокруг.
Он уставился на пробитую в задней стенке дыру с осыпавшимся тонким слоем штукатурки. Шагнул вперед, заглянул внутрь в пространство, ничего не видя.
Внутри была полная чернота.
Глава 39
Оуэн прижался лбом к окну, глядя на заснеженный лес. Прикосновение к стеклу приятно. Ред ехал по заваленной снегом автомагистрали за городом. Было очень темно, колеса фургона то и дело проскальзывали на черных пятнах льда. Ничего. Ред хороший водитель.
— Куда едем? — Кажется, он уже не раз задает этот самый вопрос, а Ред терпеливо кивает на фонарь и оружие на заднем сиденье:
— Оленя выследим. Их там сейчас целая куча.
— Слишком холодно.
— Бред собачий, — презрительно и глухо хмыкнул Ред. — Все дело в инстинкте. Сюда. — Он свернул с шоссе сквозь деревья на проселочную дорогу без знаков и указателей.
Оуэн увидел железные ворота, напоминавшие ворота кладбища, где похоронена его мать и еще кое-что, о чем думать нельзя. Через двадцать-тридцать ярдов мотор задребезжал и заглох. Ред выключил фары, и все погрузилось во тьму. Раздался шорох — рука Реда потянулась к заднему сиденью, — потом вновь послышался непонятный звук, который мог означать что угодно. Оуэна прохватил озноб, абсолютно не связанный с температурой воздуха, идущий из гулко бившегося сердца, отчего он очнулся и протрезвел, а панический страх обострился.
— Слушай, — сказал он, — меня сейчас вырвет.
— Не стесняйся, — донесся из пустоты голос Реда.
Под густым покровом сосен в самом центре лесов Нью-Гэмпшира было так темно, что Оуэн своих рук не видел. «Верхний свет, — вспомнил он с внезапной надеждой. — Загорится, если открыть дверцу. Надо только…»
Он нащупал ручку, дернул, дверца открылась, но что-то не сработало, свет не включился, только ледяной холод пробрался до костей сквозь куртку и кожу. Оуэн закашлялся, брызжа слюной и по-стариковски дрожа.
— Держись, — шепнул голос Реда уже не слева, а спереди, не из машины, смешиваясь с ледяным ветром. — А то покалечишься.
Оуэн шарил в пустоте руками.
— Где свет?
— Я отключил. Чтоб не спугнуть оленя. — Рука схватила Оуэна за локоть, почти больно сжала. — Потише, дай глазам привыкнуть.
Рука выдернула его из кабины, он пошатнулся и чуть не свалился в сугроб. В последнюю секунду обрел равновесие, чувствуя в полной тьме налипший на колени плотный и пушистый снег. В мигнувшем луче фонарика перед ним всплыло лицо Реда, пристальный взгляд равнодушных, невыразительных глаз.
— Поговорим о моей жене, — сказал Ред.
Оуэн тяжело сглотнул. Почему-то до этой минуты отчасти надеялся, что догадка о цели поездки ошибочна, подсказана паранойей. Теперь ясно, что не ошибся. Ред знает. Все знает.
— Не надо, пожалуйста…
— Я тебя любил, как брата. — Голос сладкий, неспешный, слова плавно катятся с языка. — Во всем городе никто так к тебе не относится, даже твой родной брат. Все тебя считают никчемным пьяницей, а я всегда заступался. Постоянно твердил, что они просто не понимают.
— Прости, — прошептал Оуэн. — Слушай, Ред, поверь, это…
— Позабудь обо мне. — Лицо еще сильнее отвердело в слабом свете фонарика. — Поговорим о Колетте.
Оуэн снова сглотнул, чувствуя привкус бурбона, соплей, грязного снега. Неудержимо хочется срыгнуть, только страшно, что, начав, не кончишь. Уже слышны следующие слова Реда: «Я знаю обо всем, что между вами было, поэтому даже не пробуй врать».
— Ты знаешь, — сказал Ред, — что для нее означает проект перестройки «Бижу».
Оуэн заморгал, перестал глотать слюну, думая, что ослышался, и впервые сумел взглянуть в глаза собеседника.
— Что?
— Не прикидывайся глухим, я имею в виду разборку руин сгоревшего кинотеатра. Знаю, вся ваша семья связана с тем пожаром, вам есть о чем горевать и печалиться. Только ты хоть немножечко представляешь себе, как отреагирует моя жена, если пойдут слухи, будто ты и твой мальчишка нашли в яме трупы, которые она скрывала?
Оуэн лишь замотал головой.
— Ты чересчур болтливый, — сказал Ред с сожалением, почти с грустью. — Точно так же, как Делия. Я любил ее, бог свидетель, а она так и не поняла, когда надо язык придержать. Ну, пошли.
Фонарик угас, вновь нахлынула темнота и затопила сцену. Тело Оуэна растопилось, расплавилось и утратило форму под заполнившим ночь шорохом. Ред схватил его за руку, буквально поволок.
— Единственное, чего я не стерплю… ох! — Раздался глухой стук, голос прервался болезненным криком. — Что за черт?..
Снова мигнул фонарик. Оуэн совсем смутно увидел, что Ред стоит перед машиной, наполовину засыпанной снегом. И узнал даже в нынешнем пьяном ступоре «сатурн», взятый напрокат его братом. Но почему машина стоит здесь, посреди неизвестности? Вдруг припомнилось, что Скотт снял старый дом на какое-то время. Оуэн его ни разу не видел по неким причинам, которые сформулировать невозможно из-за старого повторяющегося кошмара, где нечто маячит за окном, окликая его ночью по имени.
Ред наклонился, посветил в кабину «сатурна» фонариком, убеждаясь, что там никого нет. Убедившись, посмотрел на Оуэна.
— Говорят, в этом лесу живут призраки, — сказал он. — Старая тетка Колетты рассказывает, что тут полным-полно неупокоившихся духов, ходячих мертвецов. Куда еще везти самого беспокойного парня из всех, кого я знаю?
— Не понял…
— Поймешь.
— Ред…
— Что, дружище?
— Ты ведь не убьешь меня, правда?
Он только улыбнулся.
Собственно, Ред вовсе не собирался убивать тупого ублюдка. Расправу с Оуэном в любом случае можно отложить — он сам себе злейший враг. Надо просто стоять в стороне, наблюдая, как он себя губит. Примером служит вся его жизнь. Но и нечего предоставлять его божьему гневу, пусть навеки запомнит, кто тут распоряжается.
Ред все продумал. По пути домой он хлопнет Оуэна по спине и скажет: «Вообще не хочу слышать толков о найденных в подвале кинотеатра трупах, понял? Или в другой раз не выйдешь из леса, ясно?»
Потому что… Черт побери, с проектом перестройки «Бижу» связана еще неупомянутая проблема: последняя попытка поладить с Колеттой. Несколько недель назад она обнаружила, сколько потрачено денег с совместного счета. После свадьбы сучка в банковские счета не заглядывала. Последовали все более неприятные вопросы, где он проводит время и с кем — особенно насчет Сони Грэм.
До чертиков бесит полное равнодушие этих вопросов, будто Колетта с самого начала все знала. Ред попросил прощения, умолял дать еще один шанс, пообещал исправиться, заняться реконструкцией «Бижу», серьезно обратиться к семейному бизнесу. А она просто стояла в своем углу с бутылкой белой русской водки в руках, с доводящей до бешенства полуулыбкой, уже мысленно звоня адвокату. В тот момент ему с болезненной четкостью представилось будущее — тридцативосьмилетний сломанный разведенный калека в однокомнатной квартире в Дорчестере на южной окраине Бостона, штат Массачусетс, с газетными вырезками и байками о славном прошлом, которых никто слушать не хочет.
«Я не хочу тебя потерять, — заверял он с фальшивой любовью и сладостью. — Все будет хорошо, моя детка. Клянусь».
Колетта кивнула с бутылкой в руках, с кривоватой поддельной усмешкой. Есть два способа стереть с губ усмешку — поцелуй или пощечина. Ред не решился ни на то ни на другое. Вместо этого глубоко вздохнул, позволил себе в перспективе еще разок покувыркаться в сене с малюткой библиотекаршей — с Соней Грэм возникли бы слишком большие проблемы, — успокоился и удалился.
Поэтому они с Оуэном делают сейчас в лесу первый шаг к нормализации положения. Хотя Оуэн никогда раньше дома не видел, он стоял перед ним в полном страхе, фактически в ужасе, помочился в ботинки, словно в самом деле думал, что Ред его сюда привез, чтоб прикончить. Видя это, Ред припомнил кривую усмешку Колетты, и детали составили нечто большее — что?..
В темном лесу раздался треск.
— Господи Иисусе… — Оуэн развернулся, вращая выпученными глазами. — Что это?
— Олень, — сказал Ред, хотя признал шум слишком громким для оленя. Палец в перчатке нашаривал кнопку фонарика, который выскользнул и глубоко ушел в мягкий снег под ногами. — Черт побери!
Карандашный фонарь припасен для эффекта, почему бы не прихватить заодно настоящий?
Ветки затрещали громче, ближе, потом вдруг все смолкло, летел только ветер, сотрясая деревья с низким, беспокойным воем. Ред понял: то, что прячется в лесу, либо остановилось, либо вышло на дорогу, лежавшую впереди, и, значит, очень близко стоит перед ними.
Никакое животное так не поступит.
Он упал на колени, отыскивая фонарик, проклиная себя, что не взял сильный фонарь и ружье. Хотел лишь припугнуть Оуэна, а вместо того…
— Идет, — шепнул Оуэн. — Ред, я слышу! К нам идет…
— Заткнись, — бросил Ред грубее, чем хотелось. Впервые после смерти Делии и последовавшего дознания он ощутил внизу живота подлинный страх, унизительный и тошнотворный.
Оуэн завопил в темноте.
Глава 40
Скотту понадобилось тридцать секунд, чтобы вернуться на кухню, схватить ржавый чайник, который может послужить молотком. В умелых и верных руках все превращается в инструмент и орудие.
Чья рука занесла его над тобой?
Бух-трах. Дыра чуть расширилась. Чайник далеко не идеальный таран, но у него хотя бы есть ручка и острый край донышка, сбивающий штукатурку с задней стенки встроенного шкафа, увеличивая пробитое кулаками отверстие.
Бух-трах. Еще шире.
Дыра уже большая, неправильная, продолговатая, напоминающая гигантский абрис деформированной старческой головы, и Скотт начал царапать стену, целиком выламывая пласты пыльного белого материала, обрушивая куски. Стена поддавалась легко и охотно, с готовностью. Он вдохнул холодный, как пары гелия, воздух, словно вырвавшийся сквозь рухнувшую плотину, которая сдерживала невидимую воду, и выдохнул призрачный серебристо-серый туман.
В нос сразу ударил запах, ни с чем не сравнимый, гнилой, затхлый, зловонный, имеющий твердо определенную физическую форму, которую можно вырезать из воздуха и шлепнуть в чашку Петри[16] для дальнейшего исследования. Запах чувствовался не ноздрями, не горлом, не легкими: Скотт как будто впитывал испарявшиеся частицы настоящей человеческой плоти. Он срыгнул в полусжатый кулак, прикрыл рот ладонью, приник к пробитой в стене дыре.
Перед ним сплошная чернота, непонятное, но неоспоримое ощущение широкого открытого пространства целого дома, спрятанного в стенах другого.
Глазами ничего не видно.
В свете фонаря ничего не видно.
Некий внутренний голос шепнул: «Тебе здесь не место».
Разве можно уйти перед самым открытием, что находится по ту сторону? Вспомнились оставшиеся в прихожей чертежи, которые принесла Колетта. Скотт почти бессознательно полез в карман, нащупал тяжелый прямоугольный корпус отцовской зажигалки, вытащил, крутанул пальцем колесико. Сначала посыпались искры, потом вспыхнул высокий язычок яркого пламени и осветил открывшееся мерцающее пространство.
Длинный округлый коридор тянется в бесконечность.
Простой, неотделанный, узкий туннель с бетонным полом. Кажется, будто гладкие, почти круглые черные стены не выкрашены черной краской, а сложены из какого-то природного материала, из субстанции, буквально поглощающей свет. Ни окон, ни дверей. Хотя с виду коридор прямой, в нем угадываются изгибы там, куда не проникает свет зажигалки.
При виде реального помещения возникли другие сомнения. Может, именно это пространство, точно описанное отцом, было последним, что мужчины по фамилии Маст видели перед полной потерей рассудка. Теперь он сам его видит. Раньше видел, очнулся с уверенностью, что это галлюцинация, а вдруг это было последнее предупреждение, которое обязательно следовало учесть? Бросить рукопись, прекратить работу, перестать думать о Фэрклоте, о его связи с Розмари Карвер и ее отцом…
Серийный убийца Фэрклот затаскивал сюда своих жертв.
Но ведь на самом деле не Фэрклот, правда? Нет, Фэрклот — марионетка, вымышленный персонаж, окрашенный чем-то гораздо более темным.
Скотт пролез в проделанную дыру и попал на ту сторону, в черное крыло.
Оглядел расширившийся коридор — стен не видно. Нога наткнулась на полу на что-то твердое, он едва не упал, наклонился, видя кожаный башмак без шнурков, запыленный и съеденный временем. Сколько ему лет? Неизвестно. Дальше широкий туннель идет влево. Он повернул, заметил краем глаза отметину на стене — царапины на черной поверхности, на уровне плеча.
Поближе поднес зажигалку, разглядел число 18… Остальное слишком выцвело или стерто, будто кто-то исправлял неаккуратную надпись. Глядя под ноги, чтобы опять не споткнуться, увидел огромное коричневое пятно на бетоне, расползшееся во все стороны, и инстинктивно понял, что это засохшая кровь в форме созвездия, столь же старая, как сам бетонный пол.
Осторожно ступая, двинулся по коридору налево и чуть не наткнулся на ряд стальных прутьев вроде зарешеченной двери тюремной камеры. Она была не заперта, и он ее открыл. Громкий скрип старого железа заскрежетал в ушах, пальцы нащупали чешуйки ржавчины. С той стороны открылось еще более обширное пространство. Скотт быстро уяснил планировку, несмотря на скудный мерцающий свет.
Помещение делилось на какие-то стойла с обеих сторон, не столь черные, как стены вокруг, огражденные невысокими крепкими деревянными перегородками с задвигающимися снаружи засовами. В каждой ячейке виден грязный пол, ржавые, вделанные в стены цепи с тяжелыми оковами на концах. По углам на пыльной старой соломе валяются высохшие за столетие жестяные миски и кружки. В одном отсеке лежит растрепанный бесцветный предмет, в котором Скотт, приглядевшись поближе, распознал детскую куклу. Над ней на светлой деревянной стенке нацарапано:
Господь, Пастырь мой, я не хочу туда, куда Ты ведешь…
Кривые корявые буквы оборвались в пустоте.
Он посмотрел вперед. В дальнем конце помещения стоял верстак с тщательно ошкуренными краями. Ближе стали видны аккуратно разложенные инструменты в организованном рабочем порядке. Острые инструменты, каких не найдешь в Круглом доме: топоры, сверла, целый арсенал молотков и резцов, тиски, плоскогубцы, клещи, щипцы, болты. Дальше какие-то архаичные орудия, для которых требуется новый словарь: тесло, дыба, другие предметы, еще старее и загадочнее, не получившие названий после их изобретения тысячу лет назад. Их определяет предназначение для адских пыток. Была там печурка вроде кузнечного горна рядом с набором расставленных черных железных прутов, клейма, кочерги, длинные когтистые металлические подставки для дров, надувные мехи, сыпучая скользкая куча бывшего угля. На крючке, вбитом в стену, висел кожаный фартук с широкими завязками и массивными металлическими застежками, сплошь покрытый засохшими коричневыми слоями, наверняка способный самостоятельно устоять на полу.
Скотт взял увесистый молоток со стальной шипованной головкой, прочел имя, выжженное на деревянной ручке:
ФЭРКЛОТ
Зажигалка мигнула и вновь ярко вспыхнула.
Теперь на ручке прочиталось:
МАСТ
Не выпуская молоток из рук, он оглядел стойла, грубо прикинул их количество, оценивая, на сколько человек рассчитано помещение. Восемь ячеек, в каждой по два набора цепей. Скотт представил себе самого старшего предка, Джоэла Таунсли Маста, стоявшего у истоков семейной линии, который вел здесь свою тайную жизнь. В одном кожаном фартуке, потея в оранжевом свете горна, он делал свое дело среди умоляющих воплей, стонов и слез.
Под ногой что-то звякнуло — железное кольцо квадратной крышки подвального люка из твердого дерева.
Скотт схватился за кольцо и дернул.
Слишком тяжело. Дверца не открылась и даже не дрогнула.
Он закряхтел в последней попытке, плечевые и поясничные мышцы возмущенно заныли. Крышка неожиданно подалась, взвизгнув старыми петлями, и распахнулась.
Скотт присел, подпирая ее коленом, опустил в темноту зажигалку, но безрезультатно. Высветилась только самая верхняя часть ржавой трубы, отвесно уходившей вниз.
Оттуда пахло сыростью.
Слышалось тихое, но безошибочное журчание воды. То ли подземный колодец, то ли…
Это основано на незавершенной истории, записанной его прадедом, по словам тети Полины.
Впереди в последнем отсеке что-то шевельнулось.
Скотт затаил дыхание, слыша медленный треск, который почти сразу умолк. Поднял зажигалку повыше, будто от этого свет стал бы ярче. Вместо того огонек совсем погас.
Ох, боже!..
Из темноты протянулись руки, проехались метелками из промасленных перьев по лицу, по щекам, по затылку. Крикнуть не удалось. Ладони дотронулись до носа. Скотт хотел их стряхнуть и попал в пустоту, неосязаемую, как паутина. В черноте шарили другие липкие, жадные пальцы, но он, вырываясь, хватал только воздух.
Зажигалка еще в руке. Он чиркнул колесиком, вылетели искры, в тот же миг вокруг замелькали изголодавшиеся лица с пустыми глазницами, с прилипшими к черепам клочками волос, прикованные в стойлах в ожидании дальнейших мук или смерти. Потрескавшиеся губы одновременно открылись, молча произнося его имя.
— Нет, — сказал он, тряся головой.
Неуклюже, слепо побежал, вытянув перед собой одну руку, устремляясь туда, где черное крыло примыкает к дому.
Голоса звучали все громче, Скотт бежал все быстрее, смахивая с себя призрачные прикосновения и по-прежнему ничего не нащупывая.
Глава 41
Оуэн слепо брел по темному лесу, проваливаясь и застревая в снегу. Живот болел, в груди жгло, но он шел неведомо куда, зная только, что надо идти.
На шею легла влажная рука с кислым запахом и острыми обломанными ногтями. Чувствовалось, как кончики пальцев лезут под подбородок, то ли душат, то ли ласкают, тянут назад голову, обнажая горло. Оуэн с воплем оглянулся, но глаза до краев наполнила ночная тьма.
— Оуэн! — Это Ред кричит. — Тащи сюда свою задницу! — Раздался стук, и Ред вскрикнул от боли и неожиданности. — Ох, черт! Что за дерьмо? Мать твою…
Оуэн прорывался вперед, вытянув руки, раздвигая сосновые ветки. Что бы ни было в лесу за спиной, обогнать его нет реального шанса. Не потому, что он хорошо разглядел, даже когда рука стиснула горло, а потому, что знает, и на каком-то примитивном уровне всегда знал, что это такое.
Мужчина.
Мужчина из песни дедушки Томми.
Длинный, длинный дядька в черном…
Он сморщился. Острая ветка больно царапнула щеку, глаза наполнились слезами. Как глупо, как глупо было брать гитару и петь песню дедушки Томми!
Длинный, длинный дядька в черном… Я верну тебя назад…Боже милостивый, неужели он вернул его, просто спев песню? Даже не помнится, что его на это толкнуло. На него просто что-то нашло, он, не думая, шел напролом, но…
Издали донесся смех. Оуэн оглянулся, подняв плечи, вгляделся в темноту, из которой вышел. Реда больше не слышно, в данный момент ничего не слышно, кроме грохота сердца и собственного тяжелого дыхания. Горло перехвачено, грудь сжала паника.
Плохо, черт побери. Слишком плохо.
Длинный, длинный…
Ноги ослабли, задрожали, раскисли, колени не работают. Что-то молча приближается сзади из леса, преследует, загоняет глубже в чащу. Куда и зачем?
По спине волнами бежал озноб страха. Вдруг показалось, что с минуты на минуту он полностью утратит контроль над ситуацией. Вспоминая песню, которую пел ему дедушка Томми, Оуэн чувствовал себя перепуганным слабым ребенком, спрятавшимся в коже взрослого мужчины. Кстати, что было с дедушкой Томми, когда он, побледнев и боясь до безумия, пел песню маленькому внуку? Пальцы старого дурака так тряслись, что он с трудом брал верные аккорды.
Кто-то движется в деревьях позади, треща ветками. Оуэн задержал дыхание, невольно издал тихий, жалобный стон. Шум приблизился. Вот оно. Он почти в истерике ощутил внизу живота ужасающую пустоту, будто обмочился или истекает кровью. Справа заскрипели шаги, глухо топоча по снегу.
— Оуэн!..
Ред налетел на него, чуть не сбив с ног, схватил за шиворот, пригнул к мокрому снегу.
— А?
— Присядь! Слышишь? — шепнул он ему на ухо дрожащим голосом. — Замри.
— Ред…
— Я видел, — прошипел тот. — Слышал сукина сына. Вон в тех деревьях.
— Надо убираться отсюда. — Глаза Оуэна выпучились, достигли размеров аквариума, хотя ночь все равно не вместили. — Это не человек.
Ред ничего не сказал, скорчился рядом с ним на снегу, пристально глядя на купы деревьев, откуда они только что вышли. Поднявшийся за спиной ветер подул в ту сторону, и Оуэн подумал: «Ветер разнесет наш запах. Он учует».
Ред крепко толкнул его локтем.
— Туда смотри.
Оуэн заметил у него в руке что-то вроде перочинного ножа, указывающего в глубь чащи.
— Там за склоном, должно быть, поляна. Я огни вижу.
Оуэн глянул и тоже увидел желтые и белые огни, мерцающие за кривыми ветвями, как дешевые украшения. В то же время в лесу возобновился шум, приближалось неуклюжее шарканье. Практически не подумав, он сорвался с места, поймал равновесие, завилял к склону, к свету.
Не оглядывайся. Не оглядывайся.
Снег под ногами почти сразу стал мокрым, глубоким, непроходимым. Позади слышался хрип Реда — более крупный мужчина с трудом прокладывал себе путь. На земле был бы быстрее, мощнее, проворнее, даже в темноте — многолетний опыт профессионального футболиста наделил его внутренней силой.
Но почва под ногами неровная.
Оуэн услыхал стук упавшего тела.
И оглянулся.
Постоял пару секунд, задыхаясь и глядя, как Ред барахтается в снегу, пытаясь подняться. У него что-то случилось с ногой — то ли на камень наткнулся, то ли запутался в древесных корнях, скрытых под двойным предательским слоем снега и темноты, и вывихнул щиколотку. Он бормотал про себя, чертыхался, растирал лодыжку, умудрился все-таки встать, полез в карман за сотовым телефоном и выронил в снег.
— Мать твою, — выругался он, наклонился в поисках трубки с истерическим смехом. Еще искал, когда с сосновой ветки с легким треском рухнул тяжелый влажный снежный ком.
Деревья позади раздвинулись. Он резко оглянулся на шорох, открыл рот, хотел что-то сказать и увидел. Попробовал выпрямиться, пополз вперед, хватаясь за снег. Вскинул голову, встретился взглядом с Оуэном, сказал:
— Помоги.
Что-то бросилось на него сверху с гулким мокрым шлепком, словно грязный ковер. Из-под ковра послышалось, как что-то тяжелое безжизненно ударилось в снег.
Оуэн покатился со склона к огням.
И больше не оглядывался.
Глава 42
Скотт выкатился из черного крыла, свет в столовой ослепил глаза, как дневной. Захлопнул за собой дубовую дверь, подхватил с пола сотовый. Кнопки размером с булавочную головку слишком малы для трясущихся пальцев. Сотовые телефоны не предназначены для неотложных случаев. Он с большим трудом набрал номер.
— Полиция округа.
— Это Скотт Маст. Мне надо поговорить с шерифом.
— Скотт Маст?
— Да-да…
— Пожалуйста, повторите по буквам.
— М-а-с-т, — почти прокричал он. — Боже мой, Маст! Мне надо срочно поговорить с шерифом Митчеллом.
Последовала долгая пауза, жестяная музыка в ожидании соединения. Скотт стоял в дальнем конце столовой, уставившись на угловую дверь. Необходимо убраться отсюда. Он открыл то, что хотел, — само крыло и конец истории. Как только шериф явится осматривать старую постройку, начнется следствие, возможно, в стойлах найдут человеческие останки — безусловно, вполне достаточно для того…
— Алло, — сказал резкий голос, который он не узнал, хотя это должен быть Лонни Митчелл.
— Хочу сообщить… — О чем? — Я здесь… в доме к северу от города… нашел то, что вы должны увидеть.
— В данный момент мы заняты, мистер Маст. Вы на улицу не выглядывали?
— Дело серьезное.
— Что такое?
— Долго рассказывать. Нельзя ли кого-нибудь сюда прислать?
— У нас кадров сейчас не хватает, — объяснил шериф. — Почти двести домов остались без отопления и электричества. Все сотрудники помогают людям перебраться в безопасное место, пока хуже не стало.
— Дело срочное, — твердил Скотт, и, видно, в его голосе слышалось то, чего не выражали слова, ибо шериф вздохнул:
— Что там у вас стряслось?
Он сделал медленный, глубокий вдох, понимая, что это, возможно, единственный шанс объясниться.
— Здесь, в нашем старом фамильном доме, за одной стеной есть большое добавочное помещение. Я сегодня его обнаружил, забрался туда, осмотрелся. По-моему, там что-то вроде камеры пыток.
Молчание в трубке.
— Алло! Вы слушаете?
— Я сегодня не расположен к шуткам, мистер Маст.
— Постойте…
— Обождите до завтра. Завтра, если еще будете живы, приеду, посмотрю на камеру пыток. Годится?
— Нет…
В трубке щелкнуло.
Скотт тупо смотрел в пустую комнату, на дверь в углу, в снежную ночь за окном. До города тридцать миль, по такой погоде без подходящей одежды не добраться.
Другой вариант — здесь остаться.
Он прошелся по первому этажу, везде включая свет. Не имея ни фонаря, ни переносной лампы, превращал дом в гигантский светильник, надеясь выйти на дорогу к машине. Надел пальто, шапку, ботинки, не надел перчатки, выскочил в дверь из прихожей, осторожно спустился по лестнице, где в лицо била жесткая снежная крупа.
Надо терпеть. До цивилизации далеко.
Как только вышел наружу, Круглый дом, несмотря на внутреннюю иллюминацию, навис над ним темной глыбой, демонстрируя свое угрожающее присутствие. Его бесформенные очертания стали еще крупнее. Снег, лежавший у парадного по щиколотку, углубился по колено, но Скотт брел, утопая в белой пудре, прекрасно понимая, что по дороге не проехать, даже если удастся вывести автомобиль.
Что сказала про свою машину Колетта?
За домом оставила.
Он приложил ко рту рупором руки.
— Колетта!.. — Окружающий лес поглотил его голос, до невозможности слабый и тонкий в ночи. — Колетта!
Он пошел вокруг дома. Огромные стены тянутся бесконечно, черное крыло существует, прячется где-то внутри за досками и каменной кладкой, пульсирует, как пустое, напоенное ядом сердце. Земля под снегом пошла вниз. Наконец, он увидел наружный западный угол здания на границе ночи, как конечный форпост, за которым ничего больше нет. В звездном свете что-то замерцало вдали — замерзший пруд.
Ботинок скользнул на примятом снегу — в автомобильной колее.
Он прошел по ней двадцать ярдов до голого пятна, где явно до самого недавнего времени стояла машина. Теперь ее нет, другая колея, более свежая, тянется в противоположную сторону. Кажется, в чистом зимнем воздухе еще чувствуется запах выхлопных газов, хотя света фар нигде вокруг не видно. Удивительно, что она вообще отыскала дорогу, но если это ей удалось…
Вновь повернув к дому, Скотт ощутил в темноте удар в плечо.
Остановился, поднял голову, посмотрел.
Это была нога.
«Вовсе не то, что кажется, — промелькнуло в мозгу. — Не может быть то, что кажется, потому что кажется, будто это…»
Налетел ветер, тело Колетты слегка повернулось на веревке, соединявшей шею с тремя верхними ветками дерева. Ноги болтались на уровне лица Скотта. Одна туфля свалилась, обнажив ступню в чулке. Ветер спутал волосы в заснеженный ком, свесившийся на один глаз, оставив открытым другой, остекленевший, устремленный вниз.
Земля под ногами треснула, раскололась, разъехалась в диаметрально противоположные стороны, увлекая его за собой. На одной стороне безумие, на другой — логическая связность. Уже ясно, куда он клонится, и ничего нельзя сделать.
Можно. Соберись, возьми себя в руки.
Смешно. Он теряет рассудок, слепо катится в бездну. Слишком поздно. Ветер сменил направление, ее лицо отвернулось со скрипом, хотя единственный открытый глаз по-прежнему смотрел на него. Скотт закусил губу, мысли возвращались если не в нормальное, то хотя бы в связное состояние.
Колетта, кто с тобой это сделал?
Ветер взметнул обвисшие волосы, закрывшие второй глаз. Веревка закрутилась, заскрипела.
Или она это сама с собой сделала?
Он оглянулся на голое место, откуда шли следы шин. Кто-то был здесь, наткнулся на Колетту, набросился, накинул веревку, вздернул на дерево, оставил висеть, сам сел в машину и… и…
Она вновь повернулась на ветру.
Ее надо снять.
Он заставил себя дотянуться до тела. До узла осталось лишь несколько футов — непреодолимое расстояние. Кажется, узел уже ослаб, веревка поддается под тяжестью мертвого тела. Неизвестно, как справиться без ножа, без пилы, без какой-нибудь лестницы. Вспомнились острые инструменты в черном крыле. А на кухне? Найдется что-нибудь подходящее?
Он направился к дому, ставя одну ногу перед другой, с максимально возможной скоростью шагая по снегу, и услышал за спиной, как что-то упало.
Остановился и оглянулся.
Веревка оборвалась. Колетта лежала в сугробе, по-прежнему с петлей на шее. Он добрался обратно, наклонился, приготовился поднять тело и услышал… Что?
Что-то. Слабое шипение воздуха, вышедшего из легких.
Скотт сморгнул, вытаращил глаза.
Одно веко чуть дернулось.
— Колетта… — Снова собрался схватить ее, заколебался — вдруг сломана шея — и понял, что готов рискнуть. Если все произошло только что, есть шанс вернуть ее к жизни. — Давай, девочка. Держись. Обожди.
Ну и слова нашел, ослиная задница.
Он уложил ее на спину, приложил пальцы к горлу, но руки онемели, ничего не чувствуют. Надо отнести ее в дом.
Времени нет.
На его работе обязательно требуется владеть приемами реанимации, иначе компания не оплачивает страховку. Он запрокинул ей голову, прижался ртом к холодным губам, к безжизненной плоти, дважды выдохнул, приложил к груди обе ладони одну на другую и крепко нажал тридцать раз. Что-то треснуло — ребра. Вновь вернулся к губам. Два выдоха. Тридцать нажатий. Проверил пульс, не нашел, желая возложить вину на замерзшие пальцы. Долго продолжать? Пока не придет помощь.
Выдох. Массаж. Пульс. Ничего. Вдали поднялся ветер, как бы питая особый интерес к его неудачным попыткам, швырнул снег в лицо и затих. Колетта смотрела на него незрячими глазами.
Но я ее заставил издать звук. Могу поклясться, видел дрогнувшее веко.
Нажатие. Выдох.
Пока не придет помощь.
Хорошо.
Он продолжал массаж, уже ощущая усталость в суставах, но все-таки нажимал. Не потому, что это имело какое-нибудь значение, а потому, что больше нечего было делать. Движения замедлялись на холоде. Понятно, до города ни за что не дойти.
Вскоре он понес ее в дом.
Глава 43
Притащив тело в столовую, Скотт взял кухонный нож и разрезал веревку на шее, уже начав думать о Колетте как о теле. Когда исчезает пульс и дыхание, остается просто тело, правда? И весь на свете опыт Красного Креста не превратит тело опять в человека.
Он опустил его на надувной матрас, схватил сотовый телефон. В батарейке на дисплее остались еще две полоски, но когда он набрал номер службы спасения, на экранчике возникла надпись «Нет связи».
Скотт встал на колени, снова принялся за работу, постепенно сокращая число выдохов и нажатий, пока плечи не загорелись, а мышцы ослабли. Наконец остановился. Никто его не упрекнет. Никаких больше вопросов о сердечном ритме и дыхании. В определенный момент останавливаешься, потому что это ты, потому что ты совсем один, потому что ничего не можешь больше сделать.
Накрыл тело спальным мешком, снова взял телефон, набрал 911 и стал ждать и ждать.
В голове кишмя кишели вопросы. Кто с ней это сделал? Если сама, то почему, и почему сегодня? Зачем сделала это здесь, возле дома? Что стало с ее машиной?
«Нет связи».
Невозможно забыть лиловую борозду на горле, похожую на вытатуированное ожерелье. Наконец перестал о ней думать, прошел через столовую к спальному мешку, наброшенному на фигуру на надувном матрасе. Открыл лицо, заставил себя посмотреть в распахнутые глаза. Одна рука свесилась с матраса ладонью вверх, как бы прося милостыню. Сквозь приоткрытые губы виден язык. Конечно, труп тяжелый, и до сих пор есть сомнения, стоило ли приносить его в дом. Скотт сидел так, кажется, долго, слушая стук снежинок в оконное стекло, которые заглядывали в него тысячью глаз.
Взглянув на перевернутую руку, впервые реально рассмотрел шрам на внутренней стороне запястья. Плоть разрезана крестом — длинная линия сверху вниз и короткая поперек. Когда она сделала это, давно? Была ли это первая попытка, или предпринимались другие, не оставившие столь заметных следов? Кто спас ее в тот раз, или она, вскрыв вены и увидев расплывавшиеся в горячей ванне розовые облачка, сама вызвала скорую?
Скотт провел по шраму указательным пальцем.
Вдруг она сейчас сядет и схватит меня?
Он отшатнулся. Нервы нынче совсем расходились. Вдруг не захотелось находиться в одной комнате с трупом, тем более сегодня, в этом доме. Он встал и заключил с собой сделку: пройтись еще раз по первому этажу, обдумать варианты и, если ничего лучшего не придумается, завернуть ее и унести отсюда. Может быть, на шоссе сотовая связь восстановится.
Скотт попятился из комнаты, не сводя с мертвой Колетты глаз. Слишком поздно сообразил, что, торопясь убраться, не прикрыл лицо. Мертвые глаза смотрели на него слепым обвиняющим взглядом. Выбравшись из их поля зрения в прихожую, он почувствовал себя чуть увереннее и, почти машинально, вновь вытащил трубку, вновь позвонил шерифу, уже обдумывая, как будет уносить тело. Лучше засунуть в спальный мешок. Если не смотреть в лицо…
В трубке раздался гудок. Произошло соединение.
— Полиция округа.
— Это снова Скотт Маст. Мне нужно поговорить с шерифом.
Даже при слабом сигнале явственно прозвучал вздох.
— Простите, мистер Маст, но шериф…
— У меня здесь труп.
Чувствовалось, как телефонистка на коммутаторе переваривает сообщение.
— Что вы сказали?
— Вы не ослышались.
— Обождите.
В ожидании Скотт прошел из прихожей на площадку первого этажа, взглянул вверх на длинную лестницу. Давно не поднимался наверх. Фактически в доме есть комнаты, запертые и открытые, куда он вообще еще не заглядывал. Возможно, их десятки. Хранящиеся в них тайны останутся тайнами, по крайней мере для него. Вспомнилась эпитафия на могиле матери: «В доме Отца Моего обителей много».
— Мистер Маст? Что там за чертовщина у вас происходит? — Нетерпеливый тон шерифа Митчелла теперь граничил с бешеной яростью. — Что за труп?
— Я нашел его висящим на дереве, — быстро затараторил Скотт, не обращая внимания, что слова сливаются. — Старался оживить, реанимировать, но…
— Самоубийство? — Даже злость не скрыла, что известие произвело впечатление. — Личность вам известна?
— Колетта Макгуайр.
— Ох… — Потом Митчелл тихо пробормотал, ни к кому конкретно не обращаясь: — Вот черт… Точно?
— Она здесь, — сказал Скотт. — Я принес ее в дом. Не знал, что еще делать. Старался куда-нибудь дозвониться, но мой сотовый не работает в такую погоду.
— Где вы?
— В Круглом доме, в старом доме за городом. Надо ехать по двенадцатому хайвею на север… там проселочная дорога… — Он сбился, не в силах дать дальнейшие указания, и мысленно выпалил: «Где погиб мой отец».
— Знаю, — сказал шериф Митчелл. — И вы там один?
— Да.
— Хорошо. Выезжаю. Должно быть, уйдет время. А вы просто сидите на месте, ладно?
— Ладно, — кивнул Скотт. Отложил телефон, сел на нижнюю ступеньку и стал ждать.
Глава 44
Прошел час.
Сам того не замечая, он побрел по прихожей и прилегающим коридорам, свернул за самый дальний угол первого этажа, избегая столовой, без крайней необходимости не желая туда возвращаться.
Держал в руке сотовый, то и дело открывал крышку, убеждаясь, что в батарее еще остается заряд на случай, если Митчелл вдруг перезвонит. Но телефон молчал.
Избегая столовой, он вдруг осознал, что старается по возможности вообще не соприкасаться с домом, держась посреди коридоров, не приближаясь к слегка скругленным стенам, проходя лишь в те двери, которые не приходится открывать. Шагал без остановки, не присев ни разу, бесконечно кружил и оглядывался через плечо, проверял телефон и снова его прятал, снова выходил в прихожую, в коридор и на кухню, мечтая как-нибудь увидеть все в целом. Старался не смотреть на круглые углы между стеной и полом, не поднимал глаза вверх.
Виден конец коридора, столовая, серый край матраса за дверью.
Он повернул обратно.
Никакой разницы. Все равно чувствуется, что она там, наполовину прикрытая спальным мешком, со склоненной набок головой, с синяком на шее, поджидает его. Ради бога, почему нельзя было закрыть лицо?
Закрой сейчас. Просто зайди.
Вместо этого он вернулся на кухню, сварил кофе, но из кофеварки вылился черный поток, густой, как сироп, слишком горький, чтобы пить. Он вытащил сеточку, видя, что нечаянно наполнил ее доверху, и вывалил гущу в мусорное ведро, смыв остатки в раковину. Позади в кухонной двери что-то скользнуло по стене — должно быть, тень дерева в свете парадного. Он уставился на стену, ожидая повторения. Ничего больше не было.
Когда зазвонил телефон, почти выкрикнул:
— Да!
— Я бы самолично надрал вам задницу! — прорычал в трубке голос, едва похожий на шерифа Митчелла, с каким-то звериным оттенком. — За каким чертом выкидывать первоапрельские шутки, Маст?
— Что?..
— Именно сегодня, ни раньше, ни позже, вдобавок ко всему остальному дерьму! Если б я не был сейчас так занят, сам вас в тюрьму отволок бы.
— Постойте, — сказал Скотт, — я не понимаю…
— Вы объявили, будто обнаружили тело Колетты Макгуайр. Думали, это очень смешно? Такое у вас извращенное чувство юмора?
— Я не шучу, шериф, и не вру. Труп у меня в столовой.
— Вот как? Тогда, может быть, объясните, почему Колетта Макгуайр стоит у меня в кабинете?
Скотт не мог вдохнуть. Пальцы потеряли чувствительность, казалось, будто телефон самостоятельно прижимается к уху. В трубке послышался шорох, на том конце ее передали из рук в руки.
— Алло, — сказал женский голос. — Скотт?
Он узнал его сразу, по крайней мере, той областью мозга, которая занимается исключительно фактами. Попытался произнести ее имя и застрял на первой согласной.
— Что происходит? — спросила Колетта. — Шериф Митчелл рассказывает, будто ты позвонил, сообщил, что нашел меня мертвой…
Теперь все мышцы руки вышли из-под контроля. Он смутно чувствовал, как трубка медленно съезжает с уха, цепляется на мгновение за обшлаг рубашки, словно реквизит фокусника-любителя, демонстрирующего свою ловкость, и падает на пол.
В дальнем конце коридора со стороны столовой раздался стук.
Потом звук повторился, тише, но определеннее, будто кто-то волок по полу тяжелые мокрые тряпки с грудами осенних листьев. Носовые пазухи распухли, преградив доступ воздуху. Из трубки еле слышался голос Колетты:
— Скотт! Скотт…
Он стоял на том же самом месте. Не хотел идти через прихожую по коридору к столовой и выяснять, что за стук. И решительно не хотел выяснять, кто и что там волок. И особенно не хотел выяснять, не приоткрыта ли дубовая дверь в углу, как в прошлый раз. Пожалуй, возможно, но теперь, подумав, уже точно не скажешь.
Дом окружал его, спокойный, неподвижный, ожидая решения.
Скотт повернулся и медленно пошел туда, откуда пришел. Дело недолгое. Через двадцать шагов он стоял в дверях, глядя в столовую, где по-прежнему стоял ноутбук и лежала отцовская рукопись.
Надувной матрас пуст.
Спальный мешок валяется на полу.
Тело исчезло.
А дубовая дверь в углу, в которую он недавно выскочил и крепко за собой захлопнул, открыта.
Чуть-чуть.
Глава 45
Он распахнул парадную дверь и вывалился наружу, не чувствуя холода.
На чисто физическом уровне вообще ничего не чувствовал. Фактически казалось, что весь сенсорный механизм мозга отключился, заглох, нет связи. Осталась только земля под ногами и расстояние, на которое можно отойти от дома.
Известно, что прокатная машина где-то на дороге, и он теперь уверен, что сможет самостоятельно откопать ее из-под снега, если придется, голыми руками. Зрение заключило собственную сделку с ночью, проглатывая необъятную черноту в обмен на смутный, но адекватный обзор территории. Он двигался как машина, механизм, состоящий исключительно из рычагов и поршней, не способный дойти до изнеможения. Даже если бы это стоило некоей незаменимой доли человечности, решил просто идти.
Через пять минут прозвонил сотовый.
Скотт пошатнулся, задохнулся, выхватил из кармана трубку, круто оглянулся на дом, глухо светившийся всеми горевшими лампами среди деревьев, зовя его назад, как маяк. Возясь с кнопками, предназначенными для детских пальчиков, выдавил в микрофон нечто похожее на слово.
— Скотт!.. — Это была Соня. — Скотт, ты меня слышишь?
Он что-то неразборчиво буркнул.
— С тобой все в порядке?
Он споткнулся, озадаченный вопросом, глядя на маячивший перед ним освещенный дисплей телефона, как на какое-то фосфоресцирующее глубоководное существо.
— Нет.
— Где ты?
— На дороге… у шоссе…
— Я еду.
— Дорогу замело.
— Подойди как можно ближе к хайвею, — велела она. — Жди меня, понял? Не уходи никуда.
И исчезла, вновь оставив его на своем собственном попечении. Холод добрался до костей, до плеч, колен, костяшек пальцев, наполнив их серебром. Он сунул телефон в карман, сжал кулаки и пошел дальше в ночь, не обращая внимания на наждачный скрежет в легких, игнорируя все, кроме дороги. Говорил себе, что может идти вечно, лишь бы убраться подальше от дома, от того, что находится в нем.
В лесу что-то затрещало, достаточно громко, чтобы услышать даже сквозь хриплое дыхание. Сухие сосновые ветки хрустели, ломались, словно нечто выворачивало с корнями целые деревья. Скотт различил общие очертания, слишком крупные для оленя. Нечто стояло, выпрямившись, наблюдая за ним.
Обман зрения.
Как бы в ответ глаза заслезились, прояснились, и он в пронзительный миг абсолютно четко увидел силуэт фигуры, сгорбившейся перед ним на дороге. Мужчина присел на снегу, как животное, спустив штаны до щиколоток. Через секунду поднялся, и перед Скоттом предстал гигант футов семи ростом. Штаны еще спущены, огромный необрезанный пенис болтался между бледными ляжками обрывком веревки длиной, пожалуй, в фут от корня до головки. Голова пошла кругом на грани безумия, замелькали абсурдные воспоминания о легендарных исторических пенисах, например Джона Диллинджера[17] или Наполеона. Давайте восславим великие пенисы, мысленно провозгласил Скотт, и испугал самого себя истерическим, каркающим смешком.
Мужчина поднял голову, посмотрел на Скотта, широко ухмыльнулся, как бы оценив шутку. Гордо оглянулся на оставленную им гигантскую окровавленную дымящуюся кучу, зачерпнул пригоршню снега, вытерся, отшвырнул снежок в лес и натянул штаны. Он стоял на дороге все с той же ухмылкой, а части его тела находились в непрерывном движении: руки, ноги, даже туловище подергивались и вертелись, словно в плоти кишели личинки.
Глядя на него, Скотт чувствовал, как фигура колеблется, становится прозрачной.
Завертелся ветер, скрыл ее с глаз.
За ней стояла прокатная машина.
Машина стояла, как сугроб, наполовину утонув в снегу, железная Горгона, заснувшая под снежным покрывалом. Скотт открыл пассажирскую дверцу, глубоко вдохнул воздух, рухнул на сиденье, растирая руки. В кабине так же холодно, но укрыться от ветра — уже облегчение. Ключи торчат в зажигании — потребовалось три попытки, чтобы просто схватить их отмороженными пальцами, хотя и после этого мотор только кисло чихнул и не стал заводиться. Он все крутил ключ, нажимал на педаль газа, потом побоялся посадить двигатель и сдался.
Открыл бардачок, надеясь обнаружить фонарик, возможно сунутый туда по милости прокатной конторы. Разумеется, не обнаружил ровно ничего, ни аварийного маячка, ни даже спичек, которые помогли бы проделать дальнейший путь. Отдышавшись и вернув рукам некое подобие жизни, заставил себя вылезти.
Подумал о высоком мужчине на дороге, присевшем над кучей кровавого дерьма и ухмылявшемся ему.
«Могу идти, — решил он. — Могу идти вечно, если придется».
Прошел сквозь старые чугунные ворота, впервые привлекшие взгляд, когда он заставил Соню поехать на место гибели отца.
Через пять минут оказался на обочине шоссе и стал ждать.
Глава 46
Скотт потерял счет времени. Абсолютно не представлял, долго ли тут стоит, сунув под мышки голые руки, притоптывая для согрева ногами, дрожа до боли в ребрах и ужасной усталости мышц живота. Не проехало ни одной машины, ничто не шевелилось, кроме него и равнодушно гаснущего света звезд за миллионы миль. Только он и пустая дорога, безжизненная, как история. Через какой-то промежуток времени он почти решил вернуться к прокатному автомобилю, снова попробовать запустить мотор или хоть обогреватель включить, но побоялся пропустить Соню.
Побоялся того, что, возможно, увидит в лесу.
Наконец, прождав целую жизнь, увидел вдали фары, которые набирали яркость и силу, бросая на дорогу новые тени. Гул мотора приблизился, машина подкатила. За рулем сидела Соня в черной вязаной шапке, из-под которой выбились пряди волос. Вытаращила на него глаза на манер женщины, притормозившей на месте аварии.
— Скотт! У тебя жуткий вид!
Он попробовал что-то сказать и не смог — слишком сильно дрожал и голос потерял. Упав на сиденье, ощутил лишь тепло, и в тот же миг ночные кошмары смыла волна первичной благодарности.
— Держи кофе. — Она взяла хромированный термос, стоявший между сиденьями, налила ему чашку. По-прежнему трясясь, Скотт поднес ее к губам и стал глотать горячую крепкую жидкость, пока не начал таять лед в горле. Благодарное бормотание прозвучало, как непокорный гвоздь, вытаскиваемый железным ломом. В суставах пальцев медленно и методично разливалась боль. Светящиеся часы на приборной доске показывали 01:14.
— Мы застряли, выехав из бара, — сказала Соня. — Мне пришлось выйти, откапывать.
— Кто «мы»?
— Со мной Генри был. Я его к своему отцу отвезла. Эрл присмотрит за ним.
— Где мой брат?
Она на него посмотрела, возможно, пожала плечами — в плотном пальто трудно сказать.
— Точно не знаю. — Глаза из-под челки пристально его разглядывали, глубокий вопросительный взгляд пробил в нем какую-то брешь, чего не смог сделать кофе. Слова полились без дальнейших понуканий. И Скотт все рассказал — о находке черного крыла и тела Колетты, о том, как услышал ее голос по телефону. Докладывал с минимальным выражением, отстраненно излагая события, эмоциональная составляющая которых так же онемела, как внутренность его тела.
Когда закончил, Соня медленно проговорила:
— Что с тобой происходит?
— Разве не видно? — Он вытащил сотовый. — Потерял рассудок.
— Кому звонишь?
— Шерифу.
Она выхватила у него телефон так внезапно, что он покорился.
— Подожди.
Скотт нахмурился.
— Чего? — И впервые заметил, что они едут по шоссе к северу, а не к югу. — Почему мы не возвращаемся в город?
Соня глубоко вдохнула и медленно выдохнула через несколько секунд. Когда снова заговорила, голос звучал иначе, незнакомо, как у того, кто ведет ночью машину и чье лицо видно только частично.
— Ты должен кое-что увидеть.
— Где?
— Однажды твой отец зашел в бар, — сказала она. — Это было около года назад, прошлой зимой, и мы с ним там сидели одни. Он пробыл несколько часов… кое-что рассказал. Взял с меня обещание никогда никому не говорить, особенно тебе и Оуэну. — Она говорила очень медленно, почти с болезненной целеустремленностью. — Но я вряд ли смогу молчать после того, что от тебя услышала.
— В чем дело?
— Увидишь. Это далеко.
— Где?
— Дальше к северу. Тебе надо немного поспать.
— Не могу.
Он откинул голову на спинку сиденья, закрыл глаза. Несмотря на страшную усталость, думал, что ни в коем случае не заснет. И заснул.
Глава 47
Когда Скотт проснулся, еще было очень темно, крупные, вырезанные ножницами снежинки кружились в свете фар. Соня за рулем разговаривала по телефону так тихо, что ничего не разберешь, машина подъезжала к большому незнакомому серому зданию.
На часах 04:05.
Он кашлянул, и в обожженных ветром руках отозвалась острая боль.
— Где мы?
— В Пайн-Хевене.
— Никогда не слышал.
— Примерно в ста пятидесяти милях к северу от Милберна. — Она остановила машину и вышла. — Иди за мной.
Снова холод, только гораздо хуже. Ужесточавшийся северный климат врезался в неподготовленное полусознание жестью и железными стружками. Сон усугубил страдания, и отчасти хотелось вернуться в сонное забытье, которое несло его на север в тепле, в бездумной пустоте.
Вместо того Скотт сгорбился на пронзительном ветру, сунул руки в карманы, слепо следуя за Соней вдоль стены огромной постройки под жужжащими дуговыми натриевыми лампами. Сама протяженность и конфигурация здания как бы усиливала ветер, затачивала его, как лезвие, пока кости не опалило огнем. Он увидел воспаленными глазами кнопку с табличкой «Для входа нажать».
Соня прижала ее пальцем. Через минуту серая дверь щелкнула и отворилась, открыв больничный коридор, производственные зеленые стены, потертый кафельный пол под длинными флуоресцентными трубками. Несмотря на обещание тепла и света, Скотт заколебался, удержанный запахом чистящих средств и мастики для пола, который почти не пересиливал смешанные запахи тел, пота, мочи, экскрементов, копившиеся годами.
— Тебе тяжело будет, — сказала Соня.
За голым металлическим столом высился чернокожий мужчина в голубой больничной форме. Он поднялся им навстречу и, не сказав ни слова, пошел в бесшумных прорезиненных туфлях по зеленому коридору. Скотт направился за ним. Коридор был очень длинный, в нем слышалось эхо голосов, великое множество звуков: плач, смех, внезапные крики, стоны неизвестного происхождения летали взад-вперед, сталкивались, как в общедоступном бассейне, резонировали, искажались в пространстве. Впереди их ждала еще одна дверь, на сей раз из стальной сетки. Санитар выбрал ключ на длинной спиральной проволоке, отпер ее и пропустил их внутрь. Дверь за ними закрылась.
Там провожатый остановился, и Скотт понял, что дальше им предстоит идти одним.
— В конце, — сказал санитар. — Последняя справа.
Скотт шагнул вперед на чужих ногах. Подошел к последней двери из толстой стали с окошечком из закаленного стекла, под которым прорезана щель, достаточно большая для подноса с едой и мелких предметов.
Заглянул в дымчатое стекло.
С другой стороны на него смотрела женщина. Тусклые седые волосы свисали на лицо, под ними заметны вздувшиеся шрамы от старых ожогов от лба до подбородка. Глаза водянистого фиалкового оттенка осколков витража совершенно чужие и очень знакомые. Женщина медленно подняла к стеклу руку, глядя на него с абсолютным недоверием, и легонько дотронулась до окошечка, будто боясь, что оно разобьется.
Горло сжалось так, что почти невозможно дышать, а тем более говорить.
— Мама?..
Она все смотрела, рот заметно скривился, силясь улыбнуться, но разучившись. Скотт не смог сдержать наполнившие глаза слезы. Словно расстроенная его реакцией, мать бросила взгляд вверх над его головой и вокруг, как бы следя за летающим насекомым, которое видит только она. Палец скользнул по стеклу и что-то написал.
— Вот, — сказал санитар, сунув в щель блокнот и мягкий черный карандаш. Она неуклюже прихватила блокнот искалеченной правой рукой без пальцев, левой стиснула карандаш, как ребенок, наклонилась, медленно вывела строчку, поднесла к стеклу:
Меня зовут Элинор
Скотт только тряхнул головой, смахнул слезы, потекли другие непрерывной рекой. Наконец обрел дар речи.
— Мама… что ты тут делаешь?
Грустная кривая улыбка вернулась, черный карандаш заскользил по странице, быстрее выводя каракули. Он сумел прочесть вверх ногами:
Я тебя знаю
— Да, мам. Это я. Скотт.
Она терпеливо кивнула, ожидая с карандашом в руке.
— Ничего не понимаю. — Он оглянулся на дверь со стальной сеткой, где рядом с Соней стоял санитар, прислонившись к стене. — Выведите ее оттуда. Я хочу поговорить.
Санитар покачал головой:
— Она не разговаривает.
— Откройте дверь.
— Не могу.
— Почему?
— Во-первых, это против правил ее содержания.
— Каких правил?
— Необходимо судебное разрешение, — пояснил мужчина. — Если хотите ее вывести, поговорить, то утром обратитесь к судье. — Он оглянулся на Соню, ожидавшую в конце коридора. — Вас даже не должно тут быть в такой час.
— Мам!.. — Скотт опять повернулся к окошку. — Папа сказал, ты погибла при пожаре. Сказал нам, что не выжила… — Хотел еще что-то добавить, а голос охрип.
Мать по ту сторону двери снова писала, быстрее, заполняя страницу словами, крупными вверху и мелкими внизу.
Помню, ты был в театре, когда пожар начался. Тебя зовут Оуэн?
— Скотт. Я Скотт, мама.
Ты был при пожаре?
— Нет. Учиться уехал. Хотел приехать, но был очень занят. Старался вернуться домой, и не смог.
Она кивала, слушала, карандаш диагонально двигался по листу, оставляя за собой грифельные крошки.
Был пожар, я не смогла выбраться. Поэтому здесь за мной ухаживают, если будет пожар, то спасут и меня, и отца, и Оуэна
Санитар вздохнул, читая записку через плечо Скотта:
— Начинает волноваться, глядя на вас.
— Здесь должен быть кто-то, с кем можно поговорить, — сказал он. — Надо выпустить ее оттуда, пока мы не получим кое-какие ответы. — Вновь посмотрел на лицо в оконце. — Мама, я…
Она держала тот же лист, указывая на слова «пожар», «отец», «Оуэн», широко открыв глаза с обострившимся взглядом.
— Папа умер. Погиб несколько недель назад. Поэтому я приехал. С Оуэном… все в порядке. — Волевым усилием он овладел голосом, глотая слезы. — Тебя… папа сюда отправил?
Она блаженно кивнула с улыбкой, перешедшей в гримасу, потерла рукой висок.
— Зачем?
Мать перевернула лист и написала:
Здесь безопасно
— В каком смысле? — спросил Скотт, но она лишь показывала два этих слова. — Я могу о тебе позаботиться. — Даже в этот момент он понял чудовищную иронию подобного заявления. Сам о себе не может позаботиться.
Она покачала головой и опять написала:
Не хочу отсюда уходить. Пожалуйста, не заставляй. Мне нравится. Теперь тут мой дом. Меня охраняют от
Места больше не было, она перевернула страницу, обнаружила, что обратная сторона тоже исписана, снова перевернула, все сильнее возбуждаясь, ища пробел на полях, перелистывая блокнот.
Скотт взглянул на санитара.
— Она на лекарствах? Что вы ей даете?
— Вам список нужен?
— Мне нужны объяснения.
— Поговорите с ее врачом.
— Где он?
— Сейчас? — Санитар долго смотрел на свои часы. — Я бы сказал, дома в постели. — И добавил потише: — И вам лучше бы спать.
Мать за стеклом начала новый лист:
Ты Скотт?
— Да, — сказал он.
Она постояла, глядя на него, слегка хмурясь, молча шевеля губами, потом написала:
У меня кое-что есть для тебя
Отошла назад, принялась рыться в коробке, скрытой в тени. Выпрямилась, держа в руках плоский прямоугольный предмет размером с развернутую газету. Сквозь безопасное дымчатое стекло Скотт разглядел какую-то выцветшую поделку, жесткую, непрочную, сплетенную в давние времена из разноцветных полос строительного картона, настолько широкую, что ее пришлось свернуть, чтобы просунуть в щель. Он принял ее обеими руками, развернул с хрустом, прочел на изнанке рукописное напоминание: «Отдать Скотту».
— Коврик для прихожей, — пояснил санитар. — Они делают их в мастерской на занятиях по рукоделию.
Скотт посмотрел на коврик, какие дети приносят домой из детского сада или летнего лагеря, потом снова на мать. Она все держала карандаш, широко открыв глаза с умоляющим и пустым внутри взглядом. Пальцы гладили разделявшее их стекло, словно она хотела к нему прикоснуться. Он подумал о ней, запертой в палате в этом доме, где, видно, никто не знает, кем она была когда-то — женой, матерью, с которой его жизнь была совсем другой.
— Зачем папа это сделал? Зачем лгал?
Она с улыбкой просунула руку в щель под окошком. Он дотронулся до пальцев с грязными неровными ногтями, холодных и влажных, будто вылепленных из твердой глины. Отдернув руку, она в последний раз схватила карандаш и нацарапала:
Меня зовут Элинор
— Пока хватит, — сказал санитар. — Вам пора уходить.
— Мама… — Скотт по-прежнему смотрел ей в глаза. — Слушай меня. Я вернусь. Тебе незачем здесь оставаться. Поговорю с врачами и… Во всем разберусь до самого конца, хорошо? Обещаю.
Она вгляделась в него с выступившими слезами, затрясла головой, задрожала, не зная, куда девать руки. Прилипшая к подбородку чаинка набухла от слез и упала.
— Мам! Мама…
Он вновь протянул пальцы к щели, но она отступила, скрестила на груди руки, глядя на него со смертельным испугом, будто смотрела в глаза незнакомца.
Глава 48
Первый час прошел в молчании, кроме глухого рокота дороги. Наконец Соня сказала:
— Скотт…
Он смотрел прямо перед собой, не отвечая.
— Не стану говорить, что ты ошибаешься.
— Ошибаюсь, — монотонно пробормотал он. — Думаешь, я ошибаюсь.
— Знаю. Хуже всего, что это терзало меня с той минуты, как я тебя снова увидела, даже если в данный момент тебе наплевать. Меня это просто убивало. Из рассказа твоего отца…
— Почему? — Железный кол пригвоздил шею к плечам, не давая на нее оглянуться или еще куда-нибудь посмотреть, кроме занесенной снегом галактики, расстилавшейся впереди на самой ранней утренней заре. — Почему ты мне не сказала?
— Твой отец говорил, что ей… уже ничем не поможешь. Видеть ее в таком состоянии было бы чересчур тяжело тебе и Оуэну, особенно тебе, потому что тебя тогда не было, и он знал, как ты из-за этого переживаешь. Сказал, тебе стало бы только хуже.
— Разве это не мне решать?
— Извини.
Скотт не потрудился ответить. В душе накапливались болезненные мрачные ощущения, жгучие и уродливые, и, хотя еще непонятно, что с ними делать, уже известно, что они не исчезнут. Он ощупывал коврик, подаренный матерью, понимая, что скрученные полоски — просто дешевый строительный картон, сплетенный и склеенный школьным клеем.
— С ней что-то произошло на пожаре, — продолжала Соня. — Твой отец говорил, что она не один час провела под обломками. Когда ее вытащили, была… сама не своя. Не в себе. Так и не оправилась. Поэтому он туда ее отправил ради ее собственной безопасности.
— Безопасности от чего?
Соня не ответила, глядя на дорогу.
— Не вижу никакого смысла, — сказал Скотт. — Он же всех уверял, что она умерла.
Соня чуть слышно шепнула:
— Говорил, она сама так хотела.
— И ты поверила. — Скотт качнулся вперед, прижал к глазам кулаки, тупая боль помогла облегчить напряжение, возникавшее в носовых пазухах. — Почему теперь передумала и открыла мне правду?
— Когда ты сегодня признал, что теряешь рассудок… — Она взглянула на него. — Не знаю. Ты совсем растерялся. Наверно, я надеялась… получить какие-то ответы.
— Тебе нужны ответы. — Он тряхнул головой. — Потрясающе.
— Все мои вопросы о тебе. Благополучно ли ты переживешь случившееся. Сможем ли мы с тобой когда-нибудь… — Соня замолчала, вдохнула, задержала дыхание, выдохнула. — Я страшно виновата. Ты меня не обязан прощать, ни сейчас, никогда. Только хочу, чтобы ты знал, я делала лишь то, что считала правильным. Прежде всего, надеялась, что ты меня не бросишь.
Он молчал, глядя на дорогу и снег.
— Все можно уладить, — сказала она. — Мы все исправим и выберемся отсюда. Я тебе помогу.
Дальше долго ехали молча. Давление в черепе грозило взрывом. Уже минуло шесть, впереди лежал Милберн, видимый в первых робких зимних лучах.
В памяти вспыхнул образ мужчины в лесу, Роберта Карьера, ухмылявшегося на снегу, дергавшегося и вертевшегося всем телом. Голову вновь сильно сжало, резкий электрический разряд ударил в позвоночник добела раскаленными искрами. Гораздо хуже, чем когда-либо раньше. Скотт почти бессознательно стиснул кулак, и подаренный матерью коврик треснул с краю, картонные полоски порвались с одной стороны.
В тусклом свете приборной доски виднелся краешек чего-то, засунутого внутрь. Похоже на желтую официальную бумагу, несколько листов, свернутых и спрятанных в плетеном коврике.
Соня покосилась:
— Что это?
— Внутри было.
Он развернул бумаги. Четыре страницы, целиком исписанные старательным, аккуратным почерком матери с большими, тщательно вымаранными абзацами, не поддающимися прочтению. Скотт включил верхнюю лампочку и взял первую страницу.
21.09.1969 Дорогой Скотт!
Если ты сейчас читаешь, значит, я как-то сумела связаться с тобой, чему очень рада. Твой отец говорит, что привез меня сюда ради моей безопасности и защиты, но от чего? Я не сумасшедшая, угрозы для себя не представляю. Хотя случившееся в тот вечер в «Бижу» убедило меня, что отец верит, мне здесь будет лучше, вдали от города и предполагаемой смерти. Не знаю, правда это или нет. Видимо, я слишком мало знаю. В этом страшном месте, полном страданий и боли, не задают вопросов. Я не сплю ночами, слышу крики. Но
Последние строчки абзаца замазаны перекрещенными карандашными штрихами, разобрать невозможно. Скотт пробежал глазами к концу листа, где текст возобновился.
Может быть, так лучше, чем жить с тем, что мне стало известно. Боюсь, из-за строгой охраны и лекарств, которые дают врачи, это письмо останется между нами единственной весточкой. Лекарства очень сильные, их дают регулярно. Начинаю забывать. Может, это благословение. Трудно сосредоточиться, но постараюсь.
То, что собираюсь тебе открыть, я выяснила перед пожаром в «Бижу». Подозрения возникли гораздо раньше. Тайком от отца я занялась семейной историей Мастов. Многие отцовские родственники покончили с собой, очень многие потеряли рассудок. Узнав это, я начала
Дальше перечеркнуто.
Прадед твоего отца был чудовищем, ходячим бедствием. Нет слов для описания его злодейств. Он выстроил Круглый дом для удовлетворения своих худших желаний и прихотей, не опасаясь разоблачения. Не знаю, сколько женщин и девочек погибло в его стенах, но их голоса до сих пор говорят со мной, возможно, поэтому я не так в себе уверена, как думала сначала. Или это от лекарств, или от криков в забытом Богом
в забытом Богом
Снова вымарка.
Самой страшной ошибкой твоего прапрадеда стало похищение девочки по имени Розмари Карвер. Она
Скотт, мне очень трудно.
Лекарства
Лекарства
Веришь или не веришь, на то, что уже написано, ушла почти неделя, и если я не
Время остается лишь на самое важное
Отец Розмари Карвер был колдуном, чернокнижником. Поклялся на крови отомстить семейству Маст, наложил проклятие безумия, которое несут рассказы, пьесы, картины. Твой отец знал об этом и не верил, пока не начал видеть то, что заставило верить. Я пыталась предупредить его насчет фильма, уже могла предупредить, да было слишком поздно, потому что он писал рассказ
Конец второй страницы зачеркнут с такой яростью, что Скотт почти чувствовал отчаяние матери, старавшейся пересказать то, что ей было известно. Перешел к третьей странице, встревоженный укрупнившимся почерком, скошенными строчками, занимающими чересчур много места.
Скотт, все дело в проклятии. Остальное я слишком поздно узнала. Бальное платье Колетты Макгуайр. В тот вечер я тебя отправила к ним с этим платьем. Мне поручили его перешить к выпускному вечеру.
Надо было перешить, потому что она была беременна.
Оуэн. Оуэноуэн.
Она отдала Оуэну свое физическое тело.
Ребенок от Оуэна.
Погибший в пожаре мальчик, от Оуэна был попыткой Колетты примириться с Мастами. Не знаю, возможно, она попробует вновь поделиться телом. Возможно, с тобой. Возможно, уже поделилась. Чтобы снять проклятие. Она сама часть проклятия, но с другой стороны. Вот что я узнала о Колетте и что должен знать ты, Скотти.
У Роберта Карвера были две дочки. Не одна, а две, розмари умерла а вторая осталась вышла за мужчину по фамилии макгуайр колетта
Колетта единственная живущая родственница розмари карвер
Подожди
Я смогу
Скотт отложил третью страницу, взял трясущимися руками последний желтый лист.
Колетта связана с нашей семьей, а мы с ними. Кровью. Она одержима духом умершей сестры. Его возрождает в каждом следующем поколении история Розмари. Песня. Пьеса. Картина.
Думая об этом, я понимаю, наши семьи связаны этой историей, все мы рабы проклятия отца Розмари. Преследуемые и преследователи бесконечно страдают и сходят с ума. Возможно, ребенок от Оуэна казался Колетте единственным способом снять проклятие, но когда я увидела его в «Бижу», уже начался фильм. Мальчик кричал от боли умер знаю
проклятие не снимешь но она может снова попробовать
Может снова попробовать снова попробовать и никогда не освободится
В конце концов Скотт она вечно голодная Проклятие снять невозможно и мне очень жаль Скотт
Стараюсь и больше ничего не вспомню потому что дают лекарства все расплывается хорошо что лекарства дают каждый день и поэтому можно забыть хотя я никогда не забуду тебя
Люблю тебя, Скотти
Мама
Соня сидела абсолютно неподвижно, вновь перечитывая последние страницы.
— Тогда, перед выпускным балом… Я видела вас вдвоем в окне ее спальни.
— Значит, вот в чем дело. — Скотт взглянул на нее, вспоминая тот день шестнадцать лет назад, когда руки Колетты распахнули на нем рубашку, язык проехался по коже, требовательный и жадный, груди уже начали набухать из-за ребенка, которого они с Оуэном затолкнули в живот. — Она никогда не проявляла ко мне интереса, а в тот день…
И сегодня.
Соня отвернулась. Скотт припомнил заявление Колетты, что матерью Генри была Розмари Карвер, и теперь понял, что это значит. Неупокоившаяся Розмари Карвер в изорванном голубом платье десятки лет жаждет обрести покой, снова и снова пытается любым способом вырваться из цепей проклятия… и терпит поражение за поражением.
В конце концов Скотт она вечно голодная
— Мы должны найти Оуэна, — сказал он и, прежде чем договорил, понял, что есть более срочное дело.
Мы должны найти Генри.
Глава 49
Лавка древностей Эрла была в целости и сохранности. Они шли по притихшим проходам среди старых вещей, затаивших дыхание.
— Папа! — позвала Соня. — Папа… — Остановилась, зажала рот руками. — Ох, боже!
Они обнаружили его, распростертого на полу лицом вниз, по-прежнему в кислородной маске, только трубка была выдернута из баллона. Смерть окончательно иссушила его, сократила остаток, тело стало плоским во всех измерениях, осталась одна одежда, как бы упавшая с вешалки. Где-то шипел кислородный баллон. Соня рухнула рядом с отцом на колени, плечи молча содрогались в рыданиях. Видя ее безмолвный плач, старые вещи, курьезные безделушки, постоянно вращавшиеся в гравитационном поле Эрла Грэма, словно испустили долгий медленный общий сочувственный вздох.
Скотт помчался вверх по лестнице, прыгая через три ступеньки:
— Генри! Генри!
Заглянул в спальни, в ванные, в чуланы, под столы и за двери на случай, если испуганный мальчик где-нибудь спрятался. Вернулся в лавку, поискал под прилавками. Звал и звал его, пока имя не превратилось в бессмысленный звук.
Не получал ответа.
Вернувшись в комнату, нашел Соню на полу на коленях, державшую отца за руку. Лицо ее, белое как мел, было лишено всякого выражения. Никогда в жизни она не выглядела такой потерянной и одинокой, с непреходящим выражением заброшенности в глазах, которые из-за этого казались очень маленькими.
— Он здесь?
Скотт покачал головой.
— Твой отец?..
— Нет, — ответила она тихо, не громче, чем шипение кислорода, сочившегося из баллона, но он хорошо услышал.
— Позвоню в скорую.
— Незачем, — сказала она. — Спешить некуда. Сначала Генри. — И слабо прокашлялась. — Не догадываешься, куда он подевался?
— Да, — сказал он. — Догадываюсь.
Глава 50
Оуэн почти всю ночь бродил по лесу и уже не чувствовал ни одной части тела. Страх развеялся, но холод и онемение усугубились до невыносимости, пока он не пришел к заключению, что здесь ему суждено умереть. Почувствовал при этом только легкое сожаление, что больше никогда не увидит своего мальчика, Генри. Единственное, что имеет значение. Больше жалеть не о чем.
Все началось, когда он скатился с холма в темноте, отчего дух захватило, и ударился головой о камень, громко вскрикнув от боли.
Сидел, потирая затылок. Со временем продолжил путь в ночи, выискивая увиденные раньше огни и не видя. Далеко ли уехал по склону? Чуть не кликнул Реда, потом вспомнил нечто вышедшее из леса — не животное, не человек, что-то совсем другое в человеческой одежде, высокое, неуклюжее, передвигавшееся на длиннющих ходульных ногах. При этом явлении сердце быстрее забилось, тело превратилось в квакающий перкуссионный инструмент, вроде того, что за кулисами изображает гром.
Вспомнил, как дедушка Томми пел и играл на гитаре старческими дрожащими пальцами, будто петь не хотел, а выбора не оставалось, и поэтому он пел про длинного дядьку в черном, который шел за дочерью. Впервые услышав песню, маленький Оуэн испугался, но еще сильнее испугался, что дед повторял ее снова и снова, глубоко вколачивая слова ему в голову. «Учи, — сказал дедушка Томми прокуренным голосом, слабым, несколько женским. — Однажды эта песня станет твоей. Будет принадлежать тебе, а ты ей, раз уж твоя фамилия Маст, поэтому заучи все слова, хорошенько запомни…»
В конце концов Оуэн просто шел, стараясь выбраться на дорогу. Шел, казалось, часами, спотыкался, порой падал в слишком глубоком снегу, заставлял себя встать и идти до последней капли сил. Устал, задохнулся, заблудился, не имея выбора, не имея надежды.
Наконец сел на снег, удобно вместивший тело, приняв на себя его тяжесть без всяких вопросов, будто только того и ждал. Наверно, где-то в мире заранее описана смерть каждого человека, и это описание ждет, когда его откроют. Здесь он нашел свое. Слышал, что замерзшие насмерть как бы засыпают. Можно просто закрыть глаза и растаять. Впервые в жизни он, оглядываясь на свою жизнь, чувствует себя не так плохо. Хорошо бы только иметь при себе клочок бумаги и ручку, оставить Генри записку. Что написал бы? Прости? Будь хорошим мальчиком? Я люблю тебя? Сделал все, что мог? Все это сейчас кажется истинной правдой, но он никогда не трудился говорить правду, когда имел возможность, а ведь это гораздо лучше пьяного жалобного вранья. Хорошо, что нельзя оставить записку, пусть Генри вообще забудет о его существовании.
Глаза привыкли к темноте, и, сидя в снегу, глядя в ночь, Оуэн увидел впереди свет. Слабый желтый свет разливался по снежной равнине, тот же самый, увиденный раньше, и он понял, что это такое.
Дом.
Поднялся, с огромным усилием оторвавшись от снега, направился туда. Не просто к дому, а к расползшейся во все стороны крепости, устремленной вверх и наружу, как бы проевшей дыру в окружающих лесах и землях, разжиревшей сама по себе. Ускорил шаг, оживился от перспективы спасения. Везде горит свет, теперь все отчетливо видно.
Подходя к дому сзади, поскользнулся и понял: то, что прежде казалось поляной, в действительности замерзший пруд. Лед крепкий — не хрустнул, не треснул под ногами, — с голыми пятнами, со сверкающей ониксом полосой вдоль противоположного берега. На другой стороне он взобрался на берег и остановился.
При виде большого пустого дома посреди неизвестности с включенным везде светом страх вернулся, стал еще сильнее.
Но он замерзает. Надо согреться. Если зайти и как-нибудь наладить контакт с внешним миром, вернуться к Генри, убежать из города, вообще из этой части света…
Он как мог быстро зашагал вдоль боковой стены, однако до парадного добирался мучительно долго. Поднялся по занесенной снегом лестнице, видя на ступеньках чьи-то недавние, наполовину запорошенные следы, подошел к двери, даже не постучал — повернул ручку, вошел в дом.
— Эй! — крикнул Оуэн. — Есть кто-нибудь?
Прихожая смотрела на него, открытая, молчаливая, абсолютно застывшая. Он с первого взгляда заметил во всем окружающем что-то неправильное, тошнотворное, как морская болезнь. Прищурился на углы, отыскивая, где кончаются стены и начинаются потолки. Иначе как понять, где ты — в прихожей или в стенном шкафу? Пространство сливалось в расплывчатый, бесформенный, бессмысленный кошмар. Похоже на пьяную галлюцинацию, но он хорошо знаком с пьянством и, даже не ощупав углы, точно знает, что это реальность.
Затворил за собой дверь — щелчок замка разлетелся по всему первому этажу, — огляделся. Даже отсюда можно сказать, что остальной дом огромный, запутанный. Коридоры идут во все стороны, заканчиваются дверями, которые наверняка выходят в дальнейшие коридоры. А это ведь только первый этаж.
Хотя есть что-то странно знакомое. Не был ли он здесь раньше? Давным-давно, в гостях, в компании, или, может быть, делал ремонт?
— Эй! — снова крикнул Оуэн, и возглас прозвучал непривычно, словно самостоятельно завис в воздухе. — Есть здесь кто-нибудь?
Первое интуитивное ощущение, что дом пуст, определенно подтвердилось. Дом как будто поставили тут, ожидая его появления. Он прошел чуть дальше, по-прежнему трясясь в ознобе, удивляясь, что не согревается. Прислушался к бульканью батарей отопления или треску каминов, ничего не услышал. Перед ним была главная лестница с разбросанными на полу у нижней ступеньки листами. Чертежи. Прихожую и коридоры будто воры очистили, отчего они кажутся еще просторнее.
Оуэн замедлил шаг и содрогнулся, необратимо попав в невидимое зловонное облако, такое насыщенное и густое, что в нем было почти теплее, чем в окружающем воздухе. Дверь справа ведет, видно, в столовую, судя по висевшему над ней необычайно яркому и безвкусному бра, но…
Он повернулся к парадной двери. От внезапного ощущения, что за ним что-то движется, очень близко, волосы на голове встали дыбом. Однако ни в прихожей, ни в коридоре, вообще нигде ничего не было, кроме…
Просто ничего.
В течение следующего получаса он бродил по дому, вверх и вниз по лестницам. Дошел до самого третьего этажа, пока окончательно не сдали нервы. Время от времени ноздри улавливали очередную струйку дурного запаха, которая неизменно пролетала мимо и уносилась за пару секунд, будто ею управляла какая-то сложная вычислительная система. В какой-то момент на третьем этаже, прямо перед тем, как спуститься, Оуэн услышал очень тихую старую музыку, доносившуюся из-за какой-то стены, словно поцарапанную граммофонную пластинку заело и музыкальная фраза повторяется снова и снова. Именно тогда он повернул обратно и сошел вниз.
Среди вещей, обнаруженных в верхних комнатах, были коробка со старой одеждой; живописное изображение дома; тоненькая книжка под названием «Рука тьмы», явно изданная за счет автора, его родственника Губерта Госнольда Маста; ящик с детскими игрушками и коробка с камнями. Находки, по отдельности случайные, даже бессмысленные, в совокупности внушали неприятную мысль, что вместе они могут составить то, чего лучше не видеть. Он решил вернуться на первый этаж, захватив с собой книжку. Ему казалось, что он находится тут уже целую вечность. Тьма за окнами, с самого начала густая и плотная, теперь еще потемнела, если это возможно.
Оуэн с хрустом развернул книгу. Отпечатанная на титуле дата — 1860 — превратила автора как минимум в прапрадеда. Или еще старше? Книжка хрупкая, обложка почти развалилась в руках, печать мелкая до головной боли, строчки неуклюже скошены к концу страниц. Перелистывая пожелтевшие страницы, он чувствовал, как печатные листы рассыпаются, дезинтегрируя книгу. Попытался поймать нить рассказа — что-то об отце, разыскивающем дочь, — но стиль был слишком сложным для понимания.
Открыл последнюю страницу и прочитал:
Когда же, наконец, задолго до того, как минула полночь, он успел мельком окинуть взором фигуру девицы, явившуюся из проклятого черного крыла, наипаче губительного во всем запретном доме, источника нескончаемого беспокойства, мужчина осознал, что его ожидание не было тщетным, и даже улыбнулся. Суждено ей или не суждено наложить на него руку тьмы, увидит или нет он свет денницы, определенно известно, что он принужден провести остаток вечности в ее хладных объятиях.
Посему поднялся и спросил:
— Что ты мне уготовила?
Она лишь сверкнула в улыбке зубами, точно кинжалами, причудливо длинными, и он возжелал услышать. Однако взамен сладкого голоса в уши проник мужской — низкий, неведомый, скрежещущий, как песок в мельничных жерновах, с раскатистым и ненасытным смехом. Обернувшись, он увидел
Оуэн снова перечитал страницу. Текст закончился на полуслове. Не похоже, что последние листы вырваны. Рассказ просто оборвался.
Когда он вернулся в прихожую, за спиной неразборчиво забормотал детский голос со стороны предполагаемой столовой. По спине и по ногам до пят протопали коровьи копыта.
— Генри?..
Глухо прозвучали шаги, приближаясь или отдаляясь, не ясно. Оуэн с колотившимся сердцем бросился к источнику шума. Подбежал к двери столовой, окинул одним взглядом комнату — надувной матрас, ноутбук, разбросанные по деревянному полу листы. Схватил один, прочитал набор слов, обомлел.
Точно. Этот дом снял Скотт.
Увидел в своей руке найденную наверху книжку, посмотрел на страницы и на ноутбук. Наконец, перевел взгляд на дверь в углу и замер. Дверь углового стенного шкафа широко распахнута. За ней видна неровная дыра, пробитая в штукатурке, а дальше — черный коридор.
Он изо всех сил всмотрелся.
Там что-то есть.
Там что-то дышит.
— Генри? — спросил он, подходя ближе. — Это ты? — Бессознательно слегка отдернул голову, вскинул обе руки, ожидая удара. — Это папа. Я не сумасшедший. Если ты здесь, то просто покажись, ладно?
Ничто не шевельнулось.
Приближаясь, он понимал, что по ту сторону простирается безумно глубокое пространство. Это не просто дыра в стене, а потайное помещение, возможно, даже целая спрятанная прихожая. Куплеты песни слишком быстро прокручивались в голове, что-то там про девочку в голубом.
— Генри! Я тебя люблю. Папа тебя не бросит.
— Папочка? — раздался голосок изнутри.
— Иду, — сказал Оуэн. — Сейчас.
И влез в дыру.
Глава 51
Не так легко вернуться в лес. Снегопад продолжался, дороги стали еще хуже.
Остановились на обочине, и Соня собралась вылезать из машины.
— Куда ты? — спросил Скотт.
— Я с тобой.
Он затряс головой:
— Нет. Не надо.
— Послушай…
Он ткнул пальцем в желтые официальные бумаги, лежавшие между передними сиденьями.
— Ты прочитала. Проклятие на моей семье. Тебя не касается.
Соня перевела на него красные глаза.
— Этот дух, призрак, называй как хочешь, вошел в наш дом, убил моего отца.
— Ничего не поделаешь. Проклятие нерушимо.
— Если дело безнадежное, зачем вообще беспокоиться?
— Ради Генри.
— Ты увяз по уши в этой истории, — безнадежно и одновременно сердито заключила Соня. — И кончишь точно так же, как твой отец, дед, внучатный дядя и прочие идиоты из вашей семьи. Если я пойду с тобой, может быть…
— Поздно.
— Тогда шерифу позвоню. Он приедет.
— Это уже значения не имеет.
Соня посмотрела в сторону дома.
— Ты даже не знаешь, что она там.
Скотт всмотрелся в лес.
— Она там, — сказал он.
Глава 52
Тихо похрустывали шаги, женщина вынесла из леса мальчика. С низкого серого неба лился дневной свет. Мальчик, закутанный в одеяло, в толстых вязаных варежках, теплых ботинках, больше не боялся.
Он был с матерью.
По дороге из дома Эрла она все ему рассказала с готовностью, с непринужденной материнской любовью, открыто радуясь общению с сыном. Сидя на заднем сиденье ее машины, Генри слушал сначала с испугом, потом с недоверием, потом с благоговейным страхом перед чудесами. Теперь последние сомнения испарились, как озноб после горячей ванны. Она вытащила из сумочки его младенческую фотографию, призналась, что издали наблюдала, как он растет, и любила.
— Почему тебя со мной сразу не было? — спросил он.
— Я тогда была не я. Понимаешь?
Он помотал головой.
— Та, кем я была, не приготовилась к материнству. Она уже потеряла маленького мальчика. Думала, что готова к другому, и ошиблась.
— А теперь ты другая?
Колетта сверкнула ярчайшей алмазной улыбкой.
— Абсолютно.
Она объяснила, что отныне они заживут другой жизнью, втроем — она, Генри и Оуэн, — и начнут все сначала. Повинилась, что долго скрывала от него правду, теперь хочет поправить дело.
Увидев поляну, мальчик вдруг махнул рукой и спросил:
— Это что?
— Это? — улыбнулась Колетта. — Наш новый дом, милый.
Генри склонил голову набок.
— Плохой.
— Идеальный.
— Мне не нравится.
— Почему?
— Он неправильный.
Мальчик отвернулся. Она его отпустила, позволила идти по снегу, дотянулась и чмокнула в щеку.
— Заходи, сладенький. Нас там кто-то ждет.
Генри чуть просветлел.
— Мой папа?
— Нет. Мой, — ответила Колетта.
Он почуял гнилой кислый запах в воздухе и посмотрел на маму. Она выглядела иначе. Ворот свитера разорван острыми когтями до пояса, на груди красные злые царапины, словно ее драл какой-нибудь дикий зверь, только царапины свежие, на расстоянии в палец одна от другой. Лицо уже не доброе, не терпеливое, а бесцветное, изголодавшееся по всему, что нужно человеку. На нем кипела боль, мышцы дергались.
— Мам, что с тобой?
— Ничего. — Она мрачно на него взглянула. — Просто устала. — Глаза наполнились слезами.
Почему-то за это он полюбил ее еще больше. Всем сердцем хотел найти слова утешения, но как-то понимал, что ее проблемы, какими бы они ни были, неподъемные, нагромоздившиеся друг на друга, как стоявший перед ними обоими черный город — проклятый город. Одновременно необъяснимо понял, что их с мамой обоих поймал в ловушку ее отец, человек и не человек, который ждет их в доме.
— Можем убежать, — сказал Генри.
Она стиснула его так крепко, что он задохнулся. В калейдоскопе эмоций смешались боль, любовь, страх, складываясь в неразборчивые узоры. Крошечная частичка боли соскользнула с ее лица, и под ней он увидел женщину, которая среди ночи пришла забрать его из дома.
— Куда? — прошептала она.
— В Мексику. Возьмем с собой моего папу, вместе убежим. Твой нас там не найдет. Все будет хорошо.
— Ох, милый…
Он почувствовал, как она затрясла головой, они вновь побрели по глубокому снегу. Генри не знал, что еще сказать. Очень хочется быть с ней, только кажется, будто она пришла за ним оттого, что боится, не знает, что дальше. Иногда так бывает и с папой, и это жутко страшно, потому что тогда никто ни за что не отвечает. Помнится, как отец беспомощно на него смотрит из-за огромной груды пустых пивных банок, а самое худшее, когда на свете нет ни родителя, ни защитника, ни капитана корабля. Вместо этого они слепо и неуправляемо плывут в бурном шторме. В самые плохие моменты Генри понимает, что так и дальше пойдет его жизнь.
Она внесла его в дом на руках.
Глава 53
Оуэн видел за углом язычки пламени, неясное оранжевое сияние, бросавшее неуверенные колеблющиеся тени, скользившие вверх и вниз по всей длине коридора. Слышался и запах — едкая вонь дыма, угля и раскаленного железа накапливалась в проходе, но почти не вселяла страха. Если даже что-то горит, будет, по крайней мере, теплее.
Завернув за угол, он помедлил, заглянул в полуоткрытую щитовую дверь расположенной впереди комнаты. Там было нечто вроде подземного амбара с перегородками до половины стены, делившими пространство с обеих сторон на отдельные ячейки. Прямо перед глазами старомодная пузатая печурка присела, раскорячившись, как толстяк с открытой раной, глазея на него топкой. Кто-то развел пламеневший огонь, и Оуэн просто стоял, загипнотизированный горящими углями. Не слышал голоса, который призывал его раньше, не видел никаких следов ребенка, назвавшего его папочкой.
— Генри!
Он подошел ближе к печке, но жар от нее шел совсем слабый, создавал иллюзию тепла — не столько жар, сколько влажное дыхание, овевавшее кожу.
Потом на глаза попался верстак.
Нет, не просто верстак. Оуэн в жизни не видел ничего подобного, разве в детстве в фильмах ужасов, которые теперь не может смотреть. Пилы, молотки, сверла, ломы и топоры, тесаки, отвертки, десятки разнообразных зажимов, на деревянных колышках висят мотки толстой веревки, задубевшей от крови. На почетном месте огромные зазубренные ножницы, бритвы длиной в фут с зубцами, похожие на жвалы гигантского насекомого. На полу ведро с водой, где вымачиваются кожаные кнуты, свисая как плети черного вьющегося растения. Острые железные колья, отполированные стальные крючья рядом с многочисленными рукодельными масками из кожи, в которые вбиты десятки гвоздей острием внутрь. Маленькие металлические тиски для рук с зажимами и винтами для раздробления мышц и костей аккуратно расставлены в ряд. Дальше лист фанеры с хомутами из сыромятной кожи и вытяжными сменными кандалами.
Угли встрепенулись — в помещение кто-то вошел.
Оуэн медленно оглянулся, сделал шаг назад, упал на полу, понижавшемся на шесть дюймов. Нечто вынырнуло на свет, и он сразу одним взглядом охватил массивную бычью фигуру, голую, кроме запятнанного кожаного мясницкого фартука, с блестевшими от пота широкими плечами, ляжками и ягодицами. Тело покрыто густыми курчавыми волосами вроде звериной шерсти. Он чуть не проглотил язык, прилипший к нёбу, впал в ступор от страшного, ядовитого, лишившего разума ужаса. Все прочие черты мужского лица затмевали красновато-желтые глаза, горевшие гораздо ярче печки. Можно было бы поклясться, что их огонь зеркально отражается в длинных зубах.
— Что за черт… — пробормотал он.
Рука, огромная, как множество рук, схватила его за запястье, дернула, свалила с ног. Оуэн влетел в ячейку за перегородкой, упал лицом в подстилку из гнилой соломы. В ногу впилось что-то острое. Посмотрев, он увидел длинное желтовато-белое человеческое ребро с прилипшим лоскутом материи и отшатнулся. Нечто нависало над ним, обожженное лицо скалилось в беззвучном смехе, который как-то совпадал с мерцанием углей в печурке. Огонь насмехался над Оуэном. Нечто в кожаном фартуке насмехалось над ним. Полезло под фартук, вытащило длинный зазубренный нож с расщепленным на два колючих крючка кончиком, перевернуло, взяло за ручку, протянуло ему.
Он его принял.
Нечто вскинуло руку в насмешливом благословении.
Он поднес лезвие к собственному горлу под подбородком без всяких колебаний, с облегчением выполняя требование, которое положит конец всяким страхам. В ужасе, смятении и безумии понял, что это единственное, что от него сейчас ожидается.
Полоснул, зубцы без усилия врезались в кожу, хлестнули пощечиной, пробудили от чар. Он скорчился, опустил руку, выронил нож. Из пореза сочилась кровь, он зажал рану, длинную, но неглубокую, хотя кровь текла сквозь пальцы и капала на пол.
Все это время голый великан в кожаном фартуке стоял и дико хохотал. Теперь понятно: это лик семейных страданий, длинный дядька в черном из песни дедушки Томми, долгие годы уничтожавший семью и явившийся уничтожить его, как давно запланировал.
Потом, где-то за гранью сознания, Оуэн увидел, что гигантская фигура выпрямилась и оглянулась направо.
Он тоже оглянулся.
В другом конце в печном свете маячили тени. Девочка в изорванном голубом платье держала за руку стоявшего рядом мальчика. Его сына, Генри. Оуэн присмотрелся, стараясь сосредоточить умирающее алкогольное сознание на деталях, какими бы они ни были невероятными.
Девочка, державшая за руку его сына, была Колеттой Макгуайр.
— Папа, — проворковала она.
Гигант у верстака начал медленно поворачиваться к ней лицом, ухмылка растянулась под острыми углами, руки протянулись, как бы приглашая на танец. Прозвучал голос не человека и не животного, никогда в жизни не слышанный, — что-то среднее между грохотом булыжников и ревом мула.
Схватившись левой рукой за горло, крепко зажав ножевую рану, Оуэн уперся правым локтем в перегородку и поднялся на ноги. Нечто, стоявшее перед ним, исчезло. Выглянув из ячейки, он увидел, что оно вернулось к верстаку рядом с печкой и что-то ворочает там инструментами.
«Генри», — хотел сказать он и смог только шепнуть из-за невыносимой боли. Горло превратилось в сточный желоб скотобойни, залитый кровью. Можно только взмахнуть ножом, полученным от твари, вонзить его в отсыревшую, пропитанную кровью деревянную стенку, чтобы привлечь всеобщее внимание. Раздался тишайший удар, даже не настоящий удар, а тупая боль, пробежавшая по руке к солнечному сплетению, одним разом выключив сознание. В голове абсолютно индифферентно промелькнуло подсознательное понимание, что лучше было бы просто умереть в лесу и не стараться снова увидеть сына.
Оуэн свалился в вонючее сено и позволил себе закрыть глаза.
Глава 54
Скотт без колебаний ворвался в парадное, пробежал через прихожую, помчался по коридору, и собственный топот догнал его в дверях столовой. На полу перед надувным матрасом валялась какая-то старая книжка. Он прочел на обложке: Г. Г. Маст «Рука тьмы». Ничто его не удивило и не осенило. Маст-старший питал страсть не к одним убийствам. Его влекло к искусству; проклятие Роберта Карвера вылилось в такую форму из-за стремления предка не только к преступной жестокости, но и к творчеству и на десятилетия распростерло тень, накрывшую семью. Теперь ясно. Бег по лесу придал сил и прочистил мозги.
Все это не имеет ни малейшего смысла. Сам знаешь. Сам сказал: это никогда не кончится.
Истинная правда.
Тогда что можно изменить?
На вопрос нет ответа. Ответ в данный момент и не нужен. Уже чувствуется, как в доме сгущается вредоносная туча, в воздухе увеличивается содержание озона, он набирает силу до точки взрыва, который снесет крышу мира. Откуда-то пахнет кровью.
Скотт нырнул в пробитую им дыру в стене, втиснул плечи, заполз… уже не в черноту, а в непонятный вкрадчивый оранжевый свет.
Вспомнил про печурку.
Ее кто-то разжег.
Нет, не кто-то.
Нечто.
Карвер.
Он шел по темному коридору, по узкому крылу, уходящему в бесконечность, в бездушное забвение. Шел и шел, думая о двух названиях: «Рука тьмы» и «Рука помощи». О своих израненных руках. Что такое рука, как не крыло в своем роде, протягивающееся, чтобы обнять, схватить, стиснуть и удушить? Он уже через это прошел, как отец, дед и прадед. Будет время и место, где он все это предложит к обмену, возможно не получив взамен ничего. Нет смысла раздумывать сейчас о том, что было бы, если бы он не нашел отцовскую рукопись, не попытался закончить рассказ, если б все, что при этом проснулось, оставалось спящим. Теперь уже все равно. Свет компьютерного монитора оживил Карверов, его многочасовые труды, вложенные, как казалось, в рассказ, фактически влились в них, напитали живой кровью автора, пока они не сумели восстать и начать питаться самостоятельно.
Повернув за угол, Скотт увидел, что там, за углом, и застыл.
Перед ним Колетта Макгуайр в обтрепанном голубом платье вроде рабского рубища склонилась над маленькой, лежавшей ничком фигуркой Генри Маста. Первую мысль о том, что она успела убить мальчика, через мгновение затмило явление громоздившейся рядом темной гигантской фигуры в запятнанном кожаном фартуке, который он в прошлый раз видел висевшим у печки. Кроме фартука, на фигуре ничего не было, только острая коса криво висела перед лицом, и он с содроганием понял, что это на самом деле ухмылка.
Нечто с косой улыбкой шагнуло вперед и протянуло к мальчику руки.
— Нет, — сказал Скотт.
Голова Колетты вздернулась, явив бледное лицо Розмари Карвер.
— Скотт? Не надо было тебе приходить.
Фигура Роберта Карвера ярче высветилась в пламени печи, он в тот же миг расстегнул кожаный фартук, обнажил торс, и Скотт увидел не тело, а десятки маленьких тел, свитых в ковер. Физическое воплощение Карвера состояло из всех погибших здесь жертв, замученных женщин и детей, страдавших в руках прапрадеда Скотта. Они цеплялись друг за друга, сплетясь телами под ледяной кожей в кольца, как змеи. Разбитые головы образовали плечи, множество переломанных костей составило шишковатые руки и ноги.
Жертвы Г. Г. Маста потянулись к Генри как единое целое. Мальчик изумленно смотрел, парализованный, но в полном сознании и в полном ужасе.
Скотт шагнул вперед, чтобы как-то защитить племянника, однако подходящий момент пришел и прошел. В ошеломлении он его упустил. Карвер схватил его за руку, Скотт ощутил сальные пряди спутанных женских волос, связывающие другие тела вроде рыбацкой сети или силков, и с силой вырвался. Из уст Карвера хлынули голоса, вопли, рев, крики. Он одним взмахом отшвырнул Скотта в сторону, столкнув с Колеттой, и они оба рухнули на грязный пол.
Сознание пыталось вместить происходящее, а оно не вмещалось. Значит, вот что было с отцом, когда он бежал отсюда сломя голову к своей машине, мчался по дороге, где в конце концов погиб. Рядом на полу Колетта старалась прочесть в его глазах невысказанный вопрос и прочла с безнадежным отчаянием. Она только сосуд для неугасимого гнева отца Розмари, точно так же, как Скотт — его цель. Ни у нее, ни у него выхода нет и не будет.
Трупы, составлявшие тело Карвера, наклонились. Скотт увидел, как они подняли крышку люка, которую он открывал раньше, и принялись заталкивать туда мальчика.
Труба, вспомнил он. Труба идет вниз и выходит в пруд…
Кажется, Генри наконец стряхнул с себя оцепенение, начал сопротивляться, бороться с чудовищной тварью, но его руки скользили по сплетенным телам. Он завизжал, Карвер набросился на него со всей силой мстительной смерти. Мальчик разразился слезами. Колетта метнулась к нему, Скотт за ней. Карвер занес огромную руку, сплетенную из трупов…
Что-то мелькнуло в оранжевом свете, рука упала на пол.
Скотт вытаращил глаза.
Это был Оуэн.
Глава 55
Скотт наблюдал, как брат, пошатываясь, выбирается из стойла, в одной руке держа нож, другой зажав горло. У него как бы выросла кровавая борода, но особенно поражала не рана на горле, а что-то иное. Еще сильнее потрясло выражение глаз и окаменевшая, скрепленная заклепками маска мрачной решимости разобраться до конца со стоявшей перед ним задачей.
Не взглянув на Скотта и Колетту, он ринулся вперед, глубоко вонзил нож в бок Карвера, рванул лезвие вниз. Из разреза вывалились тела, упали на пол — две женщины в лохмотьях и третья, присевшая на корточки с мертвым младенцем на руках, шипевшая, как испуганная кошка. Неустойчивая, наполовину срезанная гора тел, оставшихся внутри, наклонилась, потянулась, и Оуэн вновь замахнулся, ударив ножом в лицо.
Карвер покачнулся назад и упал. Одни отделившиеся тела торопились вернуться на место, другие лежали там, куда упали, злобно глядя из какой-то невообразимой дали. Лицо Карвера насмехалось над Скоттом. Он знал что-то, какую-то тайну, которую хранит полтораста лет, — предрешенный результат сражения.
По-прежнему сжимая нож, Оуэн булькнул горлом, кровь запузырилась между пальцами. Он выронил оружие, упал на колени рядом с сыном, обнял, и Генри обхватил отца руками. Оуэн вновь схватил нож, отрезал клок рубашки, обмотал шею.
— Постой… — сказала Колетта, протянув к Генри руки, и Скотт увидел, как на ее лице знакомые черты борются с голодными, выцветшими чертами Розмари Карвер. — Мое дитя…
Оуэн открыл рот, закрыл, махнул рукой Скотту:
— Беги. Убирайся отсюда. Беги.
Скотт тряхнул головой:
— Больше не побегу.
Колетта с воплем кинулась к мальчику. Скотт схватил ее за руку. Развернувшись на месте, она попала в открытую дверцу люка, и он секунду держал ее на весу, успев заметить, что лицо снова стало знакомым, осознание происходящего сгладило черты, застывшие в безнадежном отчаянии.
Потом она полетела вниз.
Глава 56
Хохот Карвера задребезжал в крыле прерывистым кашлем, эхом отражаясь в глотках жертв, погружавшихся в тень, и весь дом содрогался, вроде гигантских легких астматика. Надвигавшаяся слепота душила Скотта, как туча. Огонь в печке погас, но это не имело значения — уже почти не на что было смотреть. Тела уходили в стены, смешивались с землей и деревом, возвращались туда, откуда пришли. Но горящие глаза все смотрели на Скотта, впиваясь в него гвоздями.
Оуэн с колоссальным страдальческим усилием сумел взять сына на руки. Нож, забытый, валялся в соломе. Он сгорбился, держа Генри, оглянулся на люк, куда упала Колетта. Лицо просветлело, разгладилось, стало одновременно детским и старческим.
Скотт распрямился, посмотрел на брата.
— Пойдем?
Тот не ответил. Снаружи слышались приближавшиеся мужские голоса, лай собак. В голове у Скотта вихрем летели смутные тревожные мысли, и, услышав финальный взрыв смеха в крыле, он внезапно все ясно увидел. Увидел, что Оуэн выпустил сына и взялся за нож.
— Хватит, — сказал он. — Пошли.
— Она тоже попала в ловушку, как мы. — Оуэн все смотрел на люк. — Она не виновата.
— Знаю, — сказал Скотт. — Но…
— Возьми Генри. Уходите отсюда.
Скотт не успел ответить, как брат нырнул в люк.
Глава 57
Оуэн чувствовал острую боль, пронзавшую его со всех сторон, — воздуха нет.
Он скользил вниз внутри шероховатой металлической трубы не намного больше его тела, увлекаемый силой тяжести и сверканием льда. Неровная поверхность срывала с него одежду и кожу, остатки еще не слетевшего заплесневелого мусора и царапала кости. Вдруг труба кончилась. Захваченный с собой нож исчез. Он медленно развернулся в удушающей черноте и очутился в сером безвоздушном пространстве.
Под водой.
В пруду.
Запрокинул голову — лицо начинало неметь, вода обожгла глаза. Полупрозрачный слой льда образовал потолок его мира. В глухом сером свете он увидел мелькающие над ним смутные тени — бесшумно пробегавшие ноги, длинные туловища собак, слышал слабые, тающие голоса.
В щиколотку вцепились пальцы.
Он глянул вниз. На него смотрела Колетта с плавающими вокруг лица волосами. Он согнул ногу, таща ее вверх. Она качнула головой, пуская пузыри изо рта и носа.
Времени не осталось. Он схватил ее за руку, толкнулся к ледяной корке, ударил плечом. Все равно что биться в бетонную стену. Ударил еще раз. Адреналин вскипел в организме, не принося ничего хорошего. Оуэн перевернулся вниз головой, ударил ногами и лишь глубже ушел в воду. Нет точки опоры. Колетта смотрела на него, качая головой, открывая и закрывая рот, пуская пузыри, уже слабее.
Она не виновата.
Он подплыл под лед, ударил головой изо всех оставшихся сил. Что-то треснуло — лед, кость или то и другое. Откололся кусок блеклого неба, упал на него. Слава богу. Все слилось в бледно-серые оттенки, а когда взгляд опять сфокусировался, вода вокруг головы затуманилась красным. Он понял, что видит это благодаря дневному свету, просочившемуся в воду, и очень хорошо, потому что…
Оуэн слепо барахтался в алой мути, ища руку Колетты. Она протянула ее, и он себе сказал, может, еще получится. Надо только ее вытолкнуть в пробитую дыру.
Это будет нетрудно.
Но его вдруг охватил страшный холод внутри и снаружи. Легкие наполнялись не воздухом. Навалилось густое, плотное, тяжелое равнодушие. Наверху в дымном свете в пробоине бились ноги Колетты, старавшейся вырваться на свободу. Когда она исчезла на поверхности, одна нога зацепилась, с нее слетела туфля.
Он подо льдом наблюдал за падением туфли и понял, что начал тонуть.
Его объяла тьма. Тяжесть в груди исчезла, боли больше не было.
Вообще ничего не было.
Вся тяжесть, боль, усталость, страхи, броней окружавшие его взрослую жизнь, испарились, сменившись ощущением глубокого покоя.
В двадцати футах под замерзшей поверхностью пруда Оуэн Маст умер с улыбкой.
Глава 58
Женщина за стеклом смотрела на мужчину и мальчика. Вопрос на лице повторился на листе бумаги, который она держала обеими руками:
Я вас знаю?
Мужчина кивнул.
— Я твой сын. — Он поднял мальчика. — А это твой внук Генри.
Фиалковые глаза вспыхнули, просияли, она одними губами медленно повторила слово, словно боясь, что оно вылетит и не вернется. Вздернула подбородок, подняла карандаш, написала:
Внук?
— Да, — вымолвил он хриплым, дрогнувшим голосом. — Мы пришли забрать тебя отсюда, мам.
Внимательное выражение на лице смешалось с пониманием и узнаванием. Рука снова потянулась к карандашу.
Тебя зовут Скотт
— Правильно, — сказал он.
Помню другого мальчика. Оуэн?
— Мне очень жаль, — сказал Скотт. — Он умер.
Она заморгала, открыла рот, закрыла, крепко стиснула губы.
— Погиб, спасая мать Генри, Колетту Макгуайр.
На лице Элинор Маст вспыхнул неописуемый ужас, будто внутри ее прорвало плотину. Карандаш рывками побежал по странице, царапая слова, хлынувшие на лист потоком, так что Скотт не мог ничего разобрать, пока она не прижала бумагу к стеклу.
Проклятие не снято… живет вместе с ней… всегда с нами… живет в ней… нет надежды… дом в лесу… черное крыло… без окон… без дверей… живет в рассказах…
— Все в порядке. — Он просунул руку в узкую щель, дотронулся до матери, нежно удержал ее за руку, пока она не перестала писать, глядя на него полными слез глазами. — По-моему, все будет хорошо.
Вспомнил, как нынче утром крыло замолчало, нечеловеческий хохот внезапно заглох. Все просто прекратилось. Он взглянул в ближний угол, где стены сошлись с потолком под четким углом.
Они с Генри вернулись в дом через лес. Рукопись лежала на полу точно на том месте, где он ее оставил. Скотт взял ее, свой ноутбук, картину, книжку, найденную наверху Оуэном, старую афишу спектакля по пьесе, написанной дедушкой Томом. Не обменявшись ни словом, они с Генри все это вынесли из дома, свалили на землю, облили бензином и сожгли, пока ничего не осталось, кроме дыма и пепла. Помнится, дым в безветренный день шел прямо в небо. Потом уехали, не говоря ни слова.
— Ты скоро выйдешь отсюда, — сказал он. — Я хочу, чтобы ты отправилась домой со мной и с Генри. Тебе нечего больше бояться.
Рука Элинор дернулась на странице.
Не смогу больше жить в этом городе
— Я и не говорю, — сказал Скотт. — Я имею в виду Сиэтл. На другом конце страны. Если согласишься попробовать.
Мать потянулась за карандашом, положила, посмотрела на него. Скотт обнял Генри за плечи, чувствуя, как мальчик вытянулся, напрягся, насторожился, видя, как губы бабушки складываются в осторожную улыбку. Голос прозвучал хрипло, ржаво от недостатка практики, но он сразу его узнал.
— Попробую, — сказала она.
Они вернулись в Милберн, проехав по пути мимо «Бижу». Скотт взглянул на Соню и понял, о чем она думает. Колетта забаррикадировалась в доме с того самого дня, когда ее вытащили из-подо льда, предпочитая принимать визиты шерифа, разнообразных медицинских работников, психиатров и прочих. Он ее видел только на похоронах, которые с тех пор прошли трижды — Оуэна, Эрла Грэма и мужа Колетты. Каждый раз ее сопровождал молчаливый адвокат из Нью-Йорка и Лонни Митчелл. Позже Скотт спросил шерифа, предъявят ли ей какие-нибудь обвинения в связи со смертью Эрла, и Митчелл, устремив на него долгий твердый взгляд, кивнул на юриста в длинном пальто.
— Знаете, что это значит? — буркнул он. — Это значит не спрашивайте.
Поэтому Скотт не стал спрашивать. С него и так довольно — надо подписать судебные документы об освобождении матери, устроить Генри в школу в Сиэтле. И еще одно дело встало, когда Соня вышла из его машины перед лавкой древностей Эрла Грэма и вопросительно оглянулась. Хотя никто из них ничего не сказал, Скотт знал, что следующее его слово будет иметь решающее значение.
— Что теперь будешь делать?
— Я? — Она пожала плечами, между ними проплыло облачко ее дыхания, как призрак невысказанных слов. — Одно точно — уеду из этого города.
— Есть конкретные планы?
— Слышно, на Западе хорошо.
— У нас есть хорошие юридические школы, — сказал он.
Соня улыбнулась.
— Ты будешь очень занят. Привык жить один, а теперь Генри, мать плюс работа…
Скотт кивнул:
— Похоже, помощь понадобится.
— Не знаю, с чего начать.
— Я не так беспокоюсь о Генри, но мама… не скоро почувствует себя в безопасности. Захочет получить ответы. Я, конечно, постараюсь, только лучше бы ты была рядом.
Она, кажется, поняла. Точно ли поняла или нет, невозможно сказать, но потом будет время все выяснить, будет время для матери и для ее вопросов. Ей когда-нибудь кто-то расскажет историю целиком. Если правильно выбрать время, может быть, даже он сам.
Пусть их семье никогда не хватало окон и дверей, в ней всегда будут истории.
Благодарность
Работа над этой книгой заняла необычайно долгий период моей творческой жизни, требуя бесконечной переписки. Идут годы, а мои дети все еще рисуют на обратной стороне старых черновиков.
Поэтому я глубоко благодарен всем, кто сидел над ней ночами, помогая обрести силу, голос и цель: Марку Генри, Мэтту Уору, Дону Лавентоллу, моей жене Кристине Арндт, которые читали первые наброски, давали ценные советы, подбадривали и поддерживали, когда рукопись еще носила название «Черное крыло». В этот список может включить себя любой, кто видел ранние варианты, в том числе разрозненные страницы, летавшие по моей улице в моменты переработки.
У моего агента Филлис Вестберг всегда имелось наготове доброе слово, даже если очередной представленный вариант радикально отличался от предыдущего. Спасибо, Филлис.
Кит Клейтон, мой прежний редактор в издательстве «Баллантин», часами беседовал со мной по телефону и посылал бесчисленные электронные сообщения, выясняя, что я хочу сказать и сделать, и помогая сделать это наилучшим образом.
Новый редактор, интеллектуал Марк Тавани, с самого начала следил за моей работой и в нужный момент по первому слову взял дело в свои руки.
Как всегда, я безгранично благодарен своим ближайшим родственникам, любовь и понимание которых постоянно освещают извилистый лабиринт моей жизни.
Примечания
1
Около +35 градусов по Цельсию. (Здесь и далее примеч. пер.)
(обратно)2
«Маргарита» — коктейль из текилы, сока лимона или лайма, ликера и измельченного льда.
(обратно)3
«Рэндом Хаус» — одно из крупнейших мировых издательств, выпускающее литературу по разным направлениям.
(обратно)4
Листинг — договор агента с клиентом о продаже и покупке недвижимости.
(обратно)5
+15,6 градуса по Цельсию.
(обратно)6
Чалупа — лепешка с острой начинкой.
(обратно)7
Великая депрессия — промышленный и финансовый кризис, начавшийся в 1929 г.
(обратно)8
Около 0 градусов по Цельсию.
(обратно)9
Ки-Бискейн — фешенебельный курорт на юге штата Флорида.
(обратно)10
Гражданская война в США шла с 1861 по 1865 г.
(обратно)11
Около –7 градусов по Цельсию.
(обратно)12
Серотонин — производное одной из аминокислот, регулирующее многие формы поведения, сна и пр.; в обиходе называется «гормоном радости».
(обратно)13
Опра Уинфри (р. 1954) — популярная ведущая телевизионных шоу, инициировавшая создание общенациональной базы данных о лицах, подвергавших детей сексуальному насилию.
(обратно)14
Квотербек — главный игрок нападения в американском футболе.
(обратно)15
Фрост Роберт Ли (1874–1963) — патриарх американской поэзии, «певец Новой Англии».
(обратно)16
Чашка Петри — неглубокий круглый прозрачный сосуд с плоской крышкой для выращивания микроорганизмов.
(обратно)17
Диллинджер Джон (1902–1934) — знаменитый преступник, объявленный ФБР «врагом общества номер один».
(обратно)

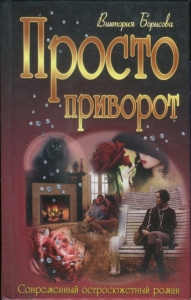

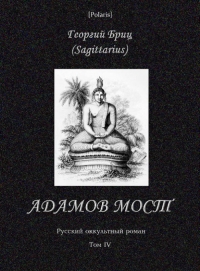





Комментарии к книге «Без окон, без дверей», Джо Шрайбер
Всего 0 комментариев