Вергилия Коулл Белые волки Часть 2 Эльза
Цирховия Двадцать восемь лет со дня затмения
"Пресвятой светлый бог…"
Теперь Алекс просыпался с одной и той же мыслью. Он открывал глаза и видел лицо любимой женщины. Ее точеный профиль хорошо просматривался на фоне светлого окна. Чистый лоб, аккуратный носик, приоткрытые губы, словно манящие для поцелуев. Она делила с ним постель: всю ночь, наяву, так, как раньше ему лишь мечталось. Она принадлежала только ему. Его рука под одеялом обвивала ее талию, согнутая в колене нога — придавливала ее бедра. От соприкосновения с ее телом у него стоял член, да так, что на коже оставалась смазка из-за перевозбуждения.
Но вместо того, чтобы целовать Эльзу в продолжение своих фантазий, подрагивающей рукой Алекс тянулся под подушку, вынимал зеркальце и подносил к этим прекрасным розовым губам. А потом несколько секунд сам находился между жизнью и смертью, ожидая, пока ровную холодную поверхность не затуманит легкое облачко — доказательство, что внутри нее еще теплится жизнь.
"Пресвятой светлый бог, я так ненавижу тебя…"
Нет ничего хуже, чем быть привязанным к той, кого ты видишь, но не можешь обрести. Его волк скулил ночами, пытаясь достучаться до ее волчицы, но та оставалась нема. Алекс и сам, подолгу не в силах уснуть, разговаривал с Эльзой, звал, испытывая порой глухое чувство безнадежности и пустоты, а она лежала и смотрела черными мертвыми глазами в потолок.
"Пресвятой светлый бог, я так ненавижу тебя, что хочу убить…"
Он готовил для нее еду в слабой надежде, что соблазнительные запахи пробудят что-то в ее голове, а следом — и ее саму. Но ни ароматный горячий кофе, ни истекающий жиром поджаристый бекон, ни шоколадная паста, намазанная на свежую булку, не могли ему помочь. Он смачивал губы Эльзы своей кровью, рассчитывая заинтересовать голодную тьму, поработившую ее. Но бурые пятнышки засыхали на нежной коже без какого-либо результата. Он попробовал ее поцеловать. Один раз, коротко и недолго. И не выдержал прикосновения к ледяному неподвижному рту.
Ее нагота, прекрасная и совершенная, резала ему глаза. Алекса сводила с ума сама мысль, что вот там, под одеялами, Эльза лежит совершенно голая, как будто выставленная напоказ. Он порылся в вещах, оставшихся от матери, и принес длинную ночную сорочку. С трудом приподняв безвольное тело, облачил в нее Эльзу, уложил аккуратно на подушки. Скользнул руками по бедрам, натягивая ткань ниже, до самых колен. Одежда была больше на несколько размеров, Алекс решил поправить горловину, поймал взглядом собственные ладони, ласкающие кружева на груди — чуть пониже выреза, прямо поверх упругих полушарий — и с недовольной миной отдернул их.
— Гребаный извращенец.
"…хочу убить, если б только людям было по силам убивать богов…"
Потом он ехал на работу. Сидел в кабинете, просматривал бумаги, выслушивал доклады. Затем — посещал несколько точек в городе, встречался с информаторами. Всем им Алекс давал лишь одно задание: ему нужен белый волк, который ушел жить к свободному народу. Мужчина с серебристыми глазами и гладким лицом, вряд ли такому легко раствориться среди сброда и отребья. Но пока что в ответ ему лишь пожимали плечами и качали головами: и правда, раствориться нелегко, значит, такого человека среди свободного народа попросту нет. И про маленькую девочку, которая, возможно, потеряла и ищет родителей, никто не слыхал тоже.
"…если б только людям было по силам убивать богов. Но мне такое не по силам…"
Вечером, уже под покровом темноты, Алекс отправлялся в один и тот же богатый особняк. Даже когда остальные дома казались погруженными в сон, в окнах этого продолжал ярко гореть свет, а веселая музыка навязчиво липла в уши. Молчаливый и безупречно вышколенный слуга провожал Алекса в просторный зал, где в кресле, закинув ногу на ногу, сидела хозяйка. Ее волосы всегда были уложены в красивую прическу, бархатное домашнее платье с глубоким декольте облегало роскошную фигуру, и даже в такой, вроде бы, приватной обстановке в образе неизменно присутствовали украшения и макияж. Гостя усаживали в соседнее кресло, предлагали еду и напитки, но он отказывался, стараясь скорее перейти к главному.
Северина — а это была именно она — сидела, потягивая сладкое вино, и выглядела недовольной. В первый раз, когда Алекс появился в гостях, на расстеленном посреди зала ковре боролись двое мужчин. Их тела, щедро обмазанные маслом и золотой краской и лишенные какой-либо одежды, блестели на свету, руки и ноги переплелись, в воздухе пахло потом и благовониями, но хозяйка откровенно скучала. В другой раз это были мужчина и женщина, а потом — две женщины, но эффект оставался примерно тем же.
Поначалу Алекс даже решил уточнить, не связано ли такое настроение с нежеланием его видеть? Но Северина вдруг преобразилась. Она потянулась и крепко обняла его, а когда отстранилась, в ее глазах блестело что-то, подозрительно похожее на слезы.
— Ты думаешь, я не рада тебе? — переспросила она, удерживая руки собеседника в своих. — Нет, я не рада себе. А тебя мне всегда приятно видеть, Алекс. В конце концов, разве мы с тобой не родственные души? Пожалуй, только ты и можешь понять меня. Ведь ты тоже пострадал. Пострадал так же, как и я. Мы оба с тобой покалечены. Им. — Она не стала уточнять имя, просто сморгнула влагу и улыбнулась. — Покалечены, но ведь не убиты? Не так ли?
"…мне такое не по силам. Поэтому я проклинаю тебя, светлый бог. Проклинаю и прошу, умоляю, пожалуйста, пожалуйста, верни мне ее…"
Но и Северина не слышала ничего про Кристофа. Так же, как не могла сообщить ничего полезного из сплетен и новостей, которые всегда самыми свежими поступали в ее руки. Значит, "изящному" слою населения столицы, включавшему и состоятельных женщин, и простых белошвеек, брат-близнец Эльзы на глаза тоже не попадался. Алекс снова уходил ни с чем. И старался сделать это до того, как намазанные маслом и золотой краской тела перейдут от борьбы к совокуплению.
"…пожалуйста, верни мне ее. А если не вернешь, если предпочтешь, как обычно, не вмешиваться, как ты делал все эти годы, то ответь хотя бы на два вопроса…"
Алекс возвращался домой, а на кровати по-прежнему ждал призрак, неживая тень, холодная каменная статуя — все, что осталось от его любимой. И снова он трясущимися руками подносил к ее губам зеркальце, и снова выдыхал, крепко сжав кулаки, затем долго курил на крыльце и пил портвейн из горла очередной бутылки под шорох ветра, метущего по улице осенние листья. Соседи смотрели на него и наверняка думали, что на работе выдался еще один трудный день.
"Хотя бы на два вопроса: почему и когда?"
Потом Алекс заходил в темный дом, раздевался и ложился в постель, чтобы до утра согревать замерзшую Эльзу — словно ладонью прикрывать от сквозняка едва теплящийся огонек крохотной свечи.
"Почему и когда, гребаный ты бездушный ублюдок?"
Но в эту ночь все изменилось. В эту ночь в его дом, наконец, пришли истинные.
Алекс успел задремать, когда во входную дверь тихонько поскреблись. И тут же в прихожей гулко застонали часы, отсчитывая одиннадцать ударов. Их звук множился, отражался от стен, вибрировал в барабанных перепонках, словно грохот массивных литых колоколов из башен темпла темного. Или так показалось спросонья? Алекс потер лицо, встал, не зажигая света, нащупал домашние штаны и двинулся по коридору, прислушиваясь и принюхиваясь.
На пороге стояла фигура, сплошь закутанная в неприметный плащ. Она чуть откинула капюшон, и по одному взгляду смиренных и сочувствующих глаз стало понятно, кто это такая. Алекс порадовался, что истинным хватило благоразумия не завалиться к нему толпой и посреди бела дня, — такое сборище могло бы привлечь ненужное внимание со стороны. Особенно, если все знали: после смерти матери начальник полиции ведет уединенный образ жизни и гостей не зовет. Не считая маленьких мужских слабостей, конечно.
Не говоря ни слова, женщина прошла в прихожую, и Алекс закрыл дверь. Он включил свет, догадываясь, что ей некомфортно находиться с ним наедине в тесном пространстве и в полной темноте, но истинная оробела еще больше. Возможно, ее смутил его взлохмаченный вид, обнаженный торс, старый неизлеченный шрам от укуса на плече и низко сидящий на бедрах пояс штанов. Алекс хмыкнул и потер грубый изогнутый рубец, не зная, как избавить ее от ощущения неловкости. Прежде ему и в голову не приходило задумываться о том, в чем встречать гостей. И правда, совсем одичал.
Женщина присела на невысокий обувной шкафчик, сложила руки на коленях, старательно избегая смотреть на Алекса, и устремила благоговейный взгляд на те самые часы. Словно на святыню любовалась. Рта она по-прежнему не раскрывала.
— Плащ? — протянул руку Алекс.
Женщина покачала головой.
— Воды? Чаю? Кофе?
Снова отрицательный жест.
— Можно пройти в гостиную, — приподняв бровь, уже с легкой иронией предложил он, но истинная лишь стиснула губы и усерднее вперилась глазами в часы.
В это время к двери подошел кто-то еще. Алекс отпер замок сразу же после короткого стука, впуская остроносого парнишку, который тоже держался диковато и поспешил примоститься рядом с женщиной. А дальше Алекс просто приоткрыл дверь и оставил так, а сам ушел на кухню, потому что истинные начали прибывать один за другим.
Он распахнул окно в сад, присел на подоконник и закурил, слушая шарканье ног в своей прихожей. Молчаливые, словно договорившиеся обо всем заранее или вовсе понимавшие друг друга без слов, они приходили и приходили, наполняя его дом чужими и незнакомыми человеческими запахами.
Внезапно все показалось Алексу нелепым и смешным. Он же не верит в это. Так же, как не верил его отец. Он не верит, что кучка фанатиков, помешанных на дарах природы, может помочь ему в том, в чем сам светлый бог не помог. И все-таки сидит тут и притворяется, что видит в их приходе смысл. И готов даже доверить им самое дорогое — Эльзу. А что, если они не спасут ее? Что, если сделают только хуже? Убьют ненароком? От этой мысли волк внутри зарычал и заворочался, и Алекс усилием воли подавил его. Вспомнил небольшой, обитый кожей сундучок, который нашел не так давно в старых вещах…
Или, может, именно потому, что он не верит, сам и не смог ей помочь?
— Мы готовы, — раздался голос за спиной. — Все собрались.
Алекс обернулся и увидел старика-знахаря в той же широкополой черной шляпе и потертом на локтях пиджаке. Тогда, спрыгнув с подоконника, он вышел в прихожую и оглядел молчаливое сборище. Мужчины и женщины разного возраста и уровня достатка посмотрели на него в ответ. Кто бы мог подумать, что их так много? Один… два… около дюжины точно набралось. Даже карлица притопала, сморщенная и безобразная, в пошитом на ее рост плащике, — откуда только такую взяли? Алекс поискал взглядом знакомые лица, не нашел, и, кажется, выдохнул с некоторым облегчением. Неприятное ощущение, что он знает меньше, чем хотелось бы, не отпускало.
А потом истинные вдруг принялись хозяйничать в его доме. Знахарь заявил, что им нужен подвал, и стоял на своем, пока Алекс не сдался и не распахнул для него дверцу. Сырым и холодным помещением он сам пользовался не часто. Можно сказать, вообще не пользовался. Раньше мать хранила там овощи, потом туда просто попадала вся ненужная утварь. Сундучок вот, тот самый, из кожи, там нашелся. А больше ничего интересного не было, только пыль и паутина.
Алекс понаблюдал, как молчаливо и споро истинные расчищают в центре подвала место, как ловко расставляют на полках толстые желтые свечи на плоских глиняных блюдцах, и не выдержал:
— А они разговаривать, вообще, умеют?
Знахарь, который тоже, засучив рукава, участвовал в подготовке, ненадолго отвлекся от дел.
— Умеют. Только чтобы ритуал провести, надо полностью тело, разум и душу очистить от всего наносного, житейского. Мы два предыдущих дня готовились, соблюдали голодание, молчание и погружение в себя. И пока не приступим, слова понапрасну тратить нельзя, чтобы нужный настрой не расплескать.
— Но вы же тратите, — скептически усмехнулся Алекс.
— А я не напрасно их трачу, — спокойно ответил старик, — я в тебя мудрость вкладываю. Ту самую, которую твой дед вложить не смог. — Он перевел взгляд на след от укуса и тоже усмехнулся: — Не болит, не чешется?
— Нет, — буркнул Алекс и отвернулся.
Наконец, все было готово. На каменном, на скорую руку подметенном полу углем начертили большой круг, по краям которого старик лично наложил какие-то оберегающие знаки. Свет потушили, оставив лишь живое пламя свечей, как того требовали непонятные Алексу правила. Он сходил за Эльзой и пока нес ее, бережно прижимая к груди, успел еще раз усомниться в содеянном. Она стала еще легче в его руках, словно пустая оболочка, такая беззащитная и хрупкая, готовая сломаться от любого неосторожного движения. Голова откинулась назад, губы потеряли краску и казались серыми, а глаза… они не меняли цвет несмотря ни на что. Он так хотел защитить, он так любил ее. Но он так боялся ее потерять…
Алекс положил Эльзу в круг и отступил, а истинные, наоборот, выстроились вдоль угольной границы подобно дюжине каменных колонн, оцепивших алтарь. Они разом скинули верхнюю одежду, и обнаружилось, что все как один одеты в черное, а на ладонях у них тоже нанесены краской какие-то символы. Карлица с угрюмым выражением лица вошла в центр и присела возле неподвижного тела Эльзы. Алекс поморщился, ему все больше хотелось прекратить этот цирк.
— Выйди, сынок, — заметил эту реакцию знахарь, который стоял рядом.
— Ну уж нет, — прорычал он, сжав кулаки, — я хочу знать, что здесь будет происходить. Если мне что-то не понравится…
— Тебе все не понравится, — оборвал его старик, — все. Потому что ритуал изгнания темной магии не может нравиться нормальному человеку. Поэтому мы и не проводим его просто так.
— Тем более, я должен остаться, — возмутился Алекс, — должен видеть, что вы будете с ней делать.
Знахарь вздохнул и посмотрел на него с укоризной. Но и понимание сквозило в его взгляде тоже, словно он прекрасно осознавал, какие сомнения терзают собеседника.
— Проклятие наложено кровью, — терпеливо начал объяснять он, — и живет в крови. Поэтому сначала мы выпустим ее…
При этих словах карлица вынула из кармана кривой маленький ножик и взяла бледную руку Эльзы, обращенную запястьем вверх.
— …а когда темная магия в достаточной степени освободит тело, — продолжил знахарь, — мы снимем печать ведьмы, и душа тоже освободится. Слава пресвятому светлому богу, Азалия согласилась взять бремя на себя. Она делает это уже второй раз в жизни и уверена, что справится.
Карлица подняла голову и посмотрела на беседующих грустными умными глазами.
— Снимете печать? — переспросил Алекс, но старик уже взялся за платок, повязанный на шее, и поднял его на лицо, закрывая рот и нос.
— Или уйди, или не мешай, сынок, — послышался из-под повязки его приглушенный голос. — Время разговоров окончилось.
И тут же все остальные тоже закрыли лица, раскинули в стороны руки, обратив вверх ладони с рисунками символов, и одновременно произнесли:
— Анэм.
Под хор их голосов карлица взмахнула ножом, рассекла запястье Эльзы. В тусклом мерцании свечей кровь волчицы казалась густой, как варенье, и черной. Она лениво начала расползаться из приоткрывшегося пореза по белой коже, но на пол капать не спешила. Карлица полоснула по другой руке. Затем склонилась и принялась жадно, с причмокиванием, тянуть в себя эту кровь и сплевывать вязкие сгустки на пол.
Алекса замутило от отвращения. Он попятился под бесконечное, звучащее с ударением на первый слог "анэм", схватился рукой за стену и опустился на мягкую груду хлама. От специфического запаха раны, бьющего в нос, его волк метался внутри и выл. С его парой, причем взаимно привязанной, творили что-то страшное, ее жизнь висела на волоске, и все дикие животные инстинкты вопили о том, что этому нужно помешать. Но Алекс обхватил ладонями виски и заставил себя оставаться на месте. Нельзя и дальше колебаться. Надо сделать окончательный выбор. Либо он верит, либо нет. Либо он доверяет, либо прекращает ритуал одним махом раз и навсегда, принимая на свою совесть все последствия.
Но как же сложно было сделать именно этот выбор…
Стены погруженного в полумрак старого подвала будто сдвинулись, уменьшая и без того тесное пространство. Из-за плохого освещения фигуры в черном приобретали гротескный вид, их голоса сливались в один и раздражали слух бесконечной повторяющейся чередой звуков. Алекс видел, как старик-знахарь, подслеповато наклонившись поближе к свечам, торопливо толчет что-то в глиняной ступке, потом капает туда пылающим воском, и из посудины вверх вырывается дымок. Разгоняя ароматные, пахнущие полевыми травами и можжевельником клубы дыма, старик принялся круг за кругом обходить истинных, окутывая их плотным облаком. А карлица в монотонном ритме продолжала вытягивать из Эльзы драгоценную влагу жизни, и темная лужа на полу у ее ног стремительно росла.
Алекс не выдержал. Он рывком дернулся вверх, собираясь встать на ноги. Он не верит им. Они же просто выпустят из нее кровь, и сердце остановится. Он не сможет оставаться безучастным и на это смотреть. Но голова вдруг закружилась, ноги ослабли, в легких стало жарко и больно от едкого дыма, заполнившего уже все пространство подвала.
Он упал обратно на место, хватая ртом воздух и ощущая, как сознание начинает уплывать куда-то за грань. Волчье зрение, такое четкое прежде, позволяющее разглядеть в полутьме мельчайшие подробности вплоть до жесткого, даже жестокого выражения на лице карлицы, вдруг подвело, все силуэты стали расплывчатыми, свечи на полках превратились в желтые пятна, а темнота… она пульсировала вокруг Алекса, смыкала свои кольца и жила особенной, бурной жизнью.
"Анэм" — без конца звучало в его ушах. Слышались и другие слова, на непонятном языке, очень похожем на песнь мальчика, исполненную в темпле светлого бога, когда Алекс приходил туда. Но теперь рядом не было Димитрия, который мог бы понять и интерпретировать древний язык, позволив своему бете пропустить это знание через себя. Расслабленными, не способными четко мыслить мозгами Алекс вдруг подумал, что все, происходившее с ним в последний десяток лет, он видел только через призму сознания Димитрия. И тьма там была страшна, страшнее и темнее, чем эта, окружившая его сейчас в подвале.
И ненависть к светлому богу он перенял от Димитрия. Точно так же, как и ненависть к самому себе и ко всему окружающему миру. Только любовь к Эльзе существовала в нем изначально. Только она родилась самостоятельно. И Димитрий, как ни старался, так и не смог ее в Алексе убить.
А слово это — анэм — он уже видел. Встречал в тех разрозненных пожелтевших от времени листках, которые нашел в обитом кожей сундучке, последнем наследстве от деда. Там было много всего написано, и все непонятно, на древнем языке, первом языке, которым боги поделились с людьми. Алекс силился его понять, пробегая взглядом по строчкам, но зацепился только за одно, и то лишь потому, что оно повторялось чаще других. Что же это значит?
— Услышь тех, кто истинно служит трем правилам мироздания, — вдруг разобрал он среди общей какофонии звуков твердый и зычный голос старика-знахаря.
— Анэм.
— Не причинять вред в мыслях…
— Анэм.
— Не причинять вред в словах…
— Анэм.
— Не причинять вред в делах…
— Анэм.
Внезапно дым слегка рассеялся, и Алекс снова разглядел в просветах между фигурами истинных то, что творилось в круге. Карлица тяжело дышала и вытирала рукавом перепачканный рот, а Эльза повернула голову набок и неожиданно посмотрела прямо на Алекса прежними, привычными, серебристыми, как морозный лед, глазами.
И тут его словно молния пронзила до самых костей.
— Анэм, — заорал он, падая на колени, потому что ноги по-прежнему отказывались держать, и потянул к ней руку. — Анэм.
В лицо ударило горячей воздушной волной, будто от взрыва. Послышались крики и звуки падающих тел. И стало темно… так темно, как если бы само понятие света перестало существовать в этом мире.
А затем раздался хохот. Грубый, хриплый, мужской хохот, от которого мурашки побежали по спине, а волоски на затылке встали дыбом.
— Он сопротивляется, — тут же закричал знахарь. — Вставайте. Вставайте. Не дайте ему ее забрать. Огня. Огня.
Слышался испуганный визг, чирканье спичек по боку коробка, вокруг Алекса ползали, натыкались друг на друга люди, а хохот продолжал звучать и разрастаться над их головами. Стены дома задрожали, наверху послышался звон — бились стекла в шкафах, полы протяжно заскрипели, расходясь щелями между досок и выстреливая брызнувшими из пазов гвоздями.
Алекс бросился к лестнице на ощупь. По-звериному, рывками и прыжками он забрался наверх, вывалился на пол, царапая деревянное покрытие удлинившимися когтями. Легкие плавились от едкого дыма. Зверь, желая спасти ему и его паре жизнь, рвался наружу. Но то, что требовалось сделать, мог совершить только человек. Алекс сглотнул, вскочил на четвереньки, метнулся в комнату, лихорадочно выгребая из ящиков стола содержимое, отыскал фонарь и ударил по кнопке. Луч света, длинный, прямой, белый, вонзился в стену. С фонарем в руках Алекс кубарем скатился вниз.
Эльза висела в воздухе, ее босые ступни расслабленно болтались. Он почти не смотрел на копошащихся на полу истинных, которые пытались встать, но их снова отбрасывало навзничь, не слушал их стоны, просто застыл, направляя луч на нее. Длинные волосы змеились вокруг ее головы и походили на чернильное пятно, расплывающееся по водной поверхности, подол ночной рубашки трепыхался вокруг ног, хотя тут, в замкнутом тесном пространстве, совершенно точно не могло появиться никакого ветерка. Из глаз, носа, рта и ушей сплошным потоком струилось что-то черное.
— Верни мне ее, — передразнивающим голоском заговорило существо в облике Эльзы и чуть склонило голову набок. — Верни мне ее, пожалуйста, пожалуйста, прошу, умоляю. — Оно расхохоталось уже знакомым Алексу мужским басом. — А что, если, и правда, верну? Хочешь? Сможешь выдержать столько счастья? На что пойдешь ради этого? Твои мольбы мне не нужны, смертный. Действия. Я хочу твоих действий. Принеси мне жертву. Кровавую жертву из всех, кто здесь есть. И тогда я услышу тебя.
А затем тьма полностью заволокла Эльзу, превратившись в густой плотный кокон. Алекс даже не задумался, откуда жуткой твари известны мысли, которые не уходили дальше его головы. В тот момент это не имело никакого значения. Важно было лишь то, что кровь почти не вытекала из рук Эльзы. Ее там практически не осталось. И это означало, что жизнь в ней тоже вот-вот закончится.
Он отшвырнул фонарь, зарычал и бросился в самую сердцевину кокона, но с размаху налетел на невидимую преграду. Будто завибрировало твердое, небьющееся стекло, а кости в плече Алекса предательски хрустнули. Но он не ощущал боли, повернулся другим боком и снова сделал рывок, на этот раз уже приготовившись к удару.
— Свет. Свет, — кричал знахарь, по стенам и потолку прыгал луч фонаря, дрожавшего в чьих-то руках.
Волк выл и царапался изнутри, умоляя дать ему волю, но Алекс понимал, что если отпустит себя, если обернется, то потеряет контроль над разумом и просто перегрызет всех истинных. Да, наверное, этого от него и хотела тьма, но он не верил, что сможет таким образом по-настоящему спасти Эльзу. Слишком хорошо знал, что творится с людьми, порабощенными тьмой. Слишком долго жил в сознании одного из таких…
Его кости хрустели и ломались от сокрушительных ударов, руки уже повисли плетьми, а тело понемногу покрывалось шерстью, подавляя глупый человеческий разум и стремясь в спасительное блаженство звериной сущности. Но перед глазами на незримой поверхности пошла тоненькая сеточка трещин, и это придало Алексу сил.
— Анэм, — заорал он огрубевшими горловыми связками…
…и провалился в мягкую щекочущую тело тьму.
Сразу стало невыносимо дышать. Воздух превратился в сухой порошок, он забивал легкие и оборачивал их в камень. Нечеловеческим усилием Алексу удалось сомкнуть непослушные пальцы вокруг тела Эльзы и дернуть ее на себя. И тут же кожа ее вспыхнула белесым огнем.
— Опусти ее ниже, — откуда-то издалека пытался докричаться до него голос знахаря. — Дай нам срезать печать.
Истинные пытались помочь, тоже хватали, но отдергивали руки с болезненными криками. Алекс изо всех сил тянул вниз, но вместо этого ощущал, что сам поднимается к потолку под воздействием неведомой воли. Пламя, покрывшее Эльзу, не причиняло ей вреда, но его плоть пожирало с жадным урчанием. Его кожа становилась пергаментной и превращалась в пепел, отрывалась и легкими снежными хлопьями кружила в вихре вокруг. Из глаз Алекса потекли слезы. Он практически не ощущал их, это была физическая реакция на боль, которую непроизвольно давало его бренное человеческое тело. Наверно, он до сих пор мог это выносить только потому, что был оборотнем, и часть его бесконечно продолжала регенерировать. Другие люди, истинные, этого не могли.
Он запрокинул влажное, уже наполовину звериное лицо, вперил взгляд в потолок и заорал:
— Анэм. Анэм, мать твою. Анэм. Анэм.
Он выкрикивал чужое непонятное слово на чужом непонятном языке с таким исступлением, с каким молятся богам самые раскаявшиеся отступники. Он и был отступником, отказавшимся когда-то от мудрости предков ради любви к женщине. Именно эту женщину, как святыню, и сжимал теперь в своих обугленных, слабых руках. И пусть его святыня была оскверненной им же самим. Пусть он много раз причинял вред себе и другим в мыслях, словах и поступках, и уже не мог считаться истинным.
Нет на пути трудностей, когда ты любишь. Именно это и помогает отличить пустое, придуманное чувство от настоящего. А для настоящей любви всегда есть искупление. И прощение — тоже. Ни ради какой другой женщины Алекс бы не пожертвовал собой, а вот ради Эльзы — пожертвовал. И тогда, много лет назад, и теперь. И какая разница, ответит ему когда-нибудь светлый бог или нет? Какая разница, почему посылает испытания? Может, ему тоже нужна настоящая, истинная любовь, а не пустое притворство ради собственной выгоды? Может, поэтому дорога в его темпл так крута, а ступеней так много?
Алекс сделал свой выбор. Он поверил.
А в следующую секунду они с Эльзой рухнули на пол. Еще не понимая, что произошло, Алекс беспомощно наблюдал, как со всех сторон к ним ползут истинные. В нос била удушающая вонь паленого. Эльзу стащили с него, кто-то держал фонарь, знахарь с перепачканным золой лицом схватил ее за волосы, откинул их, оголив нежную шею.
Прямо на глазах обездвиженного от боли и шока Алекса старик вонзил нож глубоко в кожу Эльзы почти у самой кромки волос, срезал пласт до выступающего седьмого позвонка и брезгливо отбросил в услужливо поднесенную ему кем-то дымящуюся глиняную чашу. В посудине с хлопком вспыхнуло и погасло пламя. Карлица, переваливаясь на коротких ножках, подошла, зачерпнула содержимое ладонью и отправила себе в рот. По ее телу тут же пробежала дрожь, глаза заволокло черным, она вытянулась в струну и упала на подставленные руки одного из истинных. Затем ее торопливо унесли прочь.
Задыхаясь, Алекс перевел взгляд на рану Эльзы. Только что там белели мелкие выступы позвонков, но кровь уже свернулась, и края казались подживающими. Он перевернулся на бок, вырвав руку, которую одна из женщин начала было ему бинтовать, прикоснулся кончиками пальцев к щеке Эльзы, оставляя на ней следы пепла.
— Эль… ты слышишь меня?
Она тихонько вздохнула, а затем вздрогнула и в мгновение ока обернулась. Теперь на месте тонкого женского тела рядом с Алексом лежала погруженная в сон волчица, спеленутая в ткани широкой ночной сорочки, как младенец. И он тоже вздохнул и тихонько засмеялся, сотрясаясь всем телом, как безумный, и не замечая, что его глаза и лицо до сих пор влажные от слез.
Кто-то трогал его, настойчиво пытался перевязать руки. Вместе с расслаблением навалилась боль, такая, что заскрипели зубы, но Алекс продолжал кататься по полу и сквозь стиснутые челюсти хохотать. Наконец, его оставили в покое. Затихали шаги, истинные, выполнив свое дело, так же молчаливо, как и пришли, покидали дом.
Над Алексом склонилось старческое лицо, уже знакомое, словно лицо доброго друга, и сочувствующий голос произнес:
— Что ж. Может, в тебе больше истины, чем мы все думали, сынок.
— Подождите, — захрипел он, с трудом разжав зубы. — Не уходите. Нам нужно поговорить.
— А я никуда и не ухожу, — неожиданно сильные руки старика подхватили Алекса за плечи и помогли встать на ноги. — Пойдем-ка. Пойдем.
— А Эль…
— Ничего с ней не случится. Ее сейчас сон лечит. Здоровый крепкий сон, который бы и тебе не помешал, сынок.
Буквально всем своим весом Алекс навалился на тщедушного собеседника, но тот выдержал, только крякнул по-стариковски. Медленно, едва не падая с ног, они вскарабкались по лестнице и выбрались из подвала. Оглядев усыпанные осколками и щепками полы, Алекс только махнул рукой и дал знак двигаться в сторону кухни. Там обстановка практически не пострадала. Знахарь сгрузил его на один стул и сам обессилено сполз на соседний, выдернул из-за воротника платок и бросил на стол.
— Молодой ты. Глупый, — беззлобно проворчал он. — Кто ж без защиты на выпущенную темную магию лезет? Дыхательные пути прикрывать надобно. Руки обрабатывать. А ты? Вона как, надышался, наглотался, да еще и голыми руками натрогался.
— Заживут мои руки, — клацая зубами, ответил Алекс.
Его действительно с каждой минутой знобило все больше, в горле стоял ком, а в голове звенело, словно после сильного похмелья.
— Заживут-то заживут, — согласился старик, — только и ты организму своему помоги. Отдохнуть тебе надо.
— Отдохну. Только… ответьте мне на два вопроса.
Знахарь пытливо взглянул на него, поджал губы и решительно встал.
— Вот что. Чаю сейчас моего выпьешь, а потом поговорим. Чай хороший, гадость всякую из тела выводит. Поможет тебе.
— Лучше из бара… налейте чего-нибудь, — мотнул головой Алекс.
— Я те дам "из бара", — погрозил ему пальцем старик, по-хозяйски поставил чайник, достал чашку и вытащил из кармана пиджака пакетик с какими-то сушеными листиками. — Совсем себя угробить хочешь? Здоровье, оно, думаешь, бесконечное?
— У меня бесконечное.
— Ха, — откинув голову, громко каркнул старик. — Все вы, молодые, так думаете. А потом в старости горькими слезами плачетесь. Вот хорошо, что я сбор лечебный взял. Как знал, как знал…
Алекс стиснул виски перемотанными руками. Спорить у него не было сил.
— Ну хоть закурить дайте. Пожалуйста.
Знахарь покосился на его повязки с проступившими бурыми пятнами, на попыхивающий паром чайник и неожиданно сжалился. Нашел сигареты, поджег одну и сунул Алексу в рот. Тот стиснул ее губами, втягивая дым и прикрыв глаза. Старик подумал и сходил за одеялом, которое накинул ему на плечи.
— Ты держись, сынок. Темная магия — она всегда вкуса горькой полыни и температуры суровейшей из зим. Со светлой теплой силой жизни никак не сочетается. Но ты лишь слегка отравился, да и молодой пока, справишься. Отдохнуть тебе надо и согреться.
— А Эль? Она сильно отравилась? — проговорил Алекс сквозь клубы сигаретного дыма, которые вырывались изо рта и слепили глаза.
— А у волчицы своя магия есть. Врожденная. Она ее и согреет. Хотя… — старик поставил перед ним чашку с горячим чаем, присел рядом и пожевал губами. — Признаться честно, раньше с такой силой сопротивления я не сталкивался. Сильный нам оппонент попался. Пожалуй, сильнее всех ранее существовавших.
— Вы имеете в виду того, кто на Эльзу проклятие наложил?
— Конечно, кого же еще? Если через нее сам темный бог с тобой разговаривал, значит, и с посланником своим у него особая связь.
Старик вынул у Алекса изо рта полуистлевшую сигарету и осторожно поднес к его губам чашку, помог отхлебнуть. От горячего напитка внутри, в самом деле, потеплело. Послушно, как ребенок, Алекс отпил еще, а затем мотнул головой, показывая, что пока достаточно.
— Так вы ответите на мои вопросы? — нетерпеливо потребовал он у старика.
— Отвечаю, — сложил тот руки перед собой. — Задавай.
— Почему вы считаете, что на троне сидит не Волк?
Такого вопроса знахарь, похоже, не ожидал. Он сверкнул глазами из-под морщинистых набухших век и как-то скупо улыбнулся.
— Потому что ему там не место. Его ждет трон, но не этот. Он должен править, но не здесь. Его трон — из песка и человеческих костей. Трон Цирховии — из золота и солнечного света.
Алекс помолчал, обдумывая услышанное. Конечно, он рассчитывал на более прямой ответ, но понимал, что старик мыслит иначе, его голова полна образов, которые были знакомы каждому истинному, но вряд ли открылись бы непосвященному.
— У наместника в глазах черная тьма, — наконец проговорил он. — Я вспомнил это. Сегодня, там, в подвале. Однажды я видел это сам.
Знахарь медленно кивнул, не выказав особого удивления.
— Вы знали это? — поднял брови Алекс. — И вы ничего не предприняли до сих пор?
— Если бы боги хотели, чтобы я что-то предпринял, — со свойственным ему философским спокойствием ответил старик, — они бы заставили меня это сделать. Но моя роль в другом. И я ее добросовестно выполняю.
— Роль?
— Конечно, сынок. Разве ты не понимаешь? — ласково глянул старик. — Светлый бог и темный. Истинные и ведьмы. Белые фигуры и черные. Короли и пешки. Верные ферзи и двуличные кони. Это игра. Игра, в которую играют боги.
— Дайте мне еще закурить, — нахмурился Алекс.
На этот раз знахарь не стал читать ему нотации, ловко щелкнул зажигалкой и сунул сигарету между губ.
— Вижу, что тебе сложно это понять, — начал он, — но если раньше ты совсем не готов был поверить, то теперь в тебе этой готовности прибавилось. Поэтому слушай, я расскажу то, что знаю, но только один раз. Повторять не буду — это не сказка на ночь и потеху.
Алекс молча кивнул и крепче втянул в себя терпкий сигаретный дым. Хотя бы ради того, чтобы удовлетворить любопытство, он должен был дослушать эту историю.
— Время для богов течет иначе, чем для людей. Медленней. Они могут веками выстраивать свою партию, а человек может прожить целую жизнь всего лишь за один ход.
— Но зачем, по-вашему, они играют с нами?
— От скуки. Когда у тебя впереди целая вечность, ты волей-неволей начнешь искать, чем бы ее занять. Но чтобы партия длилась, она должна быть интересной. В ней требуется соперничество, борьба. А победа не достигается с одного хода. Много лет назад темный бог начал готовить своего посланника. Для этого были созданы все условия, вплоть до его рождения. Так же, как были созданы условия для посланника светлого бога.
— Откуда вы это знаете?
— Так говорится в пророчестве.
— И за что они будут бороться?
— За трон. За страну. За женщину.
— За женщину?
— Конечно. Ты знаешь, с чего началось существование нашего мира? С женщины. И ей же когда-нибудь оно окончится. Но у одной монеты всегда две стороны. Жизнь и смерть. Свет и тьма. Добро и зло. Любовь и ненависть. Посланники богов оба привязаны к одной женщине, только противоположными чувствами. Один ее безумно любит. Другой — безумно ненавидит. Если ее сумеет защитить первый — вместе с ней он получит трон. Если же ее сможет уничтожить второй…
Старик замолчал и сдвинул косматые брови.
— И что тогда? — напомнил ему Алекс.
— Что обычно бывает в конце партии, сынок? Фигуры сметают с доски, чтобы расставить их в новом порядке.
— Цирховии придет конец?
— Той Цирховии, какая она есть сейчас, — несомненно.
— Хорошо. Я понял, — кивнул Алекс. — То есть, восхождение наместника на трон — это тоже один из ходов партии?
— Полагаю, что так.
— А что, если он не получит эту женщину? Что, если тьма поступила хитрее и заранее захватила его? Что, если он уже не может противостоять силам противника?
Знахарь снова слабо улыбнулся.
— А кто сказал, что наместник должен им противостоять? Я считаю, что речь в пророчестве идет о тебе, Алекс. Да-да, не делай такое лицо. Я все понял, когда ты позвал меня в свой дом и показал эту женщину. А после того, что видел сегодня вечером, — даже в этом и не сомневаюсь. И ты впервые спросил меня о чем-то, что не касалось тебя самого. О будущем своей страны. Ты наконец-то стал им интересоваться. Впервые тебя интересует не месть, а справедливость.
— Но я… — Алекс ошарашенно тряхнул головой, — я не истинный, и не белый волк, и не человек. Я…
— Никто? Полукровка? Отверженный? — старик хмыкнул. — И что с того? Разве это помешало тебе взять сегодня тьму голыми руками? А раньше, до всего этого, ты смог бы? В конце концов, кто-то же должен принять на себя эту роль? Почему бы и не ты?
Алекс помолчал и посмотрел на свои повязки.
— Хотите сказать, все, что сделали с Эльзой… все, что меня заставили сделать с ней… так было надо? И мою дочь похитили, чтобы заставить меня действовать? Просто для того, чтобы меня как следует разозлить?
— Замысел богов непросто понять.
— Замысел богов очень жесток.
— Но те характеры, которые рождаются под их руками, — великолепны.
Алекс покачал головой. Если все правда, и Эльза — камень преткновения между ним и кем-то еще, кем-то, желающим уничтожить ее, а заодно и весь род белых волков, то победить этого соперника будет непросто. Хотя бы потому, что имя его до сих пор оставалось тайной.
— Ответьте мне на второй вопрос, — вполголоса попросил он. — Когда остановятся эти часы в моей прихожей? — Заметив, что собеседник открывает рот и собирается ответить, Алекс поторопился добавить: — Историю о том, что две силы столкнутся, я помню. Меня интересует конкретный ответ — когда? Как скоро? Сколько у меня есть времени в запасе? День? Неделя? Год?
— Скоро, — не стал лукавить старик. — Вчера в кортеж наместника впервые бросили камень.
Алекс кивнул. Он тоже слышал об этом происшествии, более того, лично подключился к расследованию. Правда, виновника до сих пор не нашли.
— Подумайте, молодой человек, — продолжил знахарь. — Впервые за много лет существования Цирховии кто-то посмел оскорбить правящую власть. Кто-то посмел посягнуть на того, кто на троне. Пусть безобидно — но уже посмел. Скоро за этим камнем последует целая лавина. Кому-то правление белых волков стоит поперек горла.
— Но если наместника посадил на трон некто могущественный, почему он не защитит его?
— А почему ты думаешь, что не по его указке и бросили этот камень? — хитро прищурился старик. — Если богам надоедают их слуги, то почему они не могут надоесть человеку? К тому же, как я сказал, это не его трон, и упасть Волку оттуда рано или поздно придется.
Алекс пожал плечами. С этой стороны на ситуацию он просто не посмотрел. И на Димитрия он никогда не смотрел с этой стороны тоже. Получается, что не только жизнь Эльзы в опасности, но и ее брата — тоже? И будет ли кому-то плохо, если тот, наконец, покинет трон? Можно ли помочь тому, кому, похоже, помогать уже поздно? И стоит ли, вообще, вмешиваться во все это?
Видя его растерянность, знахарь засобирался домой, оставил в чайнике еще заварки для целебного чая и натянул свою шляпу.
— А это слово, — остановил его Алекс, — "анэм", что оно означает?
Старик подошел и по-отечески похлопал его по плечу.
— "Я следую своему предназначению". Да ты и сам мог бы догадаться, зачем спрашиваешь, сынок?
Цирховия Двадцать восемь лет со дня затмения
Говорят, ночь — это время чудовищ. Дневной свет обжигает их, укорачивает им лапы и хвосты, вынуждает прятаться в узкие норы и щели. Шум и суета пугают их и делают маленькими и ничтожными. Никто не боится чудовищ днем.
Поэтому ночью они выползают голодными и злыми. Тянут щупальца из тьмы и скалят из мрака зубы. Сверкают полными ненависти глазами и воют на разные голоса. Маленькие дети верят, что чудовища живут под кроватью или в шкафу. Они боготворят взрослых за смелость и не догадываются, что только с возрастом открывается настоящая тайна: самый жуткий монстр обитает у каждого внутри. Поэтому люди боятся одиночества — наедине с собой бывает нелегко уснуть.
Эта ночь, накрывшая Цирховию мягким бархатистым телом, не стала исключением.
На балконе верхнего этажа своей резиденции стоял Димитрий. Его ладони покоились на каменной балюстраде, а идеально вылепленное природой лицо было обращено к небу. Казалось, он не замечал ни собственной наготы, ни того, что позади него, за распахнутыми дверьми, свернулась клубком на полу очередная женщина, имени которой он даже не потрудился спросить. Его не волновало, что ее бедра испачканы кровью, а ночная осенняя прохлада наполняет комнату, пробирая бедняжку ознобом до костей. И то, что эта женщина смотрит прямо ему в спину, а в ее глазах страх борется с обожанием, его не волновало тоже. Его взгляд вообще был пуст и равнодушен.
В своей богато убранной спальне мерила шагами пространство вокруг широкой двуспальной кровати Северина. Ее волосы, влажные после душа, спадали по плечам, роскошный длинный халат окутывал фигуру, но ее красота напоминала цветок, срезанный и поставленный за стекло. Цветок, который никто не может потрогать руками. И ее постель до утра оставалась пуста.
У открытого окна в совершенно другой комнате, напряженно вглядываясь в темноту, застыла Ирис. Она давно не чувствовала холода, он не касался ее снаружи, он шел у нее изнутри. По ее безупречно гладкому лицу текли слезы, зубами она прикусывала губу до крови и едва заметно дрожала. Дрожала и старалась не подавать виду, как боится оборачиваться. А за ее спиной из воздуха медленно появлялся мужской силуэт.
В голой каменной келье отчаянно шептала что-то облаченная в грубую небеленую рубаху Ольга. На ее пальцах больше не осталось колец, она раздала их нуждающимся вместе с гардеробом, когда ее прежде пышная фигура исхудала. Упав на колени при свете единственной свечи, она просила и просила чего-то у святой Иулалии — покровительницы отверженных и падших. И Иулалия нежно смотрела на нее со стены. Нежно, но непреклонно. Как смотрел на Ольгу собственный сын в день их прощания.
Свернувшись в уютном теплом гнезде из одеял, задумался о чем-то Алекс, а на его груди в надежном кольце рук оправлялась от ран пепельно-серая волчица. Их никто не тревожил, вокруг царили тишина и покой, но он не мог сомкнуть глаз. Ее зверь спасал в ней человека, а его зверь человека в нем убивал. Когда-то он посчитал это различие неважным, но между ними по-прежнему лежала пропасть. Пропасть в одну ступеньку и в одно невыносимое воспоминание. А часы в его доме неумолимо отсчитывали минуты до ее пробуждения.
А далеко-далеко, в заснеженных дарданийских горах плакала девочка. Она плакала не потому, что по ночам на крыше выл и бесновался ветер — здесь, в стенах монастыря, он стал еще более частым гостем с приближением зимы. В конце концов, за минувшие дни она уже успела привыкнуть и к постоянной непогоде, и к ледяной воде, от которой становились красными и трескались руки, и к мозолям на ладонях, проступавшим к завершению тяжелого дня, наполненного уборкой громадных помещений, и к тому, что вынуждена делить одну неуютную и узкую каморку еще с девятью такими же детьми. И по родительскому дому с запахом яблок и слив в саду и бесконечным шелестом соленых волн мирового океана она плакать тоже перестала. И когда тонкая хлесткая плеть монаха то и дело щипала ее "нерадивую" спину, с губ больше не срывались рыдания.
Но она не могла сдержать слез, когда ее называли сироткой. А он будто знал это и специально смеялся и называл ее сироткой каждый раз. Он — ее чудовище, ее страшный человек, который ночами приходил к ней из стены.
А еще иногда он называл себя ее дядей.
У него были такие же, как у нее, темные волосы, только не прямые, а с легкой волной, такая же светлая ровная кожа и прямой нос. Он выглядел высоким, с гордой осанкой, его худощавое тело, всегда затянутое в черное, казалось гибким, как у хищника. Возможно, в чем-то он походил на мать девочки, но не во всем, не во многом. Манера капризно поджимать губы и серо-зеленые злые глаза выдавали в нем нечто чужеродное.
И конечно, никак, ни при каких условиях он не мог быть ее дядей. Мама никогда не рассказывала о родственниках. Никого из родных у них не было. Только папа, седоватый и строгий, но с теплыми смешливыми искорками в глазах, вечно занятой, вечно склоненный над бумагами в своем кабинете и такой неожиданно мягкий и ласковый с ее матерью и с ней самой в вечерних беседах на веранде.
Страшный человек сказал, что папа умер. И мама скоро умрет. Наверняка он врал, все врал и запугивал девочку, а она изо всех сил старалась ему не верить. Но шли дни, и презрительное "сиротка" въедалось ей в голову так, что становилось больно дышать.
В первое время она пробовала искать спасения, начинала кричать, как только замечала, что по стене идет рябь, а затем в каменной кладке разверзается дыра, сквозь которую видно что-то странное: лес, деревья в серой туманной дымке и даже краешек пасмурного неба. И небо, и погода всегда выглядели одинаковыми. Но по ту сторону совершенно точно не могло быть никакого леса, там находилась точно такая же каморка, где преклоняли головы на ночь еще десять детей.
Тем не менее, человек выходил из стены, совсем как делал это душными летними ночами в родительском доме: сначала появлялась нога, потом туловище и, наконец, весь он. А дыра в стене бесшумно схлопывалась и исчезала.
Правда, раньше страшный человек ловко нырял обратно, стоило девочке заплакать и позвать мать. Теперь же все изменилось. Как ни надрывала она голос, никто из детей, лежавших на соседних кроватях неподвижными, закутанными в тонкие одеяла холмиками, не просыпался. Казалось, что она кричит в никуда, в бездонную ватную пропасть, поглотившую все звуки.
Но человека ее крик бесил, и тогда он показал ей раз и навсегда, что сопротивляться бесполезно. Он схватил девочку за руку, выволок из-под одеяла и потащил за собой в коридор. Холодные плитки пола обжигали ее босые ноги, но его крепкие пальцы жгли кожу сильней. Страшный человек заставил ее смотреть на то, что называл "своим царством".
Там, где он появлялся, затихали всякие звуки и замирали тени. Огромный, высеченный в скале монастырь превращался в утробу гигантского чудовища, поглотившего человеческие души. Резко, как всплеск оборванной струны, прекращалось монотонное шлепанье плетей, которыми обычно награждали себя перед сном монахи. Двери в коридорах, по которым страшный человек тащил маленькую девочку, распахивались сами собой, и в проемах становились видны согнутые и коленопреклоненные фигуры, обнаженные спины, покрытые старыми и свежими рубцами, истекающие воском свечи на полках.
Когда человек останавливался и растягивал губы в жуткой зловещей улыбке, фигуры вздрагивали, плети со свистом рассекали воздух, взлетая чаще обычного, слишком часто, иссекая беззащитную плоть, и темно-бордовые реки лились по суровым рубищам до самого пола. Иногда чья-то рука тянулась к полке, и прозрачный как слеза нагретый воск капал на лоб, щеки и грудь, с шипением засыхая на коже. А в спальнях монахинь и послушниц постарше слышались стоны. Женщины извивались на кроватях и засовывали свечи себе между ног. На их лицах были написаны мука и блаженство.
И у всех них почему-то были черные-черные глаза…
— Смотри, — шептал на ухо девочке страшный человек и удерживал ее за плечи, чтобы не отворачивалась, — смотри, вот мое царство. Вот моя Цирховия. Пока не вся, лишь только маленький кусочек, хотя мне потребовалось много сил, чтобы все здесь организовать. Но скоро, скоро она станет больше. И в этом поможешь мне ты, сиротка.
Вот поэтому, когда он снова пришел к ней этой ночью, девочка плакала. Но не громко, а тихо, почти беззвучно. Человек опустился на край ее узкой и жесткой кровати и сделал вид, что не заметил, как она отползла подальше к изголовью и подтянула колени к груди. Его глаза блестели мягким довольным блеском, и он снова улыбался
— Привет, сиротка.
— О-откуда вы приходите? — решилась спросить девочка, потому что боялась, что он снова потащит ее смотреть на обезумевших людей.
— Из сумеречного мира, — спокойно ответил человек.
— А что такое — сумеречный мир?
Он усмехнулся и пригладил выбившуюся прядь ее волос. От каждого его движения веяло невыносимой стужей.
— О, это прекрасное место. Когда я был маленьким, то очень любил играть там. Знаешь, там есть такой камень… если подкрасться к нему тихонько, то можно увидеть Их.
— К-кого — "их"?
Он задумался, поигрывая в воздухе пальцами, между которыми переливалось что-то живое и темное.
— Их, сиротка. Они сидят там, и знаешь, что делают? — его голос упал до шепота. — Они играют. Один из них одет в белое, но у него черное лицо. И фигуры у него тоже черные. А другой одет в черное, с бледным лицом. Он двигает белыми.
— Фигуры?
— Фигуры. На доске. И знаешь, сиротка… если долго на Них смотреть, то кажется, что Они — две половины одного целого. Что Он один играет сам с собой от скуки…
Таких объяснений девочка не понимала, и от этого ей становилось еще страшнее.
— А вы… вы и меня тоже заставите смотреть? — она поежилась, вспоминая прошлый полученный урок.
Он перевел на нее задумчивый взгляд.
— Нет. Ты там не выживешь, глупая. Ты там сгоришь. По крайней мере, сейчас. Может быть, позже, когда ты вырастешь, и я смогу подарить тебя Ему…
— Не надо меня никому дарить, — ее сердечко испуганно заколотилось, и девочка заплакала, свернувшись в комочек и обхватив колени руками. — Верните меня маме. Пожалуйста, пожалуйста, верните меня домой.
— У тебя больше нет дома, — отчеканил он сурово. — Твои родители мертвы. Твоя глупая мать… она могла бы быть моей женой. Но дрянь сбежала… ничего, я найду ее. Найду и уже не буду таким милосердным, как в прошлый раз. Я пожалел сестру. Я хотел обойтись с ней по-братски. Но она не заслуживает такого отношения. Ничего. Нашел же я вас один раз. Я искал вас долгие и долгие годы, но все-таки нашел. И ее найду снова.
— Значит, мне не снилось, — всхлипнула она, — это вы? Вы приходили ко мне по ночам и пугали?
— Пугал? — он посмотрел на нее удивленно. — Да я еще даже не начал тебя пугать, сиротка. Поверь, если я захочу тебя испугать, ты в свои десять лет станешь седой.
Девочка замолчала и перестала дышать, опасаясь проронить хоть слово. Его темная фигура на краю ее кровати выглядела неподвижной и страшной, совсем как дома, когда он имел обыкновение стоять в углу комнаты и смотреть на нее.
— Зачем? — все же решилась заговорить она после недолгого молчания. — Зачем вы меня украли?
— Сначала хотел поиграть, — просто и бесхитростно признался он. — Знаешь, мне нравилось в детстве заставлять других детей играть со мной, это было забавно, хоть мама и ругалась. Моя мама… — он покачал головой и прищелкнул языком, — если бы ты только познакомилась с ней. Она так переживала, что кто-то узнает. Стирала этим детишкам память, чтобы они не рассказали родителям обо мне. Заботилась обо мне. Она лучше всех, кто когда-либо существовал на свете.
Внезапно человек выпрямил спину и переменился в лице, а девочка еще больше сжалась в комок. Она не понимала, почему он вдруг рассердился.
— Но ты не познакомишься с ней, пока не придет время. Даже не надейся. У моей матери слишком доброе сердце, и она имеет склонность влюбляться не в тех, — он стиснул кулаки. — Я так старался быть для нее всем, я бросил к ее ногам трон Цирховии, я сделал так, чтобы она ни в чем не нуждалась… но ей нужен тот, кому все поклоняются на этом троне. Значит, я сяду на него. Правила просты, и я умею по ним играть. Сначала я уничтожу всех, кто имеет право на наследство по крови. А потом я женюсь на тебе. Я планировал жениться на твоей матери, но раз все так сложилось — может, оно и к лучшему. С тобой нам легче будет найти общий язык. И ты будешь последней, в ком еще течет хоть капля крови рода канцлера. Пусть разбавленная, пусть не такая чистая, но все-таки течет. Поэтому я женюсь. А потом вообще отменю все эти глупые правила наследования, сотру их в порошок и поставлю всех на колени. Затем я подарю тебя Ему, и ты станешь его возлюбленной вместо моей мамы. И тогда… тогда мама, наконец, поймет, кто главный мужчина в ее жизни…
Еще долго он сидел, стиснув кулаки и чуть покачиваясь вперед-назад, и бормотал что-то о белых волках, и родственных связях, и ветви правителей, которая почему-то заканчивается на маленькой девочке. И о женщине, ради которой был готов на все и называл своим Идеалом. А девочка закрывала глаза, боясь смотреть на него, и думала о тех двоих из сумеречного леса. Теперь она понимала, почему этот человек, приходящий из стены, такой страшный.
Потому что, увидев такое, остаться нормальным уже невозможно.
Ночь истлевала, человек уходил обратно и уносил с собой всех чудовищ, притаившихся в тенях по углам. Наступал рассвет, и люди как ни в чем не бывало просыпались, чтобы отдаться дневным заботам и делам.
Никто из них, переживших еще одну ночь наедине с собой, давно уже не вспоминал о том, с кого все началось. О том, кто спал теперь вечным безмятежным сном. Таким безмятежным сном, какой бывает лишь у тех, кто носит в груди черное эгоистичное сердце.
Цирховия Шестнадцать лет со дня затмения
Это было прекрасное лето.
Жаркое, душное, пыльное, суетливое… но все-таки неповторимо прекрасное. И женщина, которая теперь делила с ним постель, была прекрасна. Кто бы мог подумать, что ему так понравится просыпаться с ней рядом? И засыпать. Не проваливаться в беспамятство, вымотав себя сеансом жесткого яростного секса, не уходить среди ночи, оставляя на кровати чужое залитое кровью и спермой тело. Засыпать, как все нормальные люди. И обнимать ее во сне.
Ради нее он почти перестал показываться в темпле, чем очень сердил Яна. Но какое значение имели переживания Яна? Да ровным счетом никаких. Главное, чтобы девочка-скала улыбалась.
Она улыбалась, сонно потягиваясь на рассвете. Зябко ежилась от утренней прохлады, косилась на покачивающиеся от сквозняка шторы на распахнутом окне. Ветер приносил шум просыпающегося города и перезвон колоколов из темпла светлого, и некоторое время она обычно вслушивалась в эти звуки, еще балансируя на грани между сном и явью.
Димитрий наблюдал за ней из-под век и притворялся спящим. Он уже привык к ощущению теплого женского тела рядом с собой, к тому, что по ночам Петра любит прижаться к его спине и обхватить руками, словно боится расстаться хоть на миг. И к тому, что она вот так подползает к нему по утрам, целует и легонько дует в лицо, он привык тоже и уже не дергался, как раньше. Человек, как оказалось, вообще без труда привыкает ко всему хорошему.
— Дим… Дим… — губы касались его уха, виска, щеки и уголка рта. — Просыпайся, соня. Ну как в одного мужчину может помещаться столько часов сна? Ты же вчера отключился первым.
— Нормально может помещаться, — он резко хватал и подтягивал ее, хихикающую, довольную, к себе, подминал, наваливался сверху, чтобы ногами держать ее беспокойные ноги, бедрами прижимать бедра, а грудью удерживать грудь, — я очень устал и очень нуждаюсь в отдыхе и реабилитации.
— Уйди, ты тяжелый, — слабо отпихивала его она в перерывах между поцелуями. — И руки у тебя загребущие. И вообще, от чего ты устаешь?
— От необходимости удовлетворять тебя, — теперь, когда она полностью находилась в его власти, можно было уже не торопиться, медленно исследовать языком ее шею, нежную кожу за ушком и ямочку между ключиц.
— Удовлетво… ох-х-х… рять меня? — жарко выдыхала она. — Да это ты из нас двоих один вечно неудовлетво… о-о-о… ренный. Я не люблю заниматься этим по утрам, Дим. У меня изо рта плохо пахнет.
— Плохо, — кивал он, целуя ее ароматный, благоухающий вишней рот. — И волосы у тебя лохматые. И я тоже не люблю заниматься этим по утрам. Просто у меня стоит, и его, кхм, надо куда-то пристроить. А под рукой сейчас только ты.
— Вот ты гад, — хохотала и сверкала глазами она, но тут же выгибалась и закусывала губу, потому что он уже проникал напряженным, истосковавшимся по ней за несколько часов сна членом в ее влажное, истекающее желанием тело и начинал двигаться, стискивая в кулаках простыни от подступающего оргазма.
— Еще какой… — беспомощно вздыхал он. — Лучше держись от меня подальше.
Но на следующее утро все повторялось.
Правда, иногда его девочка-скала не улыбалась. Обычно это случалось по вечерам, когда он приползал домой после боя. Тогда она сокрушенно качала головой, усаживая его на диван и прикладывая лед к ушибам, а в глазах стояли самые настоящие, неподдельные слезы.
— Ну зачем ты так, — морщился он, — все к утру пройдет.
— Но пока ведь не прошло, — тихо отвечала она и прятала лицо у него на груди. — Зачем ты это делаешь, Дим? Зачем куда-то постоянно ходишь?
— Это моя жизнь, сладенькая, — пытался успокоить он и гладил ее по спине. — Я так живу, пойми. Я дерусь и получаю за это деньги. И по-другому не могу.
— Но неужели ты не можешь зарабатывать деньги как-то еще? С твоим умом, с твоим образованием, с твоим положением в обществе… я же знаю, что ты мог бы жить иначе.
Он молчал. Смешно подумать — в первые дни знакомства легко мог бросить ей в лицо любую гадость, любую неприглядную правду о себе и даже жаждал, чтобы она как можно больше узнала, а теперь язык не поворачивался признаться, что дело тут вовсе не в деньгах. Что не они тянут его, как привязанного, и заставляют вечерами отправляться в темпл, а голос. Пока еще тихий и не настойчивый, но уже проснувшийся в башке голос, который требовалось регулярно кормить хотя бы кровью, пролитой в окулусе. Ведь если давать ему пищу понемногу, но каждый день, оставался шанс, что шепот в голове никогда не перерастет в крик.
Потому что этого крика и того, что всегда за ним следовало, Димитрий боялся больше всего в своей жизни.
Впрочем, это были лишь небольшие темные пятна на общем светлом полотне их счастливого лета, и неприятные ощущения от них быстро развеивались. С Петрой не удавалось соскучиться, она постоянно фонтанировала идеями, которые то и дело его удивляли.
Например, входя в собственное жилище, он должен был вытирать ноги. Он, который никогда не разувался в этой квартире, если не собирался завалиться с кем-нибудь в постель, и в принципе привык все вопросы с уборкой спихивать на Яна, теперь должен был помнить, что ступить в ботинках дальше дверного коврика — смерти подобно. Петра строго следила за нарушением границ и ругалась, как фурия. Она купила ему тапочки. Узнав об этом, он долго смеялся, а потом так же долго с неприязнью взирал на эти жуткие темно-коричневые создания, мохнатыми комками притаившиеся в углу. Тапочки почему-то ассоциировались у него с очками и старческим креслом-качалкой. Их хотелось сжечь, но тогда бы огорчилась Петра. Поэтому они сошлись на том, что тапочки будут стоять, но носить их он не будет.
Еще она постоянно готовила что-то соблазнительно ароматное на кухне и запирала двери, не пуская его туда. Он отирал порог, жалобно скребся и просил пощады, но девочка-скала оставалась непреклонной. Однажды, в порыве особой жестокости, она сделала это голой. Он не мог вынести мысли, что она стоит там, за этой проклятой дверью, облаченная только в белый передник, купленный ею в паре с его тапочками, и если посмотреть на нее со спины, то можно увидеть аппетитную попку. Он не знал, чего ему хочется больше — ее ужина или ее попку, но и того, и другого хотелось сильно.
— Давай я помогу отнести это в постель, — промурлыкал он, когда бастион, наконец, пал, и Петра выплыла из кухни с дымящимся блюдом в руках.
— Еще чего, — ловко увернулась она, и коварный передник заколыхался на ее округлых бедрах. — У нас сегодня торжественное событие. Голый ужин.
— Голый ужин? — он приподнял бровь и сложил руки на груди.
— Да, да. Ну чего стоишь столбом? Раздевайся. К столу допускаются только те, кто соблюдает положенную форму одежды.
Он фыркнул и рванул пуговицы на груди.
Ужин был ужасным и невыносимым испытанием.
— Я не могу есть, — простонал он, сидя за столом напротив Петры, сжимая в кулаках столовые приборы и плотоядно облизываясь на ее обнаженную грудь. То, что находилось в тарелках, едва ли привлекло его внимание.
— Хм, — она вздернула носик и невозмутимо повязала на шею тканевую салфетку. Расправила края и с вызовом посмотрела на него.
— Так еще хуже… — в отчаянии закрыл он глаза, — теперь я их не вижу…
— Доедай, — сурово сказала эта безжалостная женщина, — у нас еще перемена блюд.
Она встала, повернулась к нему задом и пошла в сторону кухни, на ходу закинув руку за спину и потянув на талии завязку передника. Ткань белой лужицей скользнула на пол и осталась там лежать.
— Давай заведем прислугу, — произнес он чужим, хриплым голосом и аккуратно отложил вилку на стол.
— Зачем? — крикнула Петра из кухни под звон посуды.
— Просто потому, что мы можем себе это позволить, — он представил, как она стоит там, стройная, с острыми маленькими грудками и коварной полуулыбкой на губах, и невольно облизнулся.
— Мы? Но разве плохо, что здесь есть только мы? Я не хочу никого видеть в нашем доме. Никого лишнего тут мне не надо. Может быть, я всю жизнь мечтала о собственном доме, где только я буду хозяйкой. И пока что меня все здесь устраивает.
Петра вернулась обратно с двумя вазочками, в которых красовался десерт — нечто сливочное, взбитое и воздушное — но сесть на место не успела. Димитрий, затаившийся как зверь, выждал момент, вскочил на ноги, одним взмахом смел все со стола на пол и уложил ее ровнехонько посередине.
— Не хочу, чтобы ты портила свои мягкие ручки, — проурчал он, утыкаясь лицом в ее шею.
— Ну вот, ковер испачкал… — с сожалением прищелкнула языком Петра и обхватила его ногами за бедра. — Голодный… какой же ты голодный, Дим… ни одной эротической игры не выдерживаешь.
— Не выдерживаю, — покаялся он, сжимая член одной рукой и начиная водить им по ее сомкнутым нижним губам. Дразня, но еще не погружаясь. — Я слабый, смертный заложник твоей плоти.
— Может быть, своей? — Петра прогнулась в спине и смотрела на него снизу вверх настолько довольным взглядом, словно весь вечер только и предвкушала, что все случится именно так.
— Твоей. Только твоей, сладенькая…
И, верный своим словам, он не выдержал и все-таки рванулся внутрь нее членом.
Потом он сидел в кресле, небрежно перебросив одну ногу через подлокотник, и наблюдал, как Петра чистит ковер. Конечно, она осталась в своем репертуаре и надела только резиновые перчатки. Под ее ловкими руками росли и пыжились белые хлопья пены, а так как стояла она на четвереньках, то со своего места он прекрасно видел ту часть ее тела, которая еще казалась припухшей после его вторжения.
— Не смотри на меня так, — отчеканила она, не оборачиваясь и ни на минуту не отвлекаясь от дела.
— Как же мне не смотреть, если ты специально встала так, чтоб я смотрел? — искренне удивился он.
— Воспитывай силу воли, — и тут же глянула через плечо с лукавой искоркой в глазах. — А что, тебе нравится?
— Видеть тебя на коленях? Оттирающей, как служанка, мой ковер? — он ухмыльнулся и чуть пошевелил ногой. — Очень. Ползи сюда, я кое-что тебе покажу.
— А что, тебе нравятся служанки? — продолжила допытываться она и вдруг нахмурилась. — Ты часто делал это со служанками? Ну в том своем богатом доме, который у тебя наверняка есть, но о котором ты никогда не рассказываешь.
Ухмылка тут же сползла с его лица.
— Нет у меня никакого богатого дома. И никогда не было.
— Но ты же лаэрд… — растерялась она.
— А что, по-твоему, бездомных лаэрдов не бывает?
— Я что-то не то спросила? — на лице Петры проступило огорчение. — Ох, Дим, прости меня, пожалуйста, я не хотела. Я просто…
— Что "просто"? В конце концов, встань уже с этого ковра. Оставь его. Завтра Ян найдет кого-нибудь, чтобы вывели все пятна.
— А я не хочу никакого Яна, — в тон ему рявкнула Петра. Она вскочила на ноги, сдернула с рук перчатки и швырнула их на пол. — Не нужен мне никто. Сама справлюсь.
И прежде, чем он успел ответить, она подошла к креслу, обхватила голову Димитрия и прижала к своей груди. Затем нагнулась, легкими едва ощутимыми касаниями губ прошлась от его виска до подбородка. Он зажмурился, крепко стиснул кулаки, оставаясь неподвижным.
— Прости меня, Дим… — тихонько прошептала она в его губы, и он не выдержал, приоткрыл рот, осторожно трогая языком кончик ее шелковистого языка, пробуя ее на вкус снова и снова, так, словно не испил ее страсть до дна каких-то полчаса назад в этой же комнате вон на том столе. — Я, правда, никого не хочу… только тебя… я же люблю тебя, дурак.
Странная она была, его девочка-скала. Любила его, больного, неправильного, искалеченного и неуравновешенного. Любила так, что позволяла пить ее ласку и нежность, как живительный источник, по многу раз на день. И в благодарность за это он постарался быть бережным и аккуратным, укладывая ее на пол.
— Я больше не могу… — простонала Петра часом позже, стискивая колени и потирая рукой низ живота, пока Димитрий неподвижно лежал рядом, расслабившись и закрыв глаза. — Я больше не могу смотреть на эти стены. Они такие чужие и холодные. Я хочу их перекрасить.
Он повернул голову, чтобы убедиться, что не ослышался, и тогда они посмотрели друг на друга и расхохотались.
Конечно, краску выбирала она сама. И конечно, даже слышать не захотела о том, чтобы пригласить мастеров для этой работы.
— Ты такой большой и сильный, Дим, — дразнилась Петра, подготавливая все для работы, — неужели не управишься с маленькой кисточкой?
— Для этого есть специально обученные люди, — ворчал он, сложив руки на груди.
В коротком джинсовом комбинезоне, надетом на белую футболку, она выглядела так, что ему еще больше хотелось утащить ее подальше от банок и валиков в соблазнительную мягкую постель.
— Ты сноб, — шутливо фыркала она, — ужасный, высокомерный сноб, который не умеет красить стены и не желает в этом признаваться.
— Я все умею, когда захочу, — шипел он, наступая, и на какое-то время скучная работа по покраске стен откладывалась. Но возвращаться к ней все же приходилось.
Дурацкие кисти объявили ему войну и отказались слушаться, а проклятая краска не желала ложиться ровно, а девочке-скале было все нипочем. Она порхала на лестницу и обратно, отдаваясь своему занятию так же страстно, как недавно отдавалась Димитрию. Наконец, горделиво подбоченилась и сверкнула глазами:
— Ну, как тебе?
— Цвет какой-то пошлый, — произнес он ровным голосом и сделал скучающее лицо.
— И никакой не пошлый, — ничуть не обиделась Петра. — Солнечный, апельсиновый, радостный цвет. Чувствуешь, как настроение сразу поднимается?
Она потянулась и мазнула его по лицу испачканными к краске пальцами, а он улучил момент и прижал ее к себе, потерся бедрами и сделал вид, что прислушивается к ощущениям:
— Вот теперь чувствую. Поднимается.
— И кто из нас еще пошлый, — она вывернулась из его рук. — Ну признайся, что тебе нравится. Признайся, а?
— Не-а, — покачал он головой, — я в этой комнате теперь вообще не усну. Она теперь мне цирковой шатер напоминает.
— Сам ты цирковой шатер, — не сдавалась Петра. — Это апельсиновый сад. Знаешь, у меня на родине апельсиновые сады занимают целые долины. Бывает, вот так стоишь на холме, смотришь вдаль, а в глазах пестро-пестро. Но больше всего мне нравилось в уборке участвовать. Такой запах от плодов. Руки потом пахнут сильно. Особенно, если увлечься и съесть штук пять. — В ее глазах впервые за долгое время появилось что-то похожее на тоску. — Знаешь, я скучаю по запаху апельсинов. Но по запаху океана скучаю больше.
Димитрий посмотрел на нее долгим взглядом. Провел ладонью по ее лицу, словно желая стереть грустные складки в уголках губ. Внутри шевельнулось что-то подспудное, какая-то мысль, которую он никак не мог ухватить, чтобы хорошенько обдумать.
— Кто ты, девочка-скала? — произнес он вполголоса. — Я ведь ничего о тебе не знаю.
— Как и я о тебе, — попыталась улыбнуться она, нежась щекой в его ладони. Тряхнула головой, сбрасывая остатки меланхолии. — Хотя нет, я уже хорошенько тебя изучила. Твой любимый цвет — черный, любимое блюдо — мясной пирог, ты обожаешь, когда тебе моют спину, и совершенно не умеешь красить стены. А еще ты — моя чайка. И вообще, у нас с тобой стопроцентное совпадение.
— Это по какой такой статистике? — хмыкнул он.
— По той самой, — важно приосанилась Петра, — по которой чайки и скалы созданы друг для друга. — И тут же взвизгнула. — Эй. Поставь меня обратно. Куда ты меня тащишь?
— Вить гнездо. Но сначала спину мне потрешь.
Отмываться от краски было приятно. Особенно, вдвоем.
Когда с ремонтом, наконец, покончили, он отвез девочку-скалу показать свободному народу. Именно ее — им, а не наоборот. Петра с неподдельным изумлением спускалась под землю, широко распахнутыми глазами изучала ходы, узлы и перевития коммуникационных труб над головой.
— Город под городом… — охала она, — кто бы мог подумать? Здесь так тихо… он заброшен, да? Как тот темпл неизвестного бога? Ты сказал, что тут живут люди, но никого нет…
— Все есть, — губы Димитрия кривились в полуулыбке, пока он уверенно двигался в переходах и хитросплетениях поворотов, чутким слухом улавливая шепоток, по обыкновению бегущий далеко впереди, — все на месте.
— Но почему мы их не видим?
— Потому что это их задача — смотреть на нас.
Он привел ее в самый центр подземного царства, в большой грот, поставил посередине, обнял сзади за плечи, как самое драгоценное из сокровищ, и по очереди повернул к каждому из семи приводящих сюда тоннелей, негромко повторяя:
— Смотрите. Смотрите все. И не говорите потом, что не видели.
— Кто должен смотреть? О чем ты? — Петра удивленно оглядывалась на него и неловко переступала ногами.
Но его глаза, устремленные вдаль, в глубину освещенных факелами обманчиво безлюдных коридоров, лучились холодом:
— Они знают, о чем я. Теперь можешь ходить по городу без страха. Никто ни в одном из районов не тронет тебя. Не посмеют.
Лицо у Петры из растерянного мгновенно стало серьезным. Она помедлила, а затем сосредоточенно кивнула.
— Хорошо. Если тебе так будет спокойнее — тогда ладно.
"Если тебе так будет спокойнее". "Если тебе…". И тут впервые за несколько недель голос в башке расхохотался. "Она думает только о тебе, она воспринимает твою заботу, как что-то полезное прежде всего для тебя самого. И твою квартиру она переделала для тебя. Она пытается тебя изменить. Но мы-то с тобой знаем, дружок, что такие, как мы, не меняются. Мы-то знаем…"
— Что с тобой? — девочка-скала с тревогой заглянула ему в лицо. — Что-то болит? У тебя, кажется, глаза как-то потемнели…
— Голова. Уже проходит, — он даже смог улыбнуться, содрогаясь изнутри от картинок, которые плясали перед мысленным взором. — Поехали к побережью? Ты скучаешь по океану? Я подарю тебе океан.
— Прямо сейчас? — Петра вспыхнула, ее дыхание взволнованно участилось, а глаза снова по-детски доверчиво распахнулись. — Это же далеко. С ума сошел?
— Сошел, — он начал целовать ее, нежно смаковать ее губы, подавляя в себе резкое, нестерпимое желание делать с ее ртом кое-что другое. — Я сошел с ума, сладенькая. От тебя. Соберем вещи и поедем. Согласна?
— Согласна. Конечно согласна, — бесхитростно просияла она, но тут же озадачилась: — А как же твои дела? Как же Ян?
— Улажу все с Яном, — тряхнул он головой, все больше загораясь этой идеей вместе с ней. — К темному богу его, этого Яна. И без меня справится.
Он взял девочку-скалу за руку и повел за собой к выходу наружу, а в затылок ему летел шепот: "Беги, волчонок. Беги… Но от себя не убежишь".
Собирая вещи, Петра наткнулась на фотографии. Те самые, сделанные одним жарким солнечным днем у заброшенного темпла. Она села на полу, держа на коленях прямоугольные карточки, закусила губу и слегка покраснела, разглядывая их. Так и застав ее в спальне, Димитрий неслышно прошел мимо и опустился на край кровати. Петра смотрела на фото, а он изучал ее лицо и по выражению старался угадать, что же она видит.
— Хочешь взглянуть? — подняла вдруг она голову.
— Нет, — мягко ответил он. — Я потом посмотрю. Позже.
В этот момент для него уже было все решено. Он не будет смотреть. Достаточно того, что Петра не кричит, не отбрасывает снимки и не переводит на него полный ужаса взгляд. Значит, чудовище тогда отлично замаскировалось. Его не видно. Ей, девочке-скале, не видно. Но это не значит, что его там нет.
Петра, сидящая на полу, улыбалась, и взгляд у нее был мечтательный.
— Ты такой красивый… — пробормотала она, — камера любит тебя. Хочу, чтобы ты чаще позволял себя фотографировать.
— Нет, — его голос, к счастью, прозвучал спокойно. — Я не буду этого делать.
На короткую секунду она глянула на него, но ее очевидно больше влекли снимки и происходящее на них. То, от чего у нее вдруг так разгорелись щеки.
— Жаль. Хотя… это был порыв. Вряд ли его можно повторить нарочно. Смотри, мне даже не верится, что это мы.
Он едва успел отвернуться, прежде чем Петра показала снимок, но перед глазами все-таки мелькнула серая стена старого темпла и две фигуры на ее фоне. Одна из них точно принадлежала хрупкой девушке, а большего ему видеть и не хотелось.
— Надо их сжечь, — Петра легла на пол, подняла фотографию на вытянутой руке над собой и улыбнулась. — Такое никому не покажешь. Придется уничтожить.
Димитрий посидел еще немного, наблюдая за выражением тихого счастья на ее лице, а затем вышел из спальни. Его исчезновения она даже не заметила.
Ян, встретивший его в темпле темного бога, выглядел далеко не радостным.
— Вы посмотрите, кто к нам идет весь такой влюбленный, — всплеснул он руками.
— Заткнись, — миролюбиво посоветовал ему Димитрий.
— Я-то заткнусь, — не унимался Ян, спускаясь вместе с ним на нижние этажи, — меня-то заткнуть нетрудно. Вот только дел меньше от этого у нас не станет.
— Подождут дела. Я беру отпуск.
— Извини… что? — закашлялся его друг.
— Отпуск, Ян, — терпеливо повторил Димитрий. — Отпуск.
— Надолго?
— На неделю. Может, меньше.
— Да за неделю у нас тут конец света без тебя случится.
— А ты на что? — Димитрий остановился и похлопал Яна по плечу. — Вот ты и не допусти конца света. Я верю в твои силы.
— Верит он, — недовольно пробурчал тот. — Вы посмотрите, каким верующим заделался. И, между прочим, у тебя гости.
Новость прозвучала зловеще, и Димитрий насторожился. Обычно гостями в его комнатах под темплом были лишь те, кого он приглашал лично.
— Кто?
— Хрен какой-то в пальто, — огрызнулся еще сердитый Ян. — Не снизошел он, чтобы имя свое мне называть. Второй день приходит и ждет тебя, пока ты где-то прохлаждаешься.
— Как ты его пустил без моего ведома?
— А ты его попробуй не пусти, — Ян остановился и распахнул перед своим господином двери. — Иди и убедись сам.
При их появлении незнакомец в черном — на вид чуть моложе самого Димитрия — удобно устроившийся в его любимом кресле, подался вперед с дружелюбной улыбкой на лице. Компанию ему составляли шесть женщин, рассевшихся кто где: на диване, кровати и стульях. Все они тоже выпрямили спины, как по команде. Димитрий обвел их взглядом, по привычке анализируя степень опасности и наличие оружия. Ни того, ни другого его чутье у гостей не обнаружило. Это ему не понравилось, он предпочитал явную угрозу вместо скрытой.
— Чем обязан удовольствию? — бросил он, пересекая комнату по направлению к столу. Взял графин, плеснул себе воды и сделал глоток, готовый в любую секунду развернуться и отразить атаку, если визитеры польстятся на провокацию.
— Что ты, — откликнулся незнакомец и поднялся из кресла, — это я пришел доставить себе удовольствие и познакомиться с тобой. Здравствуй, брат.
Со стаканом в руке Димитрий повернулся, несколько секунд помолчал, а затем качнул головой и рассмеялся. Он привалился бедром к краю стола и расслабил напряженные плечи.
— Сколько? — выдавил он сквозь смех.
— Что "сколько"? — не понял незнакомец.
— Ну сколько ты планировал с меня поиметь за свою слезливую сказку о потерянном брате? Мне просто интересно. Сколько денег? Если сумма невелика, я прикажу Яну отсыпать тебе чуток монет, лишь бы ты свалил и больше не мозолил мне глаза.
Тот нахмурился и перестал выглядеть дружелюбным.
— Нисколько. Ты зря встречаешь меня в штыки, когда я пришел к тебе с миром.
Так же резко, как и начал, Димитрий перестал смеяться и посмотрел на собеседника холодным высокомерным взглядом.
— Я что, похож на того, кто ищет потерянных родственников? Или, может, смахиваю на слепоглухонемого идиота, которого легко обмануть? Ты не волк, от тебя им не пахнет. Значит, даже сам вопрос о нашем родстве уже считается закрытым.
— Может, я и не волк, — глянул на него исподлобья незнакомец, — но когда-то был им точно. Я родился полукровкой, постыдным результатом насилия твоего отца над моей матерью. Тем, кого стеснялись показывать людям и прятали дома подальше от чужих глаз.
— Полукровок не бывает, — отрезал Димитрий. — Твоя мать не смогла бы забеременеть от моего отца, не будь она белой волчицей, это известный факт.
— Ты многого не знаешь. Твой отец нашел способ и сделал ей меня. И поверь, мне далось нелегко все исправить и стать тем, кто я есть теперь, — он развел руками. — Пришлось даже умереть. Но это долгая история, которую я расскажу тебе как-нибудь в другой раз, брат. А пока, раз уж ты не слепой, посмотри хорошенько. Посмотри и скажи, так уж ли я не похож на нашего дорогого общего родителя?
С этими словами он подошел к Димитрию и остановился перед ним в демонстративной позе, вскинув подбородок и уперев руки в бока. Затем медленно повернул лицо в одну сторону и в другую. Его черты были скульптурными, с характерным разлетом темных бровей, высокими обтянутыми бледной кожей скулами, благородным профилем и прямым носом. Димитрий смотрел, и увиденное делало его хмурым и задумчивым.
— Как тебя зовут? — наконец бросил он.
— Алан, — убедившись, что лед тронулся и тон разговора изменился, тот даже не стал скрывать довольной ухмылки.
— Сколько тебе лет, Алан?
— Я младше тебя где-то на два или три года. Что лишний раз доказывает, как некрасиво поступил наш дорогой отец, закрутив роман практически одновременно и с твоей, и с моей матерью. У тебя ведь, кажется, есть еще родные брат и сестра? — он покачал головой и вздохнул. — Как же нас много…
— Нет никаких "нас", — Димитрий смерил его взглядом. — Моей семьи не касаются те, кого Виттор наплодил вне брака. Он — известный любитель сунуть в каждую свободную дырку. Почему бы тебе не пойти и не броситься к нему на грудь в поисках любви и участия? В конце концов, это он обрюхатил твою мать, с него и спрос. Чего ты от меня-то хочешь?
Глаза Алана впервые за все время перестали лучиться дружелюбием и полыхнули злобой. Словно смертельный, выжигающий все живое огонь на мгновение прокатился по комнате, заставив вздрогнуть и без того довольно напуганного Яна, и растворился в воздухе, не причинив никому вреда. Только чуткий нюх Димитрия уловил слабый запах гари, а небольшие волоски на руке, поднятой со стаканом к груди, оплавились.
И тут догадка пришла сама собой.
— Ты…
— Ведьмак, — со скучающим видом подсказал Алан, сделал ленивое движение пальцами, и стакан в ладони Димитрия лопнул, рассыпался дождем осколков и брызг. — Собственно, это и помогло мне перестать быть волком. Магия оборотничества противоположна ведьминской, в одном теле сочетать их нельзя. Как видишь, я пришел к тебе не как слабый попрошайка, желающий прибиться к более сильному и влиятельному родственнику. Я пришел тебе, как партнер — к партнеру.
Он вернулся обратно к креслу и уселся, закинув ногу на ногу, пока Димитрий стряхивал с мокрой руки куски стекла. Глянул на старшего брата уже без притворства, цепко и расчетливо, как готовый к броску зверь, выслеживающий добычу.
— Я не ищу отцовской любви, как ты мог подумать. Скажу тебе больше: я ненавижу этого старого ублюдка. Все хорошее, что должен чувствовать ребенок к родителю, во мне давно перегорело. Всю жизнь я не мог понять, почему он заставил мою мать родить меня, если я был ему не нужен? Только как средство управлять ею? Неужели он не понимает, что я — живой человек со своими горестями и радостями? Неужели я для него — как вещь, сегодня достал с полки, а завтра задвинул обратно? Неужели он не любит меня только потому, что я родился не таким, как надо? Не таким, как ему хотелось? Разве тебя никогда не посещали подобные мысли?
Димитрий слизнул кровь, выступившую на пальце в том месте, где его рассек осколок, и промолчал. Его лицо оставалось непроницаемым.
— Почему, папа? — продолжил Алан, и его скрюченные пальцы впились в подлокотники кресла, а губы скривились, обнажая ровные белые зубы. — Вот что я всегда хотел спросить у него. Почему ты меня не замечаешь? Почему я недостоин тебя? Почему ты даришь свое внимание каким-то другим детям, а не мне? Почему? Почему?
— Он тебе не ответит.
— Конечно он мне не ответит, — фыркнул Алан, перестав царапать подлокотники. — Поэтому я и не собираюсь разговаривать с ним. Ты хотя бы носишь его фамилию, меня он отказался даже признать официально. После этого, знаешь ли, не до задушевных бесед.
— Ян, подай гостям вина, — бросил в сторону Димитрий, но его взгляд оставался прикованным к человеку, сидящему в кресле. — Так в чем цель нашего знакомства?
— Я хочу ему доказать, — Алан жестом отказался от предложенного бокала, — хочу доказать, как он ошибался, когда посчитал меня отбросом, выродком, ничтожеством, недостойным носить звание наследника. Хочу взлететь так высоко, чтобы ему пришлось смотреть на меня, задрав голову. И тогда, когда я стану уважаемым человеком, когда все захотят со мной дружить, я буду игнорировать его и не замечать так же, как он игнорировал и не замечал меня. Мама не поддерживает мою идею, она и мое знакомство с тобой бы не одобрила, поэтому пришлось действовать тайком на свой страх и риск. Мне подумалось, что ты захотел бы разделить со мной сладкую месть и утереть нос нашему отцу, а вдвоем добиться цели гораздо проще.
Димитрий помедлил, пока Ян раздал вино женщинам и снова отошел к двери.
— Я устал кому-то что-то доказывать, — наконец вполголоса произнес он. — И я привык рассчитывать только на себя. Если захочу отомстить кому-то — справлюсь сам.
— Сам? — Алан вскинул бровь, а затем рассмеялся. — Сам? Ты всерьез считаешь, что все это время жил сам по себе? Никогда не задумывался, почему тебя приняли в этот темпл? Приняли буквально с распростертыми объятиями, как родного? Почему тут нашлось и место, и занятие для тебя? То самое, которое сделало тебя богатым? А твой помощник? Ты принял как само собой разумеющееся, что кто-то пожелал служить тебе, когда все от тебя отказались?
Лицо Димитрия стало каменным. Он повернулся к Яну, топтавшемуся у дверей, и остановил на нем пронзительный взгляд.
— Братишка, я серьезно не знал… — побледнел и забормотал тот, прижимая руки к груди в жесте искреннего признания, — я не помню, кто именно подошел ко мне и попросил отыскать тебя… сестренка болела… мне же обещали, что поправится… а потом мы с тобой так сдружились…
— Моя мама вылечила ее, — кивнул Алан. — Она — потомственная знахарка. Мы знали о твоей жизненной истории, о жестоких убийствах, которые ты совершал. Следили за тобой все эти годы. И невидимой, но заботливой рукой помогали. Мы жалели тебя, брат, потому что даже такое чудовище, как ты, достойно любви и жалости от тех, кто тебя понимает. Поэтому не говори больше мне, что ты не привык ни на кого полагаться.
— Темный бог меня поцеловал, — процедил Димитрий, отворачиваясь от Яна с таким видом, что тот совсем спал с лица.
— Темный бог… — опять развеселился Алан, — как человек, особо приближенный, могу ответственно заявить: темный бог только смотрит. Делают — люди.
— И что же я теперь должен сделать? — сложил руки на груди Димитрий.
— Стать первым лицом государства. А мы, ведьмы Цирховии, готовы тебе в этом помочь.
По жесту Алана молчаливые и неподвижные прежде женщины вскочили со своих мест и упали на колени. Димитрий обвел взглядом их склоненные в позе покорности головы.
— Первое лицо государства — канцлер.
— Поэтому мы убьем канцлера, — охотно подхватил Алан.
— У него есть наследники престола. Семья и дети.
— Мы убьем и его семью, и его детей.
Губы Димитрия растянулись в слабой недоверчивой улыбке.
— Зачем тогда тебе я? С твоей ведьминской силой ты прекрасно справишься сам.
— Из-за твоего родства с ним, — пожал плечами Алан. — Твоя мать является дальней родственницей правящей ветви, а в нашей стране нет ничего сильнее кровных связей. После смерти основных властьимущих, твое восхождение будет выглядеть самым естественным решением проблемы. Мне это, увы, не светит. Даже мое рождение от Виттора тут не поможет. Я, конечно, могу уничтожить особо языкастых, но всех, всю страну, красиво нагнуть не смогу. К тому же, стоит другим странам узнать, что у нас нарушилось престолонаследие, как сразу подтянутся захватчики. Нет, дополнительные конкуренты нам ни к чему. Тут требуется поступить аккуратно и изящно, чтобы комар носа не подточил. Вот зачем мне нужен ты.
Он вскочил с места, подбежал к Димитрию и схватил того за плечи, с жаром заглядывая в глаза.
— Этот союз будет выгоден нам обоим, брат. Во-первых, мы все же утрем нос отцу. Во-вторых, ты будешь владеть страной, целой страной, ты только подумай. Ну а я… я скромно буду стоять рядом с тобой и наслаждаться званием твоей правой руки. Согласись, это невеликая плата за помощь.
Димитрий улыбнулся шире и тоже положил ладони Алану на плечи.
— А что, если я не хочу владеть страной, брат? — подражая взволнованному голосу собеседника, передразнил он. — Что, если меня устраивает мое нынешнее место? Ты ведь даже не спросил, чего я хочу. Но я тебе отвечу: покоя. Я хочу, чтобы меня все оставили в покое.
— Ты просто не знаешь, от чего отказываешься, — упрямо настаивал Алан, проигнорировав его саркастичный тон. — Как можно отвергать то, что еще не попробовал? Ты когда-нибудь ощущал настоящую власть? Ты стоял над переполненной площадью, на которой каждый пред тобой преклонился? Ты представляешь, что такое быть всеми любимым, всеми обожаемым и пользоваться неограниченным уважением народа?
Ведьмы, тем временем, поднялись с колен и тоже взирали на Димитрия с надеждой. Он отвернулся.
— И самое главное, — чуть встряхнул его за плечо Алан, — подумай, как будет смотреть на тебя отец, когда ты взойдешь на трон. Вот тогда он тебя заметит. Ты уже предвкушаешь, как будешь разговаривать с ним свысока? Ему тоже придется кланяться перед тобой наравне со всеми.
Резким движением Димитрий сбросил его руку с себя и отошел к противоположной стене. Задумавшись, сделал несколько шагов обратно и остановился.
— И как ты себе представляешь это восхождение?
— Постепенным. Нам понадобится армия, чтобы подавить зачатки бунта, если он возникнет при попытке сменить власть. И в этом я тоже без тебя не обойдусь, брат. Когда-то наш отец поведал моей матери древний секрет, который тщательно охраняется стариками. Ты слышал про закон о чистоте крови? Поэтому моя мать прятала меня до определенного момента. Было время, когда полукровок убивали вместе с теми, кто посмел их породить. Считали их неразумными, не умеющими держать контроль над внутренним зверем, а потому смертельно опасными для всех остальных. Но нам такие могут быть полезны. В особой слюне белых волков содержится особый яд. Если укусишь человека — он может стать бурым оборотнем… и твоим покорным слугой. Это будет безусловное подчинение бет своему альфе. Прикажешь им убивать — будут рвать в клочья ради тебя. Прикажешь ползать на брюхе — поползут. И слушаться будут, заметь, только тебя одного. Не меня и не кого-то другого. Абсолютная власть, брат, и только твоя.
Алан наклонился, пытаясь разглядеть в глазах Димитрия хоть какую-то искорку воодушевления, но наткнулся лишь на равнодушие и скривился.
— Потом мы подстроим смерть канцлера. Этот шаг мы с ведьмами возьмем на себя. Обставим, как несчастный случай, который еще долго будут оплакивать в народе. Заодно и численность аристократии слегка проредим, давно пора. А потом мы просто придем в парламент, — он сделал резкое хватающее движение ладонью, — и возьмем все, что нам причитается.
— Я подумаю.
Алан скрипнул зубами и отошел, его кулаки сжались.
— Ну что тут еще можно обдумывать? — выпалил он.
— Мое желание напрягаться, — спокойно ответил Димитрий. — Раз уж все завязано на мне, предпочту не торопиться с решением.
Алан выдохнул и расслабил руки.
— Оставьте нас на секунду, — обратился он к женщинам и Яну. — Могу я пару слов сказать брату наедине?
Те переглянулись и пожали плечами. Раздался шелест длинных юбок, перестук каблучков, и через полминуты Ян аккуратно прикрыл за всеми двери с наружной стороны. В тот же миг Алан вскинул руку и щелкнул пальцами. Димитрий замер как был, его глаза заволокло черной пеленой. Его брат деловито засучил рукав, уже не сдерживая гримасу злости. Подобрав с пола осколок, он порезал себе большой палец.
— Моя мать была слишком добра к тебе, — свистящим от ненависти шепотом проговорил он, отклоняя голову Димитрия, чтобы было удобнее добраться до его шеи, — но я таким добреньким не буду. Считаешь себя достаточно сильным, чтобы сопротивляться нам? Позволяешь себе смеяться мне в лицо и "думать" над моим предложением? Слишком чистый, чтобы марать вместе со мной руки?
Алан умолк ненадолго, старательно выписывая на коже брата нужные символы, бросил несколько слов на древнем языке, а потом наклонился к уху Димитрия:
— Я хочу, чтобы ты сделал что-то, после чего уже никогда не сможешь жить, как раньше, и считать себя правым. Что-то по-настоящему ужасное и непостижимое даже твоему рассудку. Пусть тебя накроют ненависть к себе и отвращение настолько мощные, насколько хватит моей силы. А я очень силен, брат. Я хочу, чтобы твоя семья, наконец, была уничтожена. И тогда ты придешь ко мне и сделаешь все, что потребуется.
Он отошел, вынул из кармана платок, тщательно вытер кровь с пальца, уничтожив все следы своего преступления. Злость и ненависть тоже исчезли с его лица, уступив место хорошему настроению.
— Покоя он хочет.
Алан насмешливо фыркнул и щелкнул пальцами. Глаза Димитрия просветлели, и он встряхнулся, будто очнувшись от долгих размышлений.
— В общем, подумай, брат, — улыбнулся ему Алан. — Ты ведь внимательно слушал все, что я сказал?
— Да… — неуверенно ответил тот, поморщился и прижал стиснутый кулак к виску.
— Ну вот и хорошо. Тогда до скорых встреч.
И с этими словами, гордо подняв голову и заложив руки за спину, человек в черном вышел за дверь, оставив Димитрия в одиночестве.
Цирховия Двадцать восемь лет со дня затмения
В резиденции канцлера с давних пор было принято давать роскошный прием по случаю старта двухнедельных празднеств, предшествующих началу зимы и дню восхождения светлого бога. К этому времени в Цирховию только-только прокрадывались первые морозы, ночами срывался снежок, а дети уже предвкушали настоящее раздолье, катание на санках и коньках и битвы ледяных крепостей. Впереди их ждали костюмированные представления заезжих артистов и горы сладостей, которые будут раздавать на улицах, когда из темпла светлого понесут в народ вылепленные из крашеной глины фигуры святых. А еще каждый сможет приложиться к статуям и загадать сокровенное желание на грядущий год.
Заняв трон, наместник не стал нарушать традицию несмотря на то, что с некоторых пор эта дата совпадала с годовщиной печальных событий — гибели семьи канцлера и многих аристократов. Заразившись от правителя равнодушным отношением к прошлому, в его дом стекался весь цвет состоятельного населения столицы, чтобы повеселиться от души. В огромном зале для приемов жарко разжигали оба камина, чтобы гости могли насладиться теплом, подавали им лучшие закуски и напитки, развлекали игрой самых искусных музыкантов и выступлениями самых лучших танцовщиц. В воздухе витали ароматы дорогих духов и сигар, звучал звонкий женский смех, и щедро раздавались неискренние комплименты.
Северина давно привыкла к участию в подобных мероприятиях и поэтому в самом начале вечера заняла стратегический пост на удобной кушетке у стены. Слуга с поклоном поднес ей бокал шампанского и поставил у ног высокую вазу, полную даров Нардинии: крупного, лопающегося от сока винограда, солнечных оранжевых апельсинов, мелких зеленоватых мандаринов, ароматных ломтиков дыни и терпкой, вяжущей рот хурмы.
Зал постепенно заполнялся людьми, какие-то лица были ей знакомы и приятны, некоторые — были знакомы, но вызывали неприятие, многих она видела впервые. Жизнь не стояла на месте, а бесконечно менялась, и одни промышленники разорялись и уходили в небытие, а другие — взлетали на гребне успеха ввысь и получали приглашение стать частью элиты. Димитрий на эти приглашения никогда не скупился, правда, не особо и помнил, кому именно их рассылал. Раньше на приемах появлялись лишь белые волки, теперь же освободившиеся места вольготно заняли и бурые оборотни, и успешные люди. Наместник словно искал чего-то или кого-то, и чем оглушительнее гремели его праздники, тем больше длился период уединения, когда он запирался ото всех в темпле светлого, требуя оставить его в покое. Долгие годы Северина имела несчастье наблюдать за его метаниями, но вмешиваться никогда не пыталась.
Зачем? Ей нравилось, что он страдал. В конце концов, он заслужил все это. За то, что сделал с ней, с Алексом, с собственной сестрой. Если бы Северина заранее знала, как все обернется, если бы она могла хотя бы попросить у Эльзы прощения за собственную глупость… но она не могла. Даже получая от сбежавшей подруги скупые письма и отвечая на них в режиме строжайшей секретности, так ни разу и не написала, что раскаивается. И даже видя Алекса почти каждый день, только порывалась поговорить с ним — и тут же гасила в себе порывы. Она просто не умела просить прощения, ее не научили в детстве, не объяснили нужные слова, а теперь, кажется, стало поздно перевоспитываться. Нет, видимо, не зря ей с Димитрием суждена одна общая дорога, и с этой дороги им уже не сойти.
Вот-вот ей должно было исполниться двадцать девять. Она вполне ощущала себя на свой возраст и находилась в самом расцвете красоты и женских сил. Она добилась почти всего, чего хотела в юности. Почти всего. Женщины завидовали ей, заглядывали в рот и со всех ног бросались выполнять просьбы, лишь бы войти в круг доверенных лиц и стать одной из "лучших", "близких" подруг. В душе Северина смеялась над ними. У нее не было подруг, никогда и никого, кроме Эльзы, и за прошедшие годы ничего не изменилось. Но ей нравилось управлять и повелевать, поэтому остальные сучки могли тешить себя иллюзиями, сколько влезет.
Мужчины не скрывали своего обожания, когда смотрели на нее. Они хотели ее, неприступную, возвысившуюся над ними, как лакомый фрукт, который невозможно сорвать. Кто бы мог подумать, что когда-то, в школе, ее не замечали? Иногда служанка приносила Северине послание от того или иного безумца, уверявшего, что он готов рискнуть всем, даже собственной жизнью, ради одной-единственной ночи с ней. Она добилась почти всего. Почти. Как же много значит это слово, когда речь идет о простом женском счастье.
В зале появился Ян, и это говорило о том, что вскоре среди гостей покажется и Димитрий. Северина залпом допила шампанское и сделала слуге знак освежить напиток. Она расправила складки длинного, в пол, алого платья, выгодно оттенявшего ее черные волосы и серебристые глаза, и будто бы случайно пересеклась с начальником охраны взглядом.
Милый, добрый Ян. Сколько раз он держал ее, согнувшуюся от рыданий на полу, в объятиях и бормотал слова утешения. Сколько раз она била его по лицу, когда он не пускал ее к своему господину. Била, хоть и знала, что он делает это ради ее блага, он щадит и жалеет ее, потому что только ему известно, как бывает страшен гнев наместника, когда тот не желает никого видеть. Ян был в курсе почти всех перипетий ее отношений с Димитрием — не потому, что интересовался этими перипетиями, а потому что всегда стоял близко, слишком близко к тому, кому служил всю свою жизнь. Однажды Северина предложила ему заняться сексом — не потому, что хотела, а от ярости и боли, заполнивших ее изнутри, — и тогда Ян с сочувствием посмотрел на нее, грустно улыбнулся и ушел, не сказав ни слова.
С другими он не был столь сдержан. Северина прекрасно знала, кто согревает постель Димитрия, и очень часто наскучившие наместнику подружки плавно перекочевывали в постель его правой руки. Думали, что так смогут удержаться поближе к правителю и иметь какое-то влияние на него. Северина фыркала и смеялась от этой мысли. Свежая информация являлась ее главным оружием, и год за годом забавные услужливые сплетницы-пташки приносили на хвостиках одно и то же. Ян исправно трахал всех, кто подворачивался, но его верность принадлежала только господину.
Северина вообще всегда была в курсе, кто и кого трахает в большом и богатом доме. Знала о каждой мимолетной интрижке среди слуг, о том, что старая кошелка Ирис, имеющая в своем распоряжении отдельное крыло резиденции, периодически водит к себе молодых мужчин, как правило подкачанных, высоких и ясноглазых. Северина ненавидела Ирис еще со школы, но судьба вновь и вновь сталкивала их, заставляя вращаться в одном узком круге знакомых. А сынок ведьмы, единокровный брат Димитрия, проживающий с матерью, всегда внушал Северине тихий и безотчетный ужас одним своим взглядом. Стоило случайно остаться с ним в комнате, как по ее коже бежали мурашки. И он ни с кем не спал. Ни мужчины, ни женщины его не интересовали, уж она бы узнала, если б это было не так. Как молодой мужчина может добровольно отказываться от секса? Ради чего? Это в нем пугало Северину тоже.
Ян убедился, что все готово, и исчез. Замолк музыкальный квартет, по толпе разодетых гостей прокатилась волна возбужденного шепота, двери распахнулись — и вошел Димитрий. Он был великолепен. Впрочем, как и всегда, как в каждый из дней, прожитых Севериной на расстоянии вытянутой руки от него. Его белый парадный костюм отлично сидел на крепкой фигуре, золотые пуговицы сверкали в свете ламп, светлые перчатки облегали кисти рук, волосы — тщательно подстрижены и красиво уложены парикмахером. Даже со своего места в отдалении Северина ощущала его запах: тонкий, дорогой аромат парфюма, мыла… и порока.
Гости хлынули к наместнику со всех сторон. Молодые люди обступили его с обожанием на лицах. Он смеялся, показывая ровные зубы, хлопал кого-то по плечу, пожимал протянутые руки, подмигивал разодетым девицам, едва ли не повизгивающим от желания рядом с ним, но его глаза оставались холодными, как лед. Холодными и лишенными даже тени улыбки. И видя этот взгляд в тысячный раз, Северина отпивала шампанское из бокала и спокойно покачивала ногой. Она слишком хорошо его знала.
Димитрий повернул голову и коротко, официально кивнул ей, и она ответила ему тем же образом. Между ними все было сказано. Тут же к нему подплыла и прильнула к плечу одна из бурых волчиц, с яркими медными прядями в темной копне волос и пухлыми, будто созданными для поцелуев губами. Димитрий приобнял ее за талию, другой рукой принял бокал из рук крутившейся рядом блондинки — наверняка дочки какого-нибудь успешного торгаша — и вместе со своей свитой отправился к креслу с высокой спинкой, установленному в дальнем конце зала.
— Алисия завоевала сердце Его Светлости, — вздохнула одна из девушек, сидевших при Северине и составлявших ту самую тайную армию ее пташек.
— У Его Светлости нет сердца, — со злостью шлепнула ее по руке Северина. — По крайней мере, не для потаскушек вроде этой оборотнихи или тебя.
— Конечно, конечно, — покраснела и поспешила уступить собеседница.
Северина снова нашла взглядом кресло наместника и бирюзовое платье его подружки, усевшейся рядом. Все женщины Димитрия делились на три типа. Первый — как эта Алисия. Благородные или притворяющиеся благородными девки, с которыми ему тоже нравилось играть в благородного. Их он трахал, когда бывал в хорошем настроении, обычно на кровати, долго и терпеливо, до второго или третьего оргазма, и уходили они от него с трясущимися от изнеможения коленками и шальной горячей влюбленностью во взгляде.
Под второй тип подходили служанки и случайные свободные девицы, которые подворачивались ему под руку в минуты гнева. Таких он имел жестко, в любом месте, где придется, не заботясь об их ощущениях и сливая в их тела вместе со спермой ярость, клокотавшую внутри. И, наконец, существовал третий тип женщин, о котором Северина знала мало. Ей было лишь известно, что этих женщин для Димитрия выбирает Ян. Что происходило с ними за закрытыми дверьми покоев наместника — никто не ведал. Но самостоятельно выходить они не могли. Их выносили. А он становился тихим, задумчивым и будто погруженным в себя.
Северина жалела вторых и третьих, тихо ненавидела первых и страстно, отчаянно, до боли в закушенной губе мечтала оказаться на месте любой из них. Да, пусть так, пусть хотя бы через муки, но познать его. Но он предпочитал мучить ее по-другому.
Музыкальный квартет играл что-то легкое, и пары вышли танцевать. Алисия встряхивала длинными волосами, нежно улыбалась Димитрию, положив руку ему на плечо, пока он уверенно вел ее в танце по залу. И он тоже улыбался ей и слегка облизывал губы, бросая взгляды на ее пухлый рот. Северина стиснула пальцы — и раздавила бокал. Шампанское брызнуло ей на руку, на алое платье, девушки-пташки ахнули, кто-то побежал за салфетками, чтобы вытереть бегущую по запястью кровь, а мужчина в белом все кружил красавицу в бирюзовом, не обращая на них никакого внимания.
Она вскочила, с раздражением ругая саму себя за слабость. Ну что, в конце концов, значит эта Алисия? Рано или поздно Димитрий наиграется и с ней, и все пройдет. Только платье зря испортила. Но на душе все равно было гадко. Уйдет Алисия, придет новая любовница, а ее, Северины, очередь не наступит, похоже, никогда. Отпихнув услужливые руки помощниц, она кивнула слуге, подхватила мигом поднесенную ей меховую накидку, набросила на плечи и протиснулась через толпу на балкон.
Воздух оказался по-зимнему морозен и свеж. Луна в небе прибывала, оставляя считанные дни до момента, когда все бурые снова на одну ночь сойдут с ума. Северина мстительно искривила губы, представив Алисию взлохмаченной и голой, прикованной цепями к стене и завывающей, как дикарка, и откинула от лица прядь волос. Она сделала несколько шагов вперед, стараясь дышать глубже и остудить эмоции. За большими колоннами, поддерживающими над балконом крышу, сгустились черные тени, и когда одна из таких теней пошевелилась, Северина едва не схватилась за сердце от испуга.
Впрочем, это был всего лишь Ян. Он пил коньяк в широком невысоком стакане и курил, задумчиво выпуская вверх плотные струи дыма.
— Я ненавижу его, — без предисловий прорычала Северина, подошла и встала рядом, в глубине души испытывая облегчение, что подвернулся кто-то, на ком можно сорвать злость.
— Любить сиятельное Сиятельство непросто, — со смешком согласился Ян.
— Непросто? — едва ли не завопила она от негодования. — Невозможно — вот что будет вернее. Он… он гад, самый настоящий гад, мерзавец и потаскун. Когда-нибудь он доведет меня, и я убью его.
— Я убью тебя раньше, чем ты даже закончишь приготовления к его убийству, — тихим и спокойным голосом произнес Ян, глядя в темную даль, туда, где подмигивали огни неспящей столицы.
Северина резко выдохнула, отобрала у него из пальцев тлеющую сигарету и сунула себе в рот.
— Конечно, я не убью его. Просто хотелось сказать что-то плохое.
— Конечно, — кивнул Ян, и на секунду ей показалось, что на его губах мелькнула слабая, но нежная улыбка.
— Как ты можешь так любить его? — снова взвилась она. — Он выгнал тебя, ты даже не имеешь права показаться в одном зале с ним, стоишь тут и выпиваешь в одиночестве, пока все веселятся. И все равно ты его обожаешь.
— Я нужен ему, — пожал плечами Ян и сунул руки в карманы.
— Ему никто не нужен, — покачала головой Северина и тоже уставилась в темноту.
Они замолчали, стоя плечом к плечу и передавая друг другу догорающую сигарету. Выбросив окурок, Ян полез во внутренний карман пиджака, достал новую и подкурил. Северина хотела попросить и для себя тоже, но он сделал первую затяжку, убрал зажигалку и предложил сигарету ей. Когда она затянулась, то почувствовала, что руки Яна поправляют накидку на ее плечах.
— Иди в тепло, маленькая волчица. Ты тут замерзнешь в своем тонком платьице.
— Не называй меня маленькой волчицей, — Северина выпустила струйку дыма и чуть отвела пальцы, возвращая сигарету.
Одну на двоих. Ян взял ее, перенимая, как ритуал.
— Почему? — поинтересовался, попыхивая дымом сквозь зубы.
— Потому что так меня называет он…
Произносить имя Димитрия не хотелось. Да и нужды не было. На балконе стояли два человека, все мысли которых всегда вились только вокруг него одного.
— Он, — согласился Ян, помолчал и добавил: — И я.
Он сказал это таким тоном, что сердце у Северины оглушительно забилось. Она схватила стакан, глотнула обжигающе ледяного коньяка — почему-то ожидала, что напиток будет теплым, но откуда ж ему стать таким на морозе?
— Тише, тише, горло застудишь, — заботливо пробормотал Ян, отбирая у нее из рук спиртное. Так заботливо он прежде разговаривал разве что со своим господином.
И снова сигарета. Одна на двоих. Вдох. Выдох. Темнота. Тишина. Прибывающая луна. Димитрий… отсутствующий здесь, но незримой тенью стоящий между ними. Северина обхватила себя руками: все тело била дрожь, в глазах навернулись непонятно откуда взявшиеся слезы. Она впервые подумала, что никто и никогда не знал ее так, как Ян. Потому что никто не видел ее настоящей. А он — видел. При нем она не притворялась, потому что не считала нужным. Она никогда не рассматривала говорливого, насмешливого, полноватого Яна, как мужчину. Только как часть Димитрия. Поэтому выливала на него всю черноту, всю ненависть из своей души. А он смотрел и видел… что же он в ней видел?
— Ну вот, говорю же, замерзнешь, — Ян снова обнял ее, но на этот раз не отстранился, а остался стоять так, согревая теплом своего уютного, мягкого тела.
— У меня не было секса уже очень долгое время, — призналась Северина, по привычке не закрываясь от него защитным барьером высокомерия.
— Я знаю, маленькая волчица. Ты же знаешь, что я знаю.
Почему-то в его устах это обидное прозвище звучало иначе, чем у Димитрия. Не обидно. Нежно. Снисходительно. Любовно.
— Меня нельзя так трогать, как трогаешь ты, я мгновенно реагирую на мужские руки, — продолжила она, прикрыв глаза.
— Я сейчас отойду, — он неохотно пошевелился, как-то лениво отлепился от нее. — Вот уже отошел. Мерзни теперь сама.
— Нет, — с опозданием вспыхнула Северина, — я бы хотела… чтобы ты меня поцеловал.
Ян помолчал, отпил коньяк и снова засунул руки в карманы.
— Нет. Если он разрешит — тогда поцелую. А так — нет.
Это слово, сказанное сухим равнодушным тоном, обрушилось на нее, как огромный мельничный жернов. Северина согнулась, положив руки на перила балкона, коснулась мерзлого мрамора лбом и тихонько, жалобно заплакала.
— Я хочу, чтобы меня любили… — всхлипнула она, — чтобы хоть кто-нибудь… хоть когда-нибудь… любил меня так, как ты любишь его…
— О любви не просят, маленькая волчица. Так же, как о верности и преданности. Он не просит. Никогда.
— Я буду спать с другими мужчинами, — она выпрямилась и смахнула с лица злые слезы, надевая… нет, силком натягивая на себя привычную защитную маску. — Я уже все решила.
— Он не позволит тебе этого. Убьет любого, кто посмеет к тебе прикоснуться, — Ян усмехнулся, — если я не убью этого любого раньше Сиятельства.
— Ты жестокий, — она повернула к нему заплаканное лицо с влажными дорожками слез, блестевшими в лунном свете. — Ты такой же жестокий, как и он. Вы оба позволяете себе все, что захотите, а меня держите в заложницах и заставляете на это смотреть.
Ян неторопливо вынул из кармана платок и аккуратно промокнул ее веки, подправил тушь под слипшимися ресницами и подул на покрасневшую кожу.
— Если хочешь, я не буду больше ничего себе позволять, — терпеливо, как капризному ребенку, пообещал ей он. — Я не знал, что это имеет для тебя какое-то значение.
— Имеет, — бросила ему Северина, подхватила на плечах накидку и практически бегом покинула балкон.
В зал она вернулась в еще более расстроенных чувствах, чем уходила. Зачем, ну зачем сказала это Яну? Зачем буквально взяла с него обещание воздержания, зная, что это все равно ни к чему не приведет? Видимо, ее эгоистичную натуру уже ничем не переломить. Теперь он тоже будет мучиться, как и она, но она-то хотя бы свое наказание заслужила. Тем более, ее страшная, болезненная зависимость от Димитрия с годами никуда не делась и не денется уже никогда. Она почти добилась его. Почти. Но, пытаясь завладеть им, не учла, что в ответ он тоже завладеет ею, и это взаимное обладание окажется горьким, слишком горьким на вкус, как и послевкусие каждого их поцелуя. Она может попытаться вырваться, но на алтарь ее безумной, разрушительной любви принесено уже столько жертв, что дорога назад кажется невозможной.
Праздник входил в разгар, танцующие пары кружились по паркету под журчащие переливы голосов виолончели и скрипок. Музыканты знали свое дело, не зря их пригласили играть на такой торжественный прием. После свежего воздуха в помещении показалось жарко и душно, чужой смех звучал все громче, ударяя резкой болью по вискам. Северина поискала глазами бирюзовое платье, но не нашла, как и белый костюм наместника. Она подошла к одной из своих девушек, щебетавших на кушетке, выхватила у той из рук бокал и залпом выпила. Наверно, стоит напиться. Напиться, чтобы не думать ни о чем.
— Где Его Сиятельство? — спросила вялым голосом, не обращаясь ни к кому в отдельности.
— Он вышел около получаса назад, — откликнулась одна из подружек.
— И с ним была Алисия, — подхватила вторая.
— Слуга, разносивший спиртное, видел, что они направились в зимний сад, — продолжила третья.
Северина безрадостно улыбнулась. Конечно, ее пташки всегда знали все и обо всех, они привыкли к своей работе и выполняли ее без дополнительного напоминания.
— Вы — умницы, — похвалила она девушек, и у тех радостно заблестели глаза, — а теперь пройдитесь-ка по залу и соберите мне свежих сплетен к утреннему кофе. И не забывайте: наиболее болтливыми мужчины становятся в постели, а женщины — в уборной.
Живые стрелы, выпущенные ее уверенной рукой, тут же устремились в разные стороны, лавируя в толпе и выбирая свои цели. Северина же направилась к выходу, по пути прихватив с подноса пробегавшего мимо слуги еще бокал. Ян прав, о любви нельзя просить, и Димитрий никогда не просил, чтобы она его любила. Но она все равно шла за ним, как привязанная, и не могла отпустить. И в их брачную ночь он тоже поклялся, что ее не отпустит. Странные, больные отношения связали их задолго до этого прочнее уз брака.
Зимний сад располагался на первом этаже в виде пристройки к основному зданию, и от улицы его отделяло лишь двойное стекло крыши и стен. Здесь было достаточно прохладно, и Северина порадовалась, что не стала сбрасывать накидку. Пташки не обманули, наместник находился внутри, о чем свидетельствовала выстроившаяся у входа личная охрана. Приближаясь к ним по коридору, выстланному мягкой, скрадывающей шаги дорожкой, Северина окатила лица шестерых мужчин холодным высокомерным взглядом: ни один мускул не дрогнул ни у кого, и никто не посмел ее останавливать. Конечно, здесь ведь не было Яна, который беспокоился о том, чтобы она снова не обожглась о разъедающую душу любовь Димитрия. Сегодня, как и вчера, как и много-много вечеров до этого она в очередной раз превратилась в бабочку, летящую на огонь, чтобы сжечь свои крылья.
Свет в зимнем саду не горел, единственным источником освещения являлось слабое сияние луны, и экзотические деревья и растения казались в полутьме причудливыми фигурами животных. Северина постояла немного, вдыхая запах земли, удобренной специальными питательными смесями, и слушая журчание декоративного фонтанчика, который — как было ей известно — находился в самом центре павильона. Обстановка выглядела мирной, привычной и безобидной. Но уже через секунду ноздрей Северины коснулся плотный, амбровый шлейф духов Алисии, мускусный аромат возбужденного мужского тела, который она знала с шестнадцати лет и не перепутала бы ни с чем на свете, и едва слышный шорох ткани.
Она пошла вперед по каменистой дорожке и через десяток шагов наступила на скользкое бирюзовое пятно шелка, брошенное на землю. Безжалостно пройдясь по нему каблуками, Северина отвела от лица широкие плотные листья неизвестного ей растения и увидела впереди просвет небольшой аллеи, устроенной для отдыха. На самом краю, у бьющего из земли ввысь снопа тростниковых стеблей, стояла полупустая бутылка шампанского. Северина поставила рядом свой осушенный бокал, взяла ее и поднесла к губам, отчетливо ощутив на горлышке вкус губ Димитрия. Закрыв глаза, она откинула голову и сделала несколько глотков, чувствуя, что падает в бездну, из которой нет возврата. Почему-то в юности, девчонкой, делать это было легче, теперь же осознавать всю катастрофичность своего положения и собственное бессилие становилось невыносимо.
Так, с бутылкой в руке, она и вышла на аллею, остановилась, разглядывая полуобнаженную Алисию, прижатую спиной к постаменту святого Иакова — покровителя ученых мужей и дипломатов, и полностью одетого Димитрия, стоявшего между ее распахнутых ног. Иаков был высечен из мрамора сидящим на скамье с большим открытым фолиантом в руках, его кустистые брови хмуро сдвинулись, словно он выражал недовольство тем, что ему мешали предаваться науке. Откинувшись, Алисия примостила затылок как раз на его облаченную в летнюю сандалию ногу, а ее упругий зад уместился на небольшом выступе постамента, предназначенном для свечей, которые приносили и зажигали здесь только в день этого святого. Стиснув между двумя пальцами ее беззащитный розовый сосок, Димитрий ласкал губами шею девушки, вырывая из ее груди сладкие, протяжные вздохи.
Сегодня он играл в благородного. В глазах у Северины потемнело. Она практически почувствовала на своей коже эти тягучие, дразнящие прикосновения его языка и почти что сама застонала. Какая насмешка судьбы. Она столько раз наблюдала, как другие люди занимаются любовью, что в конце концов перестала вообще что-либо чувствовать от этого зрелища. Это развлечение стало обыденным, как послушать музыку или полюбоваться на спортивную игру. Но только если это был не Димитрий. И каким-то необъяснимым шестым чувством догадавшись об этом, он вынес ей самую тяжелую кару из всех возможных: на него она могла лишь смотреть.
Алисия подняла веки, отяжелевшие от томной неги, и поверх плеча своего любовника заметила Северину. Она не стала паниковать или смущаться, как делали некоторые из девушек, застигнутых на месте преступления, а улыбнулась с блеском превосходства в глазах, закинула стройные ноги на бедра Димитрия, приоткрыла пухлые, уже искусанные им губы и громко, открыто застонала.
Северина спокойно выдержала этот взгляд. Смотреть в глаза тем, кто смеялся над ней, думая, что обыграл ее, было не трудно. Слишком большая череда таких уже прошла перед Севериной за минувшие годы, и только ее место, с таким трудом отвоеванное, оставалось постоянным. Все сбылось, как она и планировала когда-то. Сегодня вечером, после разговора с Яном, она впервые почему-то пожалела, что стоит на этом месте, но тут же одернула себя — столько сил вложено, ее маски прилипли намертво, их уже не сорвать.
Димитрий поднял голову, посмотрел в лицо любовницы, догадался обо всем и медленно обернулся. Вот этот взгляд выдержать оказалось нелегко. Серебристые глаза наместника потемнели от похоти, и от вида его возбуждения собственное тело Северины отозвалось глухой болью, внутренние мышцы сжались в бесплодных попытках ощутить мужчину. Ей захотелось рухнуть на колени и зарыдать от отчаяния, но она поступала так уже много раз и не видела больше смысла. Ни ее слезы, ни ее крики, ни ее мольбы не могли разжалобить его. Он только упивался ее страданиями и становился от них сильнее.
В глазах Димитрия загорелся дикий триумф. Он чуть отодвинулся от Алисии, встал вполоборота, опустил одну руку вниз и демонстративно расстегнул пуговицу на брюках, под тканью которых уже дыбился его твердый, раскаленный член.
— Будешь смотреть до конца, дорогая? — хрипловатым голосом произнес он, костяшками пальцев другой руки легонько проведя между ног подружки.
Теперь, когда Димитрий чуть отошел, Северина видела, что внизу на ней тоже нет белья. Ей хотелось стереть эту язвительную ухмылочку с лица Алисии, размазать, разбить черты ее красивого лица в лепешку, заставить оборотниху рухнуть с небес на землю, и она решила, что сегодня непременно сделает это. Но не так, как сделала бы глупая шестнадцатилетняя девчонка, впервые испытавшая всю беспощадную силу привязки к жестокому и холодному чудовищу под личиной красивого аристократа. Она поступит, как достойный его противник.
Поставив бутылку на землю, Северина аккуратно сложила накидку на спинку ближайшей скамьи и направилась к ним, попутно отмечая, как напряглась Алисия. Та наверняка ожидала, что жена наместника расплачется и убежит, застав его с другой. Глупая оборотниха. Их двоих связывало столько тьмы, столько мрака, столько порока и исковерканных человеческих чувств, что человеку со стороны сложно даже представить. Северина положила руку ей на грудь, прямо на тот сосок, который недавно терзали пальцы Димитрия, заглянула сопернице в глаза, наклонилась и… поцеловала.
Губы у Алисии оказались на ощупь такими же мягкими и пухлыми, как и на вид. Северина лизнула их, углубилась языком в ее рот, чувствуя, что истосковавшееся без ласки тело откликается даже на женщину. Природа требовала своего, и иногда ее накрывали мучительные неконтролируемые волны горячего желания, не направленного на кого-то в отдельности. В такие моменты казалось, что она может заняться любовью с кем угодно, лишь бы только погасить зуд и жар, терзающие тело. Самоудовлетворение не помогало, оно спасало раньше, в короткие промежутки между ласками с майстером Ингером, когда еще имелась возможность перетерпеть, сбросить напряжение и прояснить рассудок. С тех пор у нее не было никого, и ничего уже не спасало.
Она запустила пальцы в волосы девушки, продлевая поцелуй, лаская другой рукой ее грудь так, как это делал бы мужчина. Алисия попробовала отстраниться, но у нее не получилось, и она взволнованно задышала, почти не шевеля губами.
Над ухом раздался тихий, довольный смех Димитрия. Он попался на крючок, Северине удалось его зацепить, заинтересовать, и в ее груди вспыхнула слабая надежда, что, быть может, сегодня… сегодня он все-таки сжалится над ней…
Она почувствовала, как он подался вперед, и одновременно с ним Алисия застонала в ее губы. Северина отстранилась, с чувством глухого удовлетворения заметив, что надменный блеск в красивых глазках оборотнихи ей все же удалось стереть, и теперь там плещется паника, потому что Димитрий не только не собирается прогонять жену, он уже внутри своей любовницы и плавно двигается в ней, упираясь одной рукой в постамент, а другой — придерживая ее за бедра.
— А меня поцелуешь, дорогая? — поддразнил он, вгоняя член в Алисию так, что у той начали против воли закатываться глаза.
С каменным выражением лица Северина повернулась к нему, закинула руки на шею и подставила губы. И тут же сама застонала, когда земля стала уплывать из-под ног от первого же их взаимного соприкосновения. Целовать Димитрия и в то же время ощущать, как его сильное, гибкое, красивое тело двигается, удовлетворяя другую женщину, — это было на грани безумия.
— Твой рот пахнет шампанским, — прошептал он, вылизывая уголки ее губ и хватая ее одной рукой за затылок, чтобы повернуть голову так, как ему нужно.
— Твой рот пахнет шлюхами, — огрызнулась Северина в ответ, позволяя ему делать с ней все, что только душе будет угодно.
Димитрий засмеялся, ее злость и ненависть распаляли его не меньше ее слез и страданий. Они снова поцеловались, дико, яростно, уже почти не обращая внимания на слабые вскрики и стоны Алисии, цеплявшейся скрюченными пальцами за постамент. Северина потянула за полы его парадного костюма, сбросила тяжелый, украшенный по воротнику и рукавам золотыми вензелями пиджак на пол, начала расстегивать пуговицы на его свежей, хрустящей от крахмала рубашке. Ее собственное белье давно промокло, обильная влага желания пропитывала насквозь ткань и стекала по бедрам.
Северина подвинулась, встала за мужем, стягивая рубашку вниз с его мощных плеч по рукам с крупными венами. Димитрий давно бросил свой темпл темного, но продолжал делать необходимые упражнения каждое утро и находился в прекрасной форме. Она прижалась носом к его сильной спине между лопатками, жадно втянула в себя запах мужской кожи. Поймала его ладонь, с лихорадочной горячностью прижала к низу своего живота. О любви не просят, но пусть хотя бы так… хотя бы через унижение и забытье навязанной страсти. Он вырвал руку, наклонился вперед, уперевшись теперь обеими ладонями в постамент и добивая любовницу резкими, рваными толчками. Алисия начала извиваться, ее голые коленки прижались к его бокам и двигались вверх-вниз, казалось, она совершенно забыла, что помимо них двоих тут есть кто-то еще. Их страсть подходила к точке кипения, бурлила в крови, разливалась удушающим ядом в воздухе, и Северина прокусила себе губу, борясь с подступающим к горлу комом.
— Представляешь себя на ее месте? — Димитрий глянул через плечо, его глаза полыхали белым огнем на чуть искаженном от приближающегося оргазма лице.
— Да… — выдохнула она, не в силах противиться наваждению.
Он властно подтянул ее к себе, впился в губы, кусая их и тут же зализывая ранки, и Северина отвечала ему, как могла. Сегодня он целовал ее дольше обычного, то ли распаленный ее смелым шагом, то ли, наконец, испытавший к ней хоть каплю сочувствия. Где-то в отдалении тоненько и жалобно застонала Алисия, она забилась в судорогах пронзительного удовольствия, корчась и выгибаясь под любовником, и Северина протянула руку, нащупала ее широко распахнутый рот и зажала ладонью, грубо ткнув девушку щекой к стене. Димитрий, конечно, заметил это и рассмеялся ей в губы.
— Ревнивая маленькая волчица. Сейчас я тоже буду кончать. И мне рот заткнешь?
— Да пошел ты… — прошипела Северина, а он уже выскользнул из измученного тела Алисии, с коротким отрывистым стоном проливая семя на бедра и живот девушки.
Северина отвернулась, сглатывая вязкую слюну, стараясь не вдыхать запах их разгоряченных тел и случившегося между ними секса. Она ненавидела Димитрия, себя, Алисию за все, что между ними случилось, и понимала, что все равно повторила бы все снова, если бы ей дали шанс. Он лишил ее любви, и она научилась получать удовлетворение хотя бы так. Она всегда умела находить пути и добиваться цели. Чудовище. Она — чудовище, и этим все сказано.
Димитрий неторопливо застегнул брюки, накинул рубашку и поднял пиджак. Северина вздрогнула, когда, проходя, он схватил ее под локоть и потащил за собой, не спрашивая согласия.
— Наш с тобой вечер еще не окончен, дорогая. Гости ждут.
Она оглянулась и увидела, что Алисия, обхватив руками плечи и стиснув колени, растерянно и жалобно смотрит им вслед. Димитрий не сказал ей ни слова на прощание, даже не поцеловал, и девушка не понимала, что же случилось. Странно, но торжествовать не хотелось. Почему-то даже эту глупую оборотниху Северине вдруг стало жаль.
Она мечтала оказаться на месте каждой из них, но только теперь поняла, что в каждой из них видит свои собственные сломанные надежды.
И ее тело тоже было сломленным. Она с трудом могла передвигать ноги, каждый шаг отдавался глухой ноющей болью внизу живота, хотелось сбросить каблуки и пойти хотя бы босиком, но двери, ведущие из зимнего сада в основной коридор, приближались, и положение обязывало держать лицо…
Личная охрана наместника встретила их с невозмутимым видом. Обладая чутким слухом, шестеро бурых оборотней, подчиненных своему альфе, наверняка прекрасно знали, чем их господин только что занимался. Более того, привязанные к нему на эмоциональном уровне, они вполне могли пережить некоторые из его ощущений и на собственной шкуре. Но суровые мужские черты оставались подчеркнуто равнодушными, глаза смотрели прямо перед собой, даже на миг не соскользнув в сторону Димитрия в расстегнутой рубашке и его супруги, возбужденной до предела, находящейся на грани обморочного состояния, и Северина от всей души позавидовала их выдержке.
Идти по мягкой ковровой дорожке было уже легче, и она слегка расслабила напряженную спину. Со стороны зала долетала музыка, слышался ровный гул голосов. В коридорах ощущалось присутствие Яна, Северина уловила его слабый запах, но увидеть, конечно, не смогла. Продолжая шагать рядом с Димитрием, она повернула голову и посмотрела на его холодное лицо, устремленный прямо перед собой уверенный взгляд. В этом был весь он, ее муж, настолько бессердечный и жестокий человек, что сумел долгие годы удерживать на расстоянии не только ее, но и своего самого близкого друга. Она знала о нем так много — и не знала совершенно ничего. Так же, как и он — о ней. Они до сих пор оставались чужими друг другу.
Чужими. И одинокими. Ей ли, потерявшей единственную близкую подругу, этого не знать? Но если Северина всеми силами старалась от своего одиночества избавиться, Димитрий будто специально вокруг себя его создавал. Нет, теплый, ласковый Ян был ей ближе по духу. Жаль, что он не являлся волком, и она не могла его полюбить.
Навстречу им из-за поворота выскочил слуга с подносом, полным бокалов свежего, искрящегося нежными золотыми пузырьками шампанского. Он спешил к гостям, но, столкнувшись с наместником, проворно отступил назад и почтительно склонил голову.
— Ты, — на ходу прожег его серебристым взглядом Димитрий, — за мной.
Слуга тут же повернулся и пошел следом, отработанным жестом ловко удерживая поднос так, чтобы не пролить ни капли даже при быстрой ходьбе, а другую руку заложив за спину. Ни одного уточняющего вопроса, ни тени удивления. Хозяин приказал, а все его приказы выполнялись немедленно.
— Куда ты меня ведешь? — спросила Северина, только теперь заметив, что они направляются не в праздничный зал, а наверх, в сторону спален.
— Переодевать, — Димитрий красноречиво покосился на пятна, оставшиеся на подоле платья после того, как она порезалась о бокал, — ты ведь лицо государства, дорогая, и мое тоже. В тебе все должно быть безупречно. И платье, и репутация.
При упоминании о репутации она скрипнула зубами. Это была та тюрьма, в которой он удерживал ее уже долгое время, как беспомощную заложницу. Жена наместника не должна позволять себе лишнего. Жена наместника обязана всегда выглядеть безупречно. Ей могут прислуживать только доверенные люди. Те, которые будут докладывать ее супругу о каждом шаге, как, например, Ян. Да, она может оставить себе свой маленький "кукольный театр", но не приведи ее светлый бог позволить хотя бы одному "актеру" прикоснуться к себе. Впрочем, всех остальных лиц мужского пола это тоже касалось. Только женщины допускались к ней в неограниченных количествах, и именно поэтому, от безумной скуки и тоски, она сплела огромную информационную сеть из своих безмозглых пташек, проживая чужие жизни хотя бы в воображении так, как хотелось прожить ей самой.
Ничего, пусть так, пусть хотя бы так… Северина послушно поднялась по лестнице, стараясь не показывать истинных эмоций. В груди снова затеплилась надежда: если Димитрий не отправил ее наверх одну, если сам захотел с ней подняться… возможно, ее труды не пропали зря, и сегодняшнее унижение с Алисией — тоже.
Она включила свет, вошла в свою роскошно убранную спальню и остановилась посередине комнаты с видом сдержанной, но внимательной хозяйки. Димитрий швырнул пиджак на ближайшее кресло, кивнул слуге в сторону столика у стены, куда тот мигом примостил поднос и с поклоном удалился. Дверь закрылась, оставляя их только вдвоем, отсекая от охраны, гостей, праздничной музыки и смеха, от всего внешнего мира. На миг Северине показалось, что ее сердце так ухает, что она может оглохнуть.
Пусть так… пусть хотя бы так…
Когда-то эта спальня принадлежала старшей дочери канцлера. Переехав вслед за Димитрием в резиденцию, Северина по логике должна была бы занять покои супруги правителя — но та делила одни комнаты с мужем, что в нынешнем случае, конечно, даже не рассматривалось, как вариант. Поэтому она выбрала наиболее приглянувшееся ей помещение и обставила по своему вкусу. Димитрий редко заходил сюда, и теперь, в ярком свете ламп, Северине вдруг подумалось, что ее спальня выглядит слишком по-женски. Здесь было много розового и золотого, цветов и воздушных драпировок. Ее циничный, насмешливый супруг не скрывал пренебрежения, оглядываясь по сторонам, и это ее задело.
— Когда ты, наконец, простишь Яна? — раздраженно бросила Северина, со вздохом опираясь на толстый резной столб, который удерживал балдахин над кроватью. Согнув ногу, она взялась за туфлю и сбросила ее, опустила усталую стопу на ковер и подняла другую. Стоять обутой больше не осталось ни сил, ни желания.
Димитрий уже повернулся к ней спиной и успел взять с подноса один из бокалов. Его рука на мгновение замерла в воздухе.
— Почему ты спрашиваешь меня о нем?
По ее коже побежали мурашки. Она сделала что-то не так? Необдуманно дала ему повод для подозрений? Отчего в его голосе появилось столько металла?
— Все люди меняются со временем, — постаралась ответить Северина как можно более равнодушно. — Мне показалось, что и ты мог измениться в своем отношении к нему.
— Люди меняются, — согласился Димитрий. — Все. Но не я. "Его" голос не разговаривает со мной уже много лет с тех самых пор, как Эльза сбежала. В моей башке тишина, — он указал на свой висок и тряхнул головой. — Но я продолжаю делать все то же самое, что и по его приказу. Мне нельзя меняться. Если "Он" заговорит со мной, я должен быть готов. Так почему ты спрашиваешь меня о Яне именно сейчас, маленькая волчица?
С бокалом в руке Димитрий повернулся к ней. Он задумчиво посмотрел на нее, водя пальцем по верхнему краю, затем обмакнул его в шампанское и отправил в рот, будто решив осторожно попробовать вкус. Распахнутая рубашка открывала его твердую гладкую грудь и кубики мышц пресса. Северина невольно облизнула губы и поняла, что он смотрит именно на них. Ей стало трудно дышать.
Может быть… может быть, сегодня все пойдет по-другому…
— Мы с Яном пообщались на балконе, — решила она не врать, — он не понимает, почему ты так суров к нему.
— Да все он понимает, — отозвался Димитрий с ледяной усмешкой, и ей стало страшно от пустого, лишенного всяких эмоций выражения его глаз, — он не сказал, из-за чего наказан?
— Нет, — пробормотала Северина, — он никому не рассказывает. Я бы обязательно узнала…
И это была правда. Ее сплетницы наверняка бы донесли.
— Хорошо, — немного смягчился Димитрий. Он подошел, смочил палец в бокале и коснулся им губ Северины, — значит, Ян понимает, что прощен быть не может.
Пузырьки шампанского защекотали ее кожу, лопаясь на губах, она приоткрыла рот, собираясь поймать капли, которые потекли по подбородку, и в это время Димитрий ее поцеловал. Их мокрые языки сплелись и затанцевали, голову Северины заполнил туман, в груди разрасталось что-то тяжелое, плотное. Казалось, если ее неосторожно тронуть где-то еще — она взорвется.
Пусть так… пусть… так…
Он тронул. Запустил палец в уголок ее рта, прямо во время поцелуя растягивая его, по-звериному вылизывая ее зубы и внутреннюю нежную поверхность губы. Грубо, порочно, и весь он сам был с ней грубым и порочным, и она все равно до безумия любила его…
— Открой рот пошире, маленькая волчица.
Северина подчинилась, и Димитрий принялся лить шампанское ей на язык. Спиртное хлынуло в горло, она не успела сглотнуть, часть вылилась на грудь, промочила лиф платья. Он склонил голову и долгими, неспешными движениями принялся слизывать сладковатую жидкость, смакуя каждый сантиметр ее кожи. Северина вскинула глаза к потолку, хватая ртом воздух. Все ее тело, каждая крохотная частица стала средоточием болезненного удовольствия. Ей не хотелось ласк, ей требовался просто секс, жесткий и яростный, утоляющий ее страдания, как ливень утоляет жажду пересохшей земли. Но торопить Димитрия она боялась, давно уже поняла, что давить на него бесполезно и даже бывает себе во вред. Его можно только обмануть, обхитрить, завлечь в ловушку, и коль уж ей удалось это один раз, кто знает, возможно, все еще получится снова.
Раздался хруст. Северина увидела, что Димитрий раздавил в ладони пустой бокал. Совсем как она, когда увидела его танцующим с Алисией, только на нее тогда нахлынула буря эмоций, а он, похоже, сделал это вполне осознанно. Зажав в окровавленных пальцах один из крупных осколков и отбросив мелкие, он провел острой гранью прямо от ее ключицы до самого выреза лифа, оставляя тонкий красный след с мгновенно выступившими крохотными рубиновыми бусинками.
— Мне больно… — в ужасе прошептала Северина, хотя никакой боли не чувствовала, только странное онемение и легкий шок от вида собственной крови, — мне больно…
Димитрий улыбнулся ей своей ледяной улыбкой и прошелся языком вдоль царапины. Кожу защипало, Северина дернулась в попытке увернуться, но в тот же миг ощутила край осколка уже у своего горла. Она застыла, вздернув подбородок и не решаясь даже моргнуть.
— Вот что я хочу сделать с Яном, — пробормотал Димитрий, обдавая ее жарким дыханием, — каждый раз, когда мне о нем напоминают.
Северина отвела взгляд, не в силах смотреть ему в глаза. Слишком сузились его зрачки, превратившись в две крохотные булавочные головки, и слишком выжженной ей показалась белесая пустыня его радужной оболочки. А еще, хоть его глаза оставались светлыми, ей показалось, что где-то в их глубине она видит дно самой гигантской бездны, и эту бездну заполняет сплошная тьма.
— Что он сделал тебе? — произнесла она, как зачарованная.
Димитрий моргнул — и внезапно расслабился, стал прежним собой.
— Отобрал последний шанс остаться человеком, — бросил презрительно и отступил, уронив осколок на пол. — Пусть теперь не жалуется. Ничего человеческого во мне не осталось и ничего уже не изменить. — Он замолчал, обдумывая какую-то идею. — Пойди-ка, дорогая, и попроси, чтобы начальник моей охраны принес мне из моих комнат чистую рубашку. Лично принес. Поняла?
Северина неуверенно кивнула. Ее губы еще горели от поцелуев, а горло сковывал страх. Она коснулась груди, с удивлением рассмотрела красные пятна на подушечках пальцев, обратила внимание, что рукав у Димитрия тоже сильно испачкан из-за кровоточащей ладони, и пошла к двери. В небольшую щелочку передала распоряжение охране, открыв для себя, что еще может владеть голосом, и снова захлопнула ее.
Димитрий лениво развалился на кресле и словно бы размышлял, что делать дальше. Северина хотела подойти, но он остановил ее жестом.
— Раздевайся.
Приказ прозвучал хлестко, как щелчок кнута в воздухе. Она повернулась спиной, желая выглядеть соблазнительно, перекинула волосы на одно плечо, чуть склонила голову, попыталась нащупать сзади крохотный "язычок" застежки-молнии, но руки дрожали, и пальцы никак не могли найти его среди драпировок ткани.
Резко, как сорвавшийся с места в прыжке зверь, Димитрий оказался рядом, запустил пальцы за край выреза платья и рванул вниз. Безжалостно треснули нитки, Северина вздрогнула, ощутила, как свободно стало в талии, и увидела, как длинный, похожий на алый лепесток цветка лоскут опадает вдоль ее тела.
— Зачем? — только и смогла огорченно протянуть она.
— Я сказал тебе раздеваться, а не строить из себя великую искусительницу. Тем более, умения тебе в этом деле не достает.
— Ты мог бы просто помочь расстегнуть. Оно нравилось мне, — и без того взвинченные нервы заставили Северину буквально выкрикнуть последние слова. Она с сожалением выпустила из рук остатки платья, и ткань упала на пол, обнажая ее для Димитрия.
— Как будто у тебя мало тряпок, чтобы рыдать из-за очередной, — фыркнул он. — Где твоя гардеробная? Тут? Позволь, я сам выберу наряд, дорогая.
Северина осталась стоять в одних алых, в тон утраченному платью, трусиках и бежевых чулках с кружевными резинками, плотно обхватившими бедра, пока Димитрий скрылся в смежной комнатке, где хранились наряды. Вскоре он появился с длинным прозрачным шарфом из золотистой органзы, который Северина купила, чтобы повязывать в виде чалмы, когда пару лет назад в моду вошло поголовное увлечение нардинийской культурой. Шарф давно был заброшен и валялся на одной из полок без дела, удивительно, что Димитрий именно теперь его нашел.
Поигрывая переливающейся на свету, как крылья майского жука, тканью, Димитрий подошел к столику, не спеша выпил два бокала, снял и бросил на пол рубашку. Его рука уже не кровоточила так сильно, и он облизнул ладонь, поглядывая на напряженно ожидающую Северину.
— Ты сегодня порадовала меня, дорогая, — произнес он, — и заслужила награду.
От этих слов ей стало вдруг страшно. Награда или наказание — в устах Димитрия все звучало одинаково зловеще. Ей не хотелось извращенных игр, только простой человеческой любви, банального, направленного на получение быстрого оргазма секса. Почему же он не такой, почему ему будто вечно чего-то не хватает?
Но лучше так, чем никак вообще. Потому что после сегодняшних ласк, распаливших тело, еще одной безумно одинокой ночи она просто не выдержит.
С шарфом в руках Димитрий подошел к ней, от близости его обнаженного торса, от исходящих от него тепла и мужской силы по ее спине побежали мурашки и поднялись крохотные волоски на руках. Глядя ей в глаза, он наклонился, положил горячую ладонь на ее колено и мучительно медленно повел вверх по внутренней стороне бедра.
— Похоже, тебе надо сменить не только платье, маленькая волчица, — с насмешкой сказал он, — ты вся мокрая.
Два его пальца погрузились через ткань трусиков в мягкие влажные складки, надавили плашмя, проникая между них к пульсирующему твердому узелку, чуть сдвинулись вперед-назад, не принося облегчения, а только еще больше закручивая тугую пружину внутри. Северина впилась ногтями в ладони, чтобы не закричать. Каждое его новое движение отзывалось крохотным взрывом в ее голове и внизу живота.
— Возьми меня… — прошептала она пересохшими губами. — Возьми, как тебе хочется, как нравится… я на все согласна…
— Как мне хочется? — прежде аккуратные пальцы Димитрия вдруг стали жесткими, он сжал твердый узелок, причиняя боль, от которой хотелось кричать. — У нас с тобой есть небольшая проблемка, дорогая. Мне тебя не хочется.
Он выпрямился, вытирая пальцы о шарф.
— Не хочется? — сорвалась она, содрогаясь всем телом. — Да твой грязный член побывал во всех шлюхах столицы.
— Во всех, — со смехом согласился Димитрий, он вообще любил смеяться ей в лицо в такие моменты, — кроме одной. И это очень, очень обидно. Да, дорогая?
— Зачем тогда все это? — закричала Северина, находясь в отчаянии человека, который почти добежал до финиша, но ему помешали. — Зачем ты это делаешь со мной?
— Ты кое-кого напомнила мне сегодня, — ответил он, — одну монашку. Ее звали Южиния. Впрочем, это вряд ли покажется тебе интересным. Это было давно.
— Это было давно, но ты до сих пор помнишь ее имя… — скрипнула она зубами.
— Вспомнил сейчас, — Димитрий равнодушно пожал плечами и подался вперед, прижимая ее спиной к резному столбу балдахина, — потому что она с таким же отчаянием умоляла меня ее трахнуть. И я ее трахнул. Лишил невинности монашку, представляешь? Образец чистоты и непорочности. Тогда я искал свой предел и думал, что хуже этого ничего уже нельзя представить.
Выступы и острые рельефные грани впились в позвоночник Северины, но застонала она не от этого. Рука Димитрия, которую он успел просунуть между их телами, снова оказалась у нее между ног, а пальцы опять начали свою жестокую игру, проникая между складок, обводя ажурные края трусиков, впившихся в нежную кожу, дразня твердый узелок.
— А разве что-то может быть хуже? — задохнулась она, цепляясь за его плечи.
— Может, дорогая, — Димитрий сделал движение бедрами, и на очень короткий миг его ладонь оказалась плотно прижата к телу Северины, а два пальца совсем немного проникли внутрь нее. — Трахнуть собственную сестру, например.
— Я не верю. Я не верю, — лихорадочно зашептала она, обвивая руки вокруг его шеи и понимая, что бессовестно лжет, лишь бы задобрить его и лишь бы он продолжал. — Даже ты на это не способен.
— Кто знает, на что я способен? — он сделал еще один маленький толчок, все еще слишком ничтожный, чтобы удовлетворить ее. — Жизнь показывает, что я способен на все.
Шарф из воздушной органзы ласкал ее ягодицы, и Северина старалась не думать о том, что даже сейчас Димитрий заботится только о своем удовольствии.
— Нет, это сделал Алекс, — снова начала уверять она, догадываясь, что он будет продолжать, пока длится этот разговор, потому что именно этого и хочет. — Алекс трахнул Эльзу, а не ты. Она бы сказала… она бы не смогла промолчать…
Он рассмеялся, тихо и нежно, награждая ее за хорошо сыгранную наивность умелыми движениями пальцев, и в этом смехе Северине чудилось яростное рычание и вой зверя.
— Боюсь, что Алекс сам себе не готов признаться в том, как все было на самом деле, дорогая. Наверно, истина навсегда останется только между мной и ним.
— Хорошо, пусть будет так… пусть так… — она внутренне содрогнулась, — я принимаю тебя таким… я люблю тебя и таким…
И в этот момент словно кто-то провел невидимой рукой по лицу Димитрия и стер улыбку. Северина задрожала еще больше, столкнувшись с его безумным взглядом, увидев перекошенный оскал рта, ощутив, как шарф перестал быть ласковым облаком и в мгновение ока обвился вокруг ее шеи стянувшей тугие кольца гадюкой.
— Любишь меня? — заорал он, одним махом порвал на ней трусики, забил внутрь ее тела уже три пальца, жестко трахая ее рукой.
— Да. Да, — внутренние мышцы сжались, Северина знала, что через короткое время за этим последует взрыв. Тот самый долгожданный взрыв, в предвкушении которого она теряла рассудок.
— Любишь? — он убрал руку, и она закричала от разочарования. — Для меня не существует такого понятия. Я уничтожил само это слово. Так же, как уничтожил свою сестру и семью. Не произноси его при мне. Для меня любви нет.
Кто-то громко постучал в дверь. Северина догадалась, что это вернулся Ян, выполнивший поручение, и Димитрий, конечно, понял это тоже.
— Ждать, — приказал он, повысив голос так, чтобы за дверью его было слышно. — Стоять на месте и ждать.
Он толкнул Северину к зеркалу, встал за ее спиной, схватил ее за лицо, не позволяя отвернуться и вынуждая смотреть вперед.
— Кого ты любишь, дорогая? — процедил, встречаясь с ней взглядом в отражении. — Посмотри и скажи мне, кого ты любишь?
Северина увидела себя, бледную, с искусанными до цвета спелой вишни губами, с полной, хорошей формы грудью и женственными округлыми бедрами, и Димитрия — великолепного даже в ярости, с горделивой посадкой головы, совершенными чертами лица, сильными руками, и мстительно прошипела:
— Грязного ублюдка. Больного извращенца. Отвратительное чудовище.
Он с облегчением улыбнулся, поцеловал ее в щеку и потрепал за подбородок.
— Вот поэтому ты так идеально мне подходишь. Ты видишь все ясно и правильно.
Почувствовав, что руки Димитрия больше не сжимают ее железной хваткой, Северина повернулась и обняла его, прижавшись щекой к плечу.
— Если я так идеально тебе подхожу, давай проведем одну ночь. Всего одну ночь вместе. Мы можем быть счастливы. Хватит друг друга мучить.
— Ты не поняла, волчица, — он тут же оттолкнул ее от себя. — Ты не нужна мне другой. Только такой, как сейчас. Посмотри на себя. Натянута, как струна, заводишься по щелчку, все ощущения на грани. Вот, что мне в тебе нравится.
Северина приоткрыла рот, а потом завизжала и хлестнула его по лицу.
— Я ненавижу тебя. Ненавижу.
— Это взаимное чувство, — Димитрий толкнул ее обратно к кровати, деловито сдернул шарф, пропустил его между ног Северины и высоко задрал оба конца. — Идеальное взаимное чувство.
Тонкая, но прочная материя впилась между ее нижних губ и ягодиц, ушла глубоко в плоть, и дыхание у Северины перехватило. Шарф оказался даже длиннее, чем она привыкла думать. Димитрий обернул и завязал один конец вокруг резного столба балдахина, а другой натянул рукой почти до самого ее плеча. Она закричала, потом застонала, откинув голову и хватаясь пальцами за резные уступы, когда его пальцы легли поверх ткани на ее сдавленные складки и начали тереть, кружить и поглаживать.
— Громче, — прошептал Димитрий ей на ухо, одновременно толкаясь бедрами в ее ягодицы, — кончай громче, чтобы и Ян услышал. Я специально пригласил его послушать тебя.
Болезненный спазм скрутил Северину, из ее глаз брызнули слезы, она выгнулась, освобождаясь, наконец, от мучительной тяжести внизу живота. Вслед за этим накатил второй оргазм и третий, ноги подогнулись, она осела, скользя ладонями по столбу вниз. Димитрий отпустил конец шарфа, длинная полоса ткани поехала между ее ног, потемнев от влаги, пока не закончилась.
Прижавшись щекой к ковру, Северина медленно приходила в себя. Димитрий ходил по спальне, освежал горло очередной порцией шампанского.
— Возьми рубашку у Яна, дорогая, — как ни в чем не бывало, попросил он.
Она зажмурилась, стараясь не думать о звуках, которые могли просочиться в коридор. Ян не дурак, он все понял. Усилием воли заставила себя подняться, прикрыть дверь и протянуть руку так, чтобы оставаться скрытой от чужих глаз. Ладони коснулась аккуратно сложенная рубашка, и Северина тут же схватила ее и захлопнула дверь.
Димитрий снова подошел к зеркалу, поправляя одежду, застегивая пуговицы.
— Я хочу ребенка, — призналась Северина, наблюдая за ним, — пусть ты меня не хочешь, но мне нужна всего одна ночь, чтобы забеременеть. Обещаю, что забеременею с первого раза, а ты сможешь снова крутить романы со своими шлюхами.
— Нет, — спокойно отозвался он, поднимая пиджак со спинки кресла.
— Мне уже скоро тридцать. Я боюсь состариться и умереть в одиночестве. Пожалуйста, подари мне ребенка. Маленького мальчика, которого я смогу любить вместо тебя…
— Нет, — Димитрия даже передернуло от этой идеи. — У меня не будет детей. Я не стану уподобляться Виттору и плодить монстров. Хватит того, что существуем мы с Аланом. К тому же, — он подошел, погладил Северину по щеке и коротко поцеловал в губы. — Ну какая из тебя мать? Ты же эгоистичная сучка, дорогая. Ну все. Иди. Гости наверняка уже в нетерпении. Надень что-нибудь в цветах правящей ветви. Золотое платье будет в самый раз.
С трудом передвигая ноги, Северина пошла в гардеробную. Платье уже лежало на видном месте, заранее приготовленное Димитрием. Она надела свежее белье, привела себя в порядок, облачилась в роскошное одеяние. Причесывая волосы перед зеркалом, обратила внимание на царапину на груди. Красная полоса уже светлела, заживая, но Северина все равно взяла пудру и замаскировала изъян. Посмотрела в свои глаза, измученные, больные. У нее не будет детей. Или не будет Димитрия. Надо выбирать.
Праздничный вечер близился к концу, когда наместник с супругой снова появились в зале, но, как оказалось, они вернулись вовремя, как раз для того, чтобы станцевать завершающий танец. Димитрий положил руку на талию Северины, она легонько тронула ладонью его плечо, они закружились, красивая, элегантная пара, он — в белом с золотыми нашивками, она — вся в золотом, в цвете его трона и его власти. Они порхали в круге гостей, мужчины любовались ею, женщины украдкой вздыхали по нему. В уголке тихонько плакала Алисия.
Северина улыбалась, это была ее лучшая маска — маска успешной, счастливой, добившейся всего женщины. Она смотрела в красивое лицо своего мужа и думала только об одном.
Пора перестать жить мечтой.
Цирховия Шестнадцать лет со дня затмения
Это было самое счастливое лето в ее пока не очень долгой жизни. Счастливое и неповторимое, в брызгах яркого солнечного света, поцелуях ночного ветра на обнаженной коже и головокружительном водовороте любви.
Да, она любила Алекса и больше не сомневалась в этом. Разговор со старшим братом, случившийся после памятного семейного обеда, помог все расставить по местам. Алекс не был идеальным, а возможно, ее рациональная натура не позволяла сознательно не замечать в любимом недостатков, как умеют другие девушки, но Эльза любила его и таким. Она просто воспринимала его целиком, со всеми плюсами и минусами, и понимала, что с его отрицательными чертами вполне можно смириться, а достоинства с лихвой окупают их. В конце концов, невозможно съесть апельсин, не очистив его от корки и не испачкав рук в липком и едком соке, но от этого никто не перестает любить апельсины.
Эльзе казалось, что ее мир разделился на два параллельных. В одном она оставалась благородной лаэрдой и примерной дочерью. Она по-прежнему с закрытыми глазами отличала десертную ложку от ложечки, которой следовало есть яйцо-пашот, умела поддерживать беседу со старшими так, чтобы вызывать восхищение умом и рассудительностью, и, как и все ее одноклассницы, загодя заказала швее платье к празднику восхождения светлого бога, до которого оставались еще долгие месяцы.
В другом же мире Эльза была обычной девчонкой. Из тех, которые в шестнадцать лет просто хотят веселиться, танцевать под звездным небом и любить. С Алексом это выходило без труда. Он был легок на подъем и беззаботен, любое море считал себе по колено, любой океан — по плечу. Они вообще удивительным образом не походили друг на друга. Там, где Эльза сказала бы "надо подумать", Алекс бы шутливо махнул рукой — "фигня вопрос", она любила серьезные книги, он — гонки на мотокаре, она предпочитала сладкие пирожные, он — горькое пиво, из всех оттенков она выбрала бы светлую лазурь, а он вообще не признавал слово "оттенки", считая, что семи цветов радуги вполне достаточно. Но именно этими различиями они друг друга и уравновешивали. А еще Алекс был у Эльзы первым, в кого захотелось влюбиться, а она у него… последней. Да, он так и назвал ее. Последней для себя.
И после этого ее сердце не могло не дрогнуть.
В свободное время они бродили в обнимку по столице. Иногда делали это бесцельно, иногда забредали в темный зал кинотеатра, где, устроившись на заднем ряду, целовались без остановки, а потом не могли даже вспомнить, что им показывали на экране под мерное жужжание проектора. Несколько раз Алекс водил ее в городской парк покататься на аттракционах, хотя развлечение считалось недешевым. Оказалось, что он отлично стреляет, и в спальне Эльзы с некоторых пор поселились три плюшевых коричневых медведя и один длинноухий белый щенок с пятном на лбу, которых Алекс выиграл для нее в тире. Ей нравилось смотреть, как он уверенно держит ружье, как бьет в десятку, почти не прицеливаясь, как ловко перезаряжает тугой механизм. Это была его стихия, в такие моменты он весь сиял, и она могла смотреть на него бесконечно и просить "пострелять" еще и еще не только для того, чтобы снова получить подарок.
Матери она соврала, что купила зверей сама ради коллекции мягких игрушек, и ложь не вызвала подозрений.
Еще они ездили купаться на реку. В жаркие летние дни на широкую песчаную отмель за пределами города приезжали многие молодые люди, и от их количества в глазах пестрело. Громко звучала музыка, смеялись девушки, утопая босыми ступнями в горячем песке. Похожая зимой на синюю сталь, летом прогретая вода выглядела желтовато-зеленой. У берега она почти не двигалась и даже обжигала ноги, лишь быстрое течение в середине оставалось холодным.
Это было место отдыха горожан, но не аристократов. Аристократы стремились уезжать на целебные источники или к океану, столичную реку они считали слишком грязной, чтобы омывать в ней свои тела. Канцлер до самой осени отбыл с семьей в дарданийские горы — его младший сын с рождения страдал сердцем и плохо переносил жару. Мать и отец Эльзы тоже завели как-то разговор об отъезде, но потом обнаружилось, что у них обоих полно дел: у нее благотворительность в сиротском приюте, у него — хлопоты в парламенте, и поездка, к великому облегчению их дочери, отменилась. Ей нравилось просто проводить дни с Алексом на реке.
Поначалу на Эльзу там все обращали внимание из-за ее яркой характерной внешности. Но потом она научилась прятать иссиня-черные волосы под шелковым платком от солнца, серебристые глаза — почаще опускать при разговоре, а ее бледная кожа, нещадно обгоравшая днем и восстанавливающаяся за ночь, наконец-то приобрела красивый кремовый оттенок, и Эльза перестала выделяться среди обычных людей.
Она обнаружила, что у Алекса много друзей. С ним постоянно кто-то здоровался или останавливался поболтать. Девушки целовали его в щеку, а в "доверительных" беседах с Эльзой часто намекали, что он никогда не считался однолюбом. Она старалась не слушать. Алекс ведь никогда и не говорил, что она у него первая, вторая или третья. Он назвал ее последней. А это было гораздо лучше.
К тому же, собственные глаза оставались у нее на месте, и этими глазами Эльза видела, что Алекс больше ни на кого не смотрел. Когда они лежали рядышком на песке, подставив тела яркому солнцу, его пальцы то и дело оказывались под тонкими бретельками ее купальника, а губы — на ее нагретом плече. От этого прямо на сорокоградусной жаре Эльзу охватывал озноб, и по телу бежали мурашки. У нее мутился рассудок, во рту пересыхало, и она совсем забывала, что вокруг них полно людей.
— Я хочу тебя, — шептал он, поглаживая ее голый и чувствительный живот, от чего внутри нее вверх и вниз разлетались ослепительные искры.
— И я тебя хочу, — откликалась она, едва успевая перехватить эти настойчивые и твердые мужские пальцы, которые уже стремились ниже, туда, где все так отчаянно истекало влагой и жаждало ласкающих прикосновений. Но рациональная сторона личности брала свое, и Эльза продолжала: — Но не могу, не здесь же. Не здесь.
Алекс никогда не настаивал. Он только просил.
— Поехали. Куда-нибудь. Когда ты, наконец, станешь моей?
— Я не могу куда-нибудь, — округляла глаза Эльза, — ты же понимаешь. Это будет мой первый раз, и он должен быть…
— …идеальным, — заканчивал за нее Алекс. Он гладил ее по щеке и вздыхал. — Знаю, знаю. Ты хоть намекни, как все должно выглядеть.
— А разве ты сам не представляешь? — удивлялась она.
— Нет, — он качал головой и с видимым трудом отодвигался, чтобы не дразнить себя еще больше, — для меня любое место — идеальное, если там есть ты.
Северина бы, конечно, ее высмеяла за излишнюю трепетность. И возможно, та ночь, когда Алекс повез Эльзу любоваться на светлячков, танцующих на лесной поляне над душистыми травами, показалась бы идеальной. Или тот вечер, когда они просто сидели на холме за доками, где никто не ходит, и смотрели на закат. Проблема заключалась в том, что Эльза сама не знала, как должно выглядеть идеальное место. Это было внутреннее ощущение, какой-то неясный образ, с которым в реальности она пока не столкнулась. И в этом она тоже отличалась от Алекса.
А может, она просто боялась? Может, это был наивный детский страх перед чем-то неизведанным, запретным, перед бесповоротным шагом во взрослую жизнь? Эльза ловила себя на мысли, что ей снова не хватает короткого, но доверительного разговора с ужасным старшим братом, который бы расставил все по местам. Но таким не делятся даже с братом. Этот страх ей предстояло побороть самой и в одиночку.
Однажды, искупавшись в реке, они с Алексом лежали и болтали о чем-то, когда на фоне привычного человеческого гомона возник слабый, царапающий ухо звук. Эльза еще смеялась над шуткой, а сама уже начала настороженно прислушиваться, пытаясь понять, кто и с какой стороны его издает. Окружающие ничего не замечали, кто-то играл в пляжный мяч, кто-то плескался в воде.
Повернув голову, она увидела на середине реки что-то белое и сразу все поняла. Пловцы туда не заплывали: редко кому удавалось долго справляться с быстрым и холодным течением, идущим на глубине. Еще с весеннего паводка, когда отяжелевшие после зимы деревья в дарданийских горах под напором потоков, бегущих с вершин, обрушивались в стремнину вместе с глыбами льда и так доплывали до самой столицы, как раз напротив пляжной отмели зацепился за камни на дне и застрял один топляк. Его голые черные ветки торчали над поверхностью воды, а вокруг них пенились водовороты.
Вот оттуда звук и шел. Широкий кусок пенопласта, брошенный кем-то выше по течению, доплыл сюда и застрял между ветвями топляка, а на нем сидел… котенок. Бедный зверек вцепился тонкими когтями в свой ненадежный плот и звал на помощь во все кошачье горло. Алекс только удивленно поднял голову, когда Эльза вскочила на ноги и приложила ладонь козырьком над глазами, чтобы лучше рассмотреть малыша. Но отмель была широкой, середина реки находилась далеко, и с берега виднелась лишь серая кошачья шкурка и поднятый трубой хвост.
Заметив резкое движение Эльзы и ее напряженную позу, люди тоже стали обращать внимание на котенка. Они подходили к кромке воды, начинали переговариваться и гадать, как скоро пенопласт перевернется, и зверек утонет. А может, он не утонет, а сумеет перепрыгнуть на ветку? Тогда как долго он там провисит?
Эльза тоже об этом подумала. А потом — неожиданно для самой себя — побежала в реку. Не обдумывая свой порыв и ни на кого не оглядываясь. Прогретая на солнце вода не поднималась выше уровня колена несколько метров подряд, брызги летели во все стороны, а потом дно резко ушло вниз, и Эльза провалилась по грудь. Она принялась энергично работать руками и ногами, краем уха уловив, что неподалеку от нее вглубь прыгнул кто-то еще.
Сразу стало прохладнее. Плавала Эльза хорошо, поэтому в собственных силах не сомневалась, но по мере продвижения стала ощущать плотную массу бегущей воды, через которую приходилось пробиваться. Вскоре ей стало зябко, а затем — холодно. Белый кусок пенопласта с серым пассажиром на нем мелькал перед глазами, когда Эльза выныривала, чтобы глотнуть воздуха, но она заметила, что ее постепенно сносит вниз. Тогда она удвоила усилия. Мышцы на руках и ногах превратились в железные узлы, грудь сдавило судорогой — тело пыталось согреться, но она упрямо гребла вперед.
Котенок пищал и дыбил шерсть. В конце концов, подумала Эльза, можно обернуться волчицей. В волчьем обличье она будет сильнее и почти не почувствует холода. Но тогда зверька придется брать зубами. Кто знает, не испугается ли он и не начнет ли сопротивляться, чем сделает только хуже? А течение все увереннее забирало ее в свои руки и сжимало в ледяных объятиях…
Неожиданно Эльзу толкнули в плечо. Она подняла голову над поверхностью и увидела Алекса. Его губы посинели, но глаза сверкали решимостью.
— Возвращайся, — крикнул он на нее, кивком показав в сторону берега.
— Нет, — стиснула она зубы.
— Возвращайся, — Алекс сердился, она никогда не видела его таким. — Я сам его достану.
— Ты всего лишь человек, — в отчаянии выкрикнула Эльза, потому что цель все отдалялась, и находиться в потоке долго становилось опасно для них обоих.
— Вот и посмотрим.
Он отвернулся и поплыл, то скрываясь под водой, то выныривая и напряженно работая сильными руками. Эльза сдалась. Спорить было глупо, состязаться в такой ситуации — тем более. Она покорно повернула к берегу, чувствуя тупую боль в перетруженных мышцах. Выбралась на мелководье, дрожа и стуча зубами от холода, и встала там, с тревогой вглядываясь в происходящее на середине реки. Люди за спиной недоверчиво посмеивались над ее вылазкой.
Тем временем Алекс добрался до торчащего дерева. Она видела, как он протянул руку, как серое кошачье тельце впилось в него когтями и пронзительно заверещало, а затем их обоих поглотила вода. Эльза переступила с ноги на ногу, но никак не могла найти взглядом место, где Алекс бы вынырнул. Несколько мучительных минут она бродила туда-сюда по отмели по щиколотку в воде и грызла ногти. Наконец, где-то дальше по берегу раздались радостные крики зевак, и она поняла, что он все-таки выбрался.
Алекс медленно шел, устало вытирая с лица воду, на плече красовались глубокие царапины от когтей, и было заметно, что он сильно замерз. Его тут же окружили, принялись хвалить за смелость, стали жалеть и тискать мяукающего котенка. Эльза в изнеможении опустилась на песок. Теперь, когда все закончилось хорошо, она ощутила, что тоже выдохлась. Алекс подошел и положил котенка ей на колени. Это оказался будущий дикий камышовый кот, очень худой. Его шерсть казалась серой только из-за воды, а на самом деле на лбу и спинке проглядывали желтые полосы. Мокрый комок трясся на тонких лапах и пронзительно верещал. Эльза растерянно сунула ему палец, и зверек принялся яростно облизывать его шершавым языком.
— Я тебя напугал? — спросил Алекс, по-своему расценив грустное лицо Эльзы.
— Да, — она тряхнула головой и добавила: — Но не тем, что накричал. Я просто испугалась, что с тобой может что-то случится. Ты не волк. Я все время об этом помню.
— Ну люди тоже, знаешь ли, не стеклянные, — он потрепал ее за плечо и прижал к себе. — Хватит постоянно нас сравнивать, Эль.
Она вздохнула и уткнулась носом в шею Алекса. Его сердце билось оглушительно, разгоняя теплую кровь по замерзшему телу, а дыхание еще не выровнялось после сражения с водной стихией. Она так много чувствовала вместе с ним, знала его запах и могла отличить по звуку шагов от любого другого человека. А он, как и все остальные люди вокруг, так и не услышал бы мяуканья котенка, застрявшего посреди реки…
Но все-таки именно Алекс доплыл до цели.
— Комок шерсти, — вдруг радостно завопил над ухом детский голос.
Они оглянулись и увидели девочку лет пяти с зареванным, но счастливым лицом. Ее сандалии вместе с носками были все в песке.
— Комок шерсти, — она бесцеремонно схватила котенка с колен Эльзы и расцеловала его в усы. — Ты живой.
— Это твой котенок? — спросила Эльза.
— Ага, — кивнуло юное чудо, — я первая его нашла, а мальчишки отобрали и хотели в лодке пустить по реке, как матроса. А я кричала им и говорила, что никакая это не лодка, а Комок Шерсти — не матрос. А они говорили, что Комок Шерсти — дурацкое имя, и обзывались.
Девочка топнула ногой и сердито нахмурила брови. Эльза догадалась, что дети играли где-то в зарослях выше по течению и наткнулись на логово диких кошек.
— Не отдавай больше его мальчишкам, — пожурил ее Алекс и рассмеялся.
— Не буду. Я его домой заберу, мама разрешила, — торжественно пообещала кроха и удалилась.
— Ты добрый, — сказала Эльза тихонько, снова прижимаясь к плечу Алекса, — я только сейчас это поняла.
— Скажешь тоже, — хмыкнул он с оттенком смущения в голосе.
— Нет, правда. Никто больше не собирался плыть. Кошачья жизнь ничего не стоит.
— А я о цене не думал, — он пожал плечами. — Надо было что-то делать — вот и сделал. А потом оказалось, что еще и ты за мной зачем-то поплыла.
Похоже, они прыгнули в воду одновременно. Не такие уж они и разные. Эльза вдруг поняла, что поможет ей окончательно развеять собственные страхи.
— Отвези меня в одно особенное место, — попросила она.
Место, куда Алекс привез Эльзу уже под покровом сумерек, было видно из любой точки столицы, так как находилось оно на возвышенности. За стеной из больших ровно отесанных и плотно подогнанных камней дремал ухоженный парк с выложенными глянцевой плиткой аллеями, цветочными клумбами, фонтанами и фигурно подстриженным декоративным кустарником. Солнце садилось, и кованые железные фонари, расставленные по всей территории, уже начали тускло светиться, обещая разгореться ярче, как только станет совсем темно.
На территории парка находилось несколько зданий. Самое большое и величественное из них стояло ближе всего к главным воротам, и к нему вела широкая подъездная аллея. Аккуратный темпл из розового золота возвышался над ним на холме. В самой глубине парка притаилось третье здание, с красивыми балконами почти под каждым окном и стеклянной полусферой зимнего сада, прижавшейся к торцу.
— Мы пойдем в здание парламента? — скептически уточнил Алекс, измеряя высоту стены на глаз.
— Ш-ш-ш, — Эльза толкнула его спиной к каменной кладке и зажала ладошкой рот, потому что как раз в этот момент с другой стороны проходил один из охранников.
Она слышала неровную походку мужчины, поскрипывание его кожаной обуви и позвякивание ключей на поясе, но, к счастью, охрана состояла из обычных людей, и услышать ее в ответ не могли.
Алекс воспользовался ситуацией, повернулся и прижал к стене саму Эльзу и принялся ее целовать. Она с трудом удержалась, чтобы громко не засмеяться, пока отбивалась. Задуманное приключение возбуждало их обоих и горячило кровь не хуже молодого вина. Пальцы Алекса снова оказались у нее под одеждой, его волосы еще пахли рекой. Эльза подумала, что ни с кем другим бы она на такое безумство не решилась.
— Подсади меня, — скомандовала она, когда охранник ушел. С помощью Алекса она ловко взобралась на верхушку стены в три ладони шириной и уселась там, перекинув ноги на другую сторону. — Могу поспорить, ты тут никогда еще не был.
Алекс тоже залез и оказался с ней рядом.
— А ты сама-то была? — с усмешкой поддразнил он.
— Один раз, — цепкий взгляд Эльзы тщательно исследовал все аллеи и кусты на предмет опасности, но охранник направился на другую сторону огромного парка, и заметить их пока никто не мог. — Папа брал нас с Крисом.
Она подалась вперед и после короткого полета уверенно приземлилась на ноги, обутые в пляжные босоножки на плоской подошве. Алекс спрыгнул вторым, Эльза схватила его за руку и побежала, стараясь держаться ближе к кустам, в сторону темпла. На середине пути, у статуи канцлера, выполненной из железного каркаса, оплетенного цветущим вьюнком, она сделала остановку, чтобы снова оглядеться. Впрочем, ее осторожность была чрезмерной, так как охраняли парк лишь формально. Канцлера в Цирховии любили, его дом уважали, даже свободный народ выказывал знак особого почета, никогда не причиняя вред властителю и его приближенным.
В здании правления еще горел в окнах свет — слуги наводили порядок в кабинетах — но резиденция правителя стояла полностью погруженной в темноту.
— Канцлер уехал, — прошептала Эльза, показывая Алексу на дом, — там сейчас никто не живет. А вообще, там очень красиво, в зимнем саду растут деревья, которые не встречаются в наших лесах, а на крыше стоит телескоп, через который можно разглядывать небо. Младший наследник престола увлекается астрономией, телескоп купили специально для него.
Алекс слушал ее с большим интересом, он словно попал в другой мир, в котором не оказался бы в любом ином случае, а Эльза вспомнила, как канцлер прогуливался в парке — она видела его в тот самый раз, когда приезжала с отцом. Тогда этот высокий мужественного вида волк, облаченный в рубашку и коричневый бархатный жилет, держал за руку мальчика в костюме, а две девочки в одинаковых желтых платьях — его дочери, старшая и младшая, — щебетали о чем-то на скамейке возле клумбы, засаженной цветами голубого ириса. Канцлер заметил отца Эльзы, подозвал его и поздоровался с ним за руку, а дети улыбнулись и помахали им с Крисом. Эльза рассказала об этом Алексу и даже показала пальцем примерное место. Вряд ли бы он сам когда-нибудь смог увидеть правящую семью так близко, но она постаралась припомнить как можно больше подробностей для него, ей нравилось, как горят любопытством его глаза от этих рассказов.
Вдали снова послышался шорох, и Эльза опомнилась, потянула за собой Алекса, увлекая к ступеням, которые вели к темплу. Они взлетели по лестнице почти до самой середины, а потом замедлили шаги, пригибаясь, чтобы меньше бросаться в глаза. На небо уже поднималась луна, ее сияние касалось золотых стен темпла, делая их серебристыми и влажными на вид, хотя это был всего лишь обман зрения. Тяжелые литые двери не запирались даже на ночь, в Цирховии не чинили препятствия человеку на пути к его богам в любое время суток, и Эльза знала об этом. Восстанавливая дыхание после восхождения, она потянула за одну створку и почувствовала, как легко та поддалась, когда к ней присоединился Алекс.
— Личный темпл правителя, — прошептала она, проскальзывая в проем.
Внутри стоял полумрак, свечи в напольных канделябрах не горели. Только лунный свет, падавший сквозь стрельчатые окна, отражался от пола и рассеивался на стены. Образы святых, исполненные яркими красками, при таком освещении все казались серыми. Одежда и фигуры — все сравнялось в одном цвете. Глаза же на темных лицах, наоборот, сияли белым огнем, выделяясь, как живые. Эльза сделала оборот вокруг себя, разглядывая их, и поежилась: отовсюду на нее смотрели пылающие очи и тянулись серые руки, она не узнавала ни нежных улыбок, ни светлых одежд, присущих образам. Эльза задрала голову и увидела, что с потолка, где нанесены были фрески, на нее таращатся такие же лики: серые, с горящими глазами.
— Наверно, здесь использовали фосфорную краску, — тихо сказал Алекс, и по его голосу она поняла, что ему тоже не по себе.
— Я приходила сюда один раз, днем, — проговорила Эльза. — Тогда канцлер разрешил папе показать нам темпл. Здесь все выглядело по-другому.
— Ну, — Алекс пожал плечами, возвращая себе привычное бодрое расположение духа, — страшная красота — это тоже красота…
Он взял ее за руку, и дрожь в теле Эльзы утихла. Действительно, тут нечего бояться. Медленно они пошли по главному помещению, изучая его, как в музее. Шепотом Эльза перечисляла имена святых, которые на зубок знала с детства, но потом умолкла: в горле стало першить от аромата полыни и жженых свечных фитилей. Алекс сказал правильно: красота здесь ошеломляла своим преломлением за грань чудовищности. Эльза поймала себя на мысли, что начинает любоваться даже этими серыми лицами и пронзительными глазами. Время казалось остановившим свой ход, звук шагов не отражался от стен, мгновенно истаивая в воздухе.
Наконец, они поднялись по ступеням к алтарю и замерли перед главной картиной. Женщина на ней смотрела на них свысока, и ее серые одежды разлетались в стороны подобно крыльям летучей мыши.
— Святая Огаста, — произнесла Эльза с благоговением и крепче вцепилась в руку Алекса, — если мы попросим у нее благословения и поцелуемся перед ней, она подарит нам вечную любовь.
— Моя вечная любовь уже с тобой, — отозвался Алекс и обнял ее за плечи.
— И все-таки я хочу попросить, — Эльза упала на колени перед картиной и дала ему знак сделать то же самое. Она сложила руки в жесте молитвы и подняла лицо: — Святая Огаста, пожалуйста, сделай так, чтобы мы вечно любили друг друга. И чтобы я никогда не испытала привязки ни к кому, кроме него.
— Привязки? — Алекс, который внимательно вслушивался в каждое ее слово, насторожился.
— Это то, что я не могу контролировать, — призналась Эльза, — и то, чего я боюсь больше всего.
— Ты не уверена, что любишь меня? — он едва заметно нахмурился.
— Нет, я люблю тебя, — Эльза покосилась на картину и решила, что ничего страшного не случится, если Огаста немного подождет, пока она расскажет Алексу то, что ему следовало знать. — Но я люблю тебя своей человеческой половиной. А я ведь еще и волчица. У нас существует такое понятие — привязка. Горячая неконтролируемая влюбленность, как будто ты нашел свою вторую половинку и создан только для нее, понимаешь? Волчья любовь ярче человеческой, сильнее и… — она опустила голову, — эти две любви друг от друга не зависят.
— То есть, ты можешь привязаться к кому-то еще, даже если любишь меня? — догадался Алекс.
Эльза кивнула.
— А ко мне ты не можешь привязаться?
— Ты не волк, — она вздохнула, — привязка — это какая-то странная химическая реакция, которая происходит только между волками. Мы чувствуем запах другого, и от этого внутри что-то переключается. Люди пахнут иначе. Моя волчица на тебя совсем не реагирует.
Алекс задумчиво поковырял пальцем краешек плитки.
— И когда эта привязка должна случиться? В каком-то определенном возрасте?
— Она может не случиться никогда, — с жаром принялась уверять Эльза, ей было неприятно, что Алекс так огорчился. — Например, мои мама и папа прожили вместе всю жизнь, но ни она, ни он не привязались ни друг к другу, ни к кому-либо еще. Говорят, что раньше это случалось между волками чаще, но в последнее время происходит все реже. Есть волки, которые доживают до старости и умирают, так этого и не испытав…
— Но шанс все-таки остается, — пробормотал Алекс.
— Да, — не стала врать Эльза, — и я подумала, может, этот страх и останавливает меня и не позволяет окончательно сблизиться с тобой. — Она слегка покраснела. — Ну, ты понимаешь. Я, правда, не хочу больше никого, кроме тебя, Алекс. Я хочу, чтобы мы всегда были вместе.
— Хорошо, — он решительно повернулся к картине с Огастой, — тогда я тоже хочу, чтобы мы вечно любили друг друга. И не хочу испытывать ни к кому больше привязку, хоть мне она даже и не положена.
Эльза хихикнула, прикрыв рот ладошкой. То, что Алекс начал шутить, означало, что он больше не сердится, и ей стало легче.
— Теперь мы должны поцеловаться, — неуверенным голосом предложила она.
С торжественным видом, стоя на коленях, Алекс обхватил ее лицо и поцеловал. Эльза по-прежнему ощущала на себе взгляд Огасты, но надеялась, что этот взгляд смягчился и стал благосклонным. В конце концов, они выполнили все, как надо: попросили ее и поцеловались в знак твердых взаимных намерений. Можно сказать, почти что обручились.
Она сама не заметила, как Алекс уложил ее на пол, прямо на холодные плитки с изображением шестиконечных звезд. Он начал целовать ее шею, придавливая своим весом все сильнее, и через его плечо Эльза увидела фрески на потолке.
— Они смотрят, — тут же покрылась мурашками она, — не надо… они смотрят…
— Ты же сама этого хотела, Эль, — дыхание Алекса стало тяжелым, большим пальцем он ласкал ее подбородок и нижнюю губу, перемежая эти прикосновения с короткими поцелуями. — Ты же сама сказала, что это поможет тебе решиться на большее. Когда ты позвала меня сюда, я думал, что ты нашла свое идеальное место.
— Нет. Нет, — она отпихнула его и отползла, прислонившись спиной к стене под картиной. — Я хотела только попросить Огасту и показать тебе темпл.
Алекс тоже прислонился к стенке и запустил пальцы в волосы.
— Проклятье, Эль, я на грани, — пробормотал он с глухим стоном. — Я готов трахнуть тебя даже в темпле светлого, вот до чего я докатился. Это безумие какое-то.
Эльза чувствовала его возбуждение, этот аромат витал в воздухе между ними, и ее сердце разрывалось от того, как жестоко она поступает, заставляя Алекса мучиться и в то же время сама не в силах переступить через свои страхи. Надо закрыть глаза и просто прыгнуть, сказала она себе мысленно, просто прыгнуть, как в глубокое озеро, и не думать ни о чем.
— Но любовь — это ведь не только секс? — предприняла она последнюю попытку, с надеждой заглядывая в его глаза. — Ты ведь сам так говорил.
— Язык бы оторвал себе, идиоту, — процедил Алекс, но затем спохватился, повернулся к Эльзе и улыбнулся терпеливой улыбкой страдающего человека: — Конечно не только, моя девочка. Это всего лишь часть любви. Но без нее тоже нельзя. Тебе проще, ты пока не знаешь, без чего живешь. А когда узнаешь — тогда ты поймешь меня, Эль. Я уже себе руки все в кровь стер, удовлетворяясь без тебя…
— Тише, — она засмеялась и зажала ему рот, воровато оглядываясь. — Здесь нельзя говорить такое.
— А мне плевать, — пробубнил Алекс через ладонь и пощекотал ее кожу языком, заставив отдернуть руку. — Сюда приходят со своими бедами, и я вот тоже пришел. Сейчас как вознесу молитву Огасте, чтобы она тебя уговорила, — потом не жалуйся.
— Не надо, — продолжила смеяться Эльза, — не надо только привлекать к этому делу посторонних. Я согласна. Я и так согласна.
— Когда? — он схватил ее за плечи и пристально посмотрел в глаза, уже без тени улыбки.
— Завтра, — внезапно осипшим голосом выдавила Эльза, тоже становясь серьезной. — Выбери любое место, я согласна на все. Пусть это случится завтра.
— Завтра… — повторил Алекс, словно пробуя это слово на вкус, и недоверчиво качнул головой, — дожить бы до завтра скорей.
Он снова поцеловал ее, на этот раз сдержанно, на полу, усыпанном шестиконечными звездами, под пристальными взглядами сероликих теней, и в тот момент к Эльзе вдруг пришла уверенность, что все ее мечты непременно исполнятся.
— Надо просто не думать, — твердила она себе на следующий день, готовясь к вечернему свиданию. — Не думать ни о чем.
Ночью плохо спалось, и теперь слегка побаливало в висках. Когда она принимала душ, ее привычная пористая губка для тела показалась вдруг слишком жесткой и царапающей кожу, и Эльза отбросила ее и принялась намыливать себя руками, представляя, что это руки Алекса. Он будет трогать ее, гладить и целовать. Уже совсем скоро. Этого очень хотелось, от силы желания не хватало воздуха в груди, и она замирала, не замечая, что на спину льется горячая вода.
Потом она нанесла на кожу легкий крем с любимым ароматом, надела свое лучшее белье, повернулась перед зеркалом в одну сторону и в другую, оглядывая себя. Грудь соблазнительно выступала. Длинные темные волосы падали по спине и касались изгиба бедер как раз там, где проходил верхний край гладких шелковых трусиков. Эльза тщательно расчесала пряди до блеска и оставила распущенными. Алексу непременно понравится так. Затем пришел черед платья. Когда она застегивала ряд мелких пуговиц, расположенный от талии до лифа, в ее комнату постучала мать.
— Куда-то собираешься, доченька? — поинтересовалась Ольга, проходя в комнату.
— В гости к Северине, — скороговоркой пробормотала Эльза, стараясь держать лицо.
— Ты такая красивая сегодня… — мать присела на край кровати и ласково улыбнулась, разглядывая дочь и ее отражение в зеркале. — Будет какой-то праздник?
Эльза решила, что лучше не говорить подробностей, которые легко проверить через отца Северины.
— Нет, — она беззаботно пожала плечами, — просто настроение хорошее.
— Понятно, — кивнула Ольга, не скрывая, что любуется ею. — Какая ты у меня уже взрослая стала, детка… прямо невеста на выданье…
— Мам, ну ты чего? — Эльза испуганно повернулась, заметив в глазах матери слезы.
Она приблизилась, и тогда Ольга взяла ее за руку, усадила рядом с собой и крепко обняла.
— Ты не торопись взрослеть, ладно? — мать погладила дочь по спине. — Побудь еще моей маленькой любимой девочкой. Я помню, как ты у меня родилась, крохотная, красненькая, с горящими серебристыми глазками, и тебя положили мне на живот, пока изнутри толкался наружу твой брат. Ты даже не кричала, а попискивала, тоненько и благородно.
Как в детстве, Эльза спрятала лицо в надушенной, мягкой и необъятной материнской груди. От нее пахло молоком, нежностью и любовью, чем-то приятным и теплым, самыми ранними детскими годами и безмятежностью.
Не думать. Прыгнуть и не думать ни о чем.
— А еще я вспомнила, как выходила замуж за твоего отца, — голос у Ольги стал мечтательным, пухлые украшенные дорогими перстнями пальцы стали бездумно перебирать волосы дочери. — Мы были такими молодыми. Он был такой красивый, твой отец. Да и я была ничего. — Она хихикнула, совсем как девчонка. — Конечно, такое платьице, как на тебе, я надеть бы не смогла, фигурой ты все-таки пошла в него, в нашего папу. Но у меня было роскошное свадебное платье, мой отец — твой дед, мир его праху, — не пожалел денег на лучших мастеров, чтобы его создать. Он любил меня баловать. Жемчуг для украшения привезли с самого побережья Нардинии и пришивали вручную, а его потребовалось много. Говорили, что каждая жемчужинка таилась в раковине, и за каждой такой раковиной пловец нырял отдельно. А так как лежат они глубоко на морском дне, то пловцу приходилось уметь надолго задерживать дыхание, и по слухам от нехватки кислорода каждый раз небольшая часть клеток его мозга отмирала. И это при том, что попадались пустые раковины и приходилось нырять еще и еще. Считается, что люди, которые занимаются этим ремеслом, долго не живут. Представляешь, насколько драгоценное платье у меня было?
— Угу, — пробормотала Эльза, с удивлением слушая откровения матери. Раньше таких подробностей она не знала и теперь с любопытством приоткрывала завесу над прошедшей молодостью родителей.
— Теперь мне кажется, что мы поторопились… — улыбка вдруг сползла с лица Ольги, а на мечтательный взгляд набежала тень.
— Мам, что ты такое говоришь? — ужаснулась Эльза.
— Может, Димитрий родился неправильным, потому что я была слишком молода и не смогла выносить его как следует? — рассуждала вслух Ольга, будто бы не замечая ее. — Может, во мне не нашлось достаточно сил, чтобы дать плоду все необходимое для развития, пока он рос внутри меня? Вы-то с братом, слава пресвятому светлому богу, вон какими ладненькими родились. Потому и говорю тебе, доченька, не торопись взрослеть и выскакивать замуж.
Наконец, она спохватилась, быстро глянула на Эльзу и снова засветилась прежней мечтательной улыбкой.
— Но свадьба у нас с твоим отцом была на загляденье. Ты знаешь, что мы вступили в брак в личном темпле самого канцлера?
— Да ты что? — снова удивилась Эльза, стараясь отбросить неприятные мысли об отношении матери к старшему брату.
— Да, — подтвердила Ольга. — Наш правитель всегда дружил с твоим дедушкой и никогда не забывал, что нас связывает пусть дальняя и слабенькая, но все-таки родственная связь. Поэтому он великодушно разрешил нам с твоим папой воспользоваться его темплом, чтобы принести клятвы перед лицом светлого бога и попросить у святых благословения. Места там, конечно, не хватало, части гостей пришлось стоять на лестнице, и по правде говоря, их было столько, что стояли они на всей лестнице до самого низа… но самые близкие, члены нашей семьи и дорогие друзья, конечно, находились рядом в этот торжественный момент. Твой отец… я не могла оторвать глаз от него и чувствовала себя очень счастливой.
— Мам… — Эльза поводила пальцем по яркому покрывалу на кровати, — а ты сразу в папу влюбилась? И никто тебе до него не нравился?
— Сразу. Никто, — уверенным голосом откликнулась мать, — я, как только его увидела, в ту же секунду поняла, что он будет моим.
— А он? Тоже сразу в тебя влюбился?
— Конечно, — Ольга погладила дочь по волосам и заглянула в лицо внимательным взглядом, — а почему ты спрашиваешь?
— Просто так, — растерялась Эльза, — просто я подумала… неужели всегда волки женились только на волчицах, а волчицы на волках? Ведь мы живем среди людей, вокруг нас их много, и неужели всегда пары складывались так идеально, что никогда не получалось ничего… неправильного?
Мать молчала так долго, что ей стало не по себе. Может, спрашивать не стоило? Но ведь этот вопрос давно мучил ее, а мама показалась такой сентиментальной и готовой поговорить по душам…
— Скрывать не буду, милая, — заговорила наконец Ольга, — бывали такие случаи, что кто-то интересовался особой не своего круга. Но это происходило потому, что такова мужская природа.
— Мужская природа? — озадачилась Эльза.
— Да. Природой в мужчин заложено стремление опылить как можно больше цветов, пока их хоботок не увянет, — в голосе матери прорезалась непривычная сталь, а глаза стали похожи на осколки льда, — мы же, благородные лаэрды, храним невинность до брака. Вот им и приходится искать утешения среди других… менее благородных.
— А бывало, — Эльза помялась, — что благородная лаэрда выбирала кого-то менее благородного?
Ольга презрительно фыркнула.
— Перечеркнуть себе репутацию? Таких дурочек не находилось. Другое дело, что человек мог насилием взять благородную женщину. Такое было на моей памяти. Но наказание за это всегда одинаковое и справедливое — пожизненный срок в катакомбах.
— Пожизненный срок? — Эльза с трудом сглотнула.
— Конечно. На бедняжке потом никто не захотел жениться, зная, что ее пользовал безродный. Она так и осталась никому не нужной приживалкой в доме отца, — Мать снисходительно коснулась ее щеки. — Милая, каждый мужчина хочет, чтобы его возлюбленная оставалась невинной до него, чтобы он был у нее первым и единственным. Если это не так — тут никакое приданое не поможет, если только ты не дочь самого канцлера. Но ей-то подобные глупости в голову уж точно не приходят.
— А может, — Эльза тряхнула головой в знак протеста, — может, человек не насилием взял девушку, а она сама ему разрешила?
— Может и так, — легко согласилась мать, — но любой благоразумный отец такой девушки обязательно повернул бы все так, чтобы считалось насилием. Это хоть какой-то шанс не выглядеть посмешищем в глазах своего круга. Бедняжка — жертва, насильник — в катакомбы, родители — на успокоительном. В общем, неприятная ситуация, как ни крути.
— Но отправить невиновного в катакомбы — это же неправильно. Может, они любили друг друга.
Ольга рассмеялась.
— Любовь мужчины к женщине может быть сильна. Но еще сильнее любовь отца к дочери. Чтобы как-то скрасить будущее своего любимого ребенка, он пойдет на все. Спроси у папы, если не веришь. Ты — его единственная малышка, и поверь, он в тебе души не чает.
Эльзе не требовались доказательства, чтобы в это поверить. Она и так знала, как любит ее отец, как он балует ее, совсем как дедушка баловал ее маму. И от этой мысли сердце вдруг болезненно сжалось. После разговора остался неприятный осадок. Не думать, приказала она себе. Прыгнуть, как в озеро.
Водитель отвез ее к Северине. Эльза зашла в дом и даже выпила с подругой чашку чая, угостившись чудесными воздушными пирожными и рассеянно слушая какие-то сплетни про общих знакомых. Затем черным ходом она выскользнула в сад, прокралась в его дальний конец и перелезла через ограду, где в условленном месте уже дожидался Алекс.
Эльза гадала, что же он приготовил для нее, пока они мчались по вечерним улицам столицы. Алекс привез ее к лодочной станции, где все желающие могли взять напрокат лодку или водный велосипед. Река здесь делала небольшой изгиб, течение ее замедлялось, и потому кататься считалось безопасно. Старик-лодочник совершенно очевидно знал о визите заранее и ждал их. Он дал Алексу новую чистую лодку, выкрашенную в зеленый цвет с номером, нанесенным белой краской на борту, и помог Эльзе спуститься в нее, галантно придерживая за руку.
Когда они собрались отплывать, старик поставил на корму масляный фонарь, чтобы в сумерках им стало лучше видно друг друга. Огонек, надежно защищенный стеклом, светил ровно и уверенно. Так же сияли и глаза Алекса, когда он смотрел на Эльзу, сидя напротив нее.
Не думать, напомнила она себе снова. Прыгнуть.
Белая рубашка с распахнутым воротником оттеняла загорелую кожу Алекса, делая ее смуглее, его мышцы натягивали ткань на плечах под каждый всплеск весла о воду. Эльза невольно залюбовалась им. Пресвятой светлый бог, какой же он все-таки красивый и сильный, прямо глаз не оторвать. Ей нестерпимо захотелось провести рукой по груди Алекса, прижаться к нему, почувствовать, что значит принадлежать любимому мужчине душой и телом. Сердце трепыхалось, но теперь не от испуга, а от приятного волнения. Бояться себе Эльза категорически запретила.
Вечерний воздух напитался свежестью и прохладой и стал тяжелым, как плащ, упавший на плечи. Казалось, лодка не плывет, а скользит по черной ленте реки. Последний луч солнца умер на горизонте, и по небосклону рассыпался целый ковер, сотканный из звезд. Эльза подняла голову, разглядывая привычные созвездия: Всадника и Змея, Деву с кувшином, Львицу и Северного Медведя. На миг ей даже почудилось, что мир перевернулся, и она сейчас упадет в эту огромную мировую бездну из лодки, плывущей вверх ногами. И на миг упасть туда и раствориться в безбрежном море захотелось. Но только с Алексом.
— Ты такая красивая сегодня, — раздался его негромкий голос.
Эльза опустила взгляд. Алекс смотрел на ее обращенное к небу лицо, открывшуюся линию шеи, его руки продолжали размеренно трудиться над веслами, но в глазах полыхал настоящий пожар. А может, это так преломлялся в его зрачках фонарный свет? Эльза сглотнула и несмело улыбнулась в ответ. Она облизнула губы, и Алекс повторил это едва уловимое движение за ней.
— Такая красивая, что я ощущаю себя самым счастливым на свете.
Он вдруг оставил весла в уключинах, подался вперед, схватившись обеими руками за борта лодки, чтобы сохранить равновесие. Встал на колени перед Эльзой, скользя жадными ладонями по ее бедрам сквозь ткань тонкого платья, целуя ее губы, искусанные и влажные, своим горячим нежным ртом. Их поцелуй пах ветром с реки и ночными звездами. Лодка перевернулась, и они начали падать, падать вверх, в бездонный океан, усыпанный серебристыми искрами. Эльза откинула голову, наслаждаясь этими долгими секундами падения и прикосновениями губ Алекса к своей шее. Затем в какой-то момент она осознала, что они движутся не вверх, а в сторону, по гладкой черной ленте, неподвижной, как гранит.
— Лодку сносит, — прошептала она в висок Алекса, зарываясь пальцами в его густые непослушные волосы.
— У меня крышу от тебя сносит, — хрипло пробормотал он, стискивая ее талию, неистово исследуя языком грудь прямо через платье, — а ты говоришь лодку…
У Эльзы вырвался слабый беспомощный стон, когда Алекс чуть сдвинул на себя ее бедра. Теперь она балансировала на самом краешке узкой деревянной скамьи, а он по-прежнему стоял на коленях между ее раздвинутых ног. Пальцы Алекса легли на ее ягодицы, сминая их до боли, и она снова вскрикнула, на этот раз жалобно.
— Прости. Я сам не свой, — он аккуратно отодвинулся, вернулся на место, взялся за весла, выправляя лодку на нужный курс.
Эльза сомкнула колени, чувствуя, как горячо и влажно стало внизу живота. Она опустила руку в воду, вздрогнула, когда холод обжег пальцы, побежал вверх по жилам до самых висков, остужая распаленное сознание. Прохладной мокрой ладонью она провела по лбу, шее и ключицам, перевела дыхание и услышала, как глухо застонал Алекс.
— Хочу, чтобы ты сегодня не останавливала меня, — выдавил он, пожирая ее глазами. — Не остановишь, девочка моя? Я так долго тебя ждал. Я не смогу остановиться.
На секунду ее сердце пропустило удар, и тщательно подавляемые страхи снова протянули к ней липкие щупальца, но Эльза решительно тряхнула головой.
— Не остановлю, — смело произнесла она и расстегнула верхнюю пуговицу на платье, глядя прямо в глаза Алекса. — Сегодня я сама не хочу останавливаться.
Он зажмурился, на лице блуждала кривая мальчишеская улыбка, полная почти болезненного счастья. Затем резко окатил ее серьезным взглядом.
— Но все должно быть идеально. Скажи мне, если я сделаю что-то не так.
— Нет, — Эльза засмеялась, эхо над водой подхватило ее смех и унесло к звездам, — все должно быть естественно. Делай все так, как привык.
— Но я не хочу тебя напугать, — покачал головой Алекс.
— А тебя ничего не пугает? — она перестала смеяться, снова провела кончиками пальцев по непрозрачному полотну воды. — Ты знаешь, чего я могу тебе стоить?
— Чего, Эль? — с неожиданным вызовом поинтересовался он.
Эльза помолчала, глядя, как мимо в сумеречной дымке проплывают берега. Слова матери так и звучали у нее в голове. Зачем она только вспомнила этот неприятный разговор?
— Свободы. Жизни. Другой жизни, где все бы у тебя сложилось по-другому.
— Свободы? — он фыркнул. — Если думать о тебе двадцать четыре часа в сутки, не находить себе места ночами, представляя, как где-то далеко ты лежишь в своей постельке и мирно спишь, и сходить с ума от этого, если вот это считается свободой, то я бы и рад ее потерять. А жизни… у меня в любом случае все сложится так, как задумано. Я все равно пойду в полицию стажером, а большего мне и не надо. Ничего не надо, кроме тебя, Эль.
Алекс говорил так уверенно, что Эльза снова усилием воли отогнала все прочие мысли. Она слишком много позволяет своей рациональной стороне, и это все портит. Сегодня она не будет ни над чем думать.
— Что это? — она оглянулась через плечо, заметив темные силуэты деревьев, к которым приближалась лодка.
Река здесь раздавалась вширь и делилась надвое, огибая небольшую отмель посередине. За деревьями Эльза различила очертания какого-то строения.
— Говорят, что тут когда-то была одна из летних резиденций самого канцлера, — пояснил Алекс. — А может, кого-то из благородных лаэрдов. В любом случае, особняк давно пустует. Видимо, хозяин больше не интересуется им. Мы с друзьями пару раз забирались сюда, но в доме нет ничего ценного, и его никто не охраняет. Я подумал, что если тебе нужно идеальное место, то благороднее этого не найти.
— А там точно никого нет? — с опаской прищурилась Эльза, изучая густые заросли плюща, который опутывал стволы деревьев и свисал с ветвей гирляндами.
— Не волнуйся, — усмехнулся Алекс, — я все лично проверил.
Он направил лодку к берегу этого островка, а когда они причалили, привязал ее к колышку, вбитому в землю у самой кромки воды. Колышек был новый, и, похоже, это Алекс позаботился о том, чтобы он находился тут.
Плотные, покрытые мясистыми листьями стебли плюща покрывали землю ковром, словно тут и в самом деле давно не ступала нога человека. Эльза не заметила какой-нибудь хоженой тропки, когда Алекс подхватил ее за талию и перенес из лодки на берег, хотя между деревьями отчетливо угадывался просвет некогда заботливо высаженной аллеи.
— Боишься? — удерживая руки на талии Эльзы, Алекс пытливо заглянул в ее глаза.
Она посмотрела в лицо человека, которого любила так, что готова была забыть саму себя.
— С тобой? Нет.
Он улыбнулся и снова поцеловал ее, поглаживая ладонями спину, а она обвила руки вокруг его шеи. Ветерок играл подолом ее платья, и вода едва слышно плескалась о берег. Большая шумная столица лежала далеко-далеко, на другом краю света, и в ней осталась вся прошлая жизнь Эльзы. А тут, действительно, никто не мог потревожить их.
— Держи, моя храбрая девочка, — Алекс вручил ей фонарь на железной ручке, а мошки, успевшие облюбовать тепло огня, беззвучно бились о стекло. — И дай мне одну минуту.
Он двинулся к заброшенному особняку, оставив Эльзу в одиночестве, и вскоре растворился в темноте. Она подняла фонарь повыше. Как много интересного прошло бы мимо нее, если бы не Алекс. И этот загадочный остров — в том числе. Нет, ей, конечно, нравились роскошные приемы, и красивые платья, и возможность попросить у родителей исполнение любого желания. Но никто не открыл бы для нее красоту заката или пробирающую мурашками опасность высоты, как это сделал простой человек, влюбленный в нее. И никто не открыл бы для нее саму любовь, простую, теплую и очень человеческую. Интересно, перевесили бы эти открытия на чаше весов те деньги, что имелись у ее семьи?
Эльза так задумалась, что не заметила, как вернулся Алекс, пока он не взял ее за руку. Особняк теперь не казался глухой темной громадиной, сейчас в нем даже с берега можно было различить окно, за которым теплился свет. Алекс повел ее туда, раздвигая и придерживая ветви деревьев, помогая перебраться сквозь пролом в невысокой каменной ограде.
Особняк пах старостью и призрачными отголосками давно ушедших обитателей. Эльза повела носом и прислушалась. Где-то на втором этаже стонала рассохшаяся рама окна, шелестели меж стен маленькие ножки встревоженных грызунов. Но все-таки дом сохранил былое величие. Полы в большом зале выглядели ровными и чистыми, обои на стенах еще держали позолоту. Резные колонны на лестнице явно выполнял искусный мастер.
Правда, мебель тут отсутствовала напрочь. Алекс не соврал — ничего ценного здесь давно не осталось. Но Эльза улыбнулась, когда увидела зажженные свечи, расстеленный на полу плед, корзину фруктов и бутылку вина. Мило и просто — но большего ей и не хотелось.
— Как ты думаешь, а привидения тут водятся? — шепотом спросила она, когда Алекс потянул ее за руку.
— Водились, — так же шепотом ответил он. — Но я попросил их удалиться на один вечер, чтобы не смущать мою драгоценную лаэрду.
Потом они сидели на полу и пили вино из стеклянных бокалов, и оно показалось Эльзе вкуснее тех вин, что она пила когда-либо из дарданийского хрусталя. Время текло неспешно, ее голова кружилась, а губы горели. Осмелев, она положила в рот виноградину и сама потянулась к Алексу, чтобы угостить его. В следующую секунду виноградный сок потек по ее подбородку, а язык Алекса поймал его, неловко срываясь ниже, на шею, и снова возвращаясь к ее нижней губе. Аромат виноградной лозы плыл в их дыхании, одном на двоих, руки трогали там, где всегда хотелось друг друга потрогать, стоны рвались из груди.
Эльза расстегивала рубашку Алекса, а он терпеливо одолевал ряд мелких пуговок на ее платье, и, делая это, они безотрывно смотрели друг другу в глаза. Она уже прыгнула, подумала Эльза, когда Алекс снял с нее платье и благоговейно провел ладонями по плечам, нежным полушариям груди и чувствительному животу. Она прыгнула и тонет в этом омуте без начала и конца…
Она смеялась, покусывая шею Алекса, пока он ругался сквозь зубы, пытаясь вытащить руку из рукава собственной рубашки. Дразнила его лукавой улыбкой, медленно снимая перед ним свое белье, и старалась не думать о том, как бешено колотится сердце и как пересыхает в горле от того, что теперь она стоит совсем голая перед ним. Она перестала улыбаться, когда он снял штаны и тоже остался голым перед ней. Некоторое время они просто жадно разглядывали тела друг друга, не прикрытые больше ничем — ни ложной скромностью, ни барьерами одежды.
Затем Алекс подался вперед, в его глазах плескалась безумная любовь, ненасытная жажда, и огонь свечей, окружавших их, тоже плясал в его зрачках. Эльза откинулась назад, на руки, в странном оцепенении следуя взглядом по его плоскому животу, поросли темных волос между бедер, напряженному твердому члену, который стремился пронзить ее тело. Она протянула ладонь и потрогала это мощное устрашающие оружие мужчины, созданное для покорения женщины. Такой шелковистый и гладкий, пульсирующий под ее рукой там, где горячая кровь текла по выступающим набухшим венам.
От этого прикосновения Алекс выгнулся, уткнулся лицом в шею Эльзы, опаляя ее кожу дыханием и шепча ее имя. Кажется, он умолял ее о чем-то. Или проклинал за свои муки — там было уже не разобрать. Он опустился на нее, тяжелый сильный мужчина на хрупкой беззащитной женщине, и Эльза больше не могла трогать его там, внизу, и упала на спину, задыхаясь от бури, поднявшейся внутри ее тела. Она ощущала, как Алекс двигается между ее ног, пока еще не проникая, просто прижимаясь членом между ее нижних губ, смещаясь вверх-вниз так, словно судороги пронзают его позвоночник, и от этого ей снова стало страшно. Она хотела его и боялась — ожидаемой боли, старательно отрицаемой реальности, голоса матери в голове, который настойчиво повторял, что волкам не место рядом с простыми людьми, — а Алекс все больше терял рассудок, терзая губами и пальцами ее грудь, шею, плечи, волосы.
— Я хочу купаться… я хочу купаться, — Эльза вывернулась из-под него, плохо соображая что и зачем делает, на ходу обернулась волчицей, бросилась в дверь.
Звериный облик придавал ей ощущение безопасности. Ночь приняла в свои объятия, и любые заросли легко покорялись ловким волчьим лапам. Эльза прыгнула через сломанную ограду, молнией бросилась в реку, поплыла, возвращая себе человеческое тело. Она слышала, как Алекс зовет ее, растерянный и немного сердитый. Вода холодила ее соски и разгоряченное местечко между ног. Эльза набрала в грудь воздуха, взмахнула руками и погрузилась с головой. Ее тело повисло в невесомости, в ушах вибрировали звуки подводного мира, все мышцы расслабились и стали ватными. Не думать. Не думать. Не думать.
Она вынырнула и увидела, что Алекс стоит на берегу с фонарем в руке, голый, возбужденный, беспрестанно ищущий ее взглядом во тьме. Она поплыла к нему, все еще раздираемая человеческими страхами и звериными инстинктами, нащупала ногами дно, встала и пошла, вся в струях воды, бегущих по телу. Увидев, как она выходит, Алекс отбросил фонарь. Просто отшвырнул его одним движением руки и распахнул объятия, чтобы принять в них Эльзу. Она бросилась к нему, обхватывая за шею, прижимаясь всем своим холодным дрожащим телом к его горячему и сильному телу.
— Я так боюсь, Алекс, — она шептала это и целовала его губы, не замечая, как слезы катятся по ее лицу, а если бы и заметила, то не смогла бы сама объяснить, с чего они взялись. — Я так боюсь за тебя, за себя, за нас…
— Я напугал тебя, — он стискивал кулаки, его рот кривился от досады, — я поторопился. Я все испортил. Скажи "нет", пока еще не поздно. — И тут же голосом, полным боли, продолжал: — Не отталкивай меня. Пожалуйста, Эль. Скажи "да".
— Да. Да, — Эльза не замечала, что кричит это, кричит прямо в его губы, будто пытается заглушить голос разума, желающий ей помешать.
Они упали на землю, прямо на плотный ковер из плюща, и ласкали друг друга так неистово, словно от этого зависели их жизни. Пальцы Алекса требовательно раздвинули влажные складки между ног Эльзы, а ее ладонь крепко стиснула его член. Они задыхались, переворачивались, по очереди оказываясь сверху, доводили себя до крайней степени исступления и все никак не решались перейти последнюю черту.
Эльза поняла, что Алекс не станет заниматься с ней любовью здесь, на берегу, но и не может оторваться от нее первым. Она вскочила на четвереньки, но он поймал ее за бедра, притянул к себе, заставляя вскрикнуть. Его язык коснулся ее между ног, Алекс вылизывал ее, дико, по-звериному, стоя позади нее и крепко сжимая ее колени, и Эльза приникла щекой к прохладным листьям плюща, царапая ногтями землю, громко крича и совершенно не стесняясь своих криков.
Но когда он подхватил ее на руки и понес обратно в дом, оставив фонарь валяться в траве, она затихла и спрятала лицо у него на груди. Пусть все случится. Внутри Алекса все так дрожит… он сойдет с ума, если сейчас она откажет ему.
Эльза покорно вытянулась на пледе, когда Алекс положил ее на пол в большом зале чужого заброшенного особняка. Она раздвинула ноги, удерживая его взгляд своим взглядом, и оставалась в такой позе, не шелохнувшись, пока он опустился сверху на нее.
— Я люблю тебя, Эль, — он помедлил, нежно провел пальцем по ее приоткрытым губам, словно готовясь испытать вместе с ней этот последний прыжок, это головокружительное падение и эту неведомую пугающую боль. — Я никогда не забуду, как ты стала моей.
Эльза молчала, напряженная, как струна, опасаясь, что если начнет говорить, ее решимость в очередной раз рассыплется, как карточный домик. Не дождавшись ответа, Алекс начал целовать ее, и она ощутила, как усиливается давление между ее ног, там, где он пытался осторожно проникнуть в ее тело. И вдруг дверь отлетела, ударившись о стену, яркий свет ударил им по глазам, и грубый голос приказал:
— Речной патруль. Не двигайтесь с места.
В полицейском участке, куда их доставил патруль, было жарко, но Эльзу все равно знобило. Она сидела, сцепив на коленях руки и опустив глаза, на жестком деревянном стуле для посетителей, одном из тех, что стояли в коридоре вдоль стены. Ее еще влажные и спутанные волосы лежали на одном плече, и только оказавшись в помещении, она заметила, что впопыхах неправильно застегнула платье, и, сгорая от стыда, продела пуговицы в правильные петли.
Один из полицейских, заметив, что Эльза дрожит, принес плотное шерстяное одеяло из спасательного набора для пострадавших, укрыл ей плечи и дал в руки стакан с горячим чаем. Алексу не оказали даже такого внимания — его бросили в клетку для временно задержанных наравне с прочими нарушителями, которых удалось поймать за день.
Узнав ее имя, позвонили родителям. Отец примчался довольно скоро. Эльза видела через коридор, как он остановился у стола дежурного, бросил в ее сторону короткий злой взгляд, закурил. Курить в участке наверняка не разрешалось, но молодой человек в форме не сказал благородному лаэрду ни слова и даже достал откуда-то из своих ящиков блюдце, чтобы предложить в качестве пепельницы.
Это был плохой знак. Отец всегда много курил, когда нервничал. До Эльзы долетали обрывки фраз из его тихой беседы с дежурным. Совершили проникновение на территорию и взлом исторического архитектурного памятника… разжигали огонь, создавая угрозу пожара в ветхом строении… были пойманы при попытке вступить в интимную связь…
На последних словах лицо отца стало белым, как мел. Эльза бы могла, конечно, крикнуть, что все не так. Никакого пожара бы не случилось ни от нескольких свечек, расставленных в доме, ни от фонаря, который валялся на влажной траве у берега, когда патруль прибыл. Но она уже несколько раз повторила это суровым вооруженным мужчинам, которые везли их на катере, и ее никто не послушал. Откуда они с Алексом могли знать, что чей-то старый особняк считается важным для истории? Алекс упоминал, что там мог когда-то бывать канцлер, но совершенно точно там давно никто не жил. Если дом так важен, почему там не ставили охрану и не ухаживали за ним? На эти вопросы ей никто не отвечал.
Эльза понимала: патрульные просто выполняют свою работу. Они должны следить за порядком на выделенном им участке, а это именно ее крики их привлекли. Крики и стоны, которые она издавала, когда Алекс ласкал ее у воды. Патрульный катер проходил где-то неподалеку, и их услышали. А потом увидели свет в особняке и тот злополучный брошенный ими фонарь…
Отец докурил, расплющил на блюдце уже седьмой по счету окурок с таким видом, словно сворачивал кому-то шею, затем полез в карман пиджака за бумажником. Он отсчитывал дежурному купюры, но смотрел не на него, а на дочь. Эльза узнавала этот взгляд, но никогда раньше не испытывала его на себе. Таким взглядом обычно отец смотрел только на Димитрия. Ей стало плохо, как становилось всегда, когда папа превращался из ласкового и улыбчивого волшебника в лютого и полного ненависти злодея.
Виттор чуть помедлил, собираясь убрать бумажник обратно, потом решительно отсчитал еще денег.
— Мальчишку я тоже заберу.
Эльза вскочила на ноги и хотела заговорить с отцом, когда он подошел, но тот грубо оборвал ее:
— Поговорим дома.
Она все поняла по виду, с которым Виттор огляделся. Незнакомые люди смотрели на них, а отец и так достаточно хлебнул позора, приехав сюда, чтобы забрать ее. Теперь о ней будут шептаться так же, как шепчутся о Димитрии, а папа всегда болезненно реагировал на подобные сплетни. Это было его слабое место: репутация, положение в обществе, уважение друзей и знакомых. Его детьми должны восхищаться, а Эльза… она следом за старшим братом нанесла ему удар в спину.
С замирающим сердцем она смотрела, как Алекса выпускают из клетки, и старалась убедить себя, что в этом есть хороший знак: отец не выдвинул против него обвинение в изнасиловании, как пугала ее мать, и даже выкупил его штраф за собственные деньги. Может быть, вся кара падет только на нее. Может быть, отец решил откупиться и от Алекса, чтобы тот молчал обо всем. Полицейские уж точно не станут дергаться, пока благородный лаэрд этого не захочет.
Она хотела объяснить отцу, что Алекса не стоит опасаться. Что он никогда не причинит ей вред, не станет трепаться на каждом углу, что она сама мечтала лечь с ним, и не нанесет урон драгоценной репутации их семьи. Но Виттор размашистым шагом шел впереди и словно не замечал, что его дочь плетется сзади. Алекс умудрился взять ее за руку и шепнуть, что он сам поговорит с ее папой, но Эльза только покачала головой. Алекс не знал, каков ее отец — человек, который запирал за железной дверью сына и никогда не слышал его криков и слез.
Их ждал кар с водителем, тем самым, который доставил ее к Северине и должен был ожидать возвращения. Мужчина выглядел виноватым, прятал глаза, а на его скуле Эльза заметила подозрительное лиловое пятно. Рука у отца всегда считалась тяжелой, но он обошелся мягко со слугой, не выгнав без выходного пособия, а только отвесив по морде. Ее мать однажды без тени сомнения уволила молодую служанку лишь за то, что та вздрогнула и заплакала при виде Димитрия.
Они ехали по городским улицам в полном молчании. Алекс ерзал и бросал взгляды на ее отца, но, очевидно, тоже чувствовал, что лаэрд не намерен вести беседы, и выжидал удобного момента. Эльза оставалась неподвижной и смотрела в окно, тяжесть на ее сердце с каждой минутой становилась все более невыносимой. Она встрепенулась, только когда поняла, что они едут не домой, а в противоположную сторону.
— Папа, что ты задумал? — воскликнула она.
Вместо ответа Виттор щелкнул зажигалкой, распространяя вокруг себя густые клубы дыма. И это тоже был плохой знак: обычно он старался не курить, находясь так близко возле детей. Водитель привез их на пустырь за доками, в стороне от прочего жилья. Здесь рос высокий ковыль, без конца свистел ветер, и сюда Эльза бегала с Алексом любоваться на закаты и обмениваться жаркими поцелуями.
— Выходи, парень, — негромко приказал отец и первым толкнул дверь.
Эльза тоже выскочила наружу. Теперь мысль о том, что их с Алексом могли бы оштрафовать за нарушение порядка и задержать в той клетке на несколько дней, казалась ей даже привлекательной. Отец в образе сердитого чужака пугал ее гораздо больше.
— Папа, чтобы ты ни задумал, пожалуйста, не надо, — взмолилась она, бросившись родителю на шею.
— Эль, — позвал ее Алекс, пока отец с непроницаемым выражением лица отодрал от себя ее руки и оттолкнул, — не волнуйся так, все будет хорошо. Мы просто поговорим. Это мужской разговор, и он должен состояться.
Отец снял пиджак, бросил его водителю и начал подкатывать рукава рубашки, такой же белой, как у Алекса. Они стояли на краю пустыря, по колено в ковыле, и над их головами чернело огромное небо. Алекс тоже поддернул рукава, но по его лицу Эльза видела, что он все еще намерен решить дело словами.
— Как ты посмел тронуть мою дочь, мальчишка? — произнес Виттор тихим, полным гнева голосом, наступая на него.
— Он меня не трогал, — закричала Эльза. — Ничего не было, папа.
— Держи ее, — приказал отец, и в тот же миг сзади на нее навалился водитель.
Эльза начала брыкаться, но мужчина держал крепко, и ее руки оказались заломлены за спину. Она могла бы побороть его, обернувшись волчицей, но, как и Алексу, ей все еще хотелось пойти мирным путем.
— Не сочтите за оскорбление, благородный лаэрд, — со смелой улыбкой начал Алекс, встречаясь лицом к лицу с Виттором, — но я люблю вашу до…
Удар свалил его на землю. Эльза закричала так страшно, что мгновенно охрипла, и у нее заложило уши. Она знала, что в этой схватке Алексу не победить. Что мог сделать молодой парень против опытного боксера и взрослого волка, каким был ее отец? Только Димитрию удалось однажды остановить отцовский кулак, но и тогда она видела, что Виттор лишь чуть-чуть уступил ему в силе. К тому же, отец все равно сломил ее старшего брата, выжил из собственного дома и лишил наследства и права голоса в семье. Он всегда выходил победителем.
Остановить его, Алекс, конечно, не мог. Он мог лишь уворачиваться от ударов и защищаться, но его опыт приобретался в уличных драках с примерно равными по возможностям противниками, а отец Эльзы регулярно практиковался в своем клубе с лучшими из лучших. Это было избиение, жестокое и беспощадное. Кости Алекса хрустели, по его лицу и рукам лилась кровь. Когда он не смог уже подниматься и остался на земле, Виттор продолжил пинать его ногами. Движения отца оставались точно выверенными, ни одного лишнего замаха, ни капли пустой траты сил. Хладнокровный, разящий прямиком в болевые точки, он вдруг показался Эльзе машиной для убийств, приведенной в действие.
Она кричала, хрипела сорванным горлом, сначала о том, что любит Алекса, затем — сообразив, что злит отца еще больше, — о том, что этот человек ничего для нее не значит, и она хотела только поразвлечься с ним. Напрасно: Виттор размеренно занимался своим делом. Вот почему он выкупил Алекса у полиции и не стал выдвигать против него обвинений. Он собирался просто его убить. Ведь это так легко — стереть с лица земли человека без поддержки влиятельной семьи, одного из тех, о ком назавтра никто и не вспомнит. А дочь пусть посмотрит и получит свой урок.
— Отпусти меня, — взмолилась она, повернув голову к водителю. — Ты же видишь, что происходит.
Но слуга лишь крепче стиснул ее и пробормотал:
— Простите, молодая лаэрда, мне нужна эта работа, мне нужно кормить семью.
Тогда Эльза зарычала, собралась с силами и двинула его локтем в живот. Мужчина охнул, от боли у него разжались руки, и она выскользнула на свободу, ощутив, как внутри бьется в ярости ее волчица. Она подбежала к отцу, схватила его за руку и каким-то нечеловеческим усилием развернула к себе.
— Если ты сейчас не остановишься, — заорала она в лицо, так похожее на ее собственное, и ее серебристые глаза пылали напротив точно таких же глаз родителя, — клянусь, я уйду жить к Димитрию.
Виттор вспыхнул, и Эльза почувствовала, что попала в цель, нащупала его болевую точку.
— Да, — продолжила она, — он сам звал меня, предлагал уйти от вас, и теперь я вижу, что мне давно стоило это сделать. Я уйду от тебя, сбегу, я стану жить с ним и спать с кем захочу, потому что Дим пообещал, что ни в чем не станет меня ограничивать. В отличие от тебя, он примет меня такой, какая я есть. И я всегда поддерживала его, когда ты старался его унизить. А тебя я ненавижу.
— Уйдешь к прислужнику темного бога? — зашипел на нее отец, брызгая слюной. Дело было сделано: он и думать забыл об Алексе, неподвижно лежавшем на земле.
— Уйду, — смело выкрикнула Эльза, ее голос далеко разнесся по пустырю. — Буду жить с ним в темпле и буду служить вместе с ним темному богу, если потребуется. Потому что Дим — настоящий, он никогда не старался казаться лучше, чем он есть, и он тысячу раз пытался открыть мне глаза на то, какие вы с матерью лживые и гадкие, а я не верила. А теперь я верю. Я вижу это собственными глазами. Ты не моего парня сейчас убиваешь, ты во мне всю любовь и уважение к себе убил. Я ненавижу тебя, папа. Ты — чудовище. В сто раз хуже Димитрия и гораздо страшнее его.
— Шлюха, — отец хлестнул ее по лицу, разбил губу, Эльза пошатнулась от удара и почувствовала во рту солоноватый привкус крови.
— Твой старший сын — убийца, твоя дочь — шлюха, — она улыбнулась ему окровавленными губами, — хороших же детей ты вырастил, отец.
Виттор резко вздернул руку, собираясь ударить ее еще раз — теперь уже кулаком — но бросил взгляд на водителя, корчившегося и прижимающего ладони к животу, и передумал. Эльза хрипло рассмеялась: даже в такой момент репутация в глазах слуг для отца оставалась важнее желания ее наказать.
— Конечно, ты — шлюха, — прищурился он, — никто на тебе теперь не женится.
— А вот и нет, — вздернула подбородок Эльза. — Я до сих пор девственница. Могу пройти осмотр у врача, если не веришь. Девственная шлюха — вот это будет новость для твоих друзей. Как и то, что ты только что чуть не убил невинного человека.
Виттор скрипнул зубами, явно оценивая, врет она или нет, затем схватил ее за локоть, дернул, увлекая за собой.
— Никаких тебе больше подруг и никаких развлечений. Если понадобится, я запру тебя в дарданийский монастырь — но меня ты больше не опозоришь.
— Нет, — Эльза пыталась упираться, оборачиваться назад, к Алексу, который даже не стонал от боли и выглядел почти мертвым. — Врача. Ему надо врача. Ему надо в госпиталь.
— Безродные всегда живучие, как тараканы, и этот выживет, — с жестокой ухмылкой бросил ее отец.
— Я позабочусь об этом, — с сочувствием шепнул слуга, и только тогда Эльза сдалась.
Ее запихнули в салон, она приникла лицом к заднему стеклу и вознесла горячие молитвы светлому богу, чтобы Алекс дождался врача и выжил.
А потом она вознесла молитву темному богу, чтобы тот покарал ее отца.
И скорее послал ей на помощь Димитрия.
Цирховия Двадцать восемь лет со дня затмения
Этой ночью Алекс решил напиться вдрабадан и теперь семимильными шагами двигался к поставленной цели. Он вообще по жизни был очень целеустремленным парнем, решил он, ухмыляясь и подливая себе в стакан. Таким, что его упорство порой граничило с идиотизмом. Еще бы, наступать несколько раз подряд на одни и те же грабли — это не каждому под силу.
Его грабли в виде изящной пепельно-серой волчицы дремали на пороге в кухню, на полу возле кухонного стола растянулось бездыханное тело, рядом валялся окровавленный нож. Левая рука Алекса отнялась из-за раны, у него темнело в глазах, стучали зубы, оставался один день до полнолуния — и, к счастью, крепкий десятилетний коньяк без закуски и на голодный желудок был настоящим другом, который еще никого в этой жизни не подводил.
В отличие от любимых женщин и их свихнувшейся родни.
Он припомнил, что последний раз так мечтал напиться… да, давно, очень давно. Когда Эльза вышла замуж, если память еще при нем. Тогда вообще выдался трудный год. Он начал пить, как только вышел из дома Эльзы, ощущая себя мертвым внутри после отказа в прощении, а уж потом, когда до него долетели новости об ее браке, просто не просыхал. Он сгорал от желания убить ее брата, но закончилось все тем, что во хмеле отметелил Яна, и тот еще долго охал, потирая ушибленную челюсть, и ворчал, что если уж Димитрий решил сдавать его в аренду, как вещь, то пусть хотя бы предупреждал новых хозяев, чтоб им пользовались аккуратно. Тогда в голову Алекса впервые закралась мысль, что брат Эльзы решил принести извинения, отослав к нему на время своего помощника. Это была глупая мысль, и он постарался ее забыть как можно скорее.
Впрочем, бить Яна тоже стало ошибкой. Все равно что отпинать девчонку. У Яна имелись свои таланты — великого стратега и координатора и не менее великого сводника — но бойцом он не родился. Зато с тех пор они с Алексом подружились, как бывает иногда после хорошей драки. "Друг мой Алекс", — в своей обычной саркастической манере полюбил именовать его Ян. В глубине души Алекс продолжал тихо презирать его за подобострастное служение Димитрию, но отлупить больше не пытался и в этом проявлял свое расположение.
Ян лечил его, как сам признался, теми же лекарствами, что и своего господина. "Почетный врачеватель", — сказал он и долго над собой смеялся. Лечение было простым: он накачивал Алекса выпивкой и подкладывал под него женщин. Хороших, послушных и красивых девушек, которые улыбались даже тогда, когда, кончая, он стонал им на ухо: "Эль…" Может они даже были не такими красивыми, как виделось Алексу в его пьяном сознании. Главное, что они нежно целовали его и отзывались на имя белой волчицы, когда ему того хотелось. Иногда Алекс ловил себя на мысли, что засыпает в обнимку с одной, а просыпается от того, что какая-то новая незнакомка седлает его бедра. И все они оставались Эльзами для него.
Возможно, Димитрию такое лечение и шло на пользу, Алексу оно не помогало от слова совсем. Он все равно помнил о том, что натворил, и сходил от этого с ума. Сначала, каждый раз просыпаясь, думал, что все плохое ему привиделось, и на самом деле они с Эльзой еще вместе. Потом, поверив, наконец, в реальность, затрахивал своих партнерш, отрываясь на полную катушку: если уж он такое чудовище, то и вести себя надо соответственно. Сбивал руки в кровь, все время норовя причинить себе увечье, так что Яну приходилось буквально сидеть рядом и унимать его. Потом устал и от этого и стал равнодушен ко всему. Однажды ему даже приснился сон, что Димитрий стоит над ним, растянувшимся на кровати после очередной попойки, и его аристократическое лицо выражает сочувствие и сожаление. Сочувствие и, мать его, сожаление? Проснувшись, Алекс долго тряс головой, пытаясь прогнать из нее этот сон, а потом решительно заявил Яну, чтобы тот убирался вместе со своими девками и спиртным — он окончательно допился до белой горячки.
"Вылечился", — удивленно-обрадованно всплеснул руками Ян и ушел, забрав с собой женщин и пустые бутылки.
Правда, скотина, ненадолго. Вернувшись, он официальным тоном, говоря от лица страны, предложил Алексу пост в полицейском участке. Сочувствие и сожаление. Новоиспеченный наместник Цирховии, как видно, был очень виноват перед тем, кто глубоко обидел его сестру.
Дела давно минувших дней. А как хорошо все начиналось. Алекс увидел Эльзу на площади у школы, влюбился в нее, и вскоре она ответила ему взаимностью. То есть, нет, не так. Это слишком давнее воспоминание. Сидя за своим столом в кухне, поглядывая на труп сумеречной ведьмы, Алекс отпил коньяка, снял тоненькую железную пластину, которая прокаливалась на огне особой, слепленной из черного воска свечи, и прижег кровоточащую на левой руке рану. Волчица вскочила на ноги и повела носом, когда в воздухе поплыл отвратительный смрад паленого мяса. Алекс отбросил пластину, расцепил стиснутые зубы и отсалютовал ей полупустой бутылкой.
— Не волнуйся, Эль, — пробормотал он заплетающимся языком, — я вполне доживу до момента, когда ты вспомнишь, кто я такой, и снова возненавидишь меня.
Да, начиналось все неплохо. Старик-знахарь и его команда истинных пришли и сняли с Эльзы печать темной магии. Дальше все пошло сложнее. Алекса, конечно, предупреждали, что ему придется непросто, ведь ее личность сгорела под воздействием проклятия, и он приготовился к тому, что, очнувшись и выйдя из волчьего тела, Эльза его не вспомнит, продумал, какими словами расскажет ей об их прошлом и как все объяснит, чтобы не напугать. Но он не был готов к тому, что она вообще не станет человеком.
В первые дни после пробуждения волчица не узнавала даже его волка. Даже ее привязка к нему разрушилась. Перед Алексом стоял дикий зверь, скаливший пасть, щетинивший холку, с горящими безумием и страхом глазами. Эльзу пришлось запереть в подвале, где она кидалась на стены, рушила старую утварь, рычала, скулила и билась в припадке. Алекс сидел наверху, подпирая дверь спиной, и без конца слушал ее вой, надеясь, что волчица вскоре успокоится. Ей было больно и страшно в новом, чужом и незнакомом мире, и его волк внутри беспокойно метался, не зная, чем помочь любимой. Алекс тоже не знал, хоть и корил себя мысленно за бездействие. Он вспомнил, что старик-знахарь назвал его жестоким за желание не убить Эльзу, а воскресить. Теперь, кажется, стало понятно, что тогда имелось в виду.
Она успокоилась только на третий день, когда голод взял свое. Позволила ему войти и накормить ее. На тарелке, которую принес Алекс, лежала котлета с подливкой, жареной картошкой и гарниром в виде горошка с капустой. Котлету волчица проглотила мгновенно, слизнула языком подливку, а картошку и гарнир разворошила мордой и разочарованно фыркнула. Потом она умудрилась цапнуть Алекса за пальцы, когда он потянулся за посудой, убежала и забилась в угол.
И вот это была женщина, которую он любил всю свою жизнь.
Впрочем, его грабли были надежные, испытанные годами, и наступал он на них не без удовольствия. Принося еду, Алекс пытался разговаривать с Эльзой. Вскоре она перестала рычать в ответ и даже чуть поворачивала голову и поднимала уши, будто прислушивалась к словам. Алекс рассказывал ей обо всем: какая на улице погода, как его и ее зовут, что она — человек, а люди, вообще-то, берут вилку, когда едят, а не разбрасывают еду лапами, выбирая кусочки получше. А чтобы взять вилку, ей надо вернуть себе человеческие руки, и это просто, надо лишь вспомнить, что она — человек. И снова, и снова, одно и то же на все лады.
Заметив, что Эльза отыскала в груде старого хлама его забытую детскую игрушку — однолапого грязно-желтого медведя с черным блестящим носом — Алекс начал разговаривать с ней о ребенке, взывая к материнскому инстинкту. Медведя волчица, и правда, всюду таскала с собой, а укладываясь спать, обязательно поджимала к животу и обхватывала лапами. Глядя на нее такую, Алекс надолго уходил курить на крыльцо.
Прошел почти месяц, и ему стало казаться, что он топчется на одном месте. Становиться человеком Эльза не торопилась, и повадки у нее оставались звериные. Правда, к ней вернулась привязка. Когда Алекс возвращался домой, волчица бросалась к нему, виляла хвостом, показывала, как любит его и как скучала, лизала ему руки и лицо, вставала на задние лапы, упираясь передними в грудь и заглядывая в глаза. Ночью она стала приходить к нему в кровать вместе со своим медведем.
Но он ведь мечтал о женщине, а не о ласковой домашней собаке. Лучше бы Эльза продолжала ненавидеть его, но стала собой. Без ее показаний он даже не мог найти похитителя их ребенка.
Как назло, дела наместника тоже не давали покоя. "Сиятельное Сиятельство", как шутливо называл его Ян, с легкостью завоевывал женские сердца своей привлекательной внешностью, холодностью и равнодушием, но толпу подданных эти качества не могли покорить. Наверно в истории Цирховии не нашлось бы правителя, более безразличного к делам страны, чем Димитрий. У Алекса не раз чесался язык сказать ему, что с народом надо разговаривать, к людям стоит чаще выходить лицом к лицу, выслушивать их проблемы и хотя бы делать вид, что они имеют какое-то значение. Но Димитрий не любил непрошеных советов, а Алекс не любил лишний раз пересекаться с ним. Слишком неприятно заканчивались для него их встречи. И крики Эльзы после этого долго звучали в ушах, и сдавленный шепот ее брата: "Я. Хочу. Ее"
И с простым народом разговаривал кто угодно, только не сам наместник. К людям выходили его министры, его мачеха, надевшая золотое платье родственницы правителя, его единокровный брат. Неудивительно, что подданные совсем не знали его. Зато они любили своего прежнего канцлера, даже теперь, когда тот стал немощным и невменяемым стариком в инвалидном кресле и числился на троне лишь номинально. Люди помнили его молодым и сильным, помнили его семью, которую часто видели вместе с ним на всех городских праздниках. Вспоминали, как он охотно фотографировался с простыми гражданами и брал на руки их детей.
Информаторы стали доносить Алексу о неудобных вопросах, которые задают друг другу в городских забегаловках за кружкой пива, когда думают, что поблизости нет лишних ушей. Что же случилось тогда, в ту ночь, когда погиб лучший цвет цирховийской элиты? Был ли это несчастный случай, как всем говорят? Если так, то почему власть не чтит память погибших? И… законный ли наследник?
Алекс удвоил патрули на улицах и передал весточку Яну, чтобы тот лучше приглядывал за охраной, но у него внутри тоже свербел вопрос: столько лет он мечтал, чтобы человек, разрушивший его жизнь, умер, хочет ли он этого сейчас? Ведь теперь нужно так мало — просто отойти с дороги, не мешать тому, кто задумал сместить Димитрия. Это Ян предан господину душой и телом, это он, если понадобится, примет за того пулю, яд, нож. Алекс может сделать это разве что не совладав с ментальным приказом альфы. Тем более, знахарь сказал, что слететь с трона волку все равно придется…
Но патрули он не убрал и велел заткнуть глотки шептунам с их дурацкими вопросами. У наместника в глазах была тьма, и теперь, когда Алекс знал это, он стал совсем по-другому смотреть на некоторые вещи. И даже тот давний сон про сочувствие и сожаление уже не казался ему таким уж приступом белой горячки. Правда, это знание мало что могло изменить. Эльза ненавидела Алекса едва ли меньше, чем боялась брата. Алекс любил ее и находился в смешанных чувствах по отношению к своему альфе. Димитрий любил их обоих: ее — отнюдь не по-братски, его — морально истязать и мучить.
И все-таки Алекс тешил себя надеждой что-то исправить. Именно поэтому вечерами он просиживал над записями, найденными в оставшемся от деда сундучке. Он знал лишь одно слово — анэм — и поначалу тупо глядел на остальные закорючки, как баран — на новые ворота. От напряжения слезились глаза и болела голова, пожелтевшие листки так пахли благовонными травами, что спирало горло, да еще и Эльза требовала внимания, тыкаясь носом в колени. Алекс рассеянно поглаживал ее по голове и продолжал заставлять себя складывать знаки в слова. Он никогда не считался выдающимся учеником в школе, но теперь корпел над бумагами с несвойственным ему прилежанием.
Наконец, у него начало получаться, чтение затянуло его, и Алекс открыл для себя много нового и интересного. Там же, на дне сундучка, он нашел огрызок черной свечки, пучок трав и баночку с черной краской. Все это входило в число атрибутов для проведения ритуалов истинных. Алекс даже не подозревал, как скоро ему придется применить свои знания на практике.
Нынешним вечером в его дверь постучали. Алекс не ждал гостей, зато сразу почуял подвох, и отослал Эльзу в подвал, надежно заперев ее там. После этого, напустив сонный вид, пошел открывать. На пороге стояла женщина в строгом бежевом плаще, из-под которого выглядывало длинное серое платье. Алекс узнал окту — ту самую, у которой заказывал в темпле темного бога девушек каждое полнолуние. В отличие от своих подопечных, окты одевались так, чтобы не соблазнять мужчин, а показать, что с ними надо разговаривать по-деловому.
— Доброго вечера, майстер Одвик, — тон у окты был тоже деловой, когда, подвинув Алекса, она без разрешения прошла в дом. — Надеюсь, я вам не помешала?
— Доброго вечера, окта Эвелин, — отозвался Алекс, с усмешкой провожая ее взглядом. — Помешали вы или нет — это ведь уже не важно?
Окта развернулась к нему, и ее губы дрогнули в понимающей улыбке, но от него не укрылся цепкий взгляд, которым женщина окинула коридор и пороги других комнат. Она пришла сюда что-то искать — и, без сомнения, найти.
— Я боялась, что вы нашли себе постоянную женщину, майстер, — притворилась огорченной она, — или, что еще хуже, надумали жениться.
Алекс сложил руки на груди и прислонился плечом к стене, разглядывая ее. Окте Эвелин почти стукнуло сорок, но она оставалась хороша собой и могла похвастаться подтянутой фигурой. Когда-то она начинала нонной, но постепенно поднялась над другими девушками. В темпле темного бога служили восемь окт, у каждой в подчинении находилось по девять нонн, и уходить со своих мест никто из них по доброй воле не стал бы. Повышение было очень почетным событием.
— Что плохого в том, что мужчина моего возраста и положения подумывает жениться? — поддел ее Алекс.
Глядя ему в глаза, окта Эвелин расстегнула свой плащ и сбросила его с точеных плеч, обтянутых серой тканью. Когда она отвела руки назад, ее высокая, полная, наглухо закрытая платьем грудь очень выгодно выпятилась вперед. Не заметить это богатство мог разве что слепой. Алексу стало еще любопытнее, ради чего окта перед ним выступает.
— Буду с вами откровенна, — заявила она, — я не хочу терять лучшего и выгодного клиента.
— Что вы, — рассмеялся Алекс, — на мое место придут десять клиентов еще лучше и выгоднее. Ваши девушки всегда пользуются спросом.
— Такие, как вы… Алекс… — она томно произнесла его имя и облизала розовым язычком темно-красные губы, — не придут.
Наступила его очередь что-то говорить, но Алекс промолчал, продолжая терзать окту насмешливым взглядом. Когда беседа идет не по плану, тот, кто этот план задумал, всегда начинает нервничать.
— Так что? — требовательным голосом спросила окта Эвелин и швырнула в него свой плащ, не сомневаясь, что он его подхватит. — Ваша будущая жена сидит в гостиной, и мне лучше убраться отсюда, чтобы не компрометировать вас?
"Я хочу знать, кого ты тут прячешь", — вопили ее глаза.
— Мой дом пуст, — мягко рассмеялся Алекс, повесил женский плащ на крючок и увлек окту в комнаты, положив руку ей на талию. Сопротивляться она не стала. — Вы можете сами в этом убедиться. Заодно и выпьете со мной.
"Я никого не прячу, но и ты, дорогуша, теперь так просто отсюда не уйдешь".
Усадив Эвелин на диван, он налил ей сладкого вина, а себе взял бутылку пива и устроился в кресле напротив гостьи. Его волчий слух улавливал, как Эльза вздыхает и скребет лапами пол в подвале, но Алекс не сомневался, что окта не сможет услышать эти звуки через плотно прилегающую дверь.
— Так с чего вы взяли, что я собираюсь жениться или кого-то нашел? — обратился он к Эвелин, которая потягивала свое вино и стреляла в него глазами.
— Девушка призналась, что вы остались ею недовольны в прошлый раз, — маленький кулачок окты стиснулся, длинные ногти впились в ладонь подобно когтям хищной птицы, на лице проступила гримаса досады. — Вы отослали ее и попросили не приходить больше. Конечно, я наказала растяпу и больше никогда не пошлю ее к вам. Я думала, что она — ваша любимица, ведь вы приглашали ее два или три полнолуния подряд, но теперь…
— Она просто мне надоела, — перебил ее Алекс.
— Почему вы не сказали, что хотите чего-то нового? — Эвелин звучала и выглядела искренне обеспокоенной. — Я бы сделала все, чтобы удовлетворить вас, майстер. Подобрать то, что именно вам нужно.
— Наверно, я сам пока не знаю, чего хочу, — со скучающим видом пожал плечами Алекс.
"Давай уже, переходи к делу от этих раскланиваний".
— У меня есть новая воспитанница, — окта зазывно сверкнула глазами, — она приехала к нам из Нардинии и постигала свое искусство во дворцах любви той страны. Ее задний вход сможет впустить не только вас, но и некоторые игрушки, которыми она позволит вам играть с собой. А еще…
Алекс демонстративно зевнул, и его собеседница сникла. Тоже довольно демонстративно.
— Ваше сердце все-таки занято теперь, — проговорила она глухим голосом.
— Нет.
— Тогда вы в обиде на меня? Я не хотела бы ссориться с вами…
— Нет, что вы.
— Но все бурые в полнолуние обращаются к нам, чтобы…
— Наверно, я осознал, что мне пора заняться тренировкой самоконтроля.
— Но вы все равно превратитесь… — окта быстро-быстро захлопала ресницами, — и это больно…
— В боли некоторые тоже находят удовольствие, — Алекс решительно отставил бутылку на столик и перевел взгляд на бокал в ее руках. — Вы допили вино. Вам налить еще или проводить вас к двери? Или вы пришли не только по этому вопросу?
"Посмотрим, насколько легко ты проглотишь наживку".
— Ты устал, — сказала Эвелин, тоже со стуком отставив свой пустой бокал. Она откинулась на спинку дивана и начала медленными чувственными движениями расстегивать воротник платья. — Ты устал от продажной любви. Рано или поздно это случается со всеми мужчинами, это нормально. Ты хочешь чего-то настоящего, чего не купишь за деньги.
Алекс позволил ей обнажить и продемонстрировать грудь с крупными темно-коричневыми сосками, увенчанными крохотными серебряными колечками. Окта принялась играть с ними, глядя ему в глаза. Ее пальчики ловко обводили напрягшиеся и вытянувшиеся комочки плоти, дергали за серебро, оттягивая их еще больше. Так, как приятно было бы мужчине делать это зубами.
— Разве есть что-то, что я не смогу купить за деньги? — усмехнулся он.
— Меня, — Эвелин подтянула вверх свое длинное серое платье, показав ему, что любит носить чулки и не утруждает себя нижним бельем. — За деньги меня уже давно не купишь.
Она встала с дивана и пересела на колени Алекса, оседлав его. Они принялись целоваться, изображая страсть, — он был уверен, что со стороны окты идет такая же игра, как и с его собственной. Вопрос заключался в том, кто уступит первым. Он не хотел заниматься с ней любовью, а она вряд ли намеревалась на полном серьезе отдаваться ему, но чтобы отказаться, пришлось бы раскрыть карты.
Алекс играл с колечками в ее сосках, пока Эвелин постанывала и ерошила его волосы, и терпеливо ждал, когда же она сломается.
— Пойдем в спальню, — прошептал он ей в шею, — хочу взять тебя сзади. Ты возбудила меня своими рассказами о нардинийских способах любви.
Окта задрожала — вполне натурально — и чуть отстранилась.
— Мне надо в ванную. Ты отпустишь меня на секунду? — ее глаза пылали страстью, губы распухли от поцелуев, Эвелин выглядела женщиной, готовой вот-вот последовать велению сердца.
— Нет, — зарычал он, грубо схватив ее за затылок, а другой рукой дергая за кольцо в соске, — ты пойдешь со мной и подставишь мне свой прекрасный зад. Ты возбудила меня так, что тебе придется забыть про все, дорогая.
"Неужели я ошибся? Неужели она на самом деле просто хочет меня соблазнить? Если она дойдет со мной до кровати, придется выпутываться под каким-нибудь предлогом".
Но окта сделала то, чего Алекс никак не мог ожидать. Она вырвалась, подняла руку и щелкнула пальцами… заморозив его до неподвижного состояния. Он оставался в сознании и видел и слышал все, что вокруг происходит. Только вот пошевелиться не получалось. Не удавалось даже моргнуть или перевести взгляд.
Эвелин слезла с него и фыркнула, одергивая платье.
— Сначала я проверю, не подвели ли меня мои догадки, — бросила она, — а потом, так и быть, внушу тебе, что ты поимел меня, красавчик.
"Ведьма". Окажись на месте Алекса истинный, он бы знал, как с ней бороться. "Ведьма среди окт. В темпле темного. Все это время, что мы были знакомы, и так близко… кто еще? Чьих глаз еще стоило бы опасаться?" Он не сомневался, что ведьмы — его враги. Одна из ведьм наложила проклятие на Эльзу.
Эвелин, тем временем, по-свойски расхаживала по дому, заглядывала во все комнаты. Алекс слышал, как хлопают дверцы шкафов.
— Милая? — позвала она игривым голоском. — Ты где? Хозяин ждет тебя. Выходи. Он бы пришел и сам, только не знает, что наш начальник полиции был когда-то твоим любовником. А я вспомнила, когда моя нонна рассказала мне, что он выгнал ее ради какой-то незнакомки. К тому же, я хочу свою награду. И я ее получу, милая. Выходи.
Опасения Алекса подтвердились. Ведьмы зачем-то охотились на Эль. А их прошлые отношения… наверно, они не являлись секретом для тех, кто служил в темпле темного, раз уж ее брат в то время жил там. В волчьем обличье Эльза — довольно опасный противник, но один раз ее уже поймали. И наложили заклятие. Трудно убить того, кто способен остановить щелчком пальцев. Невозможно.
Оказавшись в непростом положении, Алекс-оборотень был бессилен против ведьм. Но Алекс-истинный успел кое-что прочитать и понять из записей деда. Его славные предки вполне умели противостоять темным силам. Хотели ли вмешиваться в чужие дела — другой вопрос. Но умели совершенно точно. А Алекс умел пока не очень хорошо, зато мощь его ярости и желания убивать нарастала неимоверно, стоило лишь подумать о страданиях Эльзы.
Он вспомнил слова заклинания и приказал своему телу двигаться. Тело, естественно, подчиняться не желало, но сила истинного — его вера и его дух. Алекс без конца проговаривал про себя это и будто раскачивал изнутри неподъемную клетку, в которой оказался. Наваливался грудью и ударял назад спиной. Кожей он ощутил, как воздух вокруг начинает вибрировать. Комната перед глазами тоже запрыгала, в ушах появился гул. Один из его пальцев слегка шевельнулся.
Эвелин подбиралась к подвалу, а Алексу уже удалось поморгать. Еще немного — и он вырвался из оцепенения, повалился на пол, задыхаясь, тут же вскочил на ноги.
— Как?.. — в изумлении пискнула ведьма, когда он появился в коридоре.
Она вскинула руку, собираясь заморозить его снова, но Алекс точно рассчитанным движением толкнул ее к дверному косяку, а когда окта по инерции схватилась — с размаху пришиб ей руки дверью. Ее крик, полный боли, наверняка разнесся далеко за стены этого дома. Он схватил ее, рыдающую и выставившую перед собой скрюченные переломанные пальцы, и потащил на кухню, где отыскал и приставил к горлу Эвелин острый нож.
— Кто тебя послал? Отвечай.
— Истинный… — зашипела она в его лицо перекошенным ртом.
— Только наполовину, — Алекс тряхнул ее хорошенько и надавил на шею лезвием, — но и этой половины мне хватит, чтобы убить тебя, если все не расскажешь.
Теперь окта Эвелин уже не выглядела хорошенькой для своих лет. Она казалась старухой, злобной и полной ненависти. И беспомощной, потому что свои заклятия, как помнил Алекс, сумеречные ведьмы не могут наложить без рук.
— Кто тебя послал? — заорал он.
Эльза завыла и принялась скрести в дверь. Алекс поморщился, услышав это, а окта злорадно ухмыльнулась.
— Ее ведь все равно найдут. Ты не сможешь прятать ее долго. Не сможешь.
— Если я не найду твоих подружек первым. Так кто они? Ну?
— Предать сестер гораздо страшнее, чем умереть от твоего ножа, — расхохоталась она. — Режь меня. Убивай. Темный бог наказывает гораздо хуже. Уж лучше я сохраню верность ему.
Алекс скрипнул зубами, а она извернулась и чиркнула его по руке своими длинными когтями. И тут же быстро склонилась, шепча ему в открывшуюся рану рокочущие и скрежещущие в воздухе слова.
"Ведьмы накладывают заклятие на кровь. Она запустила тьму прямо в меня, пользуясь моей же кровью".
Левая рука Алекса тут же онемела и отнялась. Казалось, его прошиб озноб до самого сердца. Ведьма воспользовалась этим и вырвалась из-под ножа — лезвие окрасилось багровым, когда слегка рассекло ей кожу под подбородком.
Алекс настиг ее в коридоре, когда, макая сломанные пальцы в собственную бегущую струйкой на грудь кровь, окта пыталась рисовать на стене большой, похожий на дверь, прямоугольник. Он оторвал ее от занятия — и линии рисунка на глазах истаяли, словно и не было. Без защитных и проводящих символов портал в сумеречный мир не открывался.
Ему пришлось хорошенько приложить ее головой о косяк и втащить обратно на кухню. Управляться одной рукой Алексу стало сложнее, и некоторое время они с октой боролись, по очереди стараясь друг друга одолеть. Эльза билась о дверь, волнуясь за него, и громко выла. Наконец, она снесла запор и вырвалась наружу, и, увидев ее оскаленную пасть и пылающие глаза, окта завопила в голос.
— Скажи, кто твой хозяин? — потребовал Алекс.
Осознав, что проиграла, Эвелин отпрянула, а затем сама насадилась горлом на острие ножа. Кровь булькнула у нее изо рта, после чего ведьма затихла. Алекс с досадой отшвырнул и бездыханное тело, и нож. Уже знакомое ощущение темной магии, проникшей внутрь, пробирало его до костей. Точно так же он чувствовал себя после того, как трогал Эльзу во время снятия с нее магической печати. Говорят, что истинные могут побороть и растворить тьму внутри себя. Та карлица, взявшая на себя проклятие Эль, умела…
Волчица скакала вокруг него и лизала лицо, а Алекс замерзал все больше. Тогда он решил напиться. Кое-как сходил за дедовским сундучком, нашел нужные страницы, разложил их по столу, запивая свой озноб и судороги коньяком. Эльза легла на пороге, поглядывая на него из-под век. Алекс прижег рану, после чего взял кисточку и черную краску и принялся накладывать поверх ожога защитные символы. Вообще-то, их полагалось наносить до того, как кто-то собирался прикоснуться с темной магией, но выбора у него не было. Он копировал с листа рисунок, ругался сквозь зубы и сдабривал ругательства коньяком. А ведьма лежала на полу и продолжала смотреть на него мертвым злорадным взглядом.
— Я не хочу следовать своему предназначению, Эль, — признался Алекс, когда покончил с нанесением краски и вторая бутылка коньяка опустела. — Не хочу быть тем, о ком говорится в пророчестве, и даже хранителем этих дурацких часов быть не желаю. И спасать не хочу ни тебя, ни твоего брата. Вы разрушили всю мою жизнь, Эль. И он, и ты.
Он встал, но пол под ногами покачнулся, как палуба тонущего корабля, и Алекс потерял сознание.
Он пришел в себя от того, что волчица лижет ему нос и губы и скулит, а на его груди лежит ее медведь. Она выглядела очень взволнованной из-за того, что какое-то время не могла привести его в чувство. То ли от выпивки, то ли от защитных символов его левой руке стало полегче, Алекс обнял волчицу за шею, зарылся пальцами в густую шерсть и уткнулся лицом в мягкую холку.
— Прости меня, — прошептал он, кое-как ворочая языком, — конечно, я хочу, чтобы ты была рядом. И все для этого сделаю. А вот ты захочешь? Ты должна понять, это не я тогда лишил тебя невинности. Это сделал Димитрий.
Ну вот, он и произнес это вслух. Не хотел — но сказал, или давно мечтал именно в этом ей признаться? Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, как говорится. Эльза затихла, прижавшись мордой к плечу Алекса.
— Или даже не Димитрий, — продолжил он, поглаживая ее, — а кто-то, взявший себе его тело. Так, как он взял себе мое. Но ты ведь знала об этом, Эль? Ты догадывалась?
Она посмотрела на него грустными серебристыми глазами и вздохнула. Хотя, возможно, после двух бутылок коньяка и хорошей порции темной магии Алексу это просто казалось.
— Ты догадывалась, — тоже вздохнул он, — но ненавидеть и винить во всем меня было легче. Иначе ты сошла бы с ума, верно? Это то, о чем твой брат мне говорил.
Эльза заворчала и толкнула его мордой. Алекс поднялся на ноги, держась за мебель, чтобы не шататься.
— А теперь прошу меня извинить, благородная лаэрда, — церемонно откланялся он и указал в сторону ведьмы, — я должен найти лопату и замести следы преступления.
Под покровом ночи Алекс закопал окту Эвелин в своем саду под кустом сирени и набросал сверху аккуратно срезанные пласты земли, тщательно замаскировав могилу. Надо будет придумать себе алиби на случай, если кто-то видел ее приходящей к нему. Алиби для начальника полиции. Это показалось Алексу забавным, и он тихо смеялся, пока, пошатываясь, возвращался обратно и даже когда, не раздеваясь, заполз на постель.
Что-что, а надраться в стельку у него сегодня хорошо получилось.
Он отключился, едва голова коснулась подушки, и не видел, как в полутьме спальни появилась его волчица. Она положила на пол однолапого медведя, ее серебристые глаза мерцали, как звезды. Волчица вздрогнула — и в следующее мгновение на ее месте оказалась стоящая на четвереньках обнаженная женщина. Длинные черные волосы лежали на спине спутанной копной, под бледной матовой кожей проступили острые позвонки и ребра.
Некоторое время она не двигалась, с испугом глядя на посапывающего мужчину на кровати. От мужчины пахло кровью — и своей, и чужой, — вкусной едой и надежным сильным зверем. Женщина не помнила своего и его имени, но каким-то шестым чувством знала, что он накормит ее, если она будет голодна, вылечит, если больна, утешит и защитит, если ее кто-то обидит. Длинные волосы упали на ее лицо, когда осторожно, боком, она двинулась на четвереньках к кровати. Приподнявшись, женщина положила ладони на край постели и заглянула наверх. Ее пальцы провели по небритой мужской щеке, она отдернула их, уколовшись.
— А… ле… кс… — непривычно шевелился во рту ее язык. Прежде она думала, что этот кусочек плоти нужен ей только для того, чтобы вылизывать себя или помогать пище попасть в горло. — А… ле… кс…
Он пошевелился во сне, и женщина тут же отпрыгнула обратно в тень, а через секунду стала волчицей. Она взяла зубами своего медведя, забралась на постель и залезла мужчине под бок. Не открывая глаз, он обнял ее одной рукой. Волчица не спала, она задумчиво смотрела в окно и пыталась понять, что же с ней только что случилось.
Утром Алекс проснулся разбитым. Казалось, его похмелье усилилось полученным накануне ударом сумеречной ведьмы во сто крат. Он не помнил, чтобы когда-либо ему было так хреново после выпитого. Все же, пришлось содрать себя с постели, затащить под ледяной душ и стоять там так долго, пока вся кожа не покрылась крупными мурашками. Затем он включил кипяток, чтобы прогнать озноб из тела. В результате в голове прояснилось, тошнотворный ком отступил от горла и под смывшимися от воды защитными символами на левой руке проступили розовые пятна почти затянувшегося ожога. Алекс ухмыльнулся, впервые подумав, что, вопреки словам старика-знахаря, сочетать в себе половину оборотня и половину истинного не так уж плохо. Там, где не справлялась одна сущность — помогала другая, и они обе работали на его излечение.
Правда, старик говорил, что быть одним и другим одновременно невозможно, но Алексу, похоже, это удавалось. Или причина крылась в том, что он являлся хранителем тех самых часов, а проще говоря — важной частью пророчества, тем, кто должен вступить в борьбу с посланником темного бога за женщину и трон? Не этого ли посланника имела вчера в виду сумеречная ведьма, называя "Хозяин"? Алекс сжал кулаки и нахмурился.
Волчица ходила за ним по пятнам и обеспокоенно тыкалась носом в руку. Она чувствовала его, а он чувствовал полную луну, даже если та пока не взошла на покрытое белесой пасмурной пеленой небо. Не зря всю ночь Алексу снились плохие, кровавые сны, в которых он истреблял все живое, что попадалось на пути. Привет от его звериной половины. Ему очень хотелось снова завалиться поспать, чтобы набраться больше сил перед еще одной мучительной ночью, но дела в управлении требовали его присутствия, поэтому Алекс покормил волчицу, затянул себя в китель и взял таксокар.
Его хмурый и болезненный вид не удивил никого из подчиненных — это списали на грядущее полнолуние, и Алекс испытал облегчение от того, что схватка с сумеречной ведьмой состоялась именно вчера. В ином случае ему было бы трудно объяснить дурное самочувствие.
Он аккуратно разведал, не поднялся ли в темпле темного переполох после пропажи окты Эвелин, но пока тревожных новостей не поступало. Это давало передышку еще как минимум на один день. Если даже кто-то заявит, искать потеряшку сразу не станут, она — не маленький ребенок, заблудившийся в глухом лесу. Любой дежурный справедливо рассудит, что взрослая женщина, да еще прислужница темного бога, наверняка предалась утехам где-нибудь в логове очередного любовника и сама появится, как только сочтет нужным. И не так уж погрешит против истины — ведь именно с такой легендой Эвелин к Алексу и пришла. А когда не принять заявление в розыск станет невозможно, начальник полиции уже оправится от своего недуга и сумеет держать руку на пульсе.
Наскоро уладив самое срочное, он отбыл домой под сочувствующие взгляды коллег, которым посчастливилось остаться людьми и не попасть в зубы наместнику, когда тот вербовал свою сокрушительную армию. Алекс подумал, что сегодня Димитрий как никогда открыт для нападения — его верные беты жмутся по углам или вот-вот станут неуправляемы. Сегодня ночью в столице обязательно начнутся беспорядки, звери хлынут на улицы, обуреваемые похотью и жаждой крови. Одним из них, возможно, будет и сам Алекс. Сегодня постам разрешено стрелять на поражение при первых признаках опасности, минуя разве что голову и сердце, и многим бурым придется еще пару дней зализывать раны. Сегодня мужчины станут караулить окна и двери, а женщины — испуганно прижимать к груди детей.
Прекрасный, новый мир, который построил в Цирховии ее сиятельный наместник. Интересно, какие сны снятся Димитрию в такую ночь? Неужели он сам не чувствует, с какой силой шатается под ним трон? Из реальной поддержки у него есть только Ян. Один Ян — и никого больше.
Алекс рухнул в желанную постель, приложив ко лбу пакет со льдом, чтобы унять головную боль, и старался не думать о том, что начнется с наступлением темноты. Наверно, ему следовало бы внять советам покойной окты и отправиться в темпл, чтобы взять себе парочку опытных нонн, которые помогли бы снять напряжение и уменьшить его муки. И он бы так и поступил, если бы по-прежнему думал, что Эльза где-то далеко живет счастливо с мужем. Мысли о ее супружестве причиняли Алексу едва ли не такую же сильную боль, как ломающиеся при обороте кости. Но теперь, когда она находилась с ним рядом, он никого не хотел. Только ее саму, ее запах, ощущение ее нежной кожи под его пальцами и языком и ее женскую влажность между ног.
Он вспомнил первую женщину, которую убил, не совладав со своим зверем, она была похожа на Эльзу. Тогда он думал, что уже достаточно владеет собой, чтобы не сидеть на цепи в полнолуние. Они познакомились накануне, и она пошла с ним добровольно, не думая о плохом. В ней он искал эту нежность, этот запах, это острое удовольствие от проникновения в тело. Искал и не находил. А потом у него стали лопаться жилы и выгнулся хребет. Она в ужасе закричала. Оказалось, он не может выносить, когда под ним кричит от страха женщина. Дальнейшее походило на кошмарный сон. Когда он очнулся, в ней остались три цвета: черный, белый и красный. Черные волосы тонули в красном озере и по белой коже разливались красные реки.
Это воспоминание давило на него наряду с некоторыми другими. С тех пор он избегал женщин, которые хотели бы заняться с ним сексом ради отношений, и предпочитал за них платить. А нынешней ночью, похоже, зверю пришла пора вернуться в свои цепи.
Это приспособление делали для Алекса на заказ: прочные железные звенья, длинные острые зубы по внутренней стороне тяжелых кандалов. С наступлением темноты он отправился в подвал, чтобы достать его. Эльза потрусила следом и обиженно заскулила, когда перед ее носом захлопнулась дверь.
— Тебе лучше не видеть этого, — сказал Алекс, оставшийся по ту сторону. — Будь умницей, Эль, держись сегодня от меня подальше.
Но она осталась и скребла лапами деревянный пол у порога.
"Упрямица", — подумал он с неожиданно нахлынувшим теплом. Они оба всегда были упрямцами — и она, и он, — и притягивали друг друга со страшной силой. И со страшной силой друг от друга оттолкнулись.
Цепь переливчато зазвенела, когда Алекс взял ее в руки. Привычная тусклая гладкость железа холодила ему ладонь. Он поискал взглядом крюк в потолке, вбитый в одном из углов помещения, укрепил на нем серединное звено. Часовой механизм выглядел смазанным и готовым к работе. Алекс неторопливо разделся донага, сложил одежду подальше. До утра она не понадобится его зверю, а человек в нем скоро исчезнет. Он облизнул губы, встал под потолочным крюком, подергал свисающие вниз цепи, проверяя их на прочность. Затем решительно продел руки в ободы кандалов, не обращая внимания на то, что острые внутренние зубья расцарапали кожу.
Разведя руки в стороны, Алекс набрал полную грудь воздуха и резко дернул ими вниз. И рухнул на колени, когда механизм сработал, и грубые железные браслеты защелкнулись на его запястьях, а их зубы глубоко вонзились в его кости. К этой боли он не мог привыкнуть, сколько ни старался, научился только не орать в голос. Виски защекотали капельки пота, над головой послышалось негромкое стрекотание: цепи натягивались, разводя и поднимая руки Алекса вверх. Теперь он не мог дотянуться одной ладонью до другой и расцепить кандалы, даже если бы пожелал. Шестеренки в механизме зажужжали, начиная отсчет времени. Через двенадцать часов браслеты расстегнутся сами собой, и Алекс будет свободен. Наступит утро.
Он присел на пятки в своей неудобной позе и опустил голову на грудь, чтобы подремать немного, пока есть возможность. Волчица шумно вздыхала под дверью, но Алекс старался не думать о ней. Когда он думал, то тут же испытывал непреодолимое желание разнести в клочья свои оковы и броситься к ней. И любить. И раскрашивать свою любовь уже знакомой палитрой: черный, белый и красный.
Время шло, где-то высоко над крышей дома восходила луна, а запертый в подвале зверь начинал сходить с ума. Он тяжело дышал, его грудь и спина блестели от пота, мышцы на руках и ногах превратились в тугие узлы. Голова запрокинулась назад, и крик, хриплый, низкий, мужской, рвался из его пересохшего горла. Член удлинился, пульсируя от прихлынувшей крови, и семя в нем кипело, готовое само пролиться во время оборота. Его накопилось слишком много внутри: зверь давно не знал самки, он страдал, судорожно дергал бедрами и скрипел зубами.
Ее он почуял даже раньше, чем увидел. Сразу загорелись глаза, на загривке вздыбилась шерсть, голова повернулась в сторону лестницы, и ноздри затрепетали. Там, в нескольких метрах от него, открылась дверь, впуская в затхлый воздух подвала прохладу и свежесть осенней ночи, и на верхней ступеньке показалась женская ножка. Она была голой, и гладкой, и бледной, и косточка на щиколотке выступала, так и побуждая его горячий шершавый язык облизать ее. Зверь откинул голову и завыл, и в этом победном вопле слышались лишь слабые отголоски человеческого крика: "Нет, Эль. Не надо"
Девушка осторожно спускалась вниз, запах самки дразнил возбужденного зверя, его голодная слюна текла из углов рта и капала на пол, когда он привстал на коленях, почти не замечая резкой боли в пронзенных оковами руках. Ножка тронула босыми пальцами следующую ступень, показались изящные колени, потом округлые бедра, впалый живот и соблазнительная налившаяся грудь. Она была обнажена, как и зверь, и подобно ему, лишь условно носила человеческий облик. Он звал ее через стены и двери, своими стонами, рычанием и хриплыми криками, страданием и болью, и она пришла, чтобы дать ему утешение. Его вторая половинка, его избранная, его единственная. Его любовь.
Пригнув голову, зверь исподлобья наблюдал, как девушка приближается к нему. Ее серебристые глаза мерцали, хоть двигалась она неуверенно, будто не до конца овладев ходьбой на двух ногах. Голос тоже звучал робко:
— А… ле… кс?
— Уходи, Эль. Ты сама не понимаешь, что творишь, — зарычал человек, боровшийся со зверем. Рычание вышло пугающим и утробным.
Девушка остановилась совсем рядом, с сочувствием в глазах разглядывая распятого на цепях зверя, стоявшего на коленях и запрокинувшего к ней голову. Ее лицо оставалось спокойным и прекрасным — таким, каким он его помнил и видел во снах. Она протянула руку и коснулась его щеки, покрытой бурой колючей шерстью.
— Алекс.
— Нет, — он стонал, и вылизывал ее руку, и целовал ладонь, обезумев от этой ласки. — Пожалуйста, Эльза, ты же явно не помнишь меня. Ты не знаешь, на что я способен. Я снова обижу тебя, я обязательно это сделаю, я же монстр… уходи… уходи…
Он был прав: она его не узнавала. Точнее, ее человеческий разум еще не до конца очнулся от пелены, но животная привязка толкала девушку к зверю и лишала ее страха. Из-за нее Эльза не замечала, как он изменился, как стал уродлив и опасен, и смотрела волчьими глазами не на его облик, а в самую душу. А там, внутри, она давно его знала.
— Уходи, — повторила она и дернула одну из цепей в попытке освободить его.
Алекс застонал: железные зубья ворочались в его запястьях, грызли кости, причиняя невыносимую боль. Из-под оков по его рукам до самых плеч текли длинные извилистые струйки крови, Эльза чуяла их, ее ноздри тоже дрожали. Она заплакала, сообразив, что лишь усугубила его положение. Он понимал ее: во взаимно привязанной паре боль одного стократно делится на двоих, и удовольствие — тоже.
— Нет, любовь моя, нет, — помотал головой Алекс, — ты не виновата, не плачь. Поднимайся наверх. Уходи быстрее. Сейчас ты не отвечаешь за себя. Не хочу, чтобы потом ты ненавидела меня еще и за это.
Она стояла слишком близко, он снова потерял контроль, вопреки своим же просьбам сам рванулся вперед, звеня цепями, прижался щекой к ее животу, нагнул голову, зарываясь губами в мягкий шелк ее волосков, глубоко втянул в себя желанный запах, вылизывая ее внизу по-животному страстно. Эльза задрожала, цепляясь за его затылок. Зверь стонал в голос, проводя языком по влажным складкам, источающим мускусную смазку. Его член, тяжелый и прямой, беспомощно висел в воздухе, дергаясь от болезненных спазмов.
Зверь прикусывал и целовал нежную плоть своей самки, мечтая стиснуть ее бедра руками, ворваться в нее, глубже, сильнее, расплескивая себя в ее горячее нутро. Она снова прошептала его имя, инстинктивно подаваясь к нему, и он захлебнулся в собственных мыслях, схватился за цепи, приподнял бедра, жестко двигая ими ей навстречу. Головка его плоти была такой раскаленной, что воздух вокруг буквально плавился. Зверь зарычал, пронзаемый токами желания, едва ли не рвущий жилы на плечах от напряженного ритма тела, по его спине прокатилась судорога, член дернулся еще раз, и жемчужно-белая влага выстрелила из него.
Девушка в изумлении отступила, оставив беспомощного зверя с хриплыми сдавленными криками изливаться перед ней на пол. Когда она, наконец, подняла взгляд, он мрачно посмотрел на нее в ответ.
— Это только начало, — сказал он, — и это меня не остановит. Я захочу больше. Я захочу все.
Глаза Эльзы сверкнули, как звезды, когда она медленно опустилась на колени перед ним.
— И я.
Зверь зажмурился и заурчал, испытывая невыносимое удовольствие от того, что ее руки просто гладят его плечи, скользят по груди и оцарапывают ноготками живот. Запах его крови, семени и пота смешался с ароматом ее кожи и волос, когда их губы встретились. Поцелуй, свежий и острый, будоражил его и сводил с ума. Жар ее распахнутых бедер опалил низ его живота, когда она опустилась сверху, ее руки обвились вокруг его шеи, соски терлись о его грудь. На миг они оба замерли, кусая губы, не в силах наглядеться друг на друга, а затем она осторожно впустила его в себя. Их обоих тут же выгнуло от наслаждения, от того, что его измученная, разгоряченная плоть наконец-то окунулась в ее истекающее влагой тело. Зверь откинул голову и яростно задвигался, подкидывая девушку на себе, заставляя цепи натягиваться и звякать при каждом рывке. Стать бы к ней еще ближе, вдавить себя в нее, превратиться в единое целое…
Над головой раздался тихий протяжный треск, и звериным чутьем он успел податься вперед, когда за спиной в облаке пыли и щепок рухнул потолочный крюк. Эльза оказалась на спине под зверем, она испуганно вскрикнула, а потом засмеялась, сообразив, что они оба целы и невредимы. Он тоже смеялся вместе с ней, гортанно рыча, и тут же обреченно вздыхал. Будь осторожнее, зверь, твои цепи выдержат тебя, но старые перекрытия в доме уже не так прочны, как раньше. А пока… помоги тебе темный бог, тебя уже ничто не держит.
Звеня цепями, он гладил искалеченными руками трепещущее женское тело, попавшее в его полную власть. Ласкал ее, уже не думая ни о чем, позабыв свой страх перед черным, белым и красным. Его спина уже совсем покрылась густой бурой шерстью, когти на ногах и руках удлинились. Позвонки со щелчками начинали выпирать из хребта и раздвигались ребра, а хрупкая белокожая девушка под ним извивалась и жарко выдыхала от его грубых ласк. Она закрыла глаза, вытянула шею, упираясь затылком в пол, и облизывала розовые блестящие губы, а он смотрел и смотрел на нее, буквально пожирая ее глазами. Он желал охватить вниманием и ее стоны, и каждую крохотную капельку, покатившуюся от ее виска по щеке до шеи.
Приподнявшись на дрожащих от боли руках, он снова попытался вдавить себя в нее, но Эльза вдруг вскрикнула и стала выбираться из-под него. Зверь дико взревел, кусая ее грудь и ключицы, и тут же спохватился и покрыл поцелуями оставленные зубами следы.
— Большой… — сдавленно прошептала она, обхватив его лицо и отвечая на эти поцелуи, — …больше, чем был.
Он взвыл и расцарапал когтями пол по обе стороны от нее. Затем схватил ее руки, прижал к губам, целуя каждый палец, неистово собирая в себе те отголоски человеческого разума, которые еще имелись. Она лежала под ним и огорченно хмурила брови, но убежать больше не пыталась.
— Ш-ш-ш, моя девочка… я буду осторожен… я не сделаю тебе больно…
Когда-то человек уже шептал ей эти слова, они всплыли из памяти сами собой, и девушка доверчиво расслабилась, позволяя ему остаться между ее раздвинутых ног, в блаженном оазисе ее тела. Зверь заскрипел зубами от напряжения, осторожно продвигая свой увеличившийся по сравнению с обычным мужским размером член в мягкие женские складки. Оборот почти завершился, и зверь хотел успеть соединиться с девушкой так исступленно, словно от этого зависела его жизнь.
Эльза тихо вздыхала, кусала губы, держась за его плечи и поглядывая на него из-под опущенных ресниц, но в какой-то момент мука на ее лице сменилась выражением удивления, а затем рот распахнулся, исторгая полное удовольствия "о-о-о…"
Он полностью погрузился в нее, ощущая, как плотно натянуты вокруг него ее внутренние мышцы, вышел почти до конца, чувствуя прохладный воздух на увлажненном члене, и снова погрузился.
— Еще, — едва слышно попросила она.
Раскаленная вспышка ударила в виски, его большое лохматое тело яростно задвигалось, полностью накрыв собой распластанную на полу девушку. Она вскрикнула, опять и опять, заливая его изнутри обильно выступившей влагой своего оргазма. Приоткрыла глаза, блестящие от слез, и зверя прошиб такой ужас, что он замер. Она снова плачет из-за него, он не совладал с собой и сделал ей больно. Но Эльза улыбнулась, притягивая его к себе за шею, и сама поцеловала его и прошептала имя человека, которым он был. Он схватил ее, едва не задушив в объятиях, еще шире раздвинул ей ноги, вколачиваясь между них и посылая внутрь нее и себя новые сладкие судороги.
Никогда еще зверь не испытывал столько боли и удовольствия одновременно. Грань, разделяющая эти два ощущения, стерлась, превратив его в один сплошной оголенный нерв. Он кончил под хруст собственных костей, стеная и выкрикивая имя Эльзы и извергаясь в нее потоками семени. Она нежно гладила его взмокшую морду, принимая в себя его освобождение так спокойно и естественно, словно родилась для того, чтобы утешать и облегчать его муки.
Он выскользнул из нее вместе с вытекающей влагой, снял с себя ее ладони. Маленькие женские руки казались такими хрупкими в мохнатых когтистых лапах зверя. Он провел по ним языком, забыв, как по-человечески надо целовать. Затем лизнул ее грудь, и щеку, перевернул на живот и лизнул липкий от испарины затылок, потом ее поясницу и ягодицы. Стоя над ней, мучительно захрипел еще раз, окончательно завершив оборот.
Эльза посмотрела через плечо на огромного бурого волка, расставившего над ней перевитые цепями лапы и низко пригнувшего к полу голову. Его глаза налились красным и изучали ее будто перед прыжком. Похоже, он на самом деле собрался прыгать. Подобрался весь, шерсть на загривке стала дыбом, задние ноги напружинились.
Он рванулся — и она остановила его одной рукой. Просто обняла за шею, и волк затих, прижав к ее плечу крупную лобастую голову. Эльза погладила его, долгими движениями проводя от загривка вдоль по спине, а он удивленно мигал красными глазами и вздыхал черным шершавым носом. И лег — спокойно лег ей на колени. Как и все монстры, ее зверь нуждался в единственном лекарстве, способном ему помочь, — в любви — и она дала ему это.
Как пришла к ней эта догадка? Она едва ли сумела бы внятно объяснить. Волк не мог знать, что однажды, в далеком детстве, она уже сидела вот так, на полу, прижимая к груди больное чудовище. Воспоминания прихлынули волной, заполонив разум волчицы. Чудовище пахло, совсем как Эльза, в нем текла одна с ней кровь, но оно точно так же страдало в поисках своего лекарства, как ее бурый зверь. И точно так же вздрагивало и вздыхало в ее руках.
Она нахмурилась. Почему-то чудовище в образе маленького дрожащего мальчика заставило ее похолодеть от ужаса так, как не смог огромный оборотень.
Цирховия Шестнадцать лет со дня затмения
Он обещал подарить ей океан — и он повез ее к океану.
Дорога предстояла неблизкая, поэтому выезжали на рассвете, в час звенящих о пробуждении колоколов, под розовой сырой дымкой летнего неба. Петра волновалась, как ребенок, и тряслась над каждой мелочью, желая сделать отдых незабываемым. Для себя она собрала чемодан, тот самый, единственный, с которым приехала, зато ему накупила всякого барахла и напихала еще в два. Уезжая, он "забыл" свои вещи у порога, и она обнаружила это, только когда они сделали первую остановку, чтобы отдохнуть и попить воды. И огорчилась не на шутку.
— Ну вот. У тебя нет даже сменной одежды, Дим. Как можно было не проверить багаж? Будешь теперь ходить голым.
Он медленно поднял на нее взгляд, и Петра осеклась, а затем порозовела до кончиков ушей.
— Что, правда? — сказала она уже другим, тихим голосом. — Твой голод ко мне не проходит ни на секунду?
Он молча пожал плечами. Кто знает, каков на самом деле его голод?
— Хорошо, — она походила на маленького смелого воробышка, когда сама обвила руками его шею. — Пусть не проходит. Я не хочу, чтобы он проходил. Я буду ходить голой вместе с тобой.
Он закрыл глаза, вжался лицом в уютное местечко над ее ключицей. Они стояли на обочине шоссе возле кукурузного поля, под куполом, полным голубого неба и белых облаков, а длинные стебли колыхались на ветерке за спиной Петры и шуршали зелеными листьями друг о друга. Такие высокие… никто не увидит, как он будет брать ее там, прямо на земле, в самом центре этого травяного океана. Это не голод, девочка-скала, это уже наваждение. Страшное, больное, исступленное желание чужого беспомощного тела.
Похоже, ни звука не сорвалось с его губ, потому что Петра продолжала.
— И ты даже не подозреваешь, на что я способна, — прошептала она ему на ухо, поглаживая волосы на его затылке, — я не сожгла те наши фотографии из темпла. Помнишь? Иногда я достаю и смотрю на них. Мне нравится на них смотреть, когда тебя долго нет рядом. Тогда я фантазирую, что мы снова… что ты меня…
Ее запал кончился, и она умолкла, наверняка краснея еще больше. Засопела носом.
— Это очень плохие фантазии, да?
— Нет, сладенькая, — кукурузное поле манило, и видение ее выгнутого тела и разведенных в стороны острых коленок никак не отпускало его, пока он с трудом повернул голову и умудрился едва лишь тронуть ртом ее губы, — твои фантазии довольно неплохи.
— Что, прямо сейчас?
— Что? — не понял он и отстранился, чтобы посмотреть ей в лицо.
— Ты сказал, что хочешь меня… трахнуть, — в глазах Петры плескалось что-то непонятное. — Прямо так и сказал. Это самое слово.
— Нет. Я сказал, что мне нравятся твои фантазии.
— Нет, — ее брови сдвинулись, — ты сказал не так.
— Так и будем спорить, кто из нас прав? — вспылил он.
Петра задумчиво посмотрела на него, потом высвободилась, пошла и села в кар, аккуратно, без хлопка прикрыв за собой дверь. Он тряхнул головой, обвел взглядом волны, бегущие по верхушкам кукурузных стеблей. Они оставались такими же зелеными, а небо — голубым. Проклятый темный бог, да что с ним творится такое?
В два прыжка обогнув кар, он сел на свое место. Петра сложила руки на коленях и держала глаза опущенными, он сгреб ее в охапку, слегка дрожащую и явно готовую разреветься.
— Я сказал, что хочу тебя трахнуть, — он до сих пор не сомневался, что этого не говорил, — но имел в виду, что мечтаю заняться с тобой любовью. Ласкать тебя, сладенькая.
— Да можешь и то слово говорить, — она мгновенно откликнулась, потянулась к нему, а у него едва зубы не заскрипели от этой беззащитной доверчивости, — я не какая-нибудь там неженка, такие слова и сама знаю. Меня не это удивило, а то, каким тоном ты это сказал.
— Каким? — процедил он, стараясь не отворачиваться от ее поцелуев, которые казались в тот момент ударами кнута.
— Как будто это был не ты.
Ему удалось рассмеяться, да так, что она и сама улыбнулась, нахмуренная складка между бровей разгладилась, и мимолетная ссора превратилась в пустячное недопонимание.
— Наверно, все-таки мне послышалось, — призналась Петра, откидываясь на спинку кресла. Она выглядела слегка виноватой. — Кукуруза так шуршала, а еще когда ты меня целуешь, у меня в ушах сразу шумит и все вокруг кружится…
Они поехали дальше, перебрасываясь веселыми шутками, наслаждаясь хорошей погодой, сладким цветочным ветром с полей и узкой серой лентой шоссе, резво бегущей перед каром. Строгие ели, клены и дубы вдалеке понемногу редели, сменяясь буйными кустами жасмина и бузины, шиповника и держи-дерева. Воротник белой рубашки, которую Петра узлом связала под грудью, подпрыгивал на ее плечах, стоило лишь немного больше придвинуться к окну, а на голых коленках еще виднелись подживающие ссадины.
Он держал руль одной рукой, поглядывал то на эти коленки, то на ветер в волосах Петры и улыбался. Ссадины — вещь неприятная, но натерла их девочка-скала при весьма приятных обстоятельствах и потом лежала такая разморенная и довольная, что первым заметил и обрабатывал их именно он. И целовал уцелевшую кожу вокруг, а она пищала, что больно, но требовала еще и еще.
— С кем ты разговариваешь, Дим? — спросила Петра, и это заставило его вздрогнуть.
Она смотрела на него без тени улыбки, и воротник все так же бил по плечам, и подсохшие корочки с колен никуда не делись, но что-то в ней сильно изменилось.
— С тобой. С кем же еще? — бросил он и перевел взгляд на дорогу.
— Нет. Не со мной. Все это время я молчала.
Тогда-то он понял, что происходит. Он выключался. Выпадал на короткие промежутки, сам того не замечая. Все это время, пока ехал с ней, выпадал… но как такое возможно? Он же был осторожен, он держал себя в руках и тоже готовился к этой поездке. Не так, как Петра, по-своему, но готовился. И голос в башке не сердился, едва шелестел, глумился, хихикал иногда, но не кричал. А пока не кричал, с ним вполне удавалось справляться. Удавалось ведь? Удавалось?
— У тебя голова болит? — голос Петры звенел, она пыталась отодрать его кулак, плотно прижатый к виску, и положить эту руку на руль. Умная девочка, при такой скорости ему лучше управляться обеими руками. — Опять, Дим? Да?
— Отстань от меня, — заорал он, сам не зная, к кому обращается. — Оставь меня в покое.
— Ты злишься, потому что больно. Надо помассировать, — ее прохладные пальцы легли на его висок, но он сбросил их, как ядовитую змею.
Ничего ему уже не поможет. Голос в башке стал другим, сильнее, вкрадчивее, и даже его самый тихий шепот пробирал, казалось, до глубины сердца. "Сделай это, — едва вибрировало в мозгах, вроде и незаметно, но неумолимо, как капля точит камень, — сделай это. Сделай. Сделай, волчонок. От себя не убежишь. Сделай".
— Остановись, Дим, — наконец-то он понял, что звенит в голосе Петры. Это была сталь. Холодная и твердая, но не холоднее и тверже той, что резала ему мозги напополам. — Сворачивай на обочину. Прекрати, ты меня пугаешь.
"Убей их". Теперь голосов стало два. Они переплетались, как лианы, между собой. Один — хриплый, язвительный, властный. Другой — тихий, вкрадчивый, до отвратительного мягкий, гораздо и гораздо страшнее первого. "Убей их". "Сделай это". "Убей". "Сделай". "Убей". "Сделай".
— Что сделать? — заорал он, глядя перед собой невидящими глазами, стискивая руль вспотевшими ладонями, не понимая, чего они оба от него хотят. — Что нужно сделать? Я все сделаю.
— Остановись, Дим, — откуда-то сбоку пытался достучаться до него звонкий голос Петры. — Тебе нужно остановиться.
Впереди показался старенькая, едва пыхтящая развалюха какого-то сельского жителя, доверху груженая картофелем, морковью и репой. Темный, похожий на быстрого зверя кар Димитрия приближался к нему с неумолимой скоростью. Шоссе здесь сужалось, петляя между холмов, а овощные тюки, как назло, свисали по обеим сторонам развалюхи, занимая еще больше места вокруг.
Он нажал на клаксон с каменным выражением лица и отсутствием блеска в потемневшем взгляде. Нажал — и не отпускал, не снижая скорости, не обращая внимания на девушку возле себя. А потом наступила темнота.
Вспышка.
Петра вскидывает тонкие руки, в инстинктивном порыве закрывает голову и лицо.
— Мы умрем, Дим. Мы же сейчас разобьемся.
Темнота.
Вспышка.
Нет. Я не умру. Это ты умрешь, сладенькая. Я — бог. Я буду жить вечно. Потому что вечная жизнь — это самое страшное проклятие для такого, как я. Вечная. Жизнь. В одиночестве.
Темнота.
Вспышка.
Кар плавно тормозит. Это хороший, исправный кар, и все части в нем работают как надо. Сельский недотепа уже бросил руль, видно, как он воздевает руки в защитном жесте, вознося молитвы светлому богу. Кар лишь слегка толкает его развалюху в груженый овощами зад, будто выпивоха шлепает зазевавшуюся красотку по заднице. Холмы расступаются на счастье перепуганного насмерть селянина, и тот вместе со всем своим скарбом валится набок в заросший кустами кювет.
Темнота.
Вспышка.
Он тащит Петру за руку в лес. Оказывается, они уже не едут, кар брошен на обочине где-то далеко позади. Ноги у Петры заплетаются, она бледна, но не кричит. Сухие прутья царапают ее голые лодыжки. Его мозги дерут в клочья чужие голоса. Деревья за их спинами смыкаются плотной стеной.
Темнота.
Вспышка.
Ее короткие джинсовые шорты трещат под его руками. Петра на земле, она сосредоточенно сопит, пытаясь остановить его. Не плачет. Не кричит. Сопит. Сопит и борется. Первый толчок в ее тело — такой сладкий, такой сводящий с ума. Она узкая и сухая внутри, и ощущение, что она его не хочет, заводит еще больше. Кажется, он кричит. Кричит в голос от удовольствия, от того, как пробирают по спине пальцы подступающего оргазма, быстрого и сокрушительного, как лавина в дарданийских горах. Петра смотрит ему прямо в лицо мертвенно спокойным взглядом, ее губа закушена, а пальцы цепляются за траву. Он видит эти судорожные движения лишь краем глаза.
Темнота.
Темнота.
Темнота.
Димитрий открыл глаза, чтобы обнаружить себя на удивительной красоты поляне. После срыва мир всегда казался ему таким: чистым, как свежевымытый новорожденный, прекрасным, как любимая девушка, безграничным, как объятия матери. Он и себя ощущал обновленным и жаждущим дышать полной грудью.
Он полежал немного, наблюдая, как солнечные лучи преломляются в изумрудных травинках, и слушая беззаботное журчание ручейка. Над головой смыкалась кружевная сень деревьев, в зеленых листах на свету виднелись скелеты-прожилки, серые крохотные птицы таились в ветвях, а толстые черно-желтые шмели с басовитым жужжанием шлепались на головки диких лесных цветов. Димитрий перевернулся на спину, раскинул руки — уродливое чудовище среди целого мира красоты — и еще какое-то время оставался так, смакуя запах прелой земли, пыльцы на лапках насекомых и запекшейся крови.
Наконец, он поднялся, оглядел примятую траву, рубиновые брызги на изумрудном, клочки джинсовой ткани и свою разбросанную одежду. От девушки-скалы осталась лишь тень — силуэт на сломанных цветах — и это тоже было красиво. Той красотой, от которой рвалось что-то внутри. Голова отозвалась болью, но не той, глухой, вязкой, лишающей рассудка, а очищающей и отрезвляющей, как ледяная вода источника. Димитрий постоял, собираясь с мыслями. Либо Петра уже скрылась в неизвестном направлении, либо ему придется отыскать и взглянуть на то, что от нее осталось, — и в том, и в другом случае итог неизбежен. Голос шептал, голос предупреждал его. Любовь не создана для чудовищ, чудовища не созданы для любви, а маленький волчонок — большой идиот, потому что на какой-то миг позволил себе думать иначе.
Петру он нашел на краю поляны, у того самого журчащего ручейка. Носочки ее сандалий касались влажных камней у воды, плечи поникли, а белая рубашка была сплошь залита кровью. Единственное, что до сих пор оставалось на ней из одежды. Димитрий осторожно опустился рядом, не сводя глаз с алых пятен на ткани и не решаясь протянуть руку, чтобы посмотреть на раны под ними, и тогда Петра вздрогнула и будто очнулась от своих мыслей. Лицо ее оставалось бледным, а взгляд пустым. Не мигая, она уставилась на Димитрия, а затем вдруг зажала ладонью рот и заплакала.
Он зашевелился, собираясь пойти и разбить свои больные мозги о ближайшее крепкое дерево.
— Боги, ты жив, — всхлипнула Петра, и это его остановило. — Ты все-таки жив.
"Я жив? Я?" Он приготовился увидеть вместо нее самое страшное зрелище, а она, оказывается, переживает за него.
— Что я с тобой сделал, сладенькая? — Димитрий осторожно убрал от лица Петры ее руку, снял большими пальцами слезинки с ее щек. Это было привычное действие, он утешал так многих женщин много-много раз прежде. Только с девочкой-скалой хотелось по-другому. — Разреши мне взглянуть.
Он только посмотрит, а потом пойдет и все-таки размозжит свою башку.
— Что? — Петра перестала плакать и с запоздалым пониманием коснулась своей груди. — Это не моя кровь. Она твоя.
— Моя? — кажется, у него даже испарина на спине проступила от облегчения.
— Я хотела тебя остановить. Мне было неприятно, — она потупилась, мокрые щеки пылали лихорадочным румянцем, — под руку попался камень, и я ударила тебя. Два раза. Сюда…
Она потянулась и тронула кончиками пальцев его левый висок. Димитрий схватился за свою липкую щеку, скосил глаза на грудь и плечо, только теперь заметив, что весь перепачкан.
— Это самое правильное, что ты могла сделать, сладенькая, — он взял ее руку и прижался губами к этим пальцам, измазанным в его крови.
Вспомнились ее судорожные ищущие движения в траве и новая боль в его голове, очищающая и отрезвляющая. Хотелось рассмеяться и зацеловать девочку-скалу, но он побоялся испугать ее порывом.
— Но я боялась, что ты уже не очнешься… — растерялась она, — что я убила тебя…
— За это меня и убить мало.
Петра окинула его долгим взглядом. Обычно она начинала сердиться или спорить, когда он говорил о себе подобное, но теперь просто промолчала, и от этого смеяться ему сразу перехотелось.
— Теперь ты, наверно, вернешься домой в Нардинию?
Она вздохнула, развязала под грудью узел рубашки и сняла ее. Обмакнула в кристальную воду ручья. Вниз по течению поплыли длинные вишневые ленты, прозрачные и похожие на клубы дыма. Вода очищает, вода смывает. Жаль, что нельзя точно так же смыть всю грязь, что клубится в его башке.
Петра отжала ткань, вишневое и прозрачное текло между ее покрасневших от холода пальцев. Затем она повернулась и стала аккуратно вытирать кровь с его виска. Он замер, не в силах отвести взгляда от ее острой голой груди с затвердевшими сосками, от розовых пятен на плечах там, где он грубо хватал ее. На внутренней стороне ее бедер пятна были чуть лиловее — он вспомнил, как раздвигал ей ноги, и едва не застонал от этих воспоминаний.
— Думаешь, мне лучше уехать в Нардинию? — ее задумчивый голос заставил Димитрия очнуться.
Некоторое время он колебался между истовым желанием солгать и пониманием, что надо сказать правду.
— Да, — правда все-таки победила. Лиловые пятна на ее теле становились ожогами, разъедающими что-то у него внутри.
Петра снова прополоскала ткань и перешла на его шею и плечи. Ему следовало бы отбросить ее руки. Это он должен был вытирать ее. Но он сидел и пялился на ее грудь, мысленно уговаривая себя, что без него ей будет лучше. Чудовища не созданы для любви, любовь не создана для чудовищ.
— А ты хочешь, чтобы я уехала? — она оставила свое занятие и заглянула ему в глаза.
— Да, — его собственный голос казался ему скрипом наждака.
— Ты ведь сейчас врешь, Дим?
Он закрыл глаза.
— Да…
Может быть, любовь — не то, для чего он создан, и Петре будет лучше без него, но, проклятый темный бог, как же ему теперь без нее жить? Без их утренних пробуждений, голых ужинов и даже жутких мохнатых домашних тапок? Он — эгоистичное больное чудовище, но ради нее он старался стать человеком.
— Я знаю, когда ты врешь, — пальцы девочки-скалы, мокрые и прохладные, осторожно потрогали его стиснутые губы, — было трудно, но я научилась различать. И еще я знаю, когда у тебя болит голова, даже если ты пытаешься скрывать это от меня. Тебе надо показаться врачу, Дим.
— Врач тут не поможет.
— Тогда кто? Нужно искать того, кто поможет. В Нардинии есть заклинатели, которые заговаривают боль и лечат разные тяжелые болезни…
— Ты не понимаешь, сладенькая, это не болезнь, — он наклонился и опустился лицом во впадину между ее нежным животом и поджатыми коленями. Так было хорошо и так хотелось лежать вечно. — То, что ты видела сегодня, — это ломки. Меня ломает, если я долго не принимаю наркотик, на котором сижу. Я наркоман, я говорил это, а ты не слушала.
— Я слушала, глупый, — Петра была тихой и грустной, и ее пальцы, поглаживающие его затылок, тоже были тихими и грустными. — Я просто пыталась тебе помочь…
— Тогда не оставляй меня, сладенькая, — он повернул голову и прижался к ее животу губами, стиснул руками ее бедра, хватаясь подобно утопающему за свою соломинку. Он и был утопающим. Всю жизнь тонул в своей злобе и тьме. — Не уходи. Пожалуйста. Обещаю, что такого больше не повторится. Клянусь, чем хочешь. Светлым богом. Темным богом.
— Неизвестным богом из древнего темпла?
— И им тоже.
— Ты же не веришь в богов.
— Может быть, они в меня все еще верят, — его губы раздвинулись в мрачном оскале, хоть она и не могла этого видеть. — Темный — уж точно.
— Мне было страшно, Дим. Впервые за все время, что мы вместе, мне стало страшно…
— Я знаю, знаю. Я все исправлю. Останешься?
Он говорил это и целовал ее живот, синяки на бедрах, грудь, плечи, торопливо, неистово, постоянно одергивая себя и снова срываясь, а когда добрался до губ Петры, она выдохнула и обвила руками его шею.
— Я не брошу тебя, Дим. Давай все забудем и начнем с чистого листа. Океан смывает следы на песке. Может, он смоет и то, что тебя мучает.
Забудем. Димитрий едва не расхохотался, хрипло и злорадно, как голос в его голове. Он был бы счастлив, если б умел забывать, но вместо этого помнил все, что делал. Из тех моментов, конечно, когда оставался в сознании. Но если его девочка-скала хочет забыть, он поможет ей в этом.
— Клянешься? — он тронул ее рот губами, отпрянул, будто обжегся, и снова тронул.
— Клянусь, — кивнула она.
— Светлым богом? И темным?
— И неизвестным. И единым. И богиней океана. И еще кучей богов, в которых ты все равно не веришь, Дим.
— Почему?
Наверно, это был самый глупый вопрос из всех, но Петра не стала смеяться. Она вообще не улыбалась.
— Потому что тебе нужно видеть свой берег. Без берега тебя унесет бурей в океан.
— Унесет, сладенькая, — вздохнул он, целуя, обжигаясь внутри, целуя. — Уже едва не унесло. А сейчас дай мне тебя полечить.
Он уложил ее на траву и вытер кровь с груди, взял за колени, осторожно раздвинул ноги, Петра снова побледнела, но сдвигать обратно их не стала. Она пыталась доверять ему, его девочка-скала, несмотря ни на что. Только вот заслужил ли он это доверие?
Димитрий прополоскал ее рубашку и невыжатой приложил к тому месту, в которое недавно так жестко врывался, заставив Петру невольно вздрогнуть от холода. Свободной рукой погладил ее по бедру.
— Тебе было очень больно?
— Не очень. Скорее, неприятно. Я привыкла, что ты ласкаешь меня перед тем, как… — она покусала губы и посопела: это был лучший звук в его жизни. — Зато тебе было очень хорошо, да, Дим?
— Нет, — он сказал это безупречно ровным голосом и безупречно твердой рукой провел вниз и вверх, вытирая ее. — Полежи так. Я схожу, найду кар и принесу из багажника твои сменные вещи.
— Опять ты врешь, — Петра вздохнула, и в ее вздохе снова слышался упрек. — Я знаю, когда ты испытываешь удовольствие. Такого сильного ты раньше со мной не испытывал.
Он вспомнил накативший оргазм, и его член болезненно дернулся. Она тоже заметила это.
— Ты снова хочешь того же?
Он мотнул головой, слегка поморщился, поджал губы.
— А чего тогда хочешь?
Перед глазами поплыли непрошеные картинки: вот же она, перед ним, на спине, с раздвинутыми ногами. Все, как ему нравится. Толкнуться бы в нее снова, зная, что там, внизу, ей еще немного больно после него, насладиться тем, как сопротивляется ее тело, как оно пытается избежать новой боли, но неизбежно ее испытывает. Закрыть ей рот ладонью, чтобы не кричала, все равно она его понимает и потерпит, совсем немного…
Он отвернулся, опасаясь, что Петра сейчас прочтет все на его лице. Она не глупа, а он слишком поглощен темным богом, чтобы измениться. Но он дал обещание. И он сдержит слово во чтобы то ни стало. Его девочка-скала никогда больше не заплачет из-за него.
Солнце окружало их и все так же преломлялось лучами в изумрудной траве, усеянной желтыми головками одуванчиков. Димитрий протянул руку, сорвал один цветок на тонкой длинной ножке. Глаза у Петры расширились, когда усыпанные пыльцой лепестки коснулись ее между ног.
— Я вот так хочу, сладенькая. С тобой — только так.
Прикосновение было мягким — он знал — и совсем не походило на его предыдущие грубые рывки. Петра заерзала и задышала, когда желтый одуванчик прошелся снизу вверх по ее сомкнутым нижним губам, дразня каждый миллиметр чувствительной кожи.
— Так не больно?
— Нет…
Продолжая водить цветком с одной и другой стороны от розовой впадины, он накрыл другой ладонью выступающий над ней холмик. Начал ласкать большим пальцем, совершая медленные движения по кругу.
— А так?
— Нет…
Он поменял свои пыточные орудия местами: теперь цветок едва ощутимо щекотал ее холмик, а палец обводил впадину. Когда он чуть отодвинул край, оттуда выступила ее влага, прозрачная и блестящая, как перламутр.
— Ты похожа на океанскую раковину внутри, — вполголоса произнес он.
Собрав эту влагу на кончик пальца, он тронул капельку языком. Она была солоноватая на вкус, как океанская вода, и пахла чем-то свежим, терпким, как морской бриз. В голове снова зашумело, Димитрий отбросил цветок. Петра вздрогнула, когда он навис над ней, и это его пробрало. Упираясь одной рукой в землю, другой он подхватил свою девочку-скалу за талию, приподнял над травой, заставил обхватить себя руками и ногами, чтобы не упасть. Качнул, насаживая на себя ее влажность, ударяясь в ее припухшие складки, только что обласканные хрупким цветком. Зарычал, когда она застонала коротко и жалобно, больше от боли, чем от удовольствия.
— Ты нужна мне… нужна… нужна… нужна…
Каждый его выдох, каждое слово — вместе со шлепающим звуком их тел. "Сделай это". "Сделай". "Сделай". "Сделай". Нужна. Чтобы остановиться.
Он бережно вернул Петру на траву. Вышел из ее тела, стоя над ней на четвереньках, уткнувшись лицом в ее плечо, дрожа и стискивая зубы.
— Дай мне минутку, сладенькая… пару минут. Мне надо, чтобы ты кое-что сделала для меня.
Она кивнула, тоже дрожащая, но смелая. Только колени стиснулись при первой же возможности, и это отозвалось в Димитрии глухой болью. Он поднялся, едва держась на ватных ногах, отыскал в траве свои штаны, а в кармане — складной нож. Вернулся, щелкнув лезвием. Петра нервно облизнула губы.
— Подержи меня, — он снова устроился между ее ног, вложил в ее кулачок рукоять ножа, подвел руку с ним к своему горлу. — Вот так.
— Нет, Дим, — охнула она. — Я не…
— Держи, — он надавил на ее запястье, холодная сталь оказалась у самого кадыка.
— Хорошо.
Петра закрыла глаза, когда он медленно и осторожно вошел в нее, плавно двинулся вперед-назад, но руку не убрала.
— Тебе так нравится, да?
— Очень, — преодолевая сопротивление острого лезвия, Димитрий наклонился, провел языком по ее губам. Ощущения царапали и будоражили. Не так, как могло бы возбуждать кое-что другое, но все же, все же… Он двинулся еще, мягко, дразняще, успел перехватить вмиг ослабевшие женские пальцы и заставить снова сжаться вокруг ножа. — Держи, сладенькая. Не дай мне сорваться.
— Я держу, Дим, — Петра вдохнула и выдохнула глубоко и жарко, — я стараюсь…
Она на самом деле старалась, его маленькая и сильная девочка. Димитрий потянулся, сорвал новый цветок, провел по ее приоткрытым горячим губам, по тонким векам, носу, лбу, щекам, подбородку и шее, лаская ее шелковистыми лепестками и оставляя на коже полоски желтой пыльцы. Наклонился, чтобы слизнуть следы цветочной пудры, и снова повел, ниже, по ключицам и между грудей, вокруг сосков, по соскам и от них к животу. Петра застонала, выгнулась, ее рука с ножом чуть поехала в сторону. Хорошо, как же хорошо от этой боли…
Он тоже провел цветком по ее шее, капая ей на живот алым. И снова к соскам, вокруг них и по ним, по губам, векам и носу. От уголков рта по скулам и во впадинки под ушами. Двигаясь внизу медленно, осторожно, на пределе выдержки. "Сделай это". "Сделай это". "Сделай". Петра застонала, тяжело дыша, ее рука упала на траву и больше уже не поднималась. Тогда он накрыл ее ладонь своей, переплел их пальцы, надрезая себе руку о лезвие, и продолжил ее любить.
— Мне понравилось, — тихо призналась она, когда все закончилось, — хоть это была очень и очень плохая идея. Я нечаянно поранила тебя.
Димитрий прижимал свою девочку-скалу к груди, как самую великую драгоценность, и улыбался поверх ее макушки безумной улыбкой. Это была хорошая идея. Петра так и не догадалась о самом главном, о том, чего не заметил ее человеческий взгляд: это у нее в руке был цветок.
У него был нож.
Цирховия Двадцать восемь лет со дня затмения
Напасть на след очередной ведьмы оказалось даже проще, чем Алекс предполагал.
Он встретился с Яном в одном злачном заведении, имеющем несомненное преимущество: здесь подавали отличное пиво, что было известно всей столице. Местные щипачи сделали стойку при появлении майстра, облаченного в дорогой костюм с золотыми пуговицами, но тут же сникли, когда тот подсел за стол к начальнику полиции. Алекс, которого многие подобные завсегдатаи знали в лицо, этим вечером смотрел сквозь пальцы на их присутствие. Он пришел отдыхать — по легенде — и не хотел выпадать из роли. На сцене голосила ярко накрашенная полногрудая девица, а сутулый подвыпивший мужичок рядом с ней рьяно пилил скрипку. Алекс похлопывал себя по обтянутому джинсами колену и постукивал ботинком им в такт.
— Мое чувство прекрасного страдает, — вместо приветствия сообщил ему Ян, приправив слова скорбной миной.
— Можно подумать, ты тут впервые, — парировал Алекс, с ухмылкой протягивая ему руку: это был самый радушный жест, который он смог выдавить из себя для верного слуги Димитрия.
Хорошенькая девушка в длинной струящейся вокруг ног юбке и коротком топе поднесла им пиво и закуски. Она поставила литровые запотевшие кружки на стол, зазывно улыбаясь обоим мужчинам. Алекс тоже ответил улыбкой и поблагодарил ее, сунув купюру между теплых сладко пахнущих грудей, а Ян едва скользнул взглядом и отвернулся.
— Что такое? — удивился Алекс, обычно наблюдавший его совсем другим по отношению к женскому полу. — Девчонка тебе не по вкусу?
— Слишком по вкусу, — проворчал Ян, — тем и плоха.
— Чего? — Алекс отпил пива, пожмурился от удовольствия — солод и хмель приятно щипали язык и согревали желудок — и поддел: — Ты свою невинность кому-то обещал, что ли?
Розовощекий и круглолицый Ян вмиг сбросил меланхоличный образ и расхохотался:
— Моя невинность осталась между ног какой-то немытой девки еще в ту пору, когда я жил с мамой и сестренкой среди свободного народа. Ни имени, ни лица той счастливицы не помню, припоминаю лишь, что было мне двенадцать лет.
Он задумался, и стало видно, что прошлое навевает ему приятные мысли. Они закурили и осушили по половине кружки — напиток все же того стоил.
— Так что ж на тебя нашло? — спросил Алекс, поглядывая на Яна. Переходить к главной теме разговора он пока повременил.
Девица на сцене затянула похабную песенку о том, как задумала попутешествовать по миру, но в каждом городе находила себе приключения на энное место. Скрипач спустился в зал, умыкнул с чьего-то стола пиво и залпом, обливая грудь, выхлебал. Вытер рот, запрыгнул обратно и взялся за скрипку с утроенным рвением. Хозяин той выпивки орал от радости и хлопал ему громче всех.
Ян улыбался, глядя на их буйное веселье, но глаза его оставались серьезными.
— Сам не знаю, что на меня нашло. Постоянно хочу уложить в постель только одну женщину. Именно ту, которую не должен.
— Что тебя останавливает? — Алекс поднял руку и дал знак девушке, чтобы поднесла им еще пива.
— Она замужем.
Алекс фыркнул.
— И когда это тебя останавливало?
Ян пожал плечами с каким-то странно обреченным видом.
— Старею, друг мой Алекс, все мы уже не мальчики, — он перевел на собеседника неожиданно цепкий взгляд: — А что на тебя нашло? Ты светишься и стреляешь глазами по всем девкам в округе, хоть раньше предпочитал их не замечать. Если бы ты был актером, я бы сказал, что ты слегка переигрываешь.
Алекс отпил и слизнул густую пену с верхней губы. У сводника чересчур наметанный глаз на то, что касается дел сердечных.
— А я постоянно укладываю в постель именно ту женщину, которую не должен, — решил он не сильно кривить душой.
Они стукнулись кружками и рассмеялись — в том смехе не было радости ни у одного, ни у другого.
— Но ты ведь позвал меня не для того, чтобы вместе попялиться на девчонок? — с философским видом заметил Ян, сделав пару глотков. — Иначе лучше б я пригласил тебя поездить на изящных кобылках Сиятельства, чем пасти местных коров.
Девица на сцене закончила петь, оттянула лиф и под свист и бурные аплодисменты продемонстировала публике свою объемную грудь. Алекс тоже отвернулся.
— Здесь хорошее место. Шумно, людно. Никто не смотрит на двух старых друзей, которые хотят отдыха и простых удовольствий, — спокойно заметил он.
На сцене затянули новую песню — не менее веселую и похабную, чем предыдущая.
— За простыми удовольствиями ходят в темпл темного, — в тон ему ответил Ян, поигрывая своей кружкой, — или заказывают оттуда удовольствия себе на дом. Да, друг мой Алекс?
— Вот и расскажи мне о темпле, — Алекс поднял на него пристальный взгляд, — ты считался там за своего задолго до того, как я впервые переступил его порог.
— И что же тебе рассказать?
— Ты знал там всех. Ты жил с ними. Ты и Димитрий. Окта Эвелин была знакома тебе?
— Окта Эвелин, — Ян поцокал языком и покачал головой в притворном сожалении. — Да, я знал ее. И даже довольно близко — но всего лишь один или два раза.
Алекс усмехнулся. В подобном ответе он и не сомневался.
— Может, расскажешь мне, с кем она общалась, не замечал ли рядом с ней подозрительных людей?
— Это из-за ее исчезновения? Наслышан… — морщина между бровей Яна из наигранной превратилась в настоящую. — Ты занимаешься этим делом? Почему лично? Или у тебя в участках резко закончились сыщики?
— Я спрошу по-другому, — вздохнул Алекс и отставил свое пиво, — что такого мог натворить Димитрий, чтобы кто-то из сумеречных ведьм стал его врагом?
— Суме… — Ян хохотнул, прикрывая рот ладонью, — они же не настоящие, просто персонажи детских страшилок, — Алекс не поддержал его иронию, и улыбка сползла с лица Яна. — Или нет?
— Окта Эвелин была сумеречной ведьмой.
— Была? — несколько мгновений Ян обдумывал весь смысл этого слова, а затем подался вперед: — Как ты это понял?
— Она на моих глазах открывала дверь в сумеречный мир, — пожал плечами Алекс.
Про Эльзу он решил не рассказывать. Ян — не тот человек, которому можно доверить этот секрет. Его лояльность всегда будет лишь на стороне Димитрия, и если господин пожелает, верный слуга не станет мешать снова добраться до сестры, каких бы обещаний и клятв с него Алекс не взял. Нет. Тут следовало сыграть именно на его собачьей слепой верности.
— При чем здесь Сиятельство? — как и следовало ожидать, насторожился Ян. — Почему ты считаешь, что окта Эвелин могла быть его врагом?
— Его ненавидят. Ты сам знаешь, как его ненавидят все вокруг.
Ян фыркнул.
— Его ненавидели, когда я познакомился с ним пятнадцатилетним сопливым юнцом, его ненавидят сейчас, когда мы с тобой отрастили бороды и животы и сидим тут пьем пиво. Ничего не изменилось. В этом плане все стабильно и предсказуемо.
Живот из них двоих отрастил только сам Ян, а бороды и вовсе не носил ни один, но Алекс не стал придираться к словам.
— Нет. Сейчас его ненавидят больше, я же передавал тебе свои наблюдения, — он поморщился, — но дело даже не в этом. Однажды я видел, как темнеют его глаза. Как они становятся черными. Это было давно… думаю, нет смысла объяснять, когда это было.
Ян кивнул в знак того, что понимает. Алекс порадовался, что слуге Димитрия хватает такта не ворошить тяжелые воспоминания.
— Ты ведь тоже видел это?
Снова задумчивый кивок.
— И видел не один раз, да? Видел часто?
Еще один кивок.
— И это казалось тебе нормальным?
Девушка в длинной юбке подошла и поставила им еще по кружке пива. Ян устремил взгляд прямо на нее, но было видно, что она для него — как прозрачная стенка. Даже пиликанье растерзанной скрипки и завывание певицы больше не ранили его слух.
— В том-то и дело, — заговорил он тихим растерянным голосом, когда девушка удалилась, — мне всегда казалось это нормальным. А вот ты сейчас спросил, друг мой Алекс, и я понимаю, что ничего нормального тут нет…
— Сумеречные ведьмы умеют внушать людям то, что пожелают. Ты никогда не думал, что тебе внушили не обращать внимания на поступки и поведение Димитрия? Кто еще был с ним так близок, как не ты? И все-таки именно ты не замечал ничего.
— Не "не замечал", а не задумывался, — губы Яна сжались в суровую складку. — Я вспомнил окту Эвелин. Она приходила в темпл к Сиятельству еще до того, как стала там нонной. Мы приняли ее потом, позже… потому что она попросила… а тогда…
— Кто был с ней, Ян? В тот первый раз, когда она приходила? Вспоминай.
— Я не помню… — лицо его стало бледным, но вдруг прояснилось: — Хотя нет, погоди. Почему-то у меня всплыла в памяти майстра Маргерита.
— Дочка рыбного короля? — удивился Алекс.
Рыбным королем в столице называли крупного магната, владеющего рыболовецким промыслом на реке. Ему принадлежали и картели, и перерабатывающие цеха, и магазины. Его дочь была молода, хороша собой и неприступна для алчных женихов, как сама наследница канцлера.
— Тогда он еще не был рыбным королем, — отмахнулся Ян, — но его дела уже шли в гору. Мне кажется, Маргерита приходила к Сиятельству вместе с Эвелин, а на прощание поцеловала меня. — Он коснулся губ. — Я надеялся, что смогу потом затащить ее в укромный уголок. Только этот момент и запомнил.
— Значит, ты присутствовал на их встрече с Димитрием? О чем они говорили?
— Присутствовал. Но не помню ничего.
— Вспомнишь еще кого-нибудь?
— Нет.
— А Димитрий?
— Он никогда не разговаривал со мной о том визите. Я могу спросить, но не уверен, что помнит и он, — внезапно глаза Яна загорелись. — Так что, по-твоему, с Сиятельством?
— На нем наложена печать проклятия, — признался Алекс.
— Какая печать? Для чего?
— Это я и пытаюсь выяснить. С твоей помощью.
Ян тряхнул головой.
— А зачем тогда ведьмам зачаровывать меня?
Этот вопрос показался Алексу более сложным.
— Если Димитрий выполняет чьи-то приказы, — начал рассуждать он вслух, — то является оружием в чужих руках. Примерно так, как я становился оружием в его руках, когда попадал под внушение альфы. — Вспоминать и даже думать об этом было неприятно. — Возможно, этот кто-то хотел, чтобы его оружие оставалось боеспособным как можно дольше. Для этого к нему приставили тебя. Чтобы ты помогал ему выполнять его функцию. Ты ведь помогал?
Ян помрачнел.
— Ты даже не можешь представить себе как, друг мой Алекс, — его кулаки сжались, — что я должен теперь сделать?
— Для начала вести себя непринужденно, — Алекс откинулся на спинку стула, улыбнулся ему и отсалютовал полупустой кружкой. — Мы не знаем ведьм в лицо, но они знают нас, и пример окты Эвелин показывает, что они могут оказаться совсем рядом.
— Ты убил ее? — Ян мгновенно переменился в лице, сделал вид, что поглощен выступлением на сцене.
— Давай я лучше не буду отвечать тебе на этот вопрос, — ухмыльнулся Алекс. — И отсюда вытекает второе: не вздумай сам лезть на рожон. Наблюдай, запоминай, приглядывай за Димитрием, но помни — если ты поддался незаметному внушению, ты против них как малое дитя.
— А ты? — парировал Ян.
Пришлось вкратце рассказать ему об истинных, минуя, естественно, историю с Эльзой. Версия Алекса строилась лишь на сундучке деда, якобы случайно найденном в старых вещах. Этого оказалось достаточно, и Ян купился. Они договорились проследить за Маргеритой и разузнать о ней побольше — благо опыт слежки и сбора информации имелся и у одного, и у другого — после чего взять ее в оборот, заставить признаться в ведьминской силе и пытать, пока не расскажет о загадочном Хозяине. Алексу даже на секунду подумалось, что если бы не Димитрий, они с Яном могли бы стать настоящими друзьями.
Но прошлое оставалось прошлым, и, пожимая Яну руку на прощание, он снова испытал глухую тяжесть, которую поторопился подавить в себе. Они расплатились за заказ, вместе вышли на улицу, слегка пошатываясь и наперебой рассказывая что-то друг другу, как и полагается хорошо отдохнувшим людям. В спину им летел визг скрипки и громкий смех. Вышколенный водитель завел мотор и вышел, чтобы придержать дверцу для начальника личной охраны наместника.
На прощание Ян странно блеснул глазами и наклонился ниже к уху Алекса, будто бы опираясь на его плечо.
— У меня к тебе просьба, мой друг. Если доведется разговаривать с Сиятельством, не говори, что и мои мозги запудрили эти тлятские ведьмы. Я сам в любом случае поговорить с ним не смогу: эту тему не передашь через третьих лиц, а с глазу на глаз мы давно уже не встречались, — в его голосе прозвучали грустные нотки.
— Почему не говорить? — удивился Алекс.
Ян невесело усмехнулся.
— Счастливый ты человек, раз не понимаешь. Узнать, что твой единственный верный друг верен тебе только потому, что его заставили… я не хочу ему такого.
— Я не думаю, что ты верен ему только из-за внушения, — зачем-то попытался утешить его Алекс и даже похлопал по плечу. — За столько лет можно и по-настоящему подружиться.
Ян покусал губы и пнул до блеска начищенным ботинком мелкий камушек на асфальте. Его водитель продолжал стоять по струнке у распахнутой двери, у кара работал мотор, а с неба начал накрапывать мелкий зимний дождик.
— Ты ведь так и не знаешь, почему Сиятельство прогнал меня?
— Не знаю, — согласился Алекс.
Ян задумчиво покивал.
— Тогда мне казалось, что я поступаю, как настоящий друг. Но теперь, после разговора с тобой, друг мой Алекс, мне начинает казаться, что настоящие друзья так не поступают. Может быть, это не я, а ты — его единственный друг? Ты хотя бы спасаешь его не по внушению…
"Я спасаю, прежде всего, Эльзу", — подумал Алекс, но промолчал.
— Я убил его. Я убил его вот этими самыми руками, — Ян потряс растопыренными пальцами, его губы дернулись. Он пошел к кару и бросил, не оборачиваясь. — Лучше бы он и правда тогда умер.
— Так почему он прогнал тебя? — спросил вдогонку Алекс.
Ян постоял к нему спиной, затем молча сел в салон, и водитель захлопнул за ним дверь. Кар тронулся и вскоре растворился в серой дымке вечерних улиц. Алекс постоял немного, потом закурил, сунул озябшие руки в карманы куртки и пошел на угол ловить таксокар.
Он вернулся домой слегка уставший и разморенный хмелем и поездкой в теплом салоне, но стоило переступить порог, как эта усталость исчезла сама собой. Здесь его ждала Эльза, и, разуваясь, Алекс прислушивался, не прозвучат ли в одной из комнат ее легкие шаги.
Шаги не звучали, это заставило его беспокоиться. Как оказалось — зря. Она спала в гостиной на диване, поджав ноги и по-детски сунув под щеку ладонь. Сегодня на ней было белое платье, простое, длиной до колен — он сам купил его ей. Алекс присел на корточки перед спящей волчицей и покачал головой, вспоминая тот порыв.
Он возвращался вот так же вечером, уставший, домой, когда на глаза случайно попался магазин женской одежды и белья. Алекс едва не хлопнул себя по лбу, устыдившись, что Эльза вынуждена носить платья с чужого плеча. К счастью, продавщица попалась смышленая и похожая фигурой, ему не пришлось долго мучиться, пытаясь разобраться в размерах. Она с улыбкой взяла его ладони, положила себе на талию и спросила, такой ли обхват, затем спустила ниже, на бедра, и подняла к груди. Алекс послушно сравнивал теплое женское тело под шерстяной тканью униформы с тем, что помнили его руки, и ловил себя на мысли, что эта нахальная смешливая девчонка, вмиг рассмотревшая в нем покупателя, желающего потратить много денег, не будит в нем ровным счетом ничего. Ничего, по сравнению с тем, что вызывала внутри одна мысль об Эльзе.
А затем продавщица начала выносить одежду, и у Алекса запестрело в глазах. Все-таки он купил все, что нужно, и вручил Эльзе, когда вернулся. Зачем он только это сделал? Она крутилась перед зеркалом, и примеряла наряды, и заставляла его помогать ей застегивать белье, а он вставлял крючки в петли, боролся с пуговицами и облизывался, ощущая себя очень больным и злым.
Он был болен ею и злился на себя за это. С самого начала все между ними пошло неправильно, с самого утра, наступившего после полнолуния, когда Алекс обнаружил себя голым, лежащим на полу в подвале и прижимающим к груди обнаженную Эльзу. Она улыбалась ему, ласковая как котенок, и он сразу понял, что память так и не вернулась к ней. Один раз он дал слабину, сказал себе Алекс, потому что в полнолуние невозможно контролировать своего зверя, но больше такого повторять нельзя. Надо заставить ее вспомнить. И если она простит — тогда он будет с ней.
Он снял с себя ее руки и ушел в душ, чтобы смыть кровь и пот после обращения. Захлопнул дверь, включил воду на полную мощность, заставил себя не думать о том, как потухли ее глаза и обиженно поползли вниз уголки губ, когда он не ответил на утренний поцелуй и отвернулся. Так лучше, так правильнее. Она не помнит его, а он не должен пользоваться своим преимуществом.
Но он не учел одного. Вместе с памятью Эльза потеряла всякое ощущение правильности. Она поступала так, как велело ее сердце. Поэтому, стоя под хлещущими струями и упершись руками в стену, Алекс с опозданием заметил, что она пришла к нему.
— Уходи, — процедил он сквозь зубы.
Эльза молча посмотрела на него и упрямо покачала головой, а затем взяла губку, намылила ее и провела по его спине сверху вниз долгим движением. Он едва сдержал глухой стон. Надо прогнать ее, надо взять эту неприятную обязанность на себя, и потом она еще скажет ему спасибо. Но он стоял и стоял в той же позе, чуть согнувшись и подставив ей спину, а ее маленькие руки были нежными и умелыми. Она гладила его плечи и бока, соскальзывала ладошками на живот и ниже. Ее пальцы начали разминать и массировать его мышцы. Это было приятно, невыносимо, до боли, Алекс скрипел зубами и хотел еще и еще. В какой-то момент он просто развернулся к ней, прижал ее к стене, потерявший всякий рассудок, порабощенный своим влечением, четко осознающий, как неправильно поступает, а Эльза прерывисто выдохнула, улыбнулась и обвила руками его шею. Горячая вода текла по ним и между ними, пока он двигался всем телом и шептал ей в губы, что любит.
Безумие.
Потом он за это поплатился. Они отправились завтракать и, прижимаясь к плечу Алекса, Эльза спросила, куда делись их слуги.
— Здесь никогда не было слуг, Эль, — сдержанно ответил он, кидая в ее кофе сахар. — Они были в твоем прежнем доме, где ты жила раньше.
— Мать держала целый штат слуг, — без тени сомнения кивнула она, — но мы с тобой решили ограничиться всего двумя, я помню. Ты сам их нанимал. Где они?
Она считает его своим мужем, понял Алекс. Тем, с которым жила все прошедшие годы. Ее привязка наложилась на воспоминания о браке, создав непредсказуемую смесь. Кто знает, кому на самом деле улыбается теперь Эльза: ему или образу бывшего супруга? Кто знает, чье имя бессвязно шептали ее губы, пока он, как дурак, твердил ей под горячими душевыми струями "люблю"?
В то утро они сильно поссорились. Алекс попытался объяснить Эльзе, что с ней случилось, напомнить о дочери, но это довело ее до истерики. Она схватилась за виски, закричала, заплакала, обернулась волчицей и убежала. Он нашел ее в подвале, забившейся в угол, с медведем между лап, она рычала и скалила зубы на него. Это было самое страшное — откат назад после всего того долгого пути, проделанного Алексом к личности настоящей Эльзы.
Он ушел, оставив ее в покое, а когда вернулся вечером, Эльза снова стала человеком, но смотрела настороженно и молчала. В ту ночь Алекс лег спать на диване, уступив спальню ей и ее медведю.
На следующий день он накупил ей одежды и осыпал подарками.
После этого, если Алекс не давил на нее и не заставлял вспоминать, Эльза казалась прежней, ласковой и влюбленной. Она очень скучала и страдала, оставаясь днем в одиночестве, встречала его по вечерам, как примерная жена, вкусным ужином. Вопрос о слугах они по взаимному согласию замяли. Эльза взяла привычку сидеть с Алексом на кухне, с мечтательным видом подпирать кулачком подбородок и смотреть, как он ест. Ей нравилось ухаживать за ним и подкладывать ему лучшие кусочки. И наносить ему удар за ударом.
— Почему ты больше не работаешь в своем кабинете? — спросила она, когда очередным утром он собрался уходить.
— Здесь нет кабинета, Эль, — осторожно заметил Алекс.
— Как же нет? — вспыхнула Эльза. — Он есть, ты же всегда сидишь там со своими бумагами. Просто он на другой стороне дома, как ты любишь, его окна выходят на…
Она осеклась и задумчиво уставилась в окно, где чернели зимние голые ветви сиреневого сада.
— …океан.
Когда Эльза перевела на Алекса взгляд, в ее глазах стояли слезы и плескалась такая обида, будто он только что хлестнул ее по лицу. Он молчал, опасаясь навредить любым неосторожным словом. Она всхлипнула, оттолкнула его руки и ушла, заперевшись в спальне.
И вот теперь она спала на диване в гостиной, где, видимо, прилегла на минутку, тоскуя и дожидаясь его с работы, и на тонком лице виднелись высохшие дорожки слез. Алекс поправил прядь ее волос, едва касаясь, боясь разбудить неосторожным движением. Эльза лежала, обхватив себя свободной рукой. Он подумал, что она озябла, включил отопление посильней и принес ей толстый плед.
Когда Алекс укрыл ее ноги, Эльза проснулась. Она сонно улыбнулась ему, такая знакомая, любимая, теплая, вкусно пахнущая, что он не удержался и наклонился, оставив легкий поцелуй на ее губах.
— М-м-м, — промычала она и вдруг сморщила нос: — Фу. Что это ты пил?
— Немного пива, — пожал Алекс плечами.
— Ты же не любишь пиво, — Эльза привстала на локте и поморгала, разгоняя во взгляде сонливость. — Ты сам говорил, что это не благородный напиток. Не то, что коньяк.
— Я люблю пиво, — мягко возразил он и погладил ее по щеке с вмятинами в том месте, где давила рука, — я всегда его любил.
Она нахмурилась и села, прижав плед к животу.
— Ты опять разговариваешь со мной так, будто я дурочка. Это неприятно.
— Нет, Эль, — Алекс попытался взять ее за руку, но она не позволила, — ты просто болела. Болела очень сильно, но теперь уже выздоравливаешь. И понемногу все вспомнишь.
— Я все помню, — тряхнула головой Эльза, и ее серебристые глаза превратились в две колючие льдинки. — Помню, как меня зовут, и как зовут тебя, помню, сколько мне лет, в какой стране я живу и какой сейчас год. Помню, что у нас с тобой есть дочь.
Она говорила так уверенно, что Алекс насторожился: может, наступил долгожданный момент? Но потом Эльза продолжила:
— И Ива сейчас спит в своей кроватке, я тоже это помню.
Она вскочила, схватила его за руку и повела за собой в другую комнату, а Алексу не оставалось ничего, кроме как повиноваться. Медведь лежал в отдельной постельке, созданной ее заботливыми руками, укрытый до шеи.
— Вот, — уверенно заявила Эльза, — видишь?
Он видел. И не мог выдержать этого зрелища. Развернулся и ушел, распахнул на кухне окно, закурил, присев на подоконник. Проскрипел:
— Уходи, Эль.
Она перестала прятаться за порогом и подошла к нему. Упрямая, как всегда.
— У тебя появилась любовница? Ответь мне, Алекс. Мы разводимся?
— Любовница? Разводимся? — он хрипло рассмеялся, отвернулся и глотнул горького дыма.
— Конечно, — настаивала она, — что мне еще думать? Ты перестал работать в кабинете и постоянно куда-то уходишь. Пропадаешь целыми днями. Молчишь и странно смотришь на меня, когда я что-то говорю. И еще… — она шмыгнула носом, — …ты больше меня не хочешь.
— Да, ухожу. Потому что я полицейский, — рявкнул Алекс, поворачиваясь. — Полицейский, а не напыщенный благородный лаэрд. Посмотри на меня. Посмотри мне в глаза. Я не такой, как ты. Разве ты не видишь?
— Ты волк… — неуверенно протянула Эльза.
— Волк. Но не такой. Я — полукровка. Ты помнишь, что существуют такие? И я всю жизнь любил только тебя. С удовольствием бы завел себе любовницу. Тысячу любовниц. Но мне… нужна… только… ты.
Последние слова он выдавил с трудом и умолк, уже ругая себя за несдержанность. И удивился, когда Эльза не стала на этот раз убегать и плакать. Она внимательно посмотрела на него и вздохнула.
— В моей голове океан, — пожаловалась она. — Ты когда-нибудь испытывал такое ощущение, что ныряешь и теряешь понимание, где дно, а где поверхность?
— Я никогда океан и в глаза не видывал, — бросил Алекс, все еще резче, чем следовало бы. — Только реку. Там все просто, плыви себе и течение вынесет.
Эльза взяла у него сигарету и нервно затянулась.
— А я вот вроде вижу дно, но никак не могу его нащупать, — она в недоумении посмотрела на тлеющий огонек, — оказывается, я умею курить… — и сразу же без перехода добавила: — Ты, правда, любишь меня?
— Проклятье, Эль, — Алекс усмехнулся, покачал головой и отобрал сигарету. — Мне что, перед тобой в клятвах рассыпаться? Мы уже не дети.
— Почему тогда ты меня избегаешь в постели? Ты избегаешь меня с той самой ночи, когда…
— Я даю тебе время выздороветь. И определиться.
— Я определилась.
— Точно ли? — он не сдержал сарказма в голосе. — Ты меня не помнишь, Эль. Ты не помнишь, что у нас пропал ребенок. Заменяешь ее медведем.
Она побледнела.
— Почему мы не ищем ее?
— Потому что только ты можешь сказать, кто ее украл.
Эльза помолчала, затем кивнула. Наклонила голову, сжала кулачки и вышла с неестественно прямой спиной. Алекс тихо выругался и подкурил новую сигарету. Какой же он идиот. Снова сделал ей больно. Кто бы мог подумать, что вид дурацкого медведя так заденет его? Но каково тогда самой Эльзе? Она в бегах, предана всеми и может надеяться только на него, а он орет на нее и срывает собственную усталость и ревность. Никто не знает, какая путаница творится в ее голове, а он только и может, что ревновать к призраку ее мужа. Призраку, который когда-то смог то, что не сумел сам Алекс. Уберег Эльзу от Димитрия. Не поэтому ли светлая память о нем так и бесит?
Алекс вздохнул, выбросил окурок, захлопнул створку. Направляясь в спальню, он ожидал увидеть Эльзу плачущей, но она тоже стояла у окна, ее спина по-прежнему оставалась прямой и напряженной. Алекс приблизился и положил руки на плечи Эльзы.
— Я помню этот сад, — произнесла она вполголоса, — я помню его цветущим. Я помню аромат лепестков, которые падали на ветру. Я помню тебя, Алекс. Помню музыку, которая звучала между нами.
— Ты не помнишь самого главного. Того, что было потом.
— Почему ты мне не рассказываешь?
— Не уверен, что могу подобрать правильные слова, чтобы описать.
— Я любила тебя?
— Сначала — да. Потом — нет. Осталась только волчья привязка. От нее нельзя избавиться.
Эльза помолчала, все так же стоя к нему спиной и глядя в окно. Ее волосы пахли цветами, в этом аромате Алексу тоже почудился забытый запах сиреневых лепестков.
— Что, если я не хочу вспоминать? То, что было потом.
— Что, если нашу дочь ты не вспомнишь тоже? Если откажешься вспоминать все. Я люблю тебя, Эль, — он невольно стиснул ее плечи через светлую ткань, — но не хочу отрекаться от нашего ребенка.
Она отстранилась, завела руки за спину и расстегнула длинную молнию вдоль позвоночника. В проеме стала видна гладкая кожа, выступающие позвонки. Алекс закрыл глаза.
— Поцелуй меня, — попросила она, — мне так страшно. Я так запуталась. Совершенно не понимаю, в кого я превратилась.
— Это все усложнит, Эль, — ее кожа манила, и запах волос, и теплая шея, которая открылась, когда Эльза отклонила голову. — Я очень, очень обидел тебя в прошлом. Когда ты вспомнишь…
— Но сейчас же я не помню.
И это тоже было неправильно. То, каким тоном она это сказала. Спокойным, нежным тоном. То, как он содрал с ее плеч платье. Жадными, подрагивающими пальцами, убеждая себя, что еще может остановиться. То, как прижал ее бедрами к холодному подоконнику, расстегивая свою рубашку, целуя ее шею сзади, накрывая ладонями мягкую грудь. То, что они не могли даже дойти до кровати, которая находилась в нескольких шагах от них. То, как было хорошо, и жарко, и сладко вдвоем.
А поздно ночью, когда Эльза уже крепко спала в постели, залюбленная и заласканная Алексом, в дверь постучали. Он пошел открывать, на всякий случай прихватив оружие — жизнь научила ждать сюрпризов.
На крыльце стоял какой-то оборванец. Лохмотья свисали с тела, образуя бесформенный балахон, голову тоже прикрывало тряпье, из-под которого клоками торчала грязная борода. Существо пошатывалось и разило спиртным за километр. Алекс решил, что перед ним нищий пьянчуга, который побирается по приличным домам в надежде поживиться монетой, и хотел уже с раздражением захлопнуть дверь, но оборванец заговорил неожиданно сильным и уверенным голосом:
— Мне говорили, что ты искал меня, Алекс.
Видя, что хозяин дома застыл в нерешительности, оборванец двинулся вперед и сам ввалился через порог. Алекс успел сделать несколько шагов назад и удерживал его на прицеле, сняв пистолет с предохранителя. Незваный гость прикрыл за собой дверь, защелкнул замок, а затем рассмеялся.
— Спокойно, начальник. Сейчас ты меня узнаешь.
Не делая резких движений, он принялся разоблачаться. Рваный балахон полетел на пол, следом за ним — покрытые отвратительными пятнами штаны и растоптанная обувь. Клочковатая борода, клееная на липучку, была содрана с лица. Под всей этой бутафорией оказалась другая, приличная одежда: тонкая куртка, джинсы, гладко выбритый подбородок, прямой нос. Глаза… глаза принадлежали незнакомцу, но Алекс все-таки выдохнул:
— Кристоф?
Он помнил худощавого мальчика, а перед ним теперь стоял крепкий, раздавшийся в плечах мужчина. Неудивительно, что тот остался неузнанным. И, кроме того, глаза…
— Линзы, — с усмешкой ответил Крис на незаданный вслух вопрос, — один эскулап сделал мне их, чтобы скрывать настоящий цвет.
Его радужка и впрямь казалась блекло-серой, а не серебристой, как положено. Обычные водянистые глаза обычного пропоицы. Без бороды стала видна и разница в цвете кожи. Открытые участки покрывала грязь — или, возможно, краска, — и благородная бледность под ней исчезла без следа. Чистый же подбородок выдавал принадлежность к аристократии. И запах… Алекс убрал пистолет, приблизился и понял, что ядреный, с ног сбивающий перегар исходит от лохмотьев, брошенных на полу. Дыхание Кристофа оставалось свежим.
— Умно, — хмыкнул Алекс, — и кто научил тебя этим фокусам?
— Жизнь, — Кристоф плавно разжал кулак и продемонстрировал ему перочинный нож, — кстати, зачем это тебе?
Алекс схватился за пояс штанов. Собираясь открыть двери, он ожидал удара ведьмы и припрятал на себе заготовленное, заговоренное и защищенное символами лезвие. Знаки, нанесенные черной краской, покрывали нож, и теперь Крис смотрел на них с недоумением. Но как он успел выдернуть оружие у Алекса из-за пояса, не привлекая внимания? Разве что в момент, когда прорвался в двери.
— Вор, — вздохнул Алекс и отобрал свой нож из его раскрытой ладони.
— Король-под-землей, — поправил его Крис, — мне так будет приятнее.
— Я слышал, что ты ушел под землю к свободному народу, — парировал Алекс, — никогда не слышал только, чтобы у свободного народа были короли.
— Ты прав, королей у нас нет, — Кристоф пожал плечами, — но есть клички. И это — моя. В конце концов, я такой же родственник канцлеру, как и нынешний наместник, и если он имеет наглость сидеть на золотом троне, я могу претендовать хотя бы на личный титул.
Он говорил с вызовом, в глазах блестел насмешливый огонек, и Алекс еще раз поймал себя на мысли, что почти не узнает в нем того юного братишку Эльзы, который однажды за небольшую взятку привел ее в музей на свидание. Но Кристоф был единственным, кто мог по-настоящему разделить с Алексом ее секрет, хотя бы потому, что никогда не делал сестре зла, как остальные. И сложный разговор следовало начать.
— Хорошо, что ты сам заговорил о своем брате…
— Не-а, — вдруг перебил его Крис и покачал головой, — я говорил о наместнике. Никакого брата у меня нет.
Его верхняя губа чуть изогнулась в сердитом оскале. Алекс вздохнул. Разговор, пожалуй, выйдет даже сложнее, чем думалось.
— Я понимаю, что ваша семья раскололась напополам…
— Напополам? Разлетелась в прах, ты хотел сказать? О какой семье ты говоришь, Алекс? Отец мертв, мать сошла с ума, сестра сбежала на край света. Моя семья теперь — это свободный народ. Другой не помню и не знаю, — слова срывались с губ Криса чеканными монетами и падали на пол кусочками льда. — Я и на тебя-то пришел посмотреть из чистого любопытства: чего ты после стольких лет вдруг от меня захотел? Твои шептуны все шептали и шептали, что ты меня ищешь, и пару раз я походил по городу за тобой, но так и не понял намерений. Сегодня мы даже пиво за соседними столами попили, пока ты любезно общался с жирным прихлебателем Димитрия. Это он меня ищет?
Глаза у Кристофа сузились и превратились в две щелочки, полные недоверия.
— Тебя не просто узнать с тех пор, как ты научился менять свой запах, — заметил Алекс. — Но моих намерений ты бы и не понял, потому что о них не знает никто. И я рассчитываю, что дальше тебя эта тайна не уйдет тоже. Когда я начал искать тебя месяц назад, то рассчитывал, что Эльзе потребуется твоя помощь. Но теперь мне кажется, что всем нам может потребоваться помощь всего свободного народа.
— Свободный народ не держится ничьей стороны, мы сами по себе… — начал Крис и тут же осекся: — Эльзе?
— Она у меня, — кивнул Алекс, наблюдая, как недоверие на лице собеседника сменяется удивлением и еще большей подозрительностью.
— Здесь?
Кристоф рывком сбросил куртку, футболка с коротким рукавом не скрывала татуировок на предплечьях, Алекс легко читал их все. Воровские регалии. Возможно, брата Эльзы назвали королем не просто за родство с канцлером…
— Она больна. Очень. Ты ей нужен, Крис. Как брат.
— Она бы ни за что не заговорила с тобой, — тот сжал кулаки, — что-то ты темнишь, начальник.
— Ни за что, — согласился Алекс, — если бы была здорова. Но она больна. И она у меня. И я — единственный, кто хранил ее секрет все это время. Теперь нас будет двое. Давай я налью тебе чего-нибудь выпить, и мы поговорим.
Похоже, его непреклонный тон убедил Кристофа, потому что тот сделал несколько шагов вперед. Правда, потом опять остановился.
— Я не могу сесть с тобой за один стол, — поморщился устало, — и выпивать в твоем доме не могу. Ты — полицейский. Мы — по разные стороны. Ну, ты и сам понимаешь.
— Понимаю, — не стал спорить Алекс. Свободный народ не верил ни в темного бога, ни в светлого, зато свято и трепетно чтил свой внутренний кодекс. — Пойдем тогда, я посижу на диване, а ты постоишь.
Они отправились в гостиную, где Кристоф прислонился плечом к стене и сложил руки на груди. Все время, пока Алекс рассказывал ему о сестре и охотящихся на нее ведьмах, его лицо хранило каменное выражение.
— Я хочу ее увидеть, — наконец, тихо произнес он.
— Ты ее увидишь, — пообещал Алекс, — прямо сегодня. Будем надеяться, это поможет ей вспомнить скорей. Но ты мой должник теперь, Крис. Я берег твою сестру. Теперь мне нужна сила твоего народа.
— Мы не охотимся на ведьм, — настаивал на своем тот, но уже без прежней злости. — А Эльзу ты берег для себя. Ты все так же ее любишь, как и раньше.
— Но ведьмы хотят избавиться и от твоего брата.
— Вот и отлично, — взгляд у Кристофа снова стал жестким, — пускай выполнят эту грязную работенку за меня. Я мечтал и сам его прирезать за то, что он сделал с Эль.
— За то, что я сделал с Эль, — спокойно поправил его Алекс.
— Нет, — Крис невесело рассмеялся, — Димитрий нам признался. Сам все рассказал, глядя прямо в глаза. После этого мать, наверно, и обезумела. А у меня не стало брата. Я злился на тебя какое-то время, конечно. Но винил не тебя.
— Твои родители винили.
— Мои родители, — Крис фыркнул и вдруг стал очень серьезным, — держался бы ты от нас подальше. От всей нашей семьи. Мы все прокляты. Но ты не можешь, Алекс. Даже теперь по твоим глазам я вижу, что ты не удержишься. Моя сестра так дорога тебе?
— Конечно нет, — Алекс лениво откинулся на спинку дивана, — мне просто нравится попадать в неприятности. А где еще взять столько неприятностей, как не у вас?
Крис умолк в изумлении, а затем расхохотался. Напряжение, витавшее в комнате, спало. Он просто отвык, подумал Алекс. Отвык от родных, заматерел и ожесточился. Знакомое защитное состояние. Но Эльза заставит его уступить и помочь. А он заставит ее вспомнить.
— Ты мне нравишься, мужик, — двумя огромными шагами Крис преодолел расстояние до дивана, сгреб и потряс Алексу руку, — никому не говори, что я жал тебе руку. Вот будет позор на мою голову. Ты полицейский…
— А ты — лаэрд, — напомнил Алекс.
— Уже нет. Свободный народ чужих не принимает, а чтобы стать своим мне пришлось отречься от всего, что связывало с прошлым. И пришлось грабить лаэдов. Так что я уже не лаэрд. Давай, зови Эль.
— Она спит. Пойдем, я разбужу ее.
— Тогда погоди, я сначала умоюсь. Не хочу, чтоб сестра наложила кирпичей, увидев такую рожу.
Последнюю фразу он произнес, просторечно коверкая слова, и это так хорошо и достоверно получалось, что Алекса даже взяла за горло легкая зависть к подобному перевоплощению. Кристоф смыл краску и вынул линзы из глаз и внезапно преобразился, вновь обретя схожесть с сестрой. И с Димитрием.
Эльза спала, когда они приоткрыли дверь в спальню. Полоса света упала на кровать, обозначив ее скрюченную фигурку под одеялом. Алекс присел на край постели и погладил ее по горячей розовой щеке. Длинные ресницы дрогнули, глаза приоткрылись, в них стояла сонная пелена.
— Алекс… — она потянулась к нему, но он остановил ее жестом.
— Посмотри, кого я привел. Это твой брат. Ты помнишь его?
Крис занял место Алекса, и в этот момент на лице Эльзы отразился такой дикий ужас, что она даже не смогла закричать. Только дернулась назад, к изголовью, прижимая к груди одеяло.
— Ш-ш-ш. Это не тот брат, — Алекс схватил ее за плечи, обнимая, лаская, успокаивая. — Это другой брат. Твой близнец.
Он взял ее стиснутую руку, с трудом расцепил пальцы и заставил вытянуть вперед. Эльза сопротивлялась, ее мышцы превратились в тугие узлы, а когда Кристоф коснулся ее ладони, она будто застыла и перестала двигаться.
— Все хорошо, сестренка, — другой рукой Крис погладил ее по запястью, — это я. Раньше мы всегда были вместе. Мы вместе жили в животе у матери. И вместе родились. Вместе играли. Ты ругала и воспитывала меня. Помнишь?
Что-то дрогнуло в Эльзе, она подалась вперед и позволила брату прижать ее голову к своему плечу. Он погладил ее по волосам и перевел на Алекса тяжелый взгляд.
— Оставь нас. Пожалуйста. Я хочу побыть с сестрой наедине.
Алекс кивнул и вышел, притворив за собой дверь, а они так и остались сидеть, обняв друг друга. Он прислонился к стене у входа, не в силах сдвинуться с места. Проклятье, он ревновал ее даже к Крису. К этому их "наедине". Действительно, он ей болен. Сколько можно доказывать свою нужность, зверь? Смирись, что в ее сердце всегда будешь жить не только ты.
Через некоторое время Крис вышел.
— Я уложил ее спать, — сообщил он шепотом, как говорят над кроваткой ребенка, — мы поговорили о детстве. Ты прав, в голове у нее каша. Она то узнавала меня, то принимала за…
— Димитрия? — догадался Алекс.
— Да, — тот кивнул, — в его лучшие годы, разумеется.
— А у него были лучшие годы? — не удержался Алекс от сарказма.
— Когда-то я им даже восхищался, — Кристофа, похоже, занимали какие-то другие мысли, о брате он говорил неохотно. — Я навещу ее еще, как только смогу. Ты ведь не против?
— Конечно, — Алекс дружески похлопал его по плечу, — приходи. Ты ей нужен. Когда все закончится, она наверняка захочет жить поближе к тебе.
— Поближе ко мне? — Крис странно посмотрел на него. — Хватит геройствовать, ты уже и так достаточно наказан. Женись на ней, Алекс. Когда все закончится, сделай ее честной женщиной. И даже не вздумай отпираться. Я, может, уже не лаэрд, но нюх у меня прежний. Я чуял твой запах на ней. Как единственный мужчина в семье, я буду требовать сатисфакции.
Алекс скривился.
— Я не собирался…
— Да знаю, знаю, — миролюбиво успокоил его Крис, — но все равно женись. Времена уже не те, спасибо сам знаешь кому. Теперь никого не волнует, благородный ты лаэрд или нет. Твоей дочери нужен отец. Ее настоящий отец. Я и сам скоро стану отцом, так что это хорошо понимаю.
— Отцом? — это внезапное откровение удивило Алекса. — Неужели какая-то лаэрда…
— Она не лаэрда, — засмеялся Кристоф, — скорее очень даже наоборот. Но я укусил ее. Мы долго не решались, но я ни о чем не жалею.
С легкой улыбкой на лице он принялся надевать обратно личину попрошайки. Через несколько минут грязный и вонючий оборванец, пошатываясь, спустился на крыльцо и растворился в ночи. Глядя ему вслед, на секунду Алекс даже засомневался, стоит ли втягивать близнеца Эльзы в войну против ведьм. Хоть кто-то из них счастлив. Хоть один. Но потом он решительно тряхнул головой в ответ на собственные мысли. Силы не равны, и в этой войне ему нужны все ресурсы.
Ему нужен свободный народ.
Цирховия Шестнадцать лет со дня затмения
Младшая дочь канцлера родилась на исходе лета, и в день ее рождения в главном темпле светлого бога горожанам раздавали подарки. Детям дарили медовые пряники и конфеты, женщинам — шелковые платки и заколки для волос из разноцветного стекла, а мужчинам ставили по большой кружке пива. Неудивительно, что к дверям темпла, расписанным золотыми шестиконечными звездами, с раннего утра выстроилась огромная очередь.
Внутри, на ступенях алтаря, верховный служитель в богатом вышитом золотой нитью одеянии, в парадном венце, лично вручал каждому пришедшему подарок, который подавали расторопные служки, а после просил затеплить свечу за здравие юной наследницы трона. Люди охотно соглашались, покупая за мелкую монету тоненькие восковые свечки у служительниц, ждущих вдоль стен. Воздух в темпле дрожал от жара сотен и сотен огней в напольных и подвесных канделябрах, лица святых за ними сияли от счастья. Ни давка, ни духота, казалось, никого не смущали, только личный служка то и дело промокал белым хлопковым полотном пот, бегущий градом по лбу верховного служителя из-под парадного венца, да подавал тому стакан чистой воды.
Такие праздники в народе любили, подаяния в жертвенницу темпла светлого сразу возрастали во много раз, а вечером, в темпле темного, ликование продолжалось — там предлагали всем желающим попытать свои силы в кулачных боях, а победителя вместе с тремя обнаженными ноннами купали в теплом вине на зависть остальной публике. Опиум курился в нишах, и по коридорам летели тосты с пожеланиями имениннице скорее вырасти, найти себе хорошего мужа и не знать с ним скуки в постели.
Про веселье в темпле темного Кристоф знал лишь понаслышке — приятели болтали прошлым вечером, когда все они, собравшись группкой, шли биться с бандой рыночных — а в темпле светлого он уже успел сам побывать с утра. Верховный служитель пытался дать ему медовый пряник, чем нанес ужасное оскорбление. К счастью, Крис видел, как разговаривает его отец с теми, на кого злится. Ледяной взгляд и пара сухих, брошенных сквозь зубы фраз сделали свое дело, служка убрал поднос с пряниками и принес кружку пива.
Вкус этой маленькой победы был сладок несмотря даже на то, что пиво горчило и отдавало спиртом. Крис устроился на скамье под деревом как раз напротив темпла и заставлял себя потягивать его, наблюдая, как длинная, извилистая змея-очередь все ползет и ползет в золотое нутро по солнцепеку. Едва выбравшись из темпла, он почувствовал, как взмок. На улице стояла жара, хотя солнце еще только поднималось на небосклон, а в помещении уже стало невыносимо.
К Крису прибились трое беззубых и оборванных мальчишек лет пяти-шести. За мелкую монету они развлекали его, стоя на одной ноге, борясь друг с другом, делая колесо или отбегая, чтобы по его приказу дернуть за волосы какую-нибудь зазевавшуюся майстру. Мелких монет у Криса был еще полный карман, а в другом кармане лежал бумажник с купюрами, которые при желании превращались в любом ближайшем магазине в еще большую гору монет, поэтому развлекаться он мог хоть до заката.
Мальчишки напоминали ему зверьков. Дикие, с жадно горящими глазенками, они смотрели на деньги в его руках, как на самые драгоценные сокровища мира. Больше денег их интересовала разве что еда. Крис купил у проходившей мимо лоточницы копченую сосиску и ради интереса разломил и бросил кусочки в пыль — тогда они кинулись, схватили грязными ручонками и съели. Их босые ноги тоже покрылись этой пылью, а проходящий мимо постовой хотел их прогнать, но Крис дал монету и ему. Тогда постовой козырнул и пошел дальше, накричав на пьяницу, который хотел рваться в темпл без очереди. Крис надеялся, что ему еще не скоро наскучит сидеть в тени и раздавать монеты. Ему очень не хотелось идти домой.
Дома творилось что-то страшное. Эльзу поймали, когда она убежала со своим парнем на свидание. Неприятно, конечно, что сестра попалась. Они оба долгое время успешно водили родителей за нос, наслаждаясь своей свободой, и услышав о ее провале, Крис испугался, что теперь тиски контроля сожмут и вокруг него. Эльзу, вот, лишили возможности общаться с друзьями по телефону, выходить куда-либо или принимать гостей, и это в разгар лета, когда нет уроков и самое лучшее, что можно придумать — гулять и развлекаться. Но потом он забыл и думать о себе и стал бояться только за сестру.
Отец регулярно кричал на нее каким-то чужим и свирепым голосом, а она кричала на него в ответ, срываясь в визг, и их крики разносились по всему дому. В такие моменты бледная мать стояла у дверей с отрешенным лицом, не двигалась и не говорила, а слуги переглядывались и шептались о чем-то, умолкая, когда Крис случайно показывался рядом. Самым странным было то, что в доме не было Димитрия. Все привыкли, что отец повышает голос только на него, но старший брат давно не появлялся. Почему тогда папа сорвался на Эльзу?
Ночами она плакала, долго и горько, эти рыдания не давали Крису спать. Он хотел пойти и утешить сестру, но ее дверь всегда оставалась заперта. Кроме того, у них появился новый слуга. Большой и молчаливый, с кривым перебитым носом, крохотными поросячьими глазками и горой мышц, он постоянно находился в саду под окнами Эльзы или стоял при ней в те редкие моменты, когда она выходила подышать. Правда, выходила в сад она все реже. Родители боятся, что она сбежит, догадался Крис. Про него самого, казалось, наоборот все забыли.
Он искренне не понимал, из-за чего поднялся такой сыр-бор. Эльза гуляла с парнем… но это же умная, правильная и рациональная Эльза. Крис ни секунды не сомневался, что она бы не стала делать ничего по-настоящему неправильного или плохого. Она всегда знала, как должна вести себя благородная лаэрда, и сама поучала его, когда он ходил отстаивать честь всех лаэрдов у рыночных голодранцев. Она дружила со своим человеческим парнем просто ради развлечения, только и всего.
Но больше всего пугает именно непостижимое уму, и поэтому Крис стал за нее бояться. Особенно, после одной жуткой ночи. Эльза плакала и плакала, когда весь дом уже погрузился в сон, и казалось, что только сам Крис еще никак не может уснуть. Ее боль отдавалась в нем эхом, он знал, что многие люди называют это близнецовой связью, и просто терпел, как терпят ноющую рану — вертясь в постели с боку на бок и стиснув зубы. А потом Эль вдруг затихла. Он подумал, что она уснула, но тишина была слишком свинцовой и давящей. Почему-то Крис не сомневался, что сестра не спит, и с ней в эту самую минуту происходит что-то плохое.
Он вскочил с постели, вынул из тайника нож и бросился к ней. Расковыряв замок, отжал пружину: он учился этому мастерству долго и теперь порадовался, что умение пригодилось. Эльза сидела на постели, в окно на нее падал лунный свет. Ее волосы казались покрытыми серебром, а ночная рубашка слегка просвечивала. На простынях перед ней расползалось черное пятно, а одеяло валялось на полу.
С неестественно вытянутыми перед собой руками сестра напоминала неподвижную восковую статую и покачнулась, как тряпичная кукла, когда Крис схватил ее. Он тряс ее и звал по имени и матерился — судорожно, шепотом — всеми словами, которые успел узнать от рыночных, пока вытаскивал спички из ее тела. Она порезала себя и вставила подпорки, чтобы края ран не сходились, и лицо у нее было страшнее, чем у матери: еще более отрешенное и бледное.
Тогда он практически взвыл от ужаса, умоляя сказать, чем ей помочь, а Эльза перевела на него пустой белый взгляд и ответила:
— Помоги мне сбежать отсюда навсегда.
Сбежать? Но куда она пойдет? Крис пытался образумить ее. Его рациональная сестренка должна понять, что ведет себя неправильно. Ей следовало бы покориться отцу и изобразить раскаяние, тогда бы со временем родители простили ее и вернули свободу. В конце концов, она сама провинилась. Зачем так упрямо идет им наперекор? А в Эльзу вдруг словно темный бог вселился. Она ударила брата и оттолкнула его и начала кричать, что он предатель, что он такой же, как все они, как их родители. Ошеломленный, Крис сидел на полу и только потирал ладонью ушибленную щеку. На крик прибежали слуги, включился свет. Потом был врач, суетливый человечек с саквояжем, полным успокаивающих уколов, и снова яростные крики отца и молчание матери…
Они даже не заметили, что в ту ночь Крис ушел и не возвращался домой до утра. Бродил по улицам, слушая перезвон в темпле темного и наблюдая за ночной жизнью столицы. Все хлопотали вокруг Эль, все пытались ее наказать, подавить, стреножить, как своенравную кобылу, а Крис просто больше не мог этого выносить. Любовь, понял он. У девчонок все сложно с ней. Он и раньше скептически относился к тому, какую невероятную важность женщины придают простому и глупому чувству, а глядя на сестру в ее нынешнем состоянии, и вовсе хотел бежать как можно дальше без оглядки.
И он бежал. Не так, как бегут женщины — в море своих слез и страданий. Он бежал в хорошую драку, в адреналин, кипящий в крови, в опасность, которая делала его жизнь ярче. В наблюдение за бродягами, которые становились шелковыми, как девичьи ленты, и ласковыми, как котята, когда в его руке звенела монета. В монетах Крис не знал нужды, он мог черпать деньги горстями из отцовского сейфа. Он нуждался в чем-то ином, чего и искал, убегая.
Рябой Тим называл таких, как Крис, сахарными мальчиками. Он со своей бандой любил приходить к школе под конец учебного дня и дразнить богатеньких лаэрдов или майстров, топтавшихся у дороги в ожидании родителей. Рыночные специально выбирали младших детей или девчонок и быстро смывались, стоило кому-то из слуг или старших показаться на горизонте. Крис не любил, когда его дразнили, поэтому он сколотил свою банду из друзей и ходил вечерами на площадь трех рынков бить.
Бить рябого Тима было особенно приятно. Крис знал, что как-то раз тот со своей бандой подкараулил одну девчонку из их школы, которая оказалась в неправильное время в неправильном месте, и так напугал, что та описалась прямо на улице. Над этой историей потом все смеялись. Все, кроме Криса. А что, если бы так попалась его сестра? Нет, Эль бы не стала мочить штаны, а дала сдачи, но все же.
Ну и что, что лаэрд не стал бы пачкать руки о чернь. Кристофа подобные условности не волновали. Про его брата среди рыночных ходили легенды, кто-то говорил, что Димитрий каждую ночь приносит кровавые жертвы темному богу и потому его невозможно победить в окулусе, кто-то считал, что он сам — темный бог, сошедший на землю, чтобы пожить среди людей. Так или иначе, если брат считался лучшим бойцом в столице, то чем Крис хуже? Он мечтал, что однажды тоже войдет на арену окулуса и будет стоять там, весь покрытый кровью врагов, и наслаждаться тем, как орут обезумевшие зрители с балконов. А потом выберет самую красивую девушку и разделит с ней остаток ночи. А может, возьмет даже двух или трех — там уж как получится.
Проблема заключалась в том, что Криса в темпл темного пока не пускали. Нонны хихикали и строили ему глазки, но затем всегда появлялась какая-нибудь строгая окта и выпроваживала его вон. Как будто их всех подговорил кто-то. Крис знал, что в его возрасте и с его деньгами никто уже не может запретить ему вход к темному. Некоторые из приятелей хвастались, что уже бывали там, развлекались с ноннами и курили опиум. Враки или нет, но в рассказах упоминалось много подробностей, которые сложно выдумать: про розовую воду, которой нонна протирает себя на глазах каждого нового клиента, как бы обновляя чистоту тела для него, и про безликих, которые приносят в нишу кальян. А вот Крису оставалось только ломать голову, что же с ним не так. И бить рыночных, чтобы меньше чувствовать себя изгоем и сахарным мальчиком.
Так он размышлял в это утро. Солнце поднималось все выше над площадью перед темплом светлого, а тень от дерева убегала, заставляя Кристофа ерзать на скамье и все больше поджимать ноги, чтобы удержаться в прохладном пятне. Мальчишки устали, они прыгали и играли перед ним уже не так резво, и ему стало жаль тратить на них монеты, тогда он пригрозил, что вернет постового и плеснул в них остатками пива, а они прыснули от него маленькой дикой стайкой, звеня заработанными деньгами в рваных карманах. Пенная влага в мгновение ока испарилась с раскаленной мостовой, Крис задумчиво посмотрел босоногим детям вслед. Странно, почему попрошаек ему можно купить, а нонну — нет?
Его взгляд, рассеянно скользнувший вдоль все такой же бесконечно длинной очереди, как несколько часов назад, вдруг наткнулся на яркое рыжее пятно в ленте однообразных серых, бежевых и белых оттенков. Сочные локоны блестели на солнце, падали на плечи и обрамляли высокую грудь. Криса на его скамье будто землетрясение тряхнуло. Грудь была очень ему знакома.
Именно эта сисястая украла на выставке в музее его любимые часы.
Он мстительно прищурился. Девчонка прогуливалась вдоль очереди и делала вид, что кого-то ищет, и, пожалуй, только сам Крис знал, чего от нее можно ожидать. Ее наивный наряд — светло-зеленое платьице, строгое, но в то же время кокетливое, с какими-то ленточками и оборочками — уже не мог его обмануть. Он видел сумку на сгибе локтя воровки и замечал, как ловкая ручонка то и дело шныряла туда в боковую складку, незаметную со стороны очереди.
Вот рыжая тронула за плечо какую-то майстру в годах и склонилась к уху, спрашивая что-то. Та покачала головой, мол, не знает ответ, но ее кошелек в это время перекочевал из кармана в сумку воровки. Рыжая прошла дальше, остановилась возле почтенного горожанина с большим пузом. Тот смотрел на нее сальным взглядом и почти не скрывал вожделения. Солнце палило, и сочные локоны продолжали блестеть. Наконец, из сумочки выпал белый платок. Девчонка стала за ним наклоняться, но толстопузый бросился вперед, явно стараясь успеть первым, они стукнулись лбами и схватились друг за друга, рассыпаясь во взаимных извинениях. У него тоже были часы, хоть и не такие дорогие, как в свое время у Криса, а еще бумажник и, кажется, мелочь в карманах, которую не удалось подробно разглядеть.
Горожанин, не замечая, что его обокрали, продолжал глазеть на девчонку и трогать ее за голый локоток, пока она, напустив оскорбленный вид, не отошла дальше к дверям в темпл. Таким же образом ей удалось продвинуться до самого входа, обирая тех, кто отвлекался на ее уловки, или просто шаря по карманам тех, кто стоял к ней спиной. В двери ее пропустил долговязый и прыщавый парень, явно покоренный локонами и грудью и раскрасневшийся, а пока он отвернулся и ругался из-за своего великодушного поступка с возмущенными людьми в очереди, она пошарила у него в кармане брюк и нырнула в здание.
Крис мог бы кликнуть постового или поднять переполох в очереди — уж тогда бы воровку растерзали в клочья. Но он решил поступить по-другому. Пришлось подождать, пока рыжая выйдет на улицу. Показавшись в дверях, та двигалась неторопливо, и Крис сидел смирно в своей тени, но стоило ей отойти подальше и свернуть за угол золоченого темпла, как он двинулся следом. На соседней улице он обнаружил, что девчонка больше не разыгрывает из себя праздную особу, а спешит уйти со всех ног, лавируя между горожанами, которые, наоборот, все еще стекались к темплу.
Он очень боялся потерять ее из виду, но и сокращать расстояние опасался, поэтому какое время они шли переулками, все больше удаляясь от центра. Внезапно Крис чуть не проскочил мимо: рыжая нырнула в простенок между домами и остановилась, чтобы перевести дыхание. Он заметил ее боковым зрением в последний момент и тут же прыгнул обратно, загородив собой обратный выход на улицу.
— Я помню тебя, — прошипел, тесня грудью к стене, — а ну, верни мои часы.
Она уставилась на него огромными голубыми глазами и по-детски растерянно приоткрыла рот, и за эту секунду Крис успел разглядеть, что лицо у нее самое обыкновенное, с блеклыми невыразительными чертами, веснушчатым и сильно курносым носом, а между двух передних зубов видна щель. Все, что в ней было красивого, это волосы и грудь, вот почему только их он в ней и запомнил. А в следующую секунду она так дала ему между ног, что Крис упал на одно колено, а в его глазах в самый разгар жаркого полудня заплясал кровавый снег.
Боль утроила его ярость, а ярость придала ему нечеловеческих сил. Он бросился за ней, все еще прихрамывая, а девчонка не долго думая скинула туфли и полезла через решетку, перегородившую другой выход из проулка. Бедра у нее были гладкие и белые — Крис увидел их, когда она для удобства подоткнула юбку за пояс — а пятки быстро стали такими же черными, как у мальчишек-голодранцев. С грацией дикой кошки рыжая перемахнула остроконечные пики, венчавшие решетку, и спрыгнула по ту сторону. Крис взял барьер с разбега. Внутри него проснулся зверь: он мечтал разодрать ее сразу, как настигнет.
Они выскочили на параллельную улицу, где какой-то добросердечный парень попытался остановить Криса, решив, что тот обижает юную и беззащитную девушку, но быстро отступил, получив в нос. Крепкие пятки рыжей уже мелькали на следующем перекрестке. Крис бросился через дорогу, рискуя налететь на кар, прыгнул в очередную подворотню: рыжая сидела верхом на заборе, ее юбка зацепилась за гвоздь. Воровка окинула преследователя полным ненависти взглядом, рванулась всем телом, оставив после себя светло-зеленый клок. Когда он перемахнул и это препятствие, она поджидала его в засаде. С неожиданной силой толкнув к стене, приставила что-то тонкое и острое чуть пониже пуговицы брюк. Крис предположил, что это могло быть шило.
— Не ходысь за мной, — как дикая лесная кошка прошипела она, — а то без хозыйства оставлю.
Тяжело дыша, они смотрели в глаза друг другу: его серебристый лед против ее небесной синевы. А она ничего, когда злая, совсем некстати подумалось Крису. В порыве эмоций ее черты приобретали выразительность, а веснушки на носу бледнели, зрачки же расширялись, пульсируя на радужке, и все вместе это делало ее почти красавицей. Дикой, преступной и говорящей на жутком наречии уроженки площади трех рынков, но все-таки красавицей.
— Часы отдай, — потребовал он, ощущая покалывание острия в опасной близости от своего мужского достоинства и потому стараясь не делать резких движений, — пока по-хорошему прошу.
— Ничаво-то я не брала, — тряхнула она рыжей копной.
— Брала. В музее на выставке меня обокрала. А ну, верни.
— Ежели и брала, того давнось уже нету, — не уступала она, — сами-то мне подарили, а теперича вобратную отбирають.
— Ничего я тебе не дарил, — терпение у Криса кончилось, он схватил ее руку, попутно отметив, какое тонкое и хрупкое у нее запястье, и выкрутил, заставив девчонку кричать от боли.
Металлический предмет упал на землю между ними, Крис скосил глаза: все-таки шило на деревянной ручке. Другой рукой он рванул ее сумку. Замок расстегнулся, стали видны все награбленные сокровища — часы, цепочки, кольца, украшения и кошельки.
— А это что?
— Откуплюся. Откуплюся, — пронзительно завопила рыжая, и на ее ресницах навернулись крупные слезы.
Когда он сжалился и чуть ослабил хватку, она двинула его между ног второй раз.
Шмакодявка поступает нечестно, подумал Крис, пока сам глотал слезы, выступившие от ужасной боли, стоя на коленях у стены. Женщины не должны пользоваться своим преимуществом в том, что мужчины не могут их ударить. Они должны уступать, раз уж и им идут на уступки. А ниже пояса два раза подряд не бьют даже рыночные во время вечерних стычек.
Когда он доковылял до выхода на улицу, то уже и не надеялся ее увидеть, но оказалось, что через дорогу параллельно с ними идет патруль, поэтому рыжей пришлось обуться и степенно шествовать, чтобы не привлекать внимания. Он так же чинно пошел за ней до угла, а потом они снова побежали.
Наконец, он загнал ее на дерево в чьем-то саду. Девчонка, и правда, была кошкой — никогда еще Крис не видел, чтобы тонкорукие и тонконогие создания так быстро забирались по голому стволу до нижних ветвей, закинув сумку на плечо и сжимая в зубах ремешки туфель. Она уселась там, шипя на него сверху, а когда Крис демонстративно сел под дерево на траву, собираясь держать осаду, кинула в него одной, а затем другой туфлей.
— Все равно я не уйду, — сообщил он, потирая ушибленную макушку, — пока не отдашь мои часы.
— Дались тебе энти часы, — фыркнула она из листвы и смачно хрустнула яблоком, сорванным там же, — чай не дурачок, еще себе такенные купишь.
— Не куплю. Это подарок. На мой день рождения.
— А у меня-то братишки и сестренки голодныи-и-и, — вдруг всхлипнула рыжая, — а он, ишь, злы-ы-ый, сам поди с золотого блюда ест, а бедной семье подарок жале-е-еит. У тебя-то таких подарков буде-е-еит воз и маленькая тележка.
Крис недоверчиво взглянул вверх. Стенала она пронзительно, и на секунду что-то внутри у него дрогнуло. Но потом он вспомнил два предательских удара, которые еще отзывались глухой болью в паху, скорчил ей злобную рожу и погрозил кулаком. Она швырнула в него огрызком и попала в лоб.
— Все равно я выкурю тебя отсюда, — пообещал он, снова мечтая свернуть ей шею.
— Не-а. Счас хозяева как вернутися, как погонят тебя палкой, — девчонка уселась поудобнее и покачала ногой. Снизу Крис хорошо видел ее черную узкую ступню и длинную красную царапину на лодыжке, наверняка полученную во время преодоления заборов.
— Так они тебя скорее погонят. Я скажу им, что ты воровка, да еще и яблоки у них все поела. Вот они тебя этой палкой и выдерут.
— Здоровый аппетит, — похвасталась она и надулась, перехотев с ним говорить.
Крис прислонился спиной к стволу, закрыл глаза и обратился к помощи волчьих чувств. Он слышал, как рыжая дышит и ерзает на своей ветке, а девчонка наверняка решила, что он задремал.
— Платие порвал… — с сожалением пробормотала она, послышался шорох ткани. — Гад педальный.
Крис молчал и делал вид, что его это не касается. Платье ей порвал не он, а гвоздь в заборе. И вообще, не надо было убегать.
— Вот скажу Рыбе, он тебя найдет и охренась как отметелит.
Крис не знал никакого Рыбу, да и знать не хотел.
— И пером тебе печеня пощекочет.
Он не смог подавить улыбку: его молчание явно ее бесило.
— Эй. Ты там теперича уснул что ли?
Выждав немного, рыжая начала осторожно слезать. Похоже, ей казалось, что она делает это тихо и незаметно, но наученный опытом Крис затаился, схватил ее в нужный момент за лодыжку и сдернул. Она кулем повалилась на землю и заплакала, на этот раз по-настоящему, потому что не стала бить его, когда он приблизился.
— Ногу-то из-за тебя подвернула-а-а. Гад, ну как есть гад педальный.
Ее сумка лежала на траве раскрытая, украшения стреляли солнечными зайчиками во все стороны. Ворона, подумал Крис. Никакая она не рыжая кошка, а ворона.
— Вот и неси меня теперича, — мстительно бросила она, приподнимаясь на локтях перед ним, обиженная и взлохмаченная, как дикий зверек. Ее большая грудь высоко вздымалась, внизу платье задралось до самых трусиков, а распахнутые голубые глаза вопрошали: "Неужели ты посмеешь тронуть меня такую?"
Крис пожал плечами, подал ей сумку, сгреб в охапку и понес. В ближайший полицейский участок.
Всю дорогу она сверлила его полным ненависти взглядом, обвивая руками его шею. Крис продолжал делать вид, что его это не касается.
— И не стыдно? — наконец с укором спросила девчонка.
— Нет. Я мог бы поднять шум, еще когда ты работала в очереди перед темплом, но не стал. Я не собирался тебе мешать, мне нужно только получить обратно мою вещь. Только одну, мою, и все. А ты со мной как обошлась? Нагрубила. Так кому должно быть стыдно?
— Да заживуть твои причиндалы до свадьбы, — проворчала она и потупилась. — Сам напрыгнул, как больной. Нет чтоб со всем уважением подойтить.
— А что, все могло пойти по-другому? — усмехнулся Крис.
— Не могло, — призналась она после недолгого молчания, — я все сразу Рыбе сбываю, на руках не держу. Ежели и были твои часы, то давно сплыли.
— А кто такой Рыба? — не удержался он от любопытства. — Твой парень?
С момента кражи в музее прошло достаточно времени, рыжая скорее всего говорила правду, но может часы удалось бы отследить по цепочке перекупщиков?
— Муж, — гордо провозгласила она и вздернула подбородок. — И ежели он тебя увидит, то охренась как отметелит.
Крис очень сомневался, что у такой шмакодявки, которая едва ли старше его сестры, уже есть муж, но кто их, рыночных, знает? Ясно было только одно: на уступки она не пойдет и своих сдавать не станет. Он внес ее в полицейский участок и сгрузил на скамью.
К заявлению пусть и молодого, но благородного лаэрда там отнеслись со всем почтением. Дежурный тут же заставил девчонку обуться и вытолкал в другое помещение, где, судя по всему, находились камеры для задержанных. Та едва держалась на ногах и материлась как сапожник. Крис вспомнил, что полицейских рыночные ненавидели гораздо больше, чем сахарных мальчиков. Затем дежурный отвел его к своему начальнику, который лично помог оформить все в письменном виде.
— И что теперь с ней будет? — поинтересовался Крис, оставляя подпись внизу листа.
Мужчина посмотрел на его фамилию и улыбнулся.
— Все сделаем в лучшем виде. Часы ваши, благородный лаэрд, в розыск пустим, а чернявка эта свое получит. Они, знаете, как тараканы. Их давишь и давишь, а они лезут и лезут из своих подземных щелей. Вы нам план на месяц раскрыть помогли — столько дел на ней одной теперь повиснет. Света белого не увидит, уж поверьте.
Он проводил Криса до двери, на прощание пожал ему руку и попросил передать привет отцу, который занимается такой важной работой в парламенте.
Оказавшись вновь на пыльной и душной улице, Крис задумчиво побрел вдоль дороги. Вся эта беготня вымотала его, он хотел пить и здорово проголодался, а между ног саднило при каждом шаге. Боль не давала ему забыть о рыжей. Теперь на нее повесят все дела, как сказал главный по участку полицейский. Скорее всего, повесят даже то, чего и не совершала — в целях выполнения того же плана. Перед глазами так и возникла сисястая шмакодявка, лежавшая на траве с подвернутой ногой. А когда она не притворяется, то ее и правда жаль. По-настоящему.
Он дошел до скверика, купил себе воды и сел на скамью, усиленно пытаясь радоваться, что нашел похитительницу часов. Жаль, что сами часы уже не вернуть. Их, конечно, станут искать, но вот найдут ли? Не зря ведь говорят — что ушло под землю, пропало навсегда. Отец, правда, до сих пор не знает, что Крис потерял его подарок. Разозлится ли так же, как на Эль?
А вдруг у шмакодявки на самом деле куча братьев и сестер, которых надо кормить? Стал бы он сам воровать ради Эль, если бы пришлось? Крис ни на секунду не сомневался, что стал бы. И Димитрий бы стал. Ради семьи он и убить бы смог при необходимости. И рыжая бы тоже убила — в этом Крис так же не сомневался. К тому же, разве она виновата, что родилась рыночной? Дура она, и ворона, и сиськи у нее что надо, а больше в ней и нет ничего.
Не хорошая она и не плохая. Никакая. А он — почти уже взрослый и могущественный лаэрд.
Крис поднялся со скамьи и пошел обратно в участок. Вопли рыжей раздавались в коридорах.
— Что происходит? — поинтересовался он у дежурного.
— Буйная девка, — улыбнулся тот, — сопротивляется задержанию.
По тому, как парень смочил языком губы и как заблестели его глаза, Крис сразу заподозрил что-то нехорошее. Он направился прямиком в уже знакомый кабинет.
— Не можем мы ее выпустить обратно, — ужаснулся главный, — дело обратного хода не имеет.
Крис опустил взгляд и увидел, что его заявление все еще лежит на краю стола. Он схватил и разорвал бумагу, а клочки сунул в карман.
— А на каком основании задерживаете? — бросил с вызовом.
— Н-но… позвольте… — мужчина побагровел и засуетился. — Вы же сами писали…
— Ничего я не писал.
— Но при личном досмотре обнаружены вещи…
— Это мои подарки. Я их ей подарил. Потом мы поссорились, и я захотел проучить ее. А теперь хочу забрать ее обратно.
Через пятнадцать минут напряженных споров рыжую вывели к Крису. Локоны ее взлохматились еще больше, а на голом плече наливался круглый синяк, но держалась она гордо, подхватила свою сумку и только фыркнула на дежурного, хромая к выходу.
— Что они успели с тобой сделать? — посочувствовал Крис, когда они вместе вышли.
— Покамесь ничегось, — буркнула она, — токма дубинками немногось потыкали через решетку. Энто ночами опасно бы сидеть. Никогось ведь не волнует, что я воровка, а не давалка.
Рыжая сдула с лица прядь лохматых волос, выпрямила спину, перенесла вес тела на здоровую ногу — и вдруг вцепилась в его локоть.
— Ну все, — заявила она с видом победительницы, — теперича ты мне должен.
— Я? Должен? — Крис так удивился, что даже забыл стряхнуть с себя ее цепкие ноготки с немного облупившимся по краям лаком.
— Угу, — важно кивнула она, — за оральный ущерб.
— Может, моральный? — он не удержался и хмыкнул. Въерошенная, шмакодявка теперь походила и на кошку, и на ворону одновременно. Хотя в ее случае правильнее было бы сказать "теперича".
— Да один хрен. Главное, что слово умное, — рыжая подбоченилась, взглянула хитро. — Ну? Как вину будешь искупывать?
Крис только покачал головой от подобной наглости, развернулся и пошел, засунув руки в карманы. Когда его пальцы нащупали там пустоту, он спохватился, быстро вернулся и рванул из ее рук сумку. Его бумажник лежал поверх награбленного. Окинув рыжую сердитым взглядом, Крис демонстративно забрал его. Та вызывающе вздернула курносый нос. Он мстительно пошарил в боковом отделе и сгреб свою мелочь, которая до этого хранилась в другом его кармане, а затем пихнул сумку обратно в руки рыжей.
— Подумайшь, — крикнула она ему вслед. — Да ты чрезчур благородный, чтобы что-то понимать.
Крис призвал на помощь всю свою силу воли, чтобы не оглядываться и не реагировать. Какова шмакодявка, а. Когда успела свистнуть его деньги? В момент, когда он приобнял ее, помогая выйти из участка с хромой ногой? Или пока заговаривала зубы возмещением ущерба?
Он вернулся в сквер, к торговой палатке, в которой чуть раньше покупал воду. Румяный и усатый хозяин прилавка готовил и продавал здесь же и еду всем желающим, а у Криса давно уже свербело в желудке. Он заказал себе куриных крылышек, жаренных в меду и орехах, и принялся ждать заказ, когда за спиной пропищали:
— А мне яблоков в сахере добавьте к счетам.
Продавец застыл над жаровней с деревянной лопаткой в руках и вопросительно посмотрел на Криса. Тот, в свою очередь, медленно повернулся. Взгляд у рыжей невинностью соперничал с младенцем, в руках она теребила сумку и переступала с ноги на ногу, а на губах играла заискивающая улыбка. Крис тяжело вздохнул.
— "В сахаре". А не "в сахере".
— Да один хрен, — ответила рыжая и улыбнулась ему ласково.
Он же кидал монеты попрошайкам, чтобы те его развлекали, успокоил себя Крис, можно и яблок шмакодявке купить, лишь бы отстала. Он сделал знак продавцу, что готов оплатить и этот заказ. Усач ловко расправил бумажный пакет и насыпал туда сладости, а затем вручил девчонке. Рыжая просияла, полезла всей пятерней внутрь, выудила ломтик и сразу же закинула в рот, с причмокиванием облизав грязные пальцы. На ее лице проступило блаженство.
Подоспела и еда Криса, которую продавец подал в картонной коробке. Он расплатился и сел на ближайшую скамью, а рыжая примостилась рядом. Тень от дерева падала тут узкой полоской ровно посередине, и ее прохлады на двоих не хватало. Сообразив это, шмакодявка подвинулась к Крису, плотно прижавшись к его ноге своим бедром с прорехой в платье. Перед его мысленным взором так и возникла эта белая и мягкая кожа, мелькнувшая в момент прыжка рыжей через забор. Ему пришлось потесниться, чтобы не испытывать странные ощущения от соприкосновения с ней, а наглая девчонка снова прижалась и вынудила его двигаться, и в конце концов он оказался под палящим солнцем, а она — в тени.
Некоторое время они ели в молчании. Рыжая умудрялась одновременно жевать, мурлыкать что-то под нос и качать ногой с красной царапиной на лодыжке.
— Как тебя зовут? — поинтересовался Крис, чтобы прервать это фальшивое мурлыканье.
— Ласка, — с полным ртом пробубнила она.
— Очень приятно.
— Что, правда? — рыжая Ласка так обрадованно захлопала ресницами, что Крис вновь заподозрил подвох. — Тебе правдачи-правдачи приятно?
— Так обычно говорят. Из вежливости, — осторожно пояснил он.
Ее глаза так же внезапно потухли.
— М-м, — сказала она и уткнулась в свой пакет с яблоками. Подумала и буркнула: — А тебя как зовуть?
Крис ответил.
— Вот и мне тожа приятно, — кивнула нахмуренная Ласка, — хотя по правды неприятно, и я просто чрезчур благородныя.
В коробке Криса остались кусочки осыпавшихся орехов, он бросил их голубям, которые, воркуя, подкрадывались к скамье. Странная все-таки эта шмакодявка. И на что обиделась?
— А Ласка — это твоя кличка? — предпринял он попытку сменить тему.
— Не-а, — она мотнула головой так, что рыжие локоны взметнулись и рассыпались по плечам, — мамка кликала так. С рождения. Имя как есть мое.
— А почему Ласка?
— Известноть почему, — рыжая улучила момент и пнула слишком близко подобравшегося голубя, — потому что дофига я ласковая.
Птица перевернулась в воздухе, громко хлопая крыльями, грохнулась на спину, тут же вскочила и улетела. Вслед за ней снялась вся стая. У Криса как-то некстати заболело между ног.
— Точно, — произнес он ровным голосом, — и как я сам не догадался?
— Чрезчур благородный, чтобы понимать, — с презрением вынесла она ему вердикт.
Он понимал, что лучше не спорить.
— А у тебя, правда, много братишек и сестренок голодных?
Она посмотрела на него круглыми голубыми глазами и рассмеялась.
— Не-а. Еще чего. Я сама по себе. Бывал у меня токма один братка, старшой, да того ведьма забрала.
— Это как — забрала?
— А вот так, — пожала Ласка плечами, — мамка рассказовала. Болела я в детстве сильно. Помирала. И померла бы. Мамка с браткой по улицам пошли, у людей помощи просить, а никто не помогал. Все думали, что я притворяюся, чтобы за меня денег давали. А ведьма одна остановилася и сказала, что поможет, ежели мамка братку ей в услужение отдаст. Понравится ей братка, видать. И ради меня он согласный был. Мамка растерялась, а он — нет. Братка мой.
Она отложила пустой пакет из-под яблок и погрустнела, все так же качая ногой.
— И что дальше? — поинтересовался Крис.
— Что-что. Вылечилася я. Как есть без лекарств вылечилася. Вообще теперича не болею, хоть голой на снегу буду спать. Чудо, ага. Токма братку жалко. Служкой ведьминым стал. Эх…
— А как его звали?
— Никак, — ее лицо стало суровым, — кто от свободного народа убегнет, тот будто помер. Никто его не признает и имени его не помнит. — Ласка покосилась на Криса и смягчилась: — Токма я помню. Но вслух не говорю. Там, внутрях, храню.
Она стукнула себя кулачком в грудь, дикая и рыжая, как лесная кошка, ее пальцы пахли сахаром и яблоками и казались еще грязнее, чем раньше. Он поймал себя на мысли, что смотрит на нее уже долгое время, и отвел взгляд.
— А у меня брат в темного бога верит и служит ему.
— Да ты брешешь, — выпучила Ласка глаза. — Вы ж все чрезчур благородные.
В ответ Крис только пожал плечами. Он и сам не знал, зачем пустился в откровения. Просто она рассказала о себе, вот он и ляпнул тоже…
— Слухай, — заерзала вдруг рыжая, — а чавой-то ты со мной сидишь? Разве тебе не надобно идтить чем-нибудь благородным заниматися?
— Чем, например? — не понял он.
— Сидеть в своем мраморном особняке на золотом стуле. В зеркало смотретися. Танцовать, — она закатила глаза, воображая. — Разрешать слугам цаловать себе пятки. Лаэрдам своим стихи читать.
Крис криво усмехнулся.
— Все эти дела я уже переделал с утра, — он подумал про Эльзу, запертую в четырех стенах, и перестал улыбаться, — по правде говоря, я просто не хочу идти домой.
— Вот то и я б со скуки там померла, — со знающим видом махнула на него Ласка. — Куда ни плюнь, все из золота. И простыни золотые, и подухи. Видать, жестко спать на таких. А слуги с лицами будто обосралися все ходють.
— Да ты хоть один особняк вблизи видела? — рассмеялся он.
— Я сама в таком особняке живу — тебе и не снилося, — Ласка приосанилась и начала загибать пальцы: — Труба с горячией водой есть. Труба с холодныей водой есть. Отхожее место чистое есть. Никого туда не пущаю, сама единоличная хозыйка. На постели матрац настоящий, с пером. Вытяжка для очага. Да мне половина свободных завидують. А ты чрезчур благородный, чтоб понимать.
— Это под землей? Среди лабиринта из коридоров? Вы там с мамой живете?
— Померла мамка, — Ласка вздохнула, — как есть заболела и померла. Сама живу.
— Это печально, — с пониманием кивнул Крис, а она презрительно фыркнула.
— Это вам, чрезчур благородным, есть время грустить, а мне грустить некогда. Платия красивые покупать на что-то надобно? Кушать добывать надобно? Вот и живу припеваючи.
— А Рыба?
— А что Рыба? — она прищурилась и стала походить на лисицу. — Рыба приходыть и уходыть. Я — свободныя женщина из свободного народа.
— Ты же говорила, что он твой муж, — напомнил Крис.
Ласка снова фыркнула, но на этот раз подкрепила реакцию снисходительным жестом.
— Мало ли что говорыла. Захочу, буду мужкой называти, захочу — перестану. Я — свободныя, понял? Захочу, другого мужку себе возьму, — она смерила его пытливым взглядом, — захочу, даже благородныго выберу.
— Смотри, чтобы он тебя тоже выбрал, этот благородный, — рассмеялся Крис, — а для начала хотя бы понял твой ломаный язык.
— Но ты же выбрал, — невозмутимо заявила Ласка.
— Я? — от этой шутки ему стало еще смешнее. — Ну нет. Я тебя не выбирал.
— Выбирал-выбирал, — она сдвинула брови цвета светлой меди, — своею назвал перед служивыми собаками. А у нас, у свободного народа, кто женщину перед другими своею кликает, тот выбирает ее. А она еще подумает, выбирати его в ответ или нет.
Так подбочениваться, сидя на скамейке в порванном платье, могла, пожалуй, только она. Забавная ворона, решил Крис, у которого от веселья уже сводило живот.
— Да я наврал, чтобы из-за решетки тебя вытащить, — остудил он ее.
— А я чаво, за лаэрду какую не смахну? — рассердилась вдруг она и скорчила страшную рожу. — Вот, смотры. Похоже, будто обосралыся?
— Похоже, — со смехом согласился он.
— Вот. Как есть твоя лаэрда.
Она вскочила со скамьи, запихнула пустой бумажный пакет из-под яблок в сумку, а сумку сунула подмышку и размашисто поковыляла прочь. Ремешок одной из ее туфель остался незастегнутым и волочился по тротуару. Двое прохожих майстров проводили голодными глазами ее подпрыгивающую в гневе грудь. Крис тоже посмотрел вслед рыжей и проверил карманы. Бумажник оставался при нем. И даже место в тени освободилось. Но он зачем-то встал и побрел в ту же сторону, куда ушла Ласка.
Она сидела на парапете фонтана, расположенного в конце сквера, и мыла ноги в прозрачной воде. Лодыжки у нее были стройные и красивые, а пятки из черных постепенно становились розовыми, как у ребенка. Яркое солнце играло бликами на водной поверхности, а на дне, выложенном голубой и бирюзовой мозаикой, светились в его лучах брошенные туристами на счастье монетки. Крис задумчиво порылся в кармане и тоже бросил туда одну.
— Как деньгами разбрасыватися, так здрасьте, — проворчала она, — а как кому подарок подарити, так удавится.
Он присел на парапет на таком расстоянии от Ласки, чтобы та не могла лягнуть его мокрой ногой или незаметно пошарить в его карманах цепкими ручонками.
— Хочешь, я тебе яблок еще куплю?
— Удавися своими яблоками, — зашипела она в ответ. — Некогда мне с тобой сидети.
— А мороженое хочешь?
Она заметно поколебалась, насупилась еще больше и пригладила влажными пальцами свои растрепанные волосы.
— Работать мне надобно. Чрезчур ты благородный, чтоб понимати.
— Жаль, — вздохнул Крис, — а мороженое вкусное, с малиновым сиропом.
Она наморщила конопатый нос, перекинула ноги из воды и обула туфли.
— Некогда. Рыба заругает, что мало принесла.
— Ты же сама говоришь, что свободная женщина. Значит, не зависишь ни от какого Рыбы. А если хочешь, я его побью, чтоб тебя не трогал.
Она откинула голову и захохотала, вмиг перестав сердиться.
— Да ты чрезчур благородный, чтоб кого-то бить. Твое дело — танцевати и слугами командовати. Но так и быти, отведу тебя в одно место, где можно грустить.
— Почему грустить? — удивился Крис.
— Ты же сам сказал, что дома у тебя все плохо и хочется грустить, — с серьезным уже видом пояснила она и протянула руку. — Пойдем. Я научу, как надобно.
Он купил ей мороженое и пошел за ней, радуясь, что хоть этот день пройдет нескучно. С Лаской время пролетало интереснее. Важно вышагивая, она принялась закидывать его вопросами, приправляя любопытство дичайшими мифами о жизни аристократов, наподобие золотых подушек или того, что лаэрды не рожают детей сами, а получают в дар лично из рук святой Огасты. Крис не остался в долгу и тоже позадавал ей вопросы о том, правда ли женщины свободного народа подкладывают своих младенцев кошкам и собакам выкармливать вместе с котятами и щенками, а под землей так темно, что все передвигаются ползком и на ощупь, и если долго не выходить на поверхность, то можно превратиться в крота. Ласка легко поддавалась на провокации и громко возмущалась его невежеством, продолжая жутко коверкать все слова.
Они брели так долго, что заболели ноги, а солнце перевалило на другую сторону небосклона, и наконец выбрались на окраину города к семетерию. Шумные, полные каров и прохожих улицы остались позади, здесь все дышало покоем и полуденным зноем. Семетерий был большим и древним, его разбили тут еще со времен основания столицы. Правда, раньше он находился далеко от жилья, но город рос, расширялась и ограда семетерия, и рано или поздно им предстояло встретиться, подобно двум живущим в долгой разлуке влюбленным.
Одноэтажная, беленая, круглая и лишенная окон семета бросалась в глаза первой, над ее черепичной крышей вился черный дымок, у входа стояли цветы в корзинах и топтались грустные люди. Крису довелось лишь однажды бывать там, внутри — на похоронах деда по материнской линии. Он помнил огромную печь, в которой резво гудело пламя, помнил, как катились слезы по лицу мамы, и каким сверх меры огорченным казался отец. Там, внутри, сладко пахло, и все время хотелось выйти на улицу, а на полках ждали резные медные кувшины, куда складывались пепел и прах, чтобы потом отправиться в землю. Сам Крис и Эльза тогда мало что понимали, но теперь он согласился бы с Лаской: это самое подходящее место, чтобы грустить. Стоит лишь подумать, что рано или поздно они все найдут здесь свой резной кувшин.
— У меня не настолько все плохо, — заметил он вслух.
— Чрезчур ты благородный, чтоб понимати, — фыркнула она и упрямо потащила его дальше.
Одной стороной семетерий подступал к обрыву, под которым изгибалась река, другой — к высоким отвесным холмам, а внутри так густо зарос деревьями, что походил на лес или чей-то запущенный сад. Сторожка смотрителя терялась где-то в этой чаще. Белая ограда была сделана из камня и извести, а у ворот посетителей встречали мраморные святые. Большие, в человеческий рост, они взирали с квадратных постаментов по ту и другую сторону, образовывая почетную аллею. Крис знал их всех по именам и лицам — и нежных девушек в венках и длинных платьях, и строгих мужчин в старинных одеяниях. Знал Аркадия-воителя с мечом в руке и знал бородатого Мираклия, покровителя ученых врачевателей, держащего на ладонях чашу, полную целебного яда. Где-то над всеми ними незримо ощущалось присутствие светлого бога.
А еще Крис знал, почему прислужники темного бога никогда не ставят статуй. Темный бог не любил делить славу ни с кем, он предпочитал поклонение единолично своей персоне. Его постамент, грубый кусок неотесанного черного гранита, тоже находился неподалеку от семетерия, по другую сторону от семеты. Иногда на его поверхности подсыхала чья-то кровь, иногда там появлялись жуткие насечки и царапины, которые со временем сглаживались и подживали, будто раны. Нормальные люди предпочитали обходить то место стороной.
— Ритуал, — торжественно провозгласила Ласка и опять скинула туфли. Крис даже не успел напомнить, что она только недавно помыла пятки. Затем наклонилась, подхватила у ближайшего белого постамента кусок сухой, рассыпчатой земли и швырнула в лицо Аркадию. Комок разбился на десяток мелких и скатился к ногам статуи, не причинив особого вреда.
— Зачем ты это делаешь? — удивился Крис. — В святых нельзя бросаться грязью.
— Это тебе нельзяти, — возразила она, — потому как они твои святыя. Твои путы и твои клетки, в которых вы, благородныя, добровольно запираете себя. А у свободного народа святых нету.
Она подняла новый ком и швырнула его в милое лицо Далии, покровительницы животных и растений. Крису на миг показалось, что от обиды Далия чуть стиснула пальцы на загривке своего ягненка, доверчиво прижавшегося к ее ноге. Ласка пошла дальше, не пропуская никого из статуй в очереди.
— Они тебя накажут, — посулил ей он.
— Ха, — тряхнула она рыжими волосами. — Как они накажути, они ж каменные. И сделаны рукой обычного человека. Вот эта вот помогла мне, кады я болела? Нет. — Комок полетел в очередную белую фигуру. Крис подумал, что вряд ли святая, отвечающая за смену времен года, могла бы поправить Ласкино здоровье, но промолчал. — А этот снизошел, кады мамка моя помирала? Нет.
Засунув руки в карманы, он стоял и смотрел, как босоногая рыжая дикарка с болтающимися на ремешках туфлями в руке и сумкой, полной награбленного добра, швыряет грязью в его святых, перед которыми его с детства учили становиться на колени, и не чувствовал ничего. Ничего, что побудило бы его остановить ее. Что значили святые всего мира по сравнению с ее горящими глазами и белыми бедрами? Он не мог оторвать от нее взгляд, когда она становилась такой: необузданной в своей ярости. Он никогда еще не встречал таких, как она.
— На. Тоже швырни, — Ласка подошла к нему и вложила в руку сухой шершавый земляной ком. — В того, кто тебя обыдел.
Макушкой она доставала ему чуть выше переносицы и поэтому казалась невинной и доверчивой, когда смотрела своими большими глазищами вот так, снизу вверх.
— Меня никто не обижал, — сказал Крис. — Все дело в моей сестре.
— Тады швырни в того, кто обыдел сыстру, — разрешила она.
Он почему-то подумал об отце и покачал головой. Здравый смысл взял верх, и Крис разжал пальцы, позволив комку упасть к ногам.
— Нет. Не буду.
— Потом швырнешь, — ничуть не расстроилась Ласка. — На обратном пути. Вот увидышь, как легче станыт.
Они вошли в семетерий под густую сень душистых акаций и лип. Здесь тоже пахло сладко, но не так, как в семете, а иначе — жизнью, цветами, летом и счастьем, а раскидистые ветви дарили прохладу и тень. Крис не ощущал здесь грусти, только покой.
— Твоя мама тоже где-то здесь? — спросил он у Ласки.
— Не-а, — беззаботно откликнулась она, — в ограде ложуть токма майстров и лаэрдов, кады предварительно пожгут их, а свободный народ не проходыт чрез семету и ложится на пустыре, чуть далее.
— Но ты же говорила, что ходишь сюда грустить?
— Так мы и погрустыли, — похлопала она ресницами и отряхнула испачканные в земле руки, — ты, правдачи, не очень, но это потому что чрезчур благородный и ничаво не понимаешь. Не беда, научишься. А сюда я прихожу крыжовник есть.
Она деловито шмыгнула вперед по заросшим тропинкам, уверенно лавируя среди низеньких побитых непогодой памятников, и Крису не оставалось ничего, как пойти за ней. По левую руку от него открывался вид на реку, оттуда приносил свежесть влажный ветерок. Трещали цикады, и в унисон им Ласка ломилась по сухим веткам, как медведь.
Крису подумалось, что после таких прогулок на ее лодыжках добавится еще больше царапин, и он усмехнулся.
В дальнем конце семетерия, у самой горы, они наткнулись на статую еще одного святого. Белый мрамор ее посерел от времени и отсутствия ухода, а бурелом окружал постамент. Мужчина с косматой короткой бородой был одет в рыбацкий плащ и держал в высоко поднятой руке каменный фонарь, напряженно вглядываясь вдаль поверх голов Криса и Ласки. Святой Игнатий считался покровителем мертвых душ, он встречал их на выходе из тела и провожал до могил, чтобы там они обрели покой. Поговаривали, что если ночью бродить по семетерию, то можно разглядеть свет его фонаря — и после этого навеки сойти с ума и ослепнуть.
— В него тоже грязью кинешь? — спросил у Ласки Крис.
— Нет. Ты что? — возмутилась она. — Это ж наш. Это свой. Святый Игнатый был разбойныком, ты не знал? Но разбойнык он был хорошый и добрый и до сих пор держит свой плащ над нами, чтобы служивые псы путались в наших коридорах и не могли угнаться за нами. Он нам помогает.
Ласка вдруг выудила из сумки кусок засахаренного яблока и пакет и благоговейно положила на постамент к ногам сердитого изваяния, будто бы на тарелочке.
— Разве разбойник может быть святым? — усомнился Крис. — Он был просто могильщиком всю свою жизнь и после смерти им же и остался.
— Чрезчур ты благородный, чтоб понимати, — Ласка даже ногой топнула. — Видишь, он стоит тут сам, а не со всеми? Его изгнали, как и нас. Зато теперича он свободен.
Крис хотел поинтересоваться, как она может верить даже в разбойника-святого, если свободный народ вообще не верит ни во что, но тут рыжая подхватила подол платья и стянула через голову, оставшись в нижнем белье. От этого зрелища у него дух захватило и все мысли вылетели из головы.
— Ну чего рот раззявил? — скептически покачала Ласка головой и накинула свое зеленое платье на фонарь Игнатия. — Раздевайси, если хошь. Там колючки.
Она спрятала сумку под большой камень, а волосы скрутила в узел и затем отважно полезла в еще более густой бурелом.
— Ты уверена… — начал он, а в ответ через хруст веток донесся ее голосок:
— Крыжовник вку-у-усный.
Лезть за ней голым Крис посчитал глупостью, но вскоре пожалел о своем решении, так как колючки оказались еще более приставучими, чем рыжая шмакодявка, и хватали его за одежду там и сям. Все же ему удалось пробраться через заросли. Ласка уже взбиралась на сыпучий холм с той же ловкостью, как лазала по стволам деревьев. Подъем казался непреодолимым, и Крис пару раз едва не срывался вниз, поэтому догнал ее гораздо позже, когда она уже сидела на земляном карнизе посреди горы, болтала ногами и обдирала с ближайших кустов крыжовник.
— Садися, — Ласка подвинулась и гостеприимно похлопала ладошкой по траве рядом с собой. Места тут как раз хватало для обоих.
Когда он сел, она без спроса запихнула ему в рот пригоршню терпких, немытых, лопающихся соком на языке ягод. С высоты открывался красивый вид на реку, город на другом берегу казался игрушечным. Ветер здесь дул сильнее, и жара практически не ощущалась, а по небу плыли белые пушистые облака.
— Ты знаешь, что этот крыжовник вырос из мертвых людей? — проворчал Крис, когда проглотил свое угощение. Теперь его одежда выглядела гораздо более потрепанной и грязной, чем у нее, а вид ее тела мешал ему трезво мыслить.
— Как? — испугалась Ласка.
— А вот так. Корни берут питание из земли, а в земле лежат те, кого кладут в семетерий. В школе учить надо.
— А-а-а, — протянула она и махнула рукой, — так мы высоко. Не достануть твои корни. Да ешь, ешь, не стесняйси. А я и без школы все, что надобно, знаю.
Оказалось, что крыжовник с его кисловатым соком неплохо утоляет жажду, и Крис поел. Потом они сидели рядом, плечом к плечу, болтали ногами и смотрели на реку.
— А ты знаешь стихи? — спросила вдруг Ласка.
Крис знал. Удивляясь сам себе, он прочитал ей по памяти "Когда твоей руки касаюсь нежно", "Прекрасная лаэрда", "Как по весне бегут все реки" и прочую ерунду, которой ему забивала голову в школе майстра Ирис на уроках изящной словесности. Тогда он ненавидел вредную преподавательницу и стихи учил из-под палки, а теперь вдруг даже порадовался, что делал это, потому что глаза у Ласки стали сиять, как два больших голубых солнца, и в них появилось восхищение.
— А я тоже стихи знаю, — призналась она, — но все они про хрен.
И она прочитала ему свои стихи про хрен и некоторые другие органы. Они были короче, чем те, которые знал Крис, и гораздо проще по смыслу.
— Твои стихи лучше, — вздохнул он, а она так засмеялась, что чуть не свалилась с карниза, и ее едва удалось подхватить.
Потом Ласка вдруг повернулась и погладила его по щеке своими пахнущими землей и крыжовником пальцами. Над их головами солнце уходило за гору, а река у ног потихоньку впитывала вечерние тени. Эти же тени легли и на ее лицо, подчеркивая чистые линии, и она снова из обычной девчонки превратилась в красавицу.
— А правдачи, что благородный лаэрд всегда остаетися невинным до свадьбы со своей лаэрдой? — тихо спросила она и больше не улыбалась.
У Криса пересохло в горле: ее пальцы оказались ласковыми. Такими ласковыми, что он раньше и представить не мог. И голос у нее стал другой, тоже ласковый. И имя ей удивительно шло сейчас: Ласка.
— Нет, — выдавил он.
— Хорошо, — сказала она и прижалась к его рту губами.
Поначалу их поцелуй вышел скомканным, но потом дело пошло на лад, и вскоре они сами не заметили, как на небо выкатились первые звезды.
— Ты чрезчур благородный, — хихикнула Ласка, отстраняясь и облизывая свои припухшие губы, — но быстро учишься. Ты можешь стать свободным.
Она взяла его за руку и положила ладонь себе на грудь.
— Здесь можно трогать.
Крис не только трогал, он целовал и тискал ее женское богатство, а она вздыхала и тихонько постанывала под его напором. Он старался доставить ей удовольствие, попутно представляя, что с нонной ему делать этого бы не пришлось. Нонны другие, они существуют, чтобы самим доставлять мужчинам удовольствие. Но эта рыжая девчонка мягкая и ласковая, она пахнет крыжовником и землей, яблоками и грязью, и делает с ним что-то такое, отчего рассудок отключается напрочь.
— Вот видишь, не отбила насовсем, — сообщила Ласка, когда потрогала, каким твердым он стал, — а ты боялси.
Она легла на спину, каким-то чудом уместившись на карнизе, окруженном колючими зарослями крыжовника, и посмотрела на Криса с затаенным предвкушением в глазах.
— А я рада, что ты меня выбрал. Я тоже тебя выбрала. Сама.
Крис на секунду застыл в растерянности над ней. Должен ли он и дальше действовать так, как надо вести себя с ноннами? Или с дикарками из свободного народа это происходит как-то иначе? Все его знания сводились к историям, услышанным от друзей.
— А ты протираешь себя розовой водой после каждого мужчины? — зачем-то уточнил он.
— После каждыго? — ее глаза распахнулись, и в их глубине вспыхнул прежний, презрительный огонек. — После каждыго?
Она оттолкнула его и стукнула кулаком в челюсть, а затем в живот. Крис охнул и согнулся, а рыжая скользнула через него прочь с карниза.
— Я — свободная женщина, — яростно прошипела она напоследок, — а не давалка.
Не успел он опомниться, как Ласка скатилась с горы вниз и исчезла. Челюсть у Криса ныла, и живот — тоже, но все-таки это было лучше, чем получать между ног. Он рассеянно поглядел на реку, подумал о своем доме, оставшемся далеко на том берегу, похлопал себя по карманам, проверяя содержимое: там оказалось совершенно пусто.
В его карманах гулял рыжий ветер.
Цирховия Шестнадцать лет со дня затмения
— Ты похож на эркара, — сказала Петра.
Костер между ними затрещал и выбросил сноп ярко-красных искр в черное небо. Это был темный ночной час, когда хорошо потчевать друг друга страшными историями, сидя у огня, и оранжевые блики играли на ее лице, превращая черты то в лик хищной птицы, то в образ божественной красоты, когда она смотрела поверх языков пламени. Димитрию вдруг стало интересно, как же его девочка-скала выглядит у себя на родине, в национальных нардинийских одеждах. И носила ли она вообще их когда-либо? Кроме того знака на животе ничто в ней не отличалось от цирховийки.
— Эркар? Это кто? Твой бывший парень, сладенькая? — он пошевелил палкой угли в костре, приподнял бровь и ядовито дернул уголком рта.
— Это демон, который ест души, — произнесла она зловещим голосом. — А пустые оболочки выбрасывает. Единый бог спускает его на тех, кто разозлил. Разве в Цирховии не знают таких демонов?
— В Цирховии водится кое-кто похуже.
"Здесь живу я".
Петра кивнула. После того случая на дороге она часто вот так приглядывалась к нему, говорила что-то, а сама будто бы наблюдала за его реакцией. Она боялась. Боялась, что он выключится, и пыталась держать руку на пульсе, чтобы вовремя перехватить и спасти его. Она по-прежнему боялась не его, а за него, ее доверие давило на него хуже каменной плиты. Как он мог теперь не оправдать ее ожиданий?
До океана они все же добрались. Безлюдный песчаный берег тянулся на многие километры в обе стороны от того места, где шоссе делало изгиб, подбираясь к воде ближе всего. Они бросили кар там, на обочине, взяли вещи — Петра удивилась, обнаружив палатку и все необходимое к ней — и преодолели гряды жесткого, пропитанного морской солью кустарника, чтобы выбраться к пляжу.
Он мог бы повезти ее дальше, в красивые мраморные купальни, в гостевые дома, окруженные благоухающими садами, где на открытых деревянных верандах стоят кушетки, застеленные белым полотном, а прозрачные занавеси вокруг них колышутся на ветру, и слуги приносят все необходимое по первому зову. Мог бы. Но там были бы и другие люди, и ему пришлось бы делить свою девочку-скалу с ними, а он не мог ею напиться и надышаться. Он не хотел делить ее ни с кем. Особенно — со страшными голосами в своей башке. Но от этих ему все равно никуда не деться. От себя не сбежишь даже на безлюдный берег океана.
— Расскажи мне еще, — попросил он, усаживаясь поудобнее на остывающем без солнца песке.
С океана дул ветер, и там, в темноте, белели барашки волн.
— Про демонов? — Петра легла на спину и стала смотреть в звездное небо. Ее обнаженное тело казалось выточенным из слоновой кости, на бедрах золотились налипшие песчинки. — Я их не люблю. Да и не видела никогда. Их видно только в опиумных парах.
— Ты никогда не курила опиум?
— Нет, — ее лицо оставалось гладким и спокойным. — Это тебя удивляет?
— Немного. Все-таки ты — часть своей страны.
— Нардиния — это не только поля опийного мака, — Петра поджала губы в тонкую линию, — это сады оранжевых апельсинов, красной хурмы, фиолетового инжира, поля белого винограда и золотого пшена. Это зеленый берег, желтый песок, голубые воды океана, железные бока кораблей у причалов и терпкий запах специй на рынках.
Она покосилась на Димитрия и добавила уже мягче:
— Мой брат давно стал рабом опиума. Собственно, из-за него меня и продали дракону.
Ее дракон. Вот кого бы он убил с удовольствием. Разорвал бы в клочья, как когда-то того нардинийского полукровку с недоразвитыми крыльями, который рискнул бросить ему вызов в окулусе.
— Расскажи мне об этом побольше, сладенькая.
Петра дернула плечом.
— Давай я лучше тебе расскажу про морскую суку? То есть, вообще-то она — богиня океана, но все между собой называют ее морской сукой за то, что она топит корабли во время штормов и забирает себе моряков.
— Что она с ними делает? Ест? — усмехнулся Димитрий.
— Нет. Делает мужьями. Они все — ее мужья, и каждую ночь она выбирает, с кем лечь в постель. У нее большой выбор, но ей всегда хочется еще больше новых мужчин. А женщины выплакивают себе глаза, ожидая их на берегу с детьми на руках.
— Ну… она неплохо устроилась в своей вечной жизни.
— Неплохо устроилась? — Петра подскочила на локте и нахмурилась.
— Конечно, — со смехом отвечал он, — представь, сколько удовольствия она получает, постоянно пробуя кого-то нового.
— Кого-то нового?
Димитрий едва успел перехватить кулачки Петры, когда она прыгнула ему на грудь, с ее пальцев посыпался песок, и он фыркнул.
— Ты тоже хотел бы постоянно пробовать кого-то нового? — спросила она, нависая сверху над ним, вся голая, соленая от воды и золотистая на фоне черного неба.
— Нет, — ответил он уже без тени улыбки. — Мне нужна только ты.
Ему, действительно, нужна была только она. Но она не могла дать ему того, что было ему нужно. "Когда ты сделаешь это? — хохотали внутри голоса. — Когда ты сломаешь ее? Когда убьешь? Когда съешь ее душу?"
— Докажи, — Петра наклонилась и стала целовать его, одновременно просовывая руку между их бедрами. — Сделай это.
Эти слова так наложились на шепот в башке, что Димитрий вздрогнул. Нет, она не должна узнать, что они по-прежнему с ним. Он сказал ей, что все прошло. Он не может позволить ей увидеть, что на самом деле они рядом.
— Докажи, — шептала Петра и терлась об него всем телом, — скажи, что любишь меня.
Он резко отвернул голову и скрипнул зубами, а она засмеялась.
— Ну почему, Дим? Это же так просто. Скажи "лю-блю", — она нажала на уголки его рта, забавляясь. — "Лю-блю". А то я подумаю, что ты предпочел бы мне морскую суку.
Предпочел бы. В некотором роде. Наверно, та бы сильно удивилась.
— Я не умею любить, — проворчал он вслух.
— Но ты же любишь. Я вижу, что ты меня любишь. Осталось самому тебе признать это.
Признать. Есть вещи, которые тяжело признать. И в которых еще тяжелее признаться.
— Чего я точно не люблю, — он сгреб ее, визжащую, в охапку и вскочил на ноги, — так это когда у женщины между ног один песок. Это ранит, знаешь ли… очень ранит…
— Нет, Дим, — Петра сопротивлялась, но куда уж там ей против него, большого и сильного. — Нет. Только не купаться. Вода уже холодная. Не-е-ет.
Он зашел по пояс в черные волны с белыми барашками на вершинах и бросил ее туда, а потом прыгнул следом. В первый день приезда сюда они тоже купались так — только прямо в одежде. Петра настолько соскучилась по океану, что побежала к воде, не раздеваясь. А когда Димитрий подошел — затащила и его. Они барахтались и смеялись, все мокрые, а ткань липла к телу. Было хорошо.
Костер, пылающий на берегу, оставлял на воде оранжевую дорожку, когда они вынырнули. У Петры тряслись от холода губы, но глаза сияли подобно звездам над головой. Она подплыла к Димитрию, стоявшему на мягком песчаном дне, и обхватила его ногами. Ее рот был соленым, а соски — острыми.
— Ты же сам сказал, что я — часть своей страны, — напомнила она, покачиваясь вместе с ним в волнах, — а у нас в Нардинии песка не боятся. У нас даже трон императора создан из песка и человеческих костей.
— Неужели? — он обхватил ее круглые твердые ягодицы ладонями, скользнул пальцем между ними, улыбнулся, когда девочка-скала выгнулась от этих прикосновений.
— Правда, — она отчаянно старалась не сдаваться так быстро и сохранять рассудок, и это лишь больше заводило его, — только песок давно окаменел и костей почти не видно. Когда первый император Нардинии высадился на ее берегах со своим войском, ему пришлось сражаться за эту землю. Много людей полегло в битве против драконов, их тела поглощала насыпь, а от драконова пламени песок плавился и превращался в глыбы. Когда все закончилось, в память о событиях из одной такой глыбы и сделали трон. Чтобы никто не забывал, какой ценой он достался.
Она осеклась, откинула голову и закрыла глаза, а под водой прижалась своими раскрытыми складками к его члену.
— На сегодня, пожалуй, хватит о богах и драконах… — пробормотал Димитрий, собирая языком капельки воды с шеи девочки-скалы.
Костер будто отодвинулся дальше, и вместе с ним берег, и небо, и дно. Они превратились в двух рыб, скользящих друг по другу влажными холодными телами, переплетающихся в волнах, играющих то над поверхностью, то в глубинах. Петра оказалась рыбой похитрее, она нырнула вниз, улучив момент, когда он вынырнул, чтобы глотнуть воздуха, и коснулась его губами. От этих легких, едва ощутимых, как биение крыла бабочки, прикосновений Димитрия прошибло разрядом тока. Она целовала его грудь, и живот, и жесткие волосы в паху, и бедра, а потом, наконец, добралась до самого вкусного.
Но ему хотелось большего. Хотелось надавить на ее макушку, вколотиться в горло и остаться так, ощущая, как она начинает дергаться, задыхаясь. Маленькая золотая рыбка… однажды у него уже была одна такая, и он отпустил ее, договорившись с чудовищем внутри. Но как договориться с двумя?
Он вскинул руки, обхватил свою многострадальную башку и заорал. Костер трещал на берегу, и спокойно чернела ночь, и ветер уносил вдаль все звуки над волнами. Там, под водой, женщина, которую он до безумия любил, дарила ему свою любовь, и боль в его крике смешивалась с удовольствием.
Потом уже кричала она. Когда он вынес ее и положил у самой кромки воды, и волны пенились у них в ногах. Кричала, и извивалась на мокром песке, и истекала влагой. Костер почти догорел, собственное хриплое дыхание вибрировало в барабанных перепонках. Толчок, вспышка, темнота, удовольствие, боль, шепот, хрип, толчок, вспышка, темнота…
Это были их мир, их ночь, их океан и их берег. Их счастье, их любовь. Его тайные голоса. Только его, и ничьи больше.
Когда Петра уже спала безмятежным сном под брезентовой крышей их палатки, Димитрий приподнялся, подоткнул ей под спину легкое одеяло, чтобы не мерзла. По утрам, перед рассветом, ощущалось пронзительное дыхание приближающейся осени, а его девочка-скала в своей хрупкой человеческой оболочке нуждалась в защите и тепле.
Он вышел под звездное небо, постоял немного, вдыхая легкую гарь затухшего костра, соль ветра и далекий, едва уловимый аромат жареной рыбы. Затем повернулся и пошел, ступая босыми ногами по холодному песку, за этим следом в воздухе, спокойный, уверенный, неторопливый. Голоса в ожидании, что их покормят, молчали. Тишина — блаженство, гораздо большее даже чем то, что он недавно испытал с женщиной. Надо сделать это. Надо понять, чего же они хотят взамен Петры. И дать им все.
Раньше, по крайней мере, у него получалось находить равноценную замену. Получится и теперь.
Примерно через полчаса он наткнулся на них. Здесь костер горел ярко, пламя освещало брошенную на песке походную сковороду с остатками ужина, а пять мужских фигур дремали в круге света. Темнел у черты прибоя округлый бок рыбацкой лодки, на берегу подсыхали снасти. Пахло рыбой: свежей, пряной и готовой, еще более пряной и даже сладковатой.
Одна из фигур пошевелилась, заметив, что из темноты к ним крадется чудовище, но поначалу испугалась несильно, видя своими слабыми глазами лишь его человеческий облик, только пробасила:
— Эй. Ты кто?
Димитрий на ходу наклонился вперед, вытянул руки, упал на четвереньки — земли коснулись жесткие подушки волчьих лап. От движения огонь затрепетал над углями, тени взвились, как отражения в зеркалах, превращаясь то в человеческие фигуры, то в звериный силуэт. Кто-то бежал, кто-то кричал, кто-то падал. Чудовище, мощное, великолепное, танцевало то на двух ногах, то на четырех, упиваясь музыкой, текущей из собственных рук. В полутьме кровь казалась черной, черные цветы расцветали на песке, из мягких, теплых скульптур складывался особый, причудливый узор, и творец его весь был черным с головы до ног.
Он отпустил в себе все самое темное, потаенное и больное, и отстраненно наблюдал своим человеческим разумом за происходящим. Тело, тренированное, сильное, одинаково хорошо приученное убивать и любить, двигалось само по себе, металлический привкус заполнял все уголки рта, забивал ноздри. Где кроется его предел? Найдет ли он ту черту, которая его остановит? В тщетных поисках ответа его руки погружались в раскрытые бутоны чужих грудных клеток, а зубы распарывали тугие мышечные волокна еще трепещущих чужих сердец. Задаваясь этим вопросом, он лежал среди тел, бездумно глядя в огромную черную бездну, нависшую над ним, и тысячи мелких белых глаз смотрели оттуда на него и шептали: "Сделай это".
— Я сделал, — сказал он им, а они захохотали:
— Ты сделал не то.
Петра вздрогнула, когда он скользнул под ее одеяло. Не оборачиваясь и не открывая глаз, она ощупала его рукой и в полусне пробормотала:
— Холодный, Дим. И… мокрый?
— Купался, — он поцеловал ее в шею совсем рядом с выступающим позвонком и нашел ладонью теплую мягкую грудь.
Ему пришлось смыть с себя кровь в океане перед тем, как возвращаться в ее постель. Хорошо, что девочка-скала не обладала волчьим обонянием и не могла учуять тот смрад, который все равно въелся в кожу.
— Не спится, что ли? Сумасшедший… — ее ладошка, прежде безвольно лежавшая, вдруг стиснула одеяло.
Он двинулся внутри, прижимая Петру спиной к своей груди, целуя ее шею и плечи, сначала медленно, потом все быстрее.
— Я сплю… я же сплю… — прошептала она и все так же не открывая глаз повернула голову, чтобы встретить его губы. Он разрядился почти в тот же миг, и Петра придержала его за бедро: — Останься так. Не выходи. Люблю, когда ты во мне.
— И я, сладенькая, люблю это тоже, — вздохнул он.
На следующее утро она улыбалась.
— Кофе? — еще взлохмаченная после сна, девочка-скала выбралась из палатки и приняла из рук Димитрия кружку с горячим напитком. — И яичница уже готова? М-м-м, я тебя обожаю, ты — лучший мужчина на свете.
— Лучше дракона? — с кривой ухмылкой спросил он и за это получил ее слабым кулачком в плечо: — Ну вот, опять меня избивают.
Петра скорчила ему рожицу, присела у костра, поджала голые ноги, зябко нахохлившись в его рубашке:
— Я уже и забыла, как может быть сыро у воды по утрам.
Он молча сходил в палатку, принес одеяло и укутал ее от поясницы и ниже. Петра засмеялась:
— Страшно представить, как бы ты трясся над своей беременной женой.
Продолжая улыбаться, она в упор уставилась на него со странным блеском во взгляде.
— Ты не волчица, — спокойно ответил Димитрий, — я уже объяснял тебе.
— Объяснял, — согласилась девочка-скала, — ты сказал, что от тебя может забеременеть только волчица, такая же, как ты. А я могу забеременеть только от человека или дракона. Но помечтать мне ведь никто не запрещает?
Он пожал плечами.
— Не вижу смысла в пустых мечтах.
— Ну и зря, — Петра хитро прищурилась. — Я бы родила такую розовую ляльку…
— Мы не рождаемся розовыми. У волчат при рождении уже белая кожа и темные волосы.
— Розовую ляльку, — продолжила она, делая вид, что не слышит его ворчливый тон, — с маленькими красными пятками и, так уж и быть, темными волосами.
Он покачал головой и закатил глаза, а девочка-скала вдруг засопела и отвернулась.
— Когда-нибудь ты бросишь меня ради какой-нибудь волчицы, чтобы она рожала тебе детей, да?
— Что? — он на секунду потерял дар речи, а затем выхватил полупустую кружку из ее рук и отправил на песок, чтобы не мешала прижиматься и обнимать. — Глупая. Какая же ты у меня глупая.
Он целовал ее в волосы и гладил по щеке, а Петра отворачивалась и упрямо бормотала:
— Никакая я не глупая. Женщины нужны мужчинам, чтобы рожать им детей.
— Конечно, вот пусть идут и рожают им. А ты побудь со мной, ладно?
Он наклонил голову, чтобы заглянуть ей в глаза, и Петра снова расслабилась и засмеялась, а ее лицо разгладилось, будто туча, на миг заслонившая солнце, прошла дальше по небосклону.
— Ладно. Сама не знаю, что на меня нашло. Ты прав, мечтать вредно.
Ему пришлось отдать ей свою кружку с кофе взамен пролитой, и вскоре они уже непринужденно болтали, пока Петра случайно не бросила взгляд ему за спину. По тому, какой серьезной она стала, он сразу все понял.
— Смотри, — тихо проговорила она.
Ему не нужно было оборачиваться, чтобы узнать, что там, но он все-таки обернулся. Вдалеке над песчаным берегом кружили серые тени.
— Это птицы, сладенькая. Хочешь сделать пару фотографий?
— Это не просто птицы, — она нахмурилась, — это стервятники.
— Наверно, какую-нибудь большую рыбу выкинуло прибоем, и они собрались попировать. Не смотри туда, ладно?
Петра послушно отвела взгляд, но было заметно, что мыслями она то и дело возвращается к увиденному. Димитрий вспомнил, как расцветали черные цветы и танцевало чудовище, и решительно выдохнул.
— Знаешь что, сладенькая? Поехали дальше? Мы достаточно насладились природой, пора побаловать себя культурным отдыхом. Хочу купать тебя в мраморных бассейнах и любить после того, как слуги натрут ароматным маслом.
Он старался говорить заманчивым голосом, расписывая ожидающие их наслаждения, но Петру, казалось, не особо это тронуло. Она бросила еще один, совсем короткий, взгляд в сторону птиц и пожала плечами:
— Ну хорошо. Как ты хочешь, Дим.
Он хотел только одного — чтобы эти гребаные голоса в его башке заткнулись.
Собрав вещи, они двинулись в путь дальше по побережью, и про стервятников Петра вскоре забыла. Она с любопытством изучала бегущий за окном пейзаж и что-то тихонько напевала под нос. Навстречу стали попадаться дома: двух и трехэтажные особняки с большими окнами и опоясывающими верандами, где было много воздуха и света. Они располагались на достаточном расстоянии друг от друга, и девочке-скале стало интересно, кто в них живет.
— Те, кто устал от жизни в столице, — пожал Димитрий плечами.
Когда потянулись фруктовые сады, напоенные светом и влагой, Петра пришла в еще больший восторг. Она попросила ехать помедленнее, увидев впереди добротный фермерский дом.
— Как ты думаешь, они продадут нам немного фруктов? Я так соскучилась по настоящим, свежим, спелым фруктам прямо с дерева.
— Давай узнаем, — он свернул на обочину и остановил кар перед серыми тяжелыми воротами, одна створка которых была приоткрыта.
На их голоса вышла девушка — явно фермерская дочка — с круглыми розовыми щеками, грубыми руками, постоянно мнущими от смущения подол цветастого платья, и широкими бедрами. Раззявив рот, она уставилась на дорогой кар, затем — на Димитрия, и наконец — на Петру, которая едва сдерживалась, чтобы не улыбаться при виде такой наивной простоты. Кое-как из девчонки удалось вытянуть, что старшие уехали в ближайший город продавать урожай, а то, что едва поспело, они с деревьев еще не снимали.
— Ну, может быть, вы найдете для нас корзиночку? — умоляющим голоском протянула Петра и похлопала ресницами. — Мы вам хорошо заплатим. Заплатим ведь, Дим?
Он кивнул. Что-то щекотало в ухе, и проклятая селянка лупилась на него своими коровьими глазами так, будто подозревала недоброе. Его давно уже не трогал страх в чужих взглядах, но глухое раздражение все же шевельнулось в груди.
— Я поищу, благородная лаэрда, — пробормотала девица и густо покраснела, — то есть, майстра… то есть…
— Петра, — улыбнулась девочка-скала и погладила ее по руке.
Селянка, краснее помидора, бросилась в дом.
— Какая она милая, — сказала ей вслед Петра, втянула носом воздух и откинула голову, — как же здесь спокойно и хорошо.
В ухе становилось все более щекотно. Димитрий украдкой коснулся слухового прохода и посмотрел на пальцы: на них была кровь. Он тут же стрельнул глазами в Петру, но девочку-скалу влекло любопытство, она уже отвернулась и изучала сад.
— Погуляй тут. Я пока рассчитаюсь, — коротко бросил он и поспешил в чужой, пахнущий прелыми фруктами и сырым деревом дом.
Селянка возилась на кухне, собирая в корзину сливы, яблоки, груши и вишню, Димитрий с порога услышал, где она, и безошибочно двинулся на звук. Половица скрипнула под ногами, на креслах дремали кошки, а в клетке чирикала желтая канарейка. Несмотря на этот щебет, девчонка все же услышала гостя: она столкнулась с ним, когда он вошел в кухню, и попятилась, по-прежнему держа приоткрытым рот. На широком рабочем столе по ее левую руку лежали подпорченные фрукты, а отборными она уже успела наполнить корзинку до половины.
Солнце светило в окно, в мойке подсыхала на дуршлаге свежевымытая смородина. Селянка попала в нее рукой, когда, наткнувшись спиной на преграду, интуитивно нашла точку опоры. Он взял ее за запястье и медленно, глядя в ее коровьи, с поволокой глаза, облизал перепачканные давленым соком пальцы. Она побледнела от ужаса.
— У вас… у вас кровь…
Почему они всегда говорят какую-то глупость, когда он трогает или целует их вот так? Он вынул из кармана складной нож, щелкнул лезвием, и девчонка стала белой, как стенка.
— Не бойся, — ласково улыбнулся он, проводя большим пальцем по ее дрожащим приоткрытым губам, — это всего лишь цветок. Красивый, мягкий цветочек с нежными лепестками.
Она посмотрела на острие, затем снова — на него. Сделала резкий вдох, собираясь закричать, он зажал ей рот ладонью, из-под руки вышло только приглушенное мычание. Ее груди походили на две большие прелые лепешки, когда вывалились из разрезанного лифа. Он укусил одну, глубоко вонзая зубы в податливую теплую плоть. Провел "цветком", легко, без нажима. И снова укусил. И снова провел. Поднял голову, чтобы полюбоваться на следы, оставленные на рыхлой коже.
Селянка мычала, и дергалась, и смотрела на него, как корова — на топор мясника. Он вытер кровь в ухе обрывком ее испорченного платья и порадовался, что новой больше не появилось. С того момента, как тоненькие красные струйки побежали по животу девки, его собственное кровотечение прекратилось. Он посмотрел, куда убегают по ее телу ручейки, и от этого взгляда селянка тяжело задышала. Он ухмыльнулся.
Белье на ней было серое от многочисленных стирок, но чистое. Он срезал и его. С брезгливостью посмотрел на куст волос. Перехватил ее за горло и толкнул к столу. Девчонка нелепо взмахнула руками, едва не сшибла корзину, а подгнившие с боков яблоки раскатились в разные стороны.
— Возьми-ка сливу, — великодушно предложил он.
Она в недоумении выпучила глаза, тогда пришлось погладить ее по щеке цветком, чтобы быстрей соображала. Селянка схватила ближайшую сливу, темно-синюю, с чуть ли не лопающейся от сока кожурой.
— А теперь засунь ее в себя.
Девчонка отчаянно замотала головой: его пальцы все еще сжимали ее шею, не позволяя вырваться ни звуку.
— Засунь. А то я снова тебя поглажу. И поцелую.
Помертвев, она чуть раздвинула бедра и опустила руку вниз.
— Вот так. Ш-ш-ш, моя хорошая… вот так… — он провел языком по ее щеке, слизывая такие сладкие слезы, — тебе нравится?
Она снова замотала головой: "нет", а он улыбнулся.
— Тогда засунь вторую.
— Дим?
Голос Петры раздался издалека, но его реакция была быстрой. Он схватил девку, толкнул ее в простенок за шкаф с посудой, стоявший у порога, приставил нож к горлу и пристально посмотрел в глаза. Та застыла по струнке, но в ее глазах читалось отчаянное желание, чтобы их обнаружили.
— Дим? Ты куда пропал?
Девочка-скала искала его в доме, он слышал ее шаги по тем же самым скрипучим половицам, по которым недавно ступал сам. Канарейка пронзительно верещала, а кошки на мягких лапах спрыгнули с кресел.
— Ди-им?
Петра дошла до кухни и остановилась на пороге. Ее сердце билось ровно и спокойно — не чета трепыхающемуся комочку в груди селянки, которую укрывал всего лишь шкаф. У Димитрия сердце не билось вообще. "Сделай это, — вкрадчиво шепнул ему голос. — Убей ее, если она войдет. Потому что если она увидит тебя таким… она все равно не будет твоей больше".
Но девочка-скала постояла по ту сторону от преграды и ушла обратно. Ее шаги переместились на другую половину дома. Он медленно отодвинулся от селянки, поцеловал ее в щеку и убрал нож.
С Петрой он столкнулся у выхода из дома.
— Где ты был? — удивилась она и посмотрела на корзину с фруктами в его руках. — Я начала волноваться.
— Боялась, что меня тут лишат чести? — ядовито ухмыльнулся он и подтолкнул ее к порогу.
— Нет… — растерянно протянула Петра, — просто… ты куда-то пропал…
— Я всего лишь рассчитался за покупку.
Он, действительно, рассчитался. Селянка получила достаточно денег за свои фрукты. И за молчание.
Вот теперь его сердце заколотилось. Уже направляя кар на шоссе, он без конца думал о том, что хотел сделать, и чего не сделал, потому что Петра чуть не вошла. И что сделал бы с ними обеими, если бы девочка-скала все же к нему шагнула.
Петра испугалась, когда тормоза взвизгнули и кар остановился, а он схватил ее за плечи, потянул на себя, отчаянно нуждаясь в ласке и жаре ее тела. В том лекарстве, которое хоть как-то помогало ему сохранять рассудок, балансируя на краю. Он сталкивал в эту пропасть многих, но сам… сам он не хотел туда падать.
— Посмотри на меня, — он обхватил лицо своей девочки-скалы в ладони, когда она кое-как втиснулась и оседлала его колени.
— Я смотрю, Дим, — ее глаза были большими и слегка испуганными, и в их глубине плескалось его слабое отражение.
— Я люблю тебя. Слышишь? Только тебя.
— Ну вот видишь, — с облегчением улыбнулась она, — как все просто, а ты спо…
Петра осеклась и впилась зубами в нижнюю губу, потому что он уже расстегнул штаны и сдвинул в сторону ее трусики.
— О-о-о, Дим… — застонала она, цепляясь руками за спинку сиденья за его головой, — ох-х-х, как хорошо… как же хорошо ты делаешь это со мной…
Человек внутри него бесконечно шел со свечой по краю пропасти. И сегодня эта свеча едва не потухла.
Они поселились в небольшом городке на побережье, почти уже у самой границы с Нардинией, в гостевом доме, который держала подслеповатая богатая старуха. Димитрий снял лучшие комнаты: большие, с огромными окнами и широкой верандой, с дорогой мебелью и декором, они занимали добрую половину второго этажа. Лежа на кровати, можно было видеть океан. Внизу, на первом этаже, располагалась терасса со столиками, чтобы гости имели удовольствие обедать и ужинать на свежем воздухе, и шезлонгами для любителей подремать на солнышке, а за домом находился сад, полный экзотических растений.
Он ожидал, что Петра придет в бурный восторг, но та лишь пожала плечами с улыбкой. Роскошь апартаментов оставила ее равнодушной. Зато позабавил разговор с хозяйкой, который состоялся, пока они расплачивались за проживание вперед.
— Она посчитала нас молодоженами, — хихикнула девочка-скала, прикрыв рот ладошкой, пока слуга нес впереди ее чемодан, а старуха осталась у своей конторки пересчитывать наличные.
— Что ж, не будем ее разочаровывать, — Димитрий подхватил ее на руки, легко занес вверх по лестнице и повернулся к слуге: — Шампанского мне и моей благородной жене-лаэрде.
Петра, откинув голову, хохотала.
— Ну нет, — сказала она, отсмеявшись, когда он поставил ее на ноги в центре гостиной, — все же видят, что я — никакая не лаэрда. Как они могут в это поверить?
Он мог бы сказать ей, что здесь любую, кого бы он ни привез с собой, назовут так, как ему будет угодно, лишь бы доставить удовольствие состоятельному гостю. Мог бы. Но промолчал. Эта правда стерла бы улыбку с лица его девочки-скалы. А кому нужна такая правда?
Ночью ему приснилась Эльза. Они снова стали детьми в родительском доме, и он сидел у ее кровати, а сестра обнимала его. Только в этот раз ему было не остановиться. Он укусил ее за плечо, а потом кровавым ртом поцеловал прямо в губы. В руке сам собой оказался нож. Он полоснул по горлу Эльзы, а затем приник и стал пить горячую, сладкую кровь, фонтанчиками брызгающую прямо на язык. Дикий огонь наполнял его желудок, распространялся по всему телу, собирался тяжелым сгустком внизу живота. Покончив с сестрой, он сделал то, о чем так мечтал всю свою сознательную жизнь: прошелся по темным коридорам и зарезал в своих постелях и брата, и мать, и слуг, и всех-всех, кого только сумел найти в доме. Только отца не тронул. Он стоял над ним, мирно спящим, и мечтал убить его больше, чем всех остальных вместе взятых. И даже руки поднять не мог.
Тогда он повернулся и вышел из особняка, и на пороге его ждала Петра, такая, как была днем, улыбающаяся и счастливая. Димитрий выдохнул с облегчением, понимая, что теперь больше ничего не стоит между ними. Он свободен и может провести с ней остаток всех своих дней.
Он проснулся, обнаружив, что хрипит и бьется на влажных от пота простынях, а девочка-скала сидит и гладит его по спине, другой рукой прижимая к груди его голову.
— Это плохой сон, Дим, — шептала она и целовала его в мокрый висок, — я рядом, все хорошо. Ш-ш-ш, это плохой сон.
Вся его жизнь была одним сплошным плохим сном. До появления девочки-скалы, конечно. Усилием воли Димитрий приказал себе успокоиться, отодвинулся от нее и лег на подушки. За окном шелестел океан и ночной ветер раздувал белые шторы на распахнутых окнах, превращая их в паруса неведомых кораблей.
— Опять голова болит, да? — Петра целовала его лицо, безразличное и окаменевшее, его неподвижное тело. — Я сейчас помогу. Я знаю как.
Ночь была темна, и когти чудовищ рвали его мозги на части, а нежные женские губы скользнули по шее вниз. Она сдвинулась на измятых простынях, гибкая, как змея, и он откинул голову и закрыл глаза, не в силах устоять перед наслаждением. Ее рот был влажным, и ощущения отличались от тех, что он испытывал внутри ее тела, но казались даже острее, приятнее. Дикий огонь, который мучил его во сне, весь сконцентрировался где-то под ее умелыми руками, прокатился по стволу члена и ударил ей в рот. Она не отпрянула и тогда, вбирая его в себя до капли.
— Не надо было этого делать, — сказал Димитрий, когда обрел способность что-то говорить.
— Надо, — Петра, сидевшая на постели у него в ногах, беззастенчиво вытерла губы тыльной стороной кисти, — это всегда успокаивает твои боли. Расскажи, что тебе снилось?
Он фыркнул. С какого конца этой занимательной истории бы начать? Петра потянулась и накрыла ладошкой его насмешливо искривленные губы.
— Расскажи, — с серьезным видом попросила она, — пожалуйста.
Димитрий отбросил ее руку, встал с постели, подошел к дверям на веранду, отодвинув в сторону штору. Ветер холодил мокрую грудь, небо уже серело: миновал самый темный час перед восходом. Океан катил к берегу свинцовые воды, где-то вдалеке слышались пронзительные крики птиц.
Петра прижалась к нему со спины, голая, едва заметно дрожащая, ее руки сомкнулись поперек его живота.
— Не сердись. Я все равно буду любить тебя, Дим, — прошептала она, — даже если ты не расскажешь.
— А если расскажу? — холодным тоном отчеканил он. — Будешь любить меня после этого?
Она сглотнула.
— Да. Даже не сомневайся.
И он рассказал. Не ту неприглядную правду, которую стоило бы — кому нужна такая правда? Просто говорил и говорил, глядя на океан: об отце, для которого всегда был разочарованием, а не сыном; о матери, которая стыдилась, что его родила; о брате, которого объявили наследником вместо него, и о сестре. Об Эльзе он рассказывал особенно много. Петра тихонечко обошла вокруг и теперь обнимала его спереди, подняв голову и заглядывая в лицо.
— Ты любишь ее, — нежно улыбнулась она.
— Я ее ненавижу, — покачал головой Димитрий. — Их всех. Всех ненавижу.
— Они просто не знают тебя, — девочка-скала приподнялась на цыпочки и поцеловала его в губы, — так, как знаю я. Если бы знали — то все было бы по-другому. Ты просто никогда не показывал родным настоящего себя.
Это она его не знала. Это ей он еще не показывал настоящего себя. Один раз, правда, чуть не открылся, но потом еще глубже затолкал все внутрь. Чудовища сильны, а маленький волчонок — слаб, и ему не хватало силы духа пожертвовать эгоистичными моментами счастья даже ради безопасности любимой. Как и сейчас — не хватило смелости рассказать, что же ему снилось.
Утром они завтракали на террасе. Точнее, Димитрий завтракал, сидя в кресле, закинув ногу на ногу, попивая густой ароматный кофе и почитывая местную газетенку, а Петра лежала рядом на шезлонге, и одна из служанок растирала ей плечи. Он хмыкнул, подумав, что становится похожим на отца: тот тоже любил за завтраком уткнуться в газету. На самом деле, буквы плохо складывались в слова — в голове снова шумело — но это был способ отвлечься.
Случайно подняв глаза от строчек, он бросил взгляд на девушку, склонившуюся над Петрой. Ее длинные темные волосы блестели на спине, руки споро работали, а груди под простым форменным платьем колыхались. Она тоже посмотрела на него в ответ, ее улыбка показалась ему понимающей и очень порочной. Благородный лаэрд устал от своей любовницы, говорили глаза девушки. Благородный лаэрд может получить здесь все, что только пожелает.
Он желал того, что вряд ли заставило бы ее улыбаться.
— Можешь идти, — прозвучал спокойный голос Петры.
Что-то в этом голосе заставило его насторожиться. Что-то, терзающее его догадками и раньше, но постоянно ускользающее из-за проклятого шепота в башке.
— У нас в Нардинии есть постельные рабы и рабыни, — Петра села, прижимая к груди полотенце, потянулась и взяла со столика свой кофе. — Их берут, когда жена по каким-то причинам не удовлетворяет мужа. Или муж — жену.
— Другого мужика я рядом с тобой не потерплю, сладенькая, — ответил он с ледяной усмешкой.
— А речь сейчас не обо мне, — все так же спокойно парировала она. — Если тебе меня мало…
— Проклятье, да мне тебя более чем достаточно, — вспылил он и швырнул чашку на дощатый пол террасы. — Хватит меня изводить своими подозрениями.
Слуга с тряпкой тут же подбежал, чтобы все убрать. Другой — поднес им за столик новую порцию кофе. Петра наблюдала за ними, застыв, как мраморное изваяние.
— Прости меня, сладенькая, — поморщился он. — Я идиот, что накричал. Пойдем куда-нибудь, погуляем. Это безделье сводит нас с ума.
— Я только переоденусь, — кивнула она и ушла, выпрямив спину.
Отправившись с ней в город, Димитрий очень старался загладить вину от утренней ссоры, но оттаяла девочка-скала, только когда они вышли на парусной яхте в океан. Она надела длинное белое платье, столь отличающееся от ее привычных шортиков и маек, что он не мог оторвать глаз от нее. Пошушукавшись с капитаном, Петра встала за штурвал, и, глядя, как ветер лепит ткань к ее фигуре, как уверенно она стоит на палубе и с какой улыбкой смотрит вдаль, он чувствовал себя влюбленным мальчишкой. Яхта летела вперед по волнам, а матросы небольшой команды одобрительно перемигивались.
— Не знал, что ты умеешь управляться с кораблями, сладенькая, — пробормотал он, обнимая ее сзади и утыкаясь лицом в плечо.
Здесь, в водной стихии, девочка-скала позабыла все обиды и снова стала мягкой и нежной.
— В детстве у моей матери служил один раб, Бакар, который когда-то был моряком, — призналась она. — Отец подарил мне яхту, когда узнал, что я хвостом хожу за Бакаром и слушаю его байки, а старый раб научил меня всему, что знал. Мы с ним избороздили всю гавань и даже охотились на морскую суку. — Она засмеялась. — Правда, не поймали. Морской суке нужны сильные мужчины, а не старики и дети.
Вот теперь Димитрий понял, что же не мог ухватить все время.
— Насколько знатная у тебя семья, сладенькая? — спросил он, проводя кончиками пальцев по ее плечу.
Петра снова стала, как камень.
— С чего ты взял, что знатная? Рабы у нас водятся повсюду, как у вас — слуги, а лодку умеет сколотить даже нищий.
— Просто интересно, почему девушка, которая разговаривает с незнакомой служанкой уверенным приказным тоном и умеет управлять кораблем, отказывается взять себе в помощь слуг у нас дома.
— Потому что я уже не та девушка, — отрезала она и даже не поморщилась, когда волна перехлестнула через борт и брызнула им в лица белой пеной, — и той девушкой быть не хочу. Ту девушку не спасли ни рабы, ни титулы, когда ее брат промотал все наследство и ее продали дракону. Мне нравится жизнь, которой я живу сейчас. С тобой.
Димитрий еще раз провел ладонью по голому, гладкому, соленому от брызг женскому плечу.
— Я могу купить долги твоего брата.
Петра откинула голову и рассмеялась, сердито и зло.
— Тогда, пожалуй, тебе придется самому лечь к дракону в постель. Потому что никаких денег не хватит.
— Что ж, — вздохнул он, обошел ее и оперся локтем на штурвал, — по крайней мере, никто из тех, с кем я ложился в постель, еще не оставался неудовлетворенным…
Теперь она расхохоталась уже по-другому и стукнула его в плечо. Ее смех был таким, как Димитрий любил. От удара он застонал и согнулся, упав на колени, а Петра не на шутку испугалась, начала извиняться и совсем не ожидала, когда его руки обхватили ее бедра, а лицо уткнулось ей в живот. Она завизжала, и от крушения на рифах их спас только капитан яхты, вовремя предложивший взять на себя обратно командование кораблем.
Когда они сошли на берег на пристани, возвращаться в комнаты не хотелось. У причалов женщины торговали рыбой и моллюсками, а вольные моряки свистели проходившим мимо красоткам и танцевали под гитару. Петра прогулялась вдоль торговых рядов и купила ожерелье из ракушек, которое немедленно повесила Димитрию на шею. Он затащил ее чуть дальше в ломбард — хорошего ювелирного салона, как в столице, тут было днем с огнем не сыскать — и приобрел красивый рубиновый кулон на длинной золотой цепочке. Красные искры от него так и скакали по загорелой коже Петры.
Увидев, как украшение смотрится на ней, Димитрий снова не совладал с собой. Они занялись любовью прямо в безлюдном узком переулке за ломбардом, при свете дня. Кулон подпрыгивал между обнаженных грудей Петры, пока Димитрий прижимал ее к шершавой стене дома, и девочка-скала кусала губы, ерошила его волосы и шептала: "Сумасшедший", а где-то на улицах совсем рядом с ними шумела и кипела жизнь. Это было хорошее сумасшествие, правильное, и он очень боялся времени, когда наступит ночь, и чудовища вновь обретут в нем дикую силу.
Выбравшись, наконец, к людям, посмеиваясь и поправляя одежду, они наткнулись на пьяного старика в расшитом белом одеянии, который звонил в колокольчик и выпрашивал у прохожих пожертвование на обустройство темпла.
— Кто это? — притихла Петра, разглядывая его издали и цепляясь за локоть Димитрия.
— Служитель светлого бога, — равнодушно пожал тот плечами.
— Но он же шатается от спиртного…
— Ну… если б меня заставили служить светлому, я б тоже каждый день бухал.
— Богохульник, — она стукнула его по руке, но сама не смогла скрыть улыбку. — Надо дать ему монету.
— Мне ты не стала давать монету, когда нашла у реки, — с притворно грустным вздохом напомнил он. — Сказала, что я ее пропью. Думаешь, он поступит иначе?
— Тебе я отдала свое сердце, — мстительно прищурилась она и протянула раскрытую ладошку, — так что не жалуйся и давай деньги.
— Избивают, — покачал Димитрий головой, — грабят, и это посреди белого дня.
Но деньги он ей, конечно же, дал, и Петра потащила его ближе к старику, чтобы внести пожертвование. Тот оглядел их красными глазами и дыхнул алкогольным парком.
— Спасибо, благородные господа. Скажите свои имена, чтобы я испросил милости для вас у светлого бога.
— О, не надо, — поддалась на его льстивый тон Петра, — я вообще из другой страны и… э-э-э-…
— Купи себе похмелиться, отец, — закончил за нее Димитрий и хотел отойти, но старик уцепился в девочку-скалу мертвой хваткой.
— Тогда я попрошу долгих дней и здоровья для ваших детишек.
— У нас нет детишек, — покраснела Петра и робко взглянула на Димитрия.
— Как это — женаты и нет детей? — тряхнул косматой головой служитель и, видимо, прочитал ответ по ее лицу: — Али не женаты? Не порядок. Богопротивно это, когда любят друг друга без благословения высших сил. Еще пару монет, благородные господа, и я вас прямо сейчас поженю.
По глазам легко читалось, как же ему хочется заработать, а доверчивая девочка-скала стала совсем красной и все пыталась его убедить, что ничего из этой затеи не получится.
— А давай, — сказал Димитрий, которого все происходящее начинало забавлять, и вынул из кармана купюру.
— Ты что, Дим? — вспыхнула она. — Это же не будет считаться по-настоящему. Я вообще гражданка Нардинии, и у нас с собой нет никаких документов.
— Вот именно, — он наклонился и поцеловал ее в губы. — Нет никаких документов. И никто здесь не знает, что ты из Нардинии. И все это не по-настоящему.
Теперь она, наконец, поняла его замысел.
— Все равно это плохо, — произнесла суровым шепотом и засопела: — Мы только что… ты меня там, за ломбардом… мы…
— Скрепили брак чуть раньше его заключения, — Димитрий снова поцеловал ее. — Расслабься, дорогая. У нас впереди еще полноценная брачная ночь.
Их заминка привлекла зевак и вокруг стала собираться толпа. Глаза у Петры лихорадочно блестели, но она всегда была смелой, его девочка-скала. Она расправила свое длинное красивое платье и огляделась. Одна из женщин подарила ей букет цветов взамен венчального венка, узнав о событии. А потом все засвистели, закричали и зааплодировали.
И там, прямо на улице недалеко от пристаней крохотного провинциального городка, среди запаха рыбы и под гитару матросов, пьяный служитель светлого бога их и поженил.
Без имен. Без документов. Не по-настоящему.
Зачем он позволил ей в тот день напоить себя? Хотя нет, они оба были уже пьяны, от своей любви, от счастья, от запаха океана и от криков толпы, когда их губы коснулись друг друга под заключительное благословение. Зрители, ставшие вдруг и гостями праздника, потащили их в ближайшую таверну. Димитрий сразу дал хозяину все деньги, которые у него при себе оставались, и попросил больше не беспокоить, и вино, пиво, эль и сидр полились рекой.
Почему он не заподозрил ничего, когда понял, что в голове тихо? Наверно, он не хотел об этом думать. Мечтал хотя бы на один день насладиться тишиной просто так, без всяких условий. Желал ощутить себя обычным человеком, одним из тех многих, что пили и веселились вокруг.
Его женщина танцевала, белое платье то и дело кружилось в центре таверны, рубиновый кулон сверкал. Мужчины — молодые и старые — не сводили с нее глаз и становились в очередь, чтобы потанцевать с невестой. Петра раскраснелась, на щеках играл румянец, а взгляд то и дело находил Димитрия среди толпы. Он не пил и не ел, просто сидел за столом со случайными свидетелями их торжества и смотрел на нее, не в силах наглядеться.
В свои комнаты они верулись затемно, и он тут же потребовал шампанское. Много, много шампанского, чтобы наполнить целую ванну, стоявшую в соседней комнате у окна.
— Зачем такие траты, Дим? — шептала Петра, уворачиваясь от его поцелуев и пытаясь одновременно сбросить с ноги туфлю.
— Потому что я хочу, — он схватил ее за плечи, заглянул в глаза, слишком возбужденный ее танцами среди толпы, слишком охваченный тишиной и молчанием своих чудовищ. — Я так хочу. Понятно?
Наконец, достаточное количество бутылок было принесено, открыто с громкими хлопками и вылито в емкость. Он разорвал на Петре ее чудесное платье, едва за последним слугой захлопнулась дверь — она только смеялась. Они залезли в щекочущее пузырьками шампанское и целовались, как умалишенные, слизывали сладкую жидкость друг с друга и ласкали друг друга губами и языком.
— Дим, — хихикнула она, когда его язык оказался у крохотной дырочки между ее ягодиц, и вывернулась из рук. — Это уже слишком.
— Для меня ничего не слишком. Ничего, — будто со стороны слышал он свой сухой лихорадочный шепот. — Особенно с тобой. Ты моя теперь. Моя жена. Моя навсегда.
— Но это только понарошку. Это неправда.
— Сегодня пусть будет правда, — он целовал ее ключицы, терзая пальцами уже другой, привычный вход между ее ног. — Позволь мне. Один раз. Один маленький разочек. Я больше не попрошу.
— Что позволить, Дим?
— Все. Разреши мне сегодня все, что я хочу.
— Я разрешаю, — она смотрела огромными распахнутыми глазами, зрачки в них пульсировали от желания, а у него мутилось в голове от сладости шампанского и вкуса ее кожи.
— Ты будешь любить меня все равно?
— Я люблю тебя, Дим. Я уже тебя люблю.
— Повтори это.
— Люблю.
— Я больной ублюдок, сладенькая, — он погладил ее по лицу, оставляя влажные следы, — я хочу, чтобы ты это знала.
Петра схватила его за запястья, на ее лице блуждала блаженная хмельная улыбка.
— Я в это не верю, Дим. Но даже если и так — мне уже все равно.
Они оказались на кровати — простыни стали мокрыми от шампанского — и он раздвинул ее ягодицы и лизал ее там, доводя до криков. Поднял голову, Петра оглянулась на него через плечо, глаза казались мутными от страсти.
— Еще. Сделай это еще. Люби меня.
— Я хочу по-другому, — он куснул ее за бедро, глядя с мольбой и надеждой, — но тебе будет больно.
— Очень больно? — напряглась она.
— Нет. Немножко. Но все-таки. Я обещал, что больше никогда не причиню тебе боли, поэтому без твоего разрешения не могу.
Петра повернулась, придвинулась к нему на край кровати и обхватила руками и ногами.
— Мне больно видеть, как ты не находишь себе места, Дим, — проговорила она, покрывая поцелуями его лицо, — больно замечать, как ты смотришь на других женщин.
Он поморщился.
— Я смотрю на них не так.
— Но ты смотришь. И ты постоянно голоден. Я не знаю, как насытить тебя. Давай попробуем, если это поможет. В конце концов, сегодня ты мой муж…
Петра слабо улыбнулась, а он едва не застонал от того, как разом нахлынули голоса. Не надо было этого делать. Не стоило просить. Конечно, он подозревал, что она не откажет. Это он, он сам должен был сдерживать себя, но ванна была полна шампанского, и кажется будто минимум треть ее он выпил…
Он бросил Петру поперек кровати, она не сопротивлялась, тяжело дыша и глядя на него снизу вверх. На ее груди все еще блестел рубиновый кулон — она вздрогнула, когда он сорвал и отшвырнул его, а ему было просто страшно, что любая вещь вокруг ее шеи может стать для него последней каплей. Он лег рядом и ласкал ее пальцами, то погружаясь внутрь, то скользя вокруг входа в ее тело, дожидаясь, пока она кончит первой.
Он почти не помнил, как она стиснула колени и содрогнулась — его уже начинало выключать. Пугающая темнота накрывала сознание, не спрашивая разрешения, просто надвигаясь подобно цунами. Он не заметил, как в руке сам собой оказался нож. Петра лежала на животе, склонив голову на руки, доверив ему свое тело. Она даже не дернулась, когда он провел лезвием по ее спине, от лопатки до поясницы. Спиртное, их горячие ласки и его намерение ее уберечь сделали свое дело. Кровь выступила из неглубокого пореза, Димитрий растер ее рукой по гладкой коже, встал над Петрой на колени, трогая себя другой рукой.
Это было так приятно, что его согнуло над ней. Хриплое дыхание и его мучительные, рваные стоны переплетались с ее неподвижным молчанием. Наконец, белые капли брызнули на красную кровь. Вот теперь Петра дернулась. Димитрий, в полусознании, провел ладонью по женской спине, перемешивая два цвета в единый розовый. Красивый, желанный, самый лучший цвет в мире. Цвет его любви. Цвет оскаленных пастей его чудовищ.
Петра приподнялась на локтях и спокойно на него посмотрела. В глазах — ни капли желания, ни капли удовольствия или прежнего восторга.
— Тебе, правда, понравилось?
Лучше бы она заорала на него, ударила или обозвала больным ублюдком. Его невозможно любить, за него нельзя выходить замуж и, уж конечно, ни при каких условиях от такого, как он, недопустимо рожать детей.
Он не помнил, как встал и ушел.
Он обнаружил себя на берегу за пристанями. Стояла ночь… его брачная ночь, сказал он сам себе и хрипло рассмеялся. Эти звуки привлекли к нему внимание веселой компании, собравшейся неподалеку у костра. Трое парней и портовая девка повернули головы и посмотрели на него, лежавшего на песке. В ответ на них уставилось чудовище. Костер навевал ему другие воспоминания, и снова захотелось распускать черные цветы и танцевать…
Он предавался воспоминаниям слишком долго, его соседи успели потерять к нему интерес. Димитрий перевернулся на бок, положил руку под голову и стал наблюдать за ними. Девка времени даром не теряла и вскоре улеглась на спину, а между ее ног устроился один из парней. Димитрий лениво огляделся — хорошее они выбрали место, в этот час тихое. Вряд ли тут кто-то мог им помешать.
Первый клиент подергался на девке и откатился в сторону, второй приступил к делу неторопливо, что заставляло третьего нервничать и скакать в нетерпении вокруг них. Шлюха поймала взгляд Димитрия и улыбнулась. Он улыбнулся в ответ: его чудовища лязгали голодными зубами.
Наконец, она встала, отряхнулась и нетвердой походкой направилась к нему. Он оставался на месте и даже не шелохнулся. Парни у костра удивленно смотрели ей вслед.
— У нас тут не бесплатный цирк, господин хороший, — наглым голоском протянула девка, возвышаясь над Димитрием в ворохе своих коротких и помятых юбок. — За просмотр тоже деньги берутся.
Он будто бы очнулся, оглядел себя: одет, в карманах что-то есть… только настоящее чудовище может быть таким благоразумным. Это снова насмешило его, и девка хмурилась и притопывала ножкой, ожидая, пока его отпустит. Он достал и бросил ей монету, она нимало не смутившись подхватила ее с песка.
— А за шуршащую деньгу я и тебя обслужу, милашка, как вон тех вон обслужила, — расплылась она в некрасивой улыбке.
"А за пару монет я вас и повенчаю…" Что-то он развеселился сегодня не на шутку. Купюра неизвестного достоинства — в темноте лень было разглядывать — перекочевала в ладошку портовой шлюхи. Ее приятели у костра сообразили, что она нашла нового клиента, поднялись и ушли прочь. Девка повернула его на спину, встала между ног и принялась возиться с одеждой. В другом кармане Димитрий нащупал что-то холодное и гладкое. Нож? Нет, цепочка с кулоном, которую он зачем-то подобрал с пола, когда уходил.
Шлюха, наконец, справилась с пуговицами и достала его твердый и прямой член. Двинула рукой вверх-вниз и облизнулась.
— Ого, какое сокровище ты прятал. Вот теперь работа будет в удовольствие.
Она гнусно захихикала, а он повесил ей на шею цепочку и завязал концы. Потом грубо отпихнул ногой так, что она плюхнулась на спину.
— Иди помойся. Ты грязная.
— Куда идти? — не поняла она.
— Вон туда, — он кивнул в сторону темнеющего океана.
Возможно, в другой раз она бы и отказалась, но он уже заплатил вперед, и кулон ей понравился тоже. Стянув одежонку с худого тела, девка обхватила себя руками и пошла в воду. Он, наоборот, привел себя в порядок, поднялся и пошел за ней. Она стояла по пояс в волнах и зябко протирала плечи, делая вид, что моет их. Он ее прекрасно понимал — ветер поднялся и пробирал до костей. Схватив за цепочку, он утянул ее под воду. Стоял так, закрыв глаза и улыбаясь, пока пузыри воздуха лопались на поверхности, а под водой его жертва молотила руками и ногами, царапала ему запястья и все еще надеялась выплыть. Последнее, что еще удавалось ухватить сознанием, как он отпихнул ее от себя, и она поплыла, покачиваясь на волнах, туда, куда несло течением. Маленькая мертвая рыбка.
Цирховия Шестнадцать лет со дня затмения
Это было самое обычное, невыносимо скучное лето. Как хорошо, что оно подошло к концу. Единственным событием, хоть сколько-то заслуживающим внимания в нем стало то, что Эльза доигралась. Конечно, к этому все и шло. Она всегда была слишком чиста и наивна, а чтобы жить счастливо, следует иметь более циничный взгляд на вещи.
И вот, как результат, из-за нее страдают другие люди. Уж подруга — если она и впрямь верная и настоящая — могла бы побеспокоиться, каково теперь Северине, у которой больше друзей-то и нет. Но она наверняка волновалась только о своем человеческом парне, с которым ее разлучили, а на остальных плевать хотела.
Северина тосковала по Эльзе, злилась на себя за это дурацкое чувство и злилась на нее за ее безразличие. Она пыталась поговорить хотя бы по телефону, но на каждый звонок мать подруги отвечала неизменно вежливым, но твердым тоном, что не может позвать дочь к трубке. Вышколенная прислуга ни под каким предлогом не соглашалась делать что-то в обход хозяйки. Но самым худшим стало то, что вместе с Эльзой для Северины оборвалась и тоненькая ниточка связи с Димитрием.
Теперь она понятия не имела, как он живет. Бывает ли дома? Раньше это удавалось узнать хотя бы из дружеской болтовни. Она слонялась вокруг их особняка, но так и не наткнулась на него даже случайно, а привратник делал вид, что ее не замечает. Швея исправно приносила сплетни, но в них фигурировали другие люди, а он будто бы вообще пропал с горизонта. Дневник Северины пополнялся все более откровенными рисунками и отчаянными, на разрыв, стихами. Дома, в своей спальне, она не вылезала из его одежды. Она сходила с ума от мыслей о нем.
Единственной отдушиной оставался майстер Ингер. Северина чувствовала, что привязалась к нему, хоть и не стоило — разве мясник стал бы привязываться к теленку, которого растит для бойни? Но она была сделана не из железа и камня, как хотелось бы, а из обычной плоти и крови и тоже страдала от своих слабостей. Например, от любви к людям. Правда, планомерно старалась эту слабость в себе искоренять.
Он тоже привязался к ней — что входило в часть плана. И у него тоже имелись слабости. Например, слабость к женскому телу. Он совершенно не умел противостоять голой женщине. Северина радовалась, что в свое время безошибочно раскусила его.
Майстер Ингер не мог не открывать ей двери: боялся, что если не сделает этого или вовсе на какое-то время съедет, она сядет под порог и будет сидеть там до его возвращения, а ее заметят соседи и пойдут слухи. Северина делала все, чтобы только укрепить его в этих страхах, она действительно могла стоять и стучать в дверь, пока не щелкнет замок, или бродить под окнами несмотря на палящее солнце или холодный дождь.
Поначалу, во второй или третий визит, майстер Ингер, впуская ее, пытался вести какие-то беседы, увещевать и уговаривать, но проблема решалась просто: Северина не надевала под одежду нижнего белья. Стоило поймать ладонь блондина и сунуть себе под подол, как он мигом забывал все, что хотел сказать, и превращался в податливую глину в ее руках.
Каждый раз, столкнув своего учителя в пропасть запретной страсти, Северина не уходила сразу, разговаривала с ним, убеждала, что они в полной безопасности и он может ей доверять. Постепенно она и сама втянулась в эти разговоры. Он много спрашивал о смерти ее матери, об отце, а потом вздыхал, гладил ее по голове, прижимал к плечу и называл бедной одинокой девочкой. В такие минуты она и сама казалась себе такой: бедной и одинокой. На самом деле, конечно, она давно разучилась себя жалеть.
Долгими летними вечерами, не зажигая свет, они с майстером Ингером сидели на диване в гостиной, пили чай с мармеладом и тихо беседовали. Он поделился с ней, что мечтает накопить денег и открыть свою собственную спортивную школу для детей.
— Для детей не старше тринадцати лет, майстер Ингер, — сказала, услышав это, Северина, — ну а если старше, то только для мальчиков.
Он мучительно покраснел. Она ухватилась за это чувство вины и старательно культивировала его и впредь.
— Если бы вы тогда не показались мне голым… — страстно шептала она, устроившись на полу между его ног. — Вы просто свели меня с ума…
— Когда я выйду замуж, то все равно буду вас вспоминать, — твердила, прижимая его ладонь к низу своего живота, чтобы он почувствовал ее мягкость и влажность.
Она и правда собиралась его потом вспоминать. С благодарностью.
Но чаще они просто сидели на диване и болтали, как друзья. Однажды он сыграл ей на гитаре, вспомнив свои студенческие времена. И, к радости Северины, все меньше видел в ней ребенка, а все больше — женщину. Прежде резкий противник курения, в какой-то момент ответил спокойным взглядом, когда она при нем закурила. А главной победой для Северины стало то, что майстер Ингер ей ответил. Когда она в очередной раз довела его ртом до оргазма, он поднял ее с колен, уложил на диван и сам принялся целовать между ног. Это было приятно, она лежала и улыбалась, представляя на его месте Димитрия. С тех пор их ласки стали взаимными и все более откровенными. Теперь она не просто соблазняла его, они любили друг друга почти по-взрослому.
Тогда наступила пора следующей части плана.
— Это наш последний вечер, — сказала Северина майстеру Ингеру в последний день августа. — Лето закончилось, и наш роман — тоже.
Она сидела перед ним голой и держала на коленях его большого белого кота. Блондин чуть напрягся и посмотрел на нее с болью во взгляде.
— Твоя одержимость мной наконец-то прошла?
Она улыбнулась так, что стало не разобрать, кто из них холодный и сдержанный взрослый, а кто — ребенок, которого перестали любить.
— Валериан, — он всегда краснел, когда она называла его по имени, — ты же сам неоднократно твердил мне про дистанцию. Ты — мой учитель. Я — твоя ученица. Нельзя, чтобы в школе пошли слухи о нас. А они обязательно пойдут, потому что я не смогу… — тут Северина зажмурилась и проронила слезинку, — не смогу делать вид, что ничего не чувствую к тебе. Но мы договаривались, что никто не узнает. Пусть это лето навсегда останется нашей маленькой тайной. Даже ценой моего разбитого сердца.
— Ты права, Северина. Но… — майстер Ингер осекся, покачал головой и придвинулся к ней ближе, — моя бедная девочка, что я сделал с тобой…
— Вы ничего не делали, майстер Ингер, — она умышленно перешла на официальный тон, после тихого и интимного "Валериан", — это я сама… я сама вас полюбила…
— Чем я могу тебе помочь теперь?
— Знаете что… — Северина сделала вид, что задумалась, — переспите с кем-нибудь. Со взрослой женщиной, которая не будет заставлять вас стыдиться. А я… я тоже с кем-нибудь пересплю.
— Ты что? — испугался он. — Тебе нельзя. Ты должна беречь себя для мужа. Я не тронул твоей невинности, но это не значит, что любой другой мужчина будет таким же бережным с тобой. Ты должна дождаться настоящей любви.
— Вы — моя настоящая любовь, майстер Ингер, — пролепетала Северина, опустив ресницы, мокрые от слез, — и вы так приучили мое тело к ласкам, что я теперь обожаю заниматься любовью. Выберу какого-нибудь одноклассника, они все сейчас озабоченные стали. Это ведь будет правильно? Надо выбирать парнеров себе по возрасту, ведь так?
— Ты снова делаешь глупости.
— А это уже вас не касается, понятно? — закричала она. — Мы расстаемся, майстер Ингер. Сегодня — наша последняя ночь. Я все равно не выйду замуж девственницей, я все для себя решила. Вы правы, желающих куча найдется. Но не волнуйтесь, вас я никогда не поставлю под удар.
Он нервно провел ладонью по лицу, вскочил, отошел к шкафчику с напитками и налил себе выпить.
— Ты очень горячая по характеру, Северина, — пробормотал он, стоя к ней спиной, — но в глубине души очень маленькая и ранимая. Ты сама не понимаешь, каких дров собираешься наломать…
Она аккуратно спустила с колен кота, пригладила длинную пушистую шерсть на загривке домашнего любимца, потом поднялась и, ступая так же мягко, по-кошачьи, подошла и встала с ним рядом. Взяла из руки стакан и отпила, глядя в глаза.
— Какая разница, если все это будет уже не с тобой, Валериан?
Он мучительно застонал, стискивая зубы. Северина нежно погладила его по щеке, заросшей светлой щетиной.
— Мой единственный, любимый, мой первый мужчина. Давай сегодня просто напьемся, и ты сыграешь мне на своей гитаре напоследок?
Он выхватил у нее стакан, одним махом глотнул остатки спиртного.
— Ты точно для себя все решила?
— Ты знаешь мое упорство, — улыбнулась она.
Майстер Ингер ее поцеловал, но не так, как раньше — осторожно и трепетно. Грубо и жадно.
— Думаешь, я позволю, чтобы какой-то жалкий мальчишка порвал тебе там все, думая только о себе? — со злостью прошептал он.
— Это уже не ваше дело, майстер Ингер. Не ваше… — Северина взвизгнула, когда блондин подхватил ее на руки.
— Мое, — он выругался не совсем подходяще для ее "детских" ушей, — я не выношу мысли, что кто-то полезет на тебя.
— Кто-то… кроме тебя, Валериан? — она запустила пальцы в волосы на его затылке и заглянула в глаза. — У меня все равно будут мужчины после тебя, мы оба это понимаем. Но первый… первый должен оставить самые лучшие воспоминания.
Он понес ее на кровать, и все получилось даже почти не больно. Майстер Ингер приложил максимум усилий, чтобы у Северины осталось приятное впечатление от потери невинности. Потом, когда его, как обычно, скрутил приступ раскаяния, и он сидел на краю постели, согнувшись и обхватив руками голову, Северине стало так его жаль, что даже дрогнуло сердце.
— Спасибо тебе за все, — она обняла его за плечи, пожалуй, самым искренним из всех их объятий и поцеловала в щеку. — И прощай, моя любовь.
Он закричал и швырнул что-то тяжелое в стену, когда она, улыбаясь, закрывала за собой дверь.
Но с началом школьных занятий Северину тоже ожидало неприятное открытие. Эльза больше не посещала уроки. Ей наняли домашних учителей, как нехотя пояснил Кристоф. Домашних учителей? В последний год перед выпуском? Когда все остальные девчонки наперегонки шили себе платья и обсуждали, с кем пойдут на праздничный вечер? Когда саму Северину так и распирало рассказать лучшей подруге об интрижке с майстером Ингером, поделиться своими ощущениями от секса с ним, не упоминая его истинной роли, конечно же?
Место за учебным столом по соседству с Севериной пустовало день за днем, и ей казалось, что это огромная дыра зияет в ее душе. Она приперла братца Эльзы к стенке и вынудила любой ценой передать подруге записку.
— Хоть в трусах пронеси, — прошипела Северина в лицо Криса, — но чтобы Эль ее получила.
Он смерил ее взглядом, выхватил бумажку из рук и спрятал в карман, а потом ушел. К счастью, роль почтового голубя удалась ему на славу, и вскоре она получила ответ в виде смятого тетрадного листа. Эльза просила ее навестить Алекса в госпитале и передать пару теплых слов. Самой Северине теплых слов не предназначалось, кроме разве что сухого "спасибо".
Они не виделись больше месяца — и никаких тебе сплетен, никакой дружеской переписки. Только сухие рубленые дежурные фразы… и просьба про Алекса.
Все же к Алексу Северина поехала. Он лежал в палате для послеоперационных больных, и оказалось, что возле его кровати днями и ночами дежурит мать — злая тетка с запавшими глазами и осунувшимся лицом. Та с порога напустилась на молодую волчицу, обвиняя в том, что из-за нее пострадал сын, но Северина так глянула, что тетка мигом язык прикусила, и отчеканила:
— Как вы смеете разговаривать в подобном тоне со мной, благородной лаэрдой? С дочерью лаэрда и члена парламента, а также почетного советника самого канцлера?
— Пропусти ее, мама, — послышался усталый голос Алекса, — это всего лишь подруга Эльзы.
"Всего лишь". Северина фыркнула, проходя мимо тетки. Вечно ее все недооценивают. К великому облегчению, мать Алекса не стала артачиться и вышла в коридор, чтобы позволить им поговорить наедине.
Алекс выглядел плохо, даже Северина при всем своем оптимистичном настрое не могла этого отрицать. Она поморщилась, на миг представив, какая же тяжелая рука у отца Эльзы. Интересно, ее собственный отец изобьет майстера Ингера, когда все узнает? Вряд ли. Ее папенька — книжный червь, способный только зарываться в свои бумажки. Он обратится к своей излюбленной букве закона. Что ж, по крайней мере, ребра у майстера Ингера, в отличие от ребер Алекса, останутся целы. Его судьба будет не так уж жестока.
— Здорово тебя отделали, — сказала она вслух, когда положила на прикроватную тумбочку апельсины и присела на край постели Алекса, — сколько ты уже так валяешься? Недели две? Больше? Плохо, что ты — не волк, у любого из нас, даже у Эльзы, такие раны зажили бы за пару дней.
На разбитом лице Алекса трудно было угадать эмоции, но когда он отвернул голову, Северина догадалась, что ее слова его задели. Ей стало совестно, и она взяла его загипсованную от локтя до пальцев руку в свои ладони.
— Эльза просила узнать, как ты, — тихо сказала она.
— А как она сама? — тут же повернулся он обратно.
— Плохо, — пожала плечами Северина. — Ее посадили под домашний арест. Но она просила передать от тебя хоть какое-то послание.
Алекс долго молчал, глядя на переплетение их рук.
— Скажи, что я не откажусь от нее, — выдавил он наконец. — Мы все равно будем вместе.
— Вместе? — она не сдержала смеха. Какие же влюбленные все наивные, — Это каким же образом? Пойдешь и скрутишь ее амбала-охранника? Или ее отца? Думаешь, во второй раз ты побьешь его одной левой?
Алекс скрипнул зубами.
— Я что-нибудь придумаю.
— Думай побыстрее, — отчеканила она, — потому что из-за тебя Эльза не ходит в школу и пропускает все уроки.
"И совсем позабыла про меня". Уходя от Алекса, Северина не чувствовала уверенности, что он сможет как-то решить проблему. А вот она… она всегда найдет возможность справиться с любым препятствием на пути.
Уже имея в голове кое-какой план, Северина приказала водителю таксокара направляться к зданию парламента. Охранник у ворот не хотел пускать ее внутрь, не зная лично. Пришлось просить позвать отца, чем тот, конечно же, оказался недоволен. Северина смотрела через ограду, как он приближается к ней по залитой сентябрьским солнцем аллее с досадливым выражением на лице. Полы его черного костюма-тройки чуть развевались в стороны при ходьбе, волосы на макушке казались поредевшими. Суховатый невысокий лаэрд с блеклыми глазами — не то, что красавец-родитель Эльзы и ее братьев.
— Что тебе надо, Северина? — строго спросил он. — Разве я разрешал тебе беспокоить меня на работе?
Северина знала, что стоит ошибиться в ответе — и ее отправят домой без возможности пикнуть еще хоть слово.
— Я беременна, пап, — сказала она и виновато улыбнулась.
Отец побледнел, бросил взгляд на вытянувшегося рядом по струнке охранника и поджал узкие губы.
— А ну, пойдем поговорим у меня в кабинете.
Она прошла в ворота и двинулась следом за сердитой отцовской спиной, не пряча улыбки. "Пойдем поговорим" и поджатые губы — вот и все проявление чувств ее папы. Что ж, тогда и она не станет жалеть о своем розыгрыше.
Они вошли в величественное здание, поднялись по мраморной лестнице. Мимо сновали секретари с кипами бумаг в руках, встречные лаэрды шли более неспешно, некоторые из них были родителями одноклассников Северины, и ей приходилось вежливо здороваться. Распахнув дверь своего кабинета, отец одним жестом отпустил секретаря на перерыв и пригласил дочь пройти внутрь.
— К-кто… — он сел за свой большой рабочий стол, заваленный папками, рукописями и еще какой-то бумажной ерундой, его руки слегка тряслись, — кто это с тобой сделал?
— Я не знаю, — Северина беззаботно пожала плечами и опустилась на стул напротив него, — их было несколько.
— Несколько?
— Ага, — она похлопала ресницами, — человек десять.
— Десять? — ее благородный отец схватился за сердце.
— Да. Я виновата, пап. Я так напилась в той таверне…
— Таверне?
Похоже, он собирался каждый раз повторять за ней последнее слово из фразы.
— Угу. Таверне у доков. Я шла от швеи, когда какой-то благородный лаэрд подошел ко мне и пригласил с ним прогуляться. Он выглядел безобидным, и я согласилась. А потом он налил мне спиртного, я попробовала всего глоточек… и вот результат. Я хотела признаться тебе, когда ты будешь дома, но дома тебя постоянно нет.
Она спокойно сложила руки на коленях и наблюдала за его реакцией. Отец сидел и смотрел в одну точку немигающим взглядом. Наконец, он поднялся, подошел к столику с хрустальным графином и стаканами, снял прозрачную пробку и налил чего-то, судя по запаху — коньяка, в стакан.
— Как же так, Северина… — отец сделал глоток и покачал головой, — как же так…
— А вот так, — резко засмеялась она. — Да не волнуйся ты, папа. Я пошутила.
— Пошутила? — стакан звонко и влажно шлепнулся на пол, а отец повернулся к ней. — Да как можно так шутить, дочь?
— Да чтоб ты вспомнил, что я — твоя дочь, — заорала Северина, вскочила и сшибла с его стола кипу бумаг. — Чтоб ты хоть раз вспомнил, что я вообще у тебя есть, понятно? Что за сердечко схватился? Страшно стало? А забывать с днем рождения меня поздравить — не страшно? А оставлять меня на вечно пьяную экономку — это нормально, по-твоему?
— Не кричи, — покачал он головой, совладав с первым шоком. — Я понимаю, что у тебя подростковая гормональная буря…
— Буду кричать. Буду, — она пнула стул. — Иди ты со своей бурей знаешь куда? Удачного тебе рабочего дня, папенька. Не провожай, не надо. Я буду ждать тебя дома. Хотя ты, как всегда, предпочтешь этого не заметить.
Северина пулей вылетела в коридор, столкнувшись в дверях с перепуганным секретарем, но за пределами отцовского кабинета поправила волосы, успокоила дыхание и огляделась. После того, как выпустила пар, стало легче. Она и не знала, что это окажется так приятно. Почти как секс с майстером Ингером, приправленный мыслями о Димитрии. Все-таки потеря невинности многое меняет в женщине. Вот она, например, стала смелее и свободней — прежде ни за чтобы не решилась на подобную выходку.
Но все же пришла сюда Северина не для того, чтобы поругаться с отцом, просто по-другому бы ее не пустили. Она пошла вдоль ряда дверей, внимательно читая имена на золоченых табличках, а заметив нужное — без сомнений скользнула внутрь. Место секретаря здесь пустовало, тогда Северина постучалась в личный кабинет. Оттуда послышалась какая-то возня, потом бархатный глубокий голос отца Эльзы произнес: "Минуту", и стало тихо.
Наконец, замок отщелкнулся, оттуда вышла девушка в форме хранительницы из библиотеки. От взгляда Северины не укрылось, как криво одернута юбка на ее бедрах, равно как и полустерта помада на губах. Опустив глаза, девушка поспешила удалиться.
— Кто там? — недовольно поинтересовался Виттор.
Северина шагнула в его кабинет и невольно вздрогнула от того, что на миг показалось — перед ней возмужавший Димитрий. Те же ледяные глаза, те же благородные черты лица, твердый подбородок, прямой нос, широкие плечи. Если бы не эта пепельная седина на висках…
Отец Эльзы сидел, вальяжно развалившись в кресле и закинув ногу на ногу. Если он и удивился при виде гостьи, то вида не подал. В воздухе пахло дымом сигар и еще чем-то, Северина повела носом и поняла: сексом. Да этот старый волк изменяет жене. Вот прямо тут, на работе, и изменяет. Она не сдержала улыбки от своего открытия. Интересно, догадывается ли Эльза?
— Ты потерялась, Северина? — поинтересовался Виттор, окатив ее холодным взглядом. — Может, мне позвонить твоему отцу?
— Нет, я не потерялась, — возразила она ему в тон, закрыла за собой дверь и подошла к рабочему столу вплотную. — Я хотела поговорить именно с вами.
Он приподнял одну бровь.
— О чем же?
— О вашей дочери.
— Об Эльзе?
— А у вас есть еще дочки?
В глубине серебристо-стальных глаз Виттора зажегся новый огонек, и Северина поняла: он оценил ее. Оценил по достоинству, раз не сделал замечания за наглый тон. Наконец-то хоть кто-то отнесся к ней, как ко взрослой.
— Говори, — разрешил Виттор.
Нимало не смущаясь, Северина присела прямо на край стола, на чьи-то резолюции, указы и перечни документов.
— Вы должны разрешить Эльзе снова ходить в школу.
— Эльза наказана, — он стиснул кулаки.
— Это наш последний год в школе. Вы хотите испортить дочери воспоминания?
— Эльза. Наказана, — отчеканил Виттор едва ли не по слогам, пронзая ее взглядом.
Северина уперлась ладонью в стол и подалась вперед, лицом к его лицу. Странно, но ей было совсем не страшно — все равно, что разговаривать с Димитрием, только с его более уравновешенной копией.
— И долго вы будете держать ее, как собаку на цепи? Год? Два? До старости?
— Пока не образумится. И вообще, это не твое дело, девчонка.
Северина проглотила "девчонку" и даже не поморщилась.
— Вы не сможете сами постоянно жить в таком напряжении, — покачала она головой. — Стоит вам ослабить цепь хоть немного, и Эльза сбежит. Вы знаете, что я права. У нее ваш характер.
"Как и у Димитрия". Но речь сейчас шла не о нем, и Северина заставила себя не отвлекаться. Виттор выпятил челюсть и промолчал — она сочла это признанием ее правоты.
— Зато если вы дадите ей общаться со мной, я сделаю так, что она никуда не денется. Эльза мне доверяет, — для убедительности Северина даже покивала. — Она послушает меня.
— Тебя? — Виттор фыркнул. — А не ты ли и покрывала мою дочь в ее грязных делишках?
— В ту ночь, когда вы ее поймали, Эльза была не со мной, — победоносно сверкнула глазами Северина. — Если бы была со мной — вы бы ее не поймали.
— Маленькая сучка, — протянул он и недоверчиво ухмыльнулся.
— Будем считать, что это комплимент, — быстро нашлась она.
— И как ты это сделаешь?
— Положитесь на меня. Я придумаю, как. Но гарантирую: Эльза станет смирной и покладистой, если вы разрешите нам дружить снова и перестанете науськивать на нее охранника-амбала.
Виттор задумался.
— И что же ты хочешь взамен? Только не ври, что делаешь это из любви к подруге, — он раздвинул губы в ядовитой улыбке. — Со мной этот номер не пройдет.
— Хорошо, — не стала спорить Северина. — Я попрошу у вас кое-что. Не сейчас. Потом. Не волнуйтесь, это не будет стоить вам практически ничего.
— Договорились, — прищурился он, — но если обманешь и отобьешь мне от рук дочь еще больше, я найду способ приперчить и твою сладкую жизнь.
— Я знаю, — она, в самом деле, не сомневалась, что он сможет. — Но у меня нет цели ссориться с отцом лучшей подруги. Наоборот, я хочу только дружить.
Они ударили по рукам, и Северина не уходила — улетала на крыльях счастья. Она подарила свободу подруге. Она спасла ее выпускной. Расстались они с Виттором чуть ли не душа в душу. Вот такого бы ей отца. А не того серого мямлю, что совершенно ее не замечает. Лучше бы запирал ее, как Эльзу, она хотя бы ощущала себя кому-то небезразличной.
А еще Северина заработала плюс одно очко в битве по завоеванию Димитрия.
Цирховия Двадцать восемь лет со дня затмения
Прошлой ночью в комнатах Димитрия кричала женщина. Кричала от удовольствия — это донесли Северине ее ручные пташки. А теперь, ранним зимним утром, полным снега и холода, как и сердце наместника, эта женщина стояла в спальне его жены. Умницы-пташки успели перехватить цель на выходе и доставить к госпоже в обход вездесущего Яна.
Северине не спалось этой ночью, она сидела на подоконнике, поджав ноги, кутаясь в теплую вязаную шаль, накинутую поверх батистовой ночной рубашки, безразлично смотрела на раскинувшийся перед резиденцией парк и поэтому успела повидать и мужа. Босой и без рубашки, Димитрий, похоже, спустился на улицу прямо из постели и долго и яростно боксировал невидимого противника на снегу. Северина смотрела на его сильную, порозовевшую от морозца спину и облачка белого пара, вырывавшиеся изо рта при каждом движении. Женщина, с которой он провел ночь, молча стояла в центре комнаты и ждала, пока она повернется.
Она повернулась, только когда сиятельный наместник ушел, чтобы по привычке запереться в темпле светлого до самого обеда. Сегодня его снова что-то гложет, сегодня он опять хочет тишины. С его уходом в парке стало не на что смотреть.
— Расскажи, что делал с тобой мой муж?
Женщина поджала губы и отвела взгляд. Она была хорошенькой, с волосами цвета коры дуба и изящной линией плеч, но ее вид портили темные круги под глазами, лопнувшая посередине нижняя губа с тонкой запекшейся полоской крови и синяки от пальцев на белой шее. Он вымотал ее, подумала Северина, не давал отдыха ни на минуту, терзал и душил ее — и все равно она кричала от удовольствия. Озноб пробежал по ее плечам, и она плотнее запахнула на груди шаль.
— Не молчи. Я приказываю тебе говорить.
Женщина была не очень высокого сословия — скорее всего, какая-нибудь небогатая майстра. Ян любил выбирать кого-то из подобных для своего господина. От стали, звеневшей в голосе Северины, она вздрогнула, но все равно упрямо замотала головой. Запугана? Или стыдится?
Северина решительно спустила ноги с подоконника, подошла к ней, схватила за подбородок и заставила посмотреть себе в глаза. Бедная. Какой животный, затравленный взгляд. Северина невольно глянула в зеркало. А разве у нее самой бывал не такой же?
— П-простите меня, благородная лаэрда, — женщина с криком бухнулась ей в ноги.
Северина тяжело вздохнула, наклонилась, чтобы помочь ей подняться — та снова вскрикнула, как от боли.
— Я не сержусь, мне не за что тебя прощать, — Северина все же подняла ее. — Сними платье.
— Нет, — женщина сжалась в комок. — Пожалуйста, благородная лаэрда, отпустите меня. Разрешите мне идти.
— Разрешу, — успокоила ее Северина. — Но только когда выясню, что сделал с тобой мой муж.
Ей надоело строить догадки. Надоело постоянно прокручивать в голове обрывки информации, пытаясь сложить их воедино. Она хочет знать, что делает Димитрия таким… собой. Женщина не уступала, и тогда Северина рывком развернула ее и сама дернула вниз застежку-молнию на шерстяном платье. Ткань разошлась в стороны, открывая белую спину… белую спину с тремя красными воспаленными росчерками на коже. Обомлев, Северина подняла руку и провела пальцами по ним, не замечая, как дергается от боли женщина. Он резал ее. Он вырезал на ее спине букву "П". И зная Димитрия, она не сомневалась, что он делал это, пока его член находился внутри его жертвы. И возможно даже, что сама жертва в тот момент кончала.
Северина невольно приложила ладонь к губам. Что это могло означать? Покой? Бывали моменты, когда Димитрий яростно требовал его от окружающих. Она сглотнула и одним движением застегнула платье обратно, а потом разрешила женщине идти.
Теперь тем более стало не до сна, Северина села за стол, взяла ручку и вынула из ящика лист тонкой ароматизированной бумаги с золотым личным вензелем в правом верхнем углу.
"Алекс, нам надо поговорить". Она посидела немного с рукой, занесенной над строчкой, написанной порывистым нервным почерком, а затем жирно замалевала буквы, смяла и выкинула лист.
"Алекс, я хочу написать тебе то, что не могу сказать лично. Ты должен знать, что если бы я тогда вам не помешала, если бы ты забрал Эльзу и уехал с ней куда-нибудь…" И снова не то. Эльза теперь живет достаточно счастливой и обеспеченной жизнью, у Алекса тоже карьера пошла вверх, а чтобы стало с ними, если бы они убежали из дома детьми? Благородной лаэрде не к лицу голодать и побираться, да Эльза сама никогда и не знала ни голода, ни нужды, как бы она справилась с ними в новой жизни? Северина смяла и этот лист.
"Алекс, — написала она на третьем, — я хочу, чтобы ты перестал винить себя за то, что сделал. Я хочу, чтобы ты знал, что во всем виноваты только два человека. Я и Димитрий. Я хотела его, а он хотел Эльзу. И мы оба привыкли добиваться своего. Мне кажется, мы оба теперь вечно будем расплачиваться за это".
Она перечитала строчки, потом достала из того же ящика зажигалку, щелкнула и поднесла огонь к уголку листа. Говорят, сожженные послания отправляются прямо к богам. Интересно, какой из богов получает письма от нее: светлый или темный?
Зимние празднества еще длились, и сегодня Северине предстояло вместе со старой каргой Ирис нанести благотворительные визиты в госпитали и приюты, чтобы одарить вниманием и деньгами сирых и страждущих. Мачеха и жена наместника, в едином порыве бросающие себя на служение народу — что могло бы больше порадовать подданных? Разве что он сам, вышедший в толпу и протягивающий им руки. Смешная глупость, конечно же, но Северине даже над этим не удавалось посмеяться.
Ей очень не хотелось ехать в одном каре с Ирис — даже постную рожу ее видеть бы не хотелось, но без этого уже никак — поэтому она взяла с собой Яна. Просьба выглядела вполне оправданной: кто сумел бы лучше охранять в поездке дорогих родственниц правителя, чем начальник личной охраны? Он помог ей сесть на заднее сиденье, но как только двери захлопнулись — они отвернулись каждый к своему окну.
Северина злилась на себя за то, что наедине с Яном испытывала глупую неловкость после той ночи, когда Димитрий заставил его стоять под дверью и слушать ее стоны. Ничего нового не произошло и, в конце-то концов, она была тогда со своим мужем. Но почему-то на душе осталось такое ощущение, будто она изменила Яну с Димитрием. Он никак не комментировал тот случай и ни одним жестом, ни одной ноткой голоса не выдал своих истинных мыслей. Но что-то в его настроении тоже изменилось с тех пор.
— Тебе не надо больше так делать, Северина, — нарушил он первым затянувшееся молчание в поездке, все так же глядя в свое окно.
— Как, Ян? — ответила она, стараясь понять, прислушивается водитель к их разговору или же нет.
— Не надо перехватывать его женщин, Северина.
Ее царапнуло где-то пониже горла. Значит, все мысли верного слуги опять только об его господине. В первый момент она подумала, что он заговорил о другом.
— Почему, Ян? — вздернула она подбородок навстречу своему отражению в стекле.
— Потому что это причинит тебе лишнюю боль, Северина.
— Такую же, как он причиняет им, Ян?
— Такую же, как он причиняет всем, кто пытается его понять, Северина.
Она помолчала, размышляя над этими словами.
— Что означает "П", Ян?
В этот момент их кар подъехал к мрачному серому зданию приюта и остановился.
— А ты как думаешь, волчица? — вполголоса спросил Ян и вышел наружу первым.
В приюте они раздавали шоколад и одежду. Старая карга Ирис пользовалась успехом у детей, малышня обступила ее плотным кольцом. Северину они почему-то побаивались, хотя ее платье ничем не уступало наряду соперницы, а подарки и та, и другая держали одинаковые. Зато Ян, убедившись, что мероприятие проходит спокойно, расслабился и позволил сироткам облепить себя. Те по очереди сидели у него на коленях и визжали, когда он их щекотал и катал "лошадкой" на ноге. Северине тоже нестерпимо захотелось посидеть у него на коленях. И прижаться к теплому плечу. И почувствовать себя маленькой девочкой в его ласковых объятиях. Он умеет ласкать, он умеет любить, он умеет хранить верность. И обожает детей. Какие редкие качества для мужчины. Они даже затмевают его непритязательную внешность.
Вместе с детьми в приюте проживали беременные женщины, которые по каким-то причинам не могли больше нигде устроиться. Кто-то сбежал от побоев мужа, другие просто оказались на улице за долги. От нечего делать Северина подошла к одной из них, худой, потрепанной и с большим круглым животом.
— Кто у тебя будет? Мальчик или девочка?
— Благородная лаэрда, — ее собеседница быстро-быстро заморгала, задышала взволнованно и склонила голову в знак почтения, — доктора говорят, что у меня будет двойня. Благословите моих деток наложением руки?
Северина пожала плечами и прикоснулась к ней ладонью.
— Светлый бог их благословит.
И вдруг изнутри раздутой утробы в ее руку кто-то стукнул. Северина вздрогнула и уставилась на будущую мать, а та заулыбалась.
— Это один малыш поздоровался с вами, благородная лаэрда. А теперь погодите, другой…
Женщина взяла ее ладонь и переложила на другую сторону живота. Пришлось подождать, но вскоре и оттуда толкнулись. Северина закусила губу, ощущая, как у нее колотится сердце.
— На что это похоже, когда они шевелятся?
Ее собеседница заметно растерялась.
— Я не могу объяснить это словами, благородная лаэрда. Это можно только почувствовать. Я обязательно поставлю свечку за вас святой Огасте и помолюсь, чтобы она послала ребеночка и вам с Его Сиятельством.
"Лучше помолись темному богу, чтобы он хоть раз направил в меня член моего мужа, дальше все само собой получится". Северина скрипнула зубами, убрала руку, пробормотала какие-то слова благодарности за пожелание и отошла. Украдкой она то и дело возвращалась взглядом к беременной. Она может только мечтать, чтобы почувствовать эти заветные шевеления, и ей остается только представлять, как это, когда грудь полна молока, и сосет ее не мужчина, а крохотный младенец. И наверняка в реальности все отличается от фантазий. В какой же темный угол она сама себя загнала? Как она могла вообще допускать мысль, что мужчина, который режет женщинам спины, подарит ей нормальную семью?
— Ты хоть бы улыбнулась ради приличия, маленькая волчица, — внезапно как из-под земли вырос рядом Ян. — С таким лицом краше в гроб кладут.
— Как ты думаешь, я могу развестись со своим мужем? — произнесла Северина, будто в полусне.
Он усмехнулся, как будто она ляпнула несмешную шутку.
— Ты можешь мечтать об этом, но даже если он тебя отпустит, развод окончательно сокрушит его репутацию, которая и так уже подорвана. Я первый буду отговаривать его от этого шага.
Внезапно ей захотелось ударить Яна. Очень сильно, так, чтобы разбить и себе руку, и ему — лицо. А потом так же резко — перехотелось. Она получает ровно то, что заслужила, разве не так? Она выбирает неправильных мужчин. Ставит неправильные цели. И совершает неправильные поступки. И даже не находит в себе сил отправить Алексу треклятое письмо с признанием вины. Ее жизнь не стоит даже самой дешевой монеты.
Эта мысль не покидала Северину весь остаток дня. Когда запланированные дела были сделаны и наступила пора возвращаться в резиденцию, уже вечерело и пошел снег. Он повалил такими крупными хлопьями, что движение на улицах сразу замедлилось.
Вскоре их кортеж окончательно встал. Ян вытянул шею и подался вперед, к водителю, пытаясь разглядеть что-то, а Северина все так же смотрела в свое окно. Снег валил и валил, он уже укрыл плотной пеленой тротуары и деревья, прохожих и дома, поглотил все звуки и краски. Желтый свет в окнах стал прозрачным и тусклым, жизнь замерла. Казалось, что еще немного — и снег заполонит весь мир вокруг, погребет под собой стены и крыши, взрослых и детей, их светлого и темного богов и вообще всю столицу вместе с ее красивым недоступным наместником и маленькой девочкой, которая никогда никого не любила. Снега насыпет столько, что хватит сравняться с вершинами дарнанийских гор, а все люди останутся там, внизу, в самой его глубине. Северина прекрасно могла представить себе эту безмолвную холодную могилу. Такой всегда была ее постель. Таким всегда было ее сердце.
Ян отправил водителя разузнать причину затора — Северина слышала будто издалека, как хлопнула дверь. Она сидела в той же позе, повернувшись к окну, но теперь это выглядело странным: снежная стена полностью закрыла все в зоне видимости. Больше ничего не видно, подумала Северина, и их извне не видно тоже. Они остались совсем одни. Чтобы ни произошло в ближайшие несколько минут в салоне — никто этого не увидит и никогда не узнает. Только она и он.
— Ты справишься тут сама, волчица? — спросил Ян. — Мне тоже надо кое-что проверить.
Он открыл дверь в снежную пелену, а она повернулась и положила ладонь на его руку, упертую между ними в сиденье. Он замер на полпути, белые звездочки падали с неба ему на колено и на рукав черного пальто и превращались в подтаявшие кусочки льда. В теплый салон пахнуло морозом.
— Закрой дверь, Ян, — тихо сказала она. — Снег идет.
— Нет, — он покачал головой, но убрал ногу и плавно захлопнул дверь обратно.
Его ноздри раздувались, а со щек сошел естественный цвет. Теплая рука дрожала — рука, которая столько раз пыталась удержать Северину от хождения по бесконечному кругу боли — затем их пальцы переплелись, и Ян шумно втянул носом воздух.
— Я не люблю его, — призналась Северина.
Когда же пришло к ней это понимание? Наверное, все-таки там, в компании беременной женщины с шевелящимися в животе детьми. Она вдруг четко осознала, что любит не красивого благородного лаэрда с холодным сердцем, а некрасивого простого мужчину с теплыми руками. Мужчину, который всегда — даже это пташки ей доносили — был ласков и нежен со своими женщинами в постели. Провожая утром из спальни, он шутил с ними и смеялся, и пусть они дарили самые ослепительные улыбки наместнику — этому мужчине улыбки предназначались искренние.
Но сейчас с ней Ян оставался серьезным.
— Никогда больше не говори так, волчица, — отрезал он и отобрал у нее свою руку. — Его Светлость не любить невозможно.
— Но я не люблю, — она пожала плечами. — И в то же время люблю, стоит ему меня коснуться. Моя волчица всегда хочет его волка… но привязка — это не любовь, Ян. Это просто чудовищное влечение, которым покарали нас боги вместе с магией оборота. Настоящая любовь — только человеческая.
Говоря это, Северина ощущала странное опустошение внутри. Поймет ли ее Ян или расценит слова неправильно? Неважно. Ей просто хотелось сказать ему именно это. Именно здесь. Под этим снегом. В эти несколько минут, которые принадлежали только им двоим — и больше никому. Потому что если не произнесет сейчас, ей не хватит смелости уже никогда. Ее маски прилипли намертво, и жить под ними гораздо проще, чем срывать по живому.
— Когда она появилась в его жизни, я ее сразу возненавидел, — заговорил он вдруг, будто решив ответить откровением на откровение. — Она отбирала его у меня. Отбирала моего брата, понимаешь? С ней он становился совсем другим. Мне казалось, что она ломает его, выкручивает ему жилы и выпивает из него жизнь.
— Девушка, которую Димитрий любил?
Северина сама удивилась отстраненности, прозвучавшей в собственном голосе. Ян рассказывает ей о том, чего наверняка никому еще не говорил, делится с ней тайной своего господина… а ее словно уже и не трогают его тайны. Более того, где-то в глубине души она даже не хочет их знать. Не хочет больше окунаться в боль и тьму Димитрия. Он болен, и этого в нем не изменить, а она переболела и, кажется, выздоровела.
— Любил? — Ян покосился на нее и фыркнул. Тут же вновь стал серьезным. — Он до сих пор ее любит. Он до сих пор ее ищет. И ненавидит меня за то, что не может найти.
— Я думала, он ищет Эльзу.
— Эльза… — Ян задумался, — это все случилось из-за его сестры, да. На Эльзе он сломался. Ему надо было выбирать между ними двумя, а он не мог выбрать. И тогда выбор за него сделал я. Я был уверен, что поступаю во благо. — Он опустил голову. — Теперь я знаю, почему…
— Почему?
Ян моргнул, вяло улыбнулся, погладил ее по щеке.
— Вопрос не в этом, маленькая волчица. Вопрос в том, могу ли я теперь забрать у него еще и жену?
Жертву. Он должен был сказать "жертву", или "игрушку", или еще какое-нибудь другое подходящее слово, но только не "жену", но Северина не стала поправлять. Снег шел и шел, и ей подумалось, что в их временной изоляции так хорошо и естественно звучат сложные вопросы и простые признания, что не хочется придираться к мелочам. И все становится как-то… понятно. И Ян прав — жестоко заставлять кого-то делать выбор между двумя. И кто-то — более хладнокровный — должен иметь мужество взять на себя этот выбор.
— Конечно не можешь, — сказала она и улыбнулась. — Оставайся самим собой, Ян. Именно твоя верность делает тебя тобой. Тем более, я сама себя забираю. Я хочу уехать в дарданийские монастыри добровольной затворницей, как его мать. Все можно с легкостью списать на какую-нибудь болезнь, и репутация моего мужа не пострадает. Народ еще усерднее станет молиться за нашу семью.
— Нет, — он повернулся резко, глаза сверкали, и рука, которая совсем недавно ласкала ей щеку, вдруг стиснула плечо сквозь мех изысканного манто. — Ты и дарданийские послушницы? Не знаю ничего более несовместимого. Твоя красота, твой внутренний огонь, волчица… это просто глупо. Ты хочешь наказать Сиятельство, а вместо этого накажешь лишь себя. Я тебя не отпускаю.
— Но ты и не имеешь права мной распоряжаться, — спокойно возразила она. — Я — твоя госпожа. И я все решила.
— Ты? — он раздраженно хохотнул, а затем дернул ее на себя, прошелся сухими губами над бровью и вдоль виска, пальцы путали ее сложную элегантную прическу. — Ты — моя волчица, моя глупая, вздорная, кусачая, маленькая волчица. Моя испорченная девчонка. Моя…
Тут губы Яна оказались в опасной близости от ее губ, и он осекся. Северина закрыла глаза, ощущая, как развалился на затылке тяжелый узел, как по-прежнему дрожит его рука в ее волосах и как лихорадочно участилось его дыхание.
— Я не твоя, — она покачала головой, — ты же сам знаешь.
— Все равно я тебя не отпущу, — возразил он с прежним жаром, но так и не поцеловал ее, — никуда ты от меня не денешься.
Значит, и в этой просьбе ей будет отказано, и завтра все возобновится по кругу. И двое мужчин продолжат мучить ее, только каждый по-своему.
— Не денусь от него, Ян, — устало вздохнула Северина. — Ты должен говорить "от него".
Она оттолкнула его сама и выпрямилась, и вовремя — дверь распахнулась, и на свое место в коконе снега и горячего дыхания плюхнулся водитель. Ян тут же сдвинулся: плавно и почти незаметно, но достаточно, чтобы вернуть то расстояние, на котором начальнику охраны следует находиться от жены наместника. Они выслушали рассказ слуги, не глядя друг на друга.
— Святых несли из темпла светлого, — пояснил розовощекий с мороза водитель, подышал в сомкнутые ладони и встряхнулся всем телом, как собака. — Улицу перекрыли, вот и пришлось ждать. Сейчас уже тронемся.
Действительно, через каких-то две-три минуты их движение возобновилось. Очень медленно, и один из бурых пошел с фонарем впереди, чтобы показывать дорогу в метель.
Все в Северине бастовало против возвращения в резиденцию — сегодня Димитрий устраивал вечеринку "только для своих", человек на пятьдесят-сто, не больше. Ей не хотелось идти туда, видеть его свиту из улыбающихся красивых женщин и подобострастных мужчин. Даже с пташками своими сталкиваться не хотелось. Она остро почувствовала, как же сильно ей надоела такая жизнь.
У нее оставался единственный выход — ее особняк. Дом, который отец подарил ей на свадьбу, и она жила там с Димитрием какое-то время, пока тот не взошел на трон. Там оставался ее "театр", к которому она давно утратила интерес и содержала скорее по привычке и для развлечения каких-либо знакомых, когда к тому располагало настроение. Уже не в первый раз Северина не выдерживала и сбегала туда, а муж смотрел на это сквозь пальцы: она была уверена, что слуги в любой момент донесут ему через Яна, если она надумает тайком пригласить чужого мужчину в постель. К тому же она всегда сама же и возвращалась — не выдерживала долго без Димитрия…
Ян неохотно, но откликнулся на просьбу, и кортежу пришлось еще немного задержаться в пути, чтобы доставить ее на место. Карга Ирис наверняка изошлась вся от злости, но даже это мало трогало Северину. Она вошла в особняк под вежливое приветствие управителя с таким ощущением, будто несла на плечах всю тяжесть мира. Ян уехал в резиденцию, и все слова между ними уже были сказаны. Северина скинула манто на руки слуге, поднялась в спальню, не раздеваясь, упала на кровать и уставилась в потолок.
Она пролежала так, не зажигая света, до глубокой ночи и от души рявкнула на служанку, когда та заглянула, чтобы пригласить к ужину. В ее темной холодной могиле запрещено тревожить покой.
Дом жил своей жизнью, слуги шелестели в коридорах, занимаясь рутиной, и, наконец, один за другим отошли ко сну. Северина тоже задремала, когда ее дверь снова приоткрылась.
— Моя лаэрда, — одна из служанок, не та, которая появлялась ранее, прихрамывая, подбежала к кровати, принялась трогать ее лоб и пульс на запястье. — Вы заболели? Позвать доктора?
— Нет, — сиплым надтреснутым голосом отозвалась Северина. — Пошла прочь.
— Но… — растерялась девушка, — нельзя спать в платье. На вашей коже останутся вмятины…
"Знала бы ты, какие вмятины у меня внутри". Северина вяло отмахнулась от нее, но служанка оказалась настойчивой.
— Пойдемте, пойдемте, — она заставила госпожу подняться с кровати, руки запорхали, раздевая и расплетая волосы. — Такую красоту надо беречь…
В темной спальне они стояли совсем рядом, и по коже Северины побежали мурашки от того, как ладонь девушки с легким шорохом скользит по ее спине. Прохладная и грубоватая против ее горячего и мягкого тела. Северина украдкой оглядела женский силуэт. Девушка была примерно одного роста с ней самой, но уже в бедрах и меньше в груди, ее растрепанные, длиной до плеч волосы казались в сумраке ржавыми, а кожа — оливковой. Северина не помнила ее имени и сколько та уже служила ей.
— Вы, наверно, сильно устали, госпожа? — заботливо поинтересовалась служанка. — Давайте я помогу вам искупаться, а потом уложу в постель и помассирую плечи. Вы мигом расслабитесь.
Что-то в этой заботе подкупало.
— Только свет не включай, — уступила Северина. — Глаза болят.
Девушка склонила голову в знак согласия и упорхнула в ванную комнату готовить воду. Северина подошла к окну и только теперь сообразила, что стоит совсем голая. Ну и пусть. Снегопад за окном не утихал, на карнизе уже налипло с нижнюю четверть стекла. Завтра она не сможет вернуться в резиденцию. А если не расчистят дороги — то и послезавтра. Эта мысль ее не огорчала.
Служанка вернулась и отвела ее в ванную. Северина послала ей благодарную улыбку: девушка догадалась зажечь на полочках ароматизированные свечи, и их мягкий свет не раздражал, но позволял все видеть. Служанка заколола госпоже волосы, усадила ее в круглую емкость с горячей водой и принялась намыливать спину. Руки оставались ловкими и умелыми, они не только мыли кожу, но и массировали ее. Тяжесть в плечах понемногу истаяла, а в мышцах появилась нега.
— Как тебя зовут? — задумчиво поинтересовалась Северина.
Теперь, с близкого расстояния, она заметила, что у девушки широко расставленные зеленые глазищи, что делает ее похожей на лукавую кошку, и большой плоский рот, который, впрочем, ее не портил, а даже придавал какого-то шарма.
— Жулия, госпожа, — охотно закивала та, — знали бы вы, как я вам благодарна, госпожа…
"Жулия, — вспыхнуло в мозгу Северины, — новенькая. Хромоножка".
Ян предложил ее. Для хозяйства — и для "театра", если понадобится, тоже. Ян… он говорил, что девушка была нонной в темпле темного, пока несчастный случай не покалечил ей ногу. В таком виде она перестала нравиться нормальным клиентам, а извращенцев, желающих ее, оказалось не так много, чтобы приносить достаточную прибыль темплу. Ян пожалел ее. Он подыскал ей место здесь, в никому не нужном, нежилом богатом доме. Северине было все равно, кто станет по приказу управителя менять постельное белье и смахивать пыль, вот она и согласилась. Рассеянно — даже почти и не запомнила этого. Она вообще никогда не привязывалась к слугам и привыкла легко их менять.
Она подняла из воды руку и взяла Жулию за подбородок.
— Ян спал с тобой?
Девушка опустила взгляд, темные ресницы затрепетали на щеках.
— Со мной многие спали, госпожа…
Северина кивнула. Еще бы. Бывшая нонна в служанках у жены наместника — ну не насмешка ли? С другой стороны, кто бы еще ее взял? Ни в одном приличном доме такую не потерпят. Жены будут опасаться, как бы она не развратила их мужей, а матери — сыновей.
— Давно хотела вас поблагодарить, госпожа, — Жулия порывисто схватила ее пальцы, поцеловала костяшки, губы оказались на удивление нежными, — что не отвернулись от меня тогда, не отказали. Вы были так добры ко мне. Добры и печальны.
Северина совершенно не помнила того разговора.
— Да? Ну и как? Не тяжело тебе с такой ногой работать?
— Прошлая работа потяжелее выходила, госпожа, — Жулия хихикнула, — хоть ноги в ней почти и не участвовали. И знаете что? Лучше уж я буду здесь ведра таскать, чем там… ну вы понимаете, госпожа.
"Она тоже устала от мужчин, как и я, — поняла Северина, — только ее они имели физически, а меня — морально".
Она внимательнее пригляделась к служанке, и Жулия вдруг ответила на этот взгляд. Ее зеленые глаза полыхнули так, что Северина смутилась. Она опустила голову, делая вид, что разглядывает мыльную пену на воде. Телу все равно, кто его ласкает, мужчина или женщина, но разуму-то — нет.
— Госпожа так печальна, — с сочувствием вздохнула Жулия, и намыленная губка перевалила через плечо Северины и спустилась вниз к ее груди. К ее набухшей без мужских ласк, ноющей и чувствительной груди. — Чем я могу помочь?
"Убирайся, — хотелось ей заорать. — Уйди. Оставь меня. Я не хочу тебя"
Но вместо этого Северина только спросила:
— Ты когда-нибудь целовала женщину?
Жулия улыбнулась, робко и тоже стыдливо.
— Я могла бы, госпожа. Но женщины не ходят к ноннам. Они посещают безликих. Женщинам нужен мужской член. И мужское плечо, на котором можно выплакаться.
— Тоже верно.
— Но я целовала кузину, когда мы были девочками, — пожала хромоножка плечом, — мы спали вместе из-за тесноты и нехватки кроватей. Мы трогали друг друга внизу и целовались. Было приятно.
Она провела пенистой губкой от одной груди Северины к другой, запустила в ванну свободную руку и размазала мыло по затвердевшим соскам с таким видом, будто рисовала на холсте шедевр. Подняла лукавые зеленые глаза.
— А вы, госпожа? Простите мне мою дерзость, вы женщину целовали?
Северина решила, что отвечать не станет, но губы сами проговорили:
— Один раз. Я поцеловала любовницу своего мужа.
— Ну и как она вам?
Северина фыркнула.
— Обыкновенная шлюха.
Хромоножка вдруг прыснула со смеху, взволновав на поверхности воды пену. Она смеялась так заразительно, что Северина и сама невольно улыбнулась. Теперь уже поступок казался шалостью. А недоуменное лицо Алисии стоило того, чтобы поставить бурую сучку на место.
Жулия отсмеялась, чинно поджала свои плоские губы и скроила мину заговорщика.
— А хотите, я вас поцелую, госпожа? Вы так хорошо улыбаетесь сейчас. И совсем не грустите.
Северине сразу стало не до смеха. Она подтянула в воде колени и обхватила их руками, притиснув к груди, чтобы защититься от терзающих прикосновений мыльной губки.
— Нет, — выдавила она таким голосом, что сама себе напомнила Яна. Да, именно Яна в тот момент, когда она попросила его закрыть дверь и не выходить в снег из кара.
— Да, — бесцеремонно возразила Жулия и ее поцеловала.
Рука служанки змеей скользнула в воду, раздвинула колени госпожи, коснулась ее тела в самом чувствительном и беззащитном месте. Не мужское касание — женское, знающее, притворно робкое, а на самом деле искусно дразнящее. Никто еще не трогал Северину подобным образом, и ей почудилось, что сквозь ее тело Жулия ласкает саму себя.
"Она не мужчина, она не мужчина", — бесконечно повторяла себе Северина. Но она так устала от того, что мужчинам дорога в ее постель была заказана…
Жулия оторвалась от нее, облизнула губы, глаза подернулись поволокой. Она расстегнула пуговицы на своем сером форменном платье, оголила плечи одно за другим, вытянула из рукавов острые локти. Улыбнулась, двинула ткань вниз по груди. Соски стояли, над правым виднелась темная родинка. Северина коснулась ее мокрым пальцем, размышляя, не снится ли ей происходящее.
— Я могу войти в одну воду с вами, госпожа?
Северина как-то неопределенно кивнула. Жулия поднялась с колен, спустила платье по талии до самого низа. Живот у нее был плоский, на бедрах выступали косточки. Она подняла ногу, чтобы перешагнуть бортик ванны, на миг открыв Северине то, что скрывалось среди спутанных и мягких ржавых волос.
"Она не мужчина. Определенно".
Они снова поцеловались в мыльной ароматной пене, сначала едва трогая груди друг друга, потом начиная ласкать их все яростнее. Опытные руки против неуверенных, оливковая кожа на контрасте с мраморно-белой, ржавые волосы и черные, как ночь. Северина с удивлением узнавала, каковы женщины на ощупь. Мягкие, нежные, так что боишься поранить. Почему мужчины никогда не боятся этого, когда врезаются в женские тела? Или боятся? Откуда, проклятый темный бог, ей это знать? Она почти забыла даже майстера Ингера.
Она распахнула ноги и потерлась о бедро Жулии, позволяя ей делать то же самое со своим бедром. Теперь они уже сцепились, как две лесные кошки, постанывая, вскрикивая, извиваясь в воде друг на друге. Пальцы Жулии, тонкие, ловкие, проникли ей внутрь. Несколько толчков — ох, пресвятой светлый бог, как же это похоже на мужчину, — и тело Северины взорвалось оргазмом. Она выгнулась, закричала: стыдливо, с навернувшимися слезинками в уголках глаз, и тут же обмякла.
— Госпожа, моя госпожа, — шептала ей хромоножка, — не плачьте, госпожа… я хотела, чтобы вы улыбнулись… пойдемте, я вас уложу.
Северина встала из воды, потоки текли по ее телу, не удовлетворенному, а лишь распаленному первой сладкой разрядкой. Так обычно хочется пить после долгих мучений от жажды — еще и еще, пока не достигнешь крайнего предела насыщения. Тончайшее полотенце показалось жестким наждаком на коже. Жулия без тени стеснения вытерлась после хозяйки, бросила его на пол, взяла ее за руки.
— Идем, госпожа. Моя хорошенькая, красивая госпожа…
Они вошли в темную спальню, ступая босыми ногами по ковру. После горячей ванны здесь ощущался холод, как на вершине дарданийской горы. "А я еще хотела уйти в послушницы, — вяло подумала Северина и мысленно покачала головой, — Ян прав, я даже сама с собой не могу справиться". Она обхватила себя руками и задрожала. Жулия откинула покрывало, обняла ее за талию. В постель они рухнули вместе. Сразу вновь стало жарко. Жадные ладони ласкали Северине грудь, влажный рот терзал ее соски. Совсем, совсем ничего не видно вокруг. За окном идет снег, и дороги закрыты, и у нее никогда не будет любовников.
Она раздвинула бедра, влажные, липкие, и ощутила, как чужие мягкие губы ласкают ее там. Язык щекотал, пальцы обводили контур мокрых складок, иногда срываясь и проникая между них в жаждущую, истекающую соком глубину.
— Госпожа, моя добрая госпожа…
Северина запустила руки в растрепанные ржавые волосы и стиснула их, грубо, как делает мужчина, когда его удовлетворяет ртом женщина, и умоляла, кажется, вслух, чтобы это блаженство никогда не кончалось.
Потом, многими часами позже, на границе между ночью и очередным зимним рассветом, Жулия бесстыдно приникла к ее плечу, лежа вместе с ней на сбитых простынях. Изгиб оливковых бедер смутно читался в неверном свете наступающего дня.
— Я люблю вас, госпожа, — прошептала она и тут же уснула.
"Она меня любит".
По прихоти богов — и по заветному желанию Северины — снегопад длился еще два дня. Целых два дня, каждую минуту из которых она была так счастлива, как мало когда в своей жизни. Неизвестно, кто же сжалился над ней, светлый или темный, но Северина склонялась ко второму варианту.
Да и могло ли исходить такое счастье, тайное, постыдное, от светлого бога? Никто никогда не видел его лица, но иногда Северина представляла себе эти черты: исполненные белоснежного льда и твердого камня, безупречные и бесстрастные. Порой она ловила себя на мысли, что это лицо походит на Димитрия, но лишь когда давала волю фантазиям слишком бездумно. Светлый бог мог дарить только правильное счастье, то, которое снисходит на невест у алтаря, на матерей на родильном ложе, на старух за вечерней сказкой для внуков. Его именем держались обеты, и под его строгим взглядом каждый обретал свой покой. Светлый бог был богом Эльзы и богом Алекса, богом отца Северины и их бывшего канцлера, который потерял разум и способность ходить.
Но светлый бог имел дурную привычку отворачиваться. Не тогда, когда сделано что-то плохое — в любой момент, просто так, по непостижимой прихоти своей высшей силы. Он отворачивался — и улыбки гасли, и крики оставались без ответа, и никто не карал за нарушенный обет. Темный бог не отворачивался никогда. Он всегда находился где-то рядом, наготове. Его улыбка была порочна и сладка, его объятия — горячи и бесконечны. Он нес с собой утешение всем страждущим, всем отверженным, всем неправильным и непонятым, всем больным и проклятым, всем безумным и одиноким во тьме. Он тоже дарил счастье, но за это счастье приходилось платить дважды.
Северина старалась не думать о расплате, когда, проснувшись после ночи любви, первым делом подбежала к окну и увидела там прежнюю белую пелену. Позади нее Жулия лениво потянулась на простынях, потом встала и, прихрамывая, подошла, чтобы обнять сзади. Мягкая грудь, пышущее жаром после сна тело. Северина положила ладонь на руку служанки, обвившую ей плечи, и они стояли так в молчании некоторое время, глядя на мир, который исчез под снегом. "У меня не было подруг, кроме Эльзы. И не будет. У меня не будет любовников".
— Принеси мне завтрак, — приказала Северина, — и скажи управителю…
Она замешкалась, размышляя, какую бы придумать ложь, но Жулия пришла на помощь:
— Я скажу, что ночью вам снились кошмары, и вы заставили меня оставаться в вашей комнате на полу у кровати, чтобы меньше бояться.
"Умная девочка". Северина с удивлением поняла, что улыбается. "У меня не было подруг, кроме Эльзы. И не будет. У меня не будет любовников". Но кусочек любви у нее будет точно.
После завтрака она почувствовала себя в таком хорошем настроении, что села и написала новое письмо Алексу. Слова лились одно за другим, и вскоре весь лист оказался покрыт чернильными строчками. Северина перечитала его, вздохнула и не стала сжигать. Она все-таки наберется смелости и отправит его. Нет, передаст лично. Так будет правильнее.
Испытывая все тот же прилив сил, Северина прошла по дому в сопровождении управляющего, дала указания сменить выцветшие портьеры в некоторых комнатах и заказать больше дров для каминов. Рассчитала молодого слугу — здоровенного парня с противными хитрыми глазками — так как Жулия успела обмолвиться, что он по ночам пристает к служанкам в их постелях. Она могла бы жить здесь и все больше в этом убеждалась. Особняк — отличная альтернатива дарданийским горам, куда ей хотелось сбежать от мужа. Жизнь затворницы можно вести и тут. Только рядом будет Жулия.
С самого детства Северина только и делала, что сидела в четырех стенах и скучала. Казалось бы, снегопад обречет ее на привычное безделье. Но в компании хромоножки все шло по-другому. Они запирались в библиотеке, Северина садилась в глубокое кресло с высокой спинкой, по правую руку от нее трещал веселый огонь в камине, напротив — за толстыми двойными стеклами — падал снег, а у ног на ковре сидела зеленоглазая гурия и внимательно слушала, как госпожа читает вслух. Иногда она вставляла комментарии, едкие и по делу. Это заставляло Северину смеяться.
"У меня никогда не было подруг, кроме Эльзы".
За ужином она приказала Жулии остаться в столовой, сесть на соседний стул, и накормила ее со своего стола: ножкой барашка в меде и орехах, ванильными вафлями и свежими фруктами, которые зимой привозили в столицу ограниченными партиями прямо из теплой Нардинии. Хромоножка в ответ потчевала ее историями из своей прошлой жизни, рассказами обо всех странных, извращенных и озабоченных клиентах, каких только успела повидать. Северина старательно делала вид, что слушает с изумлением. Что-то в ней было не так от рождения или это Димитрий притупил ее восприятие в некоторых вопросах, но удивлялась она разве что тому "люблю", сказанному Жулией в полусне. Удивлялась так, что боялась даже переспросить, что же это был за порыв. А пикантные истории не шли ни в какое сравнение с ее жизнью.
"У меня не будет любовников".
Вечером они снова заперлись ото всех и вместе лежали в горячей ванне, и оказалось, что Северина давно уже никому не рассказывала о себе, если не считать бесед с майстером Ингером. Последней ее слушательницей, пожалуй, была Эльза, да и то еще в школьные времена. Она так увлеклась, что говорила и говорила, о своем детстве, о рано ушедшей матери, об отце, который никогда не мог сказать ей "люблю" и заставлял ощущать себя неполноценной, о лучшей и единственной подруге, которой сломала жизнь просто потому, что не видела просвета в собственной.
В ответ Жулия рассказала о себе. Ее отцом был довольно богатый тэр, приехавший в Цирховию из далеких земель за океаном. Мать ее, майстра настолько бедная, что едва ли имела право так называться, не устояла перед его загадочной и экзотической внешностью. Он уехал, а она через положенные девять месяцев родила, но вскоре скончалась. Как говорят, усохла от тоски по любимому. Маленькая Жулия помыкалась по дальним родственникам в качестве приживалки, но все так хвалили ее внешность, в чем-то доставшуюся и от отца, что становилось понятно — лучше работы, чем нонной, ей не найти. Туда она и отправилась, когда подросла.
— Мне тоже нравится необычный цвет твоей кожи, — задумчиво произнесла Северина, проводя по руке хромоножки мокрой ладонью. — Интересно, как бы на ней смотрелись сапфиры?
Они встретились взглядами и улыбнулись.
Сапфиры на Жулии смотрелись великолепно, но она совершенно не умела их носить. Вертлявая и гибкая, как обезьянка, она каждую секунду старалась оглядеть себя будто бы со стороны.
— Мне идет, госпожа? Идет? Да?
Северина отдала ей на растерзание маленькую шкатулку с драгоценностями, которую хранила в особняке на всякий случай, и Жулия высыпала на кровать между ними ее бриллианты, рубины и изумруды, составляя из них комплекты, порой дикие по цветовому сочетанию. Теперь она походила даже и не на обезьянку, а на аборигенку с Раскаленных Островов, что лежали за Нардинией, отделенные проливом.
— Ну что? — гордо подбоченилась Жулия. — Похожа я на богатую лаэрду?
— Нет, — рассмеялась Северина.
— Хм. А так?
Она вскочила и, прихрамывая, убежала в гардеробную, а затем появилась оттуда в одном из платьев Северины. На груди и бедрах ткань висела мешковато, но по росту наряд подошел.
— Я — благородная лаэрда Северина, — помпезно заявила она, по-театральному выставив руку над головой. И тут же добавила своим обычным голосом: — Ну как?
— Ужасно, — вздохнула Северина и поднялась с кровати. — Но у тебя есть верная служанка, которая знает, как все исправить.
Как была голая, она принялась хлопотать вокруг Жулии, выбирая ей из своих вещей другое платье, попутно выискивая в ящиках булавки, чтобы прихватить излишки ткани в нужных местах. Возня с тряпками получилась неожиданно захватывающей. В этих комнатах, пожалуй, никогда еще не звучало столько женского смеха. В воздух взвивались облачка духов и флер пудры, глухо постукивали камни в ожерельях и покачивались бриллиантовые серьги в ушах. Расческа плясала в ржавых волосах, а когда все закончилось, в зеркале над туалетным столиком отражалась…
— Вот это благородная лаэрда, — сказала Северина, стоя позади роскошно одетой, удивительной красоты женщины с оливковой кожей и положив руки ей на плечи.
Та повернулась, в отражении мелькнула гладкая спина, открытая шея, а перед Севериной вспыхнули зеленые огни в глазах, и дальше все как-то закрутилось, и снова им было жарко и сладко вместе, и в спальне разливалась темнота, а за окном — белоснежная пустыня.
Когда метель утихла, жена наместника вернулась в резиденцию в сопровождении новой личной служанки. Здесь ждала гардеробная, еще более переполненная красивыми платьями, и огромный выбор драгоценностей, и много-много темных ночей впереди. "У меня не будет подруг". Северина завтракала, задумчиво улыбаясь, с той же улыбкой танцевала на праздничных вечерах и так же задумчиво приветствовала мужа, когда тот проходил по залу мимо в сопровождении новой пассии. Она рассеянно смотрела на Яна, сталкиваясь с ним в коридорах. "У меня не будет любовников".
Она проснулась очередным утром и вздрогнула от того, что Жулия лежит рядом на подушке и смотрит в упор на нее. Взгляд служанки тоже казался задумчивым, а из общей массы волос выбилась тонкая прядка и лежала прямо поверх зрачка. Это выглядело странно и неестественно — прядь волос на неподвижном оке. Северине потребовалась секунда, чтобы сообразить. Она вскочила, увидев, наконец, полную картину: распоротое горло, кровь на подушках и простынях и на собственном обнаженном плече. И Димитрия на той стороне кровати, в свежей рубашке, будто не веселился всю ночь, подложившего одну руку под голову и поигрывающего окровавленным ножом.
— Как спалось, дорогая? — поинтересовался он с до боли знакомой ей ледяной ухмылкой.
— Зачем? — только и смогла выдавить Северина, схватившись ладонью за свое горло так, словно и там кровоточил порез. — Она любила меня…
— Любила? — Димитрий отбросил нож, поднялся с постели и обошел ее, в каждом движении читалось аристократическое благородство и звериная повадка. — Тебя не за что любить, милая.
Он легонько приподнял подбородок Северины, чтобы заглянуть в глаза, и она почувствовала, что его пальцы пахнут жизнью, которая еще недавно текла по венам Жулии. А еще у него был взгляд безумца… но к этому Северина уже успела привыкнуть за годы брака. Ее замутило — и вдвойне от того, что Димитрий стоял так близко, что она ощущала и другой его аромат: мыло и возбуждение, преследовавшие ее еще с тех пор, как была девчонкой. Колени сразу же стали ватными, Северина возненавидела себя за это и попыталась встряхнуться, но не смогла. Он заметил ее жалкие попытки и ухмыльнулся.
— Тебя тоже не за что любить, — процедила тогда она сквозь зубы, — но я же любила.
— Не-ет, — мягко протянул Димитрий и погладил ее по лицу окровавленными пальцами, оставляя длинные влажные полосы. От тона его ласкового голоса по коже Северины побежали мурашки. — Ты не любила меня. Ты хотела владеть мной. Как владеют канарейкой в клетке. Новым платьем. Модным украшением. Так вот он я. Владей мной, дорогая. Ну же.
В застывших глазах Жулии таился невысказанный упрек, когда она смотрела на них, тесно прижавшихся друг к другу, будто бы в пароксизме страсти.
— Я-я… была девчонкой, — пролепетала Северина, начиная сотрясаться от дрожи.
— Ты и теперь такая же, — он вдруг скользнул ладонью на ее затылок, стиснул волосы, заставив выгнуться, глаза запылали белым огнем ярости. — Глупая, маленькая девчонка в теле взрослой женщины. Говорил ли я тебе, чем карается измена правителю?
— Ты не правитель. Всего лишь наместник, — она махнула рукой, желая загнать ногти в его красивое лицо, но рассекла воздух. — И я знаю, что это ты сделал канцлера таким, какой он сейчас. Ты, а не какой не несчастный случай. И Жулия была не мужчиной.
— А ты думаешь, секс с женщиной так уж сильно отличается от секса с мужчиной?
Их крики, наверно, слышал весь дом. Со второй попытки Северине все же удалось попасть в цель, и по щеке Димитрия от глаза до подбородка протянулись три кровавые борозды. Казалось, он их даже не почувствовал. Чувствовал ли он что-нибудь вообще? Северина очень в этом сомневалась.
— Отпусти меня, — простонала она и впилась ногтями теперь уже в запястье той руки, которая удерживала ее. — Ненавижу тебя. О, как я тебя ненавижу.
— Нет, — улыбнулся Димитрий. Он наклонился и прижался губами к ее щеке, крепко, как целует любовник желанную возлюбленную, — я никогда не отпущу тебя. Теперь только смерть разлучит нас, помнишь? Может, ей стоит разлучить нас сегодня?
Северина стиснула зубы, чтобы не дать пролиться ни одной слезинке — она слишком хорошо помнила, как он любил сцеловывать их — но все же застонала. Неожиданно Димитрий разжал пальцы. Ее ноги подогнулись, и Северина сползла на пол, уткнувшись головой ему в колени. Она по-прежнему ощущала взгляд Жулии на своей спине. "У такой, как ты, никогда не будет подруг. Не будет любовников".
— Я сказал, что убью тебя, если еще раз увижу, — вдруг произнес над ней Димитрий каким-то странным, глухим голосом. — Я пока еще не смотрю. У тебя есть шанс уйти. Используй его, пока можешь.
Сердце у Северины пропустило удар. И снова одна секунда отделяла ее от понимания, что происходит, и за эту секунду перед глазами пронеслась вся жизнь. Северина вскинула голову, уже зная, что увидит в дверях Яна — единственного, кто посмел вмешаться в семейную ссору наместника с женой. Она перевела взгляд — Димитрий вроде бы смотрел на нее, но изучал что-то внутри себя, таким отсутствующим стало выражение его лица.
— Я не уйду, — тихо, но твердо возразил Ян, — пока ты ее не отпустишь.
— Она — моя жена, — кулаки Димитрия стиснулись.
Ян невесело усмехнулся.
— Она — всего лишь слабая девочка, которую тебе нравится мучить. Ты никогда не обращался с ней, как с женой.
— Тебе-то что до этого?
— Я ее люблю.
Нет, он не должен этого говорить, в ужасе подумала Северина. После того, что Димитрий сделал с Жулией, она сама едва ли решилась бы просто взглянуть на кого-нибудь, неважно — мужчину, женщину или ребенка, чтобы не навлечь подозрений и не стать причиной смерти еще одного невинного человека. Но вот так открыто заявлять о любви. Это же полное безумие.
Но это был Ян, вместе с тем понимала она, и у Яна имелись свои представления о верности и чести. Он не мог делать что-то за спиной друга. И, видимо, только такой способ посчитал наиболее подходящим для себя.
— Любишь? — как-то по-особенному вкрадчиво переспросил Димитрий, и Северина увидела, как потемнело его лицо.
Смотреть на Яна он все еще избегал. Да он же тянет время, догадалась она. Димитрий мог бы уже тысячу раз убить Яна за эти несколько минут, не говоря уже о том, чтобы обернуться волком и просто прыгнуть. Достаточно было лишь повернуться, посмотреть — и выполнить обещанную угрозу. Но Димитрий не смотрел. И не шевелился.
— Я не знаю, что такое любовь, — задумчиво проговорил он.
— Знаешь, — отозвался Ян, — и теперь знаешь, что чувствовал я, когда отбирал твою женщину. Но мне пришлось. Ты сгорал рядом с ней. Ты бы умер.
Обычные ледяные улыбки Димитрия не шли ни в какое сравнение с той, что играла на его губах теперь.
— Может, тебе стоило дать мне умереть? Может, я желал такого исхода?
— Может, — согласился Ян и замолчал, обдумывая что-то. — Но я не мог позволить тебе умереть. Я понимал, что ты возненавидишь меня, но твоя жизнь была важнее твоего счастья. И нашей дружбы тоже. Прости меня.
— Простить? — Димитрий повернул голову и впервые за столько лет посмотрел на старого друга. Сидящей на полу Северине на миг показалось, что его холодные черты слегка оттаяли, но скорее всего ей просто хотелось так думать. — У тебя была сытая жизнь, как я погляжу.
Шли секунды, но даже теперь он не бросился на своего заклятого друга. Просто стоял и смотрел, и в его глазах разливалась столь знакомая Северине белоснежная пустыня. Она не понимала, почему он не двигается.
— Мы много работали вместе, чтобы жить сыто, братишка, — кивнул Ян с виноватой улыбкой.
— Много, — подтвердил Димитрий равнодушно и перевел на Северину взгляд, под которым та невольно съежилась. — Что ж, предоставим выбирать нашей прекрасной лаэрде. Выбор, которого у меня никогда не было. Кого ты хочешь, дорогая? Выбирай.
— Яна, — ответила она дрожащими губами, прежде чем успела подумать. — Я хочу уйти к Яну.
— Это хорошо, — он ласково погладил ее по лицу, взял за плечи и поднял на ноги. — Тогда докажи это. Поцелуй меня на прощанье и повтори это снова.
Ян, все еще замерший на пороге, издал протестующий звук, но Димитрий одним жестом остановил его возражения.
— Это ведь добровольное решение. Она может не целовать. Ты можешь не целовать, Северина.
"Ты можешь не целовать, Северина". Зеленые глаза Жулии смотрели на нее в упор. "Ты можешь не целовать. И тогда он убьет его тоже. Чудовища не умеют любить. Чудовища не умеют прощать". Димитрий — не тот человек, чтобы мило улыбнуться и пожелать им совместного счастья, раз уж так все сложилось. Она поняла, что сглупила. Ей надо было изначально выбрать мужа. В конце концов, он прав — она выбрала его один раз и на всю жизнь, как можно тешить себя надеждой, что удастся сбежать?
— Я поцелую.
Северина обвила руками шею Димитрия и прикоснулась к его губам. И ощутила, как тонет. Это то, о чем она говорила Яну, когда пыталась признаться в любви. Глупое, неумелое признание глупой, неумелой девчонки.
Она на миг расслабилась… и осознала, что сидит на собственном письменном столе. Ее руки сдирали рубашку с мощных плеч Димитрия, стоны рвались из груди. Он целовал ей шею, терзал соски и гладил бедра, словно они остались лишь вдвоем. На какой-то миг для Северины действительно исчезло все остальное. Она распахнула глаза, увидела напряженное лицо Яна. Он не отворачивался, смотрел, и от этого ей захотелось кричать, но теперь не от удовольствия, а от того неясного, невыносимого чувства, что выворачивало ее наизнанку.
— Так кого ты выбираешь, дорогая? — с усмешкой прошептал ей Димитрий.
— Никого, — заорала она, отталкивая его и хватаясь за виски. — Убирайтесь оба к темному богу. Оставьте меня в покое.
— Ты слышал, Ян? В покое, — Димитрий одернул рубашку, обнаружил оторванную пуговицу и с сожалением прищелкнул языком. — Как ты там сказал? Теперь я знаю, что чувствовал ты? Нет. Это ты теперь имеешь хоть какое-то представление о том, что чувствовал я.
Он прошел мимо Яна, толкнув плечом. Тот поморщился, но ничего не ответил. Северина спустилась со стола и обхватила себя руками. Она уже достаточно простояла голой, ее начала раздражать собственная нагота. И собственная беспомощность.
— Убирайся, — хрипло повторила она Яну. — Ты сам все видел.
Он посмотрел на нее долгим взглядом, затем развернулся и вышел. Северина выпрямила спину и сделала глубокий вдох. То, что ей оставалось, требовало определенного мужества, но если она не выполнит задуманное, то закончит жизнь еще хуже. У Димитрия отобрали его любовь, и это сделало его беспощадным и жестоким монстром. Она не хотела себе такой судьбы, она боялась ее, а еще она так сильно устала… Кто знает, что станет с ней, если Димитрий продолжит отбирать у нее любовь снова и снова?
С каменным выражением лица, стараясь не смотреть на тело Жулии, ставшей безмолвным свидетелем этой отвратительной сцены, Северина пошла в ванную комнату. Там она долго сидела под горячей водой и терла себя щеткой, понимая, что все равно не смоет всю ту грязь, что налипла на нее за столько лет — и за те несколько минут, в течение которых она страстно желала заняться сексом с Димитрием на глазах у Яна. И занялась бы, если б тот продолжил. И занялась бы даже теперь, если б он вошел и заставил ее. Никогда еще Северина так не ненавидела свою волчью половину, как сейчас.
Разодрав себя до крови, она вытерлась и пошла в гардеробную. Здесь еще мерещился звонкий смех Жулии и валялись разбросанные украшения — Северина в сердцах схватила и порвала жемчужную нить. Белые перламутровые бусины вскачь разлетелись по полу. Она заставила себя успокоиться, села за туалетный столик и взялась за макияж.
Говорили, что мать Димитрия выглядела великолепно в тот день, когда сошла с ума. Кажется, Северина начинала в это верить. Она тщательно выбрала наряд — темно-зеленое платье с золотой вышивкой по вырезу и бокам — и украшения к нему. Только волосы лишь высушила и расчесала, не потрудившись уложить. Может, они прикроют то безобразие, в которое превратится ее лицо… а оно наверняка превратится.
Закончив с приготовлениями, Северина встала и окинула себя в зеркале критичным взглядом. Там, в отражении, она все еще оставалась молодой, красивой и полной сил. Внутри она ощущала себя мертвой старухой.
Никто из слуг или прочих обитателей резиденции не встретился на пути, пока Северина поднималась на самый верх. Дверь на чердак ютилась в конце лестницы и отворилась легко. Большое пустое пространство было серым от пыли и полутемным: свет поступал сюда лишь через редкие щели меж досок, в них же свистел сквозняк. Вторая дверь, которая вела на крышу, примерзла, ее пришлось хорошенько подтолкнуть плечом. Наконец, Северина вырвалась наружу.
Ее легкие домашние туфли тут же утонули в снегу, который ровным нетронутым слоем покрывал все видимое пространство. Ветер подхватил волосы и бросил в лицо. Крыша была плоской, с невысоким, по колено, но широким парапетом по краю, Северина подошла к нему и поставила ногу. Парк внизу походил на великолепную зимнюю сказку. Деревья, кусты и клумбы стояли, припорошенные белым. Серовато-жемчужное небо над ними хмурилось. Она перенесла вес и поставила на парапет вторую ногу. Раскинула руки, чтобы сохранить равновесие — ветер железным кулаком бил в грудь и толкал в спину.
Как красиво. И как страшно.
Северина подняла голову и закрыла глаза. Еще секунда, одна маленькая секунда — и она возьмет себя в руки и шагнет в бездну. Ей следовало сделать это давным-давно, еще в детстве, когда она влюбилась не в того парня и предала подругу. Но как же страшно… и как хочется найти себе тысячу оправданий, чтобы жить…
— Подожди, волчица, — раздалось за ее спиной, — мы сделаем это вместе.
Ян. Положение Северины было слишком неустойчивым, чтобы оборачиваться, но она и так знала, что это он. Земля внизу на миг поплыла перед глазами, и пришлось взмахнуть руками, чтобы удержать равновесие и не свалиться. Но в следующую секунду ее запястье схватила теплая ладонь Яна, и сам он шагнул на парапет рядом. Неловко пошатнулся — у Северины сердце едва не остановилось, и она вцепилась в него так, что пропорола ногтями кожу. И стиснула зубы — хотелось орать на него, костерить на чем свет стоит за то, что полез. Или громко, по-детски разрыдаться, потому что совсем не ждала, что кто-то за ней полезет…
— Я знаю, зачем ты здесь, — вместо этого сердито бросила Северина заснеженному парку и серому небу. Холодный ветер запустил пальцы ей под платье, поднялся до бедер, кожа тут же покрылась мурашками. Ей захотелось потереть себя, но тогда пришлось бы отпустить руку Яна, поэтому она передумала. — Ты собираешься уговорить меня передумать. Я не передумаю. Я не вернусь. Я все решила.
— Женщина, — тихо проговорил Ян, но она видела, что за его приглушенным тоном кроется другое. Он злился, хоть и не хотел этого показывать. — Когда ты поймешь, что решать должен мужчина? Почему ты не подождала еще чуть-чуть? Я бы устроил все… с гораздо меньшими потерями.
— Да мне надоело ждать, — если бы взгляд Северины мог испепелять, то от высокой и стройной вечнозеленой туи перед входом в парк ничего бы уже не осталось. — Я всю жизнь ждала, пока отец вспомнит обо мне, потом — пока Димитрий соизволит обратить на меня внимание. Я не желаю больше ждать. Тебя — особенно.
— Значит, прыгаем? — приподнял бровь Ян.
Она фыркнула, взметнув в воздух облачко горячего дыхания.
— Уходи, Ян. Ты ничего не потеряешь, если не прыгнешь.
— Потеряю, волчица. Тебя. А я не собираюсь тебя терять.
Ей нестерпимо захотелось зажать уши, чтобы не слышать этого. Почему он не приходил раньше? Зачем постоянно говорил "нет", когда она сама тянулась к нему? Ее душевные раны затянулись бы от его тепла. Тогда. Но не сейчас. Теперь она изломана внутри, покалечена так, что если упадет, жалкие останки ее тела вряд ли пойдут в какое-то сравнение с изуродованной душой.
— Я не сделаю тебя счастливым, — устало покачала головой Северина. — Ты же видел. Я привязана к Димитрию. Я переспала с женщиной, и мне это понравилось. И когда я спала с ней, то забывала обо всем, и о тебе тоже. Зачем я тебе такая нужна?
— Действительно, зачем, — хмыкнул он с напускным весельем. — В последнее время я и сам задавался этим вопросом. А еще больше гадал, почему Димитрий все еще помнит о своей девчонке из Нардинии, когда рядом с ним такая красивая и горячая женщина. — Северина ответила яростным взглядом, и это развеселило его уже по-настоящему. — А потом я понял: просто мы с ним разные, ему нужен покой, а мне — огонь. Ты — огонь, Северина, раз за разом в этом убеждаюсь. Дай тебе волю, и ты все вокруг разрушишь. Перестань поддерживать — и ты гаснешь. Но я бы просто заставил тебя гореть.
На какой-то момент Северина почти забыла, что стоит на краю бездны, ощущая под ногами пустоту. Тесно и как-то очень приятно стало внутри, и даже ветер отступил, прекратив пронзать ее через легкое платье. Ей всегда хотелось такого — и чтобы кто-то пошел за ней, рискуя жизнью, и чтобы ей было для кого гореть… и светить, и греть, если понадобится. Но такое случается только в сказке, с прекрасными принцессами, милыми и добрыми, с нежными тихими девушками, заслужившими чью-то привязанность своими хорошими делами и открытым честным сердцем. Не с ней. Не с такой, как она, абсолютно точно.
— Прыгаем, Северина? — в очередной раз спросил Ян.
Она молчала, неподвижная, как каменное изваяние.
— Хорошо. Пока ты думаешь, — продолжил он, как ни в чем не бывало, — я должен рассказать тебе о твоей служанке.
— О Жулии? — Северина встрепенулась, будто очнулась ото сна, с трудом заставив себя произнести это имя.
— Да. О ней. Ты должна знать… я отчасти тоже виноват в том, что так случилось.
— Это ты, да? — прежняя боль вернулась, горло перехватило, и слезы навернулись на глаза. — Это ты каким-то образом узнал о нас с ней и доложил Димитрию?
— Нет, — ответил он, — но я не успел вовремя перехватить информацию, которую принес ему один из бурых. Она приглянулась парню с первого дня, сама знаешь, как это бывает. Смазливая мордочка, хорошая фигурка. Твоя служанка… она была, скажем так, не против его ухаживаний. И хвасталась между делом, что вдоволь уже наработалась и теперь будет носить дорогие платья и украшения и скоро всех здесь заставит себя уважать. Учитывая, как ты витала в облаках все это время, сопоставить одно к одному не составило труда.
Северина мучительно застонала и прикрыла ладонью лицо. Ей вспомнилась тяга Жулии к красивым вещам, платьям и украшениям, постоянное желание преображаться в лаэрду. Тяга, которую сама Северина находила милой шалостью и даже поощряла собственноручно.
— Она казалась мне умнее…
— Ты была легкой добычей, волчица, — сурово отчеканил Ян, — наверно, это вскружило ей голову. Я звонил в твой особняк, допрашивал управляющего. Он сказал, что Жулию там не любили за высокомерное поведение.
— Что значит "я была легкой добычей"? — насторожилась она.
— Есть история, которую я тебе не рассказывал, — он слегка замялся. — О том, как покалечили ей ногу.
— Ты говорил, что это несчастный случай.
— Несчастный случай, да. Можно и так сказать. Не хотел портить бедняжке уже подмоченную репутацию. В общем, она ушла из темпла темного раньше, чем стала калекой. Ее соблазнил и забрал богатый старик, как говорят, влюбленный по уши. Мутное дело. Он умер как-то скоропостижно, и сразу же всплыло завещание, по которому все его богатства доставались не сыну, прямому наследнику, а милой пассии, которая жила в его доме. Сын оказался не дураком и отнес завещание к специалисту, где ему подтвердили, что это подделка. Он не стал предавать дело огласке… но он избил ее, очень жестоко, столкнул с лестницы, и Жулия сломала ногу в нескольких местах.
— Она — охотница за деньгами, — пробормотала Северина. Почему-то даже осознание предательства не ранило ее сейчас. В конце концов, разве она сама не подозревала, что кроется за сказанным "люблю"? Разве не поэтому она так и не набралась смелости переспросить у Жулии, насколько искренним было признание? Она ощущала себя счастливой в тот момент, и в сравнение с этим счастьем не шли никакие платья.
— Она всегда хотела жить красиво, — подтвердил Ян, — даже когда только пришла в темпл неопытной нонной.
Перед глазами Северины проплыла ночь во время снегопада, первая, темная, стыдная. Искусное соблазнение и неистовое желание оказаться соблазненной. Коварно расставленная ловушка. Когда-то она сама расставляла такие же.
— Это ты посоветовал мне взять ее, — прошептала она. — Ты привел ее в мой дом.
— Я пожалел ее. После того случая бедняжка рисковала оказаться на улице. Я надеялся, что она извлекла свой урок. Кроме того, в твоем доме не было богатых мужчин для соблазнения.
— Там была богатая женщина, — рассеянно проговорила Северина.
Хромоножка оказалась на поверку не такой уж и умной. Она подделала завещание, но попалась. Она переехала в резиденцию самого наместника, но не учла, что каждое сказанное слово вернется ей ударом ножа.
— Ну так что, будем прыгать? — напомнил Ян.
Северина посмотрела на парк, на небо и на пролетающих вдалеке птиц. Видимо, от морозного воздуха тяжелая, мутная хмарь в голове прояснилась. Еще не совсем, но стало легче дышать. И жить. Жить захотелось чуть-чуть больше.
— Нет, — она понурилась, осторожно повернулась и спустилась обратно на крышу.
И тут же вскрикнула от увесистого шлепка по мягкому месту. Взвилась дикой кошкой:
— Что ты творишь? Даже мой отец никогда не бил меня.
— Теперь понятно, в чем таился корень всех бед. Иначе у тебя бы хватило ума не лезть на крышу, — Ян перехватил ее руки, притянул за плечи к себе… поцеловал…
Именно так Северина себе этот поцелуй и представляла. Горячий, медленный, нежный, чтобы забыть, как злилась секунду назад, обо всем забыть, кроме замирающего от ласки сердца и покалывания в кончиках пальцев. И себя забыть, и то, что только в сказках такое бывает. Северина требовала этого поцелуя одной зимней ночью на балконе праздничного зала, она мечтала о нем в заснеженном каре.
Но совершенно не ожидала его сейчас.
— Ты же говорил, что нельзя… — пробормотала растерянно, прижала пальцы к губам, ощутив, как заливаются краской щеки. Не от девичьего смущения, а от невозможности поверить, что все это правда, и дикого, невыносимого страха ошибиться вновь.
— Теперь можно, глупенькая моя, маленькая волчица, — прошептал Ян и поцеловал ее снова, коротко и быстро, накидывая ей на плечи свой пиджак. — Разве ты не поняла? Теперь можно.
Северина моментально вспомнила, как озябла.
— Я не вернусь, — отчаянно замотала она головой, сотрясаясь под возобновившимися ударами ветра. — Только не в эти комнаты. Только не к нему.
— Пока и не надо. — Ян обнял ее, уводя с крыши, но заглянул в глаза и твердо повторил: — Пока не надо.
— Но…
— Я все решу. Но решать эту проблему буду я со своим другом, а не ты с мужем. Поняла меня, волчица? Больше никаких резких движений.
Под напором его уверенного тона Северине оставалось только кивнуть. Происходящее казалось сном. Они вернулись на чердак, спустились по лестницам на первый этаж. Она шла, как в тумане. Ян говорил что-то подбежавшему слуге о том, что у жены наместника нервный срыв, который случился после того, как служанка на ее глазах перерезала себе горло, и времени ждать доктора нет, и они срочно едут в госпиталь сами.
Жена наместника? "Это же я", — напомнила себе Северина.
Водитель очень быстро подогнал кар, она села в салон как была, без вещей, в одном накинутом на плечи пиджаке Яна. Сам Ян оказался рядом. Он спокойно смотрел в окно, совсем как тогда, когда они возвращались через снегопад из приюта, но как только кар отъехал на достаточное расстояние от резиденции и начал петлять по городским улицам, Ян повернулся и снова поцеловал Северину.
От теплого воздуха в салоне или от реально пережитого стресса она так разомлела, что опомнилась не сразу. Гладила его по плечам, прижималась, бесстыдно, как оголодавший зверек, позволяла обнимать и ласкать себя в ответ, трогать талию, сжимать в ладони грудь через платье. И ведь правда стало можно, и от этого понимания будто тяжелый камень свалился с плеч.
Наконец, она оторвалась, чтобы с опаской покоситься на водителя — нежеланного свидетеля бурного проявления их чувств.
— Куда мы едем?
— Куда мы едем, Томас? — вместо ответа обратился к слуге Ян.
— В госпиталь святой Терезы, господин, — с готовностью откликнулся тот.
Северина поймала его лукавый взгляд в зеркале и посмотрела в окно.
— Тогда мы едем не в ту сторону. Госпиталь святой Терезы в другой стороне…
— Ты слышал, Томас? — кивнул Ян. — Госпиталь святой Терезы в другой стороне.
— Мы едем в госпиталь святой Терезы, господин, — широко улыбнулся Томас.
— Слышала, волчица? — Ян повернулся к Северине. — Мы все-таки едем в госпиталь. — Он наклонился к ней, погладил по щеке и шепнул: — Это мой человек. И кто бы ни спросил его, всем он будет отвечать только это.
Конечно, в итоге он привез ее совсем не в госпиталь. Особняк с белыми стенами и запущенным садом возвышался на обрыве над рекой. Место считалось окраиной города, но не той, где нормальный человек опасался бы ходить по ночам, а спокойной, тихой, благородной окраиной, полной таких же тихих и благородных загородных домов. Встречать их вышла милая маленькая старушка в черном вдовьем платье и с огромными толстыми очками на носу.
— Это майстра Божена, — представил ее Ян. — Она что-то вроде моей… м-м-м… домоуправительницы.
— Твоей? — зябко поеживаясь от влажного ветра с реки, Северина перевела взгляд на строгие окна особняка. — Это твой дом?
Ей никогда не приходило в голову, что верный помощник Димитрия может жить где-то отдельно. Сколько она себя помнила, Ян всегда крутился рядом. На момент их свадьбы он еще обитал в темпле темного, но в резиденцию они переехали уже вместе.
— Один из домов, — слабо улыбнулся он. — Твой покорный слуга, волчица, является еще обладателем небольшой хижины на южном побережье Нардинии. Ах да, еще и утлого торгового судна, которое курсирует через границу с различными грузами. У меня много чего есть, я просто не люблю это афишировать.
Северина внимательно глянула на него и промолчала. Деньги Яна не волновали ее, но для него, похоже, этот вопрос имел особую, принципиальную важность, словно здесь заключался предмет его мужской гордости. Она побоялась ненароком оскорбить его чувства.
— Ты многого достиг, — осторожно заметила она.
— Мы, — поправил Ян. — Моя коммерческая жилка и неуемное желание крови у Димитрия дали такой результат. Он не коммерсант, а я не боец, но вместе у нас получалось неплохо.
В сопровождении майстры Божены они прошли в дом.
— Зачем ты купил его? — поинтересовалась Северина, изучая обстановку. Наметанный глаз подсказывал ей, что мебель здесь дорогая, но уже вышла из моды, а обивку следовало бы кое-где поменять. Из каждого угла на нее веяло стариной. Похоже, особняк купили в полной комплектации у прежних хозяев, но никогда как следует не занимались им.
— Для сестры, — признался Ян. — Подумал, что ей хорошо жилось бы здесь, на природе, где много света и воздуха. Не все же под землей обитать. Даже ремонт не стал делать, представляя, что она сама решила бы, что и как менять.
— А где она?
— В этом-то и проблема. Я понятия не имею, где. Не идти же мне, в самом деле, к свободному народу и заглядывать каждому в лицо. Тем более, я помню ее совсем малышкой. Она наверняка уже выросла и изменилась с тех пор. И не помнит меня, ведь я давно их бросил.
— А как ее звали?
— Ласка, — он произнес это имя с особой теплотой.
Северина призадумалась.
— Ты мог бы поспрашивать у людей. Попросил бы Алекса, он найдет кого угодно…
— Волчица, — снисходительно усмехнулся Ян, — ты думаешь, Ласка — такое уж редкое имя среди свободного народа? Да там половина девочек Ласки, или Мышки, или Кошки, или Воробышки. Многие меняют настоящие имена на клички, и их знают только по ним. Это все равно что искать иголку в стоге сена.
Он усадил ее на цветастую софу в гостиной и подозвал майстру Божену.
— Принесите нам кофе, пожалуйста. И с коньяком. И покрепче.
Старушка с широкой улыбкой на высохшем лице быстро выполнила просьбу. Ян лично вручил чашку Северине, заметил ее ищущий взгляд, вынул из кармана пачку сигарет и подкурил одну для нее. Она с благодарностью взяла ее и втянула в себя терпкий дым. От первого же глотка горячего напитка по горлу разлился жар, и озноб медленно отступил.
— Что теперь со мной будет? Для чего ты привез меня сюда, Ян? — этот вопрос ей хотелось задать еще полчаса назад, но смелости Северина набралась только теперь, когда ждать дальше уже стало некуда.
— Побудешь здесь в изгнании, — весело отозвался он.
— В изгнании?
— Сиятельству будет приятна мысль, что ты в изгнании, и доктора в госпитале святой Терезы пичкают тебя успокоительным и привязывают к кровати. Мне будет приятна мысль, что не придется снова лезть на крышу, чтобы снять тебя с парапета. Я считаю это гениальным решением. — Ян подался вперед и сдвинул брови. — Мне ведь не придется больше волноваться, что ты с собой что-то сделаешь?
— Нет, — Северина устыдилась и спряталась за чашкой.
— Вот и хорошо, — он с удовлетворением откинулся назад.
— А ты… — она сделала глубокий вдох, чтобы набраться еще больше смелости, — ты останешься здесь со мной?
— Нет, волчица, — Ян задумчиво посмотрел, как она вспыхнула от этих слов, и смягчил тон: — Не сейчас. Если останусь, то уже минут через пять мы с тобой окажемся в постели. И поверь, это я тебя потащу, да так, что ты и пикнуть не успеешь. У меня терпение, знаешь ли, тоже не железное. Но я всю жизнь только и делал, что лечил разбитые сердца и утолял чужие страдания. Мой опыт подсказывает, что тебе сейчас нужен не секс.
— А что? — беспомощно спросила Северина.
— Отдых, — он решительно поднялся с места. — Отдыхай, волчица. Обо всем остальном позабочусь я.
Еще один короткий поцелуй — и Ян ушел, а она осталась. В чужом незнакомом доме в компании ветхой старухи. Что ж у нее за судьба такая? Каждый мужчина в жизни Северины буквально считал своим долгом запереть ее в четырех стенах. На этот раз она восприняла неизбежное со странной покорностью. Она так устала бороться, плыть против течения. Пусть будет, как есть.
Северина даже физически ощущала усталость. Возможно, спиртное сделало свое дело, наложившись на нервное напряжение, но прямо там же, на софе в гостиной, она легла, поджав под себя ноги, и моментально уснула.
А на следующее утро проснулась среди моря цветов. Розы стояли повсюду, и их аромат заполнял комнату густой пеленой. Белые зимние и оранжерейные чайные, морковные и цвета бордо, темно-красные, как кровь, и алые, как девичьи губы. Кто-то доставил их сюда прямо в фарфоровых вазах и в таком количестве, что хватило бы на целый цветочный магазин.
Северина сидела некоторое время, спустив ноги с софы и сонно моргая, и гадала, как же она так крепко заспалась, что даже не слышала чужих шагов. И сколько же проспала, почти сутки? Спина затекла от неудобной позы, но все тело стало расслабленным, напряжение ушло. Потом она опомнилась, захлебнулась восторгом, подскочила, чтобы потрогать бутоны, убедиться, что они настоящие. Они были настоящие, холодные, только-только с мороза, тугие. Северина покрутилась и замерла со счастливой улыбкой на губах, поднеся к лицу одну выдернутую из букета розу. Сказка… кто-то сделал сказку для нее явью.
Такой ее и застала майстра Божена, которая величаво принесла завтрак и сообщила, что еще прошлым вечером доставили и чемоданы. Вещи, догадалась Северина и порадовалась возможности переодеться. Если ее изгнание будет таким и дальше — что ж, она совсем не против.
После завтрака Северина занялась тем, в чем достигла немалых успехов за долгие годы — борьбой со скукой. Для начала она решила поближе познакомиться с домоуправительницей. По тому, как передвигалась по комнатам старушка — почти не глядя по сторонам и сосредоточившись — с каким отрешенным взглядом поворачивала голову на звук чужого голоса и как подслеповато моргала и щурилась, если собеседник стоял рядом, стало понятно, что майстра Божена мало что видит даже через увеличенные стекла своих очков. Она называла Северину "деточка" и на "ты" и вскользь намекнула, что "мальчику" давно пора жениться, пусть и "ради маленького", из чего сам собой родился вывод, что старушка не узнала жену наместника, понятия не имеет, кто она такая, и принимает ее за простую девушку. Более того, подозревает, что гостья беременна от Яна, именно поэтому он и привез ее сюда.
"Если бы все было так", — мысленно вздохнула Северина и не стала разубеждать майстру Божену в обратном.
О себе домоуправительница рассказала охотно. Она вырастила и выдала замуж дочь, но после смерти мужа дети попросили ее продать дом и переехать к ним. Вскоре стало понятно, что там она им тоже мешает, и гордая майстра Божена подыскала себе работу с проживанием. Место у Яна ее вполне устраивало, здесь она снова была сама себе хозяйка, а господин появлялся чуть чаще, чем раз в год, чтобы проверить, все ли в порядке и выдать очередное жалование. На жалование майстра Божена покупала подарки внукам.
Еще Северина узнала, что каждый день ровно в полдень мальчишка-посыльный привозит сюда продукты: свежее молоко, хлеб и сыр, иногда сметану или овощи, если сделать ему заказ. Майстра Божена ела, как птичка, и обычно много не требовала, но пообещала, что для гостьи закажет больше продуктов и приготовит много вкусных блюд. Северина улыбнулась ей, подкараулила мальчишку у ворот и сделала ему свой заказ.
Через час в особняк прибыла его старшая сестра — долговязая девица с красными натруженными руками. Под зорким наблюдением Северины она прошла по комнатам, посрывала чехлы с мебели, а затем отдраила большую часть дома до зеркального блеска. За это Северина подарила ей одно из своих платьев — не самое красивое и не самое новое. Девица едва не хлопнулась в обморок от счастья и поклялась, что придет завтра и домоет остальное, а затем станет приходить каждый день, пока госпожа будет нуждаться в ее услугах. Северина тонко улыбнулась и ей, присела в кресло, закурила и сказала, что ей нужны дополнительные услуги.
Вскоре она знала по именам почти всех соседей и являлась обладательницей местных сплетен, какие только могла сообщить ей девица.
Все складывалось хорошо, но с наступлением темноты на Северину опять навалилась скука. Весь день она ждала Яна, но тот так и не приехал. Они с майстрой Боженой остались в доме одни, а ветер с реки разгулялся и скреб ветками по стеклам. Она принялась слоняться по комнатам и нашла старушку за вязанием. Плохо видящие глаза заменяли ловкие пальцы. Они ощупывали петли, оценивая, как ложится узор, а спицы так и порхали, поддевая и укладывая в общее полотно нить за нитью.
— Поможешь, деточка? — позвала та. — Распутай мне пряжу и смотай клубочки.
Северина пожала плечами, присела на низенькую скамеечку у кресла домоуправительницы, достала из сундучка мотки мягкой разлохмаченной пряжи, положила их на колени и взялась за дело. Изредка майстра Божена ощупывала ее руки и результат трудов, хвалила или просила свить нити потуже. Северина не возражала. Занятие неожиданно понравилось ей. Было приятно делать что-то вдвоем с кем-то, перебрасываясь тихими фразами, когда в камине потрескивал огонь, а за окном завывал зимний ветер.
Спать в холодную одинокую господскую постель она пошла со странным умиротворением на душе.
На следующий день все повторилось. С утра привезли цветы, а так как прошлые еще не увяли, часть Северина приказала поставить в спальню и в комнату майстры Божены. Прибывший днем мальчишка захватил с собой сыр, молоко, конфеты и рассказ о том, что на площади перед темплом светлого собираются устраивать завершающее торжество в честь восхождения бога. Разожгут костры в бочках, станут раздавать фигурки святых, а простой народ будет танцевать со свечами до самой темноты. Он пообещал отдать свою фигурку Северине в обмен на мелкую монетку.
Его сестра до блеска натерла полы в доме и, смущаясь, вынула из сумки крохотного кота. Она сообщила, что заметила следы грызунов, точивших кое-где дерево. Майстра Божена слишком стара, чтобы такое замечать, но хороший крысолов тут не помешал бы. Кот пищал в грубоватых руках девицы, широко разевая розовый ротик. У него была серовато-пепельная шерстка с белыми подпалинами и наивные зеленые глаза. Северина провела рукой по его спинке, и он прыгнул ей на грудь, вцепившись тонкими, как иглы, когтями прямо в тело через одежду. Следовало бы его отбросить, но она только прижала крепче, ощущая, как колотится возле ее собственного сердца чужое маленькое сердечко и как тычет в шею влажный нос. Ей вдруг захотелось, чтобы эти ощущения длились подольше.
— Я самолично купала его, госпожа, — поклялась ей девица, которая испугалась, что разозлила хозяйку. — Он не блохастый, вот, ей-богу, ни капельки. Только невоспитанный еще. Я зову его Пищалка. Он пищит, госпожа, но это потому что все время хочет молока.
Северина побаюкала кота и вспомнила о другом животном, которое когда-то любило ластиться к ней на колени.
— Какой же это Пищалка? — возразила она. — Это Маркус. Хорошее имя для хорошего мальчика.
Новоиспеченный Маркус вонзил в нее когти поглубже и запищал, требуя молока.
Когда девица ушла, Северина оторвала полоску от одного из своих бархатных платьев и сделала ему красивый ошейник. Остаток дня они с майстрой Боженой провели, пытаясь приучить его к лотку. А в постели Северины теперь стало теплее. В основном, в центральной ее части, где теперь спал кот, а ей приходилось уж подстраиваться под него.
Так и повелось. Она возилась с Маркусом, а вечерами сидела, помогая майстре Божене или просто положив голову ей на колени. Старушка или вязала, или гладила ее по волосам, тихим голосом рассказывая старинные сказки. Иногда они так увлекались, что не замечали кота, раскатывающего по полу заботливо смотанные клубки. Майстра Божена очень скучала по своим внукам, которых редко удавалось повидать, ей хотелось еще кого-то понянчить, а Северина почему-то представляла на ее месте мать, лицо которой давно стерлось из памяти и остались только схожие неясные воспоминания: вечер, отблеск угасающего камина, ласковые поглаживания по голове и нежный голос, рассказывающий сказку.
Больше всего майстра Божена любила вспоминать ту, где говорилось о сотворении мира, о первой женщине, которая считалась женой первого бога. Она была обычной женщиной обычного мужчины и рожала ему детей, а люди жили в пещерах и землянках и ходили, сплошь покрытые грязью и волосами, но эта женщина отличалась от них своей необыкновенной красотой. Поэтому бог и похитил ее. Она очень горевала и тосковала по прежнему супругу, и как новый муж ни старался завоевать ее любовь, начала сохнуть от горя. Бог очень любил ее и поэтому решил отпустить обратно, но так страдал от своего решения, что даже раскололся на две половины.
Так появились темный бог и светлый. Каждый из них дал ей на прощание свой дар. Темный бог подарил ей способность обращаться в волчицу, чтобы она всегда могла защитить себя, а светлый — способность к заживлению, чтобы она не страдала от болезней, как прочие люди. Она стала первой белой волчицей, уводя с собой детей, которых родила от бога, и от нее пошел род всех волков. Она попробовала поделиться даром со своим земным мужем, укусив его, но божественная защита распространялась только на нее и на тех, в ком течет ее кровь и кровь ее высшего супруга, поэтому несчастного человека ожидали страшные муки перерождения. Она пришла в такой ужас, что отказалась рожать ему детей, чтобы и их не постигли те же муки. С тех пор род волков и род людей существовали бок о бок, но старались не смешиваться друг с другом.
Северине тоже нравилась эта сказка, история ее рода и легенда ее предков. Были и другие, в которых говорилось, что лишенные любви боги ожесточились. Тысячелетия одиночества сделали их безумными, и они принялись играть с людьми и друг с другом, чтобы развеять свою скуку.
"Им просто нужно, чтобы их кто-то любил, — размышляла Северина под лаской сухой старушечьей руки. — Но наверное мало кто отважится любить бога. Все люди хотят, чтобы это боги любили их".
Когда выдавалась хорошая погода, она гуляла в саду. Дальше выходить боялась, чтобы не напороться на соседей, которые могли бы узнать ее. Река с течением времени раздалась вширь, берега осыпались, и то место, где когда-то стояла ограда, отделяющая обрыв от дома, давно обвалилось, оставив вместо себя зияющее пространство с обломками ржавых перекладин на мокрых камнях внизу под ним. Северине нравилось стоять там, на самом краю, оставив за спиной заросли кустарника, наблюдая, как струится синеватая вода между оков льда, тонкого к середине, более плотного у берегов. Нравилось думать, что в воздухе вот-вот запахнет весной, хотя до этого, конечно, еще было далеко.
На той стороне реки сгрудились холмы, в это время года голые и черные, а чуть дальше виднелся семетерий. Иногда над верхушками деревьев поднимался дымок семеты. Замечая его, Северина вяло размышляла, кто на этот раз отправился к богам: мужчина или женщина, любимый всеми или отверженный, молодой или старый. Почему та, которую любил первый бог, не попросила для себя вечного бессмертия, а хотела лишь вернуться к человеческому мужу? Почему не выбрала божественную любовь?
Ян нашел ее там, на обрыве. Северина ждала его приезда каждый вечер и специально наряжалась в лучшие платья, а сейчас, среди бела дня, оказалась вдруг совершенно не готова в своем простом домашнем наряде, теплой кофте, надетой под шубку, и с растрепанными волосами. Она смутилась, быстро отвернувшись к реке, чтобы он не увидел ее ненакрашенное лицо.
— Дуешься, что я не приезжал, волчица? — вздохнул он. — Или снова решила прыгать?
— Нет, — растерялась она: ей и в голову не пришла такая замечательная идея. — Любуюсь на реку.
— Ах, на реку… — Ян с пониманием хмыкнул.
— Как там дела? — Северина рискнула взглянуть на него мельком, по самые глаза закутавшись в мех воротника.
— Твое лечение проходит успешно. Доктора не пускают к тебе посетителей, но ты уже перестала крушить мебель и даже соглашаешься поесть. Все знакомые тебе очень сочувствуют и желают здоровья, — ответил он с плохо сдерживаемой улыбкой.
— А… Димитрий?
— Сиятельство тебе здоровья не желает. Но он и не вспоминает о тебе. Мне кажется, это лучшее проявление его доброты.
Она кивнула.
— Спасибо, что заступился тогда за меня. Спасибо за цветы… спасибо за все, Ян.
— Тебе надо было подождать, волчица, — он снова вздохнул. — Цветы — лишь малая толика того, чем бы я осыпал тебя. Ну почему ты у меня такая порывистая и горячая?
— Я стану хорошей, — потупилась Северина. — Терпеливой и спокойной. Послушной.
— О, не обещай того, чего никогда не сможешь сделать, — неожиданно расхохотался Ян, повернул ее к себе, губы в губы, сердце у нее подпрыгнуло и замерло.
Он потянул ее подальше от осыпающегося края обрыва, прижал спиной к влажному, сбросившему листву на зиму дереву. Морозец забрался под шубку Северины вместе с мужскими ладонями, и они долго стояли так, наслаждаясь неспешно текущими минутами у скованной льдом реки. Никто не видел их здесь, только холмы и небо, и можно было не сдерживать себя и целоваться, целоваться, целоваться, перебрасываясь в промежутках парой нежных слов.
Только замерзнув, они отправились в дом обедать. Ян посмотрел на блестящие полы, на Маркуса в бархатном ошейнике и на довольную майстру Божену, а Северина напустила на себя невинный вид, усаживая его за стол. Она быстро юркнула в спальню, сбросила теплые неуклюжие вещи, влезла в первое попавшееся под руку нарядное платье, провела щеткой по волосам, вплыла в столовую уже по-другому, царственно, и отметила, как у него заблестели глаза.
— Расскажи, как жилось тут? — предложил Ян, когда домоуправительница подала им жаркое.
— Хорошо, — Северина беззаботно пожала плечами. — Маркус скоро научится ловить крыс. Майстра Божена связала пинетки и взялась за кофточку для твоего будущего сына. — Она приложила руку к животу и коварно ухмыльнулась. — Кстати, ты не сказал, какой срок?
— Ну… — он покосился на дверь, за которой скрылась старушка, и неопределенно взмахнул вилкой, — пока еще не заметно.
— Мне пришлось сказать, что ты совратил меня, а потом украл у родителей, — мстительно добавила она.
— Это вполне в моем духе, — весело кивнул он.
— Я боюсь только, что скоро эти слухи дойдут до твоих соседей. Ты знал, что майстра Джозефина хотела выдать за тебя свою дочь, а майстра София и сама не прочь выскочить замуж с тех пор, как ты однажды заночевал у нее?
— Видимо, для меня это была какая-то очень темная и одинокая ночь… — задумался Ян, а затем расхохотался: — Боги, я даже стесняюсь спросить, откуда это известно тебе, волчица.
Северина снова смутилась и опустила глаза в тарелку. Все сплетни, которыми делилась с ней краснорукая работящая девица, касались сердечных дел тех или иных местных жителей.
— Скучаешь без своих пташек? — с пониманием поинтересовался он.
— Нет, — она резко и испуганно мотнула головой, будто Ян упрекнул ее в чем-то. — Я разгоню их, вот увидишь. Вернусь и всех разгоню.
— Зачем? — искренне удивился он. — Мне будет жаль, если ты разрушишь такую прекрасную сеть наушничества и шпионажа. Не смей.
Северина пожала плечами и не стала говорить, что потеряла интерес ко всем прежним забавам. Ян задумчиво посмотрел на нее.
— По правде говоря… мне пришла сейчас на ум одна идея. Скажи, волчица, неужели ты знаешь все и обо всех от этих своих птичек?
— Если женщина или мужчина хоть сколько-нибудь знатны и интересны в обществе, я могу узнать о них хоть что-то, — неуверенным голосом протянула Северина.
— О майстре Маргерите, например?
— О дочке рыбного короля? — удивилась она. — Пожалуй, да. Но зачем?
Ян отбросил салфетку, сияющий и довольный, поднялся с места, обошел стол и наклонился, чтобы прижаться к ее рту губами.
— Потом. Все потом, волчица. Не сейчас. Не здесь. Не в этом тихом уголке для твоего отдыха.
Она вцепилась в его рукав, заглянула в глаза с испугом и мольбой.
— Не играй со мной, Ян. Если тебе нужны другие женщины…
— Я очень серьезен, — он перестал улыбаться, и это немного успокоило ее. — Если бы мне были нужны другие женщины, я не стал бы ничего менять в своей жизни. Учись доверять моим решениям, волчица.
— Я учусь, — тихо ответила Северина. — Я очень стараюсь.
До самого вечера они просидели в гостиной, наполненной ароматом роз, пили коньяк и курили по очереди одну сигарету. Северина, как и обещала, старалась привыкнуть и к тому, что он каждый раз подкуривает сам для нее, будто она безрукий или беспомощный ребенок, и к ощущению мужского плеча под щекой и теплого тела рядом. Ее сказка длилась и длилась, и пусть в ней главный герой совсем не походил на стального рыцаря с сильными кулаками — внутри он тоже был прочен и силен, его оружием являлись меткие слова и острый ум, а еще чуткое понимание других, и это заставляло Северину им восхищаться. Она и сама ведь никогда не пользовалась своей волчицей, чтобы защищаться или нападать.
Наконец, они услышали, как майстра Божена отправилась в свои комнаты, чтобы лечь спать. Огонь в камине догорал, как и свечи, которые Северина приказала зажечь вместо яркого верхнего освещения.
— Мне пора ехать, — с неохотой пошевелился Ян.
— Хорошо, — ответила Северина.
Она поднялась с места и проводила его к выходу, подала пальто. Отряхнула с плеч налипшие ворсинки и подарила прощальный поцелуй. С некоторых пор она начала находить в этом странное удовольствие: не спорить, а подстраиваться, не требовать, а ухаживать самой. Ян посмотрел на нее долгим взглядом.
— Ты такая прилежная, волчица, что так и хочется поставить тебе пятерку.
Северина улыбнулась.
— Лучше приезжай завтра.
— Если смогу.
Она кивнула и закрыла за ним дверь. Потом прошлась по комнатам, загасила камины и свечи, поднялась наверх, скинула свое бесполезное красивое платье и закуталась в домашний стеганый халат. Маркус куда-то пропал, видимо, дрых в эту ночь у майстры Божены, обиженный, что хозяйка посвящает внимание какому-то чужаку. Северина присела в кресло у камина, где еще не затушила огонь, и закурила. Ложиться в холодную постель после вечера с теплым Яном ужасно не хотелось, и она решила потянуть время до тех пор, пока окончательно не свалится от усталости, чтобы быстро заснуть.
От звука приоткрывшейся двери она вздрогнула и обернулась. Ян стоял на пороге, его пальто припорошил снег, глаза казались темными и опасными. Северина аккуратно отложила сигарету в хрустальную пепельницу, стоявшую на столике рядом.
— Сними халат, волчица, — приказал он тихим глухим голосом.
Не попросил. Не предложил. Приказал. У нее мгновенно закружилась голова и пересохло во рту. Словно в тумане, Северина поднялась с места, придерживаясь рукой за спинку кресла, чтобы не упасть на ослабевших ногах, отошла чуть в сторону, развязала пояс и уронила халат на пол. Осталась стоять так в нерешительности, с вытянутыми по бокам руками и отблесками пламени, играющими на обнаженной коже.
— Ты вернулся…
— Забыл сказать тебе то, что хотел весь вечер, — Ян шагнул в спальню и прикрыл за собой дверь. — Думал, что скажу завтра, или послезавтра, или потом, когда будет подходящее время. Но не могу. Не могу уехать, не сказав.
— Хорошо, — в недоумении протянула она. — И что ты хотел сказать?
— Прекрасная лаэрда, я под окном твоим, — как был, в верхней одежде, он двинулся к ней медленными неспешными шагами, и в животе Северины скрутился тугой узел, — с заката до рассвета лишь ревностью томим.
— Я знаю это стихотворение, — нервно улыбнулась она, не зная, куда девать глаза, — мы учили его в школе.
— Прекрасная лаэрда, мне подари покой. Хочу в святых заветах я жизнь прожить с тобой.
Она снова вздрогнула, когда холодные подтаявшие льдинки с пальто Яна укололи ее обнаженную грудь, а его руки скользнули ей на спину.
— Я тоже хочу, Ян, — произнесла, как зачарованная, Северина, чувствуя на лице его дыхание, — но мои святые заветы отданы Димитрию…
— Поэтому я и не хотел говорить тебе этого, волчица. Хотел подождать, пока в постели со мной ты перестанешь представлять другого.
— Но я не… — она вскинула на него испуганный взгляд. — Я не собиралась так делать.
— Это сильнее тебя. Я же видел. До сих пор вижу этот момент перед глазами, — Ян невесело усмехнулся. — Мой друг всегда знает, куда бить.
Северина поняла, что он вспоминает, как Димитрий на его глазах ласкал ее, и поморщилась.
— А откуда ты знаешь, пока сам не проверишь? — с нахлынувшим раздражением заявила она. — Это действует, когда Димитрий рядом. Но без него… без него я другая. Я убедилась в этом, пока жила здесь.
Ее вспышка заставила его улыбнуться.
— Не сделаешь ли ты тогда меня самым счастливым человеком в мире, волчица? И не ляжешь ли на постель? На полу прохладно и некомфортно.
— Давно бы так, — фыркнула Северина, развернулась и пошла к кровати.
Она легла на белые хрустящие простыни уже с бешено колотящимся сердцем, чуть согнула и раздвинула ноги и посмотрела на него.
— Обычно женщины находят меня милым, — хрипловато поведал Ян, расстегивая и отбрасывая пальто и принимаясь за пиджак. — Но в случае некоторого периода воздержания…
— Заткнись, Ян, — нежно прошептала она.
— А некоторый период воздержания все же был, так как я дал обещание, — упрямо продолжил он, скидывая брюки.
— Я кончу быстрее, вот увидишь, — пообещала Северина, наполняясь изнутри невероятным теплом. Она даже не думала, что он сдержит ту клятву, которую сам же и дал ей на балконе праздничного зала. Клятву, которую она никогда не просила его хранить…
В полумраке, разбавленном лишь пламенем потрескивающего камина, Ян опустился на нее, впился губами в шею, обхватил за плечи — она выгнулась в его руках, стиснув коленями его бока. Приласкал грудь — она застонала, шире разводя бедра под ним. Слишком хорошо, слишком сладко, чтобы поверить, что это правда, но они оба так долго ждали этого, лелеяли эти мечты за краткими взглядами и ничего не значащими словами, которыми перебрасывались, будучи двумя близкими наместнику людьми. Но теперь они стали просто мужчиной и женщиной, Северина не сомневалась в этом. Ян скользнул в нее почти сразу, уверенно, но бережно, как раз так, как она и хотела. Задвигался — по влажной спине ходили мускулы. Прошептал сдавленно между рывками:
— Прости, поспешил…
— Нет. Хорошо. Хорошо, — в подтверждение своих слов Северина даже запустила ногти в его ягодицы.
Она подавалась ему навстречу, пока жадные мужские руки гладили ее талию, и бедра, и плечи, а пальцы впивались в ее затылок, чтобы мужской рот мог удобнее накрыть ее губы. Она горела для него так, как он и хотел, неистово гудящим, но ровным пламенем. Умирала от наслаждения, покрывалась мурашками после каждого взрыва удовольствия, которые под умелыми движениями Яна шли один за другим, лишь чередуясь в интенсивности, вбирала в себя его взрывы, горячие тугие удары семени в глубине тела и хриплые стоны. Он взял ее два раза подряд, а затем они моментально уснули, вымотанные до предела. И проснулись через некоторое время, чтобы продолжить.
И ни разу, ни на секунду в том силуэте, что видела над собой, Северине не захотелось рассмотреть несколько иные очертания.
Цирховия Шестнадцать лет со дня затмения
На этот раз уличных пришло слишком много. Стоило бы задуматься, когда рябой Тим плюнул ему под ноги и предложил встретиться не у площади трех рынков, как обычно, а на пустыре за речными доками. Место удаленное, глухое и неосвещенное в час, когда солнце тонуло за деревьями, небо становилось пурпурным, а земля — серой. Но у Криса чесались кулаки, и казалось, что задуматься хоть на секунду означает струсить. А он — не трус.
Не как тот мальчик, которого они избили. Толстый и низенький майстр, любимый раскормленный сын какого-то промышленника, он рыдал, сидя на траве возле здания школы и подставив ладошку к подбородку, а из его носа и рта в нее капала кровь. Вокруг него охали и хлопотали взрослые, кто-то грозился бежать в полицию, кто-то взывал к справедливости светлого бога, кто-то сетовал, что учебный год только начался, а "инцидент" уже случился. Всего-то один удар, подумал Крис, наблюдая за происходящим. Один удар, но меткий, и потом они убежали. Он подошел и дал мальчику монету, но тот лишь покачал головой и не перестал рыдать. Монеты срабатывали не со всеми.
И вот теперь уличных пришло много. Человек десять, и четверо из них — взрослые увальни с битами. Рябой Тим и его банда вооружились кастетами и ножами. Все они, оборванные и грязные, с подбитыми в частых стычках глазами и желтыми зубами походили на стаю диких псов. С Крисом явились лишь двое друзей. У них тоже имелись ножи, но…
— Их слишком много, — сказал Хорус, стоявший чуть позади и правее от него.
— Мы их уложим, — пообещал Крис и услышал, как шелестят пятки этих двоих по примятой сухой траве.
Ему не требовалось оборачиваться, чтобы убедиться, что они убежали. Хорус и тот, другой. Не друзья, а одно название. Хотя… что с них взять? За лето многое поменялось: его друзья, его сестра, его отец и его мать. Он остался один. Не только здесь, на пустыре за доками, а вообще.
Рябая рожа Тима сияла торжеством.
— Драпай, сахерок, — крикнул он на своем жутком наречии, поигрывая кастетом. — А то мы тыбе наваляем. Твои сладкие прыятели это уже понялы.
Крис обвел их всех взглядом. Ветер с реки пах тиной и рыбой, напоминая своей прохладой, что скоро сентябрь окончательно лишится обманчивого тепла. По его коже побежали мурашки. Не от страха, с легкой улыбкой заметил он про себя. От сырости и бешеного, упоительного адреналина, прыснувшего в кровь. Его сердце пело в предвкушении боя. Он принял решение и стянул футболку через голову.
— Смотрыти-ка, раздеваетси, — загоготал Тим, а увальни с битами его поддержали. — Наверночи хочет подставыть нам свою белую сахерную попку.
Крис невозмутимо разулся, снял и бросил на траву джинсы, вполне ожидаемо породив тем самым новую волну насмешек. Но хохот сменился воплями ужаса, когда он обернулся и прыгнул волком на них. Когда-то давно Эльза сказала ему, что даже без оружия он всегда опасен и имеет над людьми преимущество. У него есть когти и зубы. Она дала славный совет, сестренка, и вот он пригодился.
Его противники мигом забыли, зачем тут собрались. Храбрые лишь числом, они растерялись и запаниковали от перспективы сразиться со зверем. Крис с наслаждением похватал зубами щуплые ляжки и бока, без труда успевая уворачиваться от редких разрозненных ударов, пока рыночные все до одного не сбежали. На клыках ощущался привкус крови, он провел по ним языком. Непривычно. Почему люди его круга избегают своей волчьей сути? Это же так прекрасно — использовать все свои преимущества, быть собой.
За насыпью, отделяющей пустырь от реки, раздался шорох, и Крис пепельно-серой молнией метнулся туда. Зубы клацнули в миллиметре от рыжего облака волос, а девичий голос пронзительно взвизгнул. Крис застыл.
Она опустила руки, которыми успела прикрыть лицо, и посмотрела на него темно-синими в сумерках глазами, такая красивая своей нестандартной, изменчивой красотой.
— Для благородныго ты неплохо дырешься, — и Ласка расплылась в широкой улыбке, обнажившей щербинку между двух передних зубов. Сегодня на ее шее блестело несколько золотых цепочек, наверняка ворованных, а легкая юбка открывала колени. — Я-то думала, только танцевати умеешь.
Крис фыркнул и отвернулся, тряхнув ушами.
— Скуча-а-ал по мене, — ехидненько протянула рыжая и умудрилась дернуть его пушистый хвост.
Крис огрызнулся и поджал эту уязвимую часть звериного тела. Вот еще. Он совершенно по ней не скучал. Даже и не вспоминал про рыжую нахальную шмакодявку. Они не виделись около месяца с тех пор, как она сбежала от него в семетерии, и все это время у Криса не было никакого желания думать о ней.
Он радовался, что обознался, когда, проезжая по улицам, вдруг замечал какую-нибудь фигуристую девчонку и вытягивал шею, чтобы успеть разглядеть лицо. Несколько раз сидел на той же скамье перед темплом светлого, наслаждаясь возможностью спокойно отдохнуть и не бояться за содержимое карманов, ведь на площади не работала рыжая воровка. Иногда по ночам ему мерещился запах крыжовника, и Крис тут же хватался за ноющую челюсть и выдыхал с облегчением, что больше на Ласкину удочку не попадется. С чего ему скучать по ней? Как будто у него других дел мало.
— Скуча-а-ал, — повторила Ласка, которая увязалась за ним, как приклеенная, — но ты чрезчур благородный, чтоб в этом признатьси.
Кристоф остановился перед своей брошенной на земле одеждой и красноречиво глянул на нее, но беспардонная шмакодявка и не думала отворачиваться. Наоборот, подошла ближе и настолько осмелела, что погладила его по пепельной холке, почесала за ушами, а затем порывисто присела и обхватила за шею, зарывшись веснушчатым лицом в его густую шерсть. Ее волосы пахли духами и щекотали ему нос, и он глубоко вдохнул ее знакомый запах: выжженная солнцем земля и фрукты.
— А ты, часом, не блохастый? — нежно промурлыкала она, а когда Крис взъярился и отпихнул ее мордой, плюхнулась на землю и ничуть не обиделась: — А что? Знаешь, как трудночи блох из постели выводити? Покудова всех перещелкаешь, пальцы отвалятси. Ты мне смотри тут, не нацепляй.
Повернувшись к ней спиной, он принял человеческий облик и сразу же проверил карманы: деньги пока еще находились при нем. Выпрямился, чтобы одеться — Ласка с невинным видом обошла и встала так, чтобы могла разглядеть его. Прижав джинсы к низу живота, Крис приподнял бровь, а она капризно надула губы:
— Ой, вы посмотрыте, какой благородный. Да что я там у мужыков не выдела?
Пожав плечами, он сунул ногу в штанину, а Ласка наблюдала за ним с улыбкой, и ее сверкающие глаза наверняка подмечали все.
— Я думал, ты обиделась на меня, — заметил Крис, застегивая ремень на поясе и стараясь не поддаваться смущению.
— Обидылась, — согласилась Ласка и хитро прищурилась, — а ты зачем за мной ходыл? Прощения испросити хотел?
— Я ходил? — удивился Крис.
— Ходыл-ходыл, — покивала она, — и у темпла сиживал, и у площади трех рынков ошивалси. И по улицам бродыл, и к семытерию тоже. Токма не находыл меня там.
— Но как ты… — он осекся, сообразив, что этой фразой выдает себя с головой.
— А мене можно найтити, токма ежели я сама того пожелаю, — захихикала Ласка при виде его недоумения. — Трудно найтити, легко потеряти. Сжалилася я над тобою. Думаю, чавой-то он такой весь благородный ходить и ходить? Можа понял, что я не давалка?
— Понял, — вздохнул Крис, который и в самом деле понял, что при общении с рыжей шмакодявкой проще смириться с неизбежным, чем оправдываться понапрасну.
— Тады я тебе прощаю, — торжественно объявила она, прижалась к нему гибкой дикой кошкой и быстро чмокнула в губы. — Повезло тебе, незлобивая я. Добрая и ласковая.
Он успел придержать ее за талию, и некоторое время ветер колыхал непримятые островки травы вокруг них, забывших обо всем на свете.
— Ты целуышься не как благородный, — прошептала Ласка, отстраняясь, облизывая свои мягкие розовые губы и по-кошачьи жмурясь. — Я славно тебе научыла.
Крис хотел продолжить, но она вывернулась из его рук и отступила с коварной полуулыбкой.
— Пойдешь со мной в тавырну? А то дождь скоро будыт.
Он мельком глянул на темнеющее, но чистое небо с россыпью звезд и серпом молодого месяца.
— Дождь? Вряд ли.
— У старой Геллы с утра ломилы косты, — со знанием дела заявила Ласка, — будыт, вот увидышь. Так пойдешь? Угощу тебе рыбацкым сыдром. Токма, чур, благородныго из себя не корчь.
— Пойду, — он с удивлением ощутил в себе порыв идти за ней не только в таверну, а вообще куда угодно, хоть на край земли. После драки всегда хочется женщину, вспомнил он случайно услышанную где-то фразу. Может, поэтому его сейчас так тянет к Ласке?
— А ты, значит, за мной все это время ходила? — спросил Крис, когда они взялись за руки и неторопливо побрели прочь. — И сюда за мной пришла?
Ласка лишь беззаботно отмахнулась.
— Очень надобно еще за тобой ходыть. Свободныя я, куды хочу, туды хожу. Вот и подумала: дай гляну, ктой-то там с нашенскими на пустыре дрется? Ктой-то такой смелый? Чыстое любописство.
То, что она назвала его смелым, отозвалось приятным теплом внутри, но на "любописстве" он не смог не рассмеяться. Ласка опять надулась.
— Но ты ведь следила, — подколол ее Крис, — знаешь, что и к семетерию я ходил, и на площадь.
— Черезчур ты благородный, чтоб понимати, — отделалась она своей любимой фразой и умолкла.
Таверна, куда Ласка его привела, располагалась неподалеку от доков, и контингент тут собирался соответствующий: матросы с рыбацких сейнеров, портовые грузчики и кое-какой подозрительный сброд. Столы тут были дубовые, крепко пропахшие пивом и сельдью, а скамьи — им под стать, под потолком висела огромная тусклая люстра, на стенах красовались поднятые со дна ржавые якоря и остроги. За стойкой хозяйничал одноглазый детина в белом фартуке и повязанной на лысом черепе женской косынке.
Ласка чувствовала себя тут, как дома. Она потащила Криса в дальний угол, усадила за стол, а сама плюхнулась напротив, довольная, как слон. Детина подозрительно прищурился, глядя на него, сидящие за другими столами — искоса набычились, но Крис решил, что не станет обращать внимания на то, что ему тут не рады. Тем более, Ласка уже погладила его по руке в знак поддержки, а потом махнула детине, чтобы скорее нес выпить. Тот презрительно сплюнул на пол, но достал две высокие кружки и наполнил их густым темно-коричневым напитком из бочки.
Когда кружки стукнулись о столешницу перед Крисом, и белая пена плеснулась через край, сползая по запотевшим стеклянным стенкам, Ласка улыбнулась:
— Плати.
— Ты же вроде говорила, что угощаешь? — хмыкнул он, поглядывая на детину, сложившего свои могущие ручищи на груди и ожидавшего денег.
— Угощаю, — согласилась Ласка и подвинула к Крису кружку. — Вот. Угощайси на здоровье. И плати.
Она была неисправима. Крис заплатил за сидр, понимая, что глупо улыбается при этом, а Ласка вдобавок зашипела на него:
— Кто ж так деньги достает? Все ж видят, что ты прыссованный. По одежде их раскладывать надобно, а не в одным месте хранити. И доставать тихонечко, по мелкой купюре.
— Да всем и так понятно, кто я, — успокоил ее он. — Не волнуйся, я тебя в обиду не дам.
Ласка фыркнула, покачала головой и свысока на него посмотрела, но спорить больше не стала, и они приступили к выпивке. Сидр пах яблоками и оказался таким ядреным, что мгновенно ударил в голову. Крис выдохнул, моргая, чтобы прийти в себя, а Ласка хохотала над ним и пила сидр, как воду.
— Нравится тебе здеся? — спросила она чуть позже, когда они заказали по второй, и таверна вместе со всеми посетителями начала медленно вращаться вокруг Криса, напоминая парковую карусель с деревянными лошадками.
Он обвел взглядом портовых, которые уже пообвыклись с его присутствием и перестали таращиться, вдохнул рыбный смрад и прислушался к монотонному гулу голосов, коверкающих слова как придется. На самом деле здесь пахло свободой, и говорили тут о свободе, и только теперь Крис начал понимать, что имела в виду Ласка, когда толковала ему о ней. Здесь он мог стать кем угодно: грузчиком или матросом, податься за океан вольнонаемником или же пуститься в путешествие до Нардинии с обозом контрабандистов. Он мог видеть мир не из окна кара, который везет его в школу и домой. Мог чувствовать жизнь во всем ее многообразии красок, мог даже сам придумывать себе новые жизни и проживать их, как лицедей в театре. А если надоест — он всегда мог вернуться домой и снова стать лаэрдом. Ведь свобода — это быть тем, кем хочется.
Это напомнило ему о мечтах, которыми он когда-то делился с Эльзой.
— Нравится, — только и сказал Крис, стараясь прогнать мысли о сестре и ее несвободе.
— Это потому что ты родилси не в том теле, — засмеялась Ласка, — тебе надобно было родитси свободным. — Она посмотрела на него, хитрая, как лисица, лукавая, как кошка, и добавила: — Но мне нравитси и то тело, которое у тебе есть.
Кровь мгновенно застучала у него в висках, и похлеще, чем перед дракой, но в этот момент за другими столами запели, и Ласка тоже подняла кружку и подхватила мотив:
— Когда в моря я уходил, была пузатой жинка,
Я год и два там проходил, мальца родила жинка,
Спустя три года вот он я — опять пузата жинка,
Так от кого ж ты понесла? — От святыго Матвея.
Она знала много похабных песен и пела их не хуже, чем рассказывала стихи про хрен, и на какой-то момент Крис все же забыл, что он — лаэрд. Они пели вместе под глухой перезвон тяжелых кружек, и таверна вращалась все быстрее и быстрее перед глазами.
Он понял, насколько пьян, когда они вышли на улицу. Ливень хлестал вовсю — кости старой Геллы не обманули. Крис сделал шаг, схватился за стену, чтобы не упасть, и ощутил, что мгновенно промок до нитки, а Ласка скинула туфли, прыгала босиком по лужам и хохотала, как сумасшедшая. Он смотрел, как движется ее грудь, как мокрая юбка прилипает между ногами, и то ли пьянел еще больше, то ли просто терял рассудок.
Его карманы были пусты, но на этот раз она не брала его денег — он спустил их сам, все спустил на ветер. Детина в косынке на прощание едва ли не побратался с ним, и те, кого он угощал выпивкой, поднимали за него тосты. И никто, ни единая живая душа не вспомнила, что он не принадлежит к их миру. Миру, в котором монеты работали правильно, и исправно, и просто, очень просто, так что Крису не приходилось ломать голову, сработают они или нет. И законы этого мира оставались для него простыми и понятными.
Ласка схватила его за руку и потащила в наполненную косыми струями дождя темноту. Они пробежали мимо речного порта к причалам, а оттуда — в самый дальний конец пристани, пока не забрались в какую-то смотровую беседку, украшенную барельефом и колоннами на дарданийский манер. На воде шум дождя казался еще сильнее, гремели водостоки и скрипели снастями парусные яхты, стоявшие на якорях, но под крышей беседки было сухо, хоть и достаточно прохладно из-за отсутствия стен.
Одним движением Ласка сорвала с себя легкую блузку, стянула с бедер юбку и сняла белье. Она разбрасывала одежду куда попало, волосы стали темно-красными, как ядовитые змеи, и липли к ее плечам и груди. Ее кожа белела, а ореолы сосков так и манили взять их в рот. Крис так и сделал. Он вдыхал запах ливня на ее коже, водил по ней ладонями, от груди к животу, затем к бедрам и на спину, пьяный от вкуса ее губ, от ее гибкого тела и от самой ночи. Ласка толкнула его на деревянную скамью, содрала с него футболку, рванула пояс джинсов, погладила внизу рукой, вынуждая втягивать воздух сквозь стиснутые зубы.
— Это тебе тоже понравытся, — пообщала Ласка и оседлала Криса, встав коленями на скамью. Вся она была холодной и мокрой от дождя, а внутри оказалась тоже мокрой, только очень горячей. Он погрузился в нее до конца, не встретив никакой преграды, и от этих ощущений земля ушла из-под ног.
— Нравытся? — она плавно двинула бедрами, заглядывая ему в лицо, и улыбнулась, когда он смог только застонать в ответ. — Прыятно?
Капли дождя летели на них с каждым порывом ветра, блестели на щеках и губах, сползали вниз по ключицам. Непогода надежно укрывала от чужих нескромных взглядов. Ласка откинула голову, сама похожая на бурю в своей искренней страсти, ее живот плотно прижался к его животу, еще раз, и еще раз, и еще. Крис схватил и стиснул ее бедра, не позволяя вырваться, насаживая на себя и хватая ртом ее соски, ощущая, что нет больше шума и холода, а есть только она, его Ласка, со всей ее необузданной дикостью и неподдельной лаской. Она обвила его шею тонкими белыми руками, выгнулась, рвано двигаясь на нем, и только изредка шептала:
— Ниже… а теперича выше… а теперича губами… сильнее… глубже еще… да-а-а…
И Крис любил ее на пределе сил, на пределе возможности. Губами, и пальцами, и языком, и всем телом. Он зарылся лицом в ее мокрые волосы, содрогаясь от каждого толчка семени, которое выплескивал в нее, а потом она со вздохом обмякла и сползла ему на грудь, и в этом тоже имелось свое удовольствие — нежно обнимать друг друга после того, как было хорошо вдвоем.
— Мне очень понравилось, — прошептал Крис в ее мягкую влажную макушку.
— Ты и трахалси не как благородный, — Ласка тихонько засмеялась в его руках, — мне понравылось тоже. Я научу тебе, как найтить меня, если захочышь еще. И свободным быти научу, ежели захочышь.
Дождь закончился только перед рассветом, и на смену ему все вокруг заволокло плотным молочно-белым туманом. Домой пришлось идти пешком, и всю дорогу Криса не отпускало чувство, что он уже свободен.
Цирховия Шестнадцать лет со дня затмения
Женщина танцевала на остром лезвии ножа. Ее темные блестящие волосы окутывали фигуру при резких поворотах и покачивались плотной струящейся завесой, когда она извивалась и приседала. Ее руки походили на изящно изломанные ленты, когда двигались в запястьях и локтях, бедра напоминали холодный мрамор, а ступни были напряжены и вытянуты так, что стояла она лишь на кончиках пальцев.
Его кости с хрустом ломались, жилы лопались, и кровь заполняла рот, когда он смотрел на нее. Взмах ее раскрытой ладони — и его глаза тоже начинали кровоточить. Волнообразное движение талии — он едва сдерживал крик от взрыва боли в голове. Она выгибалась — и его скручивало судорогой. Она смеялась — он рычал и скрежетал зубами.
Вокруг женщины подобно змеям струились полосы черного дыма. Пряный, сладковатый запах: ваниль и мертвая плоть. Дым клубился, то целуя женское тело, то взвиваясь над ее головой и складываясь в причудливые буквы. Изогнутые, с острыми, как ножи, краями, древние, незнакомые, они превращались в слова. Такие буквы встречались разве что на страницах истлевших от времени дарданийских писаний. Их наносили на бумагу чернилами, замешанными на крови первых монахов, чтобы они всегда несли свой глубокий, сакральный смысл. Эти буквы даровали людям свет.
Но для него их писала тьма. И хоть он давно не читал старых книг, эти слова понимал прекрасно.
"Сделай это".
— Братишка. Очнись, — Ян тряс его за плечо и, похоже, уже довольно долго.
— Посмотри, как красиво, — пробормотал Димитрий, с полуулыбкой указывая ему на женщину.
Но Ян лишь мельком глянул через плечо и снова повернулся к нему.
— Ты меня пугаешь, брат, — сказал он встревоженно, — когда целый час сидишь вот так неподвижно в кресле, молчишь и пялишься на пустую стену. Там ничего нет. Это просто стена. Голая стена, и все. Что ты там видишь?
Димитрий повернул к нему безмятежное лицо с черными провалами глаз.
— Я не знаю.
Ян выругался так, что утер бы нос любому уличному бродяге, и похлопал его по щеке.
— Я знаю, что ты много работал, брат, — вкрадчиво начал он, — с тех пор, как вернулся из своего отпуска. Каждый вечер ты буквально взрываешь окулус. И я безумно восхищаюсь тобой. Не побоюсь сказать, что сейчас ты просто на пике своей лучшей формы. Как ты выпустил тому парню кишки, — Ян ухмыльнулся и покачал головой. — Только за последний месяц мы стали вдвое богаче прежнего. Но тебе нужно снимать напряжение и расслабляться, иначе ты себя загоняешь.
— Нет, не нужно, — покачал головой Димитрий.
— Нет нужно. Ты не можешь все время только отрывать головы и вспарывать животы. Давай я приведу тебе какую-нибудь девчонку. Ты ни разу не брал девчонку с тех пор, как вернулся, и не ездишь к своей нардинийке. Я же вижу, как тебя ломает без секса.
— Никаких женщин, — словно со стороны услышал он свое рычание, а пальцы помимо воли сомкнулись на горле Яна, заставив того дернуться и захрипеть.
Не для того он безвылазно, не считая окулуса, запер себя в этих комнатах под темплом темного, чтобы вновь сорваться. Девочка-скала верила в него. Что с того, что он сам почти перестал в себя верить? Он помнил, как вернулся к ней на утро после их "брачной ночи" и нашел ее бледной и не сомкнувшей глаз, сидящей у окна в ожидании его возвращения. Петра не требовала сказать, где его носило, и это хорошо: он не сообразил бы, что ей ответить. Но его не оставляло чувство, что она все поняла. Не могла не понять после того, что он сделал с ней, после того, как показал лишь крохотную частичку того, что таил внутри, самую вершину своего огромного, темного, отвратительного айсберга. Отчаянно избегая ее взгляда, он заставил Петру собрать вещи, и они уехали.
Усилием воли Димитрий разжал пальцы, и Ян закашлялся, потирая горло и отползая от него.
— Тебе нужна женщина, — упрямо повторил он.
Ему нужна была только Петра. Но он не видел ее с тех пор, как привез обратно в столицу, высадил у дома и тут же умчался прочь. Они не разговаривали всю дорогу и не встречались больше месяца. Нужен ли он ей теперь?
— Как она? — неохотно спросил Димитрий. Он встал и отвернулся, заложив руки за спину.
Ян, охая, тоже поднялся на ноги.
— Нардинийка? Ждет тебя. Постоянно спрашивает о тебе. Я по-прежнему покупаю ей все, что нужно, как ты приказал, но она почти ничего не просит. Она… она рыдает, брат. И ждет тебя. И просит только, чтобы ты пришел. Мне ее даже жаль. Это жестоко, брат. Если ты решил порвать с ней, только скажи…
— Да, я решил, — Димитрий обернулся, его глаза полыхнули. — Я решил, что ей надо убраться из моей квартиры. Скажи, что она мне надоела. Скажи, что я больше не желаю ее видеть. Поезжай к ней прямо сейчас и скажи… — он скрипнул зубами, — скажи, что я нашел себе другую. Купи ей билет с открытой датой, пусть валит домой, в свою Нардинию.
— Хорошо, — кивнул Ян и попятился к двери. — Я так и сделаю. Даже отвезу на вокзал, если понадобится. Не волнуйся, брат. Она уедет.
Димитрий поморщился, сжал кулаки и опустил голову, но как только дверь приоткрылась, он мгновенно оказался рядом, схватил Яна и толкнул к стене.
— Отвезешь ей денег, — процедил он в лицо приятелю надтреснутым голосом, — много денег, все, что я заработал за последний бой. Купишь ей по пути подарок. Хороший подарок, украшение или что-нибудь еще. Подумай сам, ты это умеешь. Подаришь и скажешь, что это от меня. Скажешь, что я прошу у нее прощения. За долгое отсутствие. За то, что не могу приехать сам. Скажешь, что у меня много работы. Скажешь, чтобы она ждала: я приду. Скажешь… что я люблю ее.
Глаза у Яна округлились. Он сглотнул и аккуратно снял руки Димитрия со своих плеч. Скривился.
— То же самое ты говорил мне и на прошлой неделе. И на позапрошлой. Ты держишь ее там уже больше месяца, брат. Определись уже, чего ты от нее хочешь.
— Проклятье, просто сделай это, — рявкнул в ответ Димитрий и ударил кулаком по стене так, что Ян вздрогнул. Наставил указательный палец прямо другу в лицо. — Помни, ты отвечаешь за нее. Головой отвечаешь. Только попробуй что-нибудь испортить.
— Да ничего не испорчу я, — обиженно фыркнул Ян и оттолкнул его. — Я все понял. Она перестанет плакать после моих сказок о том, как ты скучаешь по ней. Я заставлю ее улыбнуться и мечтать о тебе.
Димитрий кивнул. Да, так будет хорошо. Так будет правильно. Он отпустит ее, но чуть попозже. Не сейчас. Не сегодня. Когда в его голове хоть немного прояснится. А пока он продолжит кормить свои голоса жертвами в окулусе.
— Да, еще кое-что… — замялся Ян. — Хотел сказать тебе в более подходящее время, когда ты будешь в настроении. Но, видимо, такого случая может не представиться еще ближашие пару недель. Твой младший звонил уже несколько раз и довольно настойчиво.
— У меня пока нет времени на мелкого, — раздраженно отмахнулся Димитрий.
— Вот и я так подумал, — закивал Ян, — но на этот раз, кажется, все серьезно. В твоей семье что-то произошло. Твоя сестра под домашним арестом и… твой брат просил передать, что она пыталась покончить с собой после ссоры с родителями.
Димитрий резко повернулся, не веря своим ушам. Эльза? Под домашним арестом? Пыталась покончить с собой? Любимица отца, маленькая, послушная, чересчур благоразумная девочка, какой он ее помнил? Его мало что в этой жизни уже могло удивить, но новость поразила.
Взмахом руки Димитрий отпустил Яна и задумался. Он боялся даже вспоминать о доме в последнее время, с тех самых пор, как к первому голосу в его башке добавился второй. Угроза, что его сорвет, и он не сможет остановиться, если увидит кого-то из домашних, довлела над ним с удвоенной силой. Но… когда-то он сам обещал Эльзе, что заберет ее из-под отцовской крыши, если ей станет плохо там. Он поклялся сестре, что она может на него положиться. И вот теперь это время настало.
Слишком хорошо он помнил, какова на вкус ярость Виттора, каким смертельным ядом пропитано его отцовское презрение и как полновесен его кулак. Роль паршивой овцы — незавидная доля. А еще Димитрий не забыл, как кроха Эльза приходила ночью утешить отверженного старшего брата, когда чудовище жрало его изнутри своими острыми, как иглы, зубами. Он колебался еще несколько минут, а затем решительно вышел из комнаты.
В особняке сменили привратника — крепкий мужчина среднего возраста вышел навстречу Димитрию, когда тот бросил кар у ворот. К счастью, мать наверняка предупреждала его о возможных визитах нежеланного сына, поэтому, заслышав имя, тот лишь кивнул и отступил в сторону. Шагая по ухоженной, засыпанной мелким гравием дорожке между клумб пионов и гвоздик, Димитрий тряхнул головой, стараясь сделать это незаметно. Шум в ушах нарастал, как рокот волн во время прибоя. Они шептали, и хрипели, и глумились над волчонком, наперебой зазывая его. Нелучшее время, чтобы навещать дорогую семью, но Ян прав — лучше может и не стать вовсе.
У входа в особняк дорогу ему перегородил здоровяк с перебитым носом, очень похожий на одного из тех, кто поливал своей кровью полы окулуса каждый вечер с момента возвращения в столицу Димитрия. Упрямая гора мышц оказалась цепным псом Виттора и без устали твердила, что пока не получит разрешение хозяина, никого не пропустит, будь то хоть блудный сын, хоть сам канцлер Цирховии. Димитрию пришлось поставить точку в этом разговоре, с одного удара попав в болевую зону на подбородке и вырубив охранника.
Он ворвался в холл, распугивая своим видом служанок, и взлетел по лестнице, готовый наткнуться на мать или отца. Но родители отсутствовали, и даже мелкий куда-то пропал. "Уже учится сбегать из этого милого дома", — с холодной ухмылкой подумал Димитрий, направляясь в комнату сестры.
Он бросил короткий взгляд на массивную железную дверь, ведущую в его собственные "апартаменты", и будто наяву услышал собственный вой и скрежетание когтей по доскам пола. Так ли уж ошибались родители, закрывая его там? Ведь все вернулось на круги своя — теперь он делает это сам с собой добровольно.
Дверь в комнату Эльзы была заперта, свежие следы остались в местах, где в дерево врезали замок. Он вышиб ее ударом ноги, ступил на порог и…
Конечно, он слышал рассказы про то, как это бывает. Как кровь плавится в венах, как она густеет и кипит, останавливая сердце. Как нос и рот наполняются только одним запахом и вкусом — Ее вкусом и запахом. Как становится безразлично все остальное. Скажет умереть — умрешь. Скажет залезть на высокую гору — заберешься голыми руками. Все сделаешь, все ради нее. И внизу живота собирается знакомый, тяжелый, дикий огонь. И хочется, чтобы она его погасила.
Древние сказки беззубых старух, твердил он себе. Так не бывает. Не с ним. Не здесь. Не с Эльзой.
Сестра выбежала из ванной, на ее лице читался испуг, с мокрых волос на плечи стекали капли воды. Обернутая большим полотенцем, она прижимала концы к груди и застыла, глядя на Димитрия, стоящего на четвереньках, низко пригнувшего голову, с истовым взглядом безумца втягивающего ее запах, пропитавший всю эту комнату. По-звериному он двинулся вперед, а Эльза попятилась, пока не уперлась в стену. Она вздрогнула, когда его нос ткнулся ей в щиколотку. Димитрий приподнялся, мягко куснул ее лодыжку, привстал еще выше, она судорожно стиснула ноги, прижав рукой полотенце между ними. Он лизнул эту руку, выпрямился во весь рост так, что теперь она смотрела снизу вверх на него, притиснул ее всем телом и положил ладони на стену.
Эльза смотрела огромными, широко распахнутыми глазами на бледном осунувшемся лице, и в ее зрачках Димитрий видел отражение собственного ужаса, ледяной лапой стиснувшего ему горло.
— Ты что… Дим? — едва выдавила она.
— Помоги мне, Эль, — сильный мужчина нависал над ней, но этот скулящий, перепуганный голос принадлежал всего лишь волчонку, искусанному и полузадушенному его чудовищами. — У меня к тебе… привязка.
— При… — она осеклась, не в силах выговорить это слово. — Но ты же мой брат.
— Да.
Вот и все, что он мог ответить. Вот о чем твердили ему ненавистные голоса и на берегу океана, и на шоссе, и каждую мучительную секунду его жизни. Сделай это. Сделай сестру своей женщиной.
Когда-то Димитрий искал свой предел, но теперь это был даже не предел, а последняя грань, та черта, которую он не мог позволить себе перешагнуть даже под страхом смерти. Его пропасть, та жуткая зияющая бездна, в которую так не хотелось падать. Он всегда гадал, что же кроется в ней, почему она так манит его? Теперь истина вышла наружу. Эта бездна раскинулась перед ним в дрожащих серебристых глазах родной сестры. Самые страшные, больные фантазии, когда-либо приходившие ему в голову и даже воплощенные в жизнь, не шли ни в какое сравнение с мыслью, что он ляжет в постель с Эльзой. Станет ласкать ее тело, вколачиваться между ее распахнутых бедер, как делал это со многими и многими другими женщинами до нее. Возьмет ее невинность, прольет ее девственную кровь. Будет слизывать испарину с ее горячей кожи, слушать ее крики наслаждения. Станет ей больше, чем братом — мужем, любовником, всем на свете.
И он не сможет не лечь, его некому остановить, так же как некому было, когда он совсем еще мальчиком рвал служанок в клочья в этом доме. Он может снова попытаться остановиться сам, но… это же привязка, то, с чем даже волку не справиться.
Он влюблен в свою сестру.
— Зачем ты родилась, Эль? — спросил он, а пальцы гладили ее нежные щеки, ее дрожащие губы, ее глаза в прозрачных крупных слезах. — Если бы ты не родилась, все было бы по-другому. Я прожил бы эту жизнь по-другому, понимаешь? У меня бы была женщина, которую я бы любил. — Он помнил, что где-то есть такая женщина, но сейчас, рядом с Эльзой, забыл ее имя. — Я бы смог держать себя под контролем. Я был бы счастлив.
— Ты же мой брат, ты же мой брат, — только и твердила она, оцепеневшая от шока.
— Сделай это. Сделай, — хрипели и ярились голоса в его башке.
И будто кто-то задул ту крохотную свечку, что когда-то помогала ему не сбиться с пути.
Эльза дернулась, когда он наклонился и поцеловал ее. Она не отвечала ему, и ее губы оставались неподвижными и холодными, все тело закаменело от напряжения. Если бы могла, она бы наверняка вжалась в стену и растворилась там. Но она не могла, а он слишком часто ставил женщин в зависимое и безвыходное положение, чтобы дать ей хоть один шанс сбежать.
— Ты же мой брат…
Его ладонь огладила ее голое плечо, ключицу, сдвинулась на грудь, сжала.
— Ты же мой брат.
Он схватил одну ее руку, до боли стиснул запястье, ударил о стену, так же рванул другую руку, опалил дыханием ее лицо, столь похожее на его собственное. Полотенце упало вниз, он медленно опустил взгляд на ее ничем не прикрытое тело и смотрел, смотрел, смотрел, стоя так.
— Ты же мой брат.
Эльза кричала это. Вопила так, что стекла звенели, но ее голос долетал до него будто сквозь вату. Тогда она укусила его. Он лишь успел заметить движение, а потом щеку пронзила острая боль. Кровавый поцелуй сестренки отрезвил его. Он оттолкнул ее и сам рванул зубами ее запястье. Остался так, тяжело дыша и глядя на Эльзу поверх ее вздернутой руки. Запах собственной крови щекотал ноздри, а алые ручейки, побежавшие к ее локтю, будоражили еще сильнее, и он почти не мог разобрать, где заканчивается аромат его крови и начинается ее. Их кровь была общей. Он стиснул челюсти сильнее, сестра снова закричала, на этот раз от боли. Обычно она не кричала, когда маленькой он кусал ее, только плакала и обнимала его. Смутные детские воспоминания — как спасательный круг, за который он уцепился, чтобы выплыть.
Оттолкнулся от нее, оставил плачущую и дрожащую у стены, но обратно тянуло как магнитом, и каждый шаг от Эльзы казался в тысячу раз сложней, чем простое и легкое возвращение к ней. В этом доме имелось лишь одно место, хоть как-то способное ограничить его. Димитрий ворвался в собственную комнату, захлопнул дверь, ударил в нее кулаком. Стало чуть легче, но ненамного. Это ненормальная привязка, волки так не сходят по своим парам с ума. Нормальные волки, поправил он себя. Больное, извращенное чудовище просто не может любить нормально.
— Надо было матери убить тебя в животе, — от кого-то он слышал эту фразу в давние времена. Может, от няни? Сейчас он с удовольствием с ней бы согласился. Надо было. Для него нет ничего святого. Ничего.
В ящиках стола до сих пор хранилось много разного барахла: его комната была настолько всем безразлична, что ее даже не трогали. Димитрий нашел инструменты, которыми пользовался, когда строил свои корабли — бечевку, суровую иглу, ножницы, молоток и гвозди. Трясло как в лихорадке. Он опустился на колени на пол, положил правую руку ладонью вверх, взял гвоздь в пальцы. Управляться левой было непривычно, Димитрий помедлил, рассчитывая удар.
И все равно с первого раза острие вошло криво, пальцы скрючило от боли, и он чуть не выронил молоток. Не раздумывая, не позволяя себе опомниться, нанес второй удар, вгоняя гвоздь в середину ладони, прибивая свою руку к полу. Этой ладонью он гладил сестру, касался ее груди, ласкал ее кожу. Эти пальцы он хотел погрузить в ее сладкую влажность. Эту руку следовало остановить.
Он вколачивал и вколачивал гвоздь, пока очередной удар не утопил железную шляпку прямо в живую плоть и не выключил его сознание на какое-то время. А когда его глаза открылись, они были полностью черными, и прибитое к полу чудовище еще корчилось некоторое время, дергая и пытаясь освободить лапу и улыбаясь кровавым оскалом зубов. Потом и оно затихло, и на полу в комнате с железной дверью остался только человек.
Человек обмакнул палец в свою кровь, написал на досках букву П, и долго смотрел на нее, надеясь вспомнить, что она означает.
Никогда еще Димитрий не был так благодарен отцу, как в момент, когда тот явился и вышвырнул его из дома. Эльза не сказала ни слова — наверняка у нее язык просто не поворачивался — но зато ее тупоголовый тюремщик очнулся и тут же бросился к хозяину. Гнев Виттора был безупречен: немного аристократического высокомерия, немного брезгливости к сумасшедшему сыну, заявившемуся домой, только чтобы навести беспорядок и напугать слуг, и море холодного презрения.
— Не смей носить мою фамилию, — прошипел он, вместо привратника лично захлопывая за Димитрием решетку ворот. — В нашем роду никогда не было психопатов. Я скажу всем, что ты умер.
— Придумай мне красивую смерть, отец, — ответил Димитрий, сжав в кулак пальцы израненной руки. — Чтобы все тебя пожалели.
Ночью в трущобах столицы было неспокойно. Разразился ливень, и немногие прохожие, оказавшиеся в непогоду на улице, видели одиноко бредущего человека в промокшей серой ветровке с капюшоном, надвинутым на глаза. Вода, льющаяся с небес, хлестала по его плечам в редком фонарном свете, а тень падала на лицо, не позволяя разглядеть его. А утром, когда туман стал понемногу рассеиваться, первые солнечные лучи высветили путь, которым прошел Волк. Ночные прохожие видели человека в ветровке, это читалось в их распахнутых остекленевших глазах. Но они не могли уже никому об этом рассказать.
Ян застал господина стоящим у зеркала в своих комнатах под темплом темного. Он оглядел обломки мебели, осколки стекла на полу, обрывки ткани. Отражающая поверхность — единственное, что уцелело здесь, и в ее зеркальной глубине отвратительный монстр жмурил свои красные глаза и скалил желтые зубы, прислушиваясь к тихому шуршанию голосов.
— Ты не пришел в окулус, — заметил Ян, но без своих обычных упреков, а тихо, вполголоса. — Покажи мне свои глаза.
Димитрий медленно повернулся к нему и обратил равнодушный взгляд, в котором серебро бесконечно боролось с ночным мраком.
— У тебя когда-нибудь было чувство, — так же негромко заговорил он, — что каждый выбор в твоей жизни уже сделали за тебя? Тот выбор, о котором кричат прислужники светлого, когда в очередной раз приходят жечь наш темпл. Женщина, которую ты полюбишь. Люди, которых убьешь. Поступки, которые совершишь. День, когда умрешь. Что все это уже решил за тебя кто-то другой?
— Нет, — покачал Ян головой.
— Значит, тебя лишили даже возможности сомневаться.
Ян смущенно откашлялся.
— Иногда мне трудно следить за полетом твоей широкой мысли, брат. Ты мог бы выражаться яснее? Я чем-то могу тебе помочь?
— Помочь? Мне? — усмехнулся Димитрий, но тут же вновь стал серьезным. — Да, можешь. Приведи мне девушку, очень похожую на мою сестру. Девственницу, которую я смогу трахнуть.
— На сестру? — брови Яна поползли вверх.
— На Эльзу, — с ледяным спокойствием кивнул Димитрий. — У меня одна сестра. По крайней мере, пока папенька не признавался, что наплодил других.
— Но это… — Ян в растерянности похлопал глазами.
— Чудовищно? А ты думаешь, я сам этого не понимаю? — Димитрий пригвоздил его взглядом к месту. — Приведи.
Самообман. О, он был невероятно изобретателен в этом искусстве. Он и раньше умел убедить себя. Что очередная темноволосая и белокожая девушка, которой он вспарывает горло — его сестра, а очередная задушенная толстуха — его мать. Что этой крови, наконец-то, будет достаточно, и голос в башке заткнется. Что сам он никогда не увидит ужас в глазах любимой женщины, если сумеет вовремя остановиться. Что родители начнут гордиться им. Что он сможет стать нормальным, любить и хранить верность своей единственной.
Петра часто упрекала его за то, как он смотрит на них. На всех тех, дразнящих его одним своим видом, искушающих его проклятый внутренний голос. Упрекала, а он раз за разом хотел ей доказать, что может все. Он утопил шлюху в океане, чтобы не прикоснуться к ней. Заставил селянку играть со сливами, чтобы не вколотить в нее член. Он старательно избегал вообще всех женщин последние несколько недель.
Но он не мог побороть привязку к собственной сестре, о какой верности тут могла идти речь?
А девочка-скала такого отношения к себе совсем не заслужила.
Ян ушел, но впервые почудилось, что и он боится своего господина. Димитрию было все равно. Разбитую мебель заменили, но это тоже его не волновало, ему доводилось спать не только на голом полу, но и в местах похуже и похолодней. Часами он стоял и вглядывался в зеркало и каждый раз видел там разные картины.
Наконец, Ян вернулся с неожиданной гостьей. Едва узрев ее длинное белое одеяние, Димитрий расхохотался, и она вздрогнула от того, каким безумным и яростным эхом этот смех отразился от стен. Вздрогнула, но не отступила, а на ее миловидном лице лишь больше отпечатались обреченность и решимость.
— Я подумал, что это порадует тебя, — пояснил Ян, — и поможет… отвлечься.
— Порадует?
Знал ли он вообще, что такое радость? Петра знала… но ее чистой радости достоин кто-то другой. Мягкими шагами, с улыбкой острее ножа Димитрий приблизился к монашке.
— Святая Южиния, — протянул он и запустил пальцы в ее некогда длинные и шелковистые, а теперь короткие светлые волосы, — ты обрезала их, чтобы наказать себя?
От его прикосновения она вздрогнула, словно от ожога, закрыла глаза, губы шептали что-то неразборчивое. Какому богу молилась? Он мог поклясться, что светлый залепил уши воском, раз прислал ее сюда.
— Я усмиряла плоть. Вы отравили меня, — ненависть в ее срывающемся от волнения голосе оказалась настолько сильна, что он почти ощутил физически. Ему нравилось это: и ненависть, и желание, и боль, и отвращение к себе, что звучали из ее уст. Все так знакомо. — Вы что-то такое сделали со мной…
— Да, я показал тебе, что такое удовольствие.
Южиния задохнулась от негодования.
— Это… это не удовольствие. Это порок. Вы ввергли меня в пучину порока.
Он погладил ее по лицу, скользнул большим пальцем в рот. Девушка задрожала еще больше, обхватила его губами, принялась сосать, неумело, но с безумным отчаянием. Ее глаза лихорадочно сверкали под полуопущенными ресницами. Наверняка в эту минуту она содрогалась от самой себя, от того, что толкало ее на этот поступок. Другой рукой он похлопал ее по щеке в знак одобрения, как поощряют любимых питомцев.
— Только порочное удовольствие может быть таким сладким, да, моя святая Южиния?
Она покорно расслабила губы и выпустила его влажный палец.
— Не называйте меня так. Я… я пыталась забыть вас. Пыталась не думать.
— Но все же пришла? Тогда ты знаешь, что делать.
Когда-то — казалось, что сотню лет назад — забавляясь с ней, он загадал, чтобы она вернулась и умоляла его лишить ее невинности. Портить монашек — тогда это выглядело самым кощунственным поступком из возможных. Как же он ошибался.
Южиния робко оглянулась на Яна, который молчаливо ожидал, что будет дальше, затем снова повернулась к Димитрию с мольбой в глазах.
— Делай это, — приказал он.
Склонив голову, она упала перед ним на колени, такая хрупкая, такая сломленная, такая покорная, пальцы сами собой сомкнулись в знак молитвы. Белое платье кругом легло у ног, под кожей на тонкой шее проступили позвонки. Он усмехнулся, наблюдая за ней: какова же сила привычки, эти действия вбили в нее с младенчества, и теперь ее тело машинально повторяет их при каждом удобном случае. Наверно, именно так боги смотрят на тех, кто молится им, сверху вниз, с холодными усмешками на красивых лицах.
— Вы ужасный человек, — услышал он ее бормотание, — вы… вы темный бог. Но это сильнее меня. Я больше не могу бороться.
— Громче.
— Я люблю вас, — крикнула она тогда, запрокинув голову. — Я хочу снова это испытать.
— Испытать что?
— Чтобы вы… чтобы вы лишили меня невинности, как обещали. Я хочу узнать, каково это — быть возлюбленной мужчины. Простой женщиной.
— Вот видишь, — обратился Димитрий к Яну, — вот так бывает, когда у кого-то по-настоящему есть выбор. А теперь принеси нам кальян. И побольше вина.
Невинные голубые глаза Южинии расширились на поллица, когда он тоже плавно опустился перед ней на колени. Стоя в такой позе, склонил голову, коснулся ее губ и ощутил, как она задержала дыхание. Где-то вдалеке хлопнула дверь: Ян отправился выполнять приказание.
— Расскажи мне, как ты сопротивлялась, — шепнул Димитрий, проводя пальцами по ее щекам.
— Я… — девушка сглатывала и тянулась к нему, как цветок — к первым лучам солнца. Хотя вряд ли от него веяло светом, — я просила у пресвятого светлого бога послать мне сил.
— Но никто не услышал тебя, — он лизнул ее шею, впитывая сладкую дрожь и аромат горячей крови, бегущей по венам. Чистота этой монашки пьянила, — добро пожаловать в мой мир, святая Южиния. Мир, где боги созданы, только чтобы смеяться. А возможно, их тут вообще нет. И единственный источник сил, который у тебя есть, находится внутри. Никто не даст тебе больше.
— Нет, — она вцепилась в его одежду, откинула голову, тихонько застонала, — светлый бог… он не услышал меня, потому что я плохая… потому что мне… мне было с вами так хорошо…
— Но как может быть плохо то, что хорошо? Ты думала об этом, моя наивная Южиния? — он развязал тесемки у горловины ее платья, потянул ткань вниз, обнажая покрытые свежими вспухшими рубцами плечи. Тронул языком один, заставив девушку вскрикнуть.
— Красивой быть плохо, — нахмурилась она, — это вводит в искушение.
— Поэтому ты обрезала свои чудесные волосы? — он куснул ее за мочку уха. — Поэтому хлестала себя плетьми? Помогло?
— Нет, — она поежилась, прикрывая грудь руками под его взглядом. — Мое тело… оно все равно помнило, как вы ласкали меня. Как заставляли…
— Чувствовать?
Она только кивнула.
— И ты хочешь почувствовать это снова?
— Да.
— Тот оргазм, который испытала?
Южиния густо покраснела.
— Вы снитесь мне ночами, и я просыпаюсь, и со мной что-то происходит.
Он прекрасно знал, что. Это происходило с ней и сейчас: между ее ног все увлажнилось, а дыхание стало частым, и губы пересохли. Это происходило с ним каждую секунду, когда он думал об Эльзе.
— Станешь делать все, что я захочу? — поинтересовался он, терзая пальцем ее раны.
— Я готова служить вам. Я буду вашей рабой, потому что к светлому богу мне уже не вернуться. Мне нет дороги назад.
— Нам всем нет.
Он поднялся на ноги, помог девушке встать, и как раз вовремя: вернулся Ян. Димитрий подошел, взял из его рук трубку кальяна и втянул густой сладковатый дым. Южиния стояла, придерживая спущенное платье, не монашка, не святая — мученица, идущая на костер. От себя не убежишь, волчонок. Видят боги, ты пытался. Но не убежишь.
— Подойди сюда, — он протянул ей руку, и девушка повиновалась. Ян расставил вино и бокалы и хотел скрыться, — погоди, брат. Я хочу, чтобы ты остался.
— Я? Остался? — Ян перевел взгляд на побледневшую Южинию, потом снова на своего друга и господина.
— Да. Хочу, чтобы мы с тобой сыграли в старую игру, которая нравилась нам раньше.
— Мы были совсем мальчишками, — Ян тут же все понял, и взгляд стал другим, более цепким, более темным. Димитрий усмехнулся.
— Тем интереснее будет сыграть теперь, — он собственноручно налил и подал всем бокалы, — до дна.
Южиния с ужасом посмотрела на свой напиток, но поднесла к губам и сделала глоток. Наверно, это был первый глоток спиртного в ее жизни, Димитрий знал, как сурово относятся в дарданийских монастырях к любому проявлению мирского удовольствия. Он придержал донышко ее бокала, поднимая все выше, пока девушка не осушила все до капли. Ее глаза тут же подернулись пеленой, и она пошатнулась, словно от головокружения. Тогда он взял ее за плечи и развернул — к себе спиной, к Яну лицом.
— Видишь этого человека? — зашептал в обрамленное золотистыми завитками коротких волос ушко. — Это мой брат. Его руки — мои руки. Его лицо — мое лицо. Его тело — мое тело. Ты поняла меня, милая? Поцелуй его так, как целовала бы меня. И представляй, что это я.
Южиния, открыв рот, обернулась к нему через плечо. Она вся оцепенела и могла только безмолвно умолять его о пощаде.
— Ты сама хотела, — напомнил он сурово, — ты пришла и просила служить мне. А я хочу тебя именно так.
В ее зрачках что-то вспыхнуло, но она не шелохнулась и не попробовала убежать.
— Ты засранец, — хохотнул Ян и обнял девушку, найдя ее губы.
Димитрий вяло улыбнулся, наблюдая за ними, и снова потянулся к кальяну. В пелене дыма голоса становились не такими злыми и тоже смеялись вместе с ним. Человек в нем рвался к Петре, волк хотел Эльзу, а эта маленькая золотая рыбка… да сколько он утопил таких? Одной больше, одной меньше — какая теперь ему разница?
Комната покачнулась, он подошел, спустил ниже белое платье монашки, красные полосы цвели на давно заживших белых шрамах. Разве можно усмирить плоть таким образом? Чужую — да, свою… вряд ли. Он стал лизать рубцы на женской спине, открывая их пальцами и собирая языком крохотные капельки крови, пока Ян покрывал поцелуями губы и шею Южинии. Она болталась между ними, напуганная, потерянная, послушная, как тряпичная кукла. Она хотела одного, но была вынуждена отдаться другому, один нежил и ласкал ее, другой — причинял боль, и это разрывало ее на две половины. Жестокая, коварная, сладкая пытка, от которой женщины сходили с ума.
Они не зря называли себя братьями — ни разу их руки не столкнулись и не помешали друг другу. Ян сжимал грудь Южинии, теребил пальцами ее чувствительные напряженные соски, Димитрий запрокинул на свое плечо ее голову и целовал приоткрытые губы, пил жаркое дыхание возбужденной, опьяневшей девушки. Он лил в ее рот вино прямо из бутылки, и вишневые струйки текли по белой коже, а Ян ловил их языком на ее шее и жадно глотал.
Где-то далеко позади остался день, когда Димитрий возил свою девочку-скалу к темплу неизвестного бога, заброшенному в лесной глуши, но даже сейчас он бы не раздумывая отдал все, что имел, все удовольствия, которые когда-либо испытывал в жизни, чтобы снова вернуться туда, где пахнет на солнце клевер и прячется в углах вековая тень.
Но это было давно, в его прошлой жизни, и от себя не убежишь, и падшая монашка дернулась и выгнулась в его руках, издавая глубоким грудным голосом музыку первобытной страсти.
— Один, — сосчитал Ян и улыбнулся, как сытый кот, слизывая влагу с пальца, которым только что ласкал девушку внизу.
— Ты всегда торопишься, — упрекнул его Димитрий и приподнял за подбородок лицо Южинии, заглядывая в мутные глаза, — поцелуй теперь меня, милая. На этот раз будет долго.
Она охотно подставила ему губы, вряд ли уже различая мужчин между собой. Димитрий целовал ее и выпускал в ее рот клубы кальянного дыма, делил с ней одно дыхание на двоих, забирал ее разум и давал взамен безрассудное желание. Ян сел в кресло, закинул ногу на ногу и потягивал вино со скучающим видом, пока они развлекались вдвоем. Иногда его взгляд задерживался на монашке, иногда — на друге.
Южиния раздевала Димитрия заплетающимися пальцами, слепая человеческая девушка, не способная увидеть за красивым лицом и великолепным телом то, что таилось внутри. Расстегнула его рубашку, благоговейно коснулась груди, очертила мышцы под безупречно гладкой кожей. С непроницаемым выражением лица он опустил ее руку ниже, заставил освободить из одежды его член и сжать в ладони. Южиния ахнула, рассматривая его. Казалось, она боится и вожделеет его в одно и то же время. Что-то промелькнуло в ее хорошенькой головке, и она порывисто присела, взяла его в рот, сделала несколько неловких движений, снизу вверх с рабским заискиванием заглядывая в лицо господина. Димитрий поморщился и отодвинул девушку, уложил на стол, заставил раздвинуть колени и упереться пятками в край столешницы. В таком виде она совершенно открылась и ему, и Яну.
— Ты ведь ласкала себя ночами, когда думала обо мне, святая Южиния? Покажи мне, как.
— Я… я не знаю, — заволновалась она с внезапной неловкостью.
— Знаешь. Приступай.
Сам отошел и отвернулся, заложив руки за спину, слушая ее сбившееся дыхание и влажные хлюпающие звуки тела там, где она помогала себе рукой. Минуты шли, наполненные ее напряженным движением к разрядке. И когда девушка судорожно втянула воздух, а затем расслабленно простонала, он отметил:
— Два.
— Это было нечестно, — возмутился Ян. — Она сделала это сама.
Димитрий улыбнулся, глядя в пустую стену невидящим взглядом.
— А кто сказал, что я люблю играть честно?
Он вернулся к Южинии, поднял ее на руки и отнес на кровать. Ян присоединился к ним, и игра продолжилась. Один ласкал ее языком внизу, другой сжимал шею, придавливая к подушкам, вынуждая ощутить себя беспомощной и слабой между ними. Один обнимал ее, голую, извивающуюся от любого, даже самого легчайшего прикосновения к коже, другой раздвигал ее ноги, вторгаясь пальцем в ее плоть. В воздухе повис тяжелый кальянный аромат, пахло страстью и разбитыми грезами. Его, чужими — какая разница? Мужские стоны сливались с женскими, сильные грубые руки гладили гибкое нежное тело, розовые мягкие губы скользили по напряженному твердому органу, чистоту поглотил порок, от себя не убежишь, ему следовало сдохнуть при рождении, он любит Петру, он хочет собственную сестру.
— Три.
— Четыре.
— Пять…
Верный своим обещаниям, он прижал Южинию к постели, расположившись между ее распахнутых ног. Ее тело, влажное от наслаждения, поначалу впустило его легко, но затем тугие мяшцы сократились от первого болезненного ощущения, и лицо девушки исказилось страданием. Она ерзала на постели, не делая попыток оттолкнуть мужчину, лишающего ее невинности, но инстинктивно пытаясь избежать боли. Он стиснул зубы и надавил еще, буквально проталкиваясь навстречу ее сопротивлению, и сам застонал от удовольствия, когда почувствовал запах свежей крови и судорогу краткого страдания, пробежавшую по женщине под ним. Кровь и страдания — вот и все, для чего он создан.
Повернулся на бок, все еще оставаясь в ней, жадно целуя ее губы, грубо кусая ее рот, зарываясь пальцами в волосы. Ян вел себя нежнее, лаская ее израненные плечи, а уютное местечко между ягодиц Южинии уже знало мужчину раньше, поэтому второе вторжение она перенесла более покладисто. Но выгнулась дугой и закричала, когда они одновременно двинулись в ней — таких ощущений ей еще не доводилось испытывать. И продолжила вскрикивать с каждым толчком, и подавалась навстречу то одному, то другому, а они слаженно, умело целовали ее по очереди и вели свой, только им понятный счет.
— Шесть.
— Семь…
Падение длилось и длилось, и у бездны не было конца.
Петра сидела с очень прямой спиной и спокойным лицом и слушала его, не делая попыток перебить. Он пришел рано утром, а она, едва проснувшись, только посмотрела на него и сразу же села вот так, очень прямо и неподвижно. Ее волосы отрасли за лето и концы касались плеч, из окна на них падало рассветное солнце, и пряди отливали золотисто-каштановым блеском. У Эльзы волосы иссиня-черные при любом освещении.
Он говорил и говорил, о том, что ей нет нужды возвращаться в Нардинию, если она боится дракона, что в международном банке уже открыт счет до востребования, и с него можно снимать деньги не только в любом городе Цирховии, но даже за океаном. Много денег — счет будет автоматически пополняться по мере необходимости, и у нее никогда не попросят отчета о расходах. Она может купить дом на побережье, если любит океан, или вообще уехать на край света, куда угодно, но только не оставаться в столице. В столице ей оставаться больше нельзя.
Димитрий бы купил ей дом и сам, но тогда будет знать адрес и — этого уже не прозвучало вслух — рано или поздно, натрахавшись и пролив достаточно крови, успокоив ненадолго свои голоса, он не выдержит и примчится, чтобы положить голову ей на колени. И она опять простит и примет его таким. А девочка-скала с ее чистым и добрым сердцем достойна гораздо большего.
Глаза у Петры были пронзительными, и уставшими, и очень печальными. Он замолчал на полуслове, не зная, что еще добавить и избегая в них смотреть, и тогда она сказала:
— Ты собираешься сделать что-то плохое, Дим?
В вопросе не звучало упрека или негодования. Лишь просьба подтвердить догадку. Он расхохотался.
— Плохое? Ты что, все забыла, сладенькая? Я порезал тебе спину.
— Ты был пьян, — девочка-скала засопела, подумала и добавила: — Мы оба были пьяны.
Он закрыл глаза от собственного бессилия. Это удивительно, как можно в каждом его поступке не видеть истинного зерна. Что, если он расскажет ей про монашку? Или про Эльзу? Она и здесь найдет, чем его оправдать?
Петра подалась вперед.
— Голова болит. Дим, очень болит голова, я же вижу.
Она встала в одной тонкой ночной сорочке, обхватила его больную башку руками и прижала к своему животу, и на очень краткий миг ему стало так хорошо, что не передать словами, но едва ее прохладные пальцы коснулись его висков, как он оттолкнул ее и заорал:
— Проклятье, да уезжай уже, Петра. Хватит за мной волочиться.
Девочка-скала вздрогнула и моргнула, а затем тихо сказала:
— Хорошо.
Он наблюдал, как она собирает вещи: деловито и сдержанно, ни одного лишнего движения, ни всхлипывания, ни заламывания рук. Ян говорил, что Петра плакала без него, но при нем она не проронила ни слезинки, разворот плеч оставался царственным, а посадка головы — горделивой. Собрав свой единственный чемодан, тот же, с которым и приехала, она подошла к порогу.
— Я готова.
Он чувствовал себя таким скотиной, каких еще не видывал свет.
На вокзале подметальщик боролся с сентябрьским ветром, гоняя первые опавшие листья по перрону, а запах шпал смешивался с ароматом сигар пассажиров. Паровоз выпустил огромное облако белого пара и издал протяжный гудок, созывая отъезжающих. Петра направилась к нему, почти не дожидаясь, пока Димитрий оплатит билет у сонного кассира. Она дрожала на ходу в легкой курточке — он отчаянно убеждал себя, что ей пришлась не по нраву цирховийская осень. В Нардинии ей будет теплей, и в любом городке у границы — тоже. Возможно, ей стоит уплыть на Раскаленные острова: говорят, там невыносимая жара в любое время года.
Когда чинный майстр с бакенбардами окинул проходившую девочку-скалу плотоядным взглядом, что-то внутри непонятно царапнуло. Димитрий заступил ему дорогу, чуть повернул голову, посмотрел сверху вниз: тот рассыпался в извинениях перед благородным лаэрдом. Петра уже поднялась по ступеням в вагон, смотритель пропустил ее, заметив, кто девушку сопровождает. Димитрий протянул ему билет. Мужчина открыл его, увидел вложенную купюру, оторопел на секунду, а затем торопливо раскланялся:
— Приглядим, благородный господин, можете не волноваться. Чужих не подпустим, высадим, где надо, все проконтролируем.
Димитрий смотрел поверх его плеча, надеясь, что Петра обернется на прощание.
Она не обернулась.
Он отошел на несколько шагов назад, засунул руки в карманы и стоял так, пока паровоз издал второй гудок и третий, а белый пар летел по перрону, щекоча лицо. Где-то рядом прощались, желали друг другу всего хорошего и удачной дороги, обещали писать. Он сверлил взглядом входной проем за спиной вагонного смотрителя, но Петра больше не выходила. Наконец, по всему составу прошел гул, словно железо застонало, и колеса сдвинулись, совершив первый оборот. Димитрий отвернулся, выругался так, что оказавшийся рядом подметальщик выронил метлу, и пошел по перрону.
Поток прибывших утекал к выходу, он же направился против движения, бесцеремонно расталкивая людей. Поднялся на железнодорожный мост над путями, положил руки на перила. Вдалеке к вокзалу неторопливо подкрадывался другой паровоз. Шел не на всех парах, но все же, если выждать, пока приблизится, и спрыгнуть на рельсы — затормозить уже не успеет. Нехорошая смерть, некрасивая. Будет много крови, и если опознают, отец изойдется негодованием. Последнее показалось даже забавным.
С этой мечтательной улыбкой он и стоял, отмеряя на глаз расстояние до паровоза, но когда уже собрался перекинуть ногу через перила, в грудь что-то толкнуло. Петра поднырнула под его руку, бросилась всем телом, обхватила, словно — если бы он сопротивлялся — сумела бы удержать.
— Не надо. Пожалуйста, — она прижалась губами к его шее пониже подбородка, парализуя, обездвиживая одним этим действием. — Пожалуйста. Не надо.
— Спрыгнула, — только и выдохнул он, крепко сжимая ее в объятиях. Сердце колотилось как-то по-глупому, и стало не по себе от того, что вот сейчас он ее отпустит, и она снова уйдет.
— Спрыгнула, — виноватым голосом признала Петра.
Мост под ногами слегка завибрировал: паровоз под ними прошел, мерно отсчитывая рельсы. Сразу же хлынул поток людей, Димитрий едва успел развернуться так, чтобы закрыть собой Петру. Его толкали в бок и спину, а он шепнул ей:
— Не бойся, я тебя держу.
— Это я тебя держу, — грустно улыбнулась она, глядя на него снизу вверх, — когда ты уже это поймешь? Я же знала, что ты собираешься сделать что-то плохое. У тебя было такое лицо, Дим…
Поток пассажиров начал иссякать, можно было больше не бояться, что их растопчут. Он неохотно выпустил ее из рук.
— Я уже сделал кое-что плохое, сладенькая. Прости меня.
Петра сглотнула.
— Это я тоже чувствовала, Дим.
— Ты не спросишь, что?
— Я не хочу, — в голосе ни обиды, ни зла, лишь сожаление. Сожаление, от которого ему хотелось орать матом. — Ты долго не приходил, а теперь просишь прощения. Ты же никогда не просил прощения раньше, Дим. Ты же не умел его просить. Думаешь, так трудно догадаться, в чем дело? Да любая женщина на моем месте сразу бы все поняла. Неужели ты считаешь меня глупее других?
— Иногда я не могу остановиться, — скрипнул он зубами.
— Ты же говорил, что все можешь, если захочешь.
Она смотрела прямо в его лицо, будто душу выжигала, и Димитрий отвел взгляд. Возможно, девочка-скала и права. Возможно, он не хотел останавливаться с той монашкой. Хотел отрезать себе все пути отступления к Петре, чтобы уже не получилось вернуться, потому что ненавидел сам себя так сильно, что едва ли что-то соображал. Но сейчас, рядом с Петрой, он не желал ничего более, чем просто быть с ней. Несмотря на свою темную и больную сущность, наплевав на то, что это невозможно. Когда она стояла рядом, ему снова казалось, что выход найдется, и привязка к Эльзе окажется лишь дурным сном. Он справится и сможет балансировать на тонкой грани, как делал это многие и многие дни прежде.
— Если захочешь уйти… — начал он, а Петра вдруг ударила его по плечам и закричала:
— Да не хочу я уходить, понял? Когда ты уже поймешь, что тебя любят и хотят помочь? Почему хоть на вот столечко не подпустишь к себе ближе? Какое ты имеешь право решать за меня, когда уходить, а когда оставаться? Это мой выбор. К тому же, когда прогоняешь, это ты не меня, а себя так наказываешь. Думаешь, я этого не понимаю?
Ее крики разносил ветер, и внизу, на перронах, люди останавливались, чтобы задрать головы и с удивлением посмотреть вверх. Петра опомнилась, огляделась и съежилась в комок, а он просто стоял, смотрел на нее и не знал, что ответить. Как объяснить ей, что он лишил ее выбора, потому что не имел его сам? Как совместить любовь к ней с тяжелой, невыносимой, манящей привязкой к Эльзе? Как не ранить ее обманом и не убить правдой? Как вообще можно выбрать такого, как он? Это в его больной башке не укладывалось.
Он хотел делать хорошие вещи, но совершал только плохое. Берег семью от себя самого, но руки все больше обагрялись кровью. Обещал заботиться о сестре, но вместо этого задумал уложить ее в постель. Старался даже оградить от себя Петру, стать для нее благородным рыцарем, но она сопротивлялась и желала остаться с ним — и он, как дурак, ощутил такое невыносимое, режущее все внутренности острыми гранями счастье, что уже понял: не отпустит ее снова. Слабый, слабый волчонок, мечтающий о любви, которой совершенно не заслуживал.
— Ты болен, очень болен, Дим. Тебе нужно лечиться, — вздохнула Петра и положила ладонь ему на висок.
Димитрий закрыл глаза, наслаждаясь этими ощущениями.
— Хорошо. Я согласен. Если ты останешься.
К темному богу все, и понятно, что никакое лечение ему не поможет, но он пойдет на что угодно, лишь бы еще ненадолго задержать ее рядом. Он будет бороться.
— Хорошо, — эхом отозвалась она, — но теперь я останусь рядом только как друг. Просто потому, что нужна тебе сейчас. Я не могу делить тебя с другими женщинами.
Он мрачно усмехнулся.
Дарданийские горы были прекрасны и неприступны, как Петра, которая решила, что ему не стоит больше прикасаться к ней. Склоны покрывал темно-зеленый ковер хвойных деревьев, яркие рыжие и желтые пятна лиственных еще виднелись на нем, но наверху, где каменные строения прочно вдолбились в горную породу, в сентябре уже лежал снег.
Петра пришла в ужас и восторг, увидев это. Прямо в монастырском дворе, пока Димитрий обсуждал с надвратным служкой, какие комнаты им нужны для проживания, она присела на корточки и зачерпнула в ладони белые хлопья. С удивлением принюхалась.
— В Нардинии такое редко бывает, да? — спросил Димитрий, встав у нее за спиной.
— Раз в четыре или пять зим и совсем немного, даже землю не покрывает, — Петра выпрямилась и обернулась, отряхивая о себя руки. — Но мне бы и не хотелось чаще. Я не люблю холод.
— Я могу согреть, — он потянулся, чтобы обнять ее, но Петра лишь качнула головой и попятилась. Она не могла простить его так быстро, но он надеялся, что простит.
На ее просьбу предоставить им раздельные комнаты, монах-кастелян со вздохом развел руками.
— Сейчас высокий сезон, госпожа. У нас свободны только одни покои — самые дорогие, поэтому их еще никто не занял. В остальных уже поселились гости.
Петра бросила короткий взгляд на Димитрия, но он с преувеличенным усердием разглядывал горный пейзаж за окном из толстого двойного стекла и пожал плечами, сообщив, что они вынуждены согласиться. Надвратный служка получил деньги и, к счастью, успел отнести кастеляну его часть. Есть гнусный обман, есть ложь во спасение, как назвать то, на что способен ради женщины, которую понемногу теряешь?
Кровать в покоях оказалась только одна — зато очень широкая. Петра побродила по роскошным коврам, потрогала портьеры, восхищенно замерла у подоконника. И решительно обернулась:
— Ты будешь спать на диване.
— Хорошо, — он не сомневался, что это ненадолго.
"Сделай это. Сделай это. Сделай это", — бесконечно шуршали в голове голоса. Он больше не сопротивлялся их силе. Дорога до монастырей была долгой, придорожные забегаловки — вполне оживленными и полными укромных уголков. Они остановились перекусить раз или два. Один или два трупа — как определить цену, которую готов платить за счастье?
Петра разложила вещи — свои и его — и на миг все снова выглядело, как прежде: она хозяйничала на его территории и дарила неописуемое ощущение спокойствия и уюта. Но иллюзия быстро развеивалась, как только Димитрий пытался сократить расстояние между ними. Девочка-скала в очередной раз оправдала свое прозвище.
Обедали они на высокой террасе, и оказалось, что монастырский повар — настоящий знаток своего дела. Петра пробовала всего понемногу, но получив большой стакан глинтвейна с корицей и мятой, не смогла удержаться, выпила залпом и зажмурилась от удовольствия. За стеклом открывался шикарный вид на горы, на вершинах которых вихрилась поземка. Девочка-скала устремила на них взгляд.
— Здесь красиво, Дим, — вполголоса заметила она, — в местах, где красиво, хочется думать о хорошем. Может быть, тебе помогут здесь.
— Конечно, помогут, сладенькая, — соврал он уверенным голосом и взял ее за руку, но Петра мягко убрала ладонь.
— Не надо.
Димитрий кивнул и отодвинулся. Она не устоит, все равно не продержится долго. А он будет ждать.
Монах-настоятель, к которому они, отдохнув с дороги, пришли в голую темную келью, неохотно оглядел Димитрия и нахмурил косматые брови.
— Зависимость, навязчивые идеи, неуравновешенное поведение, — поджал он губы, — нет ничего, что не излечила бы хорошая праведная молитва пресвятому светлому богу. И покаяние в лечебном холоде, конечно же.
— Лечебный холод? — Петра заволновалась, переступила с ноги на ногу и сама вцепилась в ладонь Димитрия.
Он только ухмыльнулся от этого неосознанного прикосновения и сжал ее пальцы.
— Я согласен.
Хорошая праведная молитва, как он и думал, оказалась пустым сотрясанием воздуха. Петра, чтобы скоротать время, отправилась в термальный бассейн и наверняка отдыхала там, в горячей, пахнущей серой воде, в круглой природной чаше под открытым небом, наслаждаясь перепадом холода и тепла. Он представлял, что лежит там рядом с ней, ласкает ее нежное тело, покрывает поцелуями лицо, шею, ключицы, раздвигает ей ноги, плавно двигается вместе с ней и шепчет ей на ушко глупости, которые заставляют ее смеяться. Им было хорошо вдвоем в те моменты, когда ему удавалось держать себя в руках.
Он помнил, как выглядит Петра, в мельчайших подробностях, помнил ее запах и вкус ее кожи, и с замиранием сердца старался не пропустить момент, когда в фантазиях и запах, и вкус станут другими. Как только это случилось, заставил себя вернуться в реальность, где стоял на коленях в полутемном каменном мешке, пока служитель в серой домотканой рясе читал над ним восхваления светлому богу. Послушница держала свечу над его книгой. У нее были длинные темные волосы и бледное лицо. Она пересеклась взглядом с Димитрием и стала еще бледнее. Как бороться с тем, чему не можешь противостоять?
Вечером они ужинали у себя в покоях, и ради Петры он приказал зажечь по всей комнате сотню свечей. В их мягком сиянии все казалось другим: золотым и нежным. И девочка-скала будто бы снова ласково смотрела на него, хотя так могли просто обманывать тени. Монах играл им на крохотной трехструнной лурне и пел чистым голосом о светлом боге. Когда остатки ужина унесли, Петра первой нырнула в постель и отвернулась, чтобы не смотреть, как он переодевается. Димитрий только хмыкнул и устало стянул рубашку с плеч: проклятая дарданийская сырость молитвенных келий проела его кости насквозь, а голоса продолбили весь мозг из-за этой послушницы. Зря он вспомнил о ней, пришлось снова бороться с наваждением, и опомниться удалось, только когда Петра коснулась его руки.
— Что это? — она с ужасом смотрела на полоску кожи, плотно охватившую его правый бицепс.
— Это ничего, сладенькая, — Димитрий даже сумел выдавить ласковую улыбку и погладить Петру по щеке, — просто нравится носить. Ложись обратно в постель, не стой босиком тут.
— Нравится? — она подцепила ремешок и чуть отогнула, заставив его стиснуть зубы, чтобы сдержать стон.
Железные зубья гвоздей глубоко впились в плоть. Когда-то он снял это чудовищное украшение с Южинии, освобождая ее от оков самоистязания. Как знал, что когда-нибудь пригодится. Петра издала судорожный прерывистый выдох.
— Сними немедленно.
— Не могу, — он снова погладил ее, — это помогает мне. Правда. Ограничивает руку.
Девочка-скала подняла на него взгляд и долго молчала, в глазах опять налилась влага. И опять из-за него. Но хотя бы не так, как тогда, на вокзале, не от обиды и ненависти. Эти нынешние ее слезы он вполне мог пережить.
— Кто была та женщина, Дим? — спросила она наконец. — С которой ты не смог остановиться?
— Никто, — коротко бросил он, — ничего для меня не значила.
— Как постельная рабыня?
Он вспомнил, как она рассказывала ему о нравах своей страны. Южиния, конечно, не была его рабыней, скорее игрушкой, утехой для его хриплых жестоких голосов, но объяснить это девочке-скале не получалось.
— Да.
Петра кивнула, отвернулась и ушла в постель. Ему сразу стало пусто без нее рядом.
На рассвете он проснулся от того, что хрипит, и кусает чье-то плечо, и шепчет чье-то имя.
— Это я. Это я, — она гладила его по вискам, прижимала к себе его больную башку, полную тьмы и неправильных фантазий. — Петра.
— Петра… — послушно повторил он это имя, уже понимая, что звал не ее.
— Да. Тебе опять снились кошмары.
Она уложила его обратно на подушки, наклонилась и мягко провела языком по губам. Он схватил ее тут же в объятия, мечтая сжать так крепко, чтобы треснули кости, со стоном вторгся в ее рот. Хотелось стереть тот сон, который снился. Ему нужно помнить, что по-настоящему дорого, а что — лишь дурное наваждение.
Но Петра сняла с себя его руки.
— Ты просишь слишком многого, Дим, — тихонько проговорила она. — Я и так даю тебе больше, чем должна.
И девочка-скала оставила его с легким ароматом своей крови на губах лежать неподвижно и пялиться в потолок.
Днем огорченный служка поведал им, что одна из послушниц, та самая, что держала свечу, прошлым вечером упала со скалы. Петра выслушала новость и взволновалась не на шутку.
— Конечно, тут опасно ходить, — всплеснула она руками и перевела взгляд на Димитрия. — Пожалуйста, не вздумай приближаться к краю. Я сама стараюсь держаться подальше от скользких мест.
Он кивнул и заверил ее, что все будет в порядке. Как-нибудь надо рассказать ей, что он приезжал сюда еще ребенком и до сих пор помнит каждый уголок.
Лечебный холод наверняка придумали, чтобы замораживать неугодных насмерть. Внизу под уровнем монастыря, в ледяной глыбе была продолблена клетушка метр на два, куда суровый монах привел и уложил Димитрия. Подразумевалось, конечно, что он тут же пустится в благочестивые мысли и покаяния в прошлых делах. Он хмыкнул, повернулся на бок и попытался уснуть. Там, на поверхности, выдался ясный и теплый денек, Петра сказала, что подождет его, загорая в крытом солярии на вершине. Она заслужила немного счастья, и мысль о ее улыбке согревала его.
Через час у него зуб на зуб не попадал, через два — голоса в башке испуганно притихли. Они всегда затыкались, если он делал что-нибудь опасное с собой, словно тоже играли с ним и обманывали его, убеждая, что ушли навсегда. Сквозь морозную пелену ему чудился голос Петры, она ругалась с монахом. Димитрий усмехнулся, представив девочку-скалу орущей на святых людей. Она всегда с уважением относилась к чужим правилам и устоям и делала вид, что верит, хоть поклонялась своим, неизвестным ему богам.
Его выдернули из этого веселого сна и бесцеремонно потянули за руку.
— Все. Мы уходим, — возмущалась Петра, стуча зубами.
— Погоди, сладенькая, — слабо запротестовал он, — я еще не досмотрел, как ты называешь этого благочестивого мужа… как там? Козлом?
— Живых людей морозить, — она хлюпнула носом и вытерла щеку рукавом, только теперь Димитрий заметил, что на девочке-скале надета куча одежды. Низкая температура вселяла в нее чуть ли не суеверный ужас, вот почему Петра не выдержала и примчалась. — Я думала, тут прохладно, а тут.
— Лечебный холод, — кивнул он, едва ворочая языком, потому что опьянел от лютой стужи.
— Да ну их с их холодом, — Петра помогла ему подняться, опереться на нее рукой и потащила мимо растерянного служителя. — Сами справимся. У нас в Нардинии так над людьми не издеваются. Любой знахарь обошелся бы простыми иглами.
— Иглами? М-м-м, как заманчиво звучит. С удовольствием бы их попробовал.
— Замолчи, — сурово оборвала она, сопя носом.
Каким-то образом они все же очутились в своих комнатах, и девочка-скала снимала с него одежду, а он смеялся и пошатывался, радуясь тишине вокруг. Потом она затолкала его под горячий, обжигающий душ и сама влезла туда же, обхватив руками и прижавшись всем телом. Он так удивился, что даже не сообразил сразу ее обнять.
— Ты же пошла загорать, — напомнил он, скрипя зубами от боли, когда кипяток хлестал по коже.
— Я не находила себе места, — пожаловалась Петра. — Так и знала, что ты опять собираешься делать что-то плохое, Дим.
— Собирался. Но на этот раз ради тебя, сладенькая. Чтобы ты простила, — беспомощно признал он, а она подняла голову и посмотрела ему в глаза.
— Я мучаю тебя, да?
Он покачал головой.
— Очень.
Видимо, девочка-скала почувствовала его возбуждение, потому что засопела, а он не мог ничего поделать с собой, обнимая под струями воды ее мокрое голое тело. Даже после того, как едва насмерть не замерз, даже после всех кошмаров и темных видений, он словно возрождался заново рядом с ней. Чуть наклонился, еще не касаясь, выжидая ее реакцию, Петра приоткрыла губы, но ее спина была напряженной под его ладонями.
— Простишь? — спросил он едва слышно из-за шума воды.
— Я боюсь, что все повторится… — пожаловалась она.
— Нет, — он наклонился еще чуть ниже, уже почти касаясь ее, — такого не повторится. Я обещаю.
И она уступила. Не стала отворачиваться, когда он поцеловал ее, закинула руки ему на шею, расслабилась и выгнулась в его объятиях.
— Еще, Дим. Еще…
Он входил в нее, прижимая к стене душевой, и выскальзывал обратно почти на всю длину, чтобы снова ворваться в любимое тело. Нежил ртом ее чувственное местечко между ног, стоя на коленях возле их широкой кровати. Двигался в ней, подмяв под себя и накрывшись теплым толстым одеялом, так что они оба становились мокрыми от пота и задыхались от жары. Целовал ее пальцы, один за другим, на руках, потом на ногах, затем коленки, ребра, ключицы, всю ее, всю. Есть болезни, от которых нет лекарства. Как назвать ту, что связывала их вдвоем?
Оставаться в горах надолго они не могли — вторая упавшая послушница уже бы вызвала подозрения, но напоследок перед отъездом Димитрий показал Петре неприметную грубо сколоченную скамейку на покатом заснеженном склоне и рассказал, как сидел тут однажды ребенком. Она очень боялась опасной высоты и порывистого ветра, но когда сумела оторвать взгляд от собственных ног и посмотреть туда, куда он показывал рукой, замерла в восхищении. Перед ними простирался целый мир, голубое небо раскинулось над головой, а земля лежала далеко внизу. И казалось, все это можно уместить на ладони.
— Дим… это же… это… мы с тобой, как боги.
Он улыбался, глядя на ее счастливое, сияющее лицо, поцелованное холодным высокогорным солнцем. Она всегда умела видеть то, что ему хотелось показать, еще с того дня у заброшенного лесного темпла. Красоту в уродливом, смысл в бессмысленном, любовь в бездушном.
Только в ушах так и звенели требовательные, жадные голоса.
Зачем она только родилась на свет?
Зачем испортила ему жизнь?
Эльза.
Цирховия Двадцать восемь лет со дня затмения
Трудно не заскучать, когда весь мир уже лежит у твоих ног. Даже сумеречный мир — что уж говорить о реальном? С малых лет он открывал себе двери в разные уголки света и бродил по ним, изучая. Попадались люди, которые хотели его убить, и люди, которые желали ему поклоняться. Люди, которых легко удавалось подчинить себе, и те, кого проще было уничтожить. Он нагляделся достаточно, пресытился и устал. "Тебе будет принадлежать все вокруг, мальчик, — сказал ему бог с темным лицом, когда много лет назад воскресил на старом алтаре, — но твоя мать отныне принадлежит мне".
Вспоминая тот момент, Алан усмехался. Даже боги ошибаются: его милая мама не принадлежит никому, кроме кувшина пепла, захороненного на семетерии. И даже будучи мертвым, тот волчий ублюдок владеет ею с прежней силой.
Вчера Алан видел их своими собственными глазами. Единокровного брата, в ленивой позе прислонившегося спиной к стене коридора, и мать, которая прильнула к его груди в страстном порыве, великолепная, соблазнительная, выглядящая ровесницей рядом с ним. Она обнимала его так, как никогда не обнимала родного сына, а Димитрий лишь небрежно положил руку ей на талию. И спросил насмешливо, когда их поцелуй подошел к концу:
— Вам понравилось, маменька?
— Не называй меня так, — вспыхнула Ирис и добавила тише: — Наедине можешь не называть.
— А я подумал, что это новая интересная игра, где мама совращает сына, — хмыкнул Димитрий ей в лицо. — Все. Теперь сразу стало неинтересно.
Ирис вздохнула.
— Ты умеешь быть острым на язык. Это у тебя от отца.
— Да, мне это говорили, — обжег он ее язвительным тоном, — но неужели и любовницы у нас должны быть общие? Так сказать, по наследству?
— Прекрати смеяться, — она выпрямила спину и вскинула голову.
— Как скажете, маменька, — шутливо поклонился Димитрий.
Ирис окинула его долгим взглядом.
— Ты не Виттор… — огорченно сообщила она.
— Хвала богам, нет. Я люблю женщин помоложе.
Она хлестнула его по лицу, а затем снова поцеловала.
— А теперь, маменька, вам понравилось? — все с той же усмешкой шепнул Димитрий.
Ирис глухо зарычала от негодования, стиснула кулаки и ушла прочь. Он смеялся ей вслед, вытирая губы тыльной стороной кисти.
Но было поздно. Злые слезы уже обожгли Алану глаза. Чем брат заслужил ее любовь? Своей схожестью с отцом, и только? Но сам Алан тоже похож на отца, мать лично это говорила. Почему тогда она так не целует его? Почему? Почему?
Впрочем, он знал ответ. Догадался бы любой, кто столь же хорошо знал его маму.
— Теперь мы отомщены, — сказала Ирис в тот день, когда услышала о смерти его проклятого папаши, — но какой ценой?
"Да малой, малой ценой, — хотелось орать Алану в ответ. — Столько лет ты ждала этого. Ну наконец-то. Мы богаты, мы займем их место у трона, а потом поднимемся еще выше"
— Я не хотела такой ужасной гибели для Виттора, — продолжила она размышлять вслух и вытерла слезы, — что ж, сделанного не вернешь. Будем с этим жить, как жила моя мать со своей ношей.
Но Алана не могла обмануть бравада матери. Ирис — сильная снаружи, но слабая внутри, он всегда понимал это. Она прикипела к его мерзкому старшему братцу и, возможно, даже чувствовала вину за то, что сделала с ним. Обманулась соблазном, что сможет управлять им, вылепить себе второго Виттора, только безобидного и послушного.
Димитрий сопротивлялся со всей присущей его гадкой семейке твердолобостью. Алану пришлось наложить на него второе заклятие — поверх материнского слабого — и только тогда братец закончил свою миссию. А сестренка какова — тоже умудрилась не послушаться ведьминского приказа. Ничего, тут можно отыграться на дочурке. Вот младший родственник — самый умный — свалил в неизвестном направлении, как только запахло жареным. За это Алан его почти любил и решил не трогать. Остальных — уничтожить.
Он всегда четко делил их семьи на "свою" и "ту", никогда не позволял пудрить себе мозги историями про родственные связи и общую кровь. Есть он и мама с одной стороны. А с другой — сборище отпрысков Виттора, которые почему-то считают себя лучше якобы незаконнорожденного брата. Как там сказал ему Димитрий при первом, неофициальном знакомстве? Его не касается, в какие дырки папаша еще совал член? Алан стискивал кулаки, вспоминая те слова. Это их жирная мамаша была богатой дыркой, которой Виттор пользовался, а Ирис жила с разбитым сердцем и ждала его. За каждую ее слезинку не жалко было пролить и море крови.
— Вы говорите, что дадите мне неограниченную силу. Что мне с ней делать? — спросил он много лет назад, сидя на алтаре в сердце сумеречного мира и болтая пухлыми детскими ножками. Ирис лежала рядом бездыханная, но тогда по наивности и молодости лет ему подумалось, что мать устала и спит.
— Добудь трон в мою честь, — ответил ему добрый человек с черным лицом.
— Зачем? — искренне удивился маленький Алан.
— А почему бы и нет? Каждый чего-нибудь да хочет. Твой отец хотел роскоши. Твоя мать хотела мести. Я хочу выиграть. А ты, малыш?
"А я хочу править миром". Это стало девизом всей его жизни. Не тогда, не сразу, чуть позже, когда он впервые понял, что может останавливать любого щелчком пальцев и внушать свою волю лишь каплей крови. Власть — наркотик посильнее опиума, пожалуй.
И он пользовался этой властью, когда начал править Цирховией из-за левого плеча своего равнодушного, ни о чем не подозревающего брата. Именно он, Алан, внушал министрам указы и делал политические ходы. Когда в толпе народа кричали: "Наместник", он невольно оборачивался. Ирис смотрела на его увлеченность снисходительно, как на детскую игру, Димитрий был слишком занят собой, чтобы замечать что-либо вокруг, и до поры до времени все шло по плану.
Но даже вся его дарованная темным богом власть была бессильна против глупого, слабого, мягкого сердца матери. Она запретила ему убивать Виттора. Потом запретила убивать Димитрия. Мучения, страдания, но не смерть, настаивала она. И вот теперь приходится идти такими долгими, окольными путями. Его Идеал должна им восхищаться. Пусть верит, что он тут ни при чем.
А убить придется. Теперь, когда последний козырь — маленькая волчья полукровка, надежно спрятанная в дарданийском монастыре — у него в кармане, можно приступать к последней части задуманного. А потом… его ждет лишь безбрежное счастье с Идеалом. Все свои достижения он посвящает ей, а она целует этого волчонка.
Когда Алан злился, темная сила внутри вибрировала, и вокруг сразу лопались стекла, лампы и прочие хрупкие предметы, поэтому он ушел в сумеречный мир, который так любил. Пасмурная, серая погода, отсутствие ярких красок и громких звуков всегда успокаивали его расшалившиеся нервы. Знакомой, хоженой тысячи раз дорогой он прошел в самую глубь молчаливого сумеречного леса, туда, где гибкие ветви густо растущих деревьев сплетались воедино, образовывая собой стены до самого неба.
Чертог богов, куда лишь избранным есть ход.
Глупые люди понастроили на земле темплы светлого и темного, понапридумывали себе святых и поналепили им статуй, но даже не подозревали, что все это — лишь их собственный вымысел. Никогда не существовало ни святой Огасты, ни Аркадия-воителя, ни кроткой Южинии, спасавшей от холода и голода всех брошенных детей. То есть, они жили когда-то, конечно, но лишь как смертные, и ничего особенного в них не было, кроме того, что однажды их поступки увековечили, как нечто выдающееся. И в темплах их рукотворных ничего особенного не было. А вот в этом, нерукотворном, было.
Ни один опавший серый листок не шелохнулся под ногами Алана, когда тот ступил через порог вглубь чертога. Несвет и нетьма царили в его стенах — достаточно, чтобы видеть, но мало, чтобы четко все разглядеть. Утоптанный земляной пол не покрывала трава, огромный зал оставался пустым и голым, а стены из ветвей уходили высоко-высоко к небу, и где-то там, в их верхушках, шуршал ветер. В сумеречном мире всегда безветренно, думал Алан каждый раз, прислушиваясь к этим звукам, и ему нравилось свербящее ощущение, которое сразу же возникало в груди.
Войдя, он с неудовольствием отметил, что находится тут не один. Этот старик в черной широкополой шляпе тоже заявлялся иногда сюда, чтобы стоять и слушать ветер, но редко, очень редко. И находиться тут не имел никакого права.
— Что ты тут делаешь, истинный? — зашипел на него Алан, жалея, что находится в сакральном чертоге, и нельзя сделать так, чтобы окружающие ветви раскололись на сотни щепок и пронзили наглеца. — Тебе здесь не место.
— Если бы мне было здесь не место, — старый хрен обратил на него свой спокойный взгляд, — то боги не дали бы мне сюда хода. Но истинные не горят в сумеречном мире, сынок. Понимаешь, что это значит?
— Никакой я тебе не сынок, — с отвращением бросил Алан, пересек зал нерукотворного темпла и уселся на трон из сплетенных ветвей. — Я — хозяин здесь.
Дерево тут же заскрипело, сучья удлинились и поползли, оплетая его поперек туловища и ног, а затем вся конструкция превратилась в надежное массивное сиденье с ведьмаком в сердцевине и приподнялась на головокружительную высоту вверх.
— Ты не бог, чтобы быть тут хозяином, — ответил ему старик, превратившийся там, внизу, в крохотную букашку.
— Пошел вон, — заорал Алан, и его голос гулко разнесся по чертогу, нарушая гармонию тишины. — Темный бог подарил это все мне.
Но престарелый урод в черной шляпе только засмеялся, и даже когда он вышел из темпла и скрылся, его смех стоял у Алана в ушах и заставлял скрипеть зубами от ярости. Надо бы придавить этого старикашку, уж больно много о себе возомнил, но не хочется осквернять прекрасный сумеречный мир, а в реальном он никогда не попадался на глаза Алану.
И правда, зачем боги дали истинным сюда ход?
Чуть позже в чертог явились ведьмы — и как назло, с плохими вестями. Алан взирал на них с высоты своего места и скреб ногтями деревянный подлокотник, всерьез подумывая удавить какую-нибудь для собственного успокоения.
— Хозяин… — пятеро женщин в роскошных платьях расположились перед ним полукругом в глубоком поклоне. Вообще-то их должно быть шестеро. И даже семеро — вместе с Ирис. Когда они выпрямились, он получил возможность оценить их декольте и наверняка бы это сделал, если бы интересовался ими. Но рядом с Идеалом никто для него не стоял.
Алан поискал глазами мать и не нашел к собственному неудовольствию. Опять она забыла о нем.
— Ну, с чем пожаловали? — недовольно буркнул он.
— Хозяин, разрешите говорить, — вперед выступила миловидная золотоволосая красавица в платье цвета, который в реальном мире назвали бы ярко-голубым, но тут он выглядел водянисто-блеклым.
Алан сделал мановение рукой, и трон с ним опустился до уровня земли.
— Что такое, Маргерита?
Она подбежала, подобострастно коснулась поцелуем его пальцев, заглянула в глаза. Посыл читался вполне явно: все пятеро сходили по нему с ума и хотели его, любая из них сию же секунду раздвинула бы ноги перед хозяином ведьм и сумеречного мира. У Алана даже член от этой мысли не шевельнулся. Власть его возбуждала, и Идеал — тоже. Прочие — нет.
— Кажется, я поняла, что стало с нашей сестрой Эвелин, — с жаром поведала ему Маргерита.
— Которая пропала без вести? — он приподнял бровь, заинтересовавшись. — Ее нашли?
— Нет, хозяин, — с виноватым видом мотнула головой ведьма, — но перед исчезновением она горела желанием, как и все мы, услужить вам. Она обмолвилась мне, что подозревает, где может скрываться ваша сестра, но хотела проверить все лично, прежде чем делать выводы и о чем-то заявлять. Не сказала даже мне, как я ни просила. Наверное, и награду хотела получить сама.
Ведьмы с презрительными усмешками переглянулись.
— Волчья сука прячется где-то рядом? — теперь Алан подался вперед, навалившись животом на удерживающие его ветви. — И где?
— Мы не знаем, хозяин, — еще больше помрачнела Маргерита, — пока не знаем. Но… я подумала… заклинания поиска не приводят меня к Эвелин. Это может означать только одно: она находится на территории, защищенной силой истинных.
— Истинные похитили Эвелин? — он наморщил лоб, с досадой вспомнив недавнего старикашку.
— Не только, хозяин, — сверкнула глазами золотоволосая ведьма. — Я подозреваю, что они ее убили. Эвелин достаточно умна и сильна, она бы не позволила держать себя в плену столько дней, нашла бы лазейку, чтобы выскользнуть. Но важно другое. Если с ней что-то сделали…
— Значит, она в самом деле нашла место, где скрывается моя единокровная сестра, — прищурился Алан.
— Да, хозяин, — с торжеством подтвердила Маргерита, — но я взяла на себя смелость предвосхитить ваш приказ и уже обыскала со своими помощниками все известные нам дома истинных. Где-то пришлось проникнуть обманом, где-то они сами впускали в двери. Вы же знаете их хваленый принцип несопротивления.
— И?
Уж не этот ли старикан в черной шляпе похитил его пленницу и теперь так вольготно смеется над ним?
— Вашей сестры ни у кого нет.
На миг в чертоге повисла тишина, и только ветер далеко вверху шуршал по-прежнему.
— Она у истинного, которого мы не знаем, — зарычал Алан.
Остальные ведьмы вздрогнули от его гнева, но Маргерите удалось удержать лицо.
— У новообращенного истинного, которого другие скрывают, — поддакнула она. — Или который сам не знает, что он такой.
Тогда он заорал от ярости так громко, что все они в страхе сбежали.
— Найдите его. Убейте его. Принесите его голову мне.
"Тебе будет принадлежать все вокруг, мальчик, — сказал ему бог с темным лицом, когда много лет назад воскресил на старом алтаре, — но твоя мать отныне принадлежит мне". И подумав, добавил: "Остерегайся истинного"
Многих детей пугают страшные сказки. Алан же с юных лет с ужасом вспоминал лишь ту единственную короткую фразу. Кого же ему нужно остерегаться? Старика в черной шляпе или нового неизвестного врага?





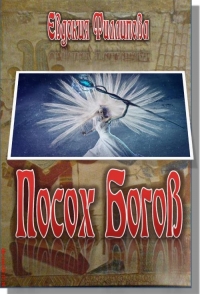





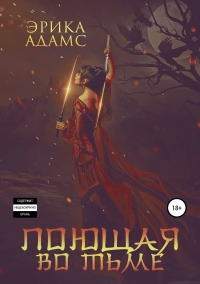


Комментарии к книге «Белые волки. Часть 2. Эльза», Влада Южная
Всего 0 комментариев